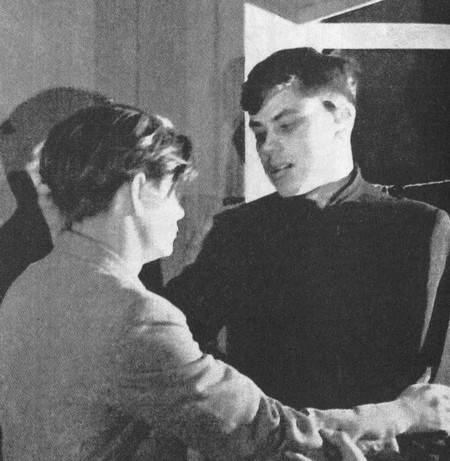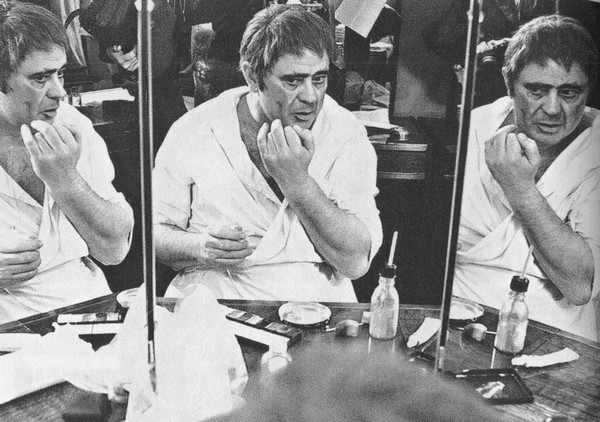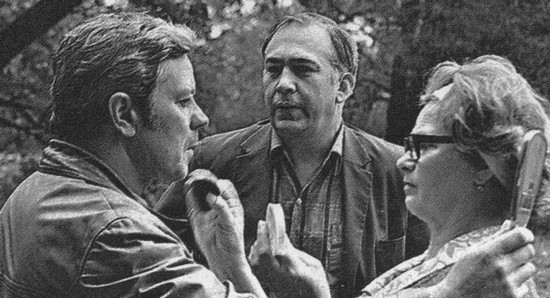Донатас Банионис
Я с детства хотел играть
Вступительное слово

…Вечер 1999 года. В Паневежисском драматическом театре имени Юозаса Мильтиниса идет спектакль по пьесе Э. Томпсона «У Золотого озера», посвященный 75-летнему юбилею Донатаса Баниониса. Он исполняет роль главного героя — пожилого профессора Нормана Теера. Игра трогательная, веселая, как апрельский ветер. Занавес не опускается. Актер стоит в холщовом костюме. Словно рабочий сцены… Он и в самом деле — Рабочий сцены, самый обыкновенный, спокойный среди празднично ликующих, готовый сыграть еще один спектакль, такой же блестящий и значительный.
Банионис никогда не стремится обратить на себя внимание, как разведчик Ладейников в фильме «Мертвый сезон». Он борется с жизнью и иногда терпит поражение, как Ломен в спектакле «Смерть коммивояжера». Он спрашивает и спрашивает, хотя и не слышит ответа, как солдат Бекман в постановке «Там, за дверью». Он кипит эмоциями и умеет их скрывать, как капитан Эдгар в «Пляске смерти». Он ищет путь, когда огонь охватывает его с обеих сторон, как председатель Вайткус в картине «Никто не хотел умирать». Он пытается понять себя и других в бесконечном пространстве, как ученый Кельвин в фильме «Солярис». Он не выбирал творчество — творчество выбрало его, как художника Гойю в одноименном фильме.
Русский, литовец, немец, американец, испанец, швед…
Он — Человек всех национальностей. Донатас Банионис всегда играет Человека.
Елена Мезгинайте
Мои детские мечты
Свое первое впечатление от сценического зрелища я запомнил на всю жизнь. Мне было тогда года четыре. Мама отвела меня на спектакль «Страдания Христа», который играли, кажется, в Иезуитской гимназии в Каунасе. Впервые увидев сцену, я был удивлен, ошеломлен, очарован. …Солдаты в шлемах, с мечами на боку схватили Христа и повели его к Понтию Пилату… Я не понимал, кто куда кого вел, но мне хотелось быть там, на месте одного из солдат, вышагивающего при полном параде — в шлеме и с мечом в руках. Потом по улице Музеяус, где мы тогда жили, я ходил с палкой, представляя себе, что я — тот самый солдат. А жили мы бедно, и я мечтал о какой-то иной жизни. Мне хотелось быть кем-то другим, вырваться из той повседневности, которая меня окружала. В то время это, конечно, было еще неосознанно.
Мой отец Юозас Банионис родился 8 августа 1890 года в деревне Гивишкес волости Вяйвяряй Мариямпольского уезда. Этот регион Литвы называют Сувалькия. У моего дедушки Антанаса было два гектара земли. Бабушка умерла рано, оставив ему четверых детей. Самому младшему — моему отцу — тогда было года четыре. Дедушка женился во второй раз, и еще появились дети. Жить становилось все труднее, и старшие шли к более богатым людям пастухами. Когда отцу исполнилось девять, он тоже нанялся пастухом и оставался им, как и полагалось, до четырнадцати лет. Дедушка был грамотным и сам передавал свои скудные знания детям, поскольку другой возможности учиться у них не было.
В то время моего дедушку считали социалистом. Через его руки будто бы шло распространение нелегальной литературы. Так ли это — сегодня сказать трудно. Во всяком случае, так говорил отец. В 1903 году дедушка переехал жить в деревню Скряуджяй, по тем временам хотя и маленький, но все же культурный центр. Отец рассказывал, что в 1904 году, когда началась Русско-японская война, он клеил на столбах воззвания к населению, направленные против мобилизации в русскую армию. Дома хранились разные книжки и напечатанные на красной бумаге воззвания: «Око за око, зуб за зуб», «Мужчины — к оружию!». Эту литературу дед прятал в лесу, в лишь одному ему ведомом месте. Отец говорил, что это было время, когда повсюду звучали призывы: «Долой царский режим!»
Потом отец батрачил в Мариямполе, зарабатывая там за год рублей 30, так что смог купить кое-какую одежду. А загоревшись идеями революции, решил увидеть мир, и в первую очередь жизнь пролетариев разных стран. И вот в конце 1908 года, когда ему исполнилось восемнадцать лет, купив за 4 рубля 50 копеек билет на поезд, идущий в Варшаву, он покинул родные края. У него было лишь 15 копеек в кармане — и больше ничего: ни профессии, ни образования, ни знания иностранных языков. Около полугода отец скитался без работы. За это время научился немного говорить по-польски и в конце концов стал помощником брючного портного, тоже «социалиста».
В 1912 году отца призвали в армию и вместе с другими новобранцами увезли в Сибирь, в Забайкалье, куда-то недалеко от Верхнеудинска, около станции Березовка. В те годы туда, а то и еще дальше посылали призывников из западного и южного регионов, среди которых были литовцы, латыши, эстонцы, поляки, белорусы, украинцы и прочие. Новобранцев держали отдельно от «стариков», которые старались встретиться со своими земляками и узнать, что творится в городах и селах Российской империи. Военное начальство внушало «старикам», что к недовольству «царем-батюшкой» подстрекают инородцы — нерусские по национальности, — заслуживающие лишь презрения. Отец рассказывал, что начальники за малейшую неточность во время занятий оскорбляли солдат, называя их «литовской мордой» или «польской мордой»… И питание было плохое: зимой обычно давали замерзшую мелкую рыбешку, которую и вычистить было невозможно. Поэтому ее просто клали в котел и варили, однако в приготовленном вареве плавали лишь пузыри. Однажды из-за этого даже произошел бунт, но он был подавлен, и многие солдаты очутились в карцере.
Летом участились случаи дезертирства. Отцу иногда приходилось в лесу ловить сбежавших, но поймать их обычно не удавалось. К счастью, он редко исполнял подобного рода поручения, так как был портным. Частенько его освобождали и от занятий, ведь для портного всегда найдется работа: офицеры нередко просили что-нибудь сшить и даже давали немного денег, на которые он ездил в город, чтобы приобрести необходимое для шитья и купить газеты.
Начавшаяся Первая мировая война изменила все. В начале августа 1914 года отец вместе со своей частью отправился на фронт. До пункта назначения — Варшавы — добирались более месяца. Уже в октябре 1914 года отец был ранен. Сначала он попал в варшавский госпиталь, а затем был переведен в московский. В начале 1915 года его опять отправили на фронт под Варшаву, но он уже достаточно натерпелся и решил дезертировать из царской армии.
Сначала прятался в Варшаве, потом смог добраться и до Вильнюса. Наконец отцу удалось устроиться портным в пошивочной мастерской. Но немцы уже подходили к Вильнюсу, и мастерская переехала в Смоленск.
В Смоленске местная полиция часто проверяла документы. Однажды ночью пришли и в квартиру отца. Документы показались подозрительными, и его арестовали, отвели в комендатуру. На первый вопрос: «А как же обстоят дела с военной обязанностью?» — отец ответил: «В армии не служил — у меня белый билет». Тогда его спросили: «А вас где призывали в армию?» — «В Варшаве», — ответил он. Приходилось умело выкручиваться, чтобы не попасться: комендант велел младшему офицеру проверить какое-то варшавское учреждение по призыву в армию, и отцу стало ясно, что никаких документов там не найдут, так как их просто не существует. Тогда он быстренько придумал историю о том, что якобы его жена, которой на самом-то деле у него тогда и не было, уже два дня не может попасть в квартиру, так как, когда его арестовали, он забрал с собой ключи. После чего стал просить офицера позволить ему уйти только лишь для того, чтобы передать ключ. Младший офицер поверил и отпустил, даже не предупредив стражу. Отец выбежал с воплем: «Соня, вот тебе ключ!» И помчался по лестнице на улицу, а потом — по полю в сторону железной дороги. Забежав к друзьям, рассказал о своих проблемах, и те дали ему на дорогу несколько рублей, а один товарищ одолжил свои документы с бронью, которые отец позднее вернул. Надо отметить, что паспорта тогда были без фотографий. Добравшись до Минска, он получил документы на чужое имя, с которыми прожил до начала революции.
Однако найти работу ему было трудно. Узнав, что копать окопы берут любых бродяг, он вынужден был взяться и за это дело. Его выслали в Молодечно, где трудились люди разных профессий и национальностей. Никто с ними не считался, а они никому не жаловались. «Там было как в драме М. Горького „На дне“», — вспоминал позже отец. Около трех месяцев он копал окопы, до тех пор пока не заболел дизентерией и не очутился в минской больнице. После лечения деться опять было некуда, и отец решился снова идти в армию, очень надеясь на то, что из-за плохого здоровья его не возьмут и он в конце концов получит белый билет. К счастью, его надежды оправдались: врачи вынесли вердикт: к военной службе не пригоден. В конце 1916 года отец вернулся в Смоленск и устроился в пошивочную мастерскую, где работали в основном женщины по двенадцать часов в сутки. С питанием было трудно — все постоянно дорожало, процветала спекуляция.
Так наступил 1917 год. В Смоленске отца и застала революция. Он продолжал работать портным в той же мастерской, вскоре став членом вновь созданного комитета предприятия. Позднее, когда организовался профсоюз, отец стал членом профкомитета портных города Смоленска и принимал активное участие в жизни литовцев-беженцев. «Я стал значительной фигурой в общественной жизни», — вспоминал он позднее.
Летом 1918 года отец вернулся в Литву, в свои родные края, в деревню Скряуджяй. Но здесь он долго не задержался и в самом конце декабря переехал в городок Вилкавишкис, где, по его словам, существовала подпольная партийная организация.
В Вилкавишкисе отец познакомился с моей мамой, которая была артисткой и певицей в кружке художественной самодеятельности. Сам он тоже любил находиться среди людей, был человеком неуемного темперамента и амбиций. Обладая богатым воображением, часто рассказывал клиентам и друзьям о своих похождениях в других странах. Быть может, от отца я унаследовал склонность к фантазированию. Поженившись, родители переехали в Каунас. Там родилась моя сестра Дануте, а через два года — 28 апреля 1924-го — и я.
В 1920 году Польша оккупировала столицу Литвы Вильнюс, и лишь в 1939-м город был возвращен Литве. Каунас же на девятнадцать лет стал временной столицей. Вспоминается домик на Ратушной площади, такой маленький деревянный домик, существующий теперь лишь в моей памяти. Когда он исчез? Не знаю. Приехав из Паневежиса, я его уже не нашел. Но каменный дом, на котором была надпись «Лекарственная фирма „Germapo“», еще стоит. А в том маленьком деревянном домике родились мы с сестрой. В семье рассказывали, будто я родился именно там, а не в родильном доме. Когда уже подходило время родов, в наш двор якобы забрел какой-то негр, заглянул в окно и постучал. Мама, увидев его, очень испугалась и тут же родила меня. Говорили еще, что я родился черным. Такая байка. Недалеко от места, где мы жили, в двух-трех минутах ходьбы, сливаются реки Нярис и Нямунас. Там плавали корабли, были наносы песка и пляж.
Когда мне исполнилось два года, семья переехала в двухэтажный каменный дом на улице Музеяус, где родители сняли квартиру. Дом стоял на набережной реки Нямунас, рядом с пристанью. Я любил ходить и смотреть, как отплывают и приплывают корабли. Весной бывали половодья, и однажды, когда вода хлынула в нашу квартиру, пришлось даже какое-то время пережидать наводнение у знакомых. В этом доме мы жили около трех лет, с 1926 по 1929 год. Помню я и главную улицу — аллею Свободы, которая в годы моего детства была не асфальтированная, а вымощенная булыжником.
В то время в Каунасе была конка, и мы с мамой раз или два прокатились. Сейчас конку можно увидеть лишь на фотографиях: по рельсам лошади тянут вагон с пассажирами — такой своего рода примитивный трамвай. Помню и один забавный снимок в газете: у рельсов лежит перевернутая на бок конка, рядом с ней стоит печальная, унылая лошадь, а под фото надпись: «Хватит этого ига».
Радио у нас не было, но, когда мы жили в деревне у дедушки — папиного отца, — я увидел радио. Теперь знаю — детекторное. Дедушка, посадив меня на колени, иголочкой находил станцию, и… слышалась речь…
…Всплывает перед глазами и отъезд отца. Он стоит на ступеньке вагона и машет рукой. А мы — мама, сестра и я — провожаем его на перроне. Отец уезжал тогда в Бразилию — родители собирались туда переехать, когда он устроится на новом месте. В то время — а это был 1929 год — многие из Литвы искали счастья за границей — в США, в странах Южной Америки, куда ехали на заработки. Парадоксально, но первый фильм, в котором я снялся много лет спустя, «Адам хочет быть человеком», рассказывал именно об этом периоде нашей истории.
В Бразилии жизнь привела отца в город Сан-Пауло, где, по воле случая, он встретился с выходцами из Литвы и устроился на работу в пошивочную мастерскую. Но через два месяца она была закрыта.
Поскольку в Бразилии жило немало литовцев, то выходили литовские газеты, существовали литовские организации. Отец нашел близких по духу людей — тех, которые называли себя коммунистами. Они взяли на себя руководство обществом «Соединение литовцев», а также и выпуск газеты, вызвав недовольство большой части земляков. Отец рассказывал, что в бразильских газетах появились статьи, в которых говорилось о том, что коммунисты на деньги Москвы якобы хотят свергнуть власть в Бразилии. (В Бразилии компартия была вне закона.)
Вскоре арестовали редактора газеты. Начались разногласия между своими. В конце концов было решено, что коммунистическая организация уходит в подполье. Многих ее членов арестовали, в том числе и отца. Проведя в тюрьме четыре месяца, он был депортирован в Литву, а в Каунас вернулся только 1 апреля 1931 года.
Когда отец уехал, нам — маме, сестре и мне — пришлось перебраться в квартиру на улице Даугирдаса. Она была меньше той, в которой мы жили, а значит, и дешевле. Когда становилось совсем холодно, мы с сестрой зажигали примус и грелись. Она в то время уже училась, а в 1930 году и меня отвели в школу. Правда, мне тогда еще не исполнилось семи лет: я ведь родился в апреле, а школьный год начинался в сентябре. Я был самым младшим, и учителя, увидев, что мне еще трудно учиться, велели маме забрать меня. Так что в тот год я проучился лишь один месяц. Однако успел узнать первые буквы, научиться складывать и вычитать. С этого началось и мое домашнее обучение. К маме приходили знакомые, которые писали мне, наверное, даже не предложения, а отдельные слова, и я читал. «О, — восхищались они, — молодец! Еще в школу не ходишь, а уже умеешь читать!»
Я помню нищету тех лет. Как-то сестра, Дануте, рассказывала мне про музей, куда их водила учительница и где собраны очень интересные экспонаты: чучела зверей и еще что-то… «Знаешь, Данукас (Дануте называла меня Данукасом), я тебя свожу и покажу тот замечательный музей», — пообещала она. Мы договорились, что она меня возьмет после четырех или пяти уроков — больше у детей-школьников не было — и мы пойдем в музей. Дело шло к весне, но был еще февраль или март. По узкой улочке я добрался до Ратушной площади, где сестра должна была меня встретить. Так как у меня не было ботинок, я надел галоши на босую ногу. Проходившая мимо женщина приостановилась, и я увидел, какими испуганно-удивленными глазами она на меня смотрела. Ее ошеломило то, что я стою в такой холод почти босой. Я же очень засмущался и пытался спрятать за гидрант свои ноги. Женщина не подошла ко мне, ни о чем не спросила, но я, ужаснувшись тому, что так страшно выгляжу, убежал домой, так и не дождавшись сестры и не попав в музей. Возможно, из страха перед этой нищетой и родилось мое желание стать кем-то другим, играть на сцене кого-то в шлеме и с мечом и чувствовать себя значительным человеком.
Мама иногда работала дома, а иногда помогала в швейной мастерской — была подсобницей: не костюмы шила, а пришивала пуговицы, обметывала и подшивала подкладку. Мать уходила из дому, мы с сестрой оставались вдвоем.
Когда отец вернулся из Бразилии, жизнь изменилась.
…В тот весенний апрельский день было довольно-таки тепло. Я сидел один в квартире и вдруг увидел идущего по двору человека, похожего на отца, но только загорелого, одетого по-весеннему — в светлый костюм и желтые туфли… Он вернулся, однако с мамой они не могли найти общий язык и в конце концов расстались. Не знаю, кто из них был виноват, но отец ушел. Я остался с сестрой у мамы, правда, ненадолго. Когда отец получил квартиру, мама отвела меня к нему и оставила.
Оставила так оставила — что же тут поделаешь. Папа к тому времени уже нашел работу, мы неплохо устроились, но с матерью не встречались. Жены у отца не было. Кто-то из родни приходил убирать в доме. А меня 1 сентября 1931 года папа отвел в школу. Так я очутился в районе Каунаса, который называется Жалякальнис, — такой своеобразный городок в городе, расположенный на холме и утопающий в зелени. К нему ведут ступени, хотя сегодня можно подняться и на фуникулере. Но тогда, когда я там поселился, фуникулера еще не было, — брякающий и трясущийся вагончик появился позже. Мы с папой жили в довольно хорошем доме на улице Дарбининку. Отец был известным в Каунасе брючным портным. Он работал дома, получая заказы из четырех пошивочных мастерских. Мне нравилось относить сшитые брюки заказчику — если очень везло и я заставал в ателье пришедшего клиента, то обычно получал от него один лит. Это был мой первый заработок. Рядом со школой находился Конный базар, а прилегающий район называли Бразилкой. Жили в Бразилке бедно: повсюду избы да хибары. И мое детство началось в компании детей из трущоб. В Бразилке многие говорили по-русски, по-польски, с тех пор польский язык «застрял» у меня в памяти.
В Жалякальнисе мы прожили всего год. Папа скопил денег, и мы переселились в центр города, в престижный район, на улицу Дауканто. Там жили богатые люди в частных двухэтажных и трехэтажных домах. Однако мы к числу таких людей не принадлежали. У отца была лишь квартира в хорошем одноэтажном деревянном домике. А в рядом стоявшем двухэтажном каменном доме снимала квартиру семья писателя Аугустинаса Грицюся. С его сыном Йонасом мы в детстве играли. Перед самой войной, когда я уже жил в Паневежисе, их семья была депортирована в Сибирь. Впоследствии друг моих детских игр Йонас Грицюс закончил операторский факультет ВГИКа и снял такие известные фильмы, как «Никто не хотел умирать» с режиссером Витаутасом Жалакявичюсом, «Гамлет» и «Король Лир» с режиссером Григорием Козинцевым, а также «Синяя птица» — совместная работа советских и американских кинематографистов…
Хозяином тех домов был еврей Рутенберг. С его сыновьями Тедиком и Мариком я тоже дружил. Во время войны мальчики попали в гетто, где и были расстреляны. А их отца немцы увезли на работу в Германию. Он остался жив и после войны вернулся в Литву. Как-то я случайно встретил его на пляже в Паланге, и он узнал меня, хотя прошло уже много лет. Сохранилась фотография, на которой я стою среди своих новых друзей на лестнице. У одного моего друга отец — директор больницы, у другого — судья, у третьего — майор городской комендатуры. А я — сын портного, единственный бедняк среди них! Но дети есть дети: я для них был такой же, как и они. А вот их родители, возможно, были не слишком довольны такой дружбой. Но я знаю только то, что приятели обычно приглашали меня к себе, когда родителей не было дома.
В школе, заканчивая первое отделение (надо сказать, что в начальной школе были отделения, в гимназии — классы), я очень боялся, что останусь на второй год. Когда нас, учеников, собрали и стали зачитывать, кто переведен во второе отделение, а кто нет, я, наверное, дрожал больше всех остальных. А оказалось, что Донатас Банионис — лучший ученик, отличник, закончивший на одни пятерки. (Тогда оценивали по пятибалльной системе, а не по десятибалльной, как это происходит сегодня.) Вот таким я тогда был: даже не понимал, что хорошо учусь.
Первое отделение я закончил в Жалякальнисе, второе — в школе имени Винцаса Кудирки, а с третьего года учился в школе на улице Угнягясю (Пожарников). В то время в начальной школе было четыре отделения. Потом, после школьной реформы, добавили еще два года. Так что я попал в первый выпуск шестилетнего обучения. Учителя обращали на меня внимание. Мне кажется, они заметили во мне и артистические способности. Учась в первом отделении, я еще в школьных спектаклях не играл, а во втором, в третьем, в четвертом меня уже брали и играть, и читать стихи. Пьесы, которые ставились в школе, наверное, писали учителя. Это были спектакли, приуроченные к Рождественским и Пасхальным праздникам.
Мне же очень нравилось на сцене. Постоянная бедность, отсутствие настоящей семьи, очевидно, все это порождало мечты и желание перенестись в какой-то другой мир. Таким другим миром представлялась мне сцена. Не могу сказать, что я тогда все это уже осмыслил, но я этого жаждал.
Рос я — росли и мои мечты. На моих глазах вырастал как столица и родной Каунас. В тридцатые годы появилось много разных учреждений, предприятий, процветал университет…
Безусловно, в моей памяти, как, наверное, и в памяти всех живших в то время моих земляков, запечатлелось одно особо важное событие 1933 года — трансатлантический полет двух литовских летчиков: Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса. Жившие в США литовцы-летчики готовились беспосадочно перелететь океан и приземлиться в Каунасе. На собранные деньги американских литовцев они приобрели самолет и назвали его «Литуаника» — в честь Литвы. Об этом немало писалось в газетах. К тому времени мой отец уже купил радиоприемник, и мы могли слушать новости. Когда С. Дарюс и С. Гиренас, вылетевшие из Нью-Йорка в Литву, должны были приземлиться в Каунасе, толпы людей собрались на аэродроме, чтобы поздравить героев. Мы, дети, тоже побежали туда. Ждали час, два, а они все не летели… Толпа заволновалась, и вдруг сообщили, что самолет упал в Пруссии. Мы пришли домой грустные: так ничего и не увидели.
И все же для Литвы этот полет был важным событием, имевшим огромное международное значение: у маленького государства появились летчики, покорившие Атлантику! Мы слышали, что был такой Линдберг, знаменитый американец, который перелетел Атлантический океан. И вдруг, подумать только, два литовца… Но… они погибли. Были разные слухи: позже говорили, что их сбили немцы в Пруссии, когда оставалось два часа лету до славы — до Литвы. Потом был траур, похороны. Их прах из Солдина перевезли в Каунас.
Другие события того времени казались не столь важными. Литва в то время встала на ноги, а Каунас стал более литовским. Поначалу в нем, как и во многих других местечках Литвы, жило много евреев, а также ополячившихся литовцев. С царских времен оставалось и небольшое число русских. В тридцатые годы некоторые литовцы, заработав деньги за рубежом, в основном в США, возвращались на родину и строили дома. Это было время, когда Каунас расцвел, расцвела и Литва.
Году 1934-м или 1935-м, когда мне было около десяти лет, отец решил развестись с матерью. Кто подал на развод — отец или мать, — не знаю. Думаю, что отец. Вопрос о разводе решался в суде. И мне, ребенку, пришлось выступать свидетелем, рассказывать о том, что мать меня не содержит, что я живу с отцом. Забегая вперед, скажу, что в 1938 году отец женился во второй раз. И в доме появилась Барбора — очень властная женщина. А вскоре родилась Ирена, которую и мне иногда приходилось возить в коляске. С появлением мачехи, а тем более сестры я стал ненужным в доме, ведь для мачехи я был чужим ребенком.
В школьные годы я полюбил кино и часто ходил в кинотеатры, где шли американские и немецкие картины. Показывали и мелодрамы, и фантастику, и музыкальные фильмы. Но мне больше нравились комедии. Я обожал известных комиков: Чарли Чаплина, Дика и Дофа, Пата и Паташона — и не увидеть их лишний раз на экране не мог.
Однако денег мне на это никто не давал, поэтому приходилось пробираться в кинотеатр разными способами. Летом было проще: по одному билету пропускали двух человек. Я присматривался к людям и, если видел, что кто-то идет один, просил взять меня «за партнера». Иногда папа давал мне деньги на еду, а я втайне их экономил. Ходил в тот кинотеатр, где билеты подешевле. Был один такой в Жалякальнисе, куда можно было пройти за 30 центов. В центре города, в «Триумфе», шли фильмы, которые уже показывались в других кинотеатрах, и там цены тоже были ниже. Обычно же билет стоил один лит — а это были большие деньги.
Попасть на премьеру хорошего фильма мне, конечно, было трудно. Иногда просто упрашивал, чтобы впустили, а иногда с такими же, как я, становился у выходной двери и, когда зрителей выпускали, незаметно проскальзывал в зал. Забирались мы куда-нибудь в уголок, чтобы не бросаться в глаза, и смотрели. Надо сказать, что фильмы в те годы в Каунасе показывались не так, как сегодня. Не было привычных для нас сеансов. Фильм крутили без перерыва. Так что, купив билет, зритель не обязательно должен был прийти к началу, а мог смотреть и с середины. Поэтому постоянно кто-то входил, а кто-то выходил.
Смотрел я, разумеется, не только банальные комедии, но и картины с Чарли Чаплином — замечательные художественные фильмы! Видел на экране Спенсера Трейси, Гарри Купера, Роберта Тейлора… Я уже стал узнавать на экране артистов, и у меня появилась новая мечта: стать киноактером. Причем эта мечта казалась мне вполне реальной. Я рассуждал так: если наймусь юнгой на корабль, то смогу доплыть до Америки. В Америке сбегу и устроюсь мыть посуду в ресторане. К тому времени я начитался биографий американских актеров, многие из которых, во всяком случае судя по написанному о них, выходцы из рабочих, случайно сыграв одну-другую роль, становились звездами. Мне казалось, что и я могу пройти такой же путь. Конечно, эта мечта была реальна в той же степени, как и другая. А почему бы мне не стать пожарным? Это тоже красиво и интересно: роскошная каска, форма с блестящими пуговицами — все тоже необычно и неповседневно. Но корабль и путешествие в Голливуд все же привлекали больше.
Тем временем в 1937-м я закончил начальную школу. Не могу не вспомнить, что как раз в том году в Латвии, в Риге, проходил чемпионат Европы по баскетболу. Литовская команда была собрана почти из одних живущих в Америке литовцев. У нас тогда далеко не все знали, что такое баскетбол. За год до чемпионата Европы, в Берлине, на Олимпиаде, баскетбол впервые стал олимпийским видом спорта. Тогда американская баскетбольная команда, в которой играл известный баскетболист — литовец по происхождению — Пранас Лубинас, заняла первое место. После этого он был приглашен в Литву тренировать баскетболистов-литовцев, приехавших из США и составивших ядро команды. Говорили они между собой по-английски, но было и несколько молодых игроков из Литвы. И вот сенсация: литовские баскетболисты стали чемпионами Европы! Для Литвы это было событием огромной важности. Представители маленького государства стали чемпионами! На детей, на молодежь это произвело огромное впечатление, и все мы стали играть в баскетбол во дворах. Ставили ведро, бегали и бросали маленький мячик — старались попасть в него. Баскетбольных мячей у нас не было — куда там! Чуть позднее по соседству, во дворе у каунасского миллионера Вайлокайтиса, оборудовали настоящую баскетбольную площадку со столбами, щитами, баскетбольными кольцами, где мы и стали играть.
А через два года, в 1939-м, чемпионат Европы по баскетболу проводился в Каунасе. Мы с друзьями получили работу — нам поручили написать краской номера мест на трибунах, и за это мы могли смотреть все соревнования бесплатно. Наверное, с тех пор по всей Литве, в каждом городе и деревне, во всех дворах, есть баскетбольная площадка или хотя бы кольцо с корзиной, прибитое к какому-нибудь дереву. Мальчишки с детства гоняют мяч, так же как гоняли и мы. Не зря у нас говорят: «Баскетбол — религия литовцев».
В 1939-м я уже учился в ремесленном училище. Почему в ремесленном? Потому что, закончив шесть отделений начальной школы, нужно было продолжать учебу. Идти в гимназию? По мнению отца, гимназия была доступна только богатым, поскольку за обучение приходилось платить достаточно дорого. К тому же, по его мнению, человека моего происхождения могло спасти только ремесло. Отец считал, что мне надо приобрести профессию слесаря. Но в ремесленное училище, где готовили слесарей, поступающих было очень много. Тогда мы узнали, что есть другое, в котором набирают на отделения художественной керамики, техники керамики, обработки кожи… Словом, художественная ремесленная школа. Вот туда-то меня и отвели.
Отец не спрашивал, что мне больше нравится. У меня вообще не было права голоса. Куда отвели, туда и пошел. Почему в школу керамики? Потому что легче было поступить. Но так случилось, что по воле судьбы именно здесь словно предопределилось направление моего дальнейшего жизненного пути. Судьбе было угодно, чтобы со мной на один курс поступил деревенский паренек Вацловас Бледис. Еще там, в деревне, будучи на четыре года старше меня, он принимал участие в смотре волостной самодеятельности. Вместе с соседом Йонасом Алякной, учившимся в том же училище, только на курс старше, они и составили ядро художественной самодеятельности. Надо сказать, что оба были очень деятельными. А я уже на первом курсе так проявил себя, что Бледис и Алякна позвали меня и еще двух парней и девушек из наших — керамщиков. Учась на втором курсе, мы создали драматический кружок и начали готовить спектакль.
Выбрав пьесу, Бледис пригласил режиссера из каунасского театра — Стасиса Чайкаускаса, который стал с нами работать. Он требовал, чтобы мы играли с переживанием, чтобы звучал текст, чтобы создавался характер, чтобы были чувства, комические или трагические. Я слабо в этом разбирался, и сам это хорошо понимал. Режиссер же, проработав с нами какое-то время, отказался, видимо, мы были для него слишком слабы. Но все равно наше желание стать актерами росло. Мы были не профессиональными артистами, но играющими.
А еще я любил читать. Как только появлялась свободная минутка, бежал в читальный зал. На наше счастье, тогда не было компьютеров. И я штудировал Бальзака, Достоевского, немало перечитал и приключенческих романов. Огромное впечатление, помнится, произвело на меня «Преступление и наказание» — особенно потрясла история самого Раскольникова. У нас выходил журнал «Науёйи Ромува», редактором которого был Юозас Келиуотис. Многие известные писатели печатались в нем. Там я впервые наткнулся на фамилию Юозаса Мильтиниса. Тогда он еще жил то ли в Париже, то ли в Лондоне…
Юозас Мильтинис был человеком западного склада ума.
В 1931 году он, закончив драматическую студию при Государственном театре в Каунасе (его учителями были Константинас Глинскис и Борисас Даугуветис), недолго проработал актером в Шяуляйском театре. Ненавидя рутину, Мильтинис интересовался новыми идеями в искусстве. Восхищался театральной и кинематографической деятельностью немецкого режиссера Макса Рейнхардта. В 1932 году он уехал учиться в Париж, где в 1933-м поступил в театральную школу Шарля Дюллена. Увлекся изобразительным искусством. Посещал лекции в Сорбонне. Играл в театре «Ателье», которым руководил его учитель — Дюллен, снимался во французских фильмах. Был знаком и дружил со многими известными сегодня людьми искусства, среди которых были Жан Луи Барро, Жан Вилар… Закончив в 1937 году обучение в Париже, следующий год Мильтинис провел в Лондоне, посещая лучшие театры и увлекаясь режиссурой. Вернулся в Каунас в 1938-м. Не получив работы в Каунасском театре, стал руководить театральной студией при Палате Труда и сотрудничать в прессе. Довольно резко критиковал некоторые спектакли Каунасского театра. Для него абсолютно неприемлем был коммерческий и увеселительный характер представлений. Театр Мильтинис воспринимал как институт всестороннего эстетического воспитания, решающий сложнейшие вопросы человеческого бытия.
В Палате Труда был драматический кружок, которым недолго руководил актер и режиссер Альгирдас Якшявичюс. Я узнал об этом, учась в ремесленном училище — то ли на первом, то ли на втором курсе. Тогда Бледис, Алякна, я и еще несколько наших однокашников решили пойти на отборочный конкурс. Разумеется, для тех, кто хотел стать актером-профессионалом, была другая драматическая студия — при Государственном театре. Та самая, которую в свое время закончил Мильтинис. Но туда принимали лишь тех, кто мог платить за учебу. К тому же нужно было уже закончить гимназию или, по крайней мере, там учиться. Выпускники студии принимались на работу в театр. У нас не было никакой возможности туда попасть. Но нам хотелось играть… хотя бы в любительском театре. Поэтому мы и отправились на отборочный конкурс в Палату Труда. Помню, Альгирдас Якшявичюс прослушал одного, второго, третьего… А я все толкаюсь, жду… Наконец вызывают меня. «Сколько тебе лет?» — спрашивают. «Шестнадцать», — отвечаю. Наврал — мне было лишь четырнадцать. Но очень хотелось быть принятым. Однако мне не поверили — кажется, Якшявичюс сказал, что я слишком молод. Моих друзей Бледиса и Алякну приняли, а я, отчаявшись, вернулся домой.
Когда в театр Палаты Труда пришел Мильтинис, он организовал все заново. В книге Томаса Сакалаускаса «Пир мудрых» Вацловас Бледис вспоминает, что его Мильтинис выгнал, но он поступал заново и был принят. Мильтинис начинал работу с элементарного: из школ, с заводов, из учреждений собирал будущих актеров — молодых ребят и девушек. Многим из них не было и двадцати лет. Мильтинис занялся их обучением. Словом, создавал театральную студию, где говорили о литературе, театре, психологии. Актриса Ошкинайте обучала сценическому движению, Шляжас — литовскому языку, журналист Келиуотис преподавал философию и историю искусства, певица Каупайте занималась постановкой голоса. Однако учеба учебой, но руководство Палаты Труда потребовало, чтобы студийцы что-нибудь сыграли. Тогда студия подготовила несколько капустников, но… Мильтинис в то время репетировал пьесу С. Чюрленене «Денежки». Руководство настаивало, чтобы спектакль был показан, Мильтинис же утверждал, что работа еще не завершена. Дело было решено просто: Мильтиниса уволили, а руководителем студии и режиссером спектакля стал А. Шляжас.
Студийцы не оставили своего учителя: после репетиций со Шляжасом они шли к Мильтинису, и занятия продолжались. Это был конец 1939 года. Весной 1940-го удалось на время, до начала летнего сезона, устроиться в павильоне, находившемся в парке Ажуолинас, что в переводе означает Дубовая роща. Здесь студийцы работали с Мильтинисом, а в Палате Труда — со Шляжасом. К открытию нового, построенного для Палаты Труда здания была выпущена премьера — поставленные Шляжасом «Денежки». Премьера состоялась 5 мая 1940-го. А 15 июня того же года по улицам Каунаса уже ехали советские танки. С приходом советской власти театр был закрыт, как «буржуазный» и «контрреволюционный». В Палате Труда и в павильоне в парке Ажуолинас ежедневно проходили митинги. В июле Мильтинис сообщил, что новая власть открыла театр, который получил название Театр центра бюро профсоюзов. Актеры должны были получать жалованье. Но оказалось, что некогда заниматься учебой — нужно готовить агитационные программы. Мильтинис придумал и поставил скетч «Танго и тюремная решетка». Однако вскоре выяснилось, что у профсоюзов своего театра быть не может. Так решили в Москве. Театр в Палате Труда был закрыт. Мильтинис обратился к комиссару просвещения писателю Антанасу Вянцлове с просьбой о создании нового театра. Вянцлова в принципе согласился, но театр должен был находиться в провинции. Не пройдет и полгода, как группа молодых людей поедет в Паневежис создавать свой театр. Театр, какого в Литве еще не было. В декабре из Каунаса посылается телеграмма такого содержания: «Капочусу. Гостиница „Рамбинас“. Паневежис. Принято 6.XII.1940 16 час. 40 мин. Передана из Каунаса 6.XII. 15 час. 38 мин. Сегодня в 16 час. выезжаем восемнадцать человек». Тогда в Паневежис отправились Ю. Мильтинис, Й. Алякна, В. Бледис, Б. Бабкаускас, К. Виткус, Ю. Дульските, В. Факеевайте, Б. Гуданавичус, В. Руминавичюте… Меня среди них еще не было. Я был принят через полгода.
В то время, когда Бледис и Алякна занимались в Палате Труда, я попал в группу статистов в Государственный театр. Я стоял где-нибудь в конце сцены… с алебардой, с факелом в руках в опере «Кармен», когда пел знаменитый тенор Кипрас Пятраускас, в балете «Красный мак» был носильщиком, в опере «Аида» — пленником или египетским солдатом. Меня занимали и в драматических, и в оперных, и в балетных спектаклях. Везде, где оказывались нужны статисты. Я получал пол-лита за спектакль. Но мог смотреть все постановки бесплатно.
В Палате Труда у Мильтиниса я не занимался, поскольку, как уже говорил, был слишком молод. Но надеялся, что мне удастся поступить в студию при Государственном театре, ведь я уже статист, я уже в театре. А это нечто более реальное, чем уплыть на корабле в Голливуд. Словом, думал, что до поступления в театр артистом — рукой подать. А Бледис говорил мне: «Не спеши. У Мильтиниса будет настоящий театр. Туда, и только туда, надо идти». Осенью 1940 года Бледис пришел в школу керамики и показал мне текст пьесы Бенджамина Джонсона «Вольпоне» в переработке Жюля Ромена и Стефана Цвейга, которую перевел сам Мильтинис. Он, видимо, хотел ставить ее в театре Палаты Труда, но поставил уже в Паневежисе.
Мне хотелось еще раз попытать счастья в театре Палаты Труда — снова пойти на отборочный конкурс, но уже к Мильтинису. Бледис меня отговорил. «Мильтинис тебя не знает, — сказал он. — Ты можешь не пройти по конкурсу. Подожди, пока устроимся в Паневежисе. А тогда я тебе помогу — познакомлю с Мильтинисом». Они уехали, а я продолжал учиться. 15 марта 1941 года в Паневежисе состоялась премьера — «Падь серебряная» Николая Погодина. Об этом мне написал Бледис, сообщив также, что они репетируют «Вольпоне» Бенджамина Джонсона. А я все еще был в Каунасе.
В мае 1941 года Паневежисский театр уже играл в Каунасе. Привезли два спектакля — «Падь серебряная» и «Вольпоне». Бледис, как обещал, отвел меня к Мильтинису в гримерную и сказал: «Это Донатас Банионис. Он хочет быть актером». Мильтинис ответил: «Ладно, иди смотри спектакль, а завтра приходи туда, где я остановился». Я пошел на спектакль и услышал, как работники Каунасского театра критиковали постановку: «Какой же это театр, если актеры на сцене говорят, как в жизни, если не умеют на сцене сидеть, как в театре полагается, если грим не виден?» «Может, — говорили они, — в Паневежисе и виден грим, но здесь ведь зал куда больше… Надо им об этом сказать». А мне нравилось, что грим не виден. Мильтинис же, стремившийся к естественности, говорил: «Не надо играть, надо быть человеком».
Как и было условлено, утром 29 мая 1941 года я пришел в дом Люне Янушите, где остановился Мильтинис. Он отвел меня в садик. Сам сел, а меня поставил около куста. В стороне была собачья конура. Я начал читать стихотворение поэта Косу-Александришкиса. В середине заволновался и начисто забыл текст. Мильтинис только улыбнулся: мол, ну хорошо, что еще можешь? Тогда я рассказал басню «Лошадь и медведь». Только позднее понял, что для Мильтиниса было не важно, как я читал стихи, — он все решил с первого взгляда. «Ладно, сегодня заканчиваются гастроли, а послезавтра поедем в Паневежис», — сказал он. Позже Мильтинис не раз шутил: «Я тебя в артисты принял около собачьей конуры».
Я шел домой… День был чудесный… Когда проходил мимо Военного музея, там играл оркестр… «Это для меня играет музыка», — подумал я. Я еще не понимал, что меня ждет. Не осознавал всю степень сложности будущей работы. Не знал, что Мильтинис раскроет мне другое понимание театра. Ведь, исследуя современные духовные проблемы человека, он стремился создать театр философской мысли. Но мне это стало ясно позже. А тогда…
Тогда в школе керамики теория была сдана, а практическое задание — дипломная работа — не завершено. Кофейный сервиз был обожжен, осталось наложить глазурь. Но мне уже было совсем не до того, и я все бросил. Поэтому при окончании ремесленной школы все оценки были «5», но за поведение из-за незаконченной практики стояла оценка «4». Однако меня это уже не волновало. Я уезжал в Паневежис.
Начало
Уезжал я, так и не простившись со школой керамики. Собрал свои вещи, мачеха положила одеяло, постельное белье, — наверное, хотела, чтобы я скорее уехал из дому. Отец, напротив, не волновался, — думал, что тут же вернусь. Какой же из меня артист?! Он был уверен, что актер должен обладать особым голосом, умением рассказать анекдот или спеть — короче говоря, быть душой общества, незаурядной личностью.
Отец ходил в театр не часто, но очень любил оперу и нередко, работая, напевал арии. Он видел артистов: знал, какая у них осанка, какая одежда… В Каунасе таких было десятка два. Шел, к примеру, по улице Пятрас Куберавичюс… или Борисас Даугуветис… Люди их узнавали, разглядывали, а потом друг другу рассказывали: артиста видел! Актеры и жалованье получали около 600 литов, а это были большие деньги. Одним словом — особая каста!
И вот я, только что принятый в театр Мильтиниса, майским днем 1941 года ехал в Паневежис вместе с актерами, возвращавшимися после своих первых гастролей в Каунасе. Нас было человек двадцать, среди которых один я новичок. Добирались рейсовым автобусом, — в те годы у театра своего автобуса еще не было. За окнами мелькали поля вперемежку с лесами и деревенские домики, утопающие в цветущих садах. Словом, привычный литовский пейзаж. Мы были молоды. Нам было весело — мы пели, шутили. Тогда я и не думал, что буду привязан к этому городу всю свою жизнь — и к его людям, и к театральной сцене.
Приехали вечером и сразу же пошли в театральное общежитие. Это был каменный двухэтажный дом. Его хозяин Пятраускас после входа в Литву большевиков выехал в Германию. До войны между Германией и СССР существовало соглашение, разрешающее людям стран Балтии, доказавшим свое немецкое происхождение, вернуться на их историческую родину. Многие пытались получить документы, и неважно, была ли прабабушка немкой или нет… Некоторым удавалось, удалось и Пятраускасу. Он уехал, оставив свой дом, который и достался нам.
Это был обычный жилой дом с красивым садиком. На первом этаже жили девушки, на втором — мы, юноши. Была там и кухня, на которой девушки что-то готовили — варили, пекли, жарили, и мы были счастливы, что началась новая жизнь. Мне отвели место в комнате, где уже обитали Вацловас Бледис и Казис Виткус. Я обрадовался, что буду жить не с чужими, малознакомыми людьми. Ведь Бледиса знал по школе керамики, он был моим другом и
сокурсником, при этом уже работал в театре и мог помочь, посоветовать.
Утром мы всей группой пошли в театр. Город, в ту пору насчитывавший около 30 тысяч жителей, показался мне уютным: маленькие домики, зелень, вдоль главной улицы Республикос посажены деревья. А вот театр на первый взгляд не похож был на театр — дом культуры в провинциальном городе, да и только… Здание строилось для складских помещений в прошлом столетии и лишь позднее было перестроено и принадлежало «Союзу стрелков». Здесь горожане устраивали вечера, ставили любительские спектакли, главным образом оперетты, режиссером которых был паневежисский интеллигент — органист и учитель пения — Миколас Карка. В конце концов городские власти приняли решение — быть в городе профессиональному театру. И здание досталось нам. Был и соответствующий приказ, в котором говорилось:
«Йонасу Сакасу. Управление по Делам Искусств сообщает, что согласно приказу Народного Комиссара Просвещения № Д/330 от 18.11.1940 разрешается товарищу Йонасу Сакасу организовать в городе Паневежисе драматический театр и руководить им.
А. Рукас, инспектор.
Cm. Якштас, ответств. секретарь».
Йонас Сакас взялся за работу: сначала как организатор театра, потом как его первый директор. Спустя десять дней в театр приняли актера с правом ставить спектакли в качестве режиссера — Юозаса Мильтиниса, а также художника Людаса Вилимаса, которому поручили «руководить работами по оборудованию сцены».
Первая приехавшая актерская группа с конца декабря занялась ремонтом. Обычный маленький зал примерно на 300 мест выглядел невзрачно, и за кулисами было тесно: одна комната для переодевания женщин, вторая — для мужчин, и комнатка бутафора. Когда я приехал, сцена уже была переделана. Мильтинис показывал, что и как должно быть. Он уже работал на сценах Каунаса и Парижа, а потому хорошо знал, что нужно театру. Например, ему хотелось, чтобы не было рампы и суфлерской будки. «Нет! Нет! — говорил он. — В этом театре суфлера не будет!» Занавес открывался в полной темноте, и сцена освещалась лишь после гонга. Я также узнал, что после окончания спектакля актеры здесь не выходят на поклон. Зритель должен остаться под впечатлением от увиденного на сцене, а не от кланяющихся персонажей. Словом, все не так, как было в Каунасском театре. Но я работаю в этом театре! Мне сказали, что я получаю ставку. Приказ, подписанный директором театра Й. Сакасом, звучал так: «Донатас Банионис с 1 июня сего года принимается драматическим актером-кандидатом с окладом 300 рублей в месяц». Узнал я и то, что обедаем мы вместе в небольшой столовой, оборудованной в маленьком фойе, а готовит специально нанятая повариха. (Правда, продолжалось это недолго — неделю-полторы.) Во время спектаклей наша столовая превращалась в кафе для зрителей. А завтрак и ужин уже самим приходилось готовить в общежитии.
Гастролями в Каунасе театральный сезон был завершен. Но в летние каникулы Мильтинис начал занятия в студии, которые проходили в фойе театра. Он считал, что студийцы должны делать этюды, импровизировать, упражняться, а параллельно репетировать в спектакле. В студии мы знакомились с первоосновой театра, с «азбукой» театральной игры. Репетируя же, пытались применять полученные знания, а вместе с тем думать о своей роли. Иногда Мильтинис прерывал наши импровизации и читал нам лекции. Он стремился развить в студийце полноценную личность. В ту пору наш театр назывался Театр-студия. Позднее названия менялись — художественный театр, городской… но суть осталась прежней.
Первые две недели я ничего не делал, только смотрел, как работают другие. Потом и сам я начал импровизировать. Мильтинис ставил перед нами разные задачи. «Ты будешь матерью, а ты — сыном, — говорил он, к примеру. — Сын вернулся домой в деревню на каникулы — он студент или гимназист. И вот первая встреча после долгой разлуки». Мы импровизировали, а Мильтинис смотрел, насколько глубоко студийцы прочувствовали заданное. Я это сымпровизировал так: сын в комнате один, ему грустно. Он подходит к окну. А за окном шумит сад, падают яблоки. В течение пяти минут в полной тишине без слов я пытался создать соответствующее настроение… Вдруг вошла мать, и сын произнес: «Мама — ты ангел». Моя импровизация ему понравилась. А вообще, надо сказать, Мильтинис был скуп на похвалы. Как-то позднее он объяснил: «Он умный и волевой. Но я боюсь, что хвалить Баниониса — значило бы убивать Баниониса. А я его люблю, и я его жалею».
Особо ему нравилось, когда мы по его требованию показывали, как не надо играть, то есть демонстрировали популярные в то время театральные штампы: «по-театральному» сидели, «по-театральному» говорили. Я в Каунасском театре на это насмотрелся. Вот и говорил вибрирующим голосом и закатывал глаза. Всем нравилось, в том числе Мильтинису. Говорили, Каунасский театр, да и только! Импровизации у меня и впрямь получались.
Однажды в какой-то праздник был организован вечер, на котором после доклада о достижениях социализма (ведь мы уже год, как жили при социализме) был показан концерт силами местных исполнителей. Мильтинису было поручено подготовить программу. Еще в 1940 году, в Палате Труда в Каунасе, он поставил скетч «Танго и тюремная решетка», который сам написал, скорее всего, к выборам большевиков в сейм…
Содержание было следующим: в первой картине в семью буржуя приходит рабочий, требуя зарплаты. А там сидят несколько дамочек, пьют кофе и разговаривают: «У нас в Париже так…», «А у нас, дорогие, в Берлине иначе». Хозяйка не хочет разговаривать с каким-то пролетарием. Они спорят, и дамочка вызывает полицию. Рабочего арестовывают… Играли их опытные «старожилы». Во вторую картину, действие которой происходило в тюрьме, был введен и я. Моему волнению не было предела: ведь это мой актерский дебют, мой первый выход на профессиональную сцену. Но, как новичку, мне не дали никакого текста. Я играл одного из тех заключенных, которые сидели в тюрьме при буржуазной власти. Они пели песню, текст которой помню до сих пор:
Проходят осень, весна и лето,
Вновь время ударяет, словно колокольный звон,
А мы поем печальные куплеты,
Нам холоден и жуток тех решеток стон.
Закрыты в стенах каменной гробницы,
Мы пред насилием не склоним головы,
Социализма свет пусть осветит нам лица,
Свободы жаждем мы для трудовой Литвы.
Нас презирали, гнали и топтали.
И вдруг как будто с неба грянул гром —
В Литве узнали, что товарищ, Сталин
Сказал с любовью о народе трудовом.
С этой песней мы, закованные в кандалы заключенные, должны были через тюремные ворота выскочить на сцену — на свободу: «Ура! Ура! Рабочий народ освободился от капиталистического ига!» Но… бутафорские ворота упали, с ними вместе и вся группа «тюремщиков», а моя нога с железными оковами зацепилась за выступ декораций, и я никак не мог вылезти… Так, не замеченный зрителями, и остался под тюремными воротами. Мой дебют публика не оценила. И я решил, что Мильтинис выгонит меня из театра. Мне казалось, что я сорвал спектакль, а он, возможно, даже не заметил этого… Словом, взбучки я не получил.
…Шли дни. Мильтинис читал нам лекции по эстетике, говорил о принципах театра, о греческой трагедии, о Константине Сергеевиче Станиславском и Михаиле Чехове, рассказывал о структуре спектакля, Аристотеле и его «Поэтике», о философской школе Платона… Объяснял, что такое грим. Советовал, что нам следовало прочитать. Вспоминал Париж… Говорил, что есть старый, «штампованный» театр, но существует и новый, настоящий, такой, какой он увидел в Париже. И мы будем именно таким театром… В первые дни многое мне казалось непонятным, абстрактным. Но через месяц-другой я потихоньку стал разбираться. Мы вели записи, которые я до сих пор храню.
В середине июня 1941 года по городу поползли страшные слухи: большевики увозят людей в Сибирь. Говорили, что ночью солдаты и офицеры НКВД вламываются в дома, дают час или два на сборы, сажают в грузовики, отправляют на железнодорожный вокзал и увозят в неизвестном направлении. Видели на улицах машины, на которых стоят бойцы НКВД с винтовками на изготовку, а на узлах сидят громко рыдающие люди с детьми… Никто не мог понять, что творится. За что? А это продолжалось один день, второй, третий… И чем все закончится, было неизвестно. Наконец услышали разъяснения: увозят врагов народа. Мы были не просто удивлены, но ошеломлены. Кто эти враги народа? Где суды? Кто составил списки на вывоз? Сковывал страх, что и нас могут вывезти.
В театре работа остановилась. Все сидели, глядя в окна на улицу и ожидая своей участи. Этот ужас продолжался три дня. Потом очнулись: надо как-то спасаться. На первом этаже, где жили девушки, мы выкопали под полом яму, в которой можно было спрятаться. На пол бросили ковер и поставили стол. Решили, что если солдаты придут, то девушки скажут, что мужчин нет. Но так никто и не пришел, никто никого не искал.
А потом стали говорить, что скоро начнется война и немцы нас освободят. Ни о каких репетициях уже не было и речи. Мильтинис уехал в Каунас, быть может, по делам, а может, хотел спрятаться. Коллектив же театра жил в полной неизвестности. Была середина июня. Дни шли, а войны нет как нет. Только в воскресенье — 22 июня — на рассвете мы услышали гул самолетов и взрывы в Пайуосте, где строился военный аэродром. Война! Война — это ужас, но нам она тогда казалась спасением.
В театре не было руководства. Мы не знали, будет ли проводиться мобилизация. Слушали радио, «ловили» зарубежные голоса, хотели понять, что происходит… 23–24 июня мы чувствовали себя скверно: и не повешены, и не отпущены. По ночам в общежитии лазили под пол, днем бегали в театр. А в городе было тихо: ни одной, ни другой армии… Наконец, спустя двое-трое суток, ночью услышали рокот мотоциклов на улицах. Осторожно вышли и увидели первых немцев.
Мы собрались в театре. Мильтиниса там по-прежнему не было. И тут выяснилось, что в нашем помещении уже организован штаб, задачей которого было с помощью частей самообороны оказать сопротивление оставшимся советским солдатам и взять власть в свои руки. Немцев же мало интересовало, что у нас творилось. Они показывали на восток: на Москву! На Москву! Где наш театр, где наша учеба, где цель нашей жизни? Штаб самообороны составлял списки, кто будет капитаном, кто старшиной. Нас тоже хотели вооружить, и я полдня носил пистолеты. Но мы, молодежь, не были политизированы.
Спустя три-четыре дня из Каунаса вернулся Мильтинис: оборванный, штаны разодраны, добирался в основном пешком, а иногда солдаты подвозили. Он сразу сказал, что в театре штаба быть не должно, пусть уходят. И они ушли. Мы могли снова начать работу в студии, подумать о репетициях. Правда, наша жизнь уже изменилась. Через каких-то два месяца явился настоящий хозяин дома, в котором было наше театральное общежитие, — Пятраускас. Он тут же велел нам выселяться. Так закончилась наша общая жизнь в «колхозе». Каждому по отдельности пришлось искать жилье. Меня приютил мой коллега, актер Гедиминас Карка.
Постепенно фронт отдалялся. В Литве уже создавались литовские городские власти. Мы знали, что театр наш будет существовать, мы будем играть, и это нас, конечно, радовало. Правда, одна из газет обозвала наш театр большевистским. Автор статьи утверждал, что такой театр надо закрыть. Однако была лишь одна статья такого рода, и никаких последствий она за собой не повлекла. Литовские власти в Вильнюсе на такие мелочи не обращали внимания. За последний год с небольшим было слишком много пережито. Но все же наш театр почему-то считали большевистским. Вероятно, потому, что он был открыт при советской власти. А первым спектаклем, состоявшимся 15 марта 1941 года, стала постановка советской пьесы — «Падь серебряная» Николая Погодина. Разумеется, у Мильтиниса, имевшего западное воспитание, было свое представление о репертуаре. Однако приходилось отдавать дань и «кесарю», то есть власти.
Мы успокоились. Работа в студии продолжалась: мы снова начали делать этюды, готовить сезонный репертуар. Об отпуске никто не думал. И снова целыми днями занимались самообразованием, физическими тренировками и упражнениями по дикции. Потом слушали лекции Мильтиниса: нередко он читал книгу на французском языке и тут же переводил ее на литовский.
В то время Мильтинис надумал ставить пьесу литовского писателя Казиса Бинкиса «Поросль». Действие ее происходило в гимназии, действующие лица — старшеклассники, которым лет по шестнадцать-семнадцать. А мне тогда как раз исполнилось семнадцать. Пьеса была популярна в Литве: еще до войны ее ставили в Каунасском театре, и она имела успех. Сюжет был нехитрый. Подружились два гимназиста. Одного из них — Ясюса — играл я. Отец моего персонажа был сапожником, по-литовски «шяучюс». Поэтому моему герою дали прозвище — Шяучюкас. А друга моего персонажа, которого играл Вацловас Бледис, звали Пятрюкасом. Он был деревенским парнем. После смерти отца его приютили родственники Кярайтисы. Так вот, этот Пятрюкас жил у богатого дяди, а мой герой был беден. После уроков они встречались у Пятрюкаса.
Как-то раз Ясюс остался в классе готовиться к урокам, так как дома делать этого не мог: отец-сапожник стучал молотком, плакали маленькие дети. А учитель, как назло, оставил в классе свой портфель и вернулся за ним. Ясюс испугался и спрятался, но учитель увидел его. Вернувшись домой, учитель заметил, что нет 100 литов. Он думал, что положил деньги в портфель, хотя на самом деле он их засунул в карман пальто. Подозрение пало на Ясюса, который защищался и говорил, что ничего не знает. Но обвиняли все равно его, говорили, что он вор, что его исключат из гимназии. Тогда Пятрас, спасая друга, сказал, что это он взял 100 литов. (У него были деньги, оставленные ему умершими родителями.) Все были ошеломлены, а Пятраса исключили из гимназии. (Сейчас бы не исключили: не такое еще бывает в школах…) Ясюс знал, что Пятрас не виновен и отдал деньги родителей. Они продолжали дружить. Пятрюкас пошел к портному учиться шить. А через полгода учитель отнес пальто в починку. Портной сказал, что нужна новая подкладка. Осмотрев пальто, он и нашел упавший за подкладку кошелек. Учитель был ошеломлен тем, что обвинил невиновного человека в краже. В гимназии стало все известно, и все обрадовались тому, что нет среди них жулика! Пятрас оказался героем, поскольку пожертвовал собой ради друга. Ясюс и весь класс были счастливы.
Представить эту ситуацию мне было несложно. Мильтинис радовался, что я так хорошо играю свою роль. Но тут не нужна была никакая наука, можно без всякой подготовки сыграть знакомую мне правду жизни. И с этой первой ролью ко мне пришел успех. Мое имя впервые было упомянуто в газете. Журналист и писатель Пулгис Андрюшис писал: «Уже здесь в свете особо выделяющегося обаяния в памяти сохранились Пятрас Кярайтис (г-н В. Бледис) и Ясюс Шяучюкас (г-н Д. Банионис)».
Спектакль нравился зрителям. Мильтинис не пытался совершать театральные открытия, не искал причудливые формы. Всего было ровно столько, сколько требовалось: и музыки, и песен. Мизансцены были весьма выразительны, а персонажи выглядели живыми людьми. Человек должен быть виден — на этом основывалось учение Мильтиниса.
Я почувствовал себя настоящим актером: вот вышел на сцену — и сразу успех. Девушки на улице шептались: вон Ясюс, Ясюс! Это уже казалось большой победой. Увы, молодой человек еще не понимает, чего он в действительности стоит. Так, после премьеры «Поросли», состоявшейся в октябре, я решил, что закрепился в театре. Но в спектаклях 1942 года для меня не нашлось настоящих ролей. В них были другие персонажи — взрослые люди. А для того, чтобы играть зрелого мужчину, любовника или какого-нибудь ксендза, я был еще слишком молодой, «зеленый».
Характер у меня беспокойный, мне постоянно нужно действовать. И дело нашлось. В то время нас, студийцев, сценической пластике и танцам учила балерина Верещагина (имени ее, к сожалению, не помню). Говорили, что до войны она работала в ленинградских театрах, а перед приходом немцев бежала в Прибалтику, где было спокойнее. Так она и оказалась в Паневежисе. Я же в то время решил учиться музыке, чтобы не терять времени даром. Нашел учителя и по 12–14 часов занимался на фортепьяно. В театре было два фортепьяно, и я мог играть даже ночью. Для того чтобы кое-как научиться играть, нужен год, но я, будучи фанатиком, осилил это за несколько месяцев. В итоге Верещагина попросила меня аккомпанировать во время упражнений, а это было большим поощрением. Получив ноты, я за две ночи подготовился. И мог уже как-то сыграть вальс, мазурку, менуэт…
Такая музыкальная подготовка была для меня очень полезна. Она давала возможность аккомпанировать на спектаклях, а чуть позже я даже сочинил несложную музыку к нескольким постановкам. Подучившись сразу после войны у друга-аккордеониста (пока еще не был женат и не очень занят в театре), я играл на танцах в маленьком «оркестре», состоявшем из четырех человек, зарабатывая таким способом червонец-другой.
По мнению Мильтиниса, мы, молодые, должны были пройти практический курс в театральной студии, основой которого стали те предметы, которые сам Мильтинис изучал в студии Каунасского театра и в Париже. Одновременно он обращал большое внимание и на теорию, и на историю театра. Потому мы делали этюды, занимались физическими упражнениями… А затем он читал нам лекции… Это совсем не было похоже на академическую подготовку. У Мильтиниса была непростая театральная система. Он нам рассказывал об эстетическом витализме, о поэтической драме. Говорил, что актеры не должны выплескивать свои эмоции, им важно вызвать эмоции у зрителей. Мильтинис старался очаровать нас новыми театральными веяниями, которые проповедовали передовые режиссеры Парижа. Сценическую речь нам преподавали два актера, уже прошедшие курс, фехтованию обучал специально приглашенный человек, упражнениями по дикции мы занимались сами. А после всех этих занятий шли репетировать в репертуарном спектакле.
Во время немецкой оккупации — и это надо подчеркнуть — никто не громил театр, потому что мы не были призывниками. Да и мобилизации как таковой не было, были только части «добровольцев». Пишу «добровольцев» в кавычках, потому что вступали в эти части не совсем по своему желанию. Война шла не в Литве. Комендантом города был немец по фамилии Беллман. Он приехал из французской Лотарингии и с Мильтинисом разговаривал по-французски, а иногда приходил на спектакли из уважения к «французу» Мильтинису. Нас никто не трогал, хотя немало мужчин из Литвы было вывезено на работу в Саксонию или на строительство оборонительных укреплений фронтовых линий. У нас была так называемая «незаменимость» — по-немецки «UK».
Начали мы тогда ездить и на гастроли в маленькие города. В 1942 или 1943 году наш театр впервые отправился в старинный городок Биржай — самый северный город Литвы, расположенный у границы с Латвией, — вотчину знаменитого литовского княжеского рода Радвилос. Играли «Вольпоне» в зале местной гимназии, так как театра в Биржай не было. Наш приезд для горожан стал событием. Не было в городе и гостиницы, а потому нас расселили у жителей. Биржайцы волновались: каждому хотелось, чтобы актера поселили именно в его доме. Те, кому повезло, гордились, ведь артистов на всех не хватало!
Я играл лишь слугу, но все равно был артистом, а не статистом, как в Каунасском театре. Мы с Гедиминасом Каркой поселились у лесничего. Три дня хозяин кормил, опекал нас… Надо сказать, что Биржай еще знаменит и своим пивом. Горожане, видимо, думали, что вечерком соберутся соседи и артисты, которые что-нибудь споют или сыграют, — одним словом, развеселят, посидят с ними вместе, поговорят, выпьют пивка. Но этого не было, и мы почувствовали, что они немного разочарованы.
Представление Мильтиниса о театре и актере было нетрадиционным. Он принимал ребят не поверхностных и не стереотипных, его актер должен был сознавать, что театр — это призвание. Мильтинис запрещал нам ходить по ресторанам и кафе, чтобы мы не зазнались, почувствовав внимание людей. Ведь найдутся такие, которым захочется присесть рядом, поболтать, угостить. А выходить на сцену хотя бы с легким алкогольным запахом он строго-настрого запрещал.
Мильтинис уже поставил шестой свой спектакль — «Воскресение» Пятраса Вайчюнаса. Это пьеса о том, как мужчина, притворившись мертвым, хотел обмануть жену. Я играл там цыгана. Ни хорошо ни плохо — эпизодический персонаж. Но роль принесла известность, в газетах о ней писали. Потом был спектакль по пьесе Софии Чюрлёнене «Денежки». Я выходил лишь в толпе, но все равно появилось чувство гордости, и я немного зазнался. Когда режиссер начал мне говорить, что я что-то нехорошо делаю, я был оскорблен и сказал ему: «Если я такой плохой и вам не нравлюсь, то я уйду». Мильтинис спокойно ответил: «Хорошо, уходи». А я-то думал, что он станет уговаривать меня остаться. Ведь театр потеряет такого хорошего артиста…
Не ушел. Мы были воспитаны иначе, нам всегда внушали: не думайте, что вы — звезды. В то время, правда, было несколько уходов, но по другой причине. Мильтинис в театре не разрешал никаких браков, никакой любви. А мы в таком возрасте — молодые юноши и девушки. Конечно, между нами возникали отношения не только студенческие.
И вот однажды, когда Мильтинис узнал, что Вероника Руминавичюте дружит с Гедиминасом Паулюкайтисом и что они собираются создать семью, то предложил одному из них уйти по собственному желанию. Даже приказы специально выдумывал: одного увольнял якобы потому, что театр не получил новой ставки, другой же «уходил по собственному желанию». А какой хороший актер был Паулюкайтис! И еще одну пару ждала та же участь — Янину Дулските и Стасиса Паску. Конечно, они позже обосновались в других театрах, где режиссеры не придерживались подобных принципов.
И все же в Паневежисе был театр-студия, где мы и учились актерскому мастерству, и играли все вместе. А обычно будущие артисты учились в театральной студии, в Литве тогда была только одна студия — при Каунасском театре, после окончания которой актер принимался в театр. Мильтинис же учил нас не только театральному искусству, но и жизни, и хорошим манерам: как надо сидеть за столом, ни в коем случае нельзя было оставлять ложечку в стакане, потому что это нехорошо, не принято…
Еще одним испытанием для нас, вчерашних выпускников, стал «Генрих IV» Луиджи Пиранделло. Это была первая встреча с новой, незнакомой нам литературой и не вполне понятными образами: ведь надо было играть итальянцев и французов, «жить» в неизвестной нам среде. Мне пришлось играть роль молодого маркиза. А до этого, напомню, я играл Ясюса Шяучюкаса. Мильтинис все время говорил: надо не так, манера игры не та, необходимо разобраться и во внешней форме, и в образе мышления, у маркиза и интонации другие, и манера держаться другая. Не так… А откуда же мне знать как? Мильтинис никогда ничего не показывал — требовал, чтобы мы сами представляли себе своего персонажа, пытались понять его изнутри и старались выразить через свое мышление, свою психологию, а не просто поверхностно изобразить. Из внешнего показа не вырастет настоящий, разносторонний, оригинальный персонаж.
Почему Мильтинис решил обратиться к Пиранделло? Вероятно, он хотел выйти за рамки литовского репертуара и поставить пьесу автора мирового масштаба. Пиранделло ему нравился, он сам перевел пьесу с итальянского. Но для нас эта драматургия еще была слишком сложна, мы ее не понимали. Но не понимали пьесу не только мы. Не понял ее и наш зритель. Помню, была такая рецензия, пожалуй, самая громкая: «Мильтинис, вернись к „Завету мошенника“!» «Генрих IV» потерпел фиаско. Зритель не смог разобраться, не сумел понять ситуации. Одна из газет писала: «Только один Генрих IV (сам Мильтинис) господствовал в продолжение всего спектакля, оставляя других в тени. На его плечи легла вся ноша, и режиссер достойно пронес ее. При создании различных мизансцен в таком статичном спектакле режиссер должен показать особые способности. В противном случае не все смогут выдержать и выслушать до конца длинные монологи». Похвалив некоторые сцены, вызвавшие восхищение, и наиболее ярко сыгравших актеров — Бронюса Бабкаускаса, Марите Кетураките, Стяпаса Космаускаса, Вацловаса Бледиса, — рецензент закончил статью словами Мильтиниса: «Вся работа еще только начинается». Другой рецензент отметил: «Действие часто ставит нашего зрителя в неудобное положение: в нем выражается единственная правда — вцепиться в свою правду всеми силами и держаться за нее».
И сам Мильтинис говорил: «После первых двух спектаклей, на которых было полно зрителей, в публике раздался голос, что в театре нечего смотреть. Все остальные спектакли шли в почти пустом зале… Близкий моему сердцу интеллектуальный репертуар, конечно, вводить надо постепенно». Неудачу спектакля признал и упомянутый уже раньше Пулгис Андрюшис, литератор, критик, переводчик — друг Мильтиниса. После войны он уехал в Европу, позже — в Австралию. Это был наш последний спектакль в годы немецкой оккупации. Весной 1944 года фронт приближался, и мы уже не успели сыграть его еще раз.
Играть маркиза мне было тяжело: я не знал, как держать руки, как ходить. Я был скован, да и знаний недоставало. Мильтинис говорил: «Ты не маркиза играл, ты играл Ясюса, а здесь другой уровень роли, надо думать, надо понять психологию персонажа». Но я еще не разобрался. И никто из нас не разобрался. Было рано… Однако это был хороший урок: у нас появились персонажи, которые пока нам не удавались.
Мильтинис хотел увидеть в нас личности, которые мы сами должны были в себе воспитать. Он требовал, чтобы мы изучали языки, и в итоге я сейчас хорошо говорю по-немецки, немного знаю английский и польский. Русский мы учили для того, чтобы читать мировую литературу, — на других языках она до нас не доходила. Режиссер поощрял нас за то, что мы старались сами читать, изучать драматургию, литературу, музыку. Это было время, когда я понял, что я — никто, что надо учиться, надо лепить себя по крупицам.
А впереди ждали трудные часы и дни, когда мне надо было создавать персонажи Чехова и Ибсена, Шекспира, Миллера и Борхерта. Театр — это жуткое напряжение, что-то не удается на репетициях, кажется, бросишься в реку — и все закончится… Но… чувствуешь страх и бежишь от этой реки… Порой после неудач появлялась мысль уйти из театра или утопиться, броситься куда-нибудь вниз головой… Да, такие мысли были.
Весной 1944 года фронт уже двигался с востока на запад. Немцы хотели закрыть театр и взять нас в армию в качестве «добровольцев». А нам этого совсем не хотелось, рушились все наши планы. Между тем Красная армия приближалась к Паневежису, уже была слышна артиллерийская канонада. Мы не хотели оставаться за «железным занавесом». Мильтинис говорил, что если останемся, то мира мы не увидим, он будет закрыт для нас. (Надо сказать, Мильтинис всю свою жизнь ни в каких партиях не состоял и никаких партий не признавал.) А еще пугало то, что наш театр, открытый в советское время, работал на оккупированной немцами территории. Раз с театром ничего не сделали, нас могли обвинить в сотрудничестве с немецкими властями. Мы помнили и довоенные аресты, и ссылки невинных людей, а потому боялись. Мы не знали, что с нами могут сделать, и не хотели рисковать. Все обдумав, решили, что каждый будет скрываться как может. Мы втроем — Мильтинис, Бледис и я — попытаемся продвигаться на запад. Там и устроимся.
В середине июля Бледис уехал вместе с Мильтинисом к своим родителям за Шядуву. Я тоже следом за ними, останавливаясь то у одного, то у другого знакомого. Уже стали появляться отступающие немецкие солдаты. Поговорив с ними, мы поняли, что Гитлеру капут, а нам надо уйти к англичанам. Отец Бледиса дал телегу и лошаденку, мы сложили продукты: хлеб, мясо, окорок — и тронулись в ту сторону, где заходит солнце. Мы знали, что в Паневежисе большевики. Но нас они уже не достанут.
За целый день доехали только до Тяльшяй. По дороге все посматривали на небо: самолеты летали, стреляли. Городок маленький, рукой подать до Балтийского моря. В Тяльшяй нашли друга, художника, ранее работавшего в нашем театре. «Что же вы в городе будете ждать, не зная, что здесь произойдет. Недалеко есть деревня Шарняле. Там, в усадьбе матери, живет поэт Витаутас Мачернис. У него остановитесь, а потом видно будет, куда идти», — посоветовал он нам. Туда мы и повернули. Вечером подъехали к усадьбе Витаутаса Мачерниса. Я не знал его лично, но стихи читал.
Витаутас был молодым парнем, всего на три года старше меня, но уже знаменитым. Когда немцы закрыли университет, молодые философы, поэты разбежались кто к родителям, кто куда. Но мы знали Генрикаса Нагиса, Казиса Брадунаса, Витаутаса Мачерниса и Эугениюса Матузявичюса. Дни, проведенные в усадьбе Мачерниса, были одними из лучших в моей жизни. Как и Мильтинис, Витаутас Мачернис был человеком западного склада ума. Он изучал философию, знал семь языков. По-английски читал нам Шекспира, знал русский, любил Есенина. Помню, читал:
Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Нерадостно и нелегко мне
Покинуть тебя привелось.
Тем временем фронт остановился. Две армии разделяла главная дорога Рига — Тильзит (теперь — Советск). И так продолжалось почти два месяца. А потому мы провели эти дни в усадьбе, как в афинской школе. Занимались ли мы хозяйственными работами? Мы — да, а Мильтинис — нет. Он говорил, что физическая работа унижает человека и он деградирует. Уничтожается личность. «Ни один философ не работал ни в Древней Греции, ни позже, — часто напоминал он. — Человек разума не может работать физически». А вечерами, бывало, приходил сосед — ученый, из беженцев. Они вместе с гостем высказывали свое мнение, а я только слушал. Они поднимались в заоблачные выси и философствовали, а я брал неоценимые уроки. У Мачерниса была и прекрасная библиотека: большое собрание русских, итальянских и английских книг. Мачернис и Мильтинис рассказывали о Толстом, Достоевском, и меня эти писатели интересовали. Витаутас предложил мне прочитать книгу «Братья Карамазовы». По-русски, конечно. В первый день я только одну страницу с трудом прочитал, все старался понять, что означает то или иное слово. Например, «касаться» — притрагиваться к человеку, предмету или какой-то предмет касается меня. Словом, усадьба стала для нас своеобразной академией.
По воскресеньям мы ездили в костел недалеко от Шарняле. После службы у молодого поэта Паулюса Юркуса собирались интеллектуалы, чаще всего беженцы. Приходили и литовские офицеры: после отступления немцев недалеко от городка Сяды была создана армия Плехавичюса, собранная из местных и действующая только на территории Литвы. Это было военное соединение, вооруженное немцами и включающее в себя около 7 тысяч человек, в основном молодежи и студентов. Это соединение должно было помочь задержать большевиков, а затем, став ядром литовской армии, восстановить независимость Литвы. Все это было наивно, конечно…
Военные нас успокаивали, говорили, что фронт приближается, что американцы скоро высадятся в Литве, что они в Нормандии, что ни за что не отдадут Литву большевикам и все будет хорошо. Потому мы и не ехали дальше — все ждали, когда придут американцы. Военные говорили, что лучше идти в лес бороться с оккупантами… Это был своего рода обман. И тут моя судьба сделала еще один странный поворот.
Уехали мы из Паневежиса в июле. Пока жили в усадьбе Мачерниса, пришла осень. В начале октября Мильтинис, рассердившись на что-то, заявил: «Поеду к маме посмотреть, что там делается». А дом его матери стоял километрах в двадцати севернее, за Мажейкяй, в деревне Рамонишкес. Он уехал, а вслед за ним на следующий день и Бледис. Я остался с Мачернисом. И тут двинулся фронт, остановленный около Шяуляя. Мы уже видели дым, самолеты, слышали стрельбу… А до этого лето было тихое-тихое. И мы решили, что надо бежать. Утро 7 октября стало для нас решающим. Хотя наступил октябрь, но было очень красиво, солнце еще грело. С утра запрягли лошадь и отправились к Юркусу. А городок этот расположен восточнее, то есть в противоположной стороне от того, куда нам было нужно. Проехав полкилометра, встретили группу военных: четверых-пятерых литовцев, на которых форма была немецкая, а нашивки литовские. Это уже происходило после боя у Сяды, где литовское соединение не выдержало натиска советской армии и разбежалось.
— Мужчины, откуда вы? — спросили мы.
— Мы из Сяды, — ответили они.
— А в Жямайчю-Калварии большевиков нет?
— Еще нет, но если дорога жизнь, не суйтесь туда.
А как мы не поедем? Ведь была договоренность. Как же оставить Юркуса? Это же предательство. «Ты жди здесь, Донатас, — сказал Витаутас, — а я один быстрее сгоняю». Вещи выгрузили и сложили все около дороги. Витаутас помчался на телеге в сторону городка, где должен был ждать Юркус. И пропал… Ждал я Витаутаса, ждал… А его все нет и нет. Тогда я взял свои вещи, а также его рукописи и отнес к человеку, жившему у дороги, попросив за ними присмотреть. Сам же побежал в городок, находившийся километрах в двух-трех. Он был пуст. Да какой там городок — деревня, всего одна главная улица. Я спросил у сидевшего около ворот человека, не видел ли он Витаутаса. «Как же, убит. Во дворе Юркувене», — ответил тот. Я бегом помчался в этот двор и увидел в телеге скорчившегося человека, который был весь в крови, и лошадь запряженную, тоже в крови.
— Витаутас мертв? — спросил я у Юркувене, матери Паулюса.
— Да, мертв.
— А где Паулюс?
— Так вчера с немцами на грузовике уехал.
Это была ирония судьбы, Паулюса уже не было, так зачем же мы ехали в сторону приближающегося фронта? Я прибежал назад, вытащил из чемодана Витаутаса его рукописные стихи, положил в свой чемодан и поспешил к другому соседу. Попросил его сказать матери Мачерниса, что Витаутас убит, и передать ей его вещи. Мог бы и сам отнести, но боялся… А там стояла телега с беженцами, тоже отступающими на Запад. Уговорив их взять меня с собой, я положил свои вещи в телегу. Отъезжающими были помещик Яловецкий с женой и шестнадцатилетней дочерью. Я поехал с ними четвертым.
Поскольку позже не будет возможности рассказать об этом, позволю себе вернуться к путешествию с поэтом Витаутасом Мачернисом, последнему для него путешествию. Недалеко упал один шальной снаряд, и осколок попал в голову Витаутаса. Он погиб в возрасте двадцати трех лет. Я был последним, кто видел его живым. С собой в Паневежис привез рукописи Мачерниса. Брат нашего актера Альгимантаса Масюлиса, Гинтаутас, который тоже работал в театре, начал тайком перепечатывать стихи на машинке. Каким-то образом узнав о том, что рукописи Мачерниса у меня, весной 1945 года меня нашла девушка из Каунаса. Она представилась невестой Витаутаса и сказала, что рукописи принадлежат ей. Мы не успели всего перепечатать, но я, не протестуя, отдал ей все тетради. Спустя неделю ко мне пришел человек, который представился работником НКВД, и сказал: «Мы знаем, что у тебя есть рукописи Мачерниса. Отдай». Я ответил, что все, имевшиеся у меня, отдал невесте Витаутаса. На этом история вроде бы и закончилась.
Но я вспомнил о ней, когда 1970 году впервые оказался в Америке. Там я увидел книгу стихов Мачерниса, изданную эмигрантом Казисом Брадунасом. Как к нему, в Америку, попали рукописи? Говорили, что литовские поэты ему пересылали по одной странице. А где сегодня находятся оригиналы стихов Мачерниса, так и остается загадкой. Это были те самые стихи, которые мы читали вечерами в усадьбе поэта. Нашел я и Паулюса Юркуса, которого мы с Витаутасом ехали забирать. В Нью-Йорке он был редактором литовской газеты. Позвонив ему и напомнив, кто я такой, энтузиазма в его голосе я не услышал. Так мы и не встретились.
А поэзия Витаутаса Мачерниса не канула в Лету. Она очень высоко ценится и любима в Литве. «Я познал короля в тебе», — эти строки написаны им. Пророческие строки.
…Но вернемся к октябрю 1944 года. Я с семьей Яловецких продвигался на запад. Вечером подъехали к железнодорожному переезду, а там — горящие вагоны. Людей собралось много — все беженцы. Уже темно, вдали, со стороны Лиепаи, стреляют, а мы не можем проехать. Кто-то сказал, что скоро приедут немецкие танки и сдвинут вагоны. Я пошел на сеновал. Прилег и уснул. Проснулся утром, а кругом тихо-тихо. Пошел к домику хозяина спросить, что случилось. А он говорит, что так все и было: приехали вечером немецкие танки, растащили вагоны и все уехали. Кто же там ждать-то будет! Взяв чемоданчик, я пошел пешком. Попросился к какому-то человеку передохнуть. Через какое-то время мы со стороны дороги вдруг услышали урчание военных машин и спрятались в картофельный погреб. А в той усадьбе была одна девочка — русская, беженка. Мы ее послали разузнать, что происходит. Вскоре она прибежала к нам, радостно крича: «Наши пришли, наши!» Мы тоже вышли встречать. «Мы вас так ждали, так ждали. Спасибо», — сумел сказать я. На следующий день в едущем на телеге беженце я узнал Доминикаса Урбаса, учителя и переводчика, и попросил его взять меня с собой. Проехав какую-то часть дороги, я заметил, что мы движемся вдоль реки, за которой находится малая родина Мильтиниса. Я слез с телеги и остался там, надеясь узнать, где он и что с ним. Но соседи по эту сторону реки объяснили, что Мильтинис уже уехал. На мой вопрос — куда? — ответили: «В Паневежис».
Я остановился в той же усадьбе, где узнал о Мильтинисе. А там были военные из части «Смерть шпионам» — печально известный «Смерш». «Кто такой?» — пристали они ко мне. «Я — артист», — говорю и слышу в ответ: «Знаем, много таких артистов в лесу около Паневежиса, стрелять вас надо». Всю ночь ждал: расстреляют или нет? Но утром офицер с похмелья отпустил, только велел явиться в военный комиссариат в Шяуляй. Съездил, представился. Офицеры в комиссариате мной не очень интересовались. Только, все поминая «мать», велели сваливать подальше — отправляться в Паневежис. Напросился я к кому-то попутчиком и уехал — не то на прицепе, не то на грузовике.
Позволю себе еще один экскурс в прошлое, а отчасти в будущее. В годы немецкой оккупации в Паневежисе проживала очень интересная личность — писательница Люне Янушите. До войны она жила в Париже и была знакома с Юозасом Мильтинисом. Люне уехала из Каунаса в Паневежис, где жила ее мать, в году этак 1941–1942-м, так как была достаточно известна как сторонница левых взглядов. А в маленьком городке, где ее никто не знал, она могла прожить незамеченной, тихо и спокойно.
Люне была еще известна и как гадалка. Она сама утверждала, что может предсказать будущее, рассказывала, как училась у лучших магов Востока. В качестве платы брала водку. А артисты из нашего театра заходили к ней выпить рюмочку и нередко просили «раскинуть карты». Так, у нас была молодая, незамужняя актриса Регина Зданавичюте, которой Люне предсказала, что у нее будет два мужа. Тогда это казалось невероятным, а ведь сбылось. Моей будущей жене, актрисе Оне Конкулявичуте, напророчила, что она лишится своего дома — ее семью не обошли сталинские репрессии.
Однажды и я решил узнать, что ждет меня. Водку тогда выдавали по карточкам, я взял бутылку и пришел к Люне. Она зажгла свечу, отпивая по глоточку из рюмочки и что-то бормоча, дождалась времени гадания. Раскрыла карты… Посмотрела мне в глаза, на ладонь, спросила точную дату рождения, год, месяц, день… Все это продолжалось очень долго.
Три вещи предсказала она мне тогда. И все сбылось.
Первое — немцы арестуют близкого моего родственника и вывезут в концлагерь, но он вернется.
Сказать-то сказала, но родственников немало, а во время войны судьба многих неизвестна. И вот спустя несколько дней звонит из Каунаса сестра, плачет: «Донатас, Владаса взяли!» Владас — муж сестры — был патриотом Литвы, подпольщиком, борцом против гитлеровцев и против большевиков. Не по себе мне стало. Но тут я вспомнил Люне и попытался успокоить сестру: «Дана, мне гадалка говорила, что кого-то из родственников арестуют. Но ты не волнуйся: он вернется». — «Так ли? Сбегай к ней, спроси еще раз», — попросила сестра. Побежал, объясняю гадалке: «Люне, ты говорила мне, что арестуют моего родственника. Действительно, арестовали мужа сестры!» Люне спокойно отвечает: «Сказала так сказала, значит, так и есть». Я совсем растерялся: «Люне, но ты сказала, что он вернется. Сестра сходит с ума. Действительно ли его отпустят?» А Люне еще спокойнее: «Я не помню, что тогда говорила. Но если говорила, что отпустят, значит, отпустят». Война разметала людей, даже самых близких, связь между ними оборвалась. Только после войны я узнал, что муж сестры, пробывший около полутора лет в печально известном лагере в Штутгофе, вернулся. Его отпустили из концлагеря, как отпустили и нашего писателя, профессора Балиса Сруогу, и других литовских интеллектуалов.
Второе, что предсказала мне Люне: «Будешь отступать на запад, но не попадешь туда. Жить тебе в Литве».
Когда мне не удалось уехать, я думал: «Многие не смогли, это лишь совпадение».
Услышав же третье предсказание Люне, я только рассмеялся. Гадалка сказала, что я стану руководителем театра. И тогда я подумал: «Ну да! Принес тебе водки, так ты еще и не такое скажешь». В те годы подобное невозможно было даже представить. В театре был Мильтинис, было много актеров — старше и известнее меня! Но через много лет я вспомнил слова Люне. В очень сложный для театра 1980 год Мильтинис ушел из театра, и мне пришлось согласиться на должность руководителя. Спасибо Господу, что ненадолго.
Никаким гадалкам не верю и сейчас, но…
…А тогда в Паневежисе театр, оказывается, работал и без нас! Не все ушли, и на Запад убежать удалось только одному человеку. Остальные вернулись, привыкли к новому строю жизни. Пока Мильтиниса не было, пока он вместе со мной и Бледисом плутал почти два месяца по дорогам Литвы, появился документ, датированный 15 августа 1944 года: «Согласно приказу Министерства культуры № 495 от 07.08.1944 года, с согласия коллектива театра и утверждения Городского исполнительного комитета, назначаю художника Паневежисского драматического театра Йонаса Суркявичюса временно исполняющим обязанности директора драматического театра с 17 августа сего года. Подпись. Уполномоченный Балис Лукошюс». Этот приказ подтвердил своей подписью и Й. Суркявичюс.
Вернувшись, я нашел Мильтиниса и Бледиса в Паневежисе. И им не удалось уехать на Запад: дорога была отрезана. Я рассказал им о Витаутасе Мачернисе, о его гибели. Они были потрясены.
Нам, появившимся в Паневежисе в середине октября 1944 года, пришлось объяснять новой власти, что мы не хотели никуда убегать, а только боялись фронта, сражений и прятались в деревне.
Пятнадцатого октября появился новый приказ. Мильтинис вновь назначался руководителем театра, а мы — актерами. И начался совершенно другой этап нашей творческой жизни. Новая учеба, новый репертуар, новый порядок, установленный новыми руководителями культуры, которые говорили: теперь надо смотреть на Москву! И здесь уже не пройдет никакой Пиранделло…
Новые веяния
Не прошел не только Пиранделло… Не годился весь репертуар времен немецкой оккупации: «Колыбельная» Мартинеса де Сиера — потому, что действие происходит в монастыре, «Система Флаксмана» Отто Эрнеста — потому, что автор — немец. А заодно были забракованы и две пьесы литовского драматурга Пятраса Вайчюнаса — «Грешный ангел» и «Воскресение». Нам оставались лишь «Поросль», «Денежки» и «Вольпоне».
В годы войны театр подчинялся городу. Городские власти финансировали нашу деятельность, давали деньги на ремонт, но в творческий процесс не вмешивались и, какие пьесы должны быть в репертуаре, не указывали. Мильтинис мог ставить все, что ему заблагорассудится.
В 1944 году в Литву вошли советские войска. И хотя война на ее территории еще продолжалась, в Вильнюс из эвакуации (из СССР) уже возвращались советские руководители. Мильтинису пришлось связаться с руководством в Вильнюсе — мы становились зависимыми от центральных властей. Работать в полную силу не получалось — на крыше театра еще дежурили зенитчики. Иногда по ночам бомбили. И хотя в сентябре в театр стали возвращаться актеры — кто-то из деревень, а кто-то и оставался в городе, — играть «Поросль» мы не могли: не хватало людей. И тут Мильтинис решил сделать то, чего от него требовала новая, советская власть: давать концерты для стоящих вблизи от города советских войск, а также в театре, когда проходили какие-либо митинги. Для этого он принял двух музыкантов из городка Биржай: замечательного аккордеониста Альгимантаса Лочериса и саксофониста Жоржа Березова. На них и была возложена вся концертная работа. Они-то и ездили по военным подразделениям, хотя играли вдвоем недолго — полгода, не больше. Лочериса арестовало КГБ. Обвинили его в том, что он посещал спортклуб, который был под подозрением как убежище литовских партизан. Несправедливо обвинили…
Нужен был новый спектакль. Мильтинис решил ставить драму знаменитого писателя Антанаса Виенуолиса «В сумраке», которая советской власти якобы должна была понравиться. Действие пьесы происходит в литовской деревне в начале XX века. У богатого хозяина — два сына. Один, Антанас, учится в духовной семинарии. Но поскольку эта учеба чужда его убеждениям, он бросает семинарию и возвращается в деревню к родителям. Отец проклинает его и выгоняет из дому. Другой сын — пьяница Эдвардас — живет с родителями. Вот этого Эдвардаса играл я. Он влюблен в Евуте, но ее отец беден, а отец и особенно мать Эдвардаса не желают, чтобы сын женился на бедной. У Евуте рождается ребенок от Эдвардаса. И Антанас начинает заботиться о ней… В конце концов Эдвардас убегает от родителей и решает жить с Евуте. Первоначально у Виенуолиса мирились и родители. Писатель предполагал, что конфликт двух семей можно разрешить по-христиански. Но такой конец драмы пришелся не по вкусу советским идеологам: они не могли согласиться на то, чтобы бедняк мирился с кулаком. И Виенуолису пришлось переделать финал: Эдвардас убегал из дому, а его родители не желали видеть ни его, ни свою невестку Евуте. Премьера состоялась в марте 1945 года. А. Виенуолис, посмотрев спектакль, расстроился. Бросил единственную фразу: «Это перекрашенный воробей!» — и, стукнув дверью, ушел.
Дул ветер перемен. Власть в центре создавала плановое социалистическое хозяйство. Театрам тоже было указано, чего и сколько надо поставить за год. А именно четыре спектакля: советскую пьесу, произведение русской классики, литовскую пьесу и спектакль для детей. Мильтинис не соглашался с тем, что искусство можно планировать. К тому же театр потерял самостоятельность и оказался зависим от прихотей начальников Управления по делам искусств. Начались просмотры спектаклей, стали навязывать репертуар, на все смотрели сквозь призму идеологии. Еще в марте 1944 года в интервью для газеты «Атейтис» Мильтинис говорил: «Вообще для художника быть зависимым от кого-либо трудно, это означает лишиться большей половины жизни, намерений и стойкости. Если у власти высокий интеллект, если она глубоко гуманна и эстетически нравственна, то в сердце еще может запасть пылинка радости, а если нет — трагедия! Но понятно, что чем больше начальник, тем он дальше и… само собой, тем лучше. Самым хорошим начальником мог бы быть господь Бог». Теперь же Мильтинис как художник чувствовал над собой насилие. Студия тоже начала работать иначе, чем раньше. Если в годы войны она являлась основой нашего театра, то сейчас стала лишь местом, где готовилось молодое актерское пополнение. Первоначально студия была — главное, а театр — при ней. Сейчас же главным стал театр, а студии отводилась второстепенная роль. Если Мильтинис присматривал за нами, как за детьми, то теперь он уделял студийной работе, педагогике куда меньше внимания. Да и возможности стали не те. Мы, как я уже рассказывал, все, включая и Мильтиниса, прежде жили в одном общежитии и постоянно общались. Теперь каждый был предоставлен себе самому.
Летом 1945 года состоялись наши первые послевоенные гастроли. Маршрут пролегал через Шяуляй, Тельшяй, Плунге в Клайпеду. Играли «Денежки», «Вольпоне» и «В сумраке».
В Клайпеде гитлеровцы продержались долго — до конца января 1945 года. Город был сильно разрушен, на улицах почти не видно было людей. Только лишь собачонка или кошка пробегала. Мы думали: для кого же мы будем играть? Множество квартир пустовало… У нас было время, и мы бродили по ним. Все было оставлено — мебель, посуда, книги, — казалось, что хозяева сейчас вернутся. Но это лишь казалось. Нас заинтересовали книги, немецкие и классика, и я там кое-что нашел. День был жаркий. Переправившись через Куршский залив в Смильтине, все пошли на пляж. Раз уж мы у моря, грех ведь не искупаться! Пляж был пустой. И вдруг на песке увидели труп немецкого солдата, который волной выбросило на берег. Такое было время.
Устроились мы в запущенной гостинице. Гостиницей ее можно было назвать лишь условно. Правда, кровати сохранились, но здание стояло без окон, выбитых во время бомбежек. Не было и служащих. Нас впустил какой-то сторож. А вот здание театра уцелело! Старое, построенное в начале XIX века, оно было перестроено, реконструировано. Когда в Клайпеду приезжал Гитлер, он произносил речь с балкона этого театра. А когда вечером мы играли спектакль, то, к полному удивлению, казавшийся пустым город ожил. Со всех сторон люди шли в театр, наверное, весь город собрался… Для клайпедцев, думаю, в те дни приезд театра стал событием. Нам же было приятно, что после недавних бомбежек и боев измученные жители полуразрушенного города оказали нам такое внимание.
В 1945 году мы, актеры, получили бронь, то есть были освобождены от прохождения службы в армии. Когда я после моих странствий по Жямайтии и неудавшейся попытки уехать на Запад вернулся в Паневежис, оказалось, что жить мне негде. Моим пристанищем стал театр. Здесь я учился профессии, работал и жил, поселившись в грим-уборной. Там были какие-то лавочки, бутафор дал что-то постелить. Вот я и жил как бомж, не помню, имелось ли у меня даже полотенце и мыло. Однако, несмотря ни на что, мне было хорошо. По ночам я учился музыке. Мог играть на пианино: мне не мешали, и я никому не мешал. Так прошло около месяца, пока работавшая в бухгалтерии женщина — то ли бухгалтер, то ли счетовод — Мисюнене не предложила мне поселиться у нее в доме. Ее муж убежал на Запад, и квартира была пуста. Так я переехал в двухэтажный деревянный дом на улице с романтичным названием Лиепу-аллея — Липовая аллея. На кухне мне поставили кушетку, где я и спал. Прожил так несколько лет — до 1948 года, до моей женитьбы.
Жил я от театра далековато, а время было неспокойное: свирепствовали бандиты — демобилизованные солдаты советской армии. Когда война закончилась, кто-то вернулся домой, кто-то обосновался на новом месте. И в Паневежисе осталось немало демобилизованных солдат и офицеров. Одни нашли работу, но были и такие, которые по ночам разбойничали — нападали на людей на улицах, грабили, насиловали, иногда и убивали. А уж раздевали частенько — то пальто отнимут, то обувь снимут или шапку. Вечерами мы обычно по одному не ходили — только группами. Я же носил с собой маленькую штангу: если нападут — будет чем защищаться. Не пришлось — Бог миловал. Кстати, надо сказать, власти отреагировали мгновенно — теперь бы так. Бандитов расстреливали без суда или после суда и уничтожили их, как тараканов, очень быстро — за год или за два.
Шел 1946 год. Я в то время понял: что бы там ни было, а мне нужен аттестат зрелости. Свидетельство об окончании школы керамики — хорошо, но необходимо что-то более серьезное. Надо закончить гимназию. Мое решение Мильтинису показалось подозрительным. Очевидно, он решил, что у меня какие-то планы на будущее и я собираюсь куда-нибудь устроиться. Но раз я так решил, то, значит, сказано — сделано! Я пошел к директору гимназии для взрослых, находившейся на улице Укмяргес, и сказал: «Хочу закончить восемь классов». (В то время гимназии еще были восьмилетние. Потом стали десятилетками и средними школами с одиннадцатилетним обучением.) Показал директору свое свидетельство об окончании школы керамики. Он от этого в восторг не пришел и предупредил меня: «Со свидетельством ремесленного училища принять тебя без вступительных экзаменов не могу — придется сдавать». Я сдал экзамены очень хорошо. Не знаю, по закону или в виде исключения, но меня приняли в седьмой, предпоследний класс. Я был прилежным учеником, и, зная, что мы будем изучать на следующем уроке, я готовился заранее, чтобы не получать упреков. Семь классов закончил с отличными баллами. Еще через год, весной 1948 года, я должен был получить аттестат зрелости, но… Как назло, именно во время выпускных экзаменов начались наши первые гастроли в столице, в Вильнюсе. Мильтинис никак не мог отпустить меня — я был занят и в «Жизни в цитадели», и в «Русском вопросе». Обратился в Министерство просвещения с просьбой, чтобы разрешили отложить экзамены на осень. Не разрешили, и я остался без аттестата.
В то время в гимназии хорошо преподавали латынь. Математика мне давалась легко, и немецкий учил усердно. Все эти предметы я выбрал сам. Моя учеба в средней школе закончилась через несколько лет. В 1953 году я снова поступил в Республиканскую заочную среднюю школу, в последний класс, и через год закончил ее. В моем таком желанном аттестате были одни пятерки! (Десяток тогда еще не ставили.) А когда гораздо позже, в восьмидесятые годы, после ухода Мильтиниса из театра, мне пришлось руководить студией, я экстерном сдал экзамены по специальности актер драматического театра в Литовской государственной консерватории. Вместе с молодыми студентами сдавал историю и теорию театра, иностранные языки… Короче, все, что предусматривалось в программе. Получил красный диплом о высшем образовании. А ведь в то время я уже был народным артистом СССР со стажем.
Но вернемся в 1946 год. Все тогда продавалось по карточкам. Мой оклад в театре — 600 рублей. А я был молодой. Мне хотелось и поесть, и купить себе что-то. Это можно было сделать на базаре: там карточки не нужны, но нужны наличные деньги. Я думал, где бы хорошо заработать. И вот один знакомый музыкант позвал меня в «джаз» — так он называл ансамбль. Руководителем «джаза» был некий Пиринаускас-Алдона — известный в Паневежисе музыкант. «Джаз Алдоны» — так и называли наш ансамбль. Мы работали вчетвером. Пиринаускас-Алдона играл на трубе или саксофоне, на барабане — еврей Лурье (он был завхозом в НКВД, позже эмигрировал в Израиль), я аккомпанировал на фортепиано и играл на аккордеоне, а подменял меня Лочерис, аккордеонист, мой напарник. Играли мы на танцах в Клубе железнодорожников, по субботам и воскресеньям. Обычно они начинали втроем, а после спектакля я присоединялся к ним. Играли популярные мелодии периода немецкой оккупации и музыку из фильмов. Тогда танцевали танго, фокстрот и слауфокс. На первом своем выступлении с «джазом Алдоны» я сыграл, мягко говоря, неважно. Руководитель даже намеревался отказаться от моих услуг. Но я стал готовиться к выступлениям: у Пиринаускаса достал ноты и учил. Чем дальше — тем получалось лучше. В итоге играл пару лет, пока был неженат. Тогда уже мог на базаре и сливочное масло купить.
В Клубе железнодорожников был драматический кружок. Мне предложили им руководить, и я согласился. Мои артисты были железнодорожники или члены их семей — несколько женщин и мужчин. Помнится, репетировали мы комедию классика литовской литературы Юлии Жямайте «Три возлюбленные». Участники кружка сразу почувствовали «кайф». В комедии говорится о том, как у одной женщины батрачил бравый малый. Он нравился и самой пожилой хозяйке, и двум ее дочерям. Конечно, батрак надул всех трех, выманив у них деньги. Артисты так увлеклись и вжились в характеры, что мне и давать указания не потребовалось… Потом нам привезли откуда-то из России смешные миниатюры. Это были произведения, похожие на те, которые позднее исполняли знаменитые Тарапунька и Штепсель. Я сам переводил эти тексты на литовский, и самодеятельные артисты их исполняли на концертах, посвященных Дню железнодорожника, 1 Мая, и публике это нравилось.
А в 1947 или 1948 году мне предложили стать руководителем самодеятельного театра кукол все в том же Клубе железнодорожников. Театр существовал и до меня, был в нем и руководитель, да куда-то испарился. Осталась ширма и желание продолжить работу. Я согласился. Артистами у меня были десяти-двенадцатилетние дети железнодорожников. Прежде всего, конечно, нужны были куклы. Но я же керамик: сам мог создать головку — зайца, лисы, волка, девочки или мальчика — из глины, оклеить папье-маше. Потом высохшую головку разрезал сбоку, для того чтобы вынуть глиняную, склеивал, красил, рисовал глаза, губы — обычная технология. На руку надевали перчатку, на перчатку — готовую головку, и кукла оживала. Иногда девочки шили для куклы одежду. Декорации делали в железнодорожных мастерских. А играли мы на сцене клуба. Несколько сказок инсценировал я сам. Так началась моя игра в куклы. Мы даже на гастроли выезжали. Железнодорожники давали нам вагон, и мы ездили в Трошкунай и другие местности. Потом, когда женился, моя жена Она, ласково называемая Онуте, помогала мне в театре кукол. Затем театр из клуба перевели во Дворец пионеров. В конце концов жена полностью взяла на себя руководство им. Ведь я был занят — учился. Но и сегодня встречаю своих бывших артистов.
А в это время около Паневежиса быстро строился военный аэродром. Там были бомбардировщики и транспортные самолеты, летчиков присылали из России. Семьям офицеров вскоре построили дома, а солдат поселили в казармах близ аэродрома. Был открыт Дом офицеров. Военные, узнав, что я понимаю по-русски, предложили поработать с их драматическим кружком, где мы подготовили несколько спектаклей. А я только после войны стал более интенсивно изучать русский. С одним коллегой мы перевели с русского сказку «Заколдованное зеркало». С летчиками-офицерами приехали и их семьи — жены, дети. Потом открыли русскую гимназию (там и сейчас русская школа). Тогда я поближе и познакомился с русскими. Они любили театр, ходили и на наши спектакли. А мы сразу после войны, как я уже говорил, играли «Денежки» и «Поросль». В спектакле «Поросль» есть сцена, происходящая в классе, — в ней много шума, просто суматоха. Офицеры весело шутили: «Так что у вас в репертуаре только „Денежки“ и „Суматоха“?»
…В конце 1947 года, 24 декабря, накануне католического Рождества, я был приглашен к своим коллегам в актерскую семью Эугении Шульгайте и Гедиминаса Карки на сочельник (по-литовски Кучёс). По католическим традициям, это священный вечер, когда на столе блюда из сельди и рыбы, яблоки и орехи. По старинным литовским традициям блюд должно быть двенадцать — как месяцев в году. На столе зажигается свеча и ставится одна лишняя тарелка. Тем, кто из этого дома ушел в вечность. Обычно собирается семья, иногда приглашают ближайших друзей. К столу садятся, когда в небе зажигается первая звезда.
Но мы все в то время жили небогато, двенадцати блюд, быть может, и не было, зато была приглашена Онуте Конкулявичюте, актриса нашего театра. Но именно этот вечер — сочельник и то, что там была Онуте, — стал для меня судьбоносным.
Во время немецкой оккупации в Паневежисской женской гимназии был организован драматический кружок. Его посещали и юноши из мужской гимназии. Спектакли в кружке не ставили, учили как в драматической студии: предлагали импровизации, объясняли основы игры. Занятия проводил сам Юозас Мильтинис или кто-нибудь из наших старших актеров. В 1943 году в нашем театре была поставлена пьеса О. Эрнста «Система Флаксмана». Действие пьесы происходило в гимназии. Нужно было много исполнителей, и поэтому Мильтинис пригласил принять участие в спектакле и учеников из драматического кружка. Так на сцену пришла и моя будущая жена Она. В том же году четыре девушки из того же кружа, окончив гимназию, были приняты в наш театр актерами-кандидатами — Регина Зданавичуте, Стасе Брейвайте, Эугения Шульгайте и Она Конкулявичюте.
Я в то время девушками не интересовался — придерживался установленного Мильтинисом порядка: пока мы ученики студии, никакой любви, никаких семейных уз в театре быть не может! Ну, конечно, не то чтобы совсем не замечал, но театр меня интересовал больше. Увы, однако, чему быть — того не миновать: от судьбы не убежишь. В то время мы не дружили, были просто коллегами. В 1945 году, весной, Онуте внезапно из театра ушла. Кто-то рассказывал, что ее отца и брата репрессировали и сослали в лагерь в Воркуту за то, что у отца было около 80 гектаров земли. Одним словом, кулацкая семейка, враги народа. Еще один брат, старший, успел убежать на Запад, а мама вместе с младшим сыном — братом Оны — пряталась. Онуте тоже пришлось бежать. Она уехала в Вильнюс, боясь ссылки в Сибирь, и, утаив, что ее отец многоземельник, поступила в университет на филологический факультет. Я иногда ездил в Вильнюс, а заодно отвозил ей письма и посылки от бывших коллег из театра. Она проучилась в Вильнюсе два года, а потом стали говорить, что у нее фальшивые документы, что ее отец в лагере. Чтобы не пришлось укатить за ним, Онуте вернулась в Паневежис, и Мильтинис принял ее обратно в театр.
Возвращаясь к памятному вечеру, вспоминаю, как впервые взглянул на нее по-другому. Темноволосая, веселая, бойкая… Словно и не было жизненных испытаний и потерь. Я проводил ее домой, и мы договорились встретиться завтра. Она жила в театральном общежитии — двухэтажном доме из красного кирпича на улице Театро. Время, как известно, летит быстро: пролетел январь, кончался февраль. Ее день рождения 24 февраля отпраздновали вместе. Так началась близкая дружба. Однажды мы поехали в гости к моей сестре. А ее муж и говорит: «Поженились бы уже. Сколько же можно». Сказано — сделано! В ЗАГСе наш брак зарегистрировали 2 апреля. Коллеги и верили, и не верили. Первое апреля — день, когда полагается друг друга разыгрывать! Когда мы поженились, я переехал в комнатку Онуте, правда, ненадолго. Недели через три в доме произошел пожар, и мы остались без жилья. Приют нашли в театре, точнее, в пошивочной мастерской. Жили там около месяца: ночью спали, а утром приходил портной и мы убирались оттуда.
Брак, зарегистрированный в ЗАГСе, — хорошо, но как же без церковного благословения? Это нам казалось грехом. Церковное бракосочетание состоялось в мае. Белый кафедральный собор. Молодые, как и мы, актеры нашего театра. На органе играл сам Миколас Карка — у его сына и невестки мы были на том памятном ужине. И вдруг под сводами собора зазвучал удивительный голос. Пел знаменитый баритон Йонас Стасюнас. Пел для нас. Так как своей квартиры у нас не было, свадебный пир устроил тот же Миколас Карка, позвав всех в свой дом. Мама Онуте была с нами. Из деревни, где Онуте родилась, нам привезли пиво, копченый окорок и все, что нужно для свадьбы. Всю жизнь храним свадебные фотографии, сделанные на ступеньках собора, — на них мы молоды и счастливы… Спустя годы в том же соборе проходила наша золотая свадьба, и гостей мы уже могли угощать в ресторане.
А тогда мы вскоре сняли квартиру на улице Штаро. Состоящую из одной комнаты — в ней спали, в ней ели, в ней и готовили. Когда родился сын Эгидиюс, мы нашли другую квартиру на улице Стотиес, ведущей к железнодорожному вокзалу. Хозяин дома жил наверху, к нему надо было подниматься по узеньким ступенькам. Мы же поселились внизу, в маленькой двухкомнатной квартире с кухней.
Там и окрестили сына. В костел его не носили, ксендза пригласили домой. Мы оба католики — практикующие католики, в костеле венчались. Попросили Мильтиниса, чтобы был крестным. Жизнь состоит из парадоксов: Мильтинис, запрещавший актерам жениться, выгнавший из театра две поженившиеся пары, очень любил детей. Правда, к тому времени наш грозный режиссер чуть усмирился. А что было делать? Течение жизни не остановишь. Он уже крестил нескольких актерских детей. Стал крестным и нашему первенцу. Правда, настоятель костела поинтересовался: «Почему вы попросили быть крестным человека либеральных взглядов? Сумеет ли он воспитывать ребенка по-христиански?»
Улица Стотиес запомнилась еще и тем, что по ней гнали заключенных на железнодорожный вокзал, откуда их увозили в лагеря. Было страшно. Сперва проходили энкаведисты с собаками и оружием — разгоняли всех по домам с криками: «Стрелять будем!» Я сам краем глаза смотрел в окно и видел, как они гнали бедных заключенных: «Быстрей, быстрей!», угрожая пистолетами. А кругом собаки. Проходит какое-то время — и опять конвой гонит несколько сот человек с узлами. Тут мы видели советскую действительность с другой стороны.
Но происходили и радостные события. Сюда, в квартиру на улицу Стотиес, мы привезли Онутину маму. Сюда из Воркуты вернулся ее отец. Здесь я впервые увидел своего тестя, а он познакомился со своим внуком.
Общежитие на улице Театро, сгоревшее во время пожара, за несколько лет отремонтировали. Туда вселились семьи ведущих артистов — Каркоса, Бабкаускаса, Виткуса. Там поселился и Мильтинис. Гедиминас Карка стал комендантом дома, в котором мы тоже получили квартиру. Я уже рассказывал, что, приехав в Паневежис, мы все вместе жили в доме Пятраускаса. И сейчас тоже поселились в одном доме. С той лишь разницей, что тогда мы были холостяками, а теперь — женатыми людьми.
В доме Пятраускаса, так как в город Мильтинис нас не отпускал, а мы были молоды и нам надо было расслабиться, наш режиссер устраивал «богему». В «богеме» принимала участие только мужская часть актерского состава. Доставали шнапс, конечно, на карточки. Покупали картошку, которую пекли в печи на жару. Вот и вся еда. А как кутили! Смешили и смеялись. Мильтинис мог часами говорить, философствовать. Он интересно говорил, а нам было интересно слушать. Ему не нужно было, чтобы мы о чем-то спрашивали или высказывались, — он любил говорить один. И все об этом знали.
В нашем общем доме на улице Театра уже не устраивали «богему». Но пирушки иногда случались. Однажды, помню, сидели, слушали, как обычно, Мильтиниса, пили коньяк. Бутылка была пуста, а расходиться не хотелось. Мильтинис сказал: «Пойдите и купите еще коньяка». Мы пошли вдвоем. «Смотрите, — уточнил Мильтинис, — купите пятизвездочный коньяк». Время было около двенадцати ночи. Все магазины закрыты, работал лишь буфет на вокзале. Там коньяк был, но звездочек только три. Что было делать? Купили. Возвращаясь, обсуждали между собой: «Мильтинису не понравится. Будет ныть, что, мол, поленились искать, надо было еще куда-нибудь сходить». Думали-думали и придумали: нашли на кухне пустую бутылку из-под коньяка с пятью звездочками, в нее перелили тот, который купили на вокзале, и отнесли Мильтинису. «Открыли» бутылку у всех на глазах. Мильтинис попробовал и сказал: «Вас обманули. Этот коньяк не пяти звездочек». Мы, конечно, не признались. Попробовали сами: что пять, что три — все на один вкус! А у Мильтиниса был особо тонкий вкус.
В те годы мы много гастролировали. Ездили по городам и селам: Пасвалис, Купишкис, Линкува, Шядува… Сегодня трудно сказать, где мы тогда не были.
В мае 1948 года состоялись наши главные в то время гастроли — в столице, в Вильнюсе. Они продолжались более двух недель — с 15 по 30 мая. Мы играли в старом здании бывшей «Лютни». Оно стояло на улице Гядимино, в том месте, где сегодня находится Национальный драматический театр. Зрители увидели постановки: «Жизнь в цитадели» эстонского драматурга А. Якобсона, «Русский вопрос» К. Симонова, «Жорж Данден» Мольера и, конечно, «Вольпоне» Джонсона. Газета «Литература ир мянас» на первой полосе писала: «Общество и пресса с удовольствием и радостью встречали спектакли этого молодого театра, который зарекомендовал себя как сильный творческий коллектив, имеющий яркое художественное лицо и воспитывающий зрителя в духе коммунизма. Паневежисский драматический театр — первый из драматических театров республики является гостем столицы. Молодой коллектив привез четыре лучших своих спектакля». Отзывы были восторженные! «Все так просто, жизненно. Все не так, как мы привыкли видеть в постановках советских произведений в других театрах, где слишком сильно стреляют, мечутся, громко кричат. Мильтинис, ставя это советское произведение, показал великий внутренний мир человека, настоящий, ненапыщенный» — это выдержка из высказывания о спектакле «Жизнь в цитадели», напечатанная в газете «Литература ир мянас». Все говорившие и писавшие отмечали выразительность, яркое исполнение эпизодических ролей, умение работать в ансамбле, большую скрупулезную работу режиссера с актерами, подчеркивали, что коллектив театра имеет серьезную школу и хорошего руководителя… Наши гастроли прошли на ура! Статья самого Мильтиниса «Наши гастроли в Вильнюсе», напечатанная в газете «Тиеса», словно подвела итог всему сказанному. «Мне было поручено создать коллектив театра из людей — рабочих, учащихся, — не работавших в театральной области, — говорил режиссер. — Молодежь оказалась трудолюбивой и дисциплинированной. Кроме специальных необходимых для театрального творчества занятий, будущие актеры усердно стали учиться, получая общее среднее образование. Это дало хорошие результаты, так как сегодня некоторые из них являются первосортными актерами Паневежисского театра: Вацис Бледис, Йонас Алекса, Донатас Банионис — все они бывшие небогатые ученики отдела керамики ремесленного училища; Казис Виткус — из ремесленного училища, Бронюс Бабкаускас — молодой служащий — упаковщик и посыльный — фармацевтического склада магазинов „Парама“. Сегодня все они прошли курс в театральной школе и, получив среднее и среднее специальное образование, играют главные роли и не хвастаются своими успехами, а работают и развиваются».
Летом 1948 года — после вильнюсских гастролей — мы собрались в первую свою поездку, как нам тогда казалось, за границу. Мы ехали в Ленинград. Ну да, спросит наблюдательный читатель, в 1948 году заграница? Для нас тогда это была духовная заграница, а формально, конечно, нет. Нас ехало около пятнадцати человек. Не знаю, сам ли Мильтинис придумал эту поездку или кто-то ему посоветовал. Нашей целью было увидеть город, походить по музеям, посетить театры. Почему Ленинград? Там — Эрмитаж. Мы сложили свои денежки. Кто-то заказал нам в Ленинграде общежитие — то ли какого-то вуза, то ли профтехучилища. На поезде из Паневежиса поехали в Даугавпилс, где долго ждали, пока придет поезд из Вильнюса. Он-то и должен был доставить нас к намеченной цели! Билеты купили в плацкартный вагон — чтобы было дешевле.
Ленинград произвел на нас ошеломляющее впечатление! Стояла прекрасная погода. Был то ли июнь, то ли июль, скорее всего, июль, так как знаменитые белые ночи мы тогда не увидели. Мильтинису город тоже понравился, он признавался, что здесь находит кое-что более интересное в сравнении с Парижем. Хотя, конечно, Париж есть Париж — другой уровень жизни, другая цивилизация. Но то были послевоенные годы: люди только-только пережили ужасы блокады. Собственные страдания с особой силой пробудили в них способность к состраданию. Волею судьбы я и позднее много раз бывал в этом удивительно красивом городе и всегда встречал добрых, искренних, приветливых людей. К питерцам отношусь с особой симпатией. Санкт-Петербург и остался для меня одним из самых близких городов России. Здесь я снимался на «Ленфильме», ходил по музеям. У этого города — глубокие культурные традиции. И культурный уровень людей, живущих здесь, иной, чем в Москве или в других городах России. Говорят, это идет еще с дореволюционных времен.
А тогда, в далеком 1948 году, мы пожирали глазами все то великолепие, которое было перед нами: величественный Исаакий, колоннаду Казанского собора, церковь Спаса на крови, что на канале Грибоедова, шпиль Петропавловской крепости, Михайловский дворец, Александринку, удивляющую своей гармоничностью и законченностью пропорций, коротенькую улочку Зодчего Росси и, конечно, Зимний… Нева… Фонтанка… Мойка… Дворы-колодцы… Улицы старого Питера… Все то, что знал, прочитав Ф. Достоевского, сейчас я увидел воочию! Впечатления остались глубочайшие. Специально, чтобы посмотреть фонтаны, мы поехали в Петродворец. Нам сказали, что фонтаны только-только открыты. Мы плыли туда на катере, пробыли там целый день, восхищаясь фантазией и творением рук человеческих. Почти ежедневно мы ходили в Эрмитаж. Мильтинис нам показывал и объяснял: это Рембрандт, а это Леонардо да Винчи… Он особенно любил французских импрессионистов, но их не было. Позднее мы достали разрешение, позволившее войти в закрытые хранилища. Там были Сезанн, Дега, Гоген, Ван Гог, но нам их не показали. Потом мы стали ходить в театры, которые нас тоже удивили и стали для нас открытием. Особенно понравился спектакль «Женитьба Белугина» по пьесе А. Островского и Н. Соловьева, и Мильтинис решил, что ее надо поставить в нашем театре. В феврале следующего года мы пригласили зрителей на премьеру.
Наш спектакль «Женитьба Белугина» имел большой успех. В нем я сыграл свою первую крупную роль — Андрея Белугина. Столько лет у меня не было значительных работ, а теперь удалось создать образ, который мне ясен. Не нужно было долго изучать характер: я хорошо понимал, как Андрей полюбил Лену, как она обманывала его с Агишиным. Лену играла Р. Зданавичуте, Агишина — Б. Бабкаускас, Отца — Й. Алякна. Спектакль заметили, отзывы о нем были хорошие. И Мильтинису тоже нравилось, потому что все было понятно. «Это не советская идеология. Это человеческие проблемы», — говорил он. Я, играя, тоже чувствовал и горечь, и радость. В зале зрители плакали, переживая вместе с героем его несчастную любовь. Этот спектакль мы показывали по всей Литве. Он был «удобен» для гастролей: актеров немного и зрителям все близко и понятно, независимо от того, из какой они среды: интеллигентов, рабочих или крестьян, литовцы они или русские. Человеческие чувства затрагивали каждое сердце, и зрители переживали вместе с актерами. Этот спектакль был для меня очень важен.
Тогда в Ленинграде мы видели и другую запомнившуюся мне постановку — «Скупой» Мольера в Театре комедии Н. П. Акимова. Мне кажется, Мильтинису не понравилось — он хорошо знал творчество Мольера и понимал его по-другому. Здесь же мы увидели схематичный спектакль, в котором пьеса утратила мольеровскую элегантность. По крайней мере, так комментировал Мильтинис. Зритель, наверное, тоже не все понимал. Нам, мягко говоря, не особенно нравилось. Через несколько лет мы увидели «Оптимистическую трагедию» в постановке Георгия Товстоногова, которая оставила большое впечатление. Но это была уже вторая поездка в Питер.
Через год, в 1949-м, мы поехали в Москву на пятнадцать дней в творческую командировку. Условия жизни в Москве у нас были лучше, чем в Ленинграде. Однако Москва такого впечатления не произвела. Зато театр нас всех ошеломил. Во МХАТе мы смотрели «Три сестры». Постановка старая, но там играли Клавдия Еланская, Ангелина Степанова и Алла Тарасова. Мы были очарованы, насколько глубоко передаются человеческие чувства, настроения. Даже дух захватывало! Весь спектакль опирался на актеров. Мне казалось, что Степанова, игравшая Ирину, молоденькая девочка. Потом нас водили по театру, и в пошивочной мастерской я увидел Степанову — далеко уже не молодую женщину. (Спустя годы я снимался вместе с ней в фильме «Бегство мистера Мак-Кинли». Это был удивительный человек и прекрасная актриса.) Мы смотрели и другие спектакли, но они мало запомнились. А вот «Три сестры» оставили впечатление на всю жизнь. Вот так надо играть! Есть настроение, ритм, динамика, философия — все, из чего состоит актерский театр.
Интрига
Да, играть надо именно так! И нам казалось, что мы так и играем. В 1948 году, после гастролей в Вильнюсе, Мильтинис был удостоен звания заслуженного артиста Литовской ССР за заслуги в области театрального искусства. Казалось, все хорошо. Мы и не предчувствовали, что над нами нависли грозовые тучи…
Репетировали, играли три спектакля в неделю в Паневежисе: по пятницам, субботам и воскресеньям. Много гастролировали. Сегодня мне трудно было бы вспомнить, в каком уголке Литвы мы не бывали — изъездили ее всю вдоль и поперек. А по вторникам, если не были на гастролях, собирались в театре на репетиции. Мильтинис начинал с анализа сыгранных спектаклей: кого-то хвалил, кого-то ругал. По вторникам говорил он один, и это правильно. Мы должны были молчать. Но так бывало и при любой встрече с посторонними людьми, в любой компании. Бывало, если он разойдется, никто не может и слова сказать. Случалось, что только лишь писатель Витаутас Пяткявичюс мог переговорить Мильтиниса. Нам это казалось странным — Пяткявичюс говорит без устали, а Мильтинис молчит! Наши беседы по вторникам часто затягивались на несколько часов. От спектаклей Мильтинис переходил к другим темам, начинал нас воспитывать, указывать, как мы должны себя вести, что мы должны смотреть, с кем встречаться или не встречаться, объяснять, что разрешается актеру, а что воспрещается. Упаси бог пройти по сцене в головном уборе! Нам было ясно: думай что хочешь, а поступать придется так, как требует Мильтинис.
Мы выполняли план. Ставили и русские советские пьесы, и литовские, и зарубежные. Театр получал списки рекомендуемых к постановке пьес. Мильтинис плохо знал российскую жизнь. Его больше привлекали те произведения, действие которых происходило на Западе. Это ему было более понятно. Так в репертуаре появились «Жизнь в цитадели» А. Якобсона, «Голос Америки» Б. Лавренева и некоторые другие спектакли.
У этих требований была и положительная сторона. Для того чтобы ставить литовские пьесы, приходилось искать авторов. И Мильтинис их находил. К примеру, Юозаса Грушаса, который был его старинным другом. Так в наш театр пришли и Юозас Паукштялис, и Витаутас Пяткявичюс, и Йокубас Склютаускас, и автор пьес для детей Виолетта Пальчинскайте. Некоторые литовские пьесы нам, как и другим театрам, предлагало Министерство культуры. Авторов же заверяли: пишите, ваши произведения будут ставить. После выбора пьесы начиналась работа театра с автором. И это была плодотворная работа — тогда-то и развивалась литовская драматургия. Сейчас пиши не пиши, еще неизвестно, кто тебя поставит, потому что театры более заинтересованы в постановке модных зарубежных пьес. А тогда требовалось не менее раза в год выпускать спектакль литовского автора… Конечно, многие пьесы были чересчур политизированы, но попадалось немало и хороших произведений для сцены. Подход к делу был серьезный: представлялся проект, потом автор приезжал в театр, работал с Мильтинисом. Особенно запомнился Грушас, который о Мильтинисе говорил: «Это дьявол, а не человек!»
Я был бы несправедлив, если бы говорил о работе с авторами лишь в Паневежисском театре. Так работали и режиссеры других литовских театров. Драматург был заинтересован, зная, что его пьесу поставят, а он получит удовольствие, быть может, прославится. Да и гонорар будет не лишним. Работали — поэтому и результаты были. Сколько бы мы ни осуждали планирование, но отчасти, как это ни парадоксально, оно способствовало и развитию драматургии.
…Время бежало быстро. Наступил 1953 год. Мы опять готовились к гастролям в Вильнюсе. Везли в столицу спектакли: «Украденное счастье», «Мнимый больной», «Шакалы», «Как закалялась сталь», «Лжец», «Свадьба с приданым». Прием был далеко не такой радушный, как в 1948 году. Да и у нас не все получалось.
Спектакль «Как закалялась сталь», где я играл Павку Корчагина, нравился зрителю.
На меня чисто по-человечески книга Николая Островского произвела большое впечатление. Мне нравилось играть молодого идеалиста Павку. Я сам был из бедняков, хотя с коммунистической, сталинской идеологией, которую исповедовал мой герой, я не был согласен. Мы все играли от чистого сердца.
Спектакль состоял из 17 картин, идущих одна за другой. Нужно было сочетать все: и игру, и освещение, и музыку… В Паневежисе техническая сторона постановки была четко выстроена: освещение менялось, декорации поворачивали, музыка П. И. Чайковского звучала вовремя. В Вильнюсе все пошло кувырком. Времени на подготовку спектакля на чужой сцене не хватало. Музыка сбилась с установленного порядка: то опаздывала, то забегала вперед. Люди у пульта ставили пластинки, магнитофонной записи тогда еще не было. Важно было включить патефон вовремя — это и была одна из главных проблем. Перемена декораций и освещение тоже сбились с ритма. Мы растерялись, и многие эмоциональные сцены не получались. Главное было отыграть спектакль, о ритме, эмоциях, вдохновении не было и речи. Короче говоря, все было ужасно! Уже во время спектакля мы чувствовали, что произошла катастрофа. Но зритель наших проблем не знал. Спектакль был раскритикован. И в оправдание мы не могли сказать: «Извините, произошла катастрофа не по нашей вине». Спектакль должен идти как часы. В Паневежисе так и было.
Я уже говорил, что во время гастролей 1948 года мы показывали в Вильнюсе пьесу эстонского драматурга А. Якобсона «Жизнь в цитадели», которая тогда имела успех. Мильтинис выбрал эту пьесу потому, что время, описанное автором, мы пережили сами. Я играл Ральфа — бывшего коменданта концлагеря. В первые послевоенные годы мой герой пытается оправдать совершенное им во время оккупации. Не могу сказать, что я его хорошо сыграл. Кто-то меня хвалил, кто-то ругал. Но сам я чувствовал определенное удовлетворение во время игры. Правда, не такое, как испытывал, играя в «Гедде Габлер», в «Смерти коммивояжера» или в «Пляске смерти». Мильтинису пьеса «Жизнь в цитадели» тоже отчасти нравилась. Он ее ставил, детально углубляясь в психологию персонажей, анализируя их взаимоотношения. Ральфа я играл так, как мне подсказывал режиссер. У Мильтиниса не выберешь! Даже и грим мне подбирал он. В нашем театре не было гримеров, как в других. Нашли светлый парик — ведь фашист должен быть блондином. Как я ни старался избегать штампов, на мой взгляд, получился схематичный образ фашиста. Но спектакль в целом от этого не пострадал.
А в 1953 году мы привезли в Вильнюс другую пьесу того же автора — «Шакалы». Еще в апреле в газете «Литература ир мянас» была напечатана хвалебная рецензия А. Маграчева. «Интерпретируя для сцены сатирическую драму А. Якобсона „Шакалы“, коллектив Паневежисского драматического театра столкнулся с большими и сложными задачами, — писал автор статьи. — В „Шакалах“, как и в других пьесах А. Якобсона, действие сосредоточено в кругу одной семьи. Но драматург постоянно позволяет зрителю почувствовать, что развертывающиеся на сцене события являются частью борьбы, идущей в Америке». Далее автор статьи пишет о том, что постановщику нужно углубиться в «характерные особенности, присущие лагерю подстрекателей войны», что в пьесе «достигается широкое социальное и художественное обобщение». Мильтинис, по словам рецензента, был обязан «глубоко раскрыть типичные черты характера каждого персонажа, создать глубокий обобщенный образ жизни современной Америки». «Постановщик спектакля правильно сделал, идя именно по этой сатирической линии сценической интерпретации драмы, — отмечал далее автор. — …Острыми сатирическими красками рисуется мир подстрекателей войны… В новой постановке Паневежисского драматического театра чувствуется глубокая, зреющая театральная культура, сатирические задачи спектакля решены со вкусом и умеренно».
Прошли всего два месяца, и нас стали ругать за то, за что только что хвалили. Я должен признать, что, на мой взгляд, Мильтинис, осознанно или нет, особенно ярко шаржировал так называемых врагов. За это на нас и нападали. Но, как бы там ни было, а виноват был не Мильтинис, этого требовал материал.
«К работе над пьесой А. Якобсона коллектив театра подошел явно безответственно, — писал в июне рецензент „Молодежи Литвы“. — Достаточно сказать, что режиссер Ю. Мильтинис счел возможным выпустить эту постановку всего через три недели после начала работы над ней. Более того, режиссер неверно осмыслил пьесу. Тема обреченности капиталистического мира, разоблачаемого эстонским драматургом, — основная тема пьесы — оказалась затушеванной. Так получилось неслучайно. Актеры, следуя режиссерскому замыслу, создавали лишь внешний рисунок образов. В особенности этот упрек может быть сделан исполнителям ролей генерала Мак-Кеннеди (артист Б. Бабкаускас) и промышленника Энтона Брюса (артист В. Бледис). На сцене зритель увидел две гротескные фигуры, способные вызвать скорее добродушный смех, чем негодование». «Пережитки формализма, как видим, еще не изжиты полностью в театре, — подытоживал автор. — И хотелось бы, чтобы его руководители серьезно задумались над необходимостью устранения этих недостатков. Ведь коллектив театра состоит прежде всего из молодежи, творческий рост которой невозможен без последовательной и решительной борьбы со всеми проявлениями формализма. Забывать этого нельзя». Все это явно пахло ждановщиной. Кому-то из руководителей по культуре надо было показать, что они тоже бдительны.
Наступило время обсуждения гастролей, но оно было скорее похоже на суд, а не на обсуждение.
«Постоянно поднимать свой политический уровень, профессиональное мастерство, сценическую культуру — прямая обязанность каждого театрального коллектива. Эти важные вопросы театральной работы явно забыл коллектив Паневежисского драматического театра. В ряде спектаклей, поставленных как по произведениям западных классиков, так и по пьесам советских авторов, которые были показаны во время гастролей в Вильнюсе, чувствовалось формалистическое режиссерское решение. Это не что иное, как переоценка своих знаний и опыта художественной работы, безразличие к системе К. С. Станиславского и вообще к традициям русского классического театра, которые перенял и далее развивает советский театр, — во всем этом и заключается причина неудачи коллектива Паневежисского драматического театра и главного режиссера Ю. Мильтиниса. …Плохую службу сослужила коллективу и редакция „Литературы ир мянаса“, напечатав неправильную и незаслуженно хвалебную рецензию А. Маграчева об одном из самых слабых спектаклей театра — „Шакалы“ А. Якобсона», — было сказано в передовице той же газеты «Литература ир мянас».
На обсуждении режиссер Вильнюсского русского драматического театра Л. Иванов говорил о том, что мы поняли пьесу «Шакалы» поверхностно, не сумев выявить социальные конфликты. Слава богу, я играл персонаж, которого не заметили! Говорилось и о проблемах актерского мастерства и режиссуры в целом. Оказалось, что спектакли «Лжец» К. Гольдони и «Мнимый больной» Ж. Б. Мольера «имеют „музейный“ оттенок, черты старого театра. В них не раскрыты социальные и классовые характеристики». Гость из Москвы — режиссер МХАТа П. Лесли — не понял, зачем «Мнимого больного» показывать советскому зрителю, если не смотреть на классическую комедию глазами советского режиссера. Еще и еще раз было подчеркнуто, что наш «театр не использует опыт и достижения советских театров, не штудирует систему Станиславского, которая и является ключом к методу социалистического реализма».
Систему Станиславского Мильтинис на практике не применял, так как ему нужно было совсем другое понимание системы: не схематичное, не школьное, а углубленное. Он не отрицал учения Станиславского, лишь говорил, что нельзя его применять механически. Мильтинис не останавливался на методе Станиславского, так же как и на учении Дюллена. У него к ним был творческий подход. Помнится, когда-то в Берлине мне довелось смотреть «Матушку Кураж» в постановке самого Б. Брехта. Позднее там же, в Берлине, я видел спектакль, поставленный по Брехту режиссером Веквертом, называвшим себя учеником и последователем Брехта. Ученик учеником, а спектакль получился поверхностным, формальным, безжизненным. Нельзя копировать учителя, надо создавать свое, используя имеющиеся знания. Мильтинис называл себя учеником Дюллена, но аккумулировал в себе его учение, переосмысливал и творчески применял. Смеялся Мильтинис и над термином «социалистический реализм». Что это такое? Реализм или есть, или его нет. Но, быть может, он не очень-то и углублялся в значение словосочетания «социалистический реализм». На упомянутом выше обсуждении Мильтинис не бил себя в грудь и не каялся. По его мнению, были тогда и более важные вещи, чем формирование «социалистического общества». Мне думается, что и Маграчев слишком рано написал свою рецензию. Уверен, что после обсуждения он бы писал по-другому. В те годы было много приспособленцев, впрочем, как и во все времена.
В начале 1954 года в Главном управлении по делам искусств обсуждались репертуарные планы театров. Не знаю, о чем говорил главный докладчик — заместитель начальника управления Юлюс Лозорайтис, но репертуар всех театров был утвержден. Всех, кроме нашего. Это что-то означало, и мы предчувствовали нечто неладное. Но этого было мало. Вскоре появился приказ № 2/68 Министерства культуры Литовской ССР, датированный 16 февраля 1954 года. Позволю себе процитировать этот приказ целиком:
«ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директора и гл. режиссера Паневежисского драматического театра Мильтиниса Юозаса, с. Йоно, за неправильное руководство театром с 15 февраля с. г. уволить с должности директора и гл. режиссера и перевести на должность режиссера дубляжа на Киностудию Литовской ССР.
2. Назначить тов. Диджярекиса Йонаса, с. Йоно, директором Паневежисского драматического театра с 15 февраля с. г.
3. Тов. Мильтинису Ю. передать, а тов. Диджярекису принять Паневежский драматический театр до 25 февраля с. г.
4. Актера высшей категории Паневежисского драматического театра тов. Алякну Йонаса, с. Йоно, с 15 февраля с. г. временно назначить гл. режиссером театра.
Министр культуры Литовской ССР А. Гузявичюс Копия верна, Й. Лупшицас».
Надо сказать, что до назначения его министром культуры А. Гузявичюс в 1944–1945 годах был комиссаром государственной безопасности Литовской ССР.
Оказывается, Мильтиниса уволили на день раньше, чем был подписан приказ! И нового директора назначили заранее, и главного режиссера тоже! А дальше — лучше! Мильтинис как работал в театре, так и продолжал работать. Принимал решения, подписывал приказы. В начале марта в Главном управлении по делам искусств было подписано официальное письмо следующего содержания:
«1 марта 1954 г. № 11/425 Паневежисский драматический театр тов. Ю. Мильтинису
Гл. управление по делам искусств обязывает Вас исполнять обязанности директора Паневежисского драматического театра, пока вновь назначенный директор Диджярекис не будет освобожден от исполнения обязанностей в Обществе пропаганды политических и научных знаний.
Временно исполняющий обязанности начальника Гл. управления по делам искусств
Е. Циринскис».
В театре все были растеряны. Столько лет нами руководил Мильтинис. Мы верили в его эстетические взгляды, в его понимание искусства, так что не могли даже представить себе, кто мог бы его заменить. Но и решение руководства изменить было невозможно. Актеры не знали, что делать. Можно себе представить, что в те дни творилось в театре, что происходило в нашем сознании! Как жить дальше? Мы не могли себе представить театра без Мильтиниса. Коллектив решил «спасаться» и спасать своего учителя, обратившись с письмом к первому секретарю компартии Литовской ССР Антанасу Снечкусу. Вот текст этого обращения:
«Тов. А. Снечкусу
На днях получен приказ Министерства культуры Лит. ССР, в котором сообщается об увольнении с занимаемой должности гл. режиссера тов. Мильтиниса за неправильное руководство и назначение его режиссером дубляжа на Киностудию. Это решение Министерства культуры было принято без ведома коллектива театра, и коллектив был поставлен перед свершившимся фактом. Паневежисский драматический театр был основан в 1940 году. Партия и Правительство обязало тов. Мильтиниса создать коллектив театра. Тов. Мильтинис собрал группу молодых людей из рабочей среды и на протяжении нескольких лет воспитывал в них актеров советского театра. В тяжелые годы немецкой оккупации тов. Мильтинис, рискуя быть уничтоженным, уберег людей из театра от призыва в оккупационную армию и воспитывал их так, что ни один член коллектива не сбежал с фашистами. После освобождения Советской Литвы все до одного были готовы вернуться на сцену. Партия и Правительство создали все условия, чтобы театр мог работать и процветать. Коллектив, руководимый тов. Мильтинисом, год за годом взрослел и ставил спектакли высокого художественного и идейного уровня. Постановки этого театра „Жизнь в цитадели“, „Русский вопрос“, „Голос Америки“, „Украденное счастье“, „Ревизор“, „Шакалы“ и многие другие высоко оценены зрителями, республиканской прессой и всесоюзными журналами „Огонек“ и „Советское искусство“. Тов. Мильтинис показал себя не только как незаменимый создатель спектаклей, но и как способный театральный педагог и воспитатель личности советского актера. Оригинальный театральный коллектив создан по примеру многих наиболее известных советских театров, таких, как МХАТ — К. С. Станиславского, театр имени Моссовета — Ю. А. Завадского, Театр Советской Армии — А. Д. Попова. Так и тов. Мильтинис создавал оригинальный коллектив Паневежисского драматического театра.
Партия и Правительство, оценив эту работу тов. Мильтиниса, удостоили его почетного звания „заслуженный артист Лит. ССР“ и наградили орденом „Знак почета“.
В настоящее время театр пребывает в стадии созревания, и поэтому для коллектива особенно болезненно решение Министерства культуры совсем отнять у него тов. Мильтиниса. Очевидно, что дальнейшее успешное развитие коллектива в этом случае станет невозможным.
Художественный коллектив Паневежисского драматического театра просит Вас, тов. Секретарь, помочь решить этот вопрос таким образом, чтобы тов. Мильтинис остался в нашем театре в должности гл. режиссера и художественного руководителя.
12. III.1954 Художественный коллектив Паневежисского драматического театра».
К сожалению, к голосу актеров первый секретарь компартии не прислушался. А тем временем в театр пришло еще одно письмо из Главного управления.
«20 марта 1954 года № 522 Паневежисскому драматическому театру
1 марта с. г. Гл. управление по делам искусств в письме № 11/425 обязало тов. Мильтиниса Ю. временно исполнять обязанности директора.
Дополнительно сообщаем, что тов. Мильтинису поручается временно исполнять обязанности директора театра и гл. режиссера.
Начальник Гл. управления по делами искусств
Даутартас».
Сегодня, читая эти документы, диву даешься: все это интрига, достойная пера талантливого драматурга, или элементарная чиновничья глупость и неспособность работать.
И еще один документ — письмо Паневежисского драматического театра № 166 от 30 марта 1954 года Главному управлению по делам искусств:
«Гл. режиссер Паневежисского драматического театра Мильтинис Юозас исполнял обязанности гл. режиссера до сегодняшнего дня, поэтому просим разрешить выплатить ему зарплату гл. режиссера за период до 1 апреля 1954 года, так как вновь назначенный гл. режиссер Алякна Йонас до 1 апреля 1954 года работал актером.
Директор театра (за директора — подпись Забараускаса)
Гл. бухгалтер».
Разрешение было получено.
Итак, Мильтинис приказом от 16 февраля был уволен с 15 февраля, а официально проработал до 1 апреля.
Назначенный же директором Й. Диджярекис в делах театра не разбирался вовсе. Когда-то он работал в Купишкисе учителем, потом, видимо, занялся партийными делами и был назначен в театр. Он заходил в зрительный зал в сапогах. Мы были ошеломлены, а Мильтинис строго-настрого запретил ему это делать. Вероятно, в Мильтинисе говорило и его оскорбленное самолюбие, но само требование было справедливым. Коллектив театра обрадовался такому запрету, хотя был повод и для того, чтобы посмеяться.
Ситуация после увольнения Мильтиниса выглядела странной. Он приезжал в театр, работал с нами, что, конечно, не могло нравиться высокому начальству. Главное управление по делам искусств в декабре 1954 года издало приказ, в котором обвинило Мильтиниса в хулиганстве и запретило ему приходить на репетиции. Тогда была «исправлена» величайшая «ошибка» и «вина» театра. Можно ли представить себе, что в те годы у нас не было ни одного члена КПСС. Это было одним из главных обвинений, предъявленных коллективу.
В июле 1954 года в театре была «создана» партийная организация. Чтобы создать первичную организацию, было набрано трое коммунистов: новый директор театра Й. Диджярекис, присланный из элеватора партийный работник, занявший у нас должность заведующего постановочной частью, А. Гарченко и новый администратор Й. Йоцюс. Все они появились в театре уже после изгнания Мильтиниса. В июле состоялось первое собрание. Секретарем был «избран» Гарченко. Но партийная организация должна расти, поэтому Гарченко стал уговаривать всех вступать в партию. Уговаривал и меня. Я, едва завидев его и зная, о чем он со мной будет говорить, удирал, а он за мной гнался. Надо сказать, что я все же вступил в партию, но гораздо позже. В то время Гарченко у нас уже не работал. А тогда, в начале создания парторганизации, я думал, что мне это необязательно. Да и все мы были далеки от идеологии, хотя почти все вышли из бедняков и придерживались левых, но не большевистских взглядов. Первым в партию «попросился» Й. Алякна. Он был назначен главным режиссером. Потом — Б. Бабкаускас. Он был талантливым актером, а в партию вступил не для карьеры, просто искренне был убежден в том, что надо укреплять нашу парторганизацию. Тогда нам не будут диктовать что-либо со стороны, а мы сможем сами и ответственность на себя взять, и сказать: «Так решила наша парторганизация». Говорили, что таким образом мы сумеем вернуть Мильтиниса. Тогда в организацию вступили самые сильные наши актеры. Правда, некоторые из ведущих артистов по разным причинам в партии не были.
Я же вступил через шесть лет. В те годы мы верили, что парторганизация может решать важные вопросы: влиять на формирование репертуара, на прессу и т. д. Слово парторганизации иногда было более веским, чем приказ администрации. Главное было, чтобы нам «не подбросили» чужих под видом укрепления парторганизации. Теперь это может звучать странно, но наша парторганизация взяла инициативу в свои руки, и даже Диджярекис не мог руководить театром самостоятельно. Он был вынужден считаться с мнением авторитетных людей и при постановке спектакля, и при утверждении репертуара. Нам парторганизация была необходима для чисто практических, а не идеологических целей. Диджярекис был примитивен и совсем не годился для театра. Нам казалось, что во главе коллектива должна быть личность, индивидуальность, человек, понимающий искусство и актерскую природу. Он же мало что в этом понимал и ничего, кроме смеха, не вызывал.
Наша парторганизация начала создаваться извне. Попробовали бы актеры проявить инициативу, когда еще был Мильтинис. Его бы это обидело. «Не разрушайте изнутри дисциплину и порядок», — непременно сказал бы он. После возвращения в театр Мильтинис просто смирился с тем, что у нас существует парторганизация. В ней были самые сильные актеры. Правда, Виткус — тоже сильный актер — не был в партии. С ним произошла интересная история. В начале шестидесятых мы ехали в первую зарубежную туристическую поездку в Польшу. Виткуса не выпустили. Причина? То ли он родился в Бразилии, то ли ездил туда с отцом, короче, был за границей, и хватит. Мильтиниса тоже не выпустили по той же причине. Одним же из аргументов в пользу возвращения Мильтиниса в театр было то, что парторганизация может теперь за ним присматривать. Это было, конечно, смешно.
В моем архиве сохранилось письмо, отправленное Мильтинису в период его изгнания. И ответ Мильтиса на него. По-моему они характеризуют наши отношения и взгляды моего учителя на театр и меня:
Паневежис, 1954 г. 19 июля
Уваж. тов. Мильтинис!
Хотя прошло немного времени со дня Вашего отъезда из Паневежиса, но так ощущается Ваше отсутствие, словно прошло уже несколько лет с этого момента. Может, это только мне так кажется, так как все представлялось мне несколько иначе. Я не думал, что события так заострятся. <…> В Дусетос мы столкнулись с Вильнюсским театром. Они там гастролировали с «Жалдокине» за день до нас и мы с ними встретились. <…> Симашка[1], увидев меня, сразу спросил, как с переездом? Для меня это была новость и я попросил объяснить все поподробнее. Симашка сказал, что после смерти Игнатавичюса и по другим причинам им нужны новые актеры. Они это обсудили, и Симашка предложил меня. Рудзинскас[2] согласился и поручил Симашке спросить меня, не против ли я. <…> Я пока не думаю никуда ехать. Разве что в театре начнется чертовщина и не будет другого выхода. Но пока ситуация не такая. Мне кажется, что мы сможем сохранить внутреннее единство, так как ядро — твердое. Есть покушения на это единство, но эти попытки встречают соответствующую реакцию с нашей стороны. Самое важное, что попытки взорвать идут не изнутри, а извне от одной-двух личностей, и это не так уж опасно. Очень ждем Вашего возвращения в Литву, может, тогда будет что-то новое.
Донатас
Рогачево, 1954.VIII.14
Милый Донатас,
Ты писал, что тебя приглашает Вильнюсский театр. Знаешь, я не верю, что это может быть серьезным приглашением, потому что Зулонас мне сказал, что Бабкаускаса пригласит.
Р. S.
Мне кажется, что этим приглашениям не следует слишком радоваться, лучше держитесь в своем коллективе. Везде лучше, где нас нет. Об этом необходимо постоянно серьезно думать. Вильнюсский театр — театр «с трещинкой». Если вы так начнете разбрасываться, один — туда, другой сюда, так знайте, что нигде сильными не будете. Я, конечно, не отговариваю, но предлагаю серьезно обдумать. Многим из наших актеров не хватает серьезного погружения в работу, немного и тебе. Алякне — больше всех. Вот теперь приходится быть руководителем, а подготовки — нет. Ему самому, возможно, и приятно, но для других шутки плохи. Одними личными отношениями ничего не решишь и не выиграешь. Это — фата-моргана. Временно это хорошо, выгодно. Я, наверное, не должен был бы тебе об этом писать, но, поскольку ты был моим учеником и актером моего театра, я не слишком стесняюсь кое-что сказать или написать. Ну, еще раз всего хорошего.
Юозас Мильтинис
А за несколько месяцев до этого, когда Мильтинис еще не был уволен, но всем уже было ясно, что с ним хотят разделаться, он ставил «Чайку» А. П. Чехова. Мильтинис неоднократно говорил, что из всех пьес Чехова ему наиболее близок «Иванов». Очевидно, с Ивановым он отождествлял себя духовно. Но эта пьеса в нашем репертуаре появится лишь шесть лет спустя. А в том далеком и тревожном для театра 1954-м мы репетировали «Чайку».
Почему «Чайку»? Быть может, его заинтересовала тема пути художника. Для него было важно, чтобы театральные искания не оказывались бессмысленными. Треплев, которого играл А. Масюлис, в пьесе кончает жизнь самоубийством, потому что зашел в тупик. Он был достаточно самолюбив, но не знал, как найти дорогу к истинному искусству. Герои пьесы — живые люди, мечтающие о чем-то светлом, лучшем в жизни. Но, как назло, все их стремления словно ударяются о стену. Мильтинис старался избегать сентиментальности, акцентируя внимание на динамике чувств и эмоций.
Я играл доктора Дорна и, будучи еще молодым, не очень-то понимал, что именно я должен играть. Мы знали только, что в диалоге Дорна и Треплева заключены мысли, особенно близкие Мильтинису. «Да… — говорил мой герой. — Но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту».
Нину Заречную играла Л. Лиесите, Тригорина — Б. Бабкаускас, Аркадину — Е. Шульгайте. Все они играли хорошо, а им говорили — плохо. Только лишь я, не знаю почему, по мнению критиков, понял доктора Дорна «правильно». Это глупо, конечно: мы что, по московской схеме должны были играть? Просто нужно было раскритиковать спектакль. А как же иначе? Ведь премьера состоялась 21 марта 1954 года. Спустя месяц с небольшим после увольнения Мильтиниса.
Та часть критики, которая выражала официальное мнение чиновников, обвиняла нас в неправильном понимании Чехова еще и потому, что Мильтинис ставил спектакль не так, как это делалось в Москве. А требовалось ставить именно так, как хотели такие начальнички, как Маграчев и Сыкчин.
Но были и совсем иные отзывы о нашем театре. «Мильтинис действительно режиссер. И в основе всех лучших спектаклей лежит не что иное, как настоящая режиссура, большое и сложное, истинно современное искусство, состоящее из великого множества талантов и умений, — напишет Наталья Крымова в книге „Имена: рассказы о людях театра“ (М.: Искусство, 1971). — Способность выбрать пьесу, а потом художественно осмыслить ее, придав ей звучание такое ясное и точное, что годы лишь шлифуют спектакль, но не стирают его рисунка; умение придумать спектакль, от первой до последней секунды, но придумать не эффектную форму, а естественное и свободное его течение, предполагающее многие вольные притоки; потом еще способность вовлечь актеров в это течение, помочь им почувствовать себя так, будто оно, это течение, ими создано; и еще — придумать внешний облик представления, да так, чтобы бедность обернулась изобретательностью, в простоте было небрежное изящество и ни огромный труд, ни усилия ума не были заметны, будто все сделалось так, само собой… Все это лишь некоторые, далеко не все стороны того искусства, которым привлекает Паневежисский театр, и в частности пьеса Ибсена на его сцене».
Будучи выгнанным из театра, который сам же создал, Мильтинис, конечно, был обижен, хотя этого и не показывал. Ему хотелось быть в театре, работать, творить. И в 1957 году он нелегально начал репетировать ибсеновскую «Гедду Габлер». Эта пьеса не часто ставилась. Еще в Лондоне Мильтинис думал о ее постановке. Ибсен был одним из его любимых авторов, стоящих в одном ряду с Софоклом, Мольером, Шекспиром, Стриндбергом.
Мильтинис родился в деревне, но был аристократом духа. Гедда воспринималась им как своеобразный идеал: она, аристократка духа, попадает в мещанскую среду Тесмана и тети Юлии. Как ужасна для нее их мелочность! Она — дочь генерала Габлера, тонко чувствует поэзию. В начале спектакля есть такая сцена, где, подойдя к окну, Гедда возвышенно-поэтично произносит: «Осень… середина сентября…» На что Тесман прагматично и прозаично отвечает: «Да, да, осень, осень». Выходя замуж за Тесмана, она думала, что попадет в окружение интеллектуальных людей, а оказалась в мещанской среде. Тесман — хороший малый, но никудышный ученый. Профессором он стал, защитив диссертацию по бессмысленной теме — домашняя утварь в Средние века. Он человек примазавшийся, пользующийся положением жены — генеральской дочери. Для Гедды же неприемлемо то окружение, в котором она живет. Узнав, что Лёвборг выстрелил себе в грудь, она удивляется тому, что он так некрасиво закончил свой жизненный путь. И стреляет себе в висок.
Гедду играла Е. Шульгайте. А я играл Тесмана. Мой Тесман был с бородкой, в очках — «представляемый образ ученого». Мильтинис искал суть образа. Мне вначале было непонятно, чего режиссер от меня хочет. А он все был недоволен, и в итоге я просто растерялся. Стал спрашивать его, какой же, в конце концов, этот Тесман? На что Мильтинис отвечал: «Читай, что написал Ибсен. Ты читать не умеешь, что ли? Там все написано. Если бы я тебе показывал, ты бы подражал мне, а не создавал свое».
Кто-то из коллег посоветовал заглянуть в одну из новелл итальянского писателя Альберто Моравиа. Я прочел и стал понемножку понимать, как себя должен вести Тесман. Как он держит руку, какие интонации звучат в его голосе. Я искал детали. Долго не мог понять этого героя. И лишь примерно через месяц я почувствовал, что начинаю разбираться в том, что я должен играть. Так появились детали: именно такое прикосновение к Гедде, именно такой способ держать голову, именно такие интонации. Интонация, мимика, движения выражают суть образа, но все это пришло не сразу.
«Донатас Банионис играет Тесмана удивительно. Такая художественная властность в этом строгом и точном рисунке, такая ни на минуту не нарушаемая сосредоточенность, что уже одно это, одна лишь манера игры актера заставляет обратить на скромного Тесмана большее внимание, чем предполагалось», — отмечала Н. Крымова спустя почти десять лет после выхода спектакля. А местный рецензент после премьеры писал: «Возникает вопрос, почему театр выбрал именно эту, а не другую пьесу Ибсена, хочется думать, что его, наверное, привлекла не только глубина, рельефность характеров зрелой драмы Ибсена, но и то, что многие поднимаемые в „Гедде Габлер“ вопросы имеют не только художественно-познавательное значение, но и смысл, актуальный в наши дни, когда коммунистическая идеология борется с эгоистическим индивидуализмом, когда человек учится быть счастливым не за счет других людей». О Тесмане же рецензент писал: «С огромной искренностью создавая образ Тесмана — неталантливого, но трудолюбивого, этакой „книжной крысы“, — Д. Банионис сумел показать ничтожность внутреннего мира этого наивного человека».
Мильтинис работает над спектаклем с полной отдачей. Это он создал мой персонаж таким, каким его увидели зрители. А когда я находил какую-то интересную деталь, Мильтинис радовался и одобрительно смеялся. Будучи в то время вне театра, он ставил спектакль с огромным удовольствием. Но на афишах красовалась фамилия В. Бледиса как постановщика спектакля. Да никто бы и не разрешил назвать настоящего режиссера, уволенного из театра за плохую работу. Мильтинис не требовал за свою работу ни денег, ни признания. Он был настоящим художником. Сегодня меня удивляет то, что есть критики, утверждающие, будто «Гедду Габлер» поставил Бледис, а Мильтинис, вернувшись в театр, присвоил чужую работу. Это неправда! Я — свидетель. Мильтинис ставил этот спектакль от начала до конца, на радость самому себе, для собственного творческого удовольствия. Признание пришло позже. Только тогда, когда по воле судьбы в наш театр приехала Наталья Крымова. Она оценила наш труд по достоинству.
В 1958 году Мильтинису, кажется из Москвы, прислали текст пьесы А. Миллера «Смерть коммивояжера». Быть может, ему неофициально рекомендовали это произведение. Ведь в Москве тоже были люди, знавшие его взгляды на искусство, на театр. Однако текст был на русском языке. А по-русски Мильтинис не читал. Просто не любил, а возможно, ему было трудно. Поэтому он, дав пьесу мне, сказал: «Донатас, прочти, и мне расскажешь». Я взял и за ночь прочел. На меня она произвела огромное впечатление. Пьеса невероятно сильна эмоционально, психологически. И хотя форма ее для меня была непривычна, но казалась очень действенной. В ней мы нашли формулу удачи и неудачи, которая нас преследует всю жизнь.
Я был очарован и утром рассказал все Мильтинису. Он заказал себе текст пьесы на английском и, прочитав, решил, что надо ставить. Я видел, что и ему тоже понравилось. Это не бытовая пьеса. В ней есть и сны, и мечты, и даже сумасшествие. Нам словно открылся первоисточник человеческих поступков. Эта пьеса о том, как вначале человеку по имени Вилли Ломен в жизни везло, а потом удача отвернулась от него. Профессия коммивояжера перестала быть нужной. Дома не все ладилось.
Я был молод, но, к моему удивлению, Мильтинис назначил на роль Вилли Ломена меня. Удивлен я был и тем, что, оказывается, мы с Мильтинисом абсолютно по-разному прочли одну и ту же пьесу. Первые же репетиции показали, что Мильтинис ее увидел куда более интересно, углубленно, более трагично. Мне казалось, что я играю именно то, что прочел, но режиссер все говорил: «Нет, нет, нет…»
У Мильтиниса мы читали пьесу за столом несколько дней, недели две учили текст и шли на сцену. Он говорил, что для него творчеством является то, что он видит живьем. Тем более театр — вид визуального искусства. Он видел, как ты играешь, слышал интонацию, следил за взглядом. С этого и начинал Мильтинис лепить образы. Психологическая линия поведения героя выстраивалась на сцене, а не за столом. Ему было важно вызвать внутреннее потрясение. Он видел всё — все взаимоотношения между персонажами.
Мне работалось очень трудно. Мильтинис требовал большего, чем, как мне казалось, я мог. Постепенно появлялись нужные интонации, манера держаться. Мильтинис говорил, что в основе пьесы заложена библейская тема: отношения между отцами и детьми, причины успехов и неудач. Жизнь человека Мильтинис проанализировал до мельчайших подробностей. Я же сначала многое делал механически. Мне кажется, что лишь на десятом спектакле я стал понимать, как надо играть. И после спектаклей долго не мог прийти в себя. Я был потрясен. Зритель тоже. Для меня этот спектакль — один из самых трудных, но вместе с тем и один из самых дорогих.
Мы работали над этой пьесой столько, сколько было нужно, не считались со временем, иногда — всю ночь, заканчивая лишь под утро. Мильтинис репетировал с душой. Думаю, он чувствовал себя, как Вилли Ломен, которого уволили, «выбросили» из этой жизни. Мне кажется, что в этот спектакль он вложил много своих эмоций и собственного опыта. Мильтинис работал без всякой зарплаты. Мало того, так как официально он в театре не числился, повторилась история «Гедды Габлер»: на афишах красовалась фамилия Бледиса как режиссера. Через годы я видел фильм, поставленный по этой же пьесе, с Дастином Хофманом в главной роли. Он мне показался куда слабее нашего спектакля.
Мне всегда было интересно, как автор смог создать столь глубокое по содержанию и необычное по форме произведение. Через несколько лет мне выпало счастье встретиться с Артуром Миллером в Вильнюсе. Меня представили автору, сказав, что я играю Вилли Ломена. Миллер, как истинный американец, сделал мне комплимент, заявив, что именно таким он и представлял себе главного героя, когда писал пьесу. Я поинтересовался, что побудило его написать это произведение. «В Нью-Йорке среди небоскребов я как-то увидел маленький домик, — ответил он, — и стал думать: кто мог в нем жить. Почему он в таком месте сохранился и какая судьба у его жителей?» (Кстати, в нашем спектакле интересную абстрактную декорацию создал художник М. Булака: очертания маленького домика, зеленые деревья.) Меня удивило то, каким неожиданным образом иногда к творцу приходит вдохновение, рождающее истинно художественное произведение.
Пьесу Миллера мы играли до тех пор, пока он не осудил вторжение советских войск в Чехословакию. После этого нам было приказано потихоньку снять спектакль с репертуара.
Театр без Мильтиниса
Почему Алякна после увольнения из театра Мильтиниса стал главным режиссером?
Еще в годы немецкой оккупации в Биржай, в гимназии, был драматический кружок. Им руководил поэт Йонас Мекас, который хорошо знал Мильтиниса и приезжал в Паневежис. Как и мы, в 1944 году с братом Адольфасом пытался уйти на Запад. Но, в отличие от нас, ему это удалось. Какое-то время он жил в Австрии, потом, в 1950 году, переехал в США. До нас доходили вести, что в США Мекас стал знаменитостью. Поселился он в Нью-Йорке, в районе Гринвич-Виллидж. Начав свою деятельность в США как кинокритик, вел рубрику «Кино» в журнале «Village Voice», а впоследствии получил известность как киноавангардист. В 1955 году Мекас основал журнал «Film Culture», потом стал директором государственного института «Anthology films archives» («Антологический архив фильмов»), Йонас Мекас способствовал формированию «Нью-йоркской школы» в 50–60-е годы, а затем — «подпольного кино» США. Йонас сам, а также с братом Адольфасом снял несколько фильмов, которые называют авангардом нового американского кино. В США его звали Джон Мик. Когда мне в 1970 году посчастливилось побывать в США, я встретился с ним. Он тогда был руководителем музея кинематографии в Нью-Йорке и редактором журнала «Village Voice». Мне было приятно повидать его, побывать у него дома. Он-то в те далекие военные годы и попросил Мильтиниса, чтобы тот прислал ему помощника — режиссера. Не знаю почему, но Мильтинис послал в Биржай Алякну. Там Алякне впервые удалось показать, что он не только является актером, но может и ставить спектакли. Актером он был талантливым. В Биржай же у него появилась возможность попробовать себя в качестве режиссера, хотя и в любительском кружке гимназистов.
Напомню, что летом и осенью 1944 года, когда мы — Мильтинис, Бледис и я — блуждали по Литве, пытаясь уйти на Запад, театр был закрыт. Моя тогда еще только будущая жена Онуте рассказывала, что летом 1944 года, когда фронт приближался к Литве, многие актеры нашего театра ушли из города и собрались в деревне, находившейся в двадцати километрах от Паневежиса, в доме ее родителей. Вошедшие в эту деревню советские солдаты стали интересоваться, кто эти молодые парни и девушки. А узнав, что актеры, спрашивали, почему они не едут в свой театр. Боясь, что мужчин могут забрать в армию, наши артисты вернулись в Паневежис. Мильтиниса там не оказалось, а без дела сидеть не было никакого толку. Тем более что новые власти пожелали, чтобы актеры подготовили какое-нибудь представление то ли к Дню Великой Октябрьской революции, то ли просто для солдат. Вот тогда и распределили обязанности. Художник театра Й. Суркявичюс был старше других, поэтому он стал директором театра. Так как Алякна, как я уже говорил, приобрел опыт режиссера в любительском драмкружке в Биржай, его назначили режиссером. После чего и стали готовить представления. Однажды вечером молодежь собралась на сеанс спиритизма. «Гоняя» тарелочку, спросили, когда вернется Мильтинис? Тарелка дала ответ — 18 октября. Хотите — верьте, хотите — нет, но так оно и было. Когда я вернулся после своих странствий, то уже нашел Мильтиниса в Паневежисе. Он вернулся на день раньше. Театр был вполне сформировавшийся. Мильтинис сразу же снял Алякну с поста режиссера и только лишь в 1952 году разрешил ему поставить спектакль для детей «Тайна черного озера» по пьесе Е. Борисовой.
И вот через десять лет, в 1954 году, Алякна вновь становится режиссером. На этот раз не единственным, как в 1944-м, а главным. Честно говоря, нам самим тогда было непонятно, почему министерские чиновники назначили на этот пост не Бледиса, а Алякну. Алякна как режиссер интеллектуалом не был, скорее его можно было назвать «деревенским талантом». Хотя школу он проходил как и мы все. У Мильтиниса школу не заканчивали — учились всю жизнь. Алякна был одарен от природы, но не развивал свой талант, оставаясь на одном и том же уровне. А вот на наших «богемах», о которых уже говорилось выше, он особо отличался: и анекдоты рассказывал так, что любого мог рассмешить, и за столом обычно бывал тамадой… Бледис бы подошел больше: он к тому времени уже поставил несколько спектаклей. Но в министерстве думали иначе: в театре нужны реформы, важно, чтобы он стал другим. Да и в ряды КПСС Бледис вступать не собирался. Он был хорошим организатором и другом Мильтиниса. Никто из нас не мог похвастаться, что дружит с Мильтинисом, а Бледис на самом деле дружил с ним, более того, был его правой рукой. Чуть что, Мильтинис говорил: «Пошлем Бледиса — он все организует, все сделает».
Когда Мильтиниса уволили, выбирать главного режиссера можно было лишь из двух кандидатур — у остальных не было никакого опыта. Бледис не подходил, потому что был другом Мильтиниса. Так, видимо, тогда решили в Вильнюсе. А приглашать режиссера со стороны было в то время не принято. Каждый создавал свой театр, свое детище. Это сегодня принято приглашать гастролеров. Тогда же считали, что в театре гастролирующие режиссеры не нужны.
В 1955 году Алякна поставил «Последних» М. Горького. Он сам выбрал пьесу — тогда нужно было, чтобы Горький обязательно присутствовал в репертуаре. Это была первая постановка горьковской пьесы в нашем театре. Мне он предложил сыграть Якова. Но режиссер, берущийся за подобный материал, должен глубже мыслить, нежели способен был Алякна. Я видел во МХАТе драму «На дне», и мне очень понравились и игра, и режиссура, и глубина мыслей, и понимание человека. Восхитительно! У Алякны же получился скорее иллюстративный спектакль. Всё же мы жили в Литве, а это другая среда, другая жизнь. Поэтому понять и воспринять Горького нашему человеку не так-то легко. Не скажу, что спектакль был плохой, просто мы не достигли тех высот, каких хотелось бы. Вот тогда все и почувствовали, насколько значимо — есть Мильтинис в театре или его нет. Личность режиссера, его интеллект, умение передать то, о чем хочется сказать, — вот что, на мой взгляд, самое важное. Наверное, все же личность — это самое главное, и, когда она есть, тогда воедино складываются и чувства, и мысли, и способность найти ту форму, которая позволит наиболее полно раскрыть содержание пьесы, максимально воздействуя на зрителя. А история, рассказанная поверхностно, теряет глубину. Лишь сегодня, имея большой опыт, я могу рассуждать об этом. Алякне не хватало глубины мышления, которое было у Мильтиниса.
Шестого марта 1955 года состоялась премьера пьесы Ю. Грушаса «Дым». Режиссерами спектакля официально значились Бледис и Карка. Но на самом деле было не совсем так. Я уже говорил, что талантливый драматург Грушас был другом Мильтиниса. В 1944 году, еще во время немецкой оккупации, он написал замечательную пьесу «Отец», которую ставили и Каунасский, и Шяуляйский театры. А вот в советские годы Грушас как писатель долго молчал. То ли ему в новых условиях не о чем было писать, то ли он просто не хотел, чтобы его пьесы шли тогда на сцене. Кажется, даже появилась статья, в которой говорилось, что есть еще такие писатели, которые, не желая творить, бегут от советской действительности, не принимают ее и становятся ее противниками. Как-то, в 1952-м или 1953-м, Мильтинис узнал, что Грушаса ждет расправа, и решил ему помочь, поставив его пьесу. Не знаю почему, но в других театрах в то время его произведения не шли, а быть может, он просто не работал с другими театрами. Но Мильтинис хотел помочь другу, которому, возможно, угрожала даже ссылка в Сибирь. Тогда ведь все было просто: раз не пишешь и твои произведения не появляются на сцене, значит, ты враг советской власти. Либо враг, либо друг — иначе не бывало.
И вот Мильтинис договорился с Грушасом, и тот написал пьесу «Дым», в которой якобы и оправдывался человек, в прошлом знаменитый, но не сумевший сразу приспособиться к новым условиям, хотя и не ставший врагом. В этом персонаже по фамилии Бутенас, которого играл Бабкаускас, Грушас якобы хотел отразить себя. У меня в этом спектакле была роль Диджиокаса, уже современного для той поры человека. Моему персонажу хотелось, грубо говоря, научить уму-разуму персонаж Бабкаускаса. Та двойственность, которая была присуща Бутенасу — Бабкаускасу, отражала внутреннюю борьбу и осознание необходимости приспособиться к советской эпохе.
Таким образом, Мильтинис помог Грушасу вернуться в театр в то время, когда самого Мильтиниса официально в театре не было, но именно он осуществил постановку «Дыма». Мильтинис работал, хотя и не мог указывать на афише и в программке свою фамилию, как уже не раз бывало. Потом в нашем театре шли такие произведения Грушаса, как «Тайна Адомаса Брундзы», «Пагубное опьянение», более известное под названием «Любовь, джаз и черт», «Пиюс не был умным» и другие.
Грушас — удивительный автор. Позднее его пьесы были очень популярны и часто ставились в разных театрах. Он нередко говорил: «Когда человек потеряет стыд, приличие, чувство нравственности в искусстве, тогда наступит окончательная гибель человечества». Разве это не актуально сегодня? Как-то Грушас рассказывал, что написать пьесу «Любовь, джаз и черт» его побудил образ жизни собственного сына. Мало того, он вывел своего сына в одном из героев пьесы. Хотя родители героев вполне приличные люди, их дети зашли черт знает куда. Понятие «джаз» для писателя ассоциировалось с моральной пустотой, погоней за модой, а не с углубленным восприятием джаза как музыкального жанра. Джаз был для него одним из отрицательных проявлений бессмысленной суеты, увеселительным шоу, отупляющим человека, разрушающим его мыслительный процесс, уничтожающим в нем способность делать добро и держать себя в рамках приличий. Остается лишь дикая тряска и бешеный ритм, в котором отсутствует какая-либо мелодия. К слову сказать, в 1992 году мой сын Раймундас экранизировал эту пьесу, назвав свой фильм «Джаз».
Смотреть спектакль «Дым» приехала «комиссия» из Вильнюса. Режиссеру Грибаускасу, который вообще почему-то недолюбливал наш театр, не понравилось. Лозорайтису не только не понравился сам спектакль, но у него не вызвал симпатий и автор пьесы, и его персонажи: Бутенас, которого играл Бабкаускас, а также и мой герой… Все Лозорайтису было не так и не этак. «Вообще, товарищу Грушасу не хватает того, чего не хватает и Бутенасу. Нет достаточного знания жизни», — подытожил он.
В ноябре того же, 1955 года театр праздновал свое пятнадцатилетие. Как и полагалось, из Вильнюса приехало много гостей, чиновников. О знаменательном пути театра говорил новоиспеченный директор Диджярекис, который благодарил советское правительство и коммунистическую партию за заботу, за создание благоприятных условий для плодотворного развития театра. На праздновании были все, кто считал, что его заслуги перед театром особо важны. Все… кроме Мильтиниса. Его просто не сочли нужным пригласить.
Пятнадцатого сентября 1956 года появился новый приказ Министерства культуры Литовской ССР, который я позволю себе процитировать:
«§ 1. Тов. Й. Алякну, гл. режиссера Паневежисского драматического театра, по собственной просьбе перевести с 15 сентября с. г. на должность режиссера Паневежисского драматического театра.
§ 2. Тов. Бледиса, режиссера Паневежисского драматического театра, с 15 сентября с. г. назначаю главным режиссером Паневежисского драматического театра».
Подписал этот документ за министра культуры Литовской ССР Юозас Банайтис.
Так Бледис стал главным режиссером нашего театра. Алякна оставил этот «пост», по-видимому, по состоянию здоровья. А может быть, были какие-то другие причины.
Не помню, кто предложил поставить пьесу Б. Нушича «Д-р» («Доктор философии»). Мильтинис бы за нее браться не стал. Предложение, видимо, пришло из Министерства культуры — в Москве пьеса имела большой успех. Предложили ставить мне и Алякне. Он должен был стать главным постановщиком, а я, не знаю почему, должен был ему помогать. И мы взялись за работу. Мне кажется, что спектакль имел успех. Это фарс, а у Алякны было хорошее чувство юмора. Ему очень удавались экстравагантные, яркие сцены. Правда, иногда он даже «пересаливал». А я ставил «психологический юмор». Наши актеры говорили, что работать очень интересно: один режиссер предлагал броские, экспрессивные решения, другой же — углублялся в психологию. Поэтому, на мой взгляд, спектакль и получился. Хорошо играли актеры Бабкаускас, Космаускас, моя жена Онуте Банионене, Гокушайте и Зданавичюте. О том, что постановка имеет успех,
узнал Мильтинис. Он чувствовал себя обиженным, что мы в его отсутствие сумели сделать что-то понравившиеся зрителю. После возвращения в театр Мильтинис снял этот спектакль с репертуара. Позднее актер С. Пятронайтис поставил ту же пьесу в самодеятельном кружке, кажется на сахарном заводе.
Когда ставил комедию «Д-р», я, чувствуя себя учеником Мильтиниса, хотел получить от него хоть какую-нибудь моральную поддержку или одобрение. В то время Мильтинис был откомандирован консультантом на съемки фильма «Tiltas» («Мост»). Фильм снимался в Ленинграде, в павильонах киностудии «Ленфильм». Мильтинису было поручено работать с актерами. Режиссером фильма был Борис Шрейбер.
Я в то время считал своим долгом говорить в письмах Мильтису о своей работе в Паневежисском театре, хотя формально он им уже не руководил. И вот сегодня мне очень хочется представить несколько отрывков из писем Ю. Мильтиниса, чтобы читатель и все общество почувствовали, в какой атмосфере и в каком настроении жил Ю. Мильтинис в «ссылке». Он хоть и был выброшен из театра, не забывал нас. Ему было важно, как мы живем и что делаем. Как отец, он не мог забыть свою семью, своих детей.
Вот эти письма. По их текстам можно судить о настроении и жизни Мильтиниса в бытность его в Ленинграде. Кроме того, эти письма, возможно, помогут понять и взгляды Мильтиниса на искусство, окружающую его действительность, отношения с нами. Разумеется, письма написаны по-литовски, и нам пришлось их перевести на русский язык. Писем, конечно, больше, все они написаны в 1954–1956 году. Я отобрал два письма, которые датированы 6 и 16 ноября 1956 года. Эти письма особенно дороги моему сердцу.
Ленинград, 1956.11.06
Милый Донатас,
Знаешь, дорогой, у меня «не вышло» к тебе приехать, поскольку девятого (9. 11) я обязан с 10 часов утра быть «на рабочем месте». У меня не получилось сделать так, чтобы приехать. Если бы ты смог репетировать начиная с 7.11, я бы поехал. С Вацисом позавчера говорил по телефону, он очень сожалел, что я не поеду тебе помочь. Я от всей души, Донатас, хотел приехать, но никак не мог. Еще у нас из-за работы неприятности были (5.11), этакое «выяснение»; меня упрекнули в определенной неактивности. Но это, конечно, мне не помешало бы приехать, если уже в самом начале праздников мы могли бы начать репетировать с тобой. Я верю, что твой спектакль будет великолепным. Очень этого желаю!
О Ленинграде не пишу, поскольку ты и все остальные прекрасно его знаете.
Теперь, правда, переселился в другую комнату (204) в той же самой гостинице. Если придет в голову позвонить, то надо следующим образом: Ленинград, гостиница «Октябрьская» (А 00 001) комнат. 204. До 23.11. А позднее переберусь в другую гостиницу, потому что больше одного месяца не держат нигде, ни в одной гостинице; если хочешь остаться, надо вдвойне платить. И так я сейчас плачу 5 рублей в сутки, поскольку у меня отдельная комната с ванной и другими удобствами. Все время есть горячая вода.
Пришли несколько фотографий постановки.
Съемки в Ленинграде мы закончим в середине декабря. Тогда съезжу на несколько дней в Москву (прямо из Ленинграда), а из Москвы вместе с Вацисом поеду в Паневежис встречать Новый год.
Напиши мне обязательно письмо и опиши, как идут завершающие постановочные работы, если найдешь немного времени и не поленишься.
Жаль, что министерство ведет себя как мачеха в отношении Паневежисского драматического театра! Они Шейнса «продвигают». И пусть!
В Ленинграде уже выпал снег. В Эрмитаже открылась выставка Сезанна, еще не видел — некогда!
Очень соскучился по Панявежису. Так хотелось сейчас приехать!
У Паневежисского театра много злых врагов (я имею в виду кроме министерства некоторых чиновников, большинство актеров из других театров, особенно Бернотас, Яцкявичюте и целый ряд других). Надо это знать и не быть воронами. Некоторые пытаются передо мной очернить актеров, думая, что я по существующей театральной традиции, как «ушедший» из этого театра, буду поддакивать и даже сам буду нападать (как бедняга Йонялис в отношении меня поступал). Также и некоторые другие начали было ликовать, говорить о своем освобождении и избавлении от закручивания гаек. Это, конечно, по-человечески. Но одно надо всем нынешним актерам Паневежисского театра не забывать, а именно, что все остальные театры и бывшие актеры и служащие паневежисского просто тоскуют в ожидании, пока вам голову не свернут. Это мерзко, противно, но жизненно. Еще страшнее в жизни регрессировать. Только прогресс, непрерывное стремление к совершенству могут сокрушить все эти недобрые надежды, которые в определенном аспекте являются закономерными в развитии человечества. Я теперь многому научился (прогрессирую) в познании людской натуры (конечно, особенно релятивно). Видишь ли, когда я уехал после года работы (службы) в Шяуляйском театре в Париж, мне было лишь 24 года. Там, при высоком уровне культуры, отношения между людьми совсем иные: открытые и без вероломства. Так я, вернувшись (через 7 лет), выглядел наивным и «оригиналом». Оказавшись в Паневежисе с еще более молодыми, чем я сам, и «неиспорченными» парнями и девушками, в своих рассуждениях слишком идеализировал людей и вещи. Когда жизнь стукнула по макушке, какое-то время был как в тумане, словно потерял ориентацию; я полагал, что слишком жестоко обижен. Теперь, когда пришел в себя в новой обстановке, в другом климате, то понял, что в этом нет ничего особенного. Во мне сейчас накапливается какое-то равнодушие и ирония ко всему, хотя вас всех по-прежнему люблю и ценю. Однако мне лукавый все нашептывает, что вам без меня хуже и что вы можете заблудиться в творческих проблемах. Логически размышляя, я и прав и не прав. Как бы то ни было, но мне и больно, и обидно, чертовски обидно, когда на вас кто-нибудь нападает, и еще так абсолютно незаслуженно. В разговоре с Бернотасом жестоко разругались. Я обо всем пишу, потому что думаю, что тебе и, может, другим друзьям перед новой премьерой представится случай подумать кое о чем, серьезно покопаться в себе, в отношениях к окружающему, оценить значение художественности во всей реальности жизни. Это избавит от наивных раздумий, что если самому что-то нравится, то и все вокруг вместе со всей родней радуются твоим достижениям.
Видишь, Донатас, я все такой же грубый и, вместо поздравлений, вроде бы беспокоиться заставляю — нет, Донатас, поздравить я успею после или во время премьеры, а теперь хочу напомнить о том, что всем известно: не поступайся главным ради мелочей. Работайте не только не покладая рук, но ищите глубокий смысл в искусстве. Целую всех и Эгиса.
Твой Юозас М.
Милый Донатас,
Ведь у тебя теперь столько переживаний в последние дни. Однако, милый, это интересные переживания, и я поздравляю тебя по этому поводу и желаю, чтобы они были всегда, даже тогда, когда ты станешь великим режиссером. Желаю никогда не становиться мастером, но оставаться всегда беспокойным искателем, новатором с неутомимой душой, всегда глубоко проникающим в самые сложные проблемы, мучающие художника. Не разменивайся на мелочи, не сворачивай с дороги на тропинку, на которую когда-нибудь могут попробовать тебя столкнуть заработок или развлечения на отдыхе. Знай: чем больше тебе повезет, тем больше это повредит тебе; редкий человек порадуется вместе с тобой. И если именно так случится, будь снисходительным, поскольку злоба и месть иссушают мозг и душу.
Насколько это возможно, выбирай только хороших авторов, тех, кто исследует сложные человеческие проблемы. Не ищи искусственную мишуру. Теперь можно немного и осмелеть. Что ж, не буду больше утомлять тебя советами и предложениями.
Жаль, что так и не смог приехать. У нас такие сложности появились на работе. Мне теперь нужно и художникам помочь в вопросах внутреннего убранства, костюмов, бутафории, меня даже ответственным сделали за это. Приехала Мешкаускене, а искусства нет как нет. Как ужасно в кино профанируется искусство! Я стараюсь, чтобы хоть игра актеров была более человеческой. Кажется, что актеры уже немного переломили себя, немного убедились, послушались. Шрейберис ужасно поверхностный и театральный, антипсихологичный и антиэстетичный. У него несколько самых банальных штампов и так называемая специфика кино, чем он и пользуется. Иногда терпение лопается и я взрываюсь, но редко, все равно это мало помогает. Напиши мне в письме, как удалась постановка, как прошла премьера.
Передай привет всем актерам.
Интересно, как дела у Гедиминаса с Атжалинасом? Он уже «старый» режиссер, марка, так сказать, известная. Уже, что ж, слава Богу, ты четвертый режиссер! Бледис, Алякна, Карка, Банионис! Ого! Я могу гордиться. Ура! На некоторое время должно хватить. Подчеркиваю: только «на некоторое время». Диджярекис всё еще директорствует у вас?
Ну что ж, будь здоров, крепко целую! Очень соскучился по всем вам и Эгису.
Твой Юозас М.
1956.11.16 Ленинград
Премьера спектакля «Д-р» состоялась 18 ноября 1956 года. А 10 февраля следующего, 1957 года в нашем театре заседал художественный совет. Как всегда, были гости из Вильнюса — режиссер Русского драматического театра Е. Батурин и актер Вильнюсского академического драматического театра А. Кярнагис. Я на этом собрании не присутствовал, но недавно наткнулся на протокол заседания. Говорил товарищ Е. Батурин: «Спектакль „Д-р“ у вас очень интересно решен и сыгран, тут приходится сказать и о работе художника как очень удачной. <…> Посмотрев оба спектакля (еще имеется в виду и новая постановка „Поросли“ К. Бинкиса. —
Д. Б.) в вашем театре, я почувствовал, что вы понимаете, что такое действие на сцене. Это жизнь, наполненная жизнь, с открытым сердцем, что так сильно действует на зрителя. Ведь Станиславский всегда учил наблюдать и понимать жизнь, и особенно внутреннюю, даже малейшие детали внутреннего переживания. А очень часто приходится видеть актера на сцене, который далек от внутреннего переживания. <…> Поэтому надо много работать над чувствами. Кажется, вам эта работа уже знакома давно, так как вы работаете с чувством. <…>». «То, что я увидел у вас, мне всесторонне понравилось, — вторил ему А. Кярнагис. — Это очень цельный спектакль, очень выдержанный, со вкусом. Автор дал много материала, который мог толкнуть актеров на создание шаржа, но коллектив этого избежал. Я везде видел только живых, настоящих людей, хотя и очень комических. Особенно хорош ритм спектакля, очень ярко и постепенно идущего к кульминации. Хорошо введена перед каждым действием музыка, которая, будто визитная карточка спектакля, сразу настраивает зрителя на игривое настроение. Очень красочно решены костюмы, мебель, даже грим. О каждом актере отдельно говорить не буду, так как это ансамбль, несмотря на то большая ли это роль или маленькая, все восхитительно законченны. Это большая удача коллектива. <…> Я предлагаю, чтобы Союз театральных деятелей Литвы дал возможность актерам Вильнюсского театра посмотреть эти спектакли (еще имеется в виду и новая постановка „Поросли“ К. Бинкиса. —
Д. Б.)».
Главный режиссер нашего театра Бледис был удивлен, но не скрывал старых обид: «Нас очень удивил такой ласковый, добрый и очень симпатичный тон гостей при обсуждении нашего спектакля. Мы привыкли к замечаниям другого рода. Раньше нам указывали, что можно только так, а не иначе. Сегодня в мире искусства возникает множество новых проблем, существуют новые пути, искания и решения. Почему-то общий язык находят художники, литераторы, музыканты, а люди театра лишь осуждают один другого, не признают работу коллег, пренебрегают друг другом. Приходится признать, что мы не находим общий язык, поэтому неудивительно, что нам трудно поверить в искренность наших гостей, так как они нас слишком мало „треплют“. Мне кажется, что, вернувшись домой, они будут говорить по-другому. Думаю, понадобится „более усиленная комиссия“, которая решит иначе. <…> Товарищи, мы сами всегда ищем, и не только в каждой новой постановке, но и на каждом спектакле. <…> Обязательно нужно, чтобы у каждого театра было свое лицо, для создания которого не хватает только лишь работы режиссера».
Позже (в 1958 году) «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца я уже ставил самостоятельно. Просто так было нужно. Как я уже говорил, режиссеров-гастролеров не было. Театр — это одна семья, один образ мышления, только тогда не возникает тех конфликтных ситуаций, которые бывают, когда чужой приходит со своими взглядами. А потому в коллективе посоветовались и решили, что «Обыкновенное чудо» надо ставить мне. К сожалению, ни я, ни актеры не сумели передать тот изящный юмор, который мы видим в фильме Марка Захарова. Однако тогда мне казалось, что получится актуально, весело, красиво… Аллегорию я понимал, но мне трудно было объяснить это актерам. Быть может, я не сумел заразить их этой пьесой. Не хватало опыта, а рядом не было кого-то более опытного. Не так, как при постановке «Д-ра» с Алякной, где у нас был хороший дуэт.
Пьесу Ю. Германа «Доктор Калюжный» в нашем театре в 1956 году ставил уже Бледис. Я играл роль Пархоменко. Хотя герой и не жалуется на судьбу, трагедия Пархоменко в том, что он почти полностью слепнет, но старается не показывать, сколь трагично его положение. Я, создавая этот образ, наблюдал жизнь. Откуда же, как не из жизни, черпать материал для работы? Человек идет к врачу, надеясь, что он сумеет ему помочь. Пытается развеселить сам себя, теряясь при этом и дрожа от волнения. Не скажу, чтобы режиссер мне что-то подсказал, но эта первая сцена получилась, я зацепился за героя. Было приятно, что и зрителям понравилась эта моя роль.
Был ли Бледис более талантливым режиссером, чем Алякна? Думаю, что нет. Но он был более подготовлен Мильтинисом и хорошо понимал его. Зато у Алякны-актера был Божий дар: тонкое восприятие и комического, и трагического. Как восхитительно он сыграл знаменитого деда Щукаря в «Поднятой целине», шолоховским юмором заразился весь зрительный зал. Бледис был наделен иным складом ума. У него был свой внутренний мир. Приведу характерный пример, относящийся еще ко времени нашей учебы в школе керамики, где приходилось выполнять разные задания: делать из глины горшки, сервизы, иногда лепить скульптурки, к примеру лося или охотника. Так вот, каждый ученик старался в эту работу вложить свою душу. Бледис же всегда стилизовал, и его скульптурка выглядела угловатой, за что учащиеся и прозвали его самого «угловатым». Так и на сцене Бледис был «угловатый». Но он всегда считался хорошим организатором, «крутым парнем», совсем не таким мягким, как Алякна.
Мильтинис Бледиса консультировал, а бывало, мог и накричать на него, и поругать немного. Мне кажется, что одной из наиболее неудачных постановок Бледиса был спектакль «Весной я вернусь к тебе» (по роману Н. Островского «Как закалялась сталь», инсценировка А. Казанцева). Но это было уже в 1980 году. «Сталь» 1952-го (инсценировка Гегузина и Судакова) оказалась куда более удачной, чем «Сталь» 1980 года. Спектакль «Весной я вернусь к тебе» выглядел иллюстративным и успеха у публики не имел. Ставя произведения советских авторов, Бледис, возможно, хотел политически реабилитироваться за то, что никогда не был членом партии. Он обладал своеобразным художественным чутьем. Он был хорошим человеком, трудолюбивым, преданным театру и своему делу. Его актерские работы были яркими по форме, которая иногда заглушала и душу и смысл (как случилось, к примеру, в «Шакалах»).
Помню, еще в годы немецкой оккупации была поставлена пьеса П. Вайчюнаса «Грешный ангел», где у Бледиса была комическая роль, которую он сыграл очень ярко, экспрессивно. Кому-то это нравилось, кому-то нет. Мильтинис, услышав мнения актеров, поступил, на мой взгляд, дерзко. «Сегодня будете играть так: ты вместо Бледиса, Бледис не играет вовсе, ты вместо…» — заявил он актерам, нарочно поменяв всех ролями. Нечего и говорить, как ошеломлен был зритель! Спектакль прошел ужасающе! А Мильтинису просто хотелось показать: «Вы без меня — никто! И мне решать, кто как играет. Хотите работать по-своему, не слушая меня?» Это был урок Мильтиниса — его «педагогика». В те годы подобное было возможно.
Кроме Мильтиниса, у нас в театре самостоятельного режиссера не было. А когда его уволили, пришлось выкручиваться самим. Вот и повелось… К примеру, ставит спектакль Бледис, а Карка ему помогает, ставит Алякна — помогаю я. Я ставлю, а кто-то еще мне помогает. Так, был у нас хороший артист — Гедиминас Карка, а как с режиссером я с ним столкнулся во время работы над спектаклями «Опасный спутник» А. Салынского (1954) и «Такие времена» Е. Юрандота (1955). Только в нашем театре существовал такой принцип: тебе предлагают поставить пьесу, но это отнюдь не означает, что ты — режиссер. К тому же статус того или тех, кто ставит спектакль, отнюдь не превышает статус тех, кто в нем играет. В одном случае ты актер, в другом — постановщик. Но такое практиковалось лишь в то время, пока в театре официально не работал Мильтинис. Честно говоря, и больших побед у нас в ту пору не было.
В те годы, после смерти Сталина, многое менялось. Были изменения и в Министерстве культуры Литовской ССР. Гудайтис-Гузявичюс оставил министерское кресло. В 1955–1958 годах министром культуры был Йонас Смильгявичюс, а в 1958-м назначили Юозаса Банайтиса. Это назначение на должность министра культуры, на мой взгляд, оказалось наиболее удачным за все годы. Он был человек искусства, как и его жена Казимера Кимантайте — замечательная актриса и режиссер. Главное, что Банайтис не был догматиком. В его семье относились к Мильтинису с уважением. Банайтис понимал, что Мильтинис должен работать в театре, и не в любом, а именно в том, который сам создавал, где проходила вся его жизнь. Увольнение Мильтиниса нанесло ущерб театральному искусству Литвы, — да и сам он не бегал по театрам, не старался куда-нибудь «приткнуться». Посещавшие театр партийные функционеры были недовольны, что время от времени в афише появлялись спектакли, фактическим режиссером которых был Мильтинис. Наконец у актеров лопнуло терпение. Появились люди, которых киновед Лаймонас Тапинас очень метко назвал «армией спасения Мильтиниса». Они-то и обратились к министру Банайтису с просьбой вернуть в театр режиссера. После разговора стало ясно, что Вильнюс согласен, но решать должен коллектив театра, его партийная организация. В конце марта 1959 года театр посетила делегация партийного руководства города. А 3 апреля 1959 года в министерстве был издан еще один, чрезвычайно важный для нас приказ:
«Приказ № 2/177 Вильнюс
От 3 апреля 1959 г.
1. Назначить с 1 апреля 1959 г. тов. Мильтиниса Юозаса, с. Юозаса, гл. режиссером Паневежисского драматического театра, с окладом 2000 рублей в месяц.
2. Перевести с 1 апреля 1959 г. тов. Бледиса Вацловаса, с. Леонаса, с должности гл. режиссера Паневежисского драматического театра на должность режиссера-постановщика с основным окладом, соответствующим тарификации.
3. Перевести с 1 апреля 1959 г. тов. Алякну Йонаса, с. Йонаса, с должности режиссера-постановщика Паневежисского драматического театра на должность актера с основным окладом, соответствующим тарификации.
Министр культуры Литовской ССР Ю. Банайтис».
Так Мильтинис вернулся в театр. И нашел нас «повзрослевшими», немного «грешными», так как в его отсутствие мы сами ставили спектакли, сами играли — без его ведома.
Возвращение Маэстро
Итак, в 1959 году Мильтинис вернулся в театр, — справедливость наконец-то восторжествовала. После возвращения он поставил еще несколько замечательных спектаклей, но… шаг за шагом Мильтинис близился к своему творческому закату, хотя проработал в театре еще двадцать с лишним лет. За время своего отсутствия он перестал быть «отцом» для актеров — мы приобрели некую самостоятельность.
Вернувшись, Мильтинис взялся ставить веселую и изящную французскую комедию «Соломенная шляпка» Эжена Лабиша, премьера которой состоялась 31 декабря 1959 года. Я уже знал эту пьесу, так как в 1939 или 1940 году видел снятый по ней фильм «Флорентийская шляпка» («Der Florentiner Hut»). Представляя спектакль в газете «Паневежио тиеса», мой коллега Г. Карка писал: «Нет. Эта комедия не является только лишь затейливо сплетенной игрушкой. Юмор Лабиша человечный, глубокий, далекий от пустой буффонады. Лабиш, проводя персонажи через быстро текущий поток событий, постоянно готовит им ситуации, которые выбивают их из колеи и заставляют предстать такими, какие они есть на самом деле, со всеми человеческими слабостями. Жизнь в этой комедии пролетает в безумном веселье, искрится, словно фейерверк. Каждое предложение, каждая ситуация полны зарядами остроумия, готовыми неожиданно взорваться в любое мгновение».
Роль Фадинара досталась А. Масюлису. Он был хорош, но, быть может, ему не хватало той мягкости и легкости, которая присутствует в пьесе Лабиша. Прекрасен был и Алякна в роли Везине, весьма интересен Нонанкур Бабкаускаса. Мы все воспринимали этот изящный французский юмор. Однако меня бросили в эту работу, как в воду, в итоге же получилось, что сыгранная мною роль Бопертюи стала одной из лучших в спектакле. А дело было так. Поначалу Мильтинису казалось, что Бопертюи — человек, который всех «ломает», и поэтому все его боятся. Играть его должен был Виткус. У Мильтиниса существовало правило: во время репетиций все актеры без исключения, заняты ли они в репетируемом спектакле или нет, должны присутствовать на репетиции. И вот однажды режиссеру показалось, что Виткус делает своего персонажа слишком жестким, что ему не удается передать тот юмор, который заложен в пьесе. И вдруг Мильтинис сказал: «Донатас, попробуй-ка ты».
Мне приходилось в кино видеть французские, немецкие водевили, в которых играли знаменитые комики. Я неплохо представлял такое существование в комической ситуации, чувствовал природу юмора. Попробовал сыграть одну сцену, и все рассмеялись. Мне же нравилось импровизировать, нравилось, когда и публика в зале, и коллеги за кулисами обливаются слезами от смеха, когда я, к примеру, сижу и парю ноги в тазике с горячей водой. Когда мне доливают кипяток, а я кричу. Когда меня гоняют, а я удираю… Понравилось и Мильтинису, который нежданно-негаданно утвердил меня на роль Бопертюи.
В 1961 году начался ремонт театра. Повсюду стояли леса. Так как стены были из необожженного кирпича, они стали сыпаться. А мы выпускали «Макбета». Команда постановщиков была достаточно серьезная: режиссер Мильтинис, композитор Э. Бальсис и сценограф-архитектор и акварелист А. Микенас. На премьеру приехали критики из Вильнюса, Москвы, Ленинграда, Латвии, Эстонии, Белоруссии. Премьера же была необычной. Спектакль смотрел министр культуры Литвы Ю. Банайтис, переводчик «Макбета» А. Хургинас, композитор спектакля Э. Бальсис. Зрителей в зале не было, а мы играли среди лесов. У С. Пятронайтиса Макбет выглядел трагическим героем, который жаждал властвовать. Макбет, которого создал Мильтинис в своем спектакле, был человек деградирующий, но не тиран. Поэтому для режиссера так важен оказался заключительный монолог героя, который ставил все на свои места. Сегодня, когда я смотрю «современную, нетрадиционную» постановку «Макбета», то вижу только лишь банальные вымыслы. На мой взгляд, не нужны метафоры, убивающие человеческое начало. Нужно, прежде всего, показывать человека, то, к чему он стремится и почему гибнет.
Наш спектакль и по форме был интересен. В нем почти не было декораций. Черная коробка, а в глубине экран, на котором высвечивались графические картинки, нарисованные на целлофане. Освещение было изумительное. Не было современной техники, но были реостаты. К ним вставали четыре-пять человек. И актерам приходилось делать эту работу, причем вручную. Свет по тексту включался и выключался. Узким лучом освещались глаза, когда нужно было подчеркнуть их. Или кровавая рука… Мильтинис делал купюры в тексте, но лишь тогда, когда это, по его мнению, было необходимо для того, чтобы сильнее сконцентрировать внимание на трагической судьбе Макбета. Никаких перестановок в тексте режиссер не делал, он никогда не «правил» ни Шекспира, ни Ибсена. Не исправлял! А ведь сегодня это считается в порядке вещей. И порой трудно узнать Чехова или Ибсена. Ныне режиссер себя ставит выше автора. Он, видите ли, гораздо лучше автора понимает, что нужно говорить. Он, видите ли, лучше, чем Шекспир, сумеет обо всем рассказать. Наконец, нередко современному режиссеру текст и вовсе не нужен — он решает спектакль техническими средствами. А человечность… Зачем сегодня она нужна?
Помню, Витаутас Жалакявичюс шутя говорил, что Мильтинис своим «Макбетом» словно сделал подарок XX и XXII съездам КПСС, когда был разоблачен культ личности Сталина, поскольку в его спектакле тоже разоблачался человеческий культ. «Макбет» был большой удачей Мильтиниса. Постановка имела огромный успех. Рецензии, вышедшие после премьеры, были длинные и полные восторга. «Родился не рядовой спектакль, — писали в прессе, — постанова „Макбета“ в Паневежисе — событие большой важности, значительная победа режиссера Ю. Мильтиниса и всего коллектива…» Примеров можно привести много, но мне бы хотелось процитировать статью эстонского гостя Сергея Левина.
«…О гл. режиссере Паневежисского драматического театра Юозасе Мильтинисе я услышал от поклонников-рижан, узнал о том, что в свое время он учился и работал в Париже, а позднее в Лондоне, — писал автор статьи. — Об этом вспоминал каждый, кто говорил о спектаклях Паневежисского драматического театра. У меня возникли сомнения: не ослепляют ли поклонников Паневежисского театра звучные имена режиссера Ю. Мильтиниса и его сотрудников, а быть может, само слово „Париж“! Не имеем ли мы дело с эпигоном, который с большим или меньшим успехом в постановках литовского театра использует трюки, которые запомнил во время учебы в Париже!
Но первое впечатление — это был „Макбет“ — развеяло мои сомнения. Здесь не чувствовалось и следа эпигонства. Все было самобытно: глубоко обдуманное и восхитительно ярко реализованное решение, в котором отброшены закостеневшие традиции, но нет и попытки любой ценой ослепить зрителя оригинальностью.
И все же спектакль был непростой. В нем не было декламации и величественного пафоса, без которых многие постановщики даже не представляют себе Шекспира. Нет, это были лишь шекспировские строки, с их подвижным, мощным и красочным ритмом, в котором бушуют страсти и мысли героя. Не было лишь только преувеличений, не было эффекта, не было криков и „разрывания страстей в клочья“, не было устаревшей сценической традиции и пафосно лживой игры.
Удивителен здесь был и сам Макбет, которого играл молодой талантливый актер С. Пятронайтис. Пятронайтис показывал не только жаждущего власти Макбета, но и его глубокое убеждение в том, что лишь он призван быть наследником Дункана, его уверенность, что это не только его право, но и обязанность — обязанность человека, который, как никто другой, может дать Шотландии величие и неприкосновенность. <…> Макбет Пятронайтиса, как личность, умирает задолго до своей физической смерти. Умирать он начинает во время пира, когда перед глазами Макбета возникает привидение предательски убитого Банко. В начале спектакля на меня произвела особое впечатление улыбка Банко — Баниониса. В ней душевная открытость, любовь к жизни и мужественность. Улыбка осталась и у привидения Банко, но это улыбка смерти. <…>
Тень Банко возникает из земли и медленно плывет кверху до стола, за которым пируют близкие Макбета. Банко кажется голубоватым, с побелевшей шеей, а красноватый цвет ему придает луч прожектора. <…>
Необычно и оформление „Макбета“. Необычно не только потому, что все оно состоит лишь из черных драпировок и экрана, на который проецируются то зубчатая крепостная стена, то арки интерьера, то деревья, подчеркивающие, что место действия изменилось. Драпировки и проекция применялись и раньше, но интересно видеть, как мастерски используются самые простые предметы оформления, как с их помощью достигается поразительный эффект. Особенно меня удивили световые эффекты. Свет здесь творит чудеса. Я уже не говорю о точности в работе осветителей, о том, что на протяжении всего спектакля не было отставаний, ни разу не случилось, чтобы луч прожектора „искал“ актера: каждый пучок света падал там, где было нужно, находя в темноте именно то, что было задумано режиссером в световой партитуре…»
Зрители на этот спектакль ехали отовсюду, как говорил актер нашего театра Чесловас Пажемецкас, «от Риги до Сахалина, не говоря уж о центральной России и южных республиках». В Паневежисе достать билеты на спектакль… Да что вы! Это было невозможно! Разве что через посредников в других городах. А началось все с того, что латышский театральный критик Ирена Майнерте посоветовала своей подруге Наталии Крымовой посмотреть на «сценическое чудо в литовском театре». О том, какое впечатление произвел театр на Наталью Крымову, я уже говорил. Вот тогда-то началось своеобразное «паломничество» в наш театр.
«Коронным номером» Мильтиниса Пажемецкас назвал постановку пьесы «Дуэль» Гудайтиса-Гузявичюса — того самого комиссара КГБ и министра культуры, который уволил режиссера в 1954 году «за неправильное руководство театром». Итак, в 1962 году Мильтинис взялся ставить «Дуэль». Это был слабенький политический памфлет. Я в этом спектакле не играл, кажется, был на съемках. Вернувшись, пошел посмотреть — и был ошеломлен. Это выглядело как какой-то бред! К примеру, садится человек на землю, говорит и вертится. Вертится, вертится… Вдруг встает и начинает скакать на одной ноге, произнося какой-то текст. Такие там были фокусы! Публика поняла, что, спасаясь от бессмыслицы, Мильтинис должен был хоть чем-то наполнить никудышную пьесу. «А что же должен был делать режиссер? — говорили зрители. — Ему пришлось как-то выкручиваться. Пьеса-то ведь ни к селу ни к городу». А мы смеялись! Наконец-то Мильтинис отомщен! Гудайтис-Гузявичюс, видимо, этого не понимал. Через месяц после премьеры он написал Мильтинису из Ялты:
«Ялта, 20.11.1962 Дорогой Маэстро!
До сих пор у меня нет исчерпывающего описания, как прошла постановка „Дуэли“, хотя уже получил несколько отзывов от тех, кто видел спектакль и высоко ценит Ваш труд как художника.
Одни мне пишут: „Прекрасный спектакль! Современная постановка, хорошие актеры! Хорошая музыка. Одним словом — все хорошо, прекрасно вышло!“
Другие: „Спектакль очень понравился! Большая, очень изобретательная работа режиссера! Прекрасный, быстрый темп спектакля, постоянно меняющиеся осмысленные мизансцены. Умная, сознательная планировка сцены — почти никаких декораций, лишь кое-какая мебель. Все делают световые эффекты, освещение. Оно настолько совершенно, так быстро и осмысленно меняется, что Паневежису может завидовать любой другой театр. Режиссер Мильтинис нашел своеобразный ключ для решения этой пьесы: ни на минуту зрителя не оставляет мысль, напряженность идеи последовательно проводится режиссером через все представление. И хотя в спектакле много формального вымысла — и в режиссерском решении, и в трактовке образов, — честное слово, не видно никакого формализма! И это хорошо!“»
Насчет самой постановки у него сомнений не было, пишет Гудайтис-Гузявичюс. И далее:
«Вы режиссер, много раз сдавший экзамен на звание мастера сцены, чего нельзя сказать об авторе. <…> Ну, так или иначе, вне зависимости от дальнейшей судьбы пьесы — лед тронулся! Я чувствую себя должником — невероятно. Постараюсь долг вернуть, как только окажусь в Паневежисе!»
Спектакль шел плохо. Латышские критики тогда говорили: «Если Мильтинис сумел поставить такую плохую пьесу, значит, он мог бы поставить и телефонную книгу». В заключение могу процитировать мнение зрителей: «Уж такая плохая пьеса, что даже Мильтинис, как ни старался, не смог спасти бездарного автора». Это и была месть Мильтиниса.
Очень настойчив был и литературный критик, также сочинявший пьесы, — Йокубас Йосаде. Он все предлагал Мильтинису поставить его сочинение. Ему казалось, что он написал литовскую «Нору». Пьеса называлась «Не покидай меня, Люда». Советская женщина Люда все искала идеалы. А ее муж Ругис был обыкновенным советским председателем горисполкома и делал то, что практически нужно для города. У него не было никаких идеалов, — только необходимость выполнять план. Люда же, по мнению Мильтиниса, оказалась просто дурой, которой наплевать на семью, на дом.
Я играл Ругиса — хорошего человека, с чувством юмора. Для Мильтиниса Ругис был положительным героем, обыкновенным человеком, занимающимся своей работой. А Люда? «Да чего же ты, курица, достигнешь? Не то время!» — считал режиссер. Мильтинис смеялся над идеалами, которые проповедовал Йосаде. «Когда будешь говорить об идеалах, почешись», — требовал он. Я и чесался! Мильтиниса волновал человек, а не идеи социализма или пустота строительства коммунизма. Ты живи честно, работай, а не придумывай невесть что.
Зрителям спектакль понравился. Йосаде понял, что постановка совсем не про то, про что он писал пьесу, но на банкете после премьеры улыбался и говорил: «Хороший спектакль». Мильтинис же поставил нудную пьесу так, чтобы не было скучно. Это был один из его красивых трюков.
В 1964 году Мильтинис в театре взялся ставить «Поднятую целину», где я получил роль Давыдова. Прочитал книгу Шолохова, постарался углубиться в образ моего героя. Для Мильтиниса самым интересным персонажем был дед Щукарь. Я уже говорил, что эту роль талантливо играл Алякна. Лушку хорошо сыграла Меленайте, Варю — Урбонавичюте. Спектакль имел успех, был награжден Государственной премией Литовской ССР, но, мне кажется, это была скорее «политическая награда». Хотя ни в коем случае не хочу сказать, что постановка была неудачной. Все же текст Шолохова…
По существовавшим в ту пору правилам партийная организация и художественный совет должны были утвердить для постановки пьесу, предложенную главным режиссером театра. Мильтинис предложил «Там, за дверью» Вольфганга Борхерта. Это случилось впервые, но пьеса не была утверждена. Директор Диджярекис разглядел в ней «аполитичность», актеры же говорили, что пьеса слишком интеллектуальна. Заседание закончилось скандалом — Мильтинис все же настаивал на своем… С тех пор прошло много лет. Я, конечно, сегодня всего не помню. Но мне удалось найти протокол № 4 художественного совета нашего театра от 10 апреля 1964 года. Кроме прочих вопросов, обсуждался и репертуар на следующий сезон. В нем зафиксирован очень короткий разговор: «Предлагаю обязательно ставить Борхерта», — говорил Бледис. «С ним еще придется повременить», — отвечал Диджярекис. И все же Мильтинис не сдался…
В 1966 году я сыграл одну из наиболее трудных для меня ролей — Бекмана из пьесы Борхерта «Там, за дверью». Действие ее начинается с того, что солдат Бекман, в 1945 году вернувшийся с войны, стоит на берегу Эльбы и собирается покончить жизнь самоубийством. Он просто не может жить. Его останавливает Двойник (А. Масюлис). И мой герой начинает путь по своему прошлому. Встречается с девушкой, которая его любила, с Богом, который все приговаривает: «Детки мои, детки мои». Встречается и со смертью, которая метет всех — и хороших, и плохих, — и с директором кабаре, который предлагает: «Надо смешить людей, чтобы они были веселые». Бекман проходит все возможные человеческие пути, а в конце, когда уже не видит выхода, кричит: «Кто может сказать, стоит ли жить!»
Не знаю, откуда Мильтинис взял эту пьесу, но ставил он ее охотно. Изначально она была написана для радио. И писалась как предсмертная конвульсия. Пьеса эта очень искренняя. Бекман должен был быть болезненным человеком, а я таким не был. Мне было трудно разобраться в этом трагизме. К тому же Мильтинис не давал мне никакой передышки — я весь спектакль находился на сцене в огромном напряжении, и физическом, и душевном. Иногда мне приходилось говорить буквально из последних сил. Было очень трудно, и после спектакля я чувствовал себя предельно уставшим и измотанным. Мильтинис же говорил: «Надо так воздействовать на зрителя, чтобы тот смотрел только на сцену и видел только сцену. Нужно, чтобы зритель после спектакля говорил — какая жизнь! Почему мы ее не видим? Почему мы не чувствуем и не понимаем близкого нам человека?» Мильтинис это и старался показать. И правда, спектакль настолько сильно воздействовал на публику, что иногда кто-нибудь из зрителей говорил: «Я уже больше не могу!» Позднее эту пьесу поставили латыши. Успеха не было. У них получился бытовой спектакль. Правда, я сам его не видел, но мне рассказывали. Значит, не пьеса главное, а быть может, и не актер. Все решает режиссер-постановщик, от него зависит результат: успех или провал.
Репетируя этот спектакль, я в первый и в последний раз стал немного нервно спрашивать у Мильтиниса, как я должен играть. «А мне откуда знать? — отвечал он. — Я ведь с Богом не встречался. Здесь не быт, а бытие надо играть». Документалист А. Дауса снимал процесс репетиций. Он решил сделать документальный фильм о репетициях Мильтиниса, который сначала не соглашался, считая, что репетиция — это интимный процесс и его незачем показывать публике. Но Даусе удалось в конце концов его уговорить. В зале постоянно стояла камера, и мы даже не знали, снимают нас или нет. Поначалу это раздражало, но потом мы привыкли. Камера сняла и меня, когда я первый раз в жизни стал нервно расспрашивать Мильтиниса о том, как я должен играть сцену. Потом те, кто видели фильм, говорили, что я предъявлял какие-то требования Мильтинису. Но этого никогда не было, просто я на мгновение потерял самообладание.
Спектакль создал Мильтинис. Я лишь был инструментом в руках мастера. В некоторых сценах был крик моей души, я даже плакал, играя эту роль. И до сих пор я вижу, что, говоря о моем творческом пути, люди вспоминают Бекмана.
На спектакль «Там, за дверью» зрители ходили охотно. Однажды пришел деревенский житель, снял обувь и вошел в зал в носках. Когда его спросили, почему он это сделал, тот человек ответил: «Сюда, в такой театр, входить в обуви нельзя».
Мои первые опыты в кино
Это может показаться смешным, но я всегда, даже в детстве, хотел сниматься в кино. А в то время, когда мои друзья из театра уже участвовали в съемках, мне тоже очень хотелось попробовать себя в незнакомом тогда для меня виде искусства. Кто-то написал, что я снимался в 1947 году в фильме «Марите». Это ошибка! Но, к сожалению, эта ошибка повторяется в энциклопедических изданиях. Фильм «Адам хочет быть человеком» — моя первая картина.
Очень важно, что Юозас Мильтинис и кинорежиссер Витаутас Жалакявичюс сумели найти общий язык. Нет, они не дружили. Не такие это были личности, которые могли бы дружить. На Жалакявичюса производили большое впечатление высказывания Мильтиниса. У Мильтиниса была огромная жизненная сила, он управлял всеми. Его образ жизни и манера постановки спектаклей впечатляли Жалакявичюса. В работах Мильтиниса меньше всего было театральных штампов. А в те годы считалось, что на сцене все должно быть по-театральному. Грим, к примеру, должен был быть виден, потому что существует театр и существует жизнь, а на сцене надо вести себя не так, как в жизни. Мильтинису такая точка зрения была чужда. И Жалакявичюсу это нравилось. Сниматься в фильме «Адам хочет быть человеком» Жалакявичюс сперва пригласил Мильтиниса. Потом — его учеников: В. Бледиса, Б. Бабкаускаса, А. Масюлиса и меня. Играла в фильме и замечательная актриса Дана Руткуте, работавшая в нашем театре только один год сразу после войны.
Жалакявичюс решил, что я смогу сыграть Даусу. Но этот авантюрист был мне чужд. Сегодня, возможно, я смог бы его сыграть по-другому, а тогда я просто не понял авантюристскую природу своего героя и не знал, как надо играть. К тому же на съемках все не так, как в театре: не было таких репетиций, какие бывают во время работы над спектаклем. И еще настоящим бедствием стал для меня оператор А. Моцкус. В то время создавали так называемые «красивые кадры». На наших экранах прошло несколько мексиканских фильмов, где показывались подобные «красивые образы». «Красивый кадр» — это говорится о фотографическом кадре, а не об игровом. Но оператору Моцкусу в то время тоже хотелось создавать красивые картинки. Нужно было выдерживать композицию кадра, чтобы не «вылезать» ни слишком много, ни слишком мало. Нельзя было и голову поворачивать слишком сильно. Иными словами, главное — «красота кадра». Для меня это оказалось очень трудным. Мало того, что я новичок, что для меня все ново и неизвестно, в такой ситуации я не мог даже и думать об игре. Старался лишь не испортить кадр. Камера или была статична, или снимала панораму. Приходилось подстраиваться под камеру. И я очень старался — мне так хотелось сыграть хорошо.
Однако когда я посмотрел фильм, то решил, что не гожусь для кино! Не мое это дело, я не умею так быстро перевоплощаться. В течение полминуты произнести несколько реплик, подойти, положить руку, повернуться, а не работать органично, как в театре. Да и камера мешала сосредоточиться. Услышав слово «мотор», я терялся и, главное, думал лишь о том, как бы не «выпасть» из кадра. Мне казалось, что я все делаю не так. В театре у меня уже были хорошие роли, а здесь… Я старался. Мне ничего не говорили. Но я чувствовал, что этот вид искусства — не для меня.
В 1958 году, когда снимали этот фильм, у Литовской киностудии еще не было специальных павильонов. Пришлось ехать в Ялту. Ялтинская киностудия в то время была одной из лучших в СССР. Тогда я впервые попал в Крым. Мы ехали туда зимой, было весело. Эта поездка стала для нас своеобразными рождественскими каникулами.
В Ялте снимали довольно длинную сцену в ресторане. Играл местный оркестр, песню композитора Эдуардаса Бальсиса «Буэнос-Айрес» пела симпатичная русская певица. Через какое-то время она вышла замуж за Пуоджюкайтиса — того парня, который играл Адама. В то время, когда происходит действие фильма, был популярен танец чарльстон. Для массовки набирали местных жителей, которые говорили, что мы не умеем танцевать этот довоенный танец, и даже показывали, как это нужно делать.
Ялтинская киностудия тогда произвела на меня огромное впечатление. Это была фабрика! Позднее, когда я увидел «Мосфильм», «Ленфильм», Голливуд, Ялтинская студия уже казалась похожей на детский сад. Но тогда, в первый раз, она меня впечатлила. Чрезвычайно
понравилась и природа. Горы. Городочки. Я увидел тогда Алупку, Алушту, Массандру… Побывал в «Артеке»…
С нами была замечательная актриса Дана Руткуте, с которой мы подружились. Она в то время уже работала диктором на Литовском телевидении. На радио же была передача, которая называлась «Концерт по заявкам». Однажды в этом концерте прозвучала песня, начинавшаяся словами «Пенное море бьется о берег…». Эту мелодию по радиоволнам Дана Руткуте посылала мне в память о Крыме.
В те годы Ялта еще была закрытым курортом и туда не пускали иностранцев. Так что мы тогда были «из самого западного Запада». Да еще артисты, кино снимаем, потому нам оказывалось особое внимание. Правда, уже наступала хрущевская «оттепель» и СССР становился страной чуть более «открытой» миру. Летом, видимо, и в Ялте ждали гостей с Запада. Мы же приехали зимой, и гостиница «Ялта», в которой нас поселили, стояла пустая. Мы питались в гостиничном ресторане, и нас явно обслуживали люди, присланные из КГБ. Не потому, что мы интересовали органы госбезопасности, — мы-то хоть и прибалты, но все же «свои». А вот приедут туристы с Запада, ведь летний сезон на носу, и кто знает, вдруг это будут шпионы. Просто сотрудники органов безопасности не доверяли официантам, а потому сами «обучались» этой профессии, «тренируясь» на нас.
Бывало, подходит парень и спрашивает: «Что будешь кушать?» Мы читаем меню, выбираем. А парень тем временем продолжает: «Хороший суп, возьми, поешь». Я заказываю суп. «Официант» уходит, но скоро возвращается, неся с собой столовые приборы, и стоит у стола, закрыв глаза, держа в одной руке нож, в другой вилку. Перекладывает из руки в руку: то ли считает что-то, то ли пытается вспомнить, в какой руке надо держать нож, а в какой — вилку. Наконец, кладет приборы на стол и смотрит, правильно ли положил. С этой задачей справился! Признаюсь, нас это веселило. Потом «официант» приносил супницу, и мы начинали обедать. Однажды мне суп не понравился, и я съел лишь то, что было в тарелке, а в супнице еще осталось. «Все, — говорю, — спасибо. Я уже поел». А он взял супницу, вылил в мою тарелку оставшийся суп и говорит: «Доешь до конца!» Видимо, думал, что я стесняюсь. Съел я тот суп, но в дальнейшем старался, чтобы меня обслуживали официанты не из органов.
Был и еще забавный случай. В первый день в Ялте я ходил по коридору и искал туалет. Вдруг вижу дверь, на которой написана буква «М». Подумав, что раз это женский (по-литовски слово «женщина» начинается с буквы «м» — «moteris»), то второй — мужской, я, не посмотрев, вошел в следующую от «М» дверь и закрылся в кабинке. Вдруг слышу, заходят женщины. Я подумал: «Чего это они в мужском туалете делают?» И вдруг понял: ведь буква «М» на двери обозначает не что иное, как «мужчина», а не «moteris». Что делать? Выйду, точно будет скандал: «Мужчина в женском туалете! Маньяк, да и только! Он что, русского языка не знает?» Да во век не поверят, если расскажу правду. Придется отсиживаться в кабинке, пока женщины уйдут. А они, как назло, все то входят, то выходят. Наверное, около получаса я просидел в кабинке, пока не появилась возможность вынырнуть оттуда.
В те годы в Крыму на базаре местные колхозы продавали разливное вино. Привозили в больших бочках. А для нас это было необычно — вино из бочки! У нас вино продавалось только в бутылках. Так что с утра кто-то из нас брал кувшин и шел на базар. А там давали пробовать вино — целый стакан! Нравится — покупай, нет — иди к другому продавцу. Как правило, вначале вино не нравилось, а в конце покупали. И не потому, что лучше… Пока все перепробуешь, угостишься вдоволь… В Крыму такого рода торговля была в порядке вещей. Честно признаться, мы специально ходили пробовать вино. Думаю, не мы одни.
Мы пробыли в Ялте около месяца. Нас считали иностранцами. Услышав наш язык, люди спрашивали: «А вы откуда?» — «Из Литвы», — отвечали мы. «А, из-за границы!» — обычно комментировал спрашивавший. Потом в Ялте приходилось бывать неоднократно — и на съемках, и на фестивалях. Ялта стала для меня приятным, знакомым местом.
А вот фильм «Адам хочет быть человеком» был моей неудачей. Во всяком случае, мне так казалось. Многие мне говорили: «Донатас, тебе хорошо — ты уже в кино». Мне же работа над этим фильмом не доставила удовольствия, удовлетворения я не чувствовал. А в итоге фильм был отмечен на нескольких кинофестивалях. В том числе в 1960 году на Всесоюзном кинофестивале в Минске оператор А. Моцкус получил вторую премию. Я психологически не чувствовал себя подготовленным для работы в кино. Когда я сказал себе, что кино не для меня, было, конечно, жаль. Мне, как и многим актерам, тогда хотелось видеть себя на экране гораздо больше, чем попытаться понять специфику и природу киноискусства. В театре было все понятно — длинный репетиционный период, когда шаг за шагом постигаешь образ своего персонажа и его внутренняя жизнь на репетициях все более и более наполняется, когда можно вернуться назад и что-то исправить. В кино же все по-другому. Мне казалось, что я перед камерой жеманюсь.
Я по-прежнему продолжал работать в театре, пока через четыре года Витаутас Жалакявичюс не пригласил сниматься в фильме «Хроника одного дня». Меня это удивило, я думал, что после «Адама» меня уже никто никогда не позовет работать в кино. Прямо скажу, моя кинематографическая судьба виделась мне весьма пессимистично. Казалось, что Жалакявичюс пригласил меня лишь потому, что он все так же симпатизировал Паневежисскому театру, и в первую очередь его руководителю Мильтинису — незаурядной личности — интеллектуалу, философу, человеку, отлично знающему основы театрального искусства. Жалакявичюсу, который сам был незаурядной личностью, это всегда нравилось. Они словно дополняли друг друга.
В «Хронике одного дня», как и в «Адаме», опять играли паневежцы. Бронюс Бабкаускас уже был настоящим киноактером, к тому времени он снялся в нескольких фильмах. В «Хронике» Жалакявичюс взял его на главную роль. Фамилия его героя была Римша. Альгимантас Масюлис играл Вянцкуса — контрперсонажа Римкуса. Римкус говорил, что в годы сталинизма наука в СССР уничтожалась, а все «стояли под деревом и смотрели, как убивают человека». Римша понимал, что надо заступиться. Вянцкус, герой Масюлиса, отвечал: «А что мне было делать? Шел дождь, я стоял под деревом, а там убивали человека». Имелись в виду науки, которые до недавнего времени считались буржуазными, — кибернетика, генетика.
Меня все это мало занимало. Жалакявичюс предложил мне роль, которую я опять плохо понимал. Это был лишь эпизод. Мой персонаж — Донатас. Он был показан не психологически, а внешне, к тому же симпатии не вызывал. Быть может, Жалакявичюс видел в нем некую метафору. Мне приходилось ходить по комнате среди кактусов, заглядывать между полок… И все это с сердитым выражением лица. Я внутренне не был готов к этой роли и сам чувствовал, что играю не так, как бы сыграл в театре на сцене. Репетиций не хватало. Нужно было делать что-то с ходу, а как? Мне это было не вполне понятно. Раздражало то, что приходилось создавать персонаж, который я понимал лишь теоретически, а потому все задания режиссера выполнял схематично. Что-то, конечно, делал, но сам чувствовал, что о творчестве нечего и говорить.
Партнерши у меня не было. В фильме снималась замечательная актриса Эльвира Жебертавичюте, работавшая не в нашем театре. Она была партнершей Масюлиса. Мне в этом фильме очень понравился Бабкаускас. Он был органичным, талантливым, на мой взгляд, самым талантливым из всех нас. Кто-то, возможно, скажет: «Ты, Банионис, не прав!» Может быть, но мне так показалось. Он Римшу сыграл хорошо, смог прочувствовать характер своего персонажа. Я, помню, смотрел на него и думал: «Как ему хорошо! Как бы я хотел так играть!»
Фильм вышел на экраны в 1963 году. Жалакявичюс как-то сказал мне: «Я не могу смотреть фильмы хороших режиссеров, так как начинаю им подражать». В то время во французском кинематографе появилась «новая волна», оказавшая влияние и на Жалакявичюса. Его в этом упрекали, как и в том, что он слишком смело критиковал тот период, когда в СССР «боролись» против «западных» наук. А Жалакявичюс хотел показать, что очень плохо было то, что никто не заступился за ученых, пытавшихся заниматься этими науками. Все стояли поддеревом, потому что шел дождь… Боялись. Это был, наверное, наиболее глубокий фильм Жалакявичюса. Только зритель был не готов воспринять такого рода кино. Критика, к сожалению, тоже не имела достаточной подготовки. Честно говоря, и мне было странно, для чего нужен, скажем, эпизод, в котором новая «Волга» въезжает в колхозный сарай. Это как будто метафора, так модная в те годы «рефлексия мыслей».
Киновед Лаймонас Тапинас позднее писал о «Хронике одного дня»: «Фильм появился на свет после долгих споров, конфликтов и компромиссов. Он явно родился преждевременно, опережая события, моды, способ мышления, что пришло в наше кино только через несколько лет. <…> Ассоциативный монтаж, резкие, нервные переходы, переброски во времени, подчинение внутренней логике мысли, экспрессивные кадры — все это было ново и неожиданно».
Но я этот фильм расценивал как свою неудачу.
Через год, в 1964 году, на экраны вышел мой третий фильм — «Марш, марш, тра-та-та». Режиссером его стал бывший актер нашего театра Раймондас Вабалас, в 1960 году закончивший ВГИК. Это была первая в литовском кино попытка поставить политическую сатиру. Прямо скажем — неудавшаяся попытка. Сценарий написали Г. Кановичюс и И. Руд-Герцовский, и читать его было интересно. До этого в кинотеатрах очень хорошо прошла французская комедия «Скандал в Клошмерле». Все мы восхищались внешней формой этого фильма и считали, что наш фильм должен быть выдержан в таком же стиле. Суть дела в том, что два государства готовятся к войне (имелся в виду тот период, когда отношения между Польшей и Литвой были плохие, так как Польша оккупировала столицу Литвы Вильнюс). Одно государство якобы литовское, второе — польское. Но война так и не началась. Первоначальное название фильма было «Война откладывается на завтра», но на экраны фильм вышел под названием «Марш, марш, тра-та-та». Снимали на улицах Вильнюса. Я играл майора Лопуха. Старался смешить, надеясь, что если роли в тех двух фильмах не удались, то в этом должно получиться. Тем более что на сцене я играл в комедиях и у меня получалось совсем неплохо. Так что я кривлялся, надувался, изображая полководца. Об этом персонаже и говорить нечего. Тут было не за что зацепиться — простое подражание. Когда мы старались смешить зрителя, ничего не получалось, ведь насильно смешным не будешь.
Фильм привезли в Паневежис. Мне не довелось увидеть смонтированный материал, и я пришел в кинотеатр. Сел этак скромно в предпоследнем ряду. Сначала зрители смеялись. Картина была названа комедией, а ведь зритель, если идет смотреть комедию, обязательно смеется. Поначалу смех звучал громко, потом постепенно все тише и тише… пока и вовсе не прекратился. Мы так старались смешить — «делать смех», а зрителю не смешно. Честно говоря, и мне самому, когда я смотрел из зрительного зала, смешно не было. Перед самым концом фильма вдруг слышу разговор сидевших за мной девушек: «Ох, этот Банионис так кривляется, что прямо испытываешь отвращение, когда на него смотришь». Я съежился, чтобы меня не узнали. Не дожидаясь, пока зажгут свет, поплелся к выходу. И эта роль оказалась неудачной! Три фильма — три роли. И все не получились. Я же вижу, чувствую… После этого уже и вовсе разочаровался. Какой же я актер — ни комик, ни трагик.
Кажется, это был тот же 1964 год. Я был не дома, не в Паневежисе. Позвонил мне Жалакявичюс, предложил роль в его новом фильме «Никто не хотел умирать» и выслал сценарий, который написал он сам. Я прочел. Но Жалакявичюс не сказал, какую роль он мне может предложить. Кого-то из четырех братьев Локисов? Третий из братьев — в сценарии по имени Донатас. Но я для этой роли не подхожу. О Вайткусе я даже и не подумал. Он по сценарию другой и выглядит по-другому. Нет, Вайткус тоже не я!
Через какое-то время опять звонит Жалакявичюс и спрашивает:
— Ну что, прочитал?
— Прочитал, — отвечаю.
— Ну и как?
— А какую роль ты мне предлагаешь? — отвечаю я вопросом на вопрос.
— Что бы ты сказал, если бы я предложил тебе сыграть Вайткуса?
Вайткуса? Для меня это было неожиданно. Во-первых, Вайткус куда моложе меня. Ему, во всяком случае мне так казалось, лет около двадцати, а мне уже было сорок. Но если режиссер так решил, пусть так и будет. Приехал в Вильнюс на пробы, хотя, кажется, он меня и не пробовал отдельно. Поговорили. Я стал вникать в образ своего персонажа, изучать то время, когда происходит действие фильма. Вспомнил послевоенную жизнь, «лесных братьев». И герой показался мне интересным. Да ведь и в жизни такое бывало. Мне нравилось, что мы углубляемся в тот период не в политическом плане — кто прав, кто виноват, — а в человеческом. Убивают отца, фамилия которого Локис (медведь). Возвращаются его четыре сына — Бронюс (сыграл его эстонец Бруно Оя), Миколас (Альгимантас Масюлис), Донатас (Регимантас Адомайтис) и Йонас (Юозас Будрайтис) — и ищут виновника. А виновником для них становится ни в чем не повинный Вайткус только лишь потому, что он был с «лесными братьями» в лесу. Донатас избивает его, крича: «Всех вас я тут расплескаю». Эта история мне показалась понятной и интересной. Начали снимать. Сначала сцену, когда Вайткуса пригоняют в контору и там его ждут старший из братьев Бронюс Локис и партийный функционер, которого сыграл А. Шурна. Они производят дознание:
— Почему ты был в лесу?
— Почему ушел из леса?
— О чем ты думаешь?
И так далее.
Я заранее немного подготовился, знал, о чем идет речь. И вдруг почувствовал растерянность, чисто по-человечески. Мне казалось, что я ощущаю, как это все могло происходить. На вопрос: «Почему ты был в лесу?» — Вайткус отвечал: «Такое было время». И на вопрос: «Почему ушел из леса?» — «Такое было время».
— Как это?
— Я отца пожалел.
— Отца, отца. А может, и себя?
— Ну, может, и себя.
Я даже не почувствовал, когда после непродолжительной репетиции заработала камера. Вдруг понял, что снимаем длинный кусок, а я начинаю чувствовать камеру. И больше всего меня удивило то, что, когда закончилась съемка эпизода, вдруг послышались аплодисменты. Редко так бывает. Аплодировали осветители, гримеры и прочие люди, работающие за кадром. Я воспринял это как подтверждение того, что я все делаю верно.
Дальнейшие съемки проводились в живописном месте — деревне Зервинай. Там до сих пор сохранились этнографические усадьбы. Тогда, в 1965 году, эта деревня была выбрана не только из-за лесов, окружающих ее, чисто литовских, свойственных этому региону изб, дворов или деревенских улочек. Действие фильма происходит в 1946–1947 годах. А в то время, когда он снимался, во многих деревнях уже было проведено электричество, образованы колхозы, виднелись электрические столбы. В Зервинай всего этого тогда еще не было. Сначала мы жили в школе, потом перебрались в дом к местным жителям.
В эту деревню и должна была приехать на съемки в то время уже знаменитая латышская актриса Вия Артмане. Предполагалось, что она станет моей партнершей. Мне было страшно. Она знаменитость, а я после трех неудавшихся ролей в трех фильмах. Я думал, что она «заглушит» меня своей игрой. А как мне удастся приспособиться? Там и любовная сцена, и сцена на сеновале… Я знал, что она хотела приехать и привезти с собой шестимесячную дочку Кристину. Приедет или не приедет? Но Вия Артмане — настоящая актриса. Ради работы, ради искусства она может пожертвовать многим — я не раз это видел. И тогда становятся не столь важны любые неудобства.
Была приобретена детская коляска, и ассистент режиссера поехал встречать Вию к автобусу. Она приехала и девочку привезла. А мне все на душе неспокойно: как же мы общаться-то будем. Но Вия Артмане оказалась очень приятной женщиной. Никаких капризов, свойственных многим звездам, никакой спеси. Вот выдалась свободная минута, она ребенка качает или пеленает. А когда Вия была на съемочной площадке, тот, кто был в тот момент свободен, качал или возил ее дочку. Чаще всего это делал помощник режиссера Вилимас. Иногда этим занималась моя жена. Приходилось возить коляску и мне. Иногда и директор картины Жабинскис присматривал за ребенком. Моя жена Онуте спрашивала у Вии, не легче бы было оставить ребенка дома, но Вия отвечала: «У меня тети, но за ними самими присмотр нужен. Куда же ребенка денешь?»
Мы с Вией сначала между собой общались по-русски. И вот нужно снимать сцену на сеновале, в которой текста много. Взяли мы с Вией сценарий и стали думать, что делать. Решили, что она будет говорить по-латышски, а я по-литовски. Потом ведь ее все равно будут озвучивать. Но Вия очень серьезно отнеслась к этому делу: она взяла литовский текст и подобрала латышские слова так, чтобы при озвучании длина слов и движение губ совпадали. Поэтому при просмотре фильма не всякому придет в голову, что актриса на съемке говорила не на литовском. Мы стали репетировать. Когда сыграли сцену Жалакявичюсу, он ничего не исправлял. Оператор Йонас Грицюс — замечательный оператор — нам совсем не мешал. Он позволял репетировать, не указывал, кто где должен стоять, кому куда надо смотреть. Когда репетиция заканчивалась, он ставил камеру и приспосабливался к актеру. Конечно, бывало, что и он что-то поправлял, но это всегда шло на пользу.
Я стал втягиваться в сюжет. Меня интересовала человеческая драма, мысль о том, что человеку хочется жить, но не все и не всегда зависит от него. Меня абсолютно не волновало, насколько исторически правдив сценарий. В 1964 году мы уже могли показать, что не все в Литве восторженно встретили советскую власть. Сегодня, конечно, этот фильм был бы другим. Но тогда можно было снять только так. Жалакявичюс в то время тоже, видимо, не хотел, чтобы картина получилась политической. Помню, как-то после «Хроники одного дня» его стали упрекать за формализм. Он тогда ответил: «Не нравится? Я могу сделать и другого рода фильм. Если вам не нравятся мои открытия в области формы, я вам могу предоставить и абсолютный быт».
Когда после съемок каких-то сцен выдавалась свободная минутка, я ездил в Паневежис. И неожиданно ловил себя на мысли, что и в автобусе я думаю о том, что какой-то эпизод мог сыграть лучше, а в другом месте не помешал бы такой-то нюанс… Раньше, когда я снимался в первых трех фильмах, со мной такого не было. Я даже не особенно и думал о них: что сделано, то и сделано — лучше уже не будет. А теперь вот все обдумывал, и персонаж получался органичным.
Есть в фильме такая сцена, когда к Вайткусу приходит героиня, сыгранная актрисой Баукайте. А до нее к нему зашел «лесной брат» — Апуокас (филин), в роли которого был Витаутас Томкус. И Вайткус Апуокаса прячет. Героиня Баукайте приходила ночью, мы разговаривали, я смотрел… Разговор якобы и закончился. Но при монтаже оказалось, что, когда Апуокас прячется, а я это слышу, он выходит… и далее не хватает одного кадра. Я должен был посмотреть, а не посмотрел. Жалакявичюс взял кадр из эпизода, снятого с Баукайте, и поставил обратный кадр. Получилось, что я смотрю на Томкуса. А потом режиссер сказал: «Но ты на Томкуса посмотрел с такой ненавистью». Значит, я играл органично. Если ты органичен, твой кадр может быть вмонтирован и в другое место, а будет казаться, что так сыграно. Это для меня было находкой.
Все лето в Зервинай прошло приятно и весело.
Кое-кто говорит, что это фильм про хозяина, земельного собственника. Его — Марцинкуса — сыграл Бабкаускас. Он не желает воевать, ему хочется обрабатывать землю. Поэтому у него даже руки забинтованы. Некоторые в нем разглядели символ литовского земледельца. Хотя Жалакявичюс просто пошутил — Марцинкус столько бил, что даже руки отбил. Мне понравилась идея режиссера, что всем приходится пройти мимо литовской деревянной скульптуры Бога, который смотрит на людей — людей, которые мучаются, не желая умирать.
Для Адомайтиса этот фильм стал одним из первых. Бруно Оя не был хорошим актером, его Жалакявичюс взял лишь из-за внешних данных. С ним режиссеру приходилось много работать, к тому же литовский язык был для него чужим. И русский тоже, но он играл на русском, поскольку выбора не было. По сценарию его персонаж должен был быть главным. Но так случилось, что главным стал Вайткус. По первоначальному сценарию Вайткус погибал раньше, но в процессе съемок Жалакявичюс изменил сценарий, и Вайткусу суждено было прожить более длинную жизнь и умереть лишь в конце фильма.
Наконец фильм был завершен и представлен на суд зрителей и критики. В первой статье, помню, говорилось, что фильм хороший, досадно лишь, что Банионис играл Вайткуса. Тут должен был быть другой актер. Это написал рецензент — мой знакомый, друг, и я поверил, что он прав. Ну что же, еще одна неудача, тем более что это официальное мнение.
А тут наступила весна 1966 года. И в мае в Киеве проходил Всесоюзный кинофестиваль. Фильм «Никто не хотел умирать» и был представлен на этом кинофоруме. Наш театр в те дни гастролировал в Вильнюсе. Закончился спектакль, и я шел по улице, а навстречу мне знакомый. «Донатас, я тебя поздравляю. Ты на фестивале получаешь приз за лучшую мужскую роль», — сообщил он. Я не поверил, только подумал: «Мне и так больно, а ты издеваешься». Но на следующий день прочитал в газете — оказывается, правда. И после этого как грибы после дождя появились рецензии совсем иного рода: «С драматической точки зрения очень интересна одна из центральных фигур в фильме — образ Вайткуса, который талантливо создал актер Д. Банионис», Вайткус — «это, пожалуй, самый сложный и самый драматичный образ в фильме»…
Потом, в июле 1966 года, Жалакявичюс с женой, Баукайте и я ехали в Карловы Вары на XV Международный кинофестиваль. В то время там отдыхал и подлечивался Юрий Гагарин. Он присутствовал на просмотре нашего фильма. Мы — Жалакявичюс, Баукайте и я — были ему представлены. На фестивале была конкуренция. Моим «соперником» оказался сам Жан Поль Бельмондо, а в жюри был Серго Закариадзе. Фестиваль подходил к концу, вечерком я погулял, вернулся в гостиницу и встретил его у лифта. «Поздравляю, сегодня мы решили первую награду за лучшую мужскую роль присвоить тебе, — сказал он мне. — Конечно, если за ночь ничего не изменится». Ночка для меня, понятно, была неспокойной. На следующий день мне сообщили, что меня вызовут на сцену и я получу приз. Я был готов, но сердце билось сильно: ведь это был мой первый кинофестиваль. Позднее я уже сам был членом жюри фестивалей в Карловых Варах и в Триесте (Италия). Но это было позже. А тогда… первый международный фестиваль — и сразу такая награда!
Казалось бы, то была общая наша победа — победа литовского кино. Но Жалакявичюсу казалось иначе. Видели бы вы, как он обиделся, что я получил приз, а он — нет. На следующий день представители посольства СССР организовали для меня «прием» — в гостиничную комнату привезли с собой закуску, выпивку, и мы отпраздновали мою победу. Я пошел звать Жалакявичюса, но он не открыл мне дверь. Однако я был настойчив, стучал еще и еще раз. Наконец дверь открылась, и режиссер сердито спросил:
— Чего ты сюда лезешь? Чего тебе надо?
— Пришел пригласить к нам, — сказал я.
— Что! Мне идти с вами водку пить?! — ответил он и закрыл дверь.
Ему было важно не то, что его произведению был присужден приз, что награжден актер, игравший в его фильме. Главное, что приз получил не он! Это ему не нравилось, и он этого не скрывал.
Жалакявичюс был личностью. Мне кажется, что единственным авторитетом для него всегда оставался Мильтинис. Я, конечно, для него авторитетом не являлся. Он считал себя выше актеров. Актеры для него были материалом, из которого он творил свои фильмы, но только не друзьями. У него вообще было мало друзей. Он дружил с художником Витаутасом Калинаускасом и, может быть, еще с кем-то. Характер у него был жесткий, бескомпромиссный. В общении с людьми он всегда доминировал, как и Мильтинис. У Жалакявичюса было что-то общее и с Тарковским. Они оба доминировали на съемочной площадке. Мильтинис нас, актеров, приучил никогда не перечить ему. И я не перечил, иначе бы была катастрофа. Я не перечил ни Жалакявичюсу, ни Тарковскому. Считаю, что ссора с режиссером ни к чему хорошему не приведет. Поэтому лучшие работы всегда были те, создавая которые актер и режиссер становились единомышленниками. Так было, например, с Саввой Кулишем, когда мы снимали «Мертвый сезон».
Жалакявичюс родился в 1930 году, в 1956 году закончил ВГИК. Его дипломной работой был короткометражный фильм «Утопленник». Потом он вернулся в Литву. «Адам хочет быть человеком» его первая самостоятельная работа. «Адам» стал и первым советским по-настоящему литовским фильмом. Картины, вышедшие до него, можно лишь условно назвать литовскими — их ставили не литовцы, хотя и в Литве. Это были схематичные, идеологические ленты, созданные по советским канонам. Мне они были чужды, я, честно говоря, не очень-то и смотрел их. «Адама» Жалакявичюс снимал по роману В. Сириоз-Гира «Буэнос-Айрес». Жалакявичюс считал себя не просто интерпретатором, а творцом. И из-за этого даже поссорился с автором романа. Он собрал группу литовцев — и актеров, и оператора Йонаса Грицюса — тоже выпускника ВГИКа. Как Адам, посыльный, хотел стать другим человеком, похожим на моего героя Даусу, так и Жалакявичюс тоже хотел стать значительным человеком. И стал им, ведь он был талантлив.
В 1967 году за фильм «Никто не хотел умирать» мы получили Государственную премию СССР. В Москву поехали: Жалакявичюс с женой, я с женой, Грицюс с женой. Бруно Оя, который уже жил в Польше, тоже приехал с женой. Первый раз тогдашний министр культуры СССР Екатерина Фурцева пригласила лауреатов на церемонию вручения премии и на банкет с женами. Впервые мы ели блины с икрой. Я смотрел на икру и думал, что это варенье. Попробовал — икра! (У нас блины обычно едят с вареньем или со сметаной.) Было приятно — мы тогда хорошо отпраздновали свою победу.
«Мертвый сезон»
Однажды по телевизору я увидел интервью с бывшей учительницей президента Владимира Путина. Она рассказывала о том, как ученик Володя Путин, посмотрев фильм «Мертвый сезон», захотел стать разведчиком. Для меня это тогда была интересная новость.
Через годы, в 2001 году, меня включили в официальную делегацию Литовской республики, ехавшую в Россию. 29–31 марта состоялся официальный визит президента Литовской Республики Валдаса Адамкуса в Москву. Президент В. Адамкус и я тогда жили в шикарных номерах на территории Кремля. 30 марта официальная делегация Литвы была представлена президенту России В. Путину. Он знакомился с членами нашей делегации, а подойдя ко мне, остановился, и между нами завязалась короткая беседа. Я сказал, что знаю о том, что помогло ему выбрать профессию. Наш разговор с президентом был не по протоколу, и это всех удивило. Мне же было приятно, что Путин узнал меня.
А в том далеком 1967 году я ехал в Ленинград, не очень надеясь на удачу. Уверенности в том, что меня возьмут сниматься в «Мертвом сезоне», было не более чем на десять процентов, во всяком случае, мне так казалось. Это был не эпизод, как, к примеру, в фильме «Берегись автомобиля», а роль, к тому же главная. Сценарий первоначально был написан В. Владимировым (Вайнштоком) и А. Шлепяновым по шаблону, на основе мемуаров советского разведчика, работавшего на Западе под именем Гордон Лонсдейл, но тогда я этого не знал. Честно говоря, сценарий мне не особенно понравился. Центральный герой, на роль которого я и ехал пробоваться, выглядел этаким суперменом. Ну скажите, пожалуйста, какой из меня супермен? Смех, да и только! Это не моя роль! Но, с другой стороны, почему же не попытать счастья? Тем более съездить в Ленинград, и не за свой счет… А там, если повезет, купить запчасти для «Москвича»!.. И вернуться… Помню, что на пробах я старался соответствовать тому стереотипу, который был принят в исполнении ролей советских разведчиков. Это не приносило удовлетворения. Я просто делал то, что требовалось.
На второй или третий день проб должны были снимать сцену разговора Ладейникова с Савушкиным. Читатель, безусловно, помнит, что в фильме роль Савушкина играл Ролан Быков, но в тот день снимали кого-то другого. Сначала пробовали Савушкина, а моей задачей было «подавать» реплики за кадром. Таким образом, у меня не было необходимости представлять какого-то особого, героического разведчика, и я, пытаясь представить, как бы я себя чувствовал в подобной ситуации, позволил себе произносить текст так, словно все это случилось со мной. И мне понравилось, стало интересно. Я почувствовал влияние школы Мильтиниса, учившей быть человеком! Не каким-то заданным характером, а человеком. Я произносил текст так, как мне казалось нужным, а про себя думал: «Они же все равно сейчас не меня снимают, поэтому я могу наслаждаться!» И вдруг услышал, как режиссер Савва Кулиш негромко сказал оператору: «А ну-ка, поверни камеру на Баниониса…» Признаюсь, мне стало приятно. Камеру повернули и оставшуюся часть диалога снимали меня, а не партнера.
Очень скоро я почувствовал какую-то общность с Кулишом во взглядах на актера, на его работу. Мне импонировало умение режиссера выигрышно показать лицо исполнителя, его глаза. Для меня всегда наиболее значима была выразительность актерских глаз, передающих внутреннюю человеческую сущность. Однако то, что Кулишу понравилось, как я играю не разведчика-супермена, а разведчика-человека, отнюдь не означало, что меня утвердят на роль. Ну так что же… Зато у меня появилась возможность побывать на «Ленфильме», попробовать свои силы… Пробы закончились… Я еще заскочил в Гостиный двор за сувенирами для родных и друзей, после чего… уехал в Паневежис и, честно говоря, не очень надеялся на то, что буду утвержден на роль Ладейникова. Но потом мне позвонили и сказали, что я утвержден. А еще позже я узнал, что за мою кандидатуру режиссеру пришлось попросту «воевать». О других претендентах я не знал. Так уж было принято, что актер не старался узнать, кто еще, кроме него, пробуется на данную роль, — это просто вопрос этики…
Я не знал, что мы будем снимать и как. Начали с конца фильма — с эпизода обмена моего героя — советского разведчика — на иностранного. Снимали на шоссе около Москвы. Меня в фильме «меняли» на другого нашего литовского актера — Лаймонаса Норейку. Сказали, что приедет консультант, тот человек, который написал книгу, и прототип героя, которого я играю. Книга была сочинена на русском языке, но издали ее сначала на английском, а потом — на польском. Вышла она и на финском. У меня есть польский экземпляр, названный «Наивысшая ставка». На русском она так и не была опубликована… Так вот, консультант, автор книги и «оригинал» моего героя, должен был присутствовать при съемке уже упомянутой сцены обмена. Произнесли его фамилию: Константин Панфилов. Конечно же, это был псевдоним. На самом деле его звали Конон Молодый…
Личность полковника Конона Молодого окутана тайной. Известно то, что он родился в Москве, где закончил десятый класс средней школы перед самым началом Великой Отечественной войны. Прошел по ее фронтам, от начала до конца. Потом поступил в Московский институт внешней торговли и после получения диплома с отличием, в 1951 году, вдруг исчез. Исчез до марта 1961 года, когда окружной суд Лондона приговорил советского разведчика Конона Молодого, которого в Великобритании знали как бизнесмена Гордона Лонсдейла, к двадцати пяти годам тюремного заключения за шпионаж.
Не могу утверждать, что то, что я узнал из рассказов самого Конона, — стопроцентная правда. Но попробую пересказать, что мне известно из разных источников: из рассказов режиссера фильма Саввы Кулиша, писателя Юлиана Семенова, который много знал об этой истории, из книги Конона Молодого, изданной в Польше под псевдонимом Гордон Лонсдейл в 1967 году (Lonsdale Gordon. Najwyžsza stawka. Katowice, 1967), и, может быть, самое интересное — это то, что я прочитал в книге «Мертвый сезон — конец легенды», написанной Леонидом Колосовым и сыном Конона — Трофимом Молодым.
Конон Трофимович Молодый родился 17 января 1922 года, умер 10 октября 1970-го. Его отец — Трофим Кононович Молодый в детстве жил на Камчатке. Когда ему было десять лет, семья переехала в Хабаровск. В 1908 году он приехал в Санкт-Петербург, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Закончив его в 1913 году, был учителем в разных школах, а в 1919 году начал преподавать физику в Первом Московском университете и проработал там до самой смерти. В первые революционные годы Трофим Кононович принимал участие и в общественной жизни. Благодаря его стараниям был начат выпуск «Журнала прикладной физики». Мать, Евдокия Константиновна Наумова, родилась в Хабаровске, в купеческой семье. В 1909 году уехала в Москву, где закончила Медицинский институт и получила диплом врача-хирурга. Со своим мужем она познакомилась в Хабаровске в 1906 году. Поженились они в 1917 году. У них родилась дочь Наташа и сын Конон. В 1929 году Трофим Кононович скончался от инсульта, и Евдокия Константиновна осталась вдовой с двумя детьми. Жили они очень бедно.
В 1931 году в Москву на несколько дней приехала старшая сестра Евдокии Анастасия. Она еще до революции уехала из Хабаровска в Китай, а оттуда в Калифорнию. А еще одна сестра, Серафима Константиновна, жила в Эстонии, в Тарту. Анастасия предложила забрать Наташу и Конона в Калифорнию. Наташа отказалась, а Конон согласился. Тогда каким-то образом сделали метрики, подтверждающие, что Конон внебрачный сын Серафимы Константиновны, младшей сестры Евдокии, жившей в Эстонии. Договорились, что тетя Серафима возьмет Конона к себе в Эстонию. Так Конон появился в Тарту у своей «любимой мамы», ходил в школу, где преподавали на русском языке. В 1932 году удалось получить визу США, и тетя Анастасия забрала его в Калифорнию, где он прожил шесть лет, обучаясь в американской школе. Однако Конону захотелось вернуться к настоящей маме в Москву. В то время из Парижа в Калифорнию приехала еще одна тетя — Таня, которая решила забрать Конона в Париж. Но тут вмешались советские дипломаты, как-то узнавшие об этом, и вместе с дипкурьером привезли Конона в Москву.
Московский институт внешней торговли Конон окончил в 1951 году. Но к тому времени он уже оказался в кадрах Первого главного управления КГБ СССР. После окончания института Конон вдруг исчез. Как будто уехал на работу куда-то на Восток. Но на самом деле он отправился в Нью-Йорк. Там встретился с Рудольфом Абелем (который в это время жил в США под своим именем Фишер Вильям Генрихович) и сделался его помощником. Он стал рядовым коммивояжером, и это способствовало ведению разведывательной работы.
Конон женился в 1955 году, уже будучи разведчиком, находясь в нелегальном отпуске в Москве. Супругой его стала Галина Петровна Панфилова. Сразу после свадьбы Конон как будто опять «срочно уехал на работу в Китай». На самом же деле на этот раз он уехал в Англию. Изредка туда приходили письма от жены. А своего годовалого сына Трофима Конон впервые увидел в апреле 1959 года, когда нелегально приехал в «отпуск» в Москву.
Будучи помощником Абеля по связи, большую часть времени Конон проводил в Нью-Йорке. Летом 1954 года было принято решение направить Конона на самостоятельную работу в Англию. Ему следовало получить канадское гражданство, и был разработан план получения этого гражданства на имя Гордона Арнольда Лонсдейла. Особое значение придавалось деятельности секретного объекта по изучению ядерных методов ведения войны в небольшом местечке Портоне, в Англии. Там разрабатывалось несколько новых видов атомного оружия.
В ноябре 1954 года Конон расстался с Рудольфом Абелем и поехал в Канаду. А из Канады в июне 1955 года через Нью-Йорк отправился в Англию и вступил в «Королевскую заморскую лигу», став членом весьма солидной и полезной для него организации. Кстати, Конон говорил, что в фильме «Мертвый сезон» все вранье, кроме двух моментов. «Первое то, что Донатас Банионис действительно похож на меня, и второе — это то, что герой картины торговал игральными автоматами, а все остальное вымысел», — утверждал он.
Рудольфа Абеля арестовали в 1957 году. Конон однажды сказал: «Абель мой давний друг и первый начальник в „нелегалке“, которому я обязан „продвижением“ в Англию… К тому же мало кто знает, что Рудольф Иванович был великолепным художником. Он не авантюрист, а без этого разведчиком быть трудновато…» Настоящая фамилия Абеля — Фишер Вильям Генрихович. А Рудольф Иванович Абель когда-то жил и умер в России.
Фишер Вильям Генрихович родился 11 июля 1903 года в Англии в семье русских политэмигрантов. Его отец — уроженец Ярославской губернии. В 1901 году супруги Фишер за революционную деятельность были выдворены из России в Англию. Однако в 1920 году они вернулись в Москву со взрослым сыном Вилли. В иностранный отдел ОГПУ Вилли поступил в 1927-м. В ноябре 1948 года Фишер (псевдоним Марк) выехал в командировку в США и там «проработал» четырнадцать лет. В 1952-м в помощь Марку был направлен Рейно Хайханен (псевдоним Вик), ставший предателем. Вик выдал Марка, в 1957-м Марка арестовали, и тогда он выдал себя за покойного Рудольфа Абеля. Марка (Абеля) не оставили в беде. 10 февраля 1962 года на мосту Глинике, через который проходила граница между Западным Берлином и ГДР, был произведен обмен Абеля на осужденного в СССР американского летчика Ф. Пауэрса. Но Фишер после «освобождения от работы в органах» довольно долгое время провел в тюрьме на Лубянке.
А в одном из интервью на вопрос о совместной работе с Кононом Молодым Абель, улыбаясь, ответил: «Посмотрите, мой дорогой, еще раз фильм „Мертвый сезон“. Там все рассказано, что можно рассказать. А что нельзя, то когда-нибудь доскажет мой друг Конон. Во всяком случае, от меня он уплыл в Англию для прохождения уже самостоятельного курса своих „университетов“…»
Конон, то есть Гордон Лонсдейл, был в Англии бизнесменом, продававшим игральные аппараты. Самый удачный и самый трагический период «двойной» жизни Конона пришелся на Англию. Там он добился немалых успехов в нелегальной разведывательной работе. Летом 1954 года к Конону прибыли два опытных помощника — супруги Коэн (или Крогер), которые раньше работали с Абелем. Морис Коэн родился в 1910 году в Нью-Йорке в семье выходцев из России. В составе интернациональной бригады участвовал в борьбе против испанских фашистов в 1937–1938 годах. В 1938-м он был привлечен к секретному сотрудничеству с разведкой. В ноябре того же года по заданию Центра М. Коэн был направлен в США в качестве агента-связника. В 1941-м Морис женился на Леонтине Терезе Петке, родители которой переселились в США из Польши.
В 1945 году им была восстановлена связь с советской резидентурой. А в 1949-м супруги Коэн были переданы для связи разведчику-нелегалу В. Фишеру (Рудольфу Абелю), в 1950-м направлены в Россию, а в 1954 году было решено послать их в Англию в качестве агентов, связников разведчика К. Молодого. В Великобританию они прибыли с паспортами на имена супругов Питера и Хелен Крогер, граждан Новой Зеландии. Они приобрели дом рядом с базой ВВС Нортхолт, где оборудовали квартиру для радиосвязи с Москвой. Особый интерес Центр проявлял к группе бывших нацистских ученых, нашедших в Портоне надежное убежище. Там же, в Портоне — небольшом поселке в районе Солсбери, изучалась так называемая аэробиология.
Благодаря успешной работе Крогеров у Лонсдейла (К. Молодого) вскоре появились подробные досье на многих сотрудников Портона. Так, в частности, досье одного из немецких специалистов свидетельствовало о том, что во время войны он производил опыты над заключенными в немецких концентрационных лагерях.
Лонсдейлу вместе с Крогерами удалось определить основные направления развития английской промышленности в области ядерной энергии.
Один из агентов Лонсдейла — Гарри Хаутон — работал в Центре по испытанию оружия для обнаружения подводных лодок. Лонсдейлу было сказано, что Хаутон имеет широкие связи в Портоне. Судя по информации, полученной из Москвы, в начале 50-х годов он работал в аппарате военно-морского атташе английского посольства в Варшаве и имел контакты с польской резидентурой. Согласно имевшимся данным, там он занимался махинациями на черном рынке и беспробудно пьянствовал, за что и был отправлен обратно в Англию. Можно предположить, что он нуждался в деньгах. Конону стало ясно, что Хаутон, любивший выпить, успел растранжирить деньги, заработанные в Польше. Конону нужно было сначала установить хорошие деловые отношения с Хаутоном, который продал ему несколько морских карт. Вполне возможно, что ему уже и раньше приходилось торговать этим «товаром». Прошло некоторое время, и Хаутон сказал Конону, что он может достать весьма важные документы через свою очень близкую приятельницу Элизабет Джи, которая имела доступ практически ко всем секретным документам. Конон (Лонсдейл) представился офицером американского военно-морского флота.
Лонсдейл наладил связь с продавцами музыкальных автоматов и сам стал заниматься этим бизнесом. Но из Москвы все шли новые и новые задания, которые создавали новые и новые проблемы…
В конце 1960 года Конону Молодому показалось, что он попал в поле зрения контрразведки: в его портфеле кто-то рылся. Обыску подверглась и квартира, для чего была инсценирована кража. Конон сообщил об этом в Центр. Центр дал указание немедленно приступить к свертыванию работы. В те тревожные дни Лонсдейл работал как никогда напряженно. Последняя операция, которую предстояло провести, встреча с Хаутоном, была назначена на 7 января 1961 года. Во время этой встречи Лонсдейла и арестовали. В ту же секунду подъехал полицейский автомобиль, и на Лонсдейла надели наручники. На допросах Хаутон и Джи рассказали все, что могли, а Лонсдейл, конечно, молчал.
Итак, 7 февраля 1961 года началось предварительное слушание дела. Но, не имея никаких доказательств о разведывательной деятельности (за исключением тех материалов, которые были захвачены в момент ареста), троицу пришлось обвинить не в шпионаже, а в тайном сговоре, влекущем за собой нарушение закона о государственной тайне. Пресса подняла невероятную шумиху. Оказалось, что Лонсдейлу одна из газет была готова заплатить две с половиной тысячи фунтов за одно лишь «право первой руки», если он все-таки решит в будущем писать мемуары. И Лонсдейл решил воспользоваться предложением газеты. На суде все трое обвиняемых были признаны виновными в тайном сговоре с целью нарушить закон о государственной тайне. Лонсдейл был приговорен к двадцати пяти годам тюремного заключения.
В 1963 году в Англии снимали картину о Гордоне Лонсдейле. Она называлась «Сеть шпионов». Лонсдейла играл канадский актер. В основе
фильма была та же история, что и в нашем. В Англии формально для выпуска фильма о реально существующем человеке требуется его разрешение. В своем письме в адрес студии Конон Молодый решительно протестовал, чтобы кто-нибудь изображал его в фильме. Однако в 1964 году картина все же вышла, но получилась скучной и неудачной.
В начале 1962 года Конон прочитал в газетах сообщение, которое сыграло определяющую роль в его дальнейшей судьбе. Это была небольшая заметка об аресте по обвинению в шпионаже Гревилла Винна, который под видом коммерсанта ездил в СССР и занимался шпионажем. В конце 1963-го жена Конона Молодого, Галина, сообщила ему, что направила советскому правительству просьбу об обмене Гревилла Винна на Конона Молодого. 9 апреля 1964-го Конону Молодому стало ясно, что английское правительство приняло решение об обмене!
А теперь несколько слов о том, как был раскрыт Конон Молодый. Итак, в 1961 году из тогдашней Польской Народной Республики в США сбежал оперативный сотрудник польской разведки Михаил Голеневский. Среди агентурных связей Голеневского, которые он выдал ЦРУ, числился английский офицер Гарри Хаутон, который работал в службе безопасности посольства Великобритании в Варшаве и «зашибал деньгу» на продаже полякам известных ему секретов. Он вернулся в Англию и был завербован Лонсдейлом. Американские разведчики тем временем сообщили британским коллегам ориентировку на Хаутона. Британская разведка, со своей стороны, зафиксировала тайные встречи Хаутона с Лонсдейлом. Таким образом и был раскрыт Лонсдейл (Конон Молодый). Лонсдейл был возмущен тем, что Центр связан с агентом, работавшим в странах восточного блока под дипломатическим прикрытием. Это являлось нарушением элементарных правил конспирации, запрещавших нелегалу-резиденту вступать в прямой контакт с лицами, которые в силу длительного пребывания в странах Варшавского договора автоматически находились в сфере постоянного наблюдения контрразведки своей страны.
А перед той съемкой я все оглядывался, всех разглядывал. Мне было безумно любопытно, каков он — знаменитый разведчик… Но я не видел никого, кто в моем представлении мог бы соответствовать данному образу. В конце концов я спросил у Саввы: «Где же он? Его что, нет?» На что Кулиш ответил: «Да вот же он». Гляжу, стоит человечек, совсем не похожий на настоящего разведчика. Ведь мы в кино привыкли, что советский разведчик виден сразу, издали — молодой, красивый, высокий, стройный… Одним словом, Штирлиц. А этот не высокий, не молодой, не красивый, не стройный. Почти моего роста… В общем, не совпадало все это со стереотипом… Однако передо мной был человек, настоящий человек, многое переживший. Он все это время был засекречен, в том числе и во время съемок фильма, когда жил в гостинице. Никто не мог к нему попасть — такие были порядки. Молодый приезжал на съемочную площадку, и мы разговаривали. Он и сам, бывало, смеялся: «О нас сочиняют легенды, а мы ведь люди — хорошо обученные, получаем хорошую зарплату и работаем».
Конон Молодый был консультантом фильма. Иногда ошибочно говорят, что консультантом фильма был Абель. Это не так. Он сделал лишь предисловие к фильму. Я его видел один раз, когда он приезжал на съемки. А знакомы мы с ним не были. Абель был лысый, поэтому на него в фильме надели парик.
В фильме мы старались в первую очередь показать разведчика человеком. Поначалу Кулиш даже думал, что мой герой должен влюбиться. Но потом он от этой мысли отказался: это могло сослужить плохую службу разведчикам того времени, так как их жены оставались в СССР в качестве «заложниц». Как я уже говорил, сценарий был схематичный. И мы по ходу действия стали его переделывать до тех пор, пока и вовсе не переработали. Бывало, мы с Кулишем сидели в гостинице после дня съемок, правили сценарий, решали, что завтра будем снимать. Сценаристы были недовольны. Мол, они создавали героя, а мы сделали из него человека, способного по-человечески общаться, показали, как ему трудно работать, как от должен беречь себя от опасностей, а героизма-то якобы и нет. Но это было точно так, как рассказывал мне Конон Молодый. Я чувствовал, что человек — он и есть человек и все эти попытки сделать из человека супергероя совсем ни к чему. Это было близко той школе, которую я прошел у Мильтиниса — через сложные решения, через философию мы искали человеческий конфликт, человеческие страсти… Но не внешние. Внешнюю сторону постановки мы понимали следующим образом: нужно дать освещение — даем освещение, нужно музыку — будет вам музыка. А главное — это ты, и лишь фоном то, что помогает тебе в раскрытии образа. Но это должен быть не символ, не метафора, как часто бывает в современном театре. В таком случае ты как актер и вовсе не нужен. И сегодня мы в театре иногда видим, как на главную роль в спектакле режиссер приглашает не актера, а и вовсе человека со стороны. Так у нас было с «Гамлетом» в постановке Эймунтаса Някрошюса.
Оттого мне и не хочется работать в «современном» театре. Да меня не очень-то и приглашают. Просто я вижу, что делает тот или другой режиссер. Мне хочется создавать психологический образ, а не сидеть, лежать или висеть на сцене, в то время как дым, снег или дождь за меня все сделают. Создание метафор? Нет, это для меня неприемлемо. Я на сцене всегда показывал личности, а метафорами личность не создашь, скорее ее «потушишь». Да и на зрителя больше действует темпераментная игра актера, его творческая сила и та мысль, которая заложена в тексте произведения и которую артист доносит до зрителя, а не создание знаковой системы. Сегодня часто ставятся спектакли, которые можно назвать не актерскими, а исключительно режиссерскими. Там по большему счету и актеру делать нечего. Обычно нужна лишь фамилия актера. Меня пару раз в такие постановки приглашали.
Случается подобное и в других странах. Такой исполнитель играет лишь роль статиста, — а большего ведь от него никто и не требует. Все на сцене достигается с помощью эффектов. Но это, видимо, дань моде…
Вернемся, однако, к фильму. Я, играя одну, вторую, третью сцену, чувствовал: надо показывать то, что человек жутко не везет. Только долг перед родиной надо выполнить. Тяжелая у него жизнь, постоянно преследуют несчастья: то мой герой в аварию попадает, то его арестовывают. К тому же он прекрасно знает, что и после того, как его обменяют, у него будут огромные трудности. Так в жизни случилось с Кононом. Он мне рассказывал, что после обмена ему пришлось быть в изоляции, пока в КГБ выясняли, виновен ли он в чем-нибудь или «чист». Разведчика допрашивали, а если бы вдруг заподозрили, что его перевербовали, то могли и уничтожить. Поэтому в последней сцене, когда мой герой едет на машине, и Кулишу и мне хотелось показать, что едет он в неизвестное для него будущее. И когда прилетает на самолете, никто ему «Ура!» не кричит, он ведь не спортсмен, победа которого приносит славу его родине. Вот это мы и пытались передать.
Позволю себе процитировать отрывок из упомянутой книги Гордона Лонсдейла (Конона Молодого). Напомню лишь, что процедура обмена состоялась 24 апреля 1964 года в пять часов тридцать минут на немецкой земле. Прошу, уважаемый читатель, обратите внимание, как точно в фильме была снята эта сцена.
«Ровно в пять часов утра приехал черный „мерседес“. Представитель английских спецслужб ждал нас, сидя около водителя. Светало. В воздухе висел туман. В окнах домов зажигались огни. Ехали медленно — пятьдесят километров в час, хотя на улицах не было движения. Лишь один автомобиль то обгонял нас, то опять останавливался на обочине, пропуская нас вперед.
Каждый раз из автомобиля выскакивал тип и фотографировал меня и охрану.
Сперва я думал, что это фоторепортер, который вынюхал, где будут меня обменивать. Но мог это быть и западногерманский тайный агент, который демонстративно наблюдал за деятельностью своих английских опекунов. Как позже оказалось, это не был ни один, ни другой.
Наконец въехали на шоссе, ведущее в Гамбург.
— Такая пустота на дороге, ни одной живой души, — удивился водитель.
Я улыбнулся про себя — конечно, задержали движение с обеих сторон на время операции.
Очень скоро вдали стал виден западноберлинский пограничный контрольный пункт. Около него стояло несколько фоторепортеров. Другой „эшелон“ поставлен на всякий случай. Первый — асы пера и объектива — был выведен в поле и дежурил в американском секторе, на мосту — там, где обменивался полковник Абель на Пауэрса. Когда я увидел фоторепортеров, успел отвернуться. В то утро пресса не добыла моей фотографии. Хотя бы так я дал им „прикурить“ за все выдумки, которые они обо мне печатали.
Мы пересекли западноберлинский контрольный пункт и въехали, не задерживаясь, в нейтральную зону.
Было пять часов двадцать пять минут.
Наш автомобиль прибыл на пять минут раньше условленного времени. Надо было ждать. Я считал каждую из трехсот секунд этого ожидания.
За тридцать секунд до установленного времени поднялся шлагбаум на границе Германской Демократической Республики. Оттуда выехал автомобиль. Поехал быстро и остановился на левой стороне шоссе, передом к шлагбауму.
Как я узнал позже, с англичанами была договоренность считать середину шоссе за условную границу. „Нарисовали“ там даже белую линию, длина которой была несколько метров.
Из того автомобиля вышел человек. Я узнал его сразу — это был мой старинный приятель и коллега, с которым мы вместе работали во время войны. Мы улыбнулись друг другу издали.
Я опять посмотрел на дорогу. Тип с аппаратом, который фотографировал нас во время езды, появился снова. Балетным шагом он приближался к автомобилю с Винном. Был одет в характерный для западных сыщиков белый плащ; не хватало ему лишь темных очков. Осмотрел Винна, все еще сидящего в автомобиле, и вернулся на английскую сторону дороги. Я ошибался, считая его фоторепортером или западногерманским сыщиком — это был работник разведки, ответственный за всю операцию.
Теперь из автомобиля с противоположной стороны вышло четыре человека. Среди них также Винн. Два человека, стоящие с обеих сторон, немного его поддерживали. Казалось, что, если бы отпустили, он упал бы на шоссе.
— Боюсь, — сказал я старшему охраннику, — что этот англичанин отбросит копыта, пока дойдет до обмена.
Участники обмена встали лицом к лицу вдоль серой линии шоссе.
— Обмен! — скомандовал по-русски советский консул.
— Exchange.
Не знаю даже, когда я оказался в нашем автомобиле, в объятиях моих друзей. Автомобиль сразу поехал в сторону территории Германской Демократической Республики».
Для меня это был второй раз (первый — в фильме «Никто не хотел умирать»), когда благодаря режиссеру — в данном случае Кулишу — я почувствовал, что делаю то, что мне приятно делать, независимо от того, нравится ли это властям или нет. Фильм снимался в ГДР, в Эстонии, недалеко от Таллина, небольшая часть — в Вильнюсе. Были также использованы документальные кадры, снятые в Великобритании. И конечно, в павильоне. Таким образом мы старались изобразить Запад.
Одним из моих партнеров оказался Ролан Быков, у которого опыт в кино был гораздо больше моего. Бывало, мы уже поставили кадр — а его все нет. На съемки он приезжал с сильным опозданием и начинал ставить кадр по-своему. Камера должна была быть повернута на него. И в кадре он должен был быть главным. И несмотря на то, что режиссер ему несколько раз говорил, что в данном эпизоде все иначе, Быкову это не нравилось. Просто такой характер, хотя актер он был прекрасный. Интересно было работать с артисткой Светланой Коркошко. И конечно, с режиссером Саввой Кулишом. Я благодарен судьбе, что она меня свела с этим прекрасным человеком и режиссером.
Посоветовавшись с Кулишом, я пригласил на съемки Мильтиниса, хорошо зная характер моего учителя. Ведь ревнуя, он мог сказать: «Ты отрекаешься от своих учителей! Ищешь других, получше!» Но Мильтинис не вмешивался в съемочный процесс. Точно так же я позднее приглашал его на съемки фильма «Гойя». Он смотрел материал, но советов не давал и точно так же ни во что не вмешивался. Зато всегда без проблем отпускал меня на съемки.
Когда мы сняли уже, наверное, половину картины, наступил перерыв в съемках. Я вернулся домой в Паневежис и стал ждать, когда меня опять вызовут для продолжения работы. Время шло, а меня не вызывали. Миновала неделя, вторая… И вот наконец раздался телефонный звонок: «Приезжай, уже все уладили». Я не понял, для чего в съемках был сделан такой большой перерыв и что уладили. Мне ответили: «Да там… декорации переделывать пришлось, потому все и затянулось…» Лишь позже, когда мы закончили фильм, мне рассказали, что съемки были остановлены для того, чтобы заменить режиссера, так как он снимал не такой фильм, какой ожидали. Особенно этим были недовольны сценаристы. Требовалось также снять и меня, как не соответствующего образу советского разведчика. Мне рассказывали, что и Кулиша, и меня отстояли режиссер Михаил Ромм и Конон Молодый. У Ромма Кулиш раньше работал, кажется, ассистентом. Ромм уверял, что все идет нормально и нужно дать возможность закончить фильм. Заступился за нас и Молодый. «Я ничего не понимаю в кинематографе, — сказал он. — Но я знаю жизнь. И это соответствует жизни». Оба они утверждали: «Банионис должен продолжать сниматься». Так было разрешено довести съемки до конца, хотя Киселев, директор киностудии «Ленфильм», сказал: «Я умываю руки. Вся ответственность ложится на вас. Если кто-то скажет, зачем выпускали такой фильм, прошу считать, что я к этой работе не имею никакого отношения, поскольку я с вами не согласен».
Мы продолжали работать и завершили фильм. На экране я должен был быть человеком, до конца не знавшим ни своей дальнейшей судьбы, ни будущего. Я старался, и, кажется, получилось. А своей судьбе я благодарен за то, что она дала мне возможность поработать с Саввой Кулишом. Когда закончились съемки, я ему прямо так и сказал: «Не знаю, каков будет результат, но работа над этим фильмом была очень приятной, и я вам очень благодарен за предоставленную возможность поработать с вами». А Кулиш ответил: «Я не знаю, как будет принят фильм. Скорее всего, он будет положен на полку. Ведь мы сделали фильм не о разведчике, а о человеке». К счастью, он был не прав. Фильм имел огромный успех в прокате тогда, не забыт он и сегодня. С кинофестиваля в Болгарии Кулиш привез мне приз. И В. Жалакявичюс оценил нашу работу. «Хороший фильм», — сказал он мне. Ну а если Жала (так мы, актеры, называли Жалакявичюса между собой) похвалил, то это было особенно приятно.
А когда через некоторое время после завершения фильма «Мертвый сезон», кажется в 1969 году, я был приглашен для работы на студии «ДЕФА», на «Ленфильме» был устроен прием по случаю начала новой совместной работы с немцами, и в частности с режиссером фильма «Гойя, или Тяжкий путь познания» Конрадом Вольфом, оператором и другими создателями будущей картины. Бокал поднял уже упомянутый директор «Ленфильма» Киселев и сказал: «Посмотрите на актера Донатаса Баниониса! А ведь были люди, которые хотели снять его со съемок „Мертвого сезона“. Но мы его отстояли!» Да… это по-человечески! Можно говорить так, а можно иначе. Как удобно! Сначала «руки умывал», а когда увидел, что фильм получился, тогда вдруг свои заслуги «вспомнил»!
Потом на разных мероприятиях меня представляли как знающего много секретов разведчика. Я же ничего не знал и знать не буду! Как-то я был приглашен на день рождения одного из генералов КГБ. Праздновали в узком кругу. Меня, видимо, пригласили как «своего» — разведчика Ладейникова. Я посмотрел на лица, и мне показалось, что эти люди в погонах строят из себя каких-то важных персон. А на Лубянке мне как-то показывали музей органов госбезопасности. Там, среди снимков сотрудников КГБ, висела и моя фотография, как исполнителя роли разведчика Конона Молодого в кино.
Савва Кулиш — прекрасный режиссер. С ним всегда было приятно встречаться. Мы виделись и незадолго до его кончины. Я был в Москве на III Всемирной театральной Олимпиаде. В помещении Театра им. Евг. Вахтангова смотрел спектакль «Полифония мира» Камы Гинкаса (кстати, мы с ним между собой разговариваем по-литовски, ведь он родом из Литвы). Там и встретил Кулиша. Мы пообщались и простились, договорившись, что приступим к новой работе — продолжению «Мертвого сезона». Отчасти обсудили и возможный сюжет. Действие должно было происходить через много лет. Мой персонаж разведчик Ладейников за прошедшие годы постарел, он сам и его опыт стали никому не нужны, поскольку времена поменялись. Его уволили из КГБ, и он стал безработным. Жил плохо. (К слову сказать, с Кононом Молодым почти так и получилось. Он стал никому не нужным и жил, конечно, не в нищете, но достаточно скромно.) Тем временем Савушкин стал «новым русским», сильно разбогател. И вот по улице едет лимузин, в котором сидит Савушкин, а как раз в то же время именно по этой улице идет Ладейников. И вот они, Савушкин и Ладейников, видят друг друга. Где же они встречались? Савушкин вспоминает первым. «Лучше с ним не встречаться, он сегодня никому не нужен, тем более бывший кагэбист… — опасается он. — А ну его!.. Такого рода знакомство может повредить карьере…» Ладейников же думает: «Надо бы с ним поговорить… Вдруг сможет мне помочь… У него есть деньги». Он узнает, где найти Савушкина, и идет к нему. Однако Савушкин и знать ничего не хочет. Так они и расстаются. Но теперь вдруг у Савушкина возникают большие неприятности: он занимался бизнесом с иностранцами и вляпался во что-то. Ему нужна помощь, и он вспоминает о Ладейникове: у этого наверняка сохранились давние связи… А что дальше? Ведь сценария еще не было… Так, только мысли кое-какие… Нужно было думать, решать… Не успели… Скончался Ролан Быков. Мне довелось побывать у него в конторе, на Чистых Прудах. Здание охранялось, и о моем приходе ему сообщили охранники. Он, видимо, жил богато. Ролан сидел за столом, в кабинете на втором этаже — такой маленький. Смешно, конечно, когда актер за столом сидит. Но так было. Только скончался Ролан, и я узнаю, что не стало и Саввы Кулиша… Продолжения «Мертвого сезона» не будет.
В 1970 году я на полгода ехал в США (об этой поездке, уважаемый читатель, я расскажу далее) и шел в посольство для получения визы. На Садовом кольце меня остановил парень и спросил: «Вы едете?» Я ответил: «Да». — «Несколько дней тому назад скоропостижно скончался Конон Молодый», — сообщил он. «Как это случилось?» — спросил я. «Он поехал в лес собирать грибы, — стал рассказывать парень. — Сел за руль — уже собирался возвращаться домой, но вдруг ему стало плохо, и он умер. Инфаркт». Парень закончил рассказ. Правда ли это? Не знаю. Меня только предупредили, чтобы в Америке я никому не рассказывал, как у Конона дела, жив ли он.
Самолет приземлился в Нью-Йорке. В аэропорту, в миграционном бюро, нужно было заполнить документы. Там сидел американец, говоривший по-русски. С ним я и общался. Он спрашивал меня, знаю ли я правила: если хочу выехать из Чикаго, куда я по приглашению приехал, должен получить разрешение. Я удивился: «Зачем нужно разрешение для выезда из Чикаго?» Он ответил: «Ведь если хочешь выехать из Москвы, тоже нужно разрешение. Шестьдесят километров вокруг Москвы, а дальше нельзя. В США для вас тоже такие же правила». (Забегая вперед, скажу, что для меня никаких препятствий никто в США не создавал.) Заканчивая разговор, сотрудник миграционной службы вдруг спросил: «Знаете ли вы, что умер тот, кто был прототипом вашего героя?» Я удивился. Удивился не самой новости, я ведь ее только недавно узнал в Москве. Меня предупредили, чтобы за океаном я никому об этом не говорил. И вот пожалуйста — в Америке уже все знают, в аэропорту рассказывают.
«Красная палатка»
В 1968 году меня пригласили сняться в картине «Красная палатка» — первом совместном советско-итальянском фильме, рассказывающем об экспедиции итальянского полярника Умберто Нобиле на Северный полюс в 1928 году. Еще в молодости я слышал об этом человеке — и знал о нем не из литературы. В Литве в годы моей молодости Умберто Нобиле — первый покоритель Северного полюса — был популярен.
«Итак, если судьбе будет угодно, мне посчастливится поработать в Италии и на Северном полюсе», — подумал я. Да и компания намечалась солидная: в роли Умберто Нобиле — Питер Финч, в роли Амундсена — Шон Коннери, знаменитый Джеймс Бонд. А также Массимо Джиротти, Харди Крюгер, Марио Адорф, Луиджи Ваннукки. Участвовала в съемках и Клаудия Кардинале, хотя мне с ней работать не пришлось, у нее были эпизоды главным образом с Эдуардом Марцевичем. Называли Клаудию — Клавой. Ходили слухи, что она, будучи недовольна тем, как наш оператор снимает ее лицо, привезла с собой своего оператора, который делал ее красивой. С нашей стороны были заняты кроме меня и Эдуарда Марцевича Юрий Соломин, Юрий Визбор, Никита Михалков, Борис Хмельницкий, Отар Коберидзе и Григорий Гай. Режиссером фильма был Михаил Калатозов, а продюсером итальянец Кристальди. Вы, уважаемый читатель, наверное, согласитесь, что предложение сняться в этой картине оказалось чрезвычайно заманчивым. В фильме есть две группы — итальянцы и русские, спасшие экспедицию У. Нобиле. Я должен был сыграть итальянца Марианно.
Сценарий показался мне интересным, и я поехал в Москву на пробы. Мне подобрали одежду, сшитую не по моему росту — она была слишком велика, — и выглядел я, честно говоря, неважно. К тому же костюм был очень неудобным и попросту мешал мне работать. Те короткие кадры, которые сняли, были не игровыми — снимали лишь внешний вид. Потом мне рассказывали, что эти пробы едва не загубили мою роль, так как смотрелся я нелепо. Но режиссер фильма Михаил Калатозов все же решил, что я смогу сыграть Марианно, и доверил мне эту роль.
Мне сообщили, что я утвержден. Для меня это было важным событием. Впервые поехать в Италию… Да еще в те годы… И жить там целый месяц… А к тому же побывать и на Северном полюсе… Ну, не на самом Северном, на четвертой параллели, но почти, почти… На том месте, где упал дирижабль: он долетел до Северного полюса, бросил флажок и повернул назад, но… поднялась буря, и его сбило. Тогда я еще не знал, какие знаменитости будут играть в картине. Первый актер, с которым я познакомился после того, как был утвержден, — Юрий Визбор.
Сначала мы поехали в Репино под Ленинградом. Зимой, среди льдов, снимали эпизоды после катастрофы. Соорудили красную палатку, как было в экспедиции у У. Нобиле, где также имелся и радиопередатчик. Работали вместе с иностранцами. Рассказывали, что на Северный полюс они, кроме Луиджи Ваннукки, не смогут поехать по той причине, что являются представителями государств, гражданам которых тогда воспрещалось ехать в зону Земли Франца-Иосифа, так как там находились советские военные базы. Поэтому и пришлось часть Северного полюса снимать в Репино. В эпизоде после катастрофы мы все разбросаны, но собираемся в одно место, и каждый по-своему переживает случившееся. Режиссер мне сказал, чтобы я сыграл истерику. Я начал безудержно хохотать, а актер Луиджи Ваннукки стал меня трясти, бить по лицу, кричать: «Очнись! Очнись!» И я от ударов пришел в себя. Потом мне говорили, что я сыграл очень естественно. В первый момент подумали, что у меня настоящая истерия. Рассказывали, что ассистенты всерьез испугались, не понимая, что с Банионисом делается.
Говорить нам пришлось по-английски. Я не слишком хорошо знал английский язык, но мой текст был несложный: «It’s very cold» и тому подобное. А иностранцы, разумеется, говорили по-английски свободно. Фильм в основном и был на русском и английском языках, а не на итальянском. Вне съемочной площадки нам не разрешали общаться с иностранцами. Мы, конечно, были этим недовольны, но особенно были недовольны они. И тогда разрешение было дано. Конечно, одних нас с иностранцами никто не оставлял, были люди, которые нас всегда и везде сопровождали, хорошо знали, где мы, с кем, что делаем и о чем разговариваем. Как-то раз мы все сидели и пили шампанское. Иностранцы привозили его из Ленинграда, где оно стоило всего несколько рублей. Для них это было дешево, поэтому мы шампанским часто баловались. Так вот: сидим мы как-то раз, пьем шампанское… И зашел разговор о женах, точнее, не о самих женах, а о том, сколько раз кто из нас был женат. Все стали хвастаться, что жен у них было несколько. К примеру, Питер Финч жил в то время с женой-негритянкой из Ямайки, которая и на съемках его сопровождала. Какой она у него была по счету — уже не помню, но точно не первой.
— Я с третьей женой живу, — говорил кто-то.
— А я — с пятой, — хвастался другой.
В общем, как сидели по кругу, так каждый по очереди и рассказывал. Я в этой очереди был то ли шестой, то ли седьмой. «Что же мне сказать? — подумал я. — У меня одна-единственная жена. Да и не разводился я с ней. Какой позор! А врать как-то не получается». Подошла моя очередь:
— Я, видите ли, живу с одной женой, — сказал я.
— Мы все не мусульмане. Все с одной женой живем! — рассмеялись они. — Мы не говорим, что у кого-то из нас несколько жен. Спрашиваем лишь, какая по счету?
— Первая, — отвечаю.
— Ты, наверное, вопрос не понял. Мы спрашиваем, которая у тебя жена теперь? — настаивают они.
— Первая, — не сдаюсь я.
Они посмотрели на меня с жалостью. А я тем временем подумал: «Какой позор! Что же поделаешь. Есть как есть».
Когда завершились съемки в Репино, мы уехали на Север. Кроме нас, граждан СССР, как я уже говорил, с нами был один итальянец — Луиджи Ваннукки и много помощников: альпинисты, водители автомобилей и вездеходов, охотник на медведей, летчики, подводники-аквалангисты, дирижаблестроители, радисты и люди других профессий. Приехав в Архангельск, мы пересели на огромный дизель-электроход «Обь». Был июнь или июль, а мы держали курс на север. Сначала за бортом плескалась вода, потом стали появляться льдины. Видели и тюленей. Наконец наша «Обь» доплыла до льдов и остановилась. Когда добрались до места назначения, среди торосов нам поставили декорацию — все ту же красную палатку. Выходили из «Оби», снимали какой-то эпизод и опять возвращались. Жили на корабле около месяца дружно, у нас была удалая компания. А так как считалось, что время от времени нам надо выпить, чтобы среди льдов не поехала крыша, «горючим» нас снабжали неплохо — была возможность на судне купить коньяк.
Температура за бортом — около нуля, вода холодная. Был полярный день. Тогда и спали, хотя было светло. Когда «наступает» ночь, узнавать приходилось лишь по часам. Вокруг нашего корабля частенько бродили белые медведи. Мы им бросали банки со сгущенкой, им наше угощение нравилось. Еще бы! Среди льдов такое лакомство! Но то была палка о двух концах. Съемки проходили на льду, а нам стало опасно спускаться с корабля — и все из-за медведей: они, видимо, к нам привыкли, и их не пугали ни выстрелы, ни ракеты. Однажды нам пришлось убегать от медведицы. Добежали до «Оби», а там нужно было подниматься по веревочной лестнице. Обычно все мы бывали вежливые — пропускали вперед друг друга, но в тот раз победил инстинкт самосохранения — мы карабкались по лестнице, желая скорее оказаться на борту. Охотник медведицу застрелил. Конечно, жалко ее было, но мы знали, что иначе сами могли погибнуть. А потом… кок из медвежатины сделал котлеты — зачем даром мясу пропадать.
Будучи на корабле, мы узнали, что советские войска введены в Чехословакию. Я был далеко от Литвы и знал ровно столько, сколько рассказывало о пражских событиях советское радио. Мне, литовцу, было неприятно. Я понимал, что и мои соотечественники, служащие в рядах Советской армии, против своей воли должны были принимать участие в акциях, направленных против народа, ничего плохого нам не сделавшего. А еще: ведь и Первая и Вторая мировые войны начались с событий в Чехословакии. Через месяц из Мурманска подошел ледокол «Сибиряков», который в нашем фильме «исполнил» роль ледокола «Красин», спасшего экспедицию У. Нобиле. На нем мы и вернулись в Архангельск.
А на следующий год, в апреле месяце, мы вылетели в Италию, в Рим. «Странное дело, — думал я, гуляя по Риму, — я ведь все здесь знаю: и Колизей, и фонтан Треви, и ступени Испанской лестницы… Откуда? Я просто где-то об этом читал!»
За время съемок мы, актеры, подружились. В Риме нас встретили красиво. Марио Адорф, помню, пригласил в ресторан. Мы ожидали увидеть что-нибудь шикарное, а попали в небольшой загородный домик. Как я потом узнал, именно такие уютные ресторанчики больше всего и ценятся. В тот вечер Марио Адорф привел двух женщин: одна из них была Брижит Бардо, а вторая — ее дублерша. Я, увидев дублершу, подумал, что это и есть знаменитая французская актриса. Она мне показалась ярче. Мы сидели, разговаривали, пили вино. Оказалось, что дублерша Брижит Бардо хорошо говорит по-немецки, так что я мог с ней поговорить без переводчика. Запомнились сказанные ею слова: «У нас только лишь через постель режиссера можно получить главную роль».
С нами было еще несколько итальянцев. Марио Адорф был главным организатором того вечера. Немецкий актер, с середины 60-х годов снимавшийся в Италии, у нас стал известным после фильма «Солдатские девки», в советском прокате вышедшего под названием «Они шли за солдатами». Жил он в Риме, где у него была квартира и — не знаю, которая по счету, — жена. Мне приходилось несколько раз бывать у него дома. Жил он, помнится, напротив Ватикана и рассказывал мне, что получил эту квартиру за взятку. Я же тогда подумал: «Смотри-ка, и у них квартиру в хорошем месте можно получить за взятку».
А вот наши шотландцы Шон Коннери и Питер Финч устраивали шотландские вечера. Как-то Питер Финч пригласил в ресторан, где для нас играл приглашенный из Шотландии известный волынщик. Питер говорил: «Я не англичанин. Я — шотландец». Мы вышли из ресторана ночью вместе с волынщиком, и по дороге — а мы шли пешком — он играл на волынке. Нас остановили полицейские, но когда увидели, кто мы такие, отпустили, лишь попросили не шуметь.
В Риме произошла и наша встреча с Умберто Нобиле. Ему в то время было восемьдесят пять лет. Мы тогда сфотографировались с ним вместе.
Как-то раз я подумал: «Раз меня судьба забросила в Рим, я обязательно должен пойти в Ватикан к Папе Римскому и получить благословение. Я ведь католик».
Жил я в гостинице, как ни парадоксально, на площади Литвы — Piazza Lituania — вместе с Эдуардом Марцевичем. Было воскресенье.
— Пойду в город. По магазинчикам пройдусь, — сказал я Эдику.
А сам купил план города и отправился пешком в Ватикан. Меня ошеломило то, что на площади перед базиликой Св. Петра было море паломников. Я знал, что Папа благословляет, кажется, в десять часов утра. К десяти я и пришел. Все люди, бывшие на площади, встали на колени, я тоже. И меня Папа Павел VI благословил. Потом я вернулся в гостиницу, сказав, что ходил по магазинам. Приходилось врать — если бы сказал правду, вряд ли когда-нибудь еще куда-то поехал. В те годы это было большим нарушением: чтобы советский человек да за благословением к священнику… А еще к злейшему врагу советской идеологии Папе Римскому… Хотя, с другой стороны, это был уже 1969 год, а не сталинские времена.
Когда я в 1966 году ехал в Югославию, друзья говорили: «Вот как тебе повезло!» А теперь я в Италии! Конечно, поодиночке мы почти не ходили — только все вместе, как и полагалось советским гражданам. Обедали обычно около киностудии, где стояла декорация нашего дирижабля. В те годы вино к обеду подавалось как вода, бесплатно. Пей — не хочу! Это потом, через несколько лет, вино стали заказывать и оплачивать по счету. А тогда один кувшин выпьешь, другой приносят. Сначала на обед мы ели антипасту — все, кроме макарон. Чаще всего мясо. Потом — пасту, то есть макароны. Супов не было — запивали вином. Когда нам, советским, бесплатно давали вино, мы его выпивали большое количество. А ведь жара, итальянцы, к слову сказать, это вино водой разбавляли.
Для советских актеров, снимающихся за рубежом, полагались суточные — десять долларов в день. Во время съемок в Италии продюсер Кристальди платил нам не десять долларов в день, а целых двадцать пять, как и нашим западным коллегам — актерам. Конечно, мы-то их получали тайно и незаконно. И когда вернулись в СССР, нам пришлось объясняться, куда мы дели деньги, ежедневно имея на пятнадцать долларов больше. Мы должны были их взять, но ту сумму, которая по советским законам нам не полагалась, обязаны были отдать в посольство СССР. Иначе говоря, десять долларов в день мне, а пятнадцать неизвестно за что посольству СССР. Но мы как один отвечали, что получали по десять долларов в день, и точка. А кто докажет? Ведь при получении денег в ведомости не расписывались. Вот и твердили дружно: «Да что вы, как можно! Десять долларов, и ни копейки больше! Разве мы будем советскую власть обманывать?! Нет, советская власть — святое!»
Когда я позднее снимался в Германии, мне предложили платить те же деньги, какие получают западные актеры, — тысячи долларов. Я пошел в посольство СССР и спросил, могу ли я подписать договор, в котором будет указана такая для нашего глаза непривычная сумма.
— Конечно, можешь подписать такой договор, но все придется отдать государству. А если скроешь деньги, будешь наказан. Тогда больше никуда не поедешь, — ответили мне.
И я решил: «Зачем мне подписывать подобный договор?» Ведь они и так за меня отдавали деньги «Совинфильму». А потом эти денежки попадали в руки советских органов безопасности, работавших за рубежом.
Но тогда, в Италии, двадцать пять долларов в день для меня были немалые деньги.
Америка
…В 1970 году в Литву из США приехала Даля Сруогайте — дочь писателя Балиса Сруоги. В те годы иностранцы, приехавшие в Литву, могли выехать из Вильнюса, лишь получив разрешение. Наверное, официальное разрешение ей, дочери классика литовской литературы, все-таки дали. Она приехала в Паневежис посмотреть спектакль по пьесе своего отца.
В 1965 году в нашем театре Мильтинис поставил «Весеннюю песню» Балиса Сруоги. Я в этой постановке не играл, но мне спектакль нравился. Главную роль Жалюгаса в ней исполнил Б. Бабкаускас.
Балис Сруога — знаменитый литовский писатель, драматург, театральный критик, литературовед, наконец, профессор Университета имени Витаутаса Великого в Каунасе и Вильнюсского университета. Незаурядная личность — выпускник Петроградского, Московского и Мюнхенского университетов. Так случилось, что в 1943–1945 годах он был заключенным концлагеря Штутгоф (недалеко от Гданьска). В 1945-м, после того как был освобожден из концлагеря советскими солдатами, он написал необычную книгу своих воспоминаний «Лес Богов», в которой в гротесковой форме показал гитлеровскую систему уничтожения людей. (Я уже вспоминал, что заключенным того же концлагеря был и муж моей сестры.) Пока Балис Сруога находился в концлагере, жена с дочерью пытались искать его на Западе. Они, как и многие другие литовцы, уехали, попав сначала в лагеря «перемешенных лиц» в Западной Германии, а оттуда — в США. А самого Балиса Сруогу Советская армия освободила из концлагеря, и он вернулся в Литву, так и не встретившись с женой и дочкой. Вскоре, в 1947 году, в Вильнюсе он умер.
После спектакля «Весенняя песня» был организован ужин, куда меня тоже пригласили. Конечно, были люди, которые за нами следили: кто с кем сидит да кто с кем говорит. Как же без этого! Мы сидели и разговаривали с Далей. И вдруг она меня спросила:
— Не хотели бы вы приехать в качестве гостя в Соединенные Штаты Америки?
— Очень бы хотел, — ответил я. — Но у меня там ни друзей, ни родственников нет.
Надо сказать, что это было время, когда особенно старались показать, как «дружат» литовцы из Литовской ССР с так называемой «прогрессивной» эмиграцией. Будто уже нет «железного занавеса», такие разыгрывались своеобразные политические игры. Ведь США и некоторые другие западные страны открыто говорили об оккупации Прибалтики Советским Союзом и об аннексии независимых государств — Литовской, Латвийской и Эстонской Республик. Поэтому особенно важно было, чтобы завязывались «дружеские» отношения. Организовалось Общество дружбы, которое стало издавать в Литве газету «Гимтасис краштас» («Родной край»), адресованную эмигрантам. Конечно, в Литве все это происходило под руководством и тщательным присмотром органов безопасности, или, короче, КГБ. Но при большом желании и умении даже этими «сверху созданными» организациями можно было воспользоваться.
В США в то время существовала организация, состоявшая в основном из молодых людей, которая называлась «Santara-Šviesa» (Согласие-Свет). Она была более либерально настроена по отношению к СССР. Члены ее не были ни политизированы, ни идеологизированы. У них в Чикаго находилась радиостанция «Margutis» (так по-литовски называется пестро раскрашенное на Пасху яйцо). Более пожилые эмигранты были против официального общения с литовцами, жившими в то время в Литовской ССР, считали, что если они будут общаться, то признают советскую оккупацию и оккупационную власть. Члены же организации «Santara-Šviesa», напротив, пытались завязать дружеские отношения, понимая, что они попросту не могут потерять свои корни. Но это отнюдь не означало, что они признают оккупацию или оккупационный режим! Просто они были более «гибкими». Как я уже говорил, происходила своеобразная игра: прикрываясь этими «дружески» настроенными организациями, эмигранты пытались поддерживать связь с родиной, приглашать к себе соотечественников, в первую очередь, конечно, людей искусства.
— Мы попробуем прислать вызов, — сказала Даля.
Первый таким же способом на год раньше меня был приглашен в Соединенные Штаты Америки наш знаменитый тенор Виргилиюс Норейка и, кажется, кто-то еще. А потом мог бы быть я. Даля уехала. А мне не верилось, ведь существовали законы: можно было ехать только лишь к родственникам — и то если дадут разрешение. Старенькие родители могли поехать к детям. Так, к примеру, голливудская актриса, литовка по происхождению, Рута Килмоните-Ли (Lee) вывезла из Литвы в США свою бабушку.
Но вдруг однажды я получаю из Соединенных Штатов письмо от Ляонаса Бараускаса. Он пишет, что мы старинные друзья, еще с того времени, когда жили в Вильнюсе… Да не жил я в Вильнюсе и Ляонаса Бараускаса не знал! Но я понял, что это игра: «друг» «друга» будет приглашать в гости, вот мы и притворились друзьями. Знало ли КГБ о нашей «игре», мне неизвестно, но там играли свою «игру», целью которой было показать, что никакого «железного занавеса» не существует. Что же там, за океаном, говорят, будто в Литве нет свободы. Грязная пропаганда! В Литве — свобода! Куда хочешь, туда поезжай! С кем хочешь, с тем общайся! Обе стороны играли, и обе хотели выиграть за мой счет. В итоге Л. Бараускас и прислал мне вызов.
«Что делать? С чего начать?» — думал я. И поехал в Вильнюс, в ЦК компартии, в зарубежный отдел. Сейчас даже не помню точного названия. Это был отдел, который занимался выездами за рубеж. Сначала нужно было выяснить дальнейшие шаги там. Я показал вызов, и этому якобы удивились — как будто им ничего не известно. Не могли же они сказать:
— Дорогой ты наш, мы уже обо всем знаем и вызов видели, когда письмо проверяли и конверт открывали. Мы же все письма читаем, ни одно не проходит непроверенным.
Это я понимал. Мне сказали только:
— Ладно, попробуем выяснить.
Я ждал ответа, но его все не было. Звонил, а мне отвечали:
— Знаете, наверное, все-таки не поедете. Это же не родственник, а друг. Существуют законы, но вы еще подождите.
Через несколько недель я опять позвонил. Мне снова сказали:
— Нет. Но еще подождите.
Это тянулось долго, несколько месяцев, наверное. Наконец к октябрю у меня кончилось терпение, и я сказал:
— Ну ладно. Я должен написать в Чикаго письмо и сообщить другу, что меня не выпускают, — чего же ему попусту ждать. Тем более там, в США, думали, что в Литве обо всем есть договоренность.
Но вдруг голос в телефонной трубке сказал:
— Не спешите. Еще немного подождите.
Они, в ЦК, видимо, стали выяснять, что для них выгоднее: разрешить мне поехать или нет. И кто-то из наиболее авторитетных, наверное, решил, что все же выгодней позволить мне ехать. Через какое-то время мне сообщили, что из Москвы получено разрешение выехать на полгода. Большое спасибо, но отсутствовать полгода мне было невозможно. Я же работал в театре, у меня были спектакли.
Осенью 1970 года я поехал в Москву, в посольство США, и получил визу. Потом созвонился с работавшим в Нью-Йорке корреспондентом газеты «Тиеса» («Правда») Альбертасом Лауринчюкасом и договорился о том, что он меня встретит. Летел туда на самолете «Аэрофлота» — так было нужно. В Нью-Йорке остановился у Лауринчюкаса. Он передо мной поставил бутылку виски и сказал:
— Тебе нужна «акклиматизация». Здесь другой временной пояс. Твой организм говорит, что теперь должен быть день, а у нас — ночь. Выпей виски, иначе все равно не уснешь.
Сам же пошел спать…
В Нью-Йорке мне особенно запомнилась встреча в ООН — Организации Объединенных Наций, которую организовал А. Лауринчюкас. Встреча проходила в зале Библиотеки имени Дага Хаммаршельда. Кроме представителей литовской общины, на ней присутствовали сотрудники ООН разных национальностей, в том числе немало испанцев. Поэтому закономерно, что много вопросов было о создании фильма «Гойя, или Тяжкий путь познания» и об образе великого испанского художника. Другие спрашивали о Паневежисском театре, о Юозасе Мильтинисе и его творчестве…
Через несколько дней я улетел в Чикаго, где меня ждал мой «старинный друг» Л. Бараускас с женой. Я остановился у них дома. Жили они в литовском районе Чикаго, который назывался Маркет-парк. Там и написано — «Lithuanian Place». Это довольно большая территория. Людей старшего поколения среди эмигрантов было немного, в основном жили мои ровесники, и все говорили по-литовски. У всех были свои особнячки. На бензоколонке работал негр, который тоже разговаривал на литовском. И в костеле священник был литовец. Я туда пошел как раз в то время, когда хор разучивал религиозную песню. И среди поющих были и негритянские дети, которые тоже пели по-литовски. В больнице Святого Креста также все врачи оказались литовцами. Быть может, только медсестры были не литовской национальности. Один из главных врачей, по фамилии Била, показывал мне больницу, где, как говорили, лежала миллионерша. Мы пошли в ее палату, которая на больничную совсем не походила — повсюду были цветы. Представили меня этой миллионерше, сказав, что я киноактер. А она вдруг стала кричать:
— О! Movie star! Movie star!
И стала мне руки целовать. Американка — этим все сказано. Для нее
Movie star (кинозвезда) —
что-то особое! А мне стало как-то неловко.
Организовали мне встречу и в Молодежном центре. Там собралось много людей. Перед встречей участники местной самодеятельности показали программу. К слову сказать, самодеятельность там весьма высокого уровня. Там ведь и профессионалы были. В США очутилось немало актеров, в конце войны бежавших от советской власти, которые в эмиграции играли спектакли.
В Чикаго я был около двух недель. Решили, что на радиостанции «Margutis» надо записать стихи Витаутаса Мачерниса в моем исполнении. Я уже вспоминал о том, что в книге стихов Витаутаса Мачерниса, изданной в США, оказались опубликованы все те стихотворения, которые после гибели поэта я вывез в чемоданчике, а позже отдал его невесте. Книга была напечатана в литовском издательстве. (Там выпускались и литовские газеты.) Куда исчезли оригиналы стихов Мачерниса, до сих пор не пойму. Я уже говорил, что издательство получило не рукописи, а перепечатанные тексты. Он сочинил стихотворение «Моя песня» за пару дней до гибели, оно было последним. И это стихотворение оказалось напечатанным в книге. В рукописи же его видел, наверно, лишь я.
Обрадовавшись, я записал на радио стихи Мачерниса. Попросил лишь сделать так, чтобы у меня не было неприятностей, а то потом скажут, что я приехал в США и, выступая по национальному, реакционному радио, вел антисоветскую пропаганду.
Там, в Чикаго, бывали разные встречи, на которых обычно пили виски. Вообще ко мне относились очень дружелюбно. Лишь один раз мне было сказано:
— Мы знаем, что оттуда не выпускают. Раз ты приехал, значит, приехал с миссией.
Я их убеждал, что они не правы. Не знаю, поверили ли.
В КГБ, конечно, тоже не дураки сидели. Перед моим отъездом в США в Паневежисе ко мне домой пришли двое инструкторов: один из них приехал из Вильнюса, второй был местный — начальник отдела госбезопасности Паневежиса. Пришли подвыпившие и начали инструктировать. Я, конечно, бутылку водки поставил, и они из нее пили-пили. Сначала говорили, мол, ты там не поддавайся на провокации, смотри, узнай что-нибудь, потом нам расскажешь… А затем так напились, что я даже не понял, о чем они меня еще предупреждали.
Прожив две недели в Чикаго, я решил, что хорошо бы «осмотреться» и съездить куда-то подальше. Литовцы из Чикаго созвонились с литовцами из Сан-Франциско, и я туда отправился, приобретя билет на обратную дорогу. Надо сказать, что в Сан-Франциско литовцев по сравнению с Чикаго было мало. Меня встретили и поселили у Сидзикаускаса. Его сын Юозас, которого ласково называли Юозукас, взялся меня опекать. Организовали мне и встречу с местными литовцами. Мы собрались, стали разговаривать, и тут одна женщина меня спросила:
— Извините, господин Банионис, а у вас в Литве есть телевизоры?
Я подумал про себя: «Что она — шутит или просто так глупости говорит?» А вслух сказал:
— Нет, телевизоров у нас нет.
Она оживилась:
— Вот видите, и телевизоров у вас нет. А что же вы делаете по вечерам?
— Что делаем? — отвечаю я. — Зажигаем свечу, садимся к столу и играем в карты. Потом тушим свечу и идем спать.
Женщина обрадовалась:
— Господин Банионис правду говорит, что телевидения в Литве нет. А то некоторые пропаганду ведут, говорят, что есть телевидение.
Я, чуточку испугавшись, подумал: «О черт! Теперь газеты напишут, что я так про телевидение сказал, потом хлопот не оберешься. Меня больше никуда не пустят!» И говорю этой женщине:
— Вы что, шуток не понимаете? Конечно же есть у нас телевидение и телевизоры в каждой квартире.
Моей собеседнице мои слова явно были не по душе. Но она не сдавалась:
— Вот видите! А сейчас господин Банионис врет! Пропаганду ведет!
И тогда Юозукас мне сказал:
— Донатас, давайте поедем в Лос-Анджелес. Видите, какие люди иногда встречаются в Сан-Франциско. Попадаются даже такие, которые не знают, как там в Литве люди живут. А я вас отвезу к актрисе Руте Килмоните-Ли. Она литовка, ей нравится общаться с литовцами. Она снимается в кино, играет на сцене, на телевидении и на радио выступает.
Юозукас позвонил и договорился. А утром мы сели в машину и поехали, иногда останавливаясь у Тихого океана. Заходили в кафе, пили кока-колу, что-то ели. Машин на дороге было немного, но скорость там ограниченная — шестьдесят миль в час. Мы ехали как полагалось, а какой-то автомобиль нас обогнал. Юозукас сказал:
— Глупец! Далеко он не уедет. Сейчас его остановят, да еще и штраф придется заплатить.
Едем дальше и видим: стоит наш «гонщик», а полицейский ему квитанцию выписывает — штраф за превышение скорости.
Приехали в Лос-Анджелес. Сначала остановились у друга Юозукаса. Юозукас точно не знал, где живет Рута, и решил позвонить ее агенту. Но агент информации не дал и разговаривать отказался.
Тогда Юозукас предложил:
— Давайте поедем в костел. Священник знает точно.
Мы так и сделали. Священник и вправду нам помог. Он позвонил Руте, и та тотчас же примчалась за нами на машине. Юозукас передал меня в надежные руки и уехал, а меня Рута отвезла к себе домой на Beverly Hills.
Там живут богачи. Кругом особняки звезд Голливуда. В одном из особнячков живет и Рута Килмоните-Ли. Мне показалось, что она очень богата. В ее доме, как и принято у американцев, одна большая комната в центре, а вокруг, наверное, десять спален.
Мы посидели, поболтали. Я вышел во двор и остановился как вкопанный: трава-то не настоящая, а синтетическая! Мне стало смешно, и я спросил:
— Рута, а настоящей травы у вас нет?
А она в ответ:
— Есть, но бегают здесь собаки разных знаменитостей. Нагадят. Что тогда делать? А эту траву моют, и все — опять порядок.
Только позже я понял, что это дом не ее, а ее отца, который зарегистрировал дом на ее имя, чтобы она выглядела богатой. Если богата, значит хорошая актриса и ее будут снимать. Рута рассказывала, что если у них какой-то актер говорит, будто за съемки в фильме получил два миллиона, это отнюдь не значит, что на самом деле так и есть. Просто надо показать: мол, если мне платят такие деньги, я хороший артист. А хороший — он всегда в цене. Тут я и вспомнил случай в Гамбурге, когда газеты написали, что я прилетел на премьеру «Гойи» на собственном самолете.
— Завтра, — сказала Рута, — я отвезу тебя в Голливуд…
На следующий день мы и поехали. Она снималась в компании «Universal». Заранее договорилась с менеджером, что меня там примут. Когда мы подъехали, менеджер стоял у проходной, держал в руках журнал «Советский экран» с моей фотографией на обложке и улыбался. Рута нас познакомила. А потом мы с ней пошли смотреть, как снимается ковбойский фильм. Там был большой шум. Я узнал одного из актеров — Эрнеста Боргнайна. Когда закончили, Рута меня с ним познакомила. Мы присели выпить кофе, и я сказал:
— Я не слышал, о чем вы говорили.
А он ответил:
— Переозвучивать уже не будем, как снято, так и снято. Нам это не нужно — у нас чистая запись, хорошая аппаратура.
Я знал, что посторонние шумы сильно мешают. Литовские фильмы сам переозвучивал. А у них такая была техника! Меня это удивило.
На следующий день я опять гулял по Голливуду. Смотрел, как работают каскадеры. Они там за деньги зрителям трюки показывают. Потом увидел, как снимают в павильоне. Мы слышали, что американцы не делают дублей. Чушь! Снимают иногда и по пять-шесть дублей. Путают тексты точно так же, как и мы. «Как в небесах, так и на земле», — подумал я. Правда, у американцев есть «суфлеры» — актерам показывают на досках написанный текст. У нас такое не использовалось. Был я и там, где озвучивают… В общем, провел в Голливуде дней пять.
Голливуд — это фабрика. Город. Я понял, что о Голливуде часто рассказывают легенды. А там просто люди по-настоящему работают. Я был и в бутафорских цехах. Они многое из того, что у нас делалось из гипса, делали из пластмассы. Мне очень понравились парики… Все мне было знакомо, но работают они лучше. И порядка у них куда больше. На «Мосфильме», к примеру, не поймешь, зачем бегают из кабинета в кабинет, схватив сценарий. То у них свет в павильоне не зажигается, то осветители что-то кричат, ругаются. А там: время — деньги. Хотя, с другой стороны, не скажу, что там намного лучше. Мне лишь понравилось, что у актеров есть свои «будки» на колесах. Если у них появляется свободное время, они могут там выпить кофе, отдохнуть. Не так, как мы, вынужденные сидеть в углу на стульчике в ожидании съемки.
Погулял я и по Sun Set бульвару. Поехали мы на пляж в Санта-Барбару искупаться. А это был декабрь. Американцы хитрые: Голливуд был основан в таком месте, где не бывает зимы. Здесь целый год можно снимать.
В Лос-Анджелесе я познакомился с Раисой Урбан, певицей, приехавшей из Литвы и мечтавшей стать знаменитой. В 1982 году она пригласила меня с женой в гости к себе в США. Мы у Раисы пожили пару недель. Запомнился такой эпизод из поездки 1982 года. Я и Раиса, не помню, была ли с нами моя жена, ехали куда-то на автомобиле. Это была загородная поездка. Раиса решила, что надо залить бензин, и повернула на бензоколонку. Показала мне на заливающего бензин человека и сказала:
— Он армянин. Совсем недавно эмигрировал в США. Интересно, узнает ли он тебя.
Она вышла из машины и подошла к мужчине-армянину. Я тоже вышел и стал оглядывать пейзаж. Раиса, показав на меня, спросила на английском языке:
— Посмотрите, пожалуйста, на этого человека. Он несколько дней тому назад приехал в Америку из СССР. Не узнаете ли вы его?
Армянин ответил:
— Да, Банионис.
И продолжал заливать бензин. Никакой реакции.
Я восемь раз бывал в США, многое увидел. Но жить там не хочу. Ради богатства? Мне хватает. Там не та жизнь, которую мне хочется прожить. И обычаи другие. Здесь, в Литве, я дома. Мне американские литовцы предлагали:
— Ты останься, мы тебе найдем работу. Потом жену вызовешь, станешь жить легально.
Я отвечал:
— Нет, спасибо. Мне что, на заводе работать? А что я могу делать?
Это не мой образ жизни — когда все решают деньги. Мне было странно, что они так считают деньги — важно лишь, сколько заработали. А работали много и тяжело.
Нужно было возвращаться в Чикаго, но у меня обратный билет был из Сан-Франциско. Но, чуть доплатив, я смог улететь в Чикаго из Лос-Анджелеса, не тратя время и силы на переезд.
Я решил, что, раз уж я здесь, грех не добраться до Балтимора. Там жил единственный человек из нашего театра, которому в годы войны удалось уехать. Его звали Йонас Казлаускас. Он был хорошим актером. Сначала поехали в Вашингтон, а оттуда, предварительно позвонив, — к Йонасу в Балтимор. Там собралось много людей. Пели литовские песни и плакали. Мы с Йонасом пошли на кухню, нам хотелось побыть вдвоем. Мы друг другу все рассказывали и рассказывали… а все нас ждали.
Потом из Балтимора я вернулся в Вашингтон. Оттуда — в Нью-Йорк, Чикаго… А на Рождество я был уже дома. Хотелось в праздники быть с семьей. Хотелось вернуться на работу в театр. К тому же перед отъездом я получил новую квартиру. Когда мы жили на улице Лиепу-аллея, у нас была двухкомнатная квартирка. А теперь получили четырехкомнатную на улице Укмяргес. В новом доме, стоящем в парке. Это был дом ЦК. Мне поначалу не хотели давать там квартиру, но второй секретарь сказал, что ему квартира в новом доме ни к чему. Я поехал в Вильнюс, в ЦК, и там поговорил. Оттуда позвонили в Паневежисский исполком и сказали:
— Мы будем благодарны, если Банионис получит эту квартиру.
И я ее получил. Когда я рассказал эту историю в США, там пошутили:
— Банионису дали квартиру, чтобы он не остался в США.
Признаюсь, жалко было расставаться с этими милыми и приятными людьми, с которыми меня свела судьба по ту сторону Атлантического океана.
Потом я бывал в США не раз. В июне 1988 года на театральном фестивале в Нью-Йорке я присутствовал как гость в составе делегации театральных деятелей из СССР.
Но особенно запомнилась поездка в декабре 1988 года. Я был в Харькове, куда меня пригласили провести встречи со зрителями. Встречи подходили к концу. Вдруг мне позвонили и сказали, чтобы я, не заезжая в Литву, как можно скорее летел в Москву. М. С. Горбачев желает, чтобы я с ним ехал в США.
— Но у меня с собой нет костюма, — сказал я.
— Прилетай скорее, — ответили мне. — Организуем.
Я из Харькова вылетел в Москву. Меня встретили, купили костюм. Я узнал, что, кроме меня, людей искусства будут представлять Тенгиз Абуладзе из Грузии и Марк Захаров из Москвы.
Через пару дней на двух самолетах наша делегация пересекала Атлантику. В первом самолете летел М. С. Горбачев с женой и сопровождающими. Во втором самолете были мы втроем, журналисты и «другие официальные лица». В Нью-Йорке я был в зале ООН, когда М. С. Горбачев произносил свою знаменитую речь. Он тогда был особенно популярен.
Как только мы прилетели в Нью-Йорк, нам в представительстве СССР при ООН организовали ужин. В делегации было несколько десятков человек. Когда мы втроем вошли в зал, Михаил Сергеевич с женой уже сидели за столом. Горбачев, увидев меня, окликнул:
— О! Донатас Юозович!
Мы с ним были знакомы раньше. Он приезжал в Литву, и мы встречались. Он мне тогда и галстук подарил. Этот галстук и сегодня у меня.
В то время на гастролях в Нью-Йорке был театр под руководством Льва Додина из Ленинграда. Я пошел посмотреть спектакль. Во время антракта ко мне подошла женщина и заговорила:
— Вы меня не помните? Я была комсомольским секретарем в Ленинградском университете и организовала вашу встречу со студентами.
Я, конечно, ее не помнил. Она жила в США, ее звали Лана Форд. Мы с ней договорились встретиться. Она мне подарила кучу книг — Пастернака и других авторов, книги, которые было трудно или невозможно у нас достать. Я их привез, поскольку ехал с Горбачевым. Разве на границе будут проверять?! Лана Форд отвела меня на Брайтон-Бич, где живут в основном евреи, переехавшие из СССР. Идем мы с Ланой по улице, и я слышу — кто-то меня зовет:
— О! Господин Банионис, и вы уже сюда переехали?!
— Нет, — говорю.
Пошли мы в ресторан. Только по названию русский, а он скорее еврейский.
Наша делегация еще должна была лететь на Кубу. Встретиться с Фиделем Кастро. Но землетрясение в Спитаке изменило планы. Мы срочно вернулись в Москву.
«Гойя, или Тяжкий путь познания»
С режиссером Конрадом Вольфом я познакомился в 1967 году, когда через год после фестиваля в Карловых Варах был в Германии. Тогда пришлось побывать на киностудии «ДЕФА», где показывали нашу картину «Никто не хотел умирать». Вольф тоже посмотрел, похвалил, сказав, что фильм ему понравился. Может быть, уже тогда ему пришла в голову мысль, что я смог бы сыграть Франсиско Гойю.
Фильм основан на романе Лиона Фейхтвангера. Разумеется, картина сильно отличается от книги. Роман многоплановый, глубокий, а фильм получился более схематичным. И в этом нет ничего странного: в книге на трех страницах описываются отношения с женой или герцогиней Альба, а в картине продолжительность любовной сцены — одна минута.
Я знал, что первоначально на роль Гойи приглашали актера Павла Луспекаева. Но он уже был болен и поэтому отказался. Так в 1970 году я неожиданно получил приглашение сыграть роль великого испанского художника. В основном в картине были заняты немецкие актеры. Хотя играли артисты и из других стран. Королеву Марию-Луизу — Татьяна Лолова из Болгарии, герцогиню Альбу — Оливера Катарина из Югославии, Великого инквизитора — польский актер Мечислав Войт. Эстева, помощника Гойи, сыграл немецкий актер Фред Дюрен, которого я позже видел в роли Фауста. Мне было особенно приятно, когда я увидел легендарного Эрнста Буша, сыгравшего в фильме роль Ховельяна. Мы с ним даже вместе снимались в небольшом эпизоде.
В 1984 году, через два года после кончины Вольфа, в Германии была издана книга о нем, в которой напечатано короткое признание режиссера, касающееся работы над фильмом «Гойя»: «Это продолжалось долго, пока я не нашел прямой, личный подход к творчеству Гойи, так как мне не нравятся материалы „исторического“ содержания, биографические и из прошлого, инстинктивно не принимаю всего того, что „раньше, прежде“ было».
На протяжении многих лет Гойя творил серию офортов «Капричос». Создал их восемьдесят. К офорту № 43, названному Гойей «Сон разума рождает чудовищ», есть такой комментарий художника: «Воображение, покинутое разумом, порождает немыслимых чудовищ; но в союзе с разумом оно — мать искусств и источник творимых ими чудес». Эту тему, как основную, Конрад Вольф хотел провести в фильме. Я просмотрел множество материалов, в первую очередь серии офортов Гойи «Капричос» и «Ужасы войны». Увидел незаурядную личность художника. Когда я подумал, что скорее всего я буду играть роль Гойи, мне вдруг стало как-то страшновато. Но одновременно перспектива такой работы была очень заманчивой.
Когда меня утвердили на роль, мне пришлось опять учиться, чтобы хоть немного начать походить на художника: надо было научиться держать кисть, смотреть на холст… Помните знаменитый автопортрет Гойи, где он со свечами на шляпе и с кистью в зубах? Этому тоже пришлось учиться. В Ленинграде меня познакомили с несколькими художниками, которые должны были помочь мне сориентироваться. Главным моим учителем стал Юрий Межиров. Мы с ним общаемся и встречаемся до сих пор, и мне приятно вспомнить, что я у него многому научился. Быть может, Гойя все делал не так, по-другому. Но кто сегодня скажет как? В Художественную академию имени Репина я ходил долго.
Сначала фильм снимался в Ленинграде, в павильоне «Ленфильма». Актеры были подобраны сильные и интересные. Хотя, честно признаюсь, меня разочаровало то, что Вольф не был художником столь глубоким и духовным, какими являются некоторые русские режиссеры. Он такой более схематично-немецкий — все подсчитано, все установлено. Может быть, меня стесняло то, что я некоторые эпизоды играл на русском языке, некоторые на немецком и даже на литовском. Тогда я и решил всерьез заняться немецким языком. Попросил, чтобы мне наняли учителя, и в свободное от съемок время стал совершенствовать свой немецкий. Через несколько лет, снимаясь в фильме «Бетховен», я уже играл на немецком языке. Там много стихотворного текста, и нужно было, чтобы в кадре совпало движение губ. А в «Гойе» я еще мог играть по-русски. Темпераментные сцены, где был всплеск эмоций, я играл по-литовски. Были в фильме очень красивые эпизоды, к примеру, тот, в котором Гойя пишет групповой портрет королевской семьи. К съемке этого эпизода мы готовились целый день.
Одна из главных мыслей, которую мне особенно хотелось раскрыть, — та, что художник, человек искусства, не должен быть зависимым от какой-либо власти. Я как-то подумал: если бы мы, делая фильм «Мертвый сезон», прислушивались к мнению властей, картина наверняка получилась бы неважной, схематичной. Но нам было важно сказать то, что мы хотели сказать, а не то, о чем желала поведать власть. Этому я научился у Мильтиниса, никогда не поддававшегося давлению, которое оказывали власти. В картине есть эпизод, где показан суд над певицей Марией Розарией, певшей песню, призывающую к свободе. В роли Марии Розарии снялась испанская певица Кармела. Сцену суда Вольф создавал, опираясь на офорт № 23, который художником назван «Из той пыли…» (это из пословицы «Из той пыли получилась эта грязь»). Мне эта сцена суда, в которой снимались М. Войт в роли Великого инквизитора и Кармела, показалась сыгранной очень внушительно и впечатляюще.
Есть в картине и другая сцена, где Великий инквизитор, недовольный офортами Гойи «Капричос», в которых художник издевается над инквизицией, вызывает Гойю на допрос и спрашивает его:
— Чему служат эти твои рисунки?
— Они служат правде, — отвечает Гойя, хотя и испытывает страх.
— Правде, не церкви? — обижается Великий инквизитор.
— А церковь — выше правды, — осторожно отвечает художник.
Да разве может быть что-то выше правды?! Но… в те годы, когда мы снимали фильм, выше правды была диктатура партии, как во времена Гойи инквизиция. Я до сих пор считаю, что в этой сцене выражена суть взаимоотношений власти и человека. И сегодня мы видим, что инквизиция, приняв другие формы, устраивает политические суды и тем самым ставит себя выше правды.
Возвращаясь к упомянутым сценам, хочется подчеркнуть, что они по сути своей очень похожи. В одной из них невинная певица, воспевшая правду, осуждена на смерть. А в другой — художник, отражавший правду в своих полотнах, вынужден мириться с судьбой эмигранта. Гойя оставил родину, уехал во Францию и умер в Бордо в 1828 году.
Гойя любил герцогиню Альбу, но, вдруг почувствовав, что она начала управлять им, ушел от нее. Почему? Художник не должен слушаться инквизиции или подчиняться женской любви. Так же как не может он быть зависимым и от королевской власти. Помните, ведь король через королеву хотел воздействовать на Гойю, чтобы тот стал придворным художником.
Я уже упоминал, что попросил Вольфа пригласить Мильтиниса в Берлин на киностудию «ДЕФА». Мильтинис приехал, но так же, как в случае с «Мертвым сезоном», уклонился от непосредственных указаний, а только сказал:
— Есть режиссер, вот его ты и слушай.
Я надеялся, что он мне что-нибудь посоветует, подскажет, но ему не хотелось вмешиваться в работу другого режиссера. Честно говоря, мне было приятно, что он приехал на съемки фильма. Ведь я пригласил его потому, что относился к нему с уважением. Мильтинис лишь говорил, что это еще не Гойя. Конечно, я и сам чувствовал, что присутствует схематизм. Скажем, любовная сцена с герцогиней Альбой: Гойя к ней подходит, потом показывают, как платье падает у ног, и… художник пишет ее обнаженную. Продолжительность такой сцены на экране — полминуты.
И все же этот фильм стал очень важным в моей жизни. У меня были на редкость сильные партнеры.
Мы уехали на юг Югославии, в Дубровнике снимали шествие. Этот город тогда сохранился как средневековая иллюстрация. Здесь я впервые попробовал устрицы, которые были только что выловлены из моря. Там много маленьких закусочных, куда рыбаки привозили устрицы. Надо было только вечером заказать, а утром — пожалуйста! Приятного аппетита. В таких закусочных собираются только мужчины. Пьют ракию и едят устрицы. Однажды утром Оливера Катарина попросила, чтобы я пошел с ней. Ей одной неприятно было идти, и я согласился. Но мне устрицы не понравились: они еще живые, а их, окропив лимоном, нужно глотать. Нет, это не для меня. А вот Оливера была в восторге от такой еды. «Что же, — подумал я, — у каждого свой вкус». А еще там очень красивое море. Особенно ночью, когда в нем отражаются мерцающие звезды. Я специально ходил смотреть на него.
Во время съемок бывало трудно и чисто физически. Например, я сам, без дублеров, залезал на столб. Один раз не получилось, полез второй, третий раз… Потом сердце стало шалить, и пришлось вызывать врача. Я устал, и было очень жарко. Сцены, в которых Гойя, уже став глухим, начинает странствовать, мы снимали в Болгарии. Там роль поводыря, ведущего глухого Гойю через горы, сыграл замечательный болгарский актер Петр Слабаков.
В уже упомянутой книге о Конраде Вольфе я прочитал и мнение режиссера обо мне. Не скрою, мне было приятно. «Считаю, фильму „Гойя“ повезло, что мы нашли литовского актера Донатаса Баниониса, которого с самого начала я считал основным кандидатом на главную роль. Я быстро нашел контакт с этим очень скромным, тихим, замкнутым, о многом мыслящим актером, который понимает ту большую ответственность, которую мы несем вместе с другими», — писал Вольф.
Когда фильм вышел в прокат, в журнале «Экран» я прочитал мнение о нем вдовы автора романа — Марты Фейхтвангер: «Я довольно хорошо знакома с производством фильмов и понимаю, что нельзя полностью перенести на экран столь многоплановое прозаическое произведение. Здесь всегда неизбежны потери, и речь может идти только о том, чтобы потери эти были минимальны. Но мне кажется, что Конраду Вольфу удалось передать главное — дух романа, его внутреннее содержание, а это случается нечасто. <…> И естественно, что самое главное и опасное при экранизации этого романа было связано с исполнителем роли Гойи, тем более что все события и все персонажи концентрируются вокруг него, оттеняют, подчеркивают, служат его судьбе, его драме, его таланту. И мне казалось, что найти конгениального актера практически невозможно. Но Банионис удивительно точно уловил существо характера, и, хотя внешне он не совсем соответствует моему представлению о Гойе, он сыграл великого художника с поразительной силой и тонкостью. И, быть может, именно внешнее несходство с оригиналом еще больше подчеркивает эту внутреннюю связь, ибо Гойю нельзя имитировать, его надо было играть всего целиком, со всеми пороками и достоинствами. <…> Я думаю, что фильм Конрада Вольфа — первая удачная экранизация прозы Фейхтвангера. <…> Я не знаю, что сказал бы мой муж, увидев „Гойю“, — он был очень требователен, но мне кажется, что он согласился бы со мной в оценке фильма».
За этот фильм Германия удостоила меня высшей награды — Премии искусств. Это было двадцать тысяч марок. Представитель посольства СССР очень конфиденциально сказал мне:
— Ты эти деньги не бери. Все равно придется отдать их, так как премии передаются в государственную казну. Ты тихо, не афишируя этого, внеси деньги в Немецкий банк и потом, когда будешь приезжать в Германию, их потихоньку используешь.
Меня вызвали в Художественную академию в Берлине и хотели торжественно вручить чек. Но я сказал:
— Нет, теперь я деньги брать не буду. Я должен уехать, мне их некуда деть. Положите, пожалуйста, полагающуюся мне сумму в банк на мой счет.
Так они и сделали, а я обманул власти. И, когда ездил на съемки или с женой, понемногу тратил эти деньги вплоть до того момента, когда была разрушена Берлинская стена. Поначалу лишь немцам возвращали деньги, но потом я узнал, что бундестаг принял решение вернуть деньги и иностранцам. Я написал доверенность на имя одной своей знакомой из Гамбурга, и она, приехав в Литву, мне те деньги привезла.
Благодаря фильму «Гойя» я немало поездил по миру.
В первую очередь отправился в Париж. Там премьера картины состоялась в кинотеатре на главной улице Парижа — Елисейских Полях. Все было очень торжественно: у входа стояли парни, одетые в солдатскую форму времен Наполеона Бонапарта. После премьеры Вольф с компанией уехали в Берлин, а мне сняли комнату в гостинице, чтобы я смог еще неделю пожить в Париже. Денег у меня было мало, поэтому я всюду ходил пешком: бродил по Монмартру, гулял по набережным Сены… Посольство СССР помогло мне и немного поездить. Походил по Лувру. Полотна Гойи я тогда знал в основном по собраниям в Будапеште и ленинградском Эрмитаже, хотя, конечно, основные его работы находятся в музее Прадо в Мадриде. Но тогда я их еще не видел.
Мне было очень приятно, когда меня пригласили в Токио. Встречая Новый, 1972 год, когда мы загадывали желания, я сказал, что хотел бы увидеть Японию. И в том же, 1972 году мы — К. Вольф, О. Катарина с мужем и я — получили приглашение приехать в Токио на премьеру «Гойи». Было лето, жарко. Мы поселились в гостинице. А на следующий день после премьеры нас ждал замечательный ужин. Приготовила его хозяйка «Принц-отеля», которая была вдовой японского сенатора. Но она большую часть времени проводила в Париже, поэтому ужин был не традиционно японский, а европейский, французский. После ужина ко мне подошел менеджер хозяйки и спросил:
— Не хотите ли вы посмотреть ночной Токио? Увидеть гейш?
Я подумал, что мне, наверное, не следует этого делать, но бывший со мной переводчик Володя из посольства СССР схватил меня за руку и стал уговаривать:
— Поезжай! Поезжай!
Я понял, что это для него единственная возможность посетить места такого рода. Ведь я без переводчика не поеду.
— Ладно, — говорю, — поедем.
Мы сели в машину и отправились на окраину города, где у гейш свои заведения. Приехали на какую-то маленькую улочку, по ступенькам спустились в подвал и оказались в небольшом зальчике. Я понял, что по телефону уже все заказано. Нас — меня, менеджера и переводчика Володю — посадили за стол. В этом зальчике, кроме нас, у столика в углу сидел лишь моряк-американец с девушкой. И все. Когда мы сели к столу, пришли две красивые японки, гейши. Я думал, что означает слово «гейша»? В нашем понимании — проститутка. Но я понял, что это не совсем так. Они просто помогают вам красиво провести вечер. И вот эти две молодые девушки сели — одна рядом с Володей, вторая — с менеджером. А ко мне через несколько минут подошла спотыкающаяся старушка и присела. Я спрашиваю:
— Она кто? Тоже гейша?
— Да, — отвечают мне, — она была гейшей еще во времена микадо. Это тебе оказывается особая честь.
— Ну, — спрашиваю Володю, — что же тут дальше будет?
А он отвечает:
— Ты смотри и молчи.
Я должен был заказывать напитки. А оплачивала все хозяйка «Принц-отеля». Моя старушка гейша налила в стаканы виски и показала, что надо выпить на брудершафт. А я подумал: «А как это с ней сделать?» Мы выпили, и она вдруг стала целовать меня в губы, но так, что весь виски из своего рта «влила» в мой рот. Я сижу и не могу ни проглотить, ни выплюнуть. Даже плохо стало, затошнило. В конце концов как-то проглотил и говорю Володе:
— Володя, мне плохо, меня тошнит.
На что Володя отвечает:
— Ты только сиди и молчи.
Я понимал, Володе хочется еще посидеть. Смотрю, моя гейша опять льет виски в стакан. Я решил, что спасение утопающих — это дело самих утопающих, и сказал:
— Спасибо. Нет, я больше пить не буду. Мне надо идти.
Ну что же, раз надо, так надо. Менеджер расстроился: он якобы еще и не выполнил того, что велела его хозяйка, и предложил:
— Если вам не нравится, давайте поедем туда, где находится так называемый «американский» Токио.
Мы стали собираться. Моя гейша еще и подарок мне преподнесла — рулон материи, чтобы моя жена могла сшить себе кимоно. Я, вернувшись, рассказал жене, каким образом получил ту ткань. Она кимоно, конечно, не сшила, а вот занавески на окно сделала.
Но вот мы едем в центр, который называется Гинза. Там большинство ресторанов уже закрыты — ночь. Подъезжаем к одному еще открытому ресторану и заходим в шикарное заведение. Туда, наверное, тоже уже успели позвонить, поскольку и здесь нас также ждал столик. Мы втроем сели, и опять к нам подошли три женщины, но уже европейские. Ко мне подсела шведка, с которой мы могли поговорить на немецком языке. Но мне опять стало неинтересно, и я сказал менеджеру:
— Давайте поедем в гостиницу.
Менеджер растерялся. В тот вечер ему не удавалось исполнить поручение хозяйки.
— Ну что же, — ответил он. — В гостинице для вас будет приготовлен стол с едой и напитками. Придут две девушки, и вы проведете с ними вечер.
— Зачем девушки, — запротестовал я. — Мы вдвоем с Володей посидим. Не нужны нам девушки.
— Ой! — обрадовался менеджер. — Надо было сразу сказать, что вам Володя нужен, а не девушки! Что хотите, то и делайте!
Мы вернулись в гостиницу. Там и вправду был накрыт стол, полный всяческой вкусной еды. И мы с Володей. И никаких девушек. А вот Володя разозлился, сунул в карман бутылку виски и ушел.
Потом был Гамбург. На фасаде кинотеатра, в котором состоялась премьера «Гойи», большими буквами было написано, что в фильме играет кинозвезда Донатас Банионис. После премьеры на следующий день мне сказали, что мы полетим на самолете на остров Зульт. Там, не помню, то ли губернатор, то ли мэр, иными словами, начальник этого острова приглашает нас к себе. Это, конечно, организовал кинопрокат для рекламы. Мы поехали на небольшой аэродром, где нас ждал частный самолет. Перед отлетом нас сфотографировали. Летели минут сорок. На острове было очень красиво. Мы гуляли, разговаривали между собой по-русски. Вдруг один немец остановился и начал кричать по-немецки: «Oh! Alte Kameraden!» («О! Старые друзья!») Оказалось, что он воевал под Сталинградом. Вечером мы вернулись в Гамбург. А на следующий день я увидел в газете свою фотографию у самолета, на котором мы летели на остров, и статейку, рассказывающую о том, что знаменитый актер Донатас Банионис прилетел в Гамбург на премьеру фильма «Гойя» на вот этом собственном самолете. Я уже упоминал этот эпизод, свидетельствующий о том, что в западном понимании, если актер хороший, знаменитый, то он и богатый. А почему бы ему не иметь собственный самолет?
Фильм «Гойя» был представлен и на VII Московском международном кинофестивале, где мы тоже получили Специальный приз жюри. Тогда и подошла ко мне одна знаменитая советская женщина-режиссер и с ехидным выражением лица сказала:
— Ты думаешь, что ты хорошо сыграл? Фффу!.. — фыркнула она. — Нет! Ты плохо сыграл!
И это после всех наград. А может, она права?
В 1977 году Конрад Вольф пригласил меня сняться в его новом фильме «Мама, я жив». Я играл роль переводчика — то ли латыша, то ли литовца. Моя роль в этой картине была небольшой. Фильм рассказывал о немецком солдате, в годы Второй мировой войны воевавшем в немецком подразделении Советской армии. В этой работе отражалась и судьба самого Конрада. Сын немецкого еврея, писателя-антифашиста, он был вынужден вместе с отцом покинуть Германию. В 1934 году они эмигрировали в СССР. В 1942–1945 годах он был офицером немецкого подразделения советской армии. Позже закончил ВГИК, а затем работал на киностудии «ДЕФА». В 1965-м стал президентом Академии искусств ГДР. Я с ним встретился в последний раз в 1980 году на Международном кинофестивале в Москве. Он уже был болен, а через два года его не стало.
«Солярис»
Поначалу я и не думал, что эта картина окажется для меня одной из наиболее важных. Знал, конечно, что фильм Андрея Тарковского не станет рядовым, но что он будет иметь настолько важное значение в моей жизни — не предполагал.
В молодости я читал роман Станислава Лема «Солярис». Он произвел на меня большое впечатление. Но вспомнил я о книге лишь тогда, когда получил сценарий, еще до начала проб. И был разочарован — он мне показался гораздо слабее книги. Фантастический роман Лема прежде мне казался романом приключенческим. Читая сценарий, я заметил, что это совсем не то, о чем писал автор книги. Но сниматься у Андрея Тарковского! Мне казалось, что это будет приключение — приятное и значительное.
О Тарковском я знал немного: мне приходилось видеть его картину «Иваново детство». Фильм потряс своей необычайностью, новизной образного мышления. Ведь к чему мы привыкли? Если картина о человеке, то обязательно рассказываются какие-то биографические факты. Здесь же было другое. Взрослый человек глазами ребенка видит ужасы войны. Войны — уродующей психику. И мальчишка, которого сыграл Коля Бурляев, очень интересен. Оригинально и появление двух планов в картине — реальности и снов. В этом фильме есть философия. А ведь и Мильтинис нас учил: в искусстве должна быть философская мысль — не внешняя игра, а передача мыслей через человека и его страсти. Фильмы Тарковского тоже не сюжетные, а философские. В них много образного мышления, философского обобщения. Я чувствовал, что такое возможно, но больше ничего подобного мне не доводилось видеть.
Меня пригласили на пробы «Соляриса». Я приехал в Москву. Не знаю, был ли у меня конкурент на роль Криса Кельвина, по крайней мере, мне об этом не говорили, а я и не спрашивал. Мы снимали пробы около месяца. Не помню, сколько пробовалось актрис на роль Хари, но Тарковский главным образом искал исполнительницу этой роли. Одной из первых пробовалась Наталья Бондарчук. Мне она показалась чрезвычайно интересной. Сцена в библиотеке, выбранная для проб, позднее была включена в фильм. Хари еще не человек, но уже чувствует, что становится человеком. Сартор говорит ей: «Вы еще не человек. Почему же вы требуете, чтобы мы относились к вам с уважением как к женщине». Я же это понимал так: человека надо принимать таким, каков он есть. Нет ни одной расы, которая была бы лучше или хуже других. Нельзя презирать другого человека.
Мне казалось, что Наталья Бондарчук подходит для роли Хари больше других. А режиссер и оператор все продолжали поиски. Я высказал свое мнение, хотя меня никто не слушал, и я спросил: «Почему вы не хотите взять Наташу?» Мне ответили: «Она не подходит по внешнему виду». Я предложил попробовать Наташу еще раз. И тогда, если я не ошибаюсь, оператор Вадим Юсов сказал, что постарается снять Наташу по-другому. Юсов — опытный оператор. Он знал, как надо снимать лицо, как выигрышно подать человека, чтобы было все так, как требуется. Через месяц Наташу пробовали опять. Юсов, владевший многими секретами операторского искусства, на этот раз снимал ее в другом ракурсе. Наконец-то Наташу утвердили на роль.
Период подготовки мне показался интересным. Я стал сравнивать книгу Лема со сценарием и наконец свыкся с мыслью, что это будет не экранизация романа, а совсем другой фильм. Когда он уже вышел на экраны, мне довелось слышать, как Станислав Лем неодобрительно высказался о сценарии.
Я был утвержден на роль Криса Кельвина. Но меня волновало, что же скажет Ю. Мильтинис, не знавший ни творчества С. Лема, ни творчества А. Тарковского. Он учился и работал в другой атмосфере. К тому же его, видимо, это мало интересовало.
Я уже слышал о фильме «Андрей Рублев», который в те годы был запрещен и лежал «на полке». С «Андреем Рублевым» приключилась такая история. Его купили французы, пока он был не совсем готов и потому еще не запрещен. За картину были заплачены немалые деньги, и поэтому, когда фильм был завершен, несмотря на цензурный запрет, он остался во Франции. Картина шла в кинотеатрах, и имя Тарковского более или менее было знакомо. «Андрей Рублев» должен был быть представлен на кинофестивале в Каннах, но… советские власти этому всячески препятствовали, и фильм не был включен в конкурсную программу. Мало того, картину положили «на полку». Это отдельная, уже не раз описанная история, я не буду повторятся. А в те годы я знал, что фильм «Андрей Рублев» официально не показывается.
Уже делались пробы к «Солярису», а мне безумно хотелось посмотреть «Андрея Рублева». Об этом фильме ходили разные слухи, — кто-то его хвалил, а кто-то ругал. Мне приходилось общаться с людьми искусства, которые говорили, что «Андрей Рублев» — плохая картина, что в ней слишком много натурализма, что никуда не годен и сценарий. Это еще более подогревало мое любопытство, ведь мало ли чего люди наговорят. Я попросил, чтобы мне дали возможность увидеть фильм. Но посмотреть его можно было лишь тайно. Меня отвели в маленький зал, где просматривается отснятый материал. Там могут сидеть только несколько человек. Мне дали ключи от комнаты и велели запереть дверь. «Если будут спрашивать, что смотришь, говори — отснятый материал, — предупредили меня. — И не хвастайся, что смотрел „Андрея Рублева“».
Фильм меня ошеломил. Я не знал сюжета картины. Да и историю России представлял плохо, не знал имен многих русских царей и князей. Не знал даже, кто был Андрей Рублев. Все это было чуждо для меня. Впечатление сложилось с учетом сегодняшнего знания и того, как мы сейчас видим жизненный путь Рублева-художника. Это рассказано с такой невероятной художественной силой! Впечатление было огромное, с самого начала. И в течение всего просмотра оно все усиливалось и усиливалось. Особенно потрясла языческая «Ночь Ивана Купалы». Правда, последняя новелла — «Колокол» — мне понравилась меньше. А игра актера Анатолия Солоницына была замечательной. Фильм показался странным, но интересным. Я говорю «странным», так как он не был похож ни на один виденный мною фильм. Это серьезное художественное произведение о творце. Я тогда подумал: «Художник должен не вовлекаться в процесс, а осмыслить его. Как Рублев. Он хотел творить прекрасное и идеальное…» Картина Тарковского обладает глубинным смыслом. Сегодня это особенно важно, когда в фильмах нет никакой философской мысли, а глубокого осмысления днем с огнем не сыщешь. Только лишь «действие, действие, действие…». Посмотришь картину, и ничегошеньки не остается — никакой мысли.
А в том далеком 1970-м (когда еще не был утвержден на роль Криса Кельвина) я попросил, чтобы второй режиссер «Соляриса» Петров взял киноленту «Андрей Рублев» и привез в ее Паневежис. В те годы киностудии требовали разрешение на съемку актера в фильме, подписанное руководителем театра. Мне очень хотелось, чтобы картину посмотрел Мильтинис. Все это также должно было состояться тайно. И вот привезли мы ленту в Паневежис. В зал для просмотра я пригласил Ю. Мильтиниса и нескольких актеров — всего человек двадцать. Меня, конечно, прежде всего интересовало мнение режиссера. Как он оценит картину? Возможно, мне что-нибудь скажет. Но, посмотрев фильм, он молча ушел. Хотя я заметил, что он под впечатлением. Ю. Мильтинис воспринял его как творец, а не как критик. Видимо, он не ждал такого ощущения от русского фильма. Да он особенно русским кино и не интересовался. Русские фильмы в большинстве случаев пропагандировали «социалистический реализм» и победу социализма, некоторые были сильно идеологизированы. (Мильтинис же, как я уже говорил, сам не занимался политикой.) А это было совсем другое. На следующий день мой учитель сказал мне: «Восхитительно! Можешь ехать и сниматься у Тарковского. Подписываю разрешение».
Начались съемки. Сначала поехали в Ялту, где снимались первые кадры. Художник Михаил Ромадин построил декорацию: за овальным окном космической станции виднелся океан. Нужна была натура. На самом же деле за окном плескалось Черное море. Мне ничего серьезного и играть в первых эпизодах не пришлось: просто идти, смотреть.
В Ялте мы все жили в гостинице. Вместе завтракали, вместе обедали. Узнавали друг друга. В тот же период там был и Василий Шукшин. Тарковский и Шукшин — вроде бы старые друзья. Как-то раз Шукшин пришел к гостинице не один, а с каким-то товарищем. Товарищ зашел к Тарковскому, а Шукшин остался на улице и ходил, ходил… Мне он показался странным. Не знаю, почему именно этот эпизод запомнился. Я знал Василия Шукшина как хорошего актера и режиссера.
Потом мы уехали снимать в Подмосковье, в Звенигород. Недалеко от Саввино-Сторожевского монастыря был построен домик у пруда — дом отца Криса Кельвина. Здесь мне — актеру психологической школы — работать стало трудно. Андрей требовал того, что для меня было непривычным, когда я снимался у В. Жалакявичюса, Р. Вабаласа, у К. Вольфа или С. Кулиша. Обычно мы создавали психологические образы, исследовали человеческие взаимоотношения, искали интонации, анализировали внутреннее состояние героя. Операторы старались снимать тебя таким, какой ты есть в данном образе. Особенно Й. Грицюс, для которого главное было снять так, как я играю. Для него
важна была моя игра, та внутренняя жизнь, которую передаю я, актер.
У А. Тарковского все оказалось по-другому. Признаюсь, мне было трудно, очень трудно. В глубине души я даже чувствовал разочарование. Как же мне играть? Андрей говорил: «Ты стой здесь, смотри в ту точку, сосчитай до трех и тогда поверни голову». Повернуть надо было именно так, а не иначе, сколько-то секунд находиться в движении, на поворот давалось тоже определенное количество секунд — и ни на секунду больше или меньше. Говорить можно было лишь через столько-то секунд и столько секунд — молчать… Я постоянно мысленно отсчитывал: раз, два, три… «Плохо, — говорил Андрей, — слишком быстро считаешь». А в другой раз наоборот — слишком медленно. И я опять про себя: раз, два, три… Я не знаю, как оправдывались женщины-актрисы, возможно, им удавалось быстрее сосредоточиться. Мне же казалось, что я постоянно позирую. У меня возникло ощущение (конечно, из-за непонимания стиля режиссера Тарковского), что мне необходимо создать какой-то «поэтический» образ. Я чувствовал явное затруднение, и это меня сильно стесняло.
На «Мосфильме» мы ходили смотреть отснятый материал. Красивые цветные образы: вот разговор с отцом, а вот мой герой идет к пруду, вот он возвращается… Мне очень понравилось — я увидел поэтичность в этих отснятых кусочках. Постоянная необходимость вести счет мешала мне сосредоточиться во время работы, но в кадре не было видно, размышляю я о чем-то или просто считаю: раз, два, три… Таков был замысел режиссера. Гениальный замысел.
Хочу вспомнить еще один эпизод. Как я уже говорил, в Звенигороде, где мы снимали, был специально построен домик отца Криса Кельвина. А в нем находилась библиотека, где в углу стоял бюст Сократа. С нами была чья-то собака, если нужно было, ее снимали. И вот однажды собака, увидев вдруг бюст Сократа, замерла, не отводя от него глаз: хватала воздух, рычала и все смотрела, смотрела… Всем нам, бывшим там, было интересно наблюдать за ней. Казалось, она понимает, что видит бюст знаменитого философа.
Потом мы перешли в павильон, где уже снимались и трюки, сцены встречи с Хари, со Снаутом… Много было интересного. Помните эпизод, где Хари, выпившей яд, становится плохо? Он кажется ненатуральным, потому что это кинотрюк. Оператор снимал обратным ходом камеры. Потом — бред моего героя. Снимать было трудно. Что-то мне, наверное, удалось, а что-то нет. Но это другой вопрос. Мы знали, что фильм «Солярис» получится интересный, но также знали, что далеко не все зрители его воспримут. Вряд ли воспримет и руководство, власти. Но, зная Андрея Тарковского, я полностью ему доверял. Мне просто повезло в жизни, что довелось работать с одним из, на мой взгляд, наиболее талантливых кинорежиссеров.
У Тарковского и Юсова иногда бывали разногласия. К примеру, режиссеру хотелось снимать какой-то эпизод с одной точки, а оператор ставил камеру по-своему, в такую позицию, которая казалась ему наиболее выигрышной. Несколько раз приходилось слышать, как они ссорились. Юсов, не слушая Тарковского, ставил кадр так, как ему, опытному оператору, казалось интереснее, решал, где должен быть актер, как будет двигаться камера. А Андрей считал иначе, но Вадим Юсов обычно отстаивал свою точку зрения. Как-то раз Тарковский, разозлившись, спросил: «Кто режиссер кадра?» — «Ты», — ответил Юсов и сделал все по-своему.
Помнится, один из рабочих, устанавливающих декорации, стоял за камерой и ел бутерброд. Андрей накричал на него: «Вон отсюда! Это святое место! Это не место, где можно есть!» Я уже говорил, что у Мильтиниса в головном уборе ходить по сцене воспрещалось. Так же, как к алтарю. Для Тарковского алтарем была съемочная площадка. Святое место!
В конце фильма Крис Кельвин возвращается на Землю и идет к отцу просить прощения. Он падает перед отцом на колени. В этом волнующем эпизоде даже и не самый искушенный зритель узнает картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Кажется, С. Лем сказал, что это не «Солярис», а «Преступление и наказание». Быть может, кому-то так и показалось. Для Тарковского, видимо, были важны вопросы морали и нравственности. Он говорил, что люди ищут, стараются познать космос. А ты не ищи неизвестное в космосе, ты ищи неизвестное в себе. Отчего ты так себя ведешь? Почему не можешь поступить так, чтобы не обидеть других? Тарковский верил, что лишь искусство может избавить человечество от бесчеловечности. Он говорил, что человек должен думать о прекрасном. А ведь если взять лучшие произведения литературы от Софокла до наших дней — всюду говорится о человеческой совести, нравственности, всюду порицаются человеческие пороки, когда ради денег, карьеры, ради собственного удовольствия убивают или доводят до гибели другого человека. Человек должен взять ответственность за себя, за своих детей, за свое и их будущее. К сожалению, пока искусство не в силах спасти человечество. Отнюдь нет. Но Андрей Тарковский в это верил.
Когда мы снимали последние кадры — возвращение Криса Кельвина к отцу, — случилось непредвиденное. Ночью стало морозить, и пруд замерз. А ведь был только ноябрь. Все казалось странным, словно нам помогала сама природа. А в начале фильма Крис смотрел, как течет вода, слушал, как шумят травы… И думалось: зачем летать в космос, когда здесь, на Земле, такая красота… Возвращение Криса Кельвина к отцу некоторым критикам не понравилось. Как он может вернуться и пасть перед отцом на колени?! Это плохо! Довелось мне читать и такие рецензии. До сих пор не понимаю, что в этом плохого.
В фильме появились некоторые эпизоды, которых в книге Лема не было. Например, Крис забирал с собой в космос земные растения, а Снаут вешал клочки бумаги и включал вентилятор для того, чтобы они шевелились, словно живые. Удивительно красивая сцена, где Крис и Хари находятся в состоянии невесомости. Мы летали на специальном аппарате. Нас положили, привязали за спиной, и кран нас поднял. Мы с Наташей обнялись… На лампах — маленькие кристальчики… Их задевали… и звучала… фа-минорная хоральная прелюдия И. С. Баха. Тарковский как-то говорил, что музыка Баха для него очень близка. В этом мы с ним похожи. В театре я нынче даже играю Баха в спектакле «Встреча». И все же «Солярис» я считаю не своей удачей. Для меня большая удача в том, что мне посчастливилось быть причастным к этому великому искусству. Хотя я, конечно, был лишь винтиком во всем том, что делал Тарковский.
Я уже не раз рассказывал одну историю. Да простит меня читатель, позволю себе повториться. Когда фильм вышел на экраны, зрители его приняли неоднозначно. Многие его вообще не поняли и не приняли. Сегодня любят говорить, что фильм тогда у всех имел большой успех. Неправда! Помнится, я получил письмо от женщины, которая писала, что она от имени всех почитателей моего таланта просит меня больше в «такого рода халтуре», какой является «Солярис», не сниматься. Рядовой зритель чаще всего не старается вникнуть в суть — все, что ему непонятно, а значит, и неприемлемо, он просто-напросто отвергает. Признаюсь, я и сам первое время чувствовал дискомфорт. Мне все казалось, что я играл как-то не так.
Майя Туровская в рецензии, напечатанной в «Литературной газете», писала: «Итак, фильм талантливый, но растянутый и скучный, утверждает мой уважаемый оппонент. Мне он таким не показался, но это не аргумент. В зале иногда скучали, иногда смеялись в мало подходящем месте. Но стеснительно, как будто от недоумения. Фильм, несложный по сюжету, как всегда у Тарковского, сложен. Он требует от зрителя какого-то ответного действия с приставкой со-: со-переживания, со-понимания, со-напряжения».
В мае 1972 года «Солярис» был представлен на XXV Международном кинофестивале в Каннах. Я не волновался, будучи уверенным, что фильм хороший. О себе не думал, но мне нравились работы Натальи Бондарчук, Юри Ярвета, Николая Гринько. Директором Паневежисского драматического театра в то время был мой коллега актер С. Космаускас. Когда стало известно, что меня приглашают на кинофестиваль в Канны, он сказал: «Чего ты все ездишь и ездишь! Ты не работаешь, а только разъезжаешь. Мало ли чего, захотел в Канны! Разрешаю уехать на три дня». На открытии и показе фильма я был, а награждения и закрытия фестиваля не видел. Пришлось раньше вернуться в Паневежис.
В Канны ехали втроем — Наталья Бондарчук, Андрей Тарковский и я. Эта поездка была для меня важным событием. Столько слышал я о Каннском фестивале, столько читал о нем, а вот теперь гуляю по Каннам. Ну и что, что через три дня я обязан вернуться в Паневежис. Жалко, конечно, что директор не захотел отпустить меня на весь срок. Увы, я многого не успел увидеть. Хотел посмотреть фильм, но меня не впустили в кинозал, поскольку я был без галстука. Быстренько прибежал в гостиницу, переоделся, надел галстук-бабочку и только тогда попал в зал.
Тогда, в мае, на пляжах была масса народу. Журналисты толпились возле кинозвезд, снимали их, брали интервью. Я же тогда еще никому не был интересен.
На узеньких улочках расположено много маленьких кинотеатров, в которых режиссеры или продюсеры за собственные деньги показывают свои фильмы, чтобы потом где-нибудь написать: «Этот фильм был показан на кинофестивале в Каннах».
На показе фильма «Солярис» зал был полон. Мы сидели на балконе. Нам было важно знать, как воспримут наш фильм зрители, поймут ли они его. В зале слышалось хихиканье, зрители уходили. Они многого не понимали, и им, видимо, становилось скучно. Реакция зрителей оказалась негативной. Верилось и не верилось. Ведь в то время свои психологические картины снимали Бергман, Феллини… Но чтобы фильм оказался настолько неприемлем для публики! Хотя тогда, наверное, это не удивило. Я лишь сказал, что мы создавали фильм не для массового зрителя. На следующий день нам показали рецензии. Помню, в одной из них говорилось, что Тарковский — прекрасный моралист, но плохой режиссер. «Солярис» сравнивался с «Космической Одиссеей — 2001» Кубрика. Вот у Кубрика, говорилось в рецензии, есть действие (action), а у Тарковского — ничего.
Чтобы не быть голословным, позволю себе процитировать несколько выдержек из рецензий того времени:
«Фигаро» (Франция) от 15 мая 1972 года:
«Этот фильм ведет нас через космос, как говорят о том надписи, к отдаленной планете <…> Содержание могло бы быть захватывающим, если бы автор лучше выявил линию чувства. Можно сожалеть о том, что интеллектуальная холодность рассказа мешает раскрытию содержания.
Луи Шове»
«Монд» (Франция) от 16 мая 1972 года:
«…„Солярис“ — это памятник скуке, бесконечно-тягостное многословие, которое пронизывает весь этот научно-фантастический фильм. Серьезный моралист и гуманист Тарковский здесь проявил себя слабым кинематографистом…
Жан де Барончелли»
Но были и другого рода рецензии.
«Паэзе сера» (Италия) от 15 мая 1972 года:
«Произведение большого культурного значения, которое делает честь советскому кино и подняло уровень фестиваля.
Альдо Сканьетти»
«Коррьере делла сера» (Италия) от 15 мая 1972 года:
«Наибольшее очарование „Соляриса“ состоит не в его философском содержании, но в том беспокойстве, которым проникнуты все его сцены.
Джовани Граццини»
«Круа» (Франция) от 16 мая 1972 года:
«…„Солярис“ считают научно-фантастическим произведением. Это ошибка, речь идет о „художественно-философском произведении“. Фильм может показаться скучным, может удивить. Некоторые признают его шедевром. Но все должны найти в нем предмет для размышления…
Анри Робен»
Я чувствовал, что картина будет награждена. Фильму присудили Специальный приз международного каннского жюри — «Большой специальный приз жюри» — «Серебряную пальмовую ветвь». Мне рассказывали, Тарковский был недоволен, что получил вторую, а не первую премию. Фильм, конечно, заслуженно получил награду. Он был достоин этого. Но мне кажется, что Специальный приз был вручен еще и в качестве моральной компенсации Тарковскому за тот период, когда советское правительство препятствовало выходу фильма «Андрей Рублев», который, скорее всего, мог быть удостоен высшей награды — «Золотой пальмовой ветви», но не был представлен на конкурсе. Присуждена картине и премия экуменического жюри.
Потом я стал ездить на премьеры «Соляриса» в Португалию, Исландию, Данию… В Рейкьявик мы ехали с Наташей. Но наиболее запомнилась поездка 1974 года в Италию. Ехали опять втроем — Тарковский, Бондарчук и я. Премьера фильма должна была состояться в Милане. До премьеры нас отвезли на несколько дней отдохнуть на остров Капри. Это был конец апреля. Как раз там мы отпраздновали мое пятидесятилетие. Наташа подарила мне керамического ослика, которого я бережно храню. Через несколько дней мы должны были с Капри отправиться в Неаполь, а оттуда лететь в Милан. Но вот Андрею кто-то сказал, что прокатчик его фильм укоротил, кое-что вырезав. Тарковский возмутился: «Раз так, я там, в Милане, устрою скандал. Прессу позову. Организую пресс-конференцию. Так нельзя!» Тарковский ни с кем не считался. Он не страдал от комплекса неполноценности. Скорее наоборот: всегда был прав! Он не думал о том, хорошо или плохо поступает.
Вместе с нами был переводчик-итальянец. В свое время он учился в Москве во ВГИКе и говорил по-русски. Увидев, как возмущен Андрей, он понял, что может произойти скандал. Так как наша поездка финансировалась из Милана, видимо, было решено нас задержать в дороге, чтобы мы не успели на премьеру. И вот мы, готовые к отплытию в Неаполь, стоим на пристани на острове Капри. Паром уже вот-вот должен отплыть, а наши вещи, как оказалось, оставлены в гостинице. Я увидел, как один из тех, кто был ответствен за доставку наших чемоданов, стоит за углом и пальцем не шевелит. Не знаю, видел ли он меня, но я его видел отчетливо. Мне стало ясно, что решено нас задержать, чтобы мы не успели в Неаполе на самолет, летящий в Милан. А главное, чтобы мы не попали на премьеру. Когда паром тронулся, приехали и наши вещи. Но делать было нечего: пришлось ждать, когда другой паром отвезет нас в Неаполь. Тарковский был вне себя — уже стало ясно, что в Милане нам делать нечего. Нам сказали, что из Неаполя мы поедем на поезде в Рим, где нас примет Федерико Феллини. Это должна была быть своеобразная моральная компенсация.
Мы сели в поезд. Это были не спальные места. Вдруг я вижу, как проходившая мимо нашего купе женщина остановилась и через стеклянную дверь смотрит на меня. Я вышел в коридор. Женщина подошла и заговорила по-русски: «Я сейчас живу в Италии. Если вы не против, давайте встретимся в Риме. Мне интересно, как вы там живете». Она оказалась диссиденткой, художником-модельером. Получив разрешение уехать из СССР в Израиль, она туда не поехала, а поселилась в Италии. Еще эта женщина просила меня помочь ей устроиться на работу в итальянском кино. Я ведь снимался с итальянцами в «Красной палатке» и знал Луиджи Вануки, а он был каким-то профсоюзным деятелем. Я с ним созвонился, но Луиджи сказал, что помочь не может, так как женщина, за которую я прошу, не является членом итальянских профсоюзов. А у них с этим строго. Но я уже немного забежал вперед…
Итак, мы прибыли в Рим, и в тот же день в своем офисе нас принял Федерико Феллини. Глядя на него как на что-то недосягаемое, я сидел и молчал. А Тарковский разговаривал с Феллини. Будучи человеком без комплексов, он общался с великим итальянцем на равных, жаловался, как ему трудно работать, на что Феллини ответил: «Ты думаешь, что мне разрешают снимать все, что мне вздумается? Нет, я делаю то, что заказывает продюсер. Он дает деньги, он и указывает». Справедливости ради надо признать, что это «разрешают — не разрешают» у Феллини и Тарковского сильно отличалось. Феллини разве что мог не получить деньги на съемку фильма. Тарковскому же ставить фильм могло быть запрещено «сверху», по политическим причинам. А это была огромная разница.
Вечером Феллини пригласил нас поужинать в ресторане. Владелица ресторана была старой знакомой режиссера. Он снял ее в фильме «Амаркорд». Феллини рассказывал, что в молодости ему жилось трудно: он был беден и часто не хватало денег на еду. Тереза — так звали эту полную, уже немолодую женщину — давала ему поесть.
Через десять лет, в 1984 году, во время съемок фильма «Грядущему веку» мне опять пришлось побывать в Италии. Основные съемки проходили в Венеции. Я впервые увидел город, о котором столько читал и слышал: плыл по Большому каналу, гулял по площади Сан-Марко, любовался знаменитым мостом Вздохов… Меня отвезли на остров Лидо, где проходит Международный Венецианский кинофестиваль. Потом немного снимали и в Риме. Я знал, что Андрей — в Италии. Через посольство СССР я хотел получить какие-то координаты Тарковского и надеялся с ним встретиться, если он захочет. Но мне сказали, что Андрей не желает общаться ни с кем, кто приезжает из СССР. Он никому не сообщает ни своего адреса, ни номера телефона. Возвращаясь из Рима, в аэропорту я вдруг встретил человека, который провожал нас на Капри десять лет тому назад. Мы узнали друг друга, и я у него спросил, не знает ли он, как дела у Тарковского. «Работает», — ответил старый знакомый. (Режиссер к тому времени уже снял «Ностальгию».) Знакомый также сказал, что адрес Тарковского у него есть и он мог бы организовать встречу, поскольку со мной Андрей наверняка захотел бы встретиться. Но было уже поздно, я должен был улетать. А вскоре — 29 декабря 1986 года — Андрея не стало.
В 1991 году в Вене проходил Фестиваль фильмов Андрея Тарковского. Не знаю, кто был его организатором. Меня пригласили, и я впервые поехал в Вену. Показывался и «Солярис». Кроме просмотров фильмов была открыта выставка, проходили вечера памяти. В Вене я впервые увидел фильм Андрея «Жертвоприношение», но мне показалось, что в нем встречаются повторы. Он снимался в чужой среде, и в нем не было той неосязаемой, но всегда присутствующей связи с «домом» — с Россией. Я имею в виду не то, что действие происходит не в России, а то, что атмосфера фильма не русская. На фестивале в Вене была также представлена интересная работа польского режиссера о Тарковском. Это документальный фильм, в котором рассказывается, как Андрей ставил «Жертвоприношение». Интересно было увидеть моменты съемок, послушать беседы с Андреем. Автору этого фильма удалось заснять уникальные кадры. В финале «Жертвоприношения» должна была сгореть вилла, которую специально построили для съемок. Виллу подожгли, а у оператора С. Нюквиста заело камеру. Вилла сгорела, а весь этот переполох заснял только документалист. Но продюсер дал деньги, макет виллы был построен заново, и со второго раза финальные кадры были сняты.
Так случилось, что жизнь еще раз вернула меня к «Солярису», заставила вспомнить о нашей работе с Андреем, заново взглянуть на то, что мы старались создать и о чем хотели говорить со зрителем. Причиной этого стала американская киноверсия романа С. Лема «Солярис». Ко мне в Вильнюс, где я теперь живу, приехали журналисты из Москвы и показали видеокассету. Она была не лучшего качества, а истинное впечатление о фильме можно получить лишь в кинотеатре. Там и звук лучше, и картинка ярче, к тому же фильм снимался не для телевидения. Поэтому мое мнение о «Солярисе» режиссера Стивена Содерберга поверхностное. Безусловно, это сильная работа. Но это другой фильм. И философия другая. И режиссерский взгляд другой.
«Пляска смерти»
В 1974–1976 годах театру Мильтиниса аплодировали Москва, Тбилиси, Ленинград. И каждый раз с наибольшим интересом зрители ждали спектакля «Пляска смерти» по забытой нашими театрами психологической драме Августа Стриндберга, написанной в 1900 году. Это была грандиозная постановка, объединявшая две части драмы, предназначенные для двух вечеров. А в нашем театре обе они игрались в один день, но как два спектакля. К этой постановке Мильтинис шел годами, десятилетиями.
В 1973 году спектакль «Пляска смерти» стал одним из наиболее значительных событий в театральной жизни нашей страны. «Пляска смерти» — традиционный пример европейского искусства. Переплетаясь в таинственном и фантастическом танце, живые танцуют с мертвыми в гравюрах Ганса Гольбейна и в музыке Сен-Санса. У Стриндберга же это камерная драма о трех европейцах конца XIX и начала XX века. Драма, название которой звучит символично. Это Пляска смерти цивилизованного мирового благосостояния. Драматург показывает жизнь своих героев Алисы и Эдгара, по точному определению театрального критика М. Пятухаускаса, «как любовь-ненависть, любовь-дуэль, как неспособность двух людей ни ужиться друг с другом, ни разойтись».
Мир, в котором жили герои спектакля, был неприятен и жесток. На сцене высились крепостные стены из темного кирпича, созданные художником А. Микенасом. В музыкальном вступлении слышался стон ветра и предчувствие несчастья. Музыкальное оформление было одним из важнейших компонентов сценической атмосферы спектакля. Композитор Эдуардас Бальсис стал настоящим соавтором постановки. Герои Стриндберга жили словно в зачарованном, замкнутом кругу, далеком от остального мира.
Если не считать нескольких персонажей, появляющихся во второй части «Пляски смерти», в спектакле были заняты три актера. Эдгара играли поочередно я и Альгис Паулавичюс, Алису — Даля Мяленайте и Дана Видугирите, а Курта — Бронюс Бабкаускас и Альгимантас Масюлис. Огромная нагрузка — и психологическая, и профессиональная, и, наконец, физическая (спектакль шел около пяти часов) — возлагалась на плечи трех исполнителей. А потому артисты должны были жить особо интенсивной сценической жизнью. Нужно было раскрыть такие душевные тайны, которые только и могут передать содержание драмы Стриндберга, практически лишенной внешнего действия. Это очень трудная задача для актеров.
Мне кажется, что режиссер Мильтинис, точно чувствовавший дух «Пляски смерти» и прекрасно понимавший психологию персонажей, ставил бескомпромиссные требования нам, исполнителям ролей. Здесь уже недостаточно было просто желания хорошо сыграть, было мало лишь актерского и человеческого опыта. Ты должен был либо играть так, как требует режиссер, либо уйти со сцены. Слова «не могу», «не понимаю» и тому подобные для Мильтиниса в данном случае были неприемлемы. Помню, как, репетируя «Пляску смерти», он говорил, что поставить это произведение Стриндберга — мечта всей его жизни, которая завладела им еще в Лондоне. И он ждал столько лет, чтобы получить возможность реализовать ее. А когда наконец пришло время и он может осуществить свою мечту, то нельзя допускать никаких компромиссов и ставить эту пьесу легкомысленно.
Алису Мильтинис воспринимал как воплощение женских пороков, считая, что ей хочется в борьбе со своим мужем Эдгаром быть победительницей. Презирая его, она переполнена злобой. Это нравилось Мильтинису. «Вот, вот! Она, женщина, такая и есть!» — говорил он. Алиса — бывшая артистка, упрекающая своего мужа Эдгара в том, что, если бы не он, она могла стать знаменитой актрисой. А он увез Алису и, по ее мнению, спрятал от людей. Эдгару остается лишь терпеть это, стиснув зубы. Мне приходилось слышать, — хотя не знаю, правда ли это, — что похожая история приключилась и с самим Стриндбергом — ведь его жена тоже была актрисой и ее придирчивость мучила его. Поэтому в «Пляске смерти» ему и хотелось показать вечную борьбу между женским и мужским началом. Мильтинис говорил, что именно в этом суть дела, и ему важно было показать подобное противоборство через отношения персонажей спектакля. В «дуэль» Алисы и Эдгара был вовлечен и Курт, и каждая из сторон пыталась сделать его своим сторонником, а он это понимал.
Как уже говорилось, я играл Эдгара. В моем понимании, это не рядовой человек. Больной, живущий на маленьком острове капитан артиллерии Эдгар озлоблен и жесток. Дни и годы его прошли в бессмысленной, почти фантастической, жестокой «дуэли» между ним и его женой Алисой. Через судьбу своего Эдгара я должен был показать силу любви не соединяющей, а отталкивающей людей друг от друга, любви, не позволяющей каждому из них ни быть понятым, ни понять другого человека. Нужно было то сдерживать злость и неистовство, то позволять им проявляться с такой силой, перед которой никто не смог бы устоять. И еще я должен был научиться ненавидеть. Признаюсь, что не сразу понял, как это играть. Мне было тяжело на репетициях, роль давалась трудно. Мильтинис требовал от меня большей силы, экспрессии. Он хотел, чтобы я своей игрой, как говорится, взял бы зрителя за горло, чтобы тот смотрел и воспринимал человеческую личность, индивидуальность, живущую на сцене. Я соглашался, что так оно и должно быть, но это стоило мне большого нервного напряжения.
Быстротекущее время многое унесло из памяти. Сегодня, взяв в руки второй том книги «Юозас Мильтинис. Репетиции», я мысленно возвращаюсь в тот далекий 1973 год. Уважаемый читатель, я подробнее хотел бы проиллюстрировать то, чего требовал Мильтинис от меня во время работы, показать, как создавался мой персонаж. Поэтому позволю себе процитировать точную стенограмму одной из репетиций «Пляски смерти».
«…Возьми себя в руки таким образом, чтобы ты постоянно мог творчески постигать, интеллектуально создавать этого Эдгара, доминировать над каждым человеком, — говорил режиссер. — Глаза должны быть молниеносные — везде. Уши бешеные. Уши Мефистофеля. Он предвидит действия других заранее. Он знает, что делать. Он наслаждается этим терзанием. Но
интеллектуальным. Не физическим. Это не садист, как маркиз де Сад. Но сверхприродный садист, какой-то Люцифер в смысле
предвидения. Будто бы он видит людские слабости и наказывает людей своими замечаниями, которые для людей невыносимы. Потому, что у них хуже ориентация, не настолько развита. <…> Понятиями он
конструирует содержание всегда, когда говорит. Не важно, какая моральная стоимость, какая экономическая стоимость — абсолютно не важно. <…> Эту пьесу, товарищи, надо играть, как
айсберг. Каждый персонаж — особенно Эдгар — айсберг. Маленькая частица видна, а все остальное в бесконечной глубине, и опасно любому встретить его. Это феноменальный персонаж, он взрывает в себе каждого врага. Не надо смотреть по-бытовому. Здесь есть концепция, здесь есть философия, есть Ницше (Nietzsche). Есть, быть может, Прометей Софокла, который сам прикован и других уничтожает — даже богов. В мифологии надо это искать. Не в быту. Эдгар — какой-то скрученный клубок страданий. <…> И для Эдгара
жизнь, и для других персонажей
жизнь — это страдание. Сама жизнь, а не другие люди».
Тогда я на замечания режиссера ответил: «Я все равно не сделаю того, чего вы хотите, потому что не понимаю ничего из того, о чем вы говорите».
И вот опять читаю слова Мильтиниса: «Да, я понимаю. Ты слишком глупый. Слишком малообразованный, вот что. Мало развиваешься».
«Ну я не понимаю. Ну что мне делать?» — продолжаю я диалог.
«Я знаю, что не понимаешь!!! Что я могу сделать?» — отвечает Мильтинис.
«Поменять на другого…» — говорю я.
«Поздно, — парирует Мильтинис. — Мог подучиться. Вот помучайся, помучайся, быть может, и получится. <…> Вот в этом и твое несчастье, что ты можешь сделать».
Кстати, репетируя «Пляску смерти», Мильтинис говорил мне о том, что я уже неоднократно слышал, а именно, что меня как театрального актера испортили съемки в кино. Играя на сцене, я будто бы «падаю в ямы», и это происходит по той причине, что на съемках я привык работать над материалом не целиком, а по «кусочку». «Это большая ошибка, — укорял меня режиссер, — и запомни это, если хочешь работать в театре». С этим замечанием Мильтиниса я был не согласен тогда. Не согласен с ним и сегодня. Кино и театр — это разные виды искусства. Для меня оба они являются искусством и лишь дополняют друг друга. Но, быть может, эти постоянные упреки были лишь «элементами» педагогического воспитания режиссера?
Мы работали не считая часов. Мильтинис выжимал из актера все, что было возможно. Некоторым его стиль работы не нравился — его считали тираном. Но сегодня я могу сказать, что я благодарен за его «тиранство». Он добивался результата. Люди, которые приходили на спектакль, бывали ошеломлены его силой и психологической правдой. Цель достигалась не через внешние эффекты, а через актерскую личность, индивидуальность.
Мильтинис поставил обе части пьесы. Во второй части, когда Эдгар умирает, Алиса говорит: «Слава Богу, что он умер». А потом, произнося свой монолог, вдруг жалеет его, потому что вместе с ним потеряла часть и своей жизни. Ведь частью ее жизни была борьба с Эдгаром. Мильтинису нравилось, что она чувствовала тоску, он воспринимал это как проявление человечности. Потому и поставил вторую часть. Хотя надо сказать, что она не имела той мощи, какой отличалась первая. Может быть, потому, что вторую часть Стриндберг написал позднее и в ней уже не было той силы и вдохновения, которые мы видим в первой.
Первую часть мы обычно начинали в 15 часов и играли два с половиной часа, примерно до 17.30. Потом был перерыв, и в 19 часов начинали играть вторую часть. Так было и в Паневежисе, и в Вильнюсе, и в Москве. А часто на гастролях показывали лишь первую часть.
«Пляска смерти» была чрезвычайно популярной в нашем театре постановкой. Но, к сожалению, очень недолговечной. Это парадоксально, имея в виду долговечность наших спектаклей, но «Пляска смерти» лишь несколько сезонов шла на нашей сцене. На нее съезжалась публика не только из Литвы или соседней Латвии. Приезжали зрители и из Москвы, и из Ленинграда. Люди прямо ломились в театр. Но… в 1975 году из жизни ушел игравший Курта Б. Бабкаускас. Очень скоро оставил наш театр и второй исполнитель этой роли — А. Масюлис. А в 1980 году распрощался с театром и Ю. Мильтинис. Так спектакль «Пляска смерти» стал последней по-настоящему серьезной работой не только Мильтиниса, но и Паневежисского драматического театра.
Ранней осенью 1974 года мы выехали в Москву. Это были наши первые гастроли в Москве. Волновались ли мы? Конечно. Мы же знали, что московский зритель видел множество хороших спектаклей. Там, в Москве, были замечательные театры, в которых играли знаменитые актеры. Что ни говори, эти гастроли мы воспринимали как чрезвычайно ответственные. Гастролям предшествовала поездка Мильтиниса, Бледиса и Космаускаса в Москву. Их приняла министр культуры СССР Екатерина Фурцева и обещала свою помощь. Сказала, что гастроли нашего театра очень важны для Москвы. Мильтинис цитировал нам слова Фурцевой: «Везите как можно больше спектаклей, даже если мне лично они и не понравятся». Вообще, прием в Москве Мильтиниса порадовал. «Такая толерантность, такая демократичность меня просто взволновала», — признавался он.
В Москву мы везли шесть спектаклей: «Марию» А. Салынского, «Среднюю женщину» А. Лауринчюкаса, «Карусель» Милюнаса, «Вольпоне» Б. Джонсона, «Франка V» Ф. Дюрренматта и «Пляску смерти» А. Стриндберга. Я понимал, что не все спектакли были одинаково высокого уровня. Некоторые из них просто средние, ничем особым не отличавшиеся. Но так решил Мильтинис, и с ним никто не спорил. Сегодня мне кажется, что Мильтинис старался соответствовать требованиям, хотел, чтобы в гастрольной афише была и советская пьеса, и литовская, и зарубежная. Играли в филиале МХАТа на улице Москвина. Помню ту робость, с которой я вошел во МХАТ через служебный вход. Шагнул на сцену перед первой репетицией — и подумал: «Эти подмостки помнят великих Станиславского, Тарасову, Москвина и многих других. А теперь здесь будем играть мы».
Нам рассказывали, что билеты на наши спектакли были распроданы за месяц до начала гастролей. Когда же мы начали играть, люди уже за километр от театра спрашивали лишний билетик. Сам театр был в «осадном положении». Мне рассказывали, что перед одним из показов «Пляски смерти» хлынувшая толпа желавших попасть на спектакль разбила стеклянную дверь и ворвалась в зал, где тут же появилась милиция и занялась непривычным для нее делом — проверкой билетов у зрителей. К сожалению, не все прорвавшиеся тогда в зал увидели нашу постановку. На спектакли приходило много режиссеров, критиков, писателей и журналистов. Зал был переполнен. Мне приходилось читать в газетах, что больше всего зрителей интересовала «Пляска смерти». Было множество статей — и до гастролей, и после. Говорилось о том, что театр под руководством народного артиста СССР Ю. Мильтиниса — это в первую очередь театр актерского мастерства — театр и школа. В Москве мы играли три недели. Это было время серьезной и напряженной работы, несмотря на тот ажиотаж, о котором я только что говорил.
Еще до нашего приезда много говорилось и писалось о театре-легенде из маленького провинциального городка. Конечно, те, кто надеялись увидеть живую «легенду», наверное, немного разочаровались. Не все спектакли получили всеобщее признание. Рассказывали и о довольно горьких высказываниях критиков. Но ведь иначе и не могло быть. Надо признать, что не все показанные в Москве спектакли следовало везти на столь ответственные гастроли. Были довольно посредственные постановки, да и пьесы отобраны не самые удачные. Критик Владимир Фролов писал, что в «Средней женщине» актеры будто бы разделялись на две категории: прекрасные мастера — Бабкаускас, Шулгайте, Мяленайте — и другие, будто бы из совсем другой актерской школы. Мне думается, в этих словах есть своя правда. Мильтинис, видимо, не обращал внимания на отдельные актерские работы в этой постановке. Да и пьеса Лауринчюкаса его не привлекала.
Критики писали, что лицо Паневежисского театра особенно ярко выражается в постановках классических произведений: «Макбет» Шекспира и «Гедда Габлер» Ибсена. Когда-то эти спектакли сделали театр знаменитым, но, увы, московский зритель их не увидел. На гастролях же и критики и зрители с особым интересом восприняли «Пляску смерти» и «Франка V». Уже упомянутый В. Фролов писал, что в «Пляске смерти» сохранена глубина подтекстов, и подчеркивал, что особенно хорошо зрители принимали спектакль, когда играли Банионис, Бабкаускас и Мяленайте, создающие на сцене чудо, чудесное искусство.
Хочется вспомнить и еще один эпизод. В спектакле «Вольпоне» я играл Корвино. Меня ввели на роль, которую прежде исполнял Й. Алякна. Когда его не стало, Мильтинис решил, что я на эту роль вполне гожусь. В Москве на гастролях я, выйдя на сцену, вдруг услышал аплодисменты и растерялся. Просто не ожидал этого. Но через несколько секунд собрался и стал играть. Мне было приятно то, что зрители узнали меня по моим киноролям.
Мы начали гастроли показом «Марии» А. Салынского. Спектакль не был встречен с большим энтузиазмом. Отмечалось, что мы не совсем правильно интерпретировали пьесу. Как я уже говорил, не произвела впечатления и «Средняя женщина». Мне приходилось слышать, что лишь одна или две постановки соответствуют тому высокому мнению о Паневежисском театре, которое складывалось годами, а «Мария», «Средняя женщина» и «Карусель» — постановки весьма среднего уровня. И я с этим вполне согласен.
Мне кажется, что классика важна для театра тем, что дает возможность думать и анализировать. И я считаю, что именно постановками классических произведений силен наш театр. С другой стороны, произведения современных драматургов, которые ставил Мильтинис, такие, как «Смерть коммивояжера» А. Миллера, «Там, за дверью» В. Борхерта и, возможно, еще несколько других постановок (к сожалению, их было в нашем театре очень мало) своим глубоким анализом бытия, человеческих характеров, поступков героев могут быть для зрителя даже важнее, чем неудачно поставленная классика.
Гастроли в Москве закончились, как и все когда-то заканчивается. Того, чего от них ожидал Мильтинис, да и мы все, к сожалению, не было. Конечно, нас и хвалили: «Паневежисский театр со своей театральной культурой и творческими принципами — коллектив единомышленников», «Паневежисский театр, как редко в нашей театральной практике бывает, имеет яркий, индивидуальный почерк, который в большей части предопределяет творческая и своеобразная личность руководителя театра Ю. Мильтиниса»… Но это лишь общие слова. А все остальное — в большей части пересказывание сюжетов пьес. Хвалили Мильтиниса и как режиссера, и как актера, игравшего в «Вольпоне» главную роль.
Чуть больше отзывов было о спектаклях «Пляска смерти» и «Франк V». Но, как я уже говорил, мы ожидали большего успеха.
И я снова подчеркиваю, что главные просчеты были связаны с формированием гастрольного репертуара. О том же, кстати, говорили многие критики. Не могу понять, почему в афишу не была включена «Гедда Габлер» Ибсена, а литовская драматургия была представлена не самыми интересными пьесами. А ведь мы могли показать спектакли по пьесам Ю. Грушаса. Правда, в нашей местной газете «Паневежио тиеса» («Паневежисская правда») звучало ликование по поводу гастролей нашего театра в Москве. Это было и горько, и смешно. Я понимаю автора статьи: ему было все равно — хорошо или так себе прошли гастроли в столице. Главное — сам факт: провинциальный театр играет на московской сцене!
Я должен бы тоже радоваться, поскольку в декабре 1974 года, сразу после гастролей, был удостоен звания народного артиста СССР. Я искренне радовался еще и тому, что получил это звание вместе с любимым и уважаемым мною артистом Бруно Фрейндлихом. Я давно восхищался творчеством этого великого актера, мастера философского диалога. О нас писал всесоюзный журнал «Театр». Говорилось о моих ролях, хорошо, что в основном о тех, о которых мне и тогда, и сегодня вспоминать не стыдно. Видимо, звание народного артиста СССР я получил не только за работу в театре, как написано в дипломе народного артиста, но и за кинороли в «Солярисе», в «Гойе»… Хотя в журнале «Театр» упомянут лишь Вайткус из фильма «Никто не хотел умирать». Но мне было приятно, что обращено внимание именно на моего героя из литовского фильма.
В 1975 году состоялись еще одни важные для нашего театра гастроли. В конце февраля по приглашению Театра Дружбы мы гостили в Грузии, в Тбилиси. Я знал Грузию больше по кинофильмам, в которых чувствуется настоящий профессионализм и большая культура. Кроме того, в Москве, во время гастролей Театра имени Марджанишвили, удалось посмотреть спектакль «Старые водевили», который доставил мне большое удовольствие. В Тбилиси же я успел посмотреть «Кваркваре» в Театре имени Ш. Руставели.
Для нас было честью играть в стране с такой высокой культурой актерского мастерства. Показывали мы там единственный спектакль — «Пляску смерти» Стриндберга. Грузинская газета «Коммунист» писала: «В нашу столицу прибыл высокоталантливый коллектив Паневежисского драматического театра во главе с основателем этого театра — Юозасом Мильтинисом. <…> Истинное искусство радостно новыми открытиями и ощущениями. Так случилось и сейчас, когда мы на сцене Театра Руставели смотрели эту работу Паневежисского театра». Меня приятно удивили слова заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, доктора исторических наук О. Эгадзе: «Я сознательно не приобрел ни программки, ни наушников. Наблюдая лишь пластическую речь актеров и интонации, убедился, что мастерство может сделать понятным любого персонажа. <…> Это результат большого актерского искусства — особенно Д. Мяленайте и Д. Баниониса. <…> Я рад, что увидел таких „экономных“ актеров: каждое движение — тезис».
«Спектакль развивался так, как мы и предполагали, — писал в статье „Встреча с истинным искусством“ Александр Шалуташвили. — Это было, если можно так выразиться, проникновение театра в лабиринты души человеческой. С этой стороны Стриндберг дает великолепный материал. Театр же это ощущение поднимает до высот трагических переживаний. Оставшийся в одиночестве, беззащитный глас души разносится по всей вселенной. Но вселенная — глуха и нема…»
Незабываемы для меня были и встречи с актерами Театра Шота Руставели. Увидели мы древнюю столицу Иберии Мцхету, церковь Давида и пантеон великих грузинских деятелей искусства. Эти гастроли для нас стали праздником. В конце их известная киноактриса Софико Чиаурели на приеме в Доме актера прочитала письмо своей матери — великой грузинской актрисы Верико Анджапаридзе, в котором говорилось, что моральный кодекс театра Мильтиниса — одна из наиболее красивых страниц в книге, которую пишет современный советский театр.
…Закончился театральный сезон. Начался новый. Начался с несчастья. Из жизни ушел один из наиболее талантливых актеров нашего театра — Бронюс Бабкаускас. Передо мной вырезки из газет от 23 октября 1975 года. На литовском, русском, польском языках… Смотрю на лицо до сих пор незаменимого Бронюса. Все некрологи начинаются словами: «21 октября вдруг скончался народный артист Литовской ССР…». «Вдруг скончался…» Лишь через пятнадцать лет после его кончины один тогда еще не очень известный журналист спросил меня: «Почему Бабкаускас покончил жизнь самоубийством?» Я ответил: «В таких случаях никто не знает причин. Знает лишь тот, кто ответить уже не может. Он говорил, что ему тяжко. Со здоровьем было неважно. Текстов не мог выучить». Далее журналист в подробности трагедии не углублялся. Спрашивал меня: «Было ли вам в жизни трудно?», «Встречались ли вы с Феллини?» — и так далее и тому подобное. Тогда, наверное, я впервые столкнулся с журналистикой, которую не интересует душа человека, мысли человека, а быть может, нет и уважения к ушедшим. Ей достаточно «прыгать» от вопроса к ответу, от вопроса к ответу. И все. Спрашивают о том, что взбредет в голову, отвечаешь тоже что вздумается… Хорошо, если хочется говорить правду, а если нет?.. Мы же еще долго не могли примириться с Потерей. Пишу это слово с большой буквы, так как она была очень и очень большая.
Шли дни. Начался 1976 год. Мы собрались на еще одни гастроли, на этот раз в Ленинград. Везли несколько спектаклей — среди них «Гедду Габлер», «Там, за дверью». Все, конечно, ждали «Пляску смерти». А у нас не было Курта: ушел Бабкаускас, оставил театр А. Масюлис. Наконец на роль Курта был введен Янсонас.
Мы играли в ДК имени Первой пятилетки. Ленинградское телевидение решило снять наш прославленный спектакль — «Гедда Габлер». Начали снимать — и вдруг увидели, что у них что-то случилось с телекамерами. Съемка не получилась. Главный редактор С. Шуб попросил нас начать играть спектакль еще раз с начала. И мы начали. При переполненном зале. О нашем театре все еще ходили легенды. Хотя, мне кажется, в то время художественный уровень театра уже падал.
Кинематографические пути-дороги
В 1971 году делегация работников культуры Литвы ездила в Монголию. В состав делегации были включены танцевальный ансамбль, певцы и один актер. Им был я. К тому же в Монголии показали фильм с моим участием, правда, не помню какой.
Когда мы приехали в Монголию, я был удивлен, даже, точнее, ошеломлен той отсталостью, которую увидел. Столица Улан-Батор мне показалась странным городом, даже не городом, а, скорее, поселком. Рядом с ним стояли юрты, по улице раз в полчаса проезжала машина, а регулировщик, который там, на мой взгляд, и вовсе был не нужен, сидел и пил чай. Когда он видел подъезжающий автомобиль, бежал на перекресток, показывал водителю, что тот может ехать, и опять возвращался к чаепитию. Но при этом надо сказать, что он честно выполнял свой милицейский долг. Монголия в те годы была в сфере влияния СССР. Там существовали военные городки, где можно было в «Военторге» купить дубленку достаточно дешево. Руководство одного из таких военных городков организовало в нашу честь банкет. Там я впервые попробовал национальные монгольские блюда, которые для нас были экзотикой. Там впервые я пил и кумыс.
Через год, в 1972 году, я побывал в Италии, в Сорренто. Туда, на Дни советского кино, поехала большая делегация. Мне опять повезло: меня включили в ее состав. Помню, как Иннокентий Смоктуновский запел для публики «Вернись в Сорренто». А я получил от Джины Лоллобриджиды в подарок статуэтку, которую храню до сих пор. Тогда же мы увидели Везувий и посетили знаменитый город Помпеи. Мы знали, что там можно посмотреть фрески с неприличными сценами. Наша советская группа была разделена на две части по половому признаку, то есть на мужскую и женскую. Первыми «запустили» поглядеть на пикантные фрески, как и полагалось, женщин, а мы, мужчины, остались ждать. Вия Артмане, выйдя, спокойно произнесла: «Там нет ничего нового». Когда туда попали и мы, режиссер с Украины Ю. Ильенко, посмотрев фрески, сказал: «Ну что тут все говорят — фрески, фрески. Вот у нас в Москве на Казанском вокзале в мужском туалете — вот там уж фрески так фрески!»
После «Соляриса», в 1972 году, я снялся в ряде менее известных фильмов, которые сегодня мало кто помнит: «Капитан Джек», «Командир счастливой „Щуки“». В 1973-м был еще фильм «Открытие»…
«Капитан Джек» снимался на Латвийской киностудии, я в нем сыграл матроса Митю. Режиссер А. Неретниеце адресовала этот фильм молодежи. Морская тема продолжалась и в картине «Командир счастливой „Щуки“», снятой на «Мосфильме» режиссером Борисом Волчеком, отцом знаменитой актрисы и режиссера легендарного «Современника» Галины Волчек. Это была по-настоящему советская, патриотическая лента. В ней рассказывалось о приключениях подводной лодки «Щука» в годы войны. Говорили, что якобы во время войны действительно существовала такая подводная лодка «Щука», которая топила немецкие суда. Я сыграл командира этой лодки — латыша комиссара Гунара. Большую часть картины мы снимали в павильоне на «Мосфильме» и лишь некоторые эпизоды — на настоящей подводной лодке. Для этого нам выдали пропуска на военную базу под Мурманском. Там были отсняты эпизоды у причала, когда мы, стоя на палубе, отплывали от берега. Это была бухта, где находилось много подлодок. Конечно, та лодка, на которой мы снимались, оказалась безнадежно устаревшей. Наше же пребывание было организовано так, чтобы мы не видели новых кораблей, вооружения и ничего не знали. Но с матросами и офицерами мы общались. Как-то раз я спустился в лодку через люк посмотреть, как там, внутри. И увидел такие узенькие, неприятные, даже страшноватые проходы. Я понял, что пробыть под водой месяц или два — не шутка. Мне приходилось слышать, что у молодых матросов, которые длительное время проводят на глубине, под водой, начинается нервное истощение. По узкому проходу я подошел к дверце и, решив, что это шкафчик, открыл ее. А там сидит подводник — то ли радист, то ли кто-то еще. Помещение совсем маленькое. Как он там поместился? Впечатление было удручающее. Сцены же, действие которых проходило внутри подлодки, снимали на киностудии. Для этого построили специальную декорацию, где было просторно, и потому ощущения оказались совсем иными.
В 1973 году на Свердловской киностудии режиссер Б. Халзанов снимал фильм «Открытие» об ученом по фамилии Юрышев. Мне было интересно попасть в Свердловск еще и потому, что это была моя первая встреча с Уралом. Там в то время существовал огромный знаменитый завод «Уралмаш», которым руководил Николай Рыжков. Мы побывали на заводе, пообщались с его руководителем. На меня все увиденное произвело огромное впечатление. Мы жили у озера Балтым на заводской вилле. Нас возили на съемки на киностудию, но ночевали мы там, на вилле. Ко мне приезжали отдохнуть жена Онуте и сын Раймундас. Мы получили особнячок и прожили в нем два месяца. А рядом, за забором, была дача директора «Уралмаша» Николая Рыжкова, который в выходные дни приезжал и приглашал меня посидеть с ним «за чаем». Мне было интересно послушать его рассказы о заводе, его рассуждения о политической ситуации. Позднее он стал Председателем Совета Министров при М. С. Горбачеве. Мы с ним встречались и тогда, но наши беседы уже были другими.
В 1974 году я с большим интересом посетил Индию, где проходили Дни советского кино. Мы ехали втроем — режиссер Александр Зархи, поставивший фильм «Анна Каренина», который и был представлен на суд индийского зрителя, актриса из Ленинграда Татьяна Бедова и я. Когда мы прилетели в Дели, нас, как и полагалось по индийской традиции, встречали с гирляндами цветов. Так гостей приветствовали везде в Индии, где нам только пришлось побывать.
Я, наверное как и многие, не бывавшие в Индии, представлял себе, что тут везде должны гулять святые коровы. Но это не совсем так, хотя, конечно, и в Дели мы видели несколько таких коров, в остальном же столица Индии — чистый город, в котором построены новые дворцы. В Дели мы были в дни какого-то национального праздника и даже присутствовали на военном параде, среди уважаемых людей, видимо, тоже гостей. Действо было больше похоже на маскарад: армия шествовала в тюрбанах, на лошадях и верблюдах, с копьями. Нам это все казалось экзотикой.
Из Дели мы полетели в Бомбей, где находятся главные индийские киностудии. Именно здесь «родился» индийский кинематограф. На киностудии нас принял, наверное, самый знаменитый индийский актер и режиссер Радж Капур, которого мы знали и помнили по фильму «Бродяга». Мы пообщались, пообедали, посмотрели киностудию — увидели, как делается индийский фильм со множеством поющих и танцующих артистов и статистов. Снимались большие куски целиком, мы не заметили, чтобы режиссер делил их по сценам. Наверняка у них тоже бывают съемки по такому же принципу, что и у нас, но мы видели другое. К слову сказать, индийские зрители весьма своеобразно принимали фильм Зархи «Анна Каренина». Режиссер, представляя картину, рассказывал им, что это история женской любви. Но зрителям казалась странной любовь Анны. «Зачем надо кончать жизнь самоубийством из-за любви?» — недоумевали они, и, конечно, им было смешно.
В Бомбее было весьма любопытно поездить по улицам. Там никто не соблюдал никаких правил дорожного движения, поэтому стоял невероятный шум: все автомобили сигналили, маневрируя среди телег, запряженных волами. Но на морской набережной телег не было и автомобили ездили быстро. В Бомбее также мы увидели те районы и кварталы, где царила жуткая нищета. Трущобы, трущобы… Казалось, что проживавшие здесь люди родились среди этих трущоб, прожили жизнь и умерли, никогда никуда отсюда не выходя. Там была ужасающая нищета. И много детей, которые бегали за каждым «белым» человеком, протянув руку и прося денежку. Как-то я вышел из автомобиля, и тут же, как всегда, подбежали дети, показывая, что хотят есть. Мол, дай мне рупию, я голодный. Я уже стал искать рупию для ребенка, но меня предупредили: «Ни в коем случае не давай им денег. Одному дашь, другие разорвут тебя в клочья. А не получив денег, дети убегают». Смотреть на это было чрезвычайно тяжело. Еще я видел стройку, где женщины носили кирпичи на плечах, по лестнице, по доскам, все выше и выше. Я был ошеломлен и сказал лишь: «Ведь есть же техника — краны». Мне ответили: «Да, это требует денег, женщине же платят одну рупию в день, и ей хватает, столько стоит чашка чаю. А кран обойдется городу дороже, так зачем тратиться, когда существует дешевая рабочая сила».
Далее наш путь лежал южнее, где нищеты было уже меньше, поскольку там преобладали курорты. Побывали мы и в Тадж-Махале. Увидели это чудесное строение XVII века с пятью куполами и четырьмя минаретами — мавзолей, считающийся символом любви. А в Дели наблюдали свадьбу богатых людей. Нигде больше, кроме Индии, мне не приходилось видеть такие контрасты: нищету, какую трудно себе представить, и почти рядом — роскошнейшие дворцы богатых людей.
В том же, 1974 году я начал сниматься в фильме «Бегство мистера Мак-Кинли». Сценарий по повести Л. Леонова мне понравился. Я понял, что мой герой хотел уснуть и проснуться через много лет потому, что его не устраивала жизнь, которую диктовали законы буржуазного общества. Для него была неприемлема окружавшая его безнравственность. Он надеялся, что через много лет, когда проснется, жизнь изменится в лучшую сторону. Но в фильме эта тема недостаточно развита и выглядит весьма схематично. Владимир Высоцкий красиво поет свои песни — зонги. А того, что в этой жизни плохо, — я не вижу, и фильм меня в этом не убеждает. Поэтому я могу сказать лишь, что Михаил Швейцер — хороший режиссер. Но вот психологического анализа, философского решения, того, о чем я думал и что себе представлял, — в фильме нет. Западная жизнь показана достаточно иллюстративно и схематично. Я могу об этом судить, так как знаю ее не понаслышке. Мне приходилось там бывать и видеть жуткий разврат, который Мак-Кинли не мог пережить. Ведь столь важное решение он принял не потому, что нищий, а потому, что ему чуждо моральное разложение.
Во время войны во Вьетнаме в США произошло разделение людей по их взглядам. Одни считали, что надо жить и веселиться, другие же задавались вопросом: «Куда мы идем?» К примеру, в американском фильме «Ночное такси» герой, вернувшись с войны, устраивается на работу ночным таксистом и видит, что вернулся в страну, где господствует моральное разложение, безнравственность. А в финале, не выдержав всей этой грязи, он берет автомат и стреляет в людей. Мне казалось, что Мак-Кинли должен был видеть общество именно таким, но в фильме мы этого не сумели показать.
Снимали в ночном Будапеште. А Будапешт красив и днем, и ночью. Создавали образы, искали метафоры, но не раскрыли психологических причин поступков героя, внутреннюю подоплеку его взглядов на жизнь. Возникает вечный вопрос: кто виноват? Режиссер, который неправильно понял задачу? А может, кто-то другой? Швейцеру в ту пору помогали в работе другие режиссеры, и я чувствовал, что он поддавался чужому влиянию.
Несмотря на все вышесказанное, фильм, как говорится, прозвучал, но, мне думается, скорее благодаря значимости темы. Рецензенты оценили его хорошо. «Постановщик фильма и Донатас Банионис, исполнитель центральной роли, проводят своего героя через ряд различных психологических состояний, — писал Н. Савицкий. — Такие переходы — от тяжелой подавленности к внутреннему раскрепощению, от пассивной растерянности к решительному действию, от отчаяния к надежде — требовали от актера большего разнообразия интонационных и пластических приемов, большей изобретательности в конструировании роли, чем это вышло на экране. Однако в целом Мак-Кинли Баниониса достоверен, и, что особенно важно, он естественен». Ну что же, хорошо, что так написали…
Моей партнершей была Жанна Болотова. Общение с ней было приятным — она очень симпатичный человек и прекрасная актриса. Высоцкий в фильме, как я уже говорил, лишь пел. Он в ту пору был очень замкнут в себе. Мы вместе с ним были в Будапеште, вместе обедали, но не дружили. Наше знакомство я мог бы назвать скорее шапочным. Об Ангелине Степановой я всегда вспоминаю с огромной нежностью. Благодаря ей моя вера в театр лишь усилилась, ведь для нее театр — это было святое. Не то, что сегодня, — вышел «актер», покривлялся, и все. Трюки, а не анализ человеческой психологии, не проблемы человеческого бытия. У Степановой — ученицы К. С. Станиславского — я многому научился.
Обычно нерусских актеров в фильмах озвучивают. Озвучивают и меня, однако не потому, что я не разговариваю во время съемок на русском языке, — я, как и многие другие, играю на русском, но говорю с акцентом. А когда один персонаж разговаривает так, будто он иностранец, это выглядит странно. Ну а если в фильме снимается несколько актеров, для которых русский язык не является родным? И каждый разговаривает со своим акцентом?! Итак, моих героев озвучивали. Часто это делал Александр Демьяненко — знаменитый Шурик из фильмов Леонида Гайдая, которым я был доволен. Приходилось моим героям говорить и голосом Владимира Заманского. Но для Мак-Кинли режиссер Швейцер выбрал другой голос — Зиновия Гердта. Мне это не нравилось, потому что его голос совсем не похож на мой. Голос Гердта и его облик сочетаются гармонично, а мой облик и голос Гердта — нет. Видимо, Швейцеру показалось, что герой должен быть более зрелого возраста, чем был я, и голос должен быть «зрелым».
Фильм вышел на экраны в 1975 году. И меня удивило, что в 1977 году он был удостоен Государственной премии СССР. Мне кажется, что это, скорее всего, была оценка работы режиссера Швейцера, Леонова, Степановой, однако премию получил и я.
…В 1975 году мне также посчастливилось посетить Кубу. Мы ехали втроем — Лариса Шепитько, я и, к сожалению, не помню, кто у нас был третьим. Кажется, какой-то режиссер из Киргизии или из Казахстана. Когда наш самолет приземлился в Гаване и мы сошли с трапа, первое, что почувствовали, — жару. Такая жара для нас была непривычна. Помню, мы замачивали в воде простыни для того, чтобы ночью накрыться влажными. Жили в гостинице «Гавана либре», которая в свое время была весьма знаменита, и в нее съезжались на зиму американцы. Но это было давно… А мы приехали, когда кондиционеры уже были сломаны. Питались тоже исключительно в гостинице. В городе больше нигде поесть было невозможно. В магазинах в лучшем случае удавалось купить лишь болгарские консервированные фрукты. Вы только подумайте: на Кубе привезенные из Болгарии или Венгрии консервированные фрукты! И ничего больше. При этом, проезжая по полям, мы видели плантации бананов и сахарного тростника.
И все равно на Кубе было очень интересно. В посольстве СССР нас принял атташе по культуре. Какой фильм мы туда возили, не помню, но знаю точно, что без моего участия. Быть может, это был «Ленин в Октябре» или что-то подобное. Обычно в «экзотические» страны — я имею в виду Анголу, Судан, Эфиопию, — куда я ездил на дни советского кино из СССР, привозили фильмы о Ленине, революции и так далее. Художественный уровень картины в расчет не брался, главное, чтобы фильм был пропагандистским. Я никакого отношения к фильму не имел. Мне приходилось раскланиваться до или после просмотра и говорить какие-то общие слова: «спасибо, что пришли», «приятного просмотра».
В Гаване мы видели кварталы, где в свое время были бордели для моряков. В те годы, когда мы посещали Кубу, они уже были закрыты правительством Фиделя Кастро и стояли с заколоченными дверями. Побывали мы и на знаменитых пляжах Варадеро, где обычно в прежние времена отдыхали американцы. После кубинской революции все опустело, американцы уже не приезжали и от былой роскоши не осталось и следа. Но мы все же искупались там в море. Посетили и варьете «Тропикана», в котором восхитительно пели и танцевали кубинки. Самое интересное, что там мы встретили тех функционеров, которые переехали из Европы на Кубу распространять коммунистическую идеологию. Кастро их сам пригласил, — многие были из других стран и ничего общего не имели с народом Кубы. Может быть, и нехорошо так говорить, но они заняли главные посты в государственной службе — по преимуществу в сферах культуры и экономики.
В один из вечеров нас отвезли к Кастро и представили ему. Но прием устраивался не для нас, а для дипломатов социалистических стран. Кастро подошел, пожал нам руки, улыбнулся — и все. А мы хотели сфотографироваться с ним на память, но нам объяснили, что Кастро не разрешает себя снимать. На многих фотографиях он обычно один или с народом, а не с отдельными людьми — с дипломатами или артистами.
Куба, как мне казалось, в свое время была богатым государством, однако пользовались ее богатствами США. Правительство Кастро установило социалистический строй, но — никакого богатства. Надо учитывать и то, что тогда была сильная блокада со стороны США — и экономическая, и политическая. Существовали на Кубе и странные для цивилизованных людей порядки. В гостинице мы были изолированы и могли в ней лишь жить и питаться. Когда нас возили по городу, мы видели страшную нищету. Так, в Гаване встретили женщину родом из Ленинграда, которая со своим мужем-кубинцем познакомилась в России, когда он там учился, вышла за него замуж и переехала на «остров свободы». Я не знаю, где она на Кубе работала, но, по ее рассказам, жила очень бедно: даже рубашку могла купить только по карточкам. На Кубе я видел и нищету, и прекрасную природу, и былое богатство — американское. Богатыми стали лишь те прибывшие на Кубу функционеры, которые работали в области идеологии. У них были и квартиры, и все остальное.
Для Литвы год 1975-й был знаменателен тем, что праздновалось 100-летие талантливейшего литовского композитора и художника Микалоюса Канстантинаса Чюрлёниса. Наш прекрасный режиссер-документалист Робертас Вярба стал снимать фильм о Чюрлёнисе, который назывался «Жизнь я вижу как симфонию». Режиссер пригласил меня поработать с ним. Я очень обрадовался тому, что смогу поближе познакомиться с жизнью и творчеством незаурядной личности. Мы побывали в местах, где он родился, учился, жил… Друскининкай, Паланга, Лейпциг, Дрезден, Варшава, Ленинград… Снимали и в галерее Чюрлёниса в Каунасе, и в Третьяковской галерее — в то время выставка работ художника как раз проходила в Москве, однако в России в те годы его мало ценили, ведь он был символистом, а не реалистом. Это позднее Россия «открыла» для себя Чюрлёниса. Я в этом фильме лишь читал текст за кадром, но был счастлив тем, что имел возможность прикоснуться к судьбе этого великого художника.
В 1975 году меня избрали депутатом Верховного Совета СССР. До меня от работников искусств Прибалтики депутатом Верховного Совета СССР была латышская актриса Вия Артмане. Мой же депутатский срок длился пять лет — до 1980 года. Во время сессий жили мы в гостинице «Москва», у нас был свой депутатский магазин, где мы могли приобрести товары, считавшиеся в те годы дефицитными. Помню, знакомым я привозил зимние сапоги, которые у нас купить было трудно. Но магазин магазином, а вот интересным встречам я радовался всегда. Там, в Верховном Совете, познакомился с депутатом, летчиком-космонавтом, наконец, просто симпатичной женщиной Валентиной Терешковой. Приходилось мне побывать и у нее дома в знаменитом Звездном городке, когда она пригласила меня «посидеть за чаем». Мне было интересно, кто из знаменитых людей придет к ней в гости. Я знал, что будет ее муж, летчик-космонавт Андриян Николаев. Был также летчик-космонавт Владимир Шаталов и несколько человек из администрации. До начала «чаепития» мне показали то, что в Звездном городке показывать можно. Потом мы сидели, немного выпили и, возможно, стали слишком разговорчивы. Один из гостей сказал: «Валентина, как же наши командиры с нами поступают! Как они могли запустить тебя в космос неподготовленной! Конечно, американцы ведь тоже готовились отправить в космос женщину, но наши обязательно должны были быть первыми!» Помню, как сосредоточенно молчала Валентина и как ей был неприятен этот разговор. Потом стали говорить о чем-то другом… С того вечера прошло немало лет, а с Терешковой наши дружеские связи не прерывались.
Приходилось мне видеть и Леонида Ильича Брежнева. Запомнился еще анекдот тех лет. В Большом зале Кремлевского дворца съездов собрались работники сельского хозяйства. В президиуме — скука, доклады неинтересные. Два колхозника — участника съезда, видя в президиуме знакомое лицо, спорят. «Говорю тебе, это — он», — уверяет один. «Не-е-ет!» — отвечает другой. «Я тебе говорю. Это точно он!» — настаивает первый. «Нет, да что ты говоришь! Нет», — не уступает второй. Во время перерыва «люди из президиума» выходят пообщаться с народом. Вышел и тот, который так заинтересовал колхозников. Вокруг него суетятся охранники. «Давай подойдем и спросим, кто он», — предлагает один из спорщиков. И слышит ответ: «Я — Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев». — «Вот видишь, — с разочарованием говорит колхозник. — А ты все — Банионис, Банионис…»
В 1975–1976 годах мне пришлось немало сниматься. Кроме уже упомянутого «Бегства мистера Мак-Кинли» были фильмы «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» и «Бетховен». Для меня было важно то, что во всех этих фильмах я играл главные роли. Работалось интересно, хотя в итоге получилось, что результат не всегда оказывался таким, какого я ожидал и желал. В картине «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» режиссер Анатолий Бобровский предложил мне сыграть центральную роль Фердинанда Люса. Главным образом меня радовало то, что автором сценария этого фильма был Юлиан Семенов, по произведениям которого был снят знаменитый сериал «Семнадцать мгновений весны». В те годы он был одним из наиболее интересных авторов, писавших на актуальные темы. Фильм поначалу назывался «Бомба для председателя». Когда я прочитал сценарий, то сильного впечатления он на меня не произвел. «Но, — подумал я, — все же Юлиан Семенов!» Надеялся, конечно, и на режиссера, который мне тоже казался интересным. Привлекали, разумеется, и съемки в Западном Берлине и Японии. Короче, я с радостью принял предложение.
«Почти месяц пожить в Токио, — мечтал я, — сниматься в Йокохаме, узнать японский быт, пообщаться с японцами, увидеть театр кабуки, походить по знаменитым японским базарам, посмотреть древнюю столицу Японии Нару, побывать в японской семье и еще многое-многое — это удача в моей жизни». К тому же я подружился с Юлианом Семеновым, который на протяжении всего этого времени был рядом, и не только на съемках. Мы вместе гуляли по Токио, и как же хорошо он умел торговаться с продавцами! Даже помог мне купить проигрыватель, за который я заплатил бы в два раза больше, если бы Юлиан не сумел уговорить продавца. А ведь в те годы японская аппаратура считалась чрезвычайно ценным приобретением. И сегодня, когда я смотрю на этот старенький проигрыватель, вспоминаю Юлиана.
К сожалению, фильм получился не настолько интересным, как я рассчитывал. «Зритель заинтересовывается, но, следя за перипетиями сюжета, иногда испытывает чувство, близкое к разочарованию, — писал один из рецензентов. — Потом его опять привлекают сильные моменты. Так он и живет на протяжении всего фильма — от разочарования к надежде, которой так и не суждено сбыться».
И еще одна веселая история. В Токио ко мне привели девушку, которая должна была стать моим переводчиком. Сказали, что она полгода жила в Москве. Я ее спрашиваю: «Вы говорите по-русски?» Она отвечает: «Оцень хоросо». — «Мы поедем в Йокохаму?» — интересуюсь я и опять слышу: «Оцень хоросо». — «Вы знаете, какие сцены будем снимать?» — не отступаю я, но ответ тот же: «Оцень хоросо». — «Может, вы не понимаете, что я говорю?» — наконец спрашиваю я. «Оцень хоросо», — не сдается моя «переводчица».
В фильме о великом немецком композиторе Людвиге Бетховене мне посчастливилось сняться в 1976 году. Писатель Гюнтер Кунерт по замыслу режиссера Хорста Земана написал сценарий, в котором на основе писем Бетховена и мемуаров его современников выстраиваются эпизоды жизни великого композитора. С Земаном я познакомился, когда снимался в «Гойе», он мне и предложил роль Бетховена.
Сыграть такую личность предоставляется лишь раз в жизни. После того как я принял предложение, до начала работы прошел год. Нужно было убедить скептиков, что возможна и такая картина о судьбе композитора. Когда я получил сценарий, он показался мне странным и неожиданным. Это была не биография, а отдельные эпизоды, эмоциональные сцены, словно вырванные из жизни. Не последовательный рассказ, а лишь известные факты, позаимствованные из тех легенд, которые окружали Бетховена. Поначалу это шокировало, я сам стал изучать биографию композитора, слушать его произведения. Постарался понять и метод режиссера. Во время съемок такая трактовка уже показалась мне приемлемой. В общих словах, она заключалась в попытке показать, каков он, Людвиг ван Бетховен. Это не была интерпретация романов Ромена Роллана или Эдварда Эри о великом композиторе. Это был взгляд создателей фильма — современных людей. Конечно, мы опирались на факты, взятые из писем Бетховена, из его записей. Факты реальные, но какие из них следует сделать выводы? Какими словами это выразить? В каких мизансценах это показать? Скажем, в конце фильма есть сцена, в которой певица (ее сыграла актриса Марита Биоме) предлагает Бетховену свою опеку. Такой факт был, но в такой ли атмосфере, в таких ли условиях все происходило? Этого мы не знаем, можем лишь догадываться. Мы хотели прежде всего показать Бетховена-человека.
Режиссер разговаривал только по-немецки и предупредил, что и мне придется играть на этом языке. В первую очередь потому, что текст — поэтичный, хотя это и не стихи. Режиссер нанял мне репетитора, с которым мы и занимались по вечерам, работая над текстом, и который мне помогал уловить ритм языка. На следующий день я снимался, уже зная всю мелодику текста, все логические ударения.
О Бетховене немцы знают много, и я боялся, что скажут, будто я не соответствую образу. Хотя, честно говоря, после Гойи я уже стал «храбрее» и не очень-то сильно переживал. Фильм был принят неплохо. Правда, он не был представлен ни на одном фестивале и Земан не возил его по белу свету, как в свое время возил «Гойю» Вольф. Видимо, Земан не был настолько сильным режиссером, каким был Вольф. Я и сам не думаю, что это очень сильная картина. Слишком уж свободная интерпретация. Нужно хорошо знать жизнь Бетховена, если хочешь все понять, а рядовой зритель, пожалуй, и не увидит в фильме глубоких открытий. Но, несмотря ни на что, для меня эта картина дорога.
…В 1977 году в Одессе я снимался у режиссера А. Золоева в телефильме «Где ты был, Одиссей?». Но большого удовольствия от работы не получал. Когда читал сценарий, нравилось, а когда начали снимать, оказалось, что от первоначального замысла осталось очень мало. Режиссер, видимо, старался затратить как можно меньше денег и отказывался от некоторых массовых сцен, потому в картине и нет того масштаба, который должен был быть.
В это время Жалакявичюс предложил мне сняться в фильме «Кентавры» на «Мосфильме», где в те годы работал. Меня обрадовала не только предстоящая работа, но и встреча с талантливым режиссером, который был вынужден уйти с Литовской киностудии. Директором ее был назначен театровед Юлюс Лозорайтис, о котором я уже вспоминал. Это был авторитарный руководитель. Помню, он потребовал, чтобы я отдал приз кинофестиваля в Карловых Варах, полученный за роль Вайткуса в картине «Никто не хотел умирать», на киностудию. По его мнению, приз принадлежал не мне лично, так как я его получил за роль в фильме, снятом на Литовской киностудии. Жалакявичюсу же он стал указывать, что тот должен снимать. Приходилось слышать, как Лозорайтис «забраковал» один сценарий Жалакявичюса, обвинив его в поиске новых форм. «Нам нужна картина для рядового зрителя, а здесь попытка найти что-то новое, то есть формализм», — ехидным голосом сказал Лозорайтис. «Нам не нужны „шедевры“, — как-то заявил он. — Создавай „нормальные“ фильмы». Жалакявичюс после этого оставил Литовскую киностудию. В 1970-м он поставил фильм «Вся правда о Колумбе» на Литовском телевидении. В 1973 году снял картину «Это сладкое слово свобода» на «Мосфильме», правда, при участии Литовской киностудии, в 1975-м — фильм «Авария» на Центральном телевидении. А в 1979 году вышла картина «Кентавры».
Мои контакты с Жалакявичюсом после фильма «Никто не хотел умирать» как будто бы и прервались. Я работал с другими режиссерами, он — с другими актерами. Мне казалось, что я ему не нужен, поэтому его предложение меня особенно обрадовало. На пробах выяснилось, что режиссер определил меня на роль Президента. Сделали грим, приклеили большой нос, и я немного стал похож на президента Чили Альенде. И меня утвердили, и начались съемки.
Жалакявичюс — человек эмоциональный. Импульсом для работы ему всегда служили трагические события, которые подводят человека к такой грани, когда от него требуются решительные действия, когда он не может остаться пассивным, даже если плата за решительность — жизнь. Сценарий фильма написал сам Жалакявичюс, оператором был Павел Лебешев. Действие картины происходит в Чили, имена многих персонажей даже не зашифрованы, хотя документальной точности в фильме конечно же нет.
Я понимал, что это совсем не то, что мы делали с Жалакявичюсом раньше. Он постоянно что-то требовал, указывал. И я не был свободен в своей игре, потому что должен был быть во всем похожим на президента: в его поступках, его обидах и его хитростях. Жалакявичюс — мастер: он все делал остро, хотя этот фильм с его лучшими работами не сравнить. К тому же это режиссер с большими амбициями. Иногда он бывал и излишне эксцентричен. То я не так смотрю, то руку не так держу. Президента играть — это не для меня. Все те персонажи, которых я создавал, — индивидуальности. А здесь Жалакявичюс хотел, чтобы было понятно, о ком идет речь, что это — Альенде.
Мне было приятно, что рядом работал замечательный актер Евгений Лебедев. Для меня он — один из величайших актеров. Я видел его в «Истории лошади» в БДТ. Это было гениально! Иногда Евгений Алексеевич мне немного советовал, как играть. Но советовал деликатно, так, чтобы я не подумал, что он суется в мои дела. Его советы мне помогали больше, нежели то, что говорил Жалакявичюс, режиссер же думал, что это его заслуга. Так доброжелательно, как Лебедев, в театре мне в свое время советовал лишь Бабкаускас. В создании картины принимали участие три страны — СССР, Венгрия и Чехословакия. Снималось целое созвездие актеров — Маргет Лукач, Йон Унгуряну, Валентин Гафт, Евгений Лебедев, Юозас Будрайтис, Регимантас Адомайтис. Я рад, что в этой картине нашлась роль и для меня.
…Шли дни, месяцы, годы. Шли быстро. Даже слишком. Мильтинис поставил «Царя Эдипа» Софокла, в котором я не играл. Заново поставил гоголевского «Ревизора», где я исполнил роль Городничего. Еще было несколько спектаклей, которые вряд ли надо сегодня вспоминать. Но рядом с этими малозначительными постановками у меня появилась очень приятная работа в кино.
Так уж случилось, что одним из наиболее популярных и любимых зрителем фильмов с моим участием стала телевизионная картина «Приключения принца Флоризеля»; в которой я сыграл Председателя клуба самоубийц. Это была моя первая работа с режиссером Евгением Татарским. Первая, но не последняя. Позднее — в 1990 году — вместе со знаменитой Мариной Влади я снимался в его же фильме «Пьющие кровь», а в 2002–2004 годах — в телесериале «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». Как-то по случаю в Санкт-Петербурге мы с режиссером Татарским вспоминали про съемки популярного «Флоризеля». Признаюсь, режиссер напомнил мне не только о том, что я за эти годы подзабыл, но и рассказал многое из того, что я вовсе не знал.
Так, Татарский говорил, что с Далем они давно были знакомы и дружили. И когда режиссер предложил актеру роль принца Флоризеля, тот сразу согласился. Мало того, приехал в Ленинград вместе с Юрием Богатыревым и привез с собой список актеров, которые, по его мнению, должны были сниматься в этом фильме. Татарский вспоминал, с каким энтузиазмом Даль его уговаривал: «Женя, давай снимем фильм, в котором нас будут окружать друзья». Он предлагал Богатырева на роль полковника Джелальдино. Но режиссер выбрал Дмитриева. «Не помню, кого Даль предлагал на роль Председателя, но точно не тебя», — признавался Татарский.
«Почему же тогда ты меня пригласил сниматься в этом фильме?» — снова поинтересовался я. «Уже не раз ты меня об этом спрашивал, — ответил мне режиссер. — Раньше я отделывался общими словами, не хотел говорить. Ну а теперь, так и быть, расскажу, хотя в двух словах на этот вопрос не ответить. Поскольку на роль Принца Флоризеля был приглашен известный и очень популярный актер Олег Даль, а его партнером должен был стать Игорь Дмитриев — может быть, чуть менее популярный и известный, однако все же и известный, и популярный, то и актер, играющий их антипода, должен был быть не менее известным и популярным. В то время таким актером для меня был ты, — признался Евгений Маркович. — Председатель клуба самоубийц, которого тебе предстояло играть, попросту говоря, убийца, негодяй, очень нехороший человек. Ну что мне было делать? Пригласить актера с рылом убийцы, глазами убийцы? Это скучно, плоско, неинтересно. Нужен был обаятельный человек — на первый взгляд, во всяком случае. Главное было не показывать, как он убивает. Исключением мог стать лишь один эпизод, и то опосредованно… Ведь роль Председателя небольшая, и в ней не так много эпизодов… Но все три серии об этом герое так много говорят, что у зрителя создается впечатление, будто бы Банионис почти все время в кадре. Все рассказывают, какой он ужасный и как все его боятся. Вот, к примеру, сидит убийца, приговоренный к смертной казни, которого, скорее всего, через четыре дня повесят. Но и он не говорит, где скрывается Председатель, потому что боится».
Именно поэтому, по словам Татарского, он хотел, чтобы Председателя играл артист внешне обаятельный, привлекательный, с огромным шлейфом положительных ролей. «Вот по этой причине выбор пал на артиста Баниониса, — признался режиссер. — Но не скрою, не только. Некрасиво говорить об этом, но я скажу…» Как оказалось, Татарский хотел, чтобы снимался народный артист СССР, депутат Верховного Совета СССР, ему было небезразлично то, что это будет человек, почитаемый в верхах. Почему? Потому что режиссер чувствовал, что отношение у чиновников к этому материалу очень сложное и что они наверняка будут препятствовать созданию картины, как это не раз бывало. И все это не пустые разговоры: когда Татарский отвез пробы в Москву, ему не утвердили кандидатуры Олега Даля, Игоря Дмитриева, Любови Полищук и некоторых других актеров. «И так было почти со всеми, по списку, — продолжил режиссер. — И только об одном персонаже — Председателе — ни слова не сказали. Я ведь понимал, что это не только потому, что Банионис такой архиталантливый, а другие менее талантливые, а еще и потому, что он депутат, народный артист СССР». А про Даля какой-нибудь чиновник мог себе позволить сказать: «Не надо его брать — у него глаза вареного судака». Что означало — пустые, ведь не секрет, что он тогда сильно пил. Или: «Не надо снимать Полищук: один раз сняли, и хватит». (Татарский до того работал с ней в фильме «Золотая мина», и это была ее первая драматическая роль в кино.) Дмитриев тоже кому-то уже надоел… Татарский рассердился, а он был тогда человек хоть и достаточно молодой, но с характером. «Ну, вы все знаете — кого надо снимать, что надо снимать, — сказал он московским чиновникам. — Наверное, знаете и как надо снимать. Я ведь ничего не прошу — сценарий ваш, вы мне его предложили, наверное, потому, что сочли меня режиссером. И я выбрал этих актеров и считаю свой выбор удачным. Вы считаете, что нет? Что же, вам и карты в руки». Московские чиновники, наверное, и не ожидали такого дерзкого ответа от молодого режиссера.
А к работе над фильмом Татарского и впрямь подтолкнула чистая случайность. «В телевизионном объединении киностудии „Ленфильм“, — вспоминал режиссер, — валялся сценарий, который назывался „Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы“. Он именно валялся. Я пришел в редакцию поиграть в шахматы с моим товарищем — одноклассником Никитой Черстковым. Передвигая шахматные фигуры, я и заметил, что лежит какой-то сценарий, и поинтересовался, что это такое. „Кстати, возьми почитай, — не глядя, ответил мой одноклассник. — У нас тут режиссер был — отказался снимать. Ему этот сценарий не понравился“. Когда я начал читать, то просто завизжал от восторга, — мне жутко понравилась вся эта забавная и загадочная история». Центральное телевидение не возражало, чтобы фильм снимал Татарский, у которого к тому времени уже был приз Мюнхенского кинофестиваля и который снял ставший популярным фильм «Золотая мина».
«Но уже во время проб начал кривить нос и сам автор сценария, — продолжал Татарский. — А потом сценарий обсуждали худсоветы, редсоветы… как это было в советское время. Мы же никак не могли понять, в каком жанре собираемся снимать. Жанр в кино — это очень тонкое дело, самое тонкое, и не только в кино. Я попытался объяснить что-то словами, но это оказалось очень сложно». Автор сценария Эдгар Борисович Дубровский сказал, что ему это все не нравится, но раз режиссер так считает… В конце концов деньги на создание фильма перевели.
И наконец наступил мой первый съемочный день. Это было мае 1979 года, в городе Сочи. Снимали эпизод, когда Флоризель приходит к Председателю после убийства художника и они о чем-то разговаривают. Режиссер вспоминал, как сначала крупным планом снимали меня, а потом — Даля. Съемки быстро закончились, и мы возвращались в гостиницу. «Олег подошел ко мне, — рассказывал Татарский, — обнял меня и сказал: „Женька, а Боня — артист“. Между вами сразу завязались хорошие рабочие отношения. Олег был очень талантливым актером, но он мог быть „удобным“ партнером, а мог быть и „неудобным“. Для тебя он был „удобным“, я это видел».
Трехсерийный фильм сняли очень быстро. Но это лишь половина дела. Важно, чтобы картину приняли, чтобы ей присвоили категорию и чтобы разрешили ее показ. А это в советские времена далеко не всегда проходило гладко. Татарский помнит, как на заседании худсовета «Ленфильма» автор сценария говорил: «Мне не нравится. Но я должен признать, что режиссер был абсолютно последователен. Он все это задал в тех пробах, которые показывал нам год назад».
Татарский взял картину и поехал в Москву, где встретился с тогдашним руководством Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. Картину не приняли. Почему? Этого Татарский никак не мог понять. «Вы нас не слушали, вы самый умный, вот и делайте, что хотите, — пояснили ему. — Мы вам говорили, чтобы вы не брали Даля. Поэтому фильм и не может быть принят». — «Не могли бы вы объяснить причины подробнее?» — не сдавался режиссер. «Подробнее не надо», — ответили ему. Но намекнули, что фильм якобы можно спасти. Для этого надо пригласить актера Зиновия Гердта и попросить, чтобы он написал какой-нибудь текст… «Нам не нужен принц-герой. Нам не нужен принц, который бы понравился советскому зрителю», — прямо заявили Татарскому. Все погибло! Картина снята, смонтирована, озвучена, записана музыка… Бери и показывай. И вот тебе! Легко сказать, пусть Гердт напишет текст, из которого следовало бы, что принц не является таким уж героем. Поскольку картину не принимают, то киностудия «Ленфильм» не получает денег и работающие здесь люди остаются без премий, а чего доброго, и без зарплаты. Так или иначе — предвидятся большие неприятности. С этими мыслями Татарский и вернулся в Ленинград. Настроение, мягко говоря, было так себе… А главное, при чем тут Гердт? И почему Гердт? Сидя у себя на кухне, Татарский уже сжился с мыслью, что закадровый текст, который «развенчает» принца Флоризеля, в принципе мог бы быть, но ведь не любой же текст. И вдруг по радио он услышал знакомый голос Дмитриева. Он вел радиопередачу, которая называлась «В легком жанре». И Татарский вдруг понял, что раз уж так нужен закадровый текст, то его должен произносить друг принца Флоризеля, его соратник, в конце концов, его вассал — полковник Джеральдино, которого и играл Дмитриев. И сразу все встало на свои места.
На той самой кухне, на том же столе и родился тот закадровый текст. Потом за три-четыре дня фильм был перемонтирован. Дмитриев записал текст, что-то ему нравилось, что-то — нет. Но главное, что картину наконец приняли. Правда, ей досталась вторая категория. Никто не обращал внимания даже на положительные отзывы. Принять приняли, а вот показывать не показывали. Полгода… Татарский поехал в Москву, пошел к председателю Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. «Почему картину „Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы“ не показывают?» — прямо спросил он. «Покажут, — пообещали ему. — Теперь как раз проходит первенство мира по хоккею…» — «Но это уже второе первенство мира по хоккею, после того как я сдал фильм», — парировал режиссер. «Ну о чем мы говорим, — остановили его. — Покажем». Татарский припоминает, что этот разговор состоялся в ноябре 1980-го.
Наконец 11 января 1981 года в его квартире раздался телефонный звонок. Звонили из Москвы, с Центрального телевидения. «Ваш фильм будут показывать 13 января, — сообщил женский голос. — Поймите, это очень ответственно. Старый Новый год. Люди будут смотреть телевизор. А новогодняя программа не очень удалась… Нам очень нравится ваш фильм, но вот название… „Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы“. Картину с таким названием мы показывать не можем. Надо придумать другое название». — «Какое? — спросил режиссер. — Когда мы снимали картину, то между собой называли ее „Приключения принца Флоризеля“». Голос в телефонной трубке смолк. А потом зазвучал как-то интимно: «Евгений Маркович, судя по вашему фильму, вы же интеллигентный человек. Ну разве вы не понимаете, что не может быть никаких клубов самоубийц, никаких титулованных особ и никаких принцев Флоризелей. Нужно другое название». На этот раз режиссер не выдержал: «Что же, я год ждал показа картины, подожду и еще. Нет у меня другого названия. Или старое, или „Приключения принца Флоризеля“. И точка». После этих слов телефонная трубка была повешена. Там, в Москве, видимо проходило совещание. А на следующий день в квартире Татарского опять зазвонил телефон. Тот же голос сообщил: «Ладно. Фильм будет называться „Приключения принца Флоризеля“». Наконец картину показали, и она сразу стала популярной.
Третьепредсказание
После приятной работы в кино — я имею в виду съемки в фильме Евгения Татарского — дома меня ждали неприятные изменения и даже испытания. Летом 1980 года из театра ушел Мильтинис. Ушел так же, как когда-то, в годы войны, уехал на свою малую родину в Шарняле. Я должен сказать, что это было и странно, и немного страшновато. Правда, я предчувствовал, что так должно было случиться если не в этот день, то через неделю или через месяц.
Недавно я нашел приказ министра культуры ЛССР Й. Белиниса об отставке Ю. Мильтиниса. Мне кажется, его стоит воспроизвести здесь, чтобы уточнить причины ухода из театра его создателя. Итак:
Министерство культуры Литовской ССР
Приказ
80.09.11. Вильнюс. № К-549
Удовлетворить просьбу главного режиссера Паневежисского драматического театра народного артиста СССР Юозаса Мильтиниса об освобождении его от занимаемой должности с 16 сентября 1980 г. в связи с уходом на пенсию.
Министр Й. Белинис
А что было делать нам, оставшимся? Вскоре приехал чиновник из Министерства культуры и предложил «коллективное руководство». Иными словами, порекомендовал создать своеобразный «квартет» — «банду четырех», куда вошли бы секретарь парторганизации театра Р. Зданавичюте, актеры Г. Карка, В. Бледис и… я. Трое согласились, а я — нет. В итоге друзья и коллеги назвали меня предателем.
Чиновник из министерства уехал, но семя раздора было посеяно… Правда, приказ о создании режиссерской коллегии 11 сентября 1980 года был подписан. Звучал он так:
«1. С 16 сентября 1980 года передать функции гл. режиссера Паневежисского драматического театра режиссерской коллегии.
2. Режиссерскую коллегию назначить в следующем составе: Д. Банионис — народный артист СССР,
В. Бледис — народный артист Литовской ССР,
Г. Карка — заслуженный артист Литовской ССР,
Р. Зданавичюте — заслуженная артистка Литовской ССР.
3. Директору Паневежисского драматического театра В. Добровольскису:
3.1. До 16 октября 1980 года Министерству культуры Литовской ССР представить для утверждения положение о режиссерской коллегии.
3.2. До 1 октября 1980 года Министерству культуры Литовской ССР представить окончательный репертуар театра на сезон 1980–1981 гг.».
Примерно через месяц или полтора меня вызвали в Министерство культуры. Министр Йонас Белинис прямо сказал: «Прошу вас стать руководителем театра». Я выкручивался, как мог, предлагал вместо себя Бледиса. «Бледис — не член КПСС, — возразил министр. — Он не может быть руководителем». Я называл другие возможные кандидатуры, однако министр не соглашался. Наконец ему, видимо, надоело, и он твердо заявил: «Или Паневежисским драматическим театром будет руководить Донатас Банионис, или министерство пришлет главного по своему усмотрению». Режиссер «со стороны»? Это было очень рискованно — пришлось согласиться. Но все же удалось договориться, что директором театра останется В. Добровольскис, а я стану лишь художественным руководителем, и не более того. Так, 9 декабря 1980 года я был назначен на должность главного режиссера Паневежисского драматического театра. Вернувшись в Паневежис, я рассказал обо всем случившемся. Некоторые из коллег радовались, что художественным руководителем будет свой. Лишь один человек воспринял мой отказ работать вчетвером и согласие руководить «в одиночку» как желание сделать карьеру. Не сразу, позднее, я сам от него это услышал.
Главным режиссером нашего театра я был на протяжении четырех лет. На мои плечи легло множество новых обязанностей.
У меня был кое-какой режиссерский опыт: я когда-то ставил спектакли в самодеятельном театре Клуба железнодорожников и даже в нашем театре, когда Мильтинис был «в изгнании», поставил две пьесы. Но все это было не то и по масштабу деятельности, и по степени ответственности. А теперь я вдруг стал ответственным не только за свои актерские работы или собственные режиссерские опыты. Отныне я должен был решать и репертуарные вопросы, и постановочные… Мне полагалось ставить спектакли — по одному в год.
Так, в 1981 году я решил, что надо бы начать с литовской пьесы, и выбрал комедию К. Сая «Ржавая вода». Вернее, мне просто ее предложило Министерство культуры, хотя я должен сказать, что это далеко не лучшее произведение драматурга. Пьеса была о пьянице, который никак не может найти свой путь в жизни. Один ставить спектакль я не решался, поэтому предложил Г. Карке мне помочь. Несмотря на то что Мильтинис уже не работал в театре и на наши репетиции не приходил, спектакль он посмотрел. Ему не понравился не столько спектакль, сколько пьеса, которая была скорее фельетоном, нежели глубоким размышлением о жизни. Меня и самого этот спектакль не радовал.
В 1982 году я решил поставить советскую пьесу. Как-то в Ленинграде, в БДТ, мне пришлось увидеть спектакль по пьесе В. Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы». Режиссером этого спектакля был Георгий Товстоногов. Мне понравились и спектакль, и пьеса. Я и взялся за постановку. Должен сказать, что зрителям спектакль нравился, а вот от критиков мне досталось. Меня обвинили в плагиате, заявив, будто бы я «позаимствовал» многое из постановки Большого драматического театра. Правда, рецензент, приехавший из Вильнюса и обвинивший меня в этом, все время, пока шел спектакль, просидел в буфете, а потом сочинил рецензию. Кроме всего прочего, написал, что С. Космаускас в спектакле очень плохо играл, а весь казус состоял в том, что Космаускас был в тот вечер болен и нам пришлось срочно вводить К. Виткуса, который и играл тогда, когда рецензент «смотрел» спектакль в театральном буфете. Справедливости ради надо сказать, что в программке, которая была напечатана заранее, осталась фамилия С. Космаускаса. При встрече с этим рецензентом я спросил: «Ну как же ты так написал? Ведь в тот вечер играл не Космаускас, а Виткус. Ты что, актера не узнал?» — «Ты знаешь, они так плохо играли, что я даже фамилий не запомнил», — ответил он мне. А ведь оба актера в нашем театре не были новичками, они работали много лет: К. Виткус — с 1940-го, а С. Космаускас — с 1941 года.
Но, как у нас говорят, одна беда — не беда. Так как я был главным режиссером театра, мне пришлось не только самому ставить спектакли, но и организовывать другие постановки. Ведь существовал план, и надо было его выполнять. В 1981 году кроме меня, Г. Карки и В. Бледиса один из спектаклей поставил приглашенный мною режиссер Йонас Пакулис. В 1982 году две постановки — одну для детей, вторую для «взрослых» — осуществил В. Бледис. Над пьесой «Ретро» А. Галина работал молодой режиссер Юлюс Даутартас, которого мы вскоре приняли в наш театр. Пригласил я и Эдуарда Марцевича. Мы были давно знакомы, в свое время вместе снимались в фильме «Красная палатка». К тому же Марцевич был не чужд нашему театру. Наверное, мало кто знает, что на протяжении целого сезона он проходил стажировку у Мильтиниса. Насколько я знаю, он сам попросил об этом, как-то получил стипендию. Помню, как Марцевич сидел в зале и наблюдал за репетициями Мильтиниса. В какой-то мере он тоже был учеником Мильтиниса, во всяком случае, мне так казалось, поэтому я его и пригласил. Марцевич выбрал «Обыкновенную историю» И. Гончарова. Мне когда-то приходилось видеть инсценировку этого романа в Москве. Выпускать спектакли по русской классике нам полагалось, и я не видел ничего плохого в том, что такую постановку осуществит режиссер из России. Спектакль и впрямь оказался вполне удачным. Однако кое-кому, видимо, очень не нравилось, что я являюсь художественным руководителем театра. Не берусь судить почему. Однако на меня началась атака. Одна дама-критик упрекала меня в том, что «Обыкновенная история» — нехарактерный для нашего театра спектакль… Да еще в постановке Марцевича… Мы, мол, не развиваем наш театр… Я, видите ли, приглашаю «импортных» режиссеров… Эти слова — «импортный» режиссер — меня очень обидели. И это применительно к Марцевичу?!
В 1983 году литовскую классику — пьесу «Зять» Винцаса Креве-Мицкявичюса — поставил Ю. Даутартас, после чего он остался у нас. Я же взялся за иностранную драматургию — пьесу «Амадеус» П. Шеффера. В кино я уже к тому времени создал образы художника Гойи, композитора Бетховена, мне было интересно прикоснуться к Моцарту. Так как в спектакле много музыки Моцарта, я пригласил знаменитого дирижера, «моцартиста» Саулюса Сондецкиса, чтобы он подобрал музыку для спектакля. Признаюсь, работа над этой постановкой мне была чрезвычайно приятна. И пьеса хорошая, а о музыке я уже и не говорю. Мне кажется, актеры тоже играли хорошо. Роль Моцарта исполнил Альбинас Келерис, а Сальери — Ауримас Бабкаускас, сын нашего талантливейшего актера Бронюса Бабкаускаса. Декорации тоже оказались удачными, их автором была художница А. Яцовските. Думаю, ей немало помог наш знаменитый театральный художник Адомас Яцовскис.
А потом я ставил «Вечер» белорусского автора А. Дударева, с которым мы познакомились в Минске, когда я там снимался. «Вечер» — симпатичная, красивая комедия «из колхозной жизни». К тому же в этой комедии есть два ярких персонажа — Гастрит и Мультик. Гастрит — колхозник-лентяй, а Мультик — колхозник-старичок, который убежден, что можно быть нравственным человеком и нужно верить в то, что трудолюбием можно чего-то достигнуть.
Приблизительно года через два после того, как меня назначили главным режиссером театра, молодые актеры начали волноваться, думая, что их уволят. У них не было высшего образования, и они стали бояться, что молодые артисты, прошедшие обучение в консерватории, могут быть распределены и в наш театр. У моего поколения актеров Паневежисского драматического театра тоже не было дипломов, но нам «засчитывалось» обучение в театре-студии Мильтиниса. Хотя официальных документов мы, конечно, не имели и не могли иметь. Наше обучение длилось много лет, быть может, все те годы, которые Мильтинис работал в театре, но студию при этом не заканчивали. После войны к нам присоединились вновь пришедшие. Потом приходили следующие — молодые. И не важно было, молодой ты актер или уже имеющий опыт. Все мы ходили на так называемые «студийные часы», в обязательном порядке присутствовали на репетициях, даже если не были заняты в спектакле. По вторникам Мильтинис разбирал спектакли, в которых мы играли в пятницу, субботу и воскресенье. В Паневежисе спектакли шли три дня в неделю, а остальные дни мы репетировали или гастролировали. Так и сегодня существует наш театр. В таком городе, как Паневежис, играть каждый вечер нецелесообразно — просто не хватало бы публики.
Поэтому, когда кто-то пишет, что я закончил студию в 1945 или 1950 году, то это неверно. Официально у нас у всех не было высшего образования. Но мы — те, кто постарше, — уже имели опыт и звания. Теоретически нас не должны были трогать, если «наверху» вдруг решили бы пополнить наш театр «новыми актерскими силами». А вот молодежь стала волноваться. Они учились у Мильтиниса по два-три года, но дипломов-то у них не было. Вот они и стали говорить, что надо бы им поехать учиться в Вильнюс или в Москву, а потом вернуться в Паневежис. Это была сложная ситуация и для актеров, и для театра, но надо было что-то делать. Тем, кто хотел учиться, а их было тринадцать человек, я сказал: «Погодите, не уезжайте, мы что-нибудь придумаем». И в 1983 году я обратился в консерваторию с предложением организовать заочный курс для артистов нашего театра таким образом, чтобы они лекции слушали в Вильнюсе, а спектакли играли в Паневежисе. Руководство консерватории не согласилось. Я мог это понять, ведь до нас ничего подобного не было.
Тогда я пошел к министру высшего и среднего образования Литвы Генрикасу Забулису. Он — замечательный человек, мы с ним до сих пор общаемся. Войдя в наше положение, министр пошел нам навстречу, дал указание руководству консерватории, которому не оставалось ничего другого, как согласиться. Так был создан временный филиал Государственной консерватории Литовской ССР в Паневежисе, просуществовавший с 1983 по 1987 год, пока актеры нашего театра там учились. По понедельникам они ездили в Вильнюс слушать теоретический курс, а практические занятия проходили в родных стенах — в Паневежисском театре. Я подумал, что поскольку у меня нет диплома, то я не могу быть руководителем курса. Снова обратившись к Забулису, я получил разрешение за год закончить консерваторию, сдавая экзамены экстерном. Актерское мастерство мне зачли — как-никак я был народным артистом СССР. Историю театра сдал довольно легко — все же на собственном опыте я знал ее лучше тех молодых, которые приходили учиться после школы. Немецкий язык тоже не вызвал никаких проблем. Так за год я закончил консерваторию с отличием и получил красный диплом.
Над дипломными спектаклями работал режиссер Гядиминас Чярняускас. В 1986 году он поставил «Чиполлино и его товарищи», в котором были заняты все наши студенты, а в 1987 году в качестве второго дипломного спектакля — пьесу Н. Погодина «Аристократы». Конечно же, эта пьеса не годилась для того времени, но я тогда ничего плохого не думал. А потом меня ругали за то, что в театре ставятся такого рода произведения. В конце концов наши актеры закончили обучение, получили дипломы и могли больше не бояться за свое будущее, то есть главная цель была достигнута.
В том же 1983-м, когда так удачно решился вопрос с консерваторией, произошло и весьма неприятное для меня событие. Директор нашего театра Добровольскис был назначен директором Каунасского драматического театра. Я об этом узнал уже, как говорится, post factum. Все было решено в Министерстве культуры без моего ведома. Я немного растерялся и был неприятно удивлен, ведь мне обещали, что я буду только художественным руководителем, а директором останется Добровольскис. Я только поэтому и согласился. И вот тебе раз — Добровольскис назначен в Каунас! И мне ничего не сказал!
Я поехал в Вильнюс, но не в министерство. Раз они не выполняют своих обещаний, что же я буду с ними выяснять? Я пошел в ЦК КПСС, где секретарем по культуре в те годы работал Ленгинас Шяпятис. Там как раз проходило какое-то совещание, на котором присутствовал министр культуры Й. Белинис. Я тоже, как главный режиссер театра, был на этом совещании. Вот там-то я Шяпятису все и рассказал. Шяпятис выслушал и велел министру отменить свое решение, касающееся Добровольскиса. Раз мне это было обещано… Сказать, что министр был недоволен, значит ничего не сказать! Во время перерыва он подскочил ко мне и стал кричать: «Извинись, извинись передо мной!» — «Я согласен извиниться, — ответил я, — но скажите, пожалуйста, за что?» Так этот конфликт и закончился. Я почувствовал себя «победителем» — Добровольскис остался в Паневежисе.
Главным режиссером Каунасского драматического театра был тогда Йонас Вайткус. Он все еще уговаривал Добровольскиса перейти в Каунасский театр. В начале 1984 года Добровольскис сам лично меня попросил: «Отпусти меня в Каунас. Там уже живет моя семья, и я тоже туда хочу». В этот раз он уже разговаривал со мной лично, а не действовал у меня за спиной, и я согласился.
29 июня 1984 года мне пришлось написать заявление следующего содержания:
«Я, Банионис Донатас Юозо, согласен быть назначенным на должность директора — художественного руководителя Паневежисского драматического театра».
В тот же день министр Й. Белинис подписал приказ за номером К-278:
«Главного режиссера Паневежисского драматического театра Баниониса Донатаса Юозо назначить со 2 июля сего года директором — художественным руководителем этого же театра с окладом согласно штатному расписанию».
Итак, сбылось третье предсказание Люне Янушите — я стал руководителем театра.
Мне сказали, что всю работу будет делать заместитель директора Станкявичюс. Но Добровольскис рассказал мне, что за его заместителем нужен глаз да глаз, поскольку работает он лишь под присмотром директора. Я решил, что с таким замом мне не поладить, и пригласил к себе Л. Гениса. Он работал учителем, иногда писал в местную печать о нашем театре, и я понял, что этот человек всерьез интересуется искусством.
В 1985 году я сам уже ничего не ставил. Ю. Даутартас выпустил «Три сестры» А. Чехова. Было еще несколько постановок. В театр приехала будущий режиссер Г. Карлайте, сделавшая у нас свой дипломный спектакль «Вино из одуванчиков» по произведению Р. Бредбери. Красивая получилась работа. А я подумывал о том, что мне нужно «уйти из режиссуры». В 1986 году Ю. Даутартас выпустил спектакль «Бидерманн и поджигатели» М. Фриша, а мною приглашенный телережиссер Л. Паугис поставил «Путешествие в Акапулько» И. Жамиака. Это был веселый спектакль, и зрителю он нравился. В 1988 году мы пригласили болгарского режиссера Петера Стойчева на постановку «Максималиста» по пьесе болгарского драматурга С. Стратиева. Я в ней не был занят. Я в те годы вообще не играл в театре, ничего серьезного не сделал в кино. Подписывал бумаги… Решал какие-то вопросы… Занимался тем, чем не должен был заниматься… Честно говоря, я мучился. Мучился от того, что не занимаюсь любимым делом, что годы идут, а я делаю вовсе не то, что хочу делать… Я чувствовал себя скверно.
А ведь это уже были годы «перестройки»… В связи с «перестройкой» состоялся эксперимент и в театре, но он оказался неудачным. Художественный совет театра избирали сами актеры — и получилась анархия. Выбрали пятнадцать человек, а тех двоих, которых в первую очередь стоило выбирать, не выбрали. Я, зная, что это, может быть, немного не демократично, предложил определенный состав. Но разве ленивые актеры хотят иметь в руководстве требовательных организаторов? Такая ситуация сложилась во многих театрах. И это стало бедой. Вспомните только, что в ту пору делалось в Москве! Вообще, многое в то время менялось, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. А как известно, ломать — не строить.
Пятого октября 1988 года в нашем театре проходило отчетно-выборное собрание партийной организации, которое сыграло немаловажную роль в моем самоопределении. На этом собрании, как и полагалось в годы «перестройки», мне, как руководителю театра, особенно досталось. Обрушилась лавина обвинений, которую я ждал и которая была заранее спланирована. Меня обвиняли в том, что репертуар театра не таков, каким хотели бы видеть его некоторые члены партии. Упрекали за то, что был приглашен болгарский режиссер и ставились пьесы болгарских авторов, хотя болгарские критики хорошо отзывались об этих пьесах. Ставили мне в вину даже то, что в спектакле «Амадеус» слишком много музыки Моцарта! «Чувствуется кризис в режиссуре», — говорили мне.
И это при том, что мы приняли в театре режиссера Саулюса Варнаса, работавшего главным режиссером Шяуляйского драматического театра, и его спектакли имели успех у зрителей. Да и отзывы критики о поставленных им спектаклях были вполне хорошими. В будущем намечалась интересная репертуарная афиша. За удачные гастроли в 1987 году мы получили грамоту. Жаль только, что «дух перестройки» отрицал все, что в те годы делалось в театре.
Кое-кто, к примеру режиссер С. Варнас, на том собрании говорил, что огромная энергия направляется на деструкцию и разрушение «старого», предупреждал, что не надо бы разрушать саму структуру. Но молодежью уже овладел «дух перестройки». Иными словами, предложений, касающихся того, как надо вести дела в театре, было много, и особым энтузиазмом горели те молодые, у которых, мягко говоря, не хватало способностей. Здесь у них появилась почва для самовыражения. Те, кто постарше, видя некомпетентность «перестройщиков», пробовали убеждать их в том, что свои мысли надо выражать ясно. Заместитель директора Л. Генис говорил: «Надо начать с себя, вам самим не хватает принципиальности». Однако отчетно-выборное собрание было таким, каким оно и должно было быть в те годы: «критическим».
Решение первичной комсомольской организации Паневежисского драматического театра, принятое на собрании, состоявшемся 25 октября 1988 года, как и полагалось, было «принципиальным» и в духе «перестройки». В нем говорилось:
«Собрание первичной комсомольской организации драматического театра, рассмотрев нынешнюю ситуацию и перспективы на будущее, констатирует, что создавшаяся в театре ситуация не просто неблагоприятная, а угрожающая нормальной работе и нормальным взаимоотношениям членов коллектива. В театре чувствуется диктат одного человека — директора — художественного руководителя. Появились примазавшиеся люди, которые за глаза говорят одно, а в глаза (на собраниях) — другое. Ставить спектакли приглашаются режиссеры, унижающие достоинство актеров. Художественный совет не исполняет своих прямых функций, является слепым исполнителем указаний и воли художественного руководителя.
Собрание принимает решение:
а) Выразить недоверие тов. Д. Банионису как руководителю.
1. Предложить партийной организации театра провести по этому поводу опрос работников (тайным голосованием!).
2. Предложить немедленно пересмотреть состав художественного совета.
3. Решение собрания передать на обсуждение первичной партийной организации».[3]
Хотя комсомольское собрание было закрытым и тайным и я о нем ничего не знал, но о принятом комсомольцами решении мне рассказали некоторые актеры, пришедшие ко мне домой. Они посоветовали не обращать внимания, тем более что руководители комсомольской организации — не актеры. Секретарь комсомольской организации — девушка-бутафор. Крайне прихотлива… Но я решил воспользоваться создавшейся ситуацией и, не дожидаясь голосования, поехать в Вильнюс, в Министерство культуры, и подать заявление об уходе с поста директора — художественного руководителя. Мне так все надоело, что хотелось как можно быстрее заняться любимым делом — играть на сцене и сниматься в кино.
Мое заявление звучало так: «Прошу уволить меня с поста директора — художественного руководителя Паневежисского драматического театра и перевести в штат актера высшей категории того же театра. Я актер и хочу заниматься творческой работой». Этот документ датирован 2 ноября 1988 года. Резолюция министра Й. Белиниса была такова: «Тов. А. Гарджюлису. С какого числа уволить с занимаемой должности, скажу позднее, а теперь еще давайте подождем. Й. Белинис. 03.11.1988». С 1 декабря я перестал быть руководителем. Коллектив тогда выбрал директором и художественным руководителем нашего актера Римантаса Тересаса. Он руководит театром и по сей день. А я опять стал актером и почувствовал свободу, спокойствие духа. Я снова мог играть на сцене и сниматься в кино. Спокойно уехал в составе делегации с М. С. Горбачевым в США, побывал в Организации Объединенных Наций (о чем я уже рассказывал подробно). Это было куда приятнее, чем сидеть в кабинете директора, подписывать нелепые приказы, наказывать пьяниц или иметь дело с неудавшимися бутафорами…
И еще несколько встреч…
Над картиной «Грядущему веку» мы начали работать в 1984 году, а в 1985-м она вышла на экран. Режиссер картины И. Хамраев. Главную роль в фильме сыграл мой друг — актер Вильнюсского литовского драматического театра Юозас Киселюс. (Многие зрители его, наверное, помнят по латышскому телефильму «Долгая дорога в дюнах», где он исполнил роль Артура и за который в 1983 году был удостоен Государственной премии СССР. К сожалению, этот талантливый актер умер молодым.) Я играл журналиста по имени Рикко Фелици. Признаюсь, я картины так и не видел, поскольку это телефильм и на большом экране его не показывали.
Тот кусок, в котором я был занят, начали снимать в Италии, в Венеции. Тогда я был там впервые. Венеция была городом моей мечты. Я о ней много знал по рассказам, по пьесам. Я уже говорил, что долгие годы в нашем театре шел спектакль по пьесе Бен Джонсона «Вольпоне», действие которой происходит в Венеции. В ней говорится о многих знаменитых местах этого города. И вот у меня появилась возможность своими глазами увидеть и площадь Сан-Марко, и мост Риальто, и Дворец Дожей… Мы были и на острове Лидо, где проходит Венецианский кинофестиваль, и конечно же поплавали на гондолах. Когда мы снимали, к нам иногда подходили туристы, но, разумеется, не советские — из СССР туристы туда еще не ездили.
Потом мы переехали в Рим. Как-то мы с Юозасом Киселюсом шли в метро и разговаривали между собой по-литовски. Вдруг к нам подошла молодая женщина и стала говорить с нами на нашем родном языке. «О, товарищ Банионис, я вас узнала. Я работала на телевидении в Вильнюсе, поэтому очень хорошо вас помню. Не могли бы мы встретиться позже?» Мы с Киселюсом спешили, она тоже шла по своим делам. Я сказал, в какой гостинице мы остановились, а это была маленькая, довольно дешевая гостиница, находившаяся не в центре. Мы договорились, и она пришла ко мне.
Женщина рассказала мне свою историю. Ей очень хотелось уехать на Запад. Она знала, что, если выйдет замуж за иностранца, сможет переехать к своему мужу. Одна или с подругой, я уже точно не помню, эта женщина отправилась в Москву и ходила к гостинице «Космос», где жили иностранцы. Она заговорила с одним итальянцем и предложила ему фиктивный брак: они поженятся, уедут в Италию и там разведутся. Итальянец уехал, потом опять вернулся, и они поженились, а в Италии, конечно, тут же разошлись. Но ее мечта осуществилась: она оказалась на Западе. Однако наступили непростые дни: работы у нее не было, жилось ей трудно. Она решила переехать в США, но и там тоже не стало легче. Через некоторое время пришлось вернуться из США обратно в Италию. А ее мать жила в Каунасе. Я и сказал этой женщине: «Возвращайся в Литву. Там мать, родственники, наконец — родина, где не будут тебя считать чужой. Найдешь работу». — «Нет, — ответила она. — Я не могу возвращаться в эту страну рабов». — «Ну а как же ты здесь живешь?» — спросил я. Она ответила, что для нее, эмигрантки, имеются некоторые льготы. К примеру, плата за комнату очень небольшая. Квартира, в которой она живет, принадлежит городским властям. Ей удалось устроиться на работу экскурсоводом. Хотя она не слишком хорошо сумела «поладить» с шефом. Были другие девушки, которые ладили с ним лучше. Поэтому ей доставались группы из восточных, менее богатых стран. И только не американцы, которые всегда дают чаевые. Так что ей все равно жилось трудно. А потом она мне сказала: «Мне хочется жить поближе к Ватикану. Я очень часто хожу в собор Святого Петра, бываю там, когда Папа Римский благословляет паломников. И меня он благословит». Я понял, что у нее странные мысли: она живет не реальными планами, а мечтами. И еще эта женщина мне говорила, что ей иногда является Матерь Божья, поэтому она хочет быть в Италии. «Ночью поднимается ветер, и Богоматерь предстает передо мной. Благословляет меня и опять исчезает», — рассказывала моя собеседница. Мне все это казалось странным: куда она стремится, зачем? Но в те годы желание уехать из СССР у людей было большое. Она попросила передать кое-какие подарки ее маме. Вернувшись в Литву, я встретился с ее матерью и передал посылку, в которой были какие-то приятные мелочи. Я же историю той женщины запомнил на всю жизнь.
Вспоминается и еще одна история. Как я уже говорил, мы жили в небольшой недорогой гостинице. Мы были советские артисты, получали суточные, но они были небольшие, и прожить на них было нелегко. Правда, актеры, наверное, получали чуть большие деньги, и, быть может, мы меньше думали, как сэкономить. Но с нами, естественно, были технические работники киностудии. К примеру, муж и жена: она — бутафор, он — рабочий. Вот они жили очень бедно. Когда я проходил мимо комнаты, в которой они расположились, оттуда доносился запах приготовляемой пищи. В ванной комнате им приходилось варить себе обед. Мне это казалось страшным. Как в те годы обращались с людьми! А они ведь только хотели немного сэкономить денег на жизнь. Когда мы, закончив съемки, уезжали, портье обратился к этой семье с вопросом: «А где ваша собака? Почему вы ее оставляете?» — «У нас нет никакой собаки», — ответили они. «Ну что вы говорите, — сказал портье, — мы ведь видели, как вы приносили собачьи консервы». Не знаю, на самом деле он думал, что у них была собака, или просто насмехался над ними. Но мы-то знали, что это ведь не от хорошей жизни. Просто собачьи консервы стоили сравнительно недорого, и эти люди их покупали и ими питались.
Прошло немало времени с тех пор, как закончилась работа над «Флоризелем», но у меня она осталась в памяти как очень приятный эпизод в моей жизни. Поэтому, когда меня пригласил режиссер Евгений Татарский, я согласился сниматься в его фильме «Пьющие кровь». К тому же было известно, что в съемках примет участие Марина Влади, и это тоже был своеобразный стимул — возможность поработать с такой замечательной актрисой. Я ее помнил еще по фильму «Колдунья». С ней было интересно общаться, при этом она еще и хорошо говорила по-русски. Я знал, что Влади — это псевдоним — сокращенное производное от ее отчества. Таким образом Марина Владимировна стала Мариной Влади. Мы с ней много общались, ходили в Ленинграде на Сытный рынок. Меня люди узнавали, но не удивлялись. А вот когда видели Марину Влади — недоумевали, почему такая известная французская актриса ходит по базару и покупает то, что покупают обычные люди. В перерывах между съемками она мне рассказала о своей жизни с Владимиром Высоцким, о его болезни и о том, что вряд ли кто-то смог ему помочь. Мы жили в гостинице «Ленинград». Когда я уже закончил съемки, Марина продолжала сниматься. После моего отъезда случился пожар. Я после этого ее не видел, но мне рассказывали, что Марину спасли через окно.
Режиссер Евгений Татарский вспоминал, что в 1990 году решил снять фильм по рассказу Алексея Толстого «Упырь». Упырь — это пьющий кровь вампир. Татарский считал, что неплохо иметь в картине актрису, которую хорошо знают в СССР, и пригласил Марину Влади. Он познакомился с ней давно — еще тогда, когда Хейфиц снимал «Плохой хороший человек». Тогда Татарский предложил Хейфицу взять в картину Владимира Высоцкого. Володя приехал на пробы в Ленинград, а на роль Надежды Федоровны актрисы еще не было. Татарский вспоминает, как Володя, придя с Мариной в павильон, сказал: «Слушай, Женька, можно, Маринка вот там посидит?» В уголке она и сидела с томиком Чехова в руках: один вечер, другой, третий… Читала «Дуэль». Потом Высоцкий попросил Татарского уговорить Хейфица взять Марину сниматься. Но Хейфиц испугался того, что она — иностранная актриса. Заморочат ведь! И снималась Людмила Максакова. Марина сидела обычно до десяти часов вечера, а потом уезжала в гостиницу. Они жили тогда в «Астории». Татарский как-то спросил Марину, почему она так рано уезжает. «Женя, но я же актриса. Мне надо рано ложиться спать и быть в форме», — ответила она. Это действительно важно. К сожалению, наши актрисы не всегда понимают, что надо пораньше лечь спать, чтобы хорошо выглядеть.
Сценарий к фильму «Пьющие кровь» писал Артур Макаров. Татарский пригласил на съемки Влади, и Марина согласилась. Но… предложила Артуру Макарову написать сценарий о Екатерине. «Это была наша с Володей мечта: я играю Екатерину, Володя — Пугачева. Но тогда власти не разрешили…» — сказала Марина Влади Макарову.
Не могу сказать почему, но фильм «Пьющие кровь» не имел успеха. Видимо, надо было его снимать с определенной долей иронии, как шутку. В нем же нет бытовой реальности. Мне очень запомнился фильм Р. Поланского «Пир вампиров». Это фильм-фантастика, а в картине «Пьющие кровь» нет прорыва к фантастике. И молодые актеры играли без полета фантазии, так, как будто бы все это было в реальности, а это неправильно. Мы же не пили кровь — ни я, ни Марина. Просто надо было красиво рассказать историю. Не знаю, кто виноват в том, что картина не получилась. Быть может, сценарий был никудышный.
Фильм «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» тоже снимал Евгений Татарский. Автор книги, по которой снята картина, — Рекс Стаут. На русском языке было издано шестнадцать томов, в каждом томе — один или два романа. Мы экранизировали лишь десять. Мне не очень нравится, как меня озвучили в этом фильме, как будто просто схематично был прочитан текст. А понравилось мне то, что в этих произведениях (и, конечно, в фильме) не одно внешнее действие, где только стреляют, убивают, взрывают, а есть и «психологическая игра» Ниро Вульфа, который, зная психологию человека, может раскрыть преступление. Мне было интересно сниматься, хотя хочу подчеркнуть, что эта картина — не художественное произведение. У меня хорошие партнеры, в первую очередь, конечно, Сергей Жигунов, которого я считаю интересным актером. Помню, как и все, наверное, его еще совсем молодого в фильме «Гардемарины, вперед!». Я видел лишь пять наших фильмов с моим Ниро Вульфом. Остальные еще не смонтированы, не озвучены — иными словами, еще не выпущены на суд телезрителей. Все те пять фильмов, которые зритель уже мог видеть, снимал режиссер Евгений Татарский. С ним всегда приятно работать, и мне очень жаль, что Евгений Маркович «ушел» из этой картины.
Как-то я был на фестивале в Анапе. Смотрю, в программе вне конкурса показывают картину С. Балаяна «Тринадцатый апостол». Думаю, что же это за фильм? Читаю, кто в нем играет, и вижу: «Донатас Банионис». Кого же я там играл? Режиссер-то знаменитый — С. Балаян. Потом вспомнил: я там исполнил маленькую роль Отца. Говорю об этом как о печальном примере. Из семидесяти фильмов, в которых я снялся, некоторые ничего для меня не значили, я их просто забыл. Потом вспомнил, что сценарий написан по произведениям Бредбери — тоже фантастика. Я говорю об этом потому, что далеко не каждая работа оправдывала надежды. Эта, к примеру, мне как актеру ничего не дала. Думаю, что и многие зрители далеко не все картины помнят.
Лишь пять или шесть фильмов из семидесяти я могу назвать моим творческим успехом. Есть такие, которые помню, но эта память связана с какими-то приятными моментами съемок или общения с людьми, работавшими над созданием фильма. А есть картины, которые я просто-напросто забыл. Работа в них не оставила никаких воспоминаний: ни интересных встреч, ни творческой удовлетворенности. Почему так случилось? Я не снимался, заранее зная, что это будет провал, всегда надеялся, что получится хорошо. Правда, иногда бывало, что я не надеялся на успех — хотелось работать. А в итоге картина оказывалась хорошей, даже знаменитой. Иногда бывало так, что и сценарий неплохой, и режиссер интересный, а фильм никудышный. Но бывало и наоборот. В процессе работы возникала творческая общность, которая в итоге давала прекрасный результат. Это как в лотерее: никогда не знаешь, когда выиграешь, а когда проиграешь.
Из дальних странствий
Мне бы хотелось вспомнить и несколько моих выездов за границу, не связанных с моей профессией. Так, я путешествовал в составе делегаций, цели которых были скорее политические. В 1985 году в СССР организовали встречу Компартии Советского Союза с Компартией Западной Германии (ФРГ). С делегацией работников искусств мы посетили тогда Западный Берлин, Гамбург, Бремен и некоторые другие города. Нас разделили на своеобразные группы, и мы должны были как бы представлять определенную «политическую линию». Среди нас были писатели: Василь Быков, Александр (Алесь) Адамович, Чингиз Айтматов, Даниил Гранин. В моей группе мы оказались вдвоем: режиссер Георгий Товстоногов — руководитель БДТ — и я, актер Донатас Банионис, — руководитель Паневежисского драматического театра. Мы вместе ездили по городам и проводили беседы на тему «Человек — цель советской социалистической культуры». У других групп были свои темы. Признаюсь, мне эта поездка большой радости не принесла. Я же не политик, а в залах собирались члены Компартии ФРГ. Надо было говорить о победах социализма, а слушателей, естественно, интересовало, лучше ли социализм, чем капитализм. Мы, конечно же, говорили, что являемся работниками искусства и наша цель — воспитывать человека. Старались меньше говорить на политические темы, но все же, бывало, приходилось выслушивать, как хорошо коммунистам живется в СССР и как их обижают в ФРГ. Я в подобных ситуациях сидел молча, с нами были журналисты-политобозреватели. Василь Быков ездил с другой группой, но иногда мы встречались, завтракали вместе в гостинице. Как-то Василь заказал «один шнапс» и ему принесли маленькую рюмочку немецкой водки. Он бросил на нее недовольный взгляд и, заказав вторую рюмку, поставил ее рядом с первой. Смотрел-смотрел и, наконец, заказал третью. Влил все три рюмки в стакан и выпил. Настроение его сразу улучшилось.
Летом того же 1985 года я отдыхал на взморье в Паланге. Туда мне позвонил известный литовский журналист и предложил в составе прибалтийской делегации посетить Данию. Я подумал: «А почему бы и не поехать в Копенгаген?» И согласился. Мне было приятно побывать в столице Датского королевства, погулять по ее улицам, паркам, в частности увидеть знаменитый парк Тиволи — королевство огней, где вечерами все — и кроны деревьев, и водная гладь озер, и здания — все светится. Здесь находится множество ресторанов, кафе, баров, играет музыка… Это любимое место отдыха датчан и гостей датской столицы… Я хорошо говорю по-немецки, поэтому общение с людьми для меня не составляло труда. И это было очень приятно.
С другой же стороны, мы ехали туда не отдыхать. В делегации я оказался единственным представителем от мира искусства. Остальные были журналисты. Из Латвии же ехал человек, который в годы Второй мировой войны состоял в подразделении СС, принудительно образованном в Латвии. В конце войны он сбежал в Швецию, но был интернирован и выслан в СССР. Отбыл срок в сибирских лагерях, а позднее был реабилитирован. И вот теперь в составе делегации представлял Советскую Латвию.
Честно говоря, компания мне показалась странной. Но о целях нашей поездки я узнал, лишь будучи уже в Копенгагене. Оказалось, что в Европу прибыла группа эмигрантской молодежи народов Прибалтики — Литвы, Латвии и Эстонии — из Северной Америки, главным образом из США. Цели этой группы были политические: она организовывала акции в разных странах, в основном в странах Северной Европы, чтобы обратить внимание на положение Прибалтийских республик. Наша же задача состояла в том, чтобы встречаться с журналистами, отвечать на их вопросы и объяснять, как нам хорошо живется в Стране Советов. То, что из Латвии ехал бывший эсэсовец, — тоже оказалось пропагандистским трюком.
Я понял, что влип. Ну не люблю я заниматься политикой! А что же в этой ситуации было делать? Но все же мне повезло: на встречах журналисты, зная, что я актер, меня спрашивали лишь об искусстве и не задали ни одного вопроса на политические темы. Однако впечатление осталось двойственное. Поначалу я немного был зол на журналиста, который знал о целях поездки (потому-то и сам не поехал), а меня не предупредил. Но время сглаживает все, и сегодня я вспоминаю об этом как о своеобразном приключении.
Интересное путешествие было у меня в сентябре и октябре 1988 года. С делегацией из Литвы я ехал тогда в Швейцарию. Нашу поездку организовало Общество связей с зарубежными странами Литовской ССР. В составе делегации были: Литовский ансамбль песни и пляски «Лиетува»; знаменитый тенор, народный артист СССР Виргилиюс Норейка; сопрано Рамуте Тумуляускайте; художник, председатель Союза художников Литвы Бронюс Ляонавичюс; я и тогдашний инструктор компартии, знаменитый журналист, политический обозреватель, а сейчас и член сейма Литовской Республики, бывший его спикер Чесловас Юршенас. Мы ездили на автобусе, побывали в Цюрихе, Берне, Люцерне, Женеве. Я восторгался красотой Альпийских гор, бирюзово-изумрудным цветом швейцарских озер, быстрыми горными речками, кристально-чистой водой… Видел самую высокую альпийскую вершину Монблан, которая находится во Франции, но в ясную погоду ее можно увидеть из той части Швейцарии, которая находится недалеко от границы с Францией. Города и небольшие городишки этого государства удивляли уютом и каким-то безмятежным покоем. Не случайно, видимо, Швейцария славится не только своими банками, но и тем, что некоторые американские знаменитости, уставшие от суеты, покупают виллы и поселяются в Швейцарии, а точнее, на Швейцарской Ривьере. Кто-то на время, а кто-то и на долгие годы. Мне довелось увидеть виллу знаменитого Чарли Чаплина, который избрал эту удивительную страну своим последним местом жительства. Там, в небольшом городке Вевей, он и похоронен. Видел я и озеро Четырех кантонов, еще со школы помня замечательные стихи нашего поэта-классика Майрониса, родившиеся во время его пребывания в Люцерне и посвященные этому красивейшему озеру. Мы даже поплавали по нему на небольшом пароходике. Удивило меня и то, что, проезжая совсем рядом с французско-швейцарской границей, мы не видели ни траншей, ни колючей проволоки, ни пограничных постов. Нам сказали: «Там, за этими кустами, — Франция». Тогда это казалось странным.
Ансамбль «Лиетува» давал концерты. Целью нашей поездки была не только пропаганда литовского народного искусства, но и встречи с журналистами. В 1988 году в Литве уже существовало движение, которое называлось «Саюдис». Оно охватывало все слои населения. В этом движении принимала участие вся Литва. На митингах «Саюдиса» от компартии выступал Альгирдас Миколас Бразаускас — секретарь Компартии Литвы, президент Литовской Республики, нынешний премьер Литвы. Все лето в Вильнюсе проходили многотысячные митинги, а в октябре того же 1988 года прошел съезд «Саюдиса».
Разумеется, на Западе всем тем, что происходило в Литве, да и во всей Прибалтике, живо интересовались. Мы же должны были отвечать на многочисленные вопросы журналистов о ситуации в Литве и объяснять, что в стране идет перестройка, что нет никаких сепаратистских настроений. Все это делалось для того, чтобы в Литве не повторилась «Пражская весна».
Фестивали… фестивали
Фестивальная жизнь имеет свои законы, и потому о ней стоит рассказать особо.
Так, еще в июле 1976 года я был членом жюри на международном кинофестивале в Карловых Варах и воочию увидел, какой может быть эта работа, как порой присуждаются премии. В последний день, когда жюри предстояло подготовить протокол, ко мне пришел директор фестиваля Броусел, чех по национальности, пожилой, уважаемый человек. Принеся утром в гостиницу бутылку знаменитой чешской настойки «Бехеровка», он сказал мне: «Товарищ Банионис, посмотрите список. Мы уже все обсудили и решили, что надо бы отдать первую премию Кубе. Есть советская картина „Прошу слова“… Что вы скажете, если мы не будем
присуждать ей главный приз? Будут же другие фестивали, и этот фильм приз еще получит. Мы же думаем, что на сей раз надо поощрить Кубу». — «Быть может, Инне Чуриковой присудить приз за лучшую женскую роль?» — в свою очередь спросил я. «Нет, — ответил Броусел, — это невозможно. Мы должны дать его немецкой актрисе Карин Шредер — иначе киностудия ДЕФА будет недовольна, не захочет приехать в следующий раз или скептично отнесется к фестивалю». В фильме «Мужчина против мужчины», который представила на фестивале киностудия ДЕФА из ГДР, актриса была достаточно слабая, но хорошо играл литовский актер Регимантас Адомайтис. Вот ему я и предложил вручить приз за лучшую мужскую роль. И представители ГДР будут довольны. «Нет, — заявил Броусел, — этот приз решено отдать польскому актеру. Все уже согласились. Вы один остались». — «Ладно, — говорю, — раз все согласны, то что поделаешь. Но эти фильмы мне показались менее интересны, чем, скажем…» — «Все согласны, — решительно настаивал он. — Если вы не согласитесь, будет нехорошо». И я согласился. Так мы вдвоем, «пробуя» «Бехеровку», обсудили, кому какой приз отдать. Премии, на мой взгляд, были присуждены без учета художественного уровня произведений, а Броусел остался доволен тем, что я, представитель СССР, наконец-то согласился с «общим мнением жюри»! Когда жюри собралось и стало смотреть списки, многие поняли, что все получили настойку и всем было сказано одно и то же. Я не могу утверждать, что первая премия была присуждена совсем плохой картине, но, наверное, и не самой стоящей. Фильм «Прошу слова» получил вторую премию.
В июле 1982 года меня пригласили поработать в жюри Фестиваля фантастических фильмов, который проходил в итальянском городе Триесте. Возможно, потому, что я снимался в фильме «Бегство мистера Мак-Кинли», в 1978 году показанном на этом же фестивале. Жюри состояло всего из пяти человек. С одним из наиболее знаменитых членов жюри — Форестом Аккерманом — мы встречались в Голливуде, я был у него дома в Лос-Анджелесе. А дом у него действительно интересный: в нем, как в музее, собрано много всякой всячины из реквизита для фантастических фильмов — зубы вампиров, маски и многое другое. Говорят, что у него самая большая коллекция книг по научной фантастике. В жюри также работали Бертран Борие — критик из Франции, Джакомо Гамбетти — критик из Италии, Джованни Монгини — итальянский сценарист. Мне было интересно побывать на этом фестивале. Я полетел в Милан, откуда меня отвезли в Триест — город, расположенный недалеко от Венеции. Правда, в плане кинематографическом ничего особенно впечатляющего на этом фестивале представлено не было. Из СССР привезли малоинтересный фильм режиссера Викторова «Через тернии к звездам» («Per aspera ad astra»). Были также картины из Израиля, Великобритании, Италии, Франции, даже из Новой Зеландии. Фильмов было достаточно много — и полнометражных, и короткометражных.
Мы жили, завтракали, обедали и ужинали отдельно от делегаций и от дирекции фестиваля, не общались с ними, чтобы никто не мог каким-то образом повлиять на наше решение. Определить победителя должно было голосование. Но однажды, приблизительно в середине фестиваля — во время обеда, когда все жюри было в сборе, — к нам пришла директор этого смотра и сказала: «Вы сегодня будете смотреть картину, которую я еще не видела, но только хочу предупредить, что режиссер и продюсер этого фильма дали большие деньги на подготовку фестиваля, а также и на ваше содержание. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы это повлияло на ваше решение, а только говорю, что создатели картины помогли нам в финансовом отношении, за что мы им очень благодарны, а потому надо бы и их как-то отблагодарить. Только вы ни в коем случае не подумайте, что я стараюсь на вас повлиять, но помните, что деньги на следующий год они могут дать, а могут и не дать». Так, пообедав вместе, мы попрощались. Она еще раз уверила нас, что не вмешивается в наши дела и не старается повлиять на наше решение, но советует не забывать о том, о чем нам сказала. Мы поняли, что не можем подложить ей свинью. Ведь мы уедем, а ей в следующем году придется опять организовывать фестиваль. Я даже не помню, какой приз мы присудили тому фильму, — на главный он явно не тянул, — но что-то мы ему дали. Вот таким образом и оказывают влияние на жюри.
Поэтому, когда я читаю или слышу о том, что фильм удостоен первой премии, то не уверен, что это всегда справедливое решение. Когда говорят, что фильм получил, к примеру, столько-то «Оскаров», «Пальмовую ветвь» или какие-то другие награды, я всегда думаю: а все ли на этом фестивале решалось по справедливости и на самом деле награды удостоился тот, кто ее наиболее заслуживал?
Был случай и в СССР на Московском международном кинофестивале, когда картина «8 ½» Ф. Феллини не должна была получить премии, так как не соответствовала советскому образу мышления. Попросту говоря, советской идеологии. (Я, кстати, тогда был в Москве, и мне удалось познакомиться с игравшим в этом фильме Марчелло Мастроянни.) И все же картина получила Гран-при, но за это был «дисквалифицирован» председатель жюри, которого обвинили в том, что он несправедливо присудил премию фильму, пропагандирующему антисоветскую идеологию. Сегодня, конечно, это звучит странно.
Мне также приходилось участвовать в работе Международного театрального фестиваля, на котором дирекция тоже распределила награды, а когда мы, члены жюри, воспротивились этому, то жюри было распущено.
Поэтому особенно мне хочется вспомнить Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», который проходит в Санкт-Петербурге с 1990 года. Руководитель его — Сергей Григорьевич Шуб. Я был приглашен в жюри начиная с пятого фестиваля. О замысле и о первых фестивалях мне рассказал Сергей Григорьевич. «„Балтийский дом“ — это тот редкий случай, когда подобный смотр возникает по инициативе его создателей, а не по приказу свыше», — говорил он. Когда возникли границы между Россией и тремя государствами Балтии — Латвией, Эстонией, Литвой, когда не стало Театра имени Ленинского комсомола, как, впрочем, и самого комсомола, возникла идея создать театр, который смог бы объединить деятелей культуры Балтийских стран. Не только Литвы, Латвии и Эстонии, но и Польши, Финляндии, Швеции и других Балтийских государств. Бывший Театр имени Ленинского комсомола и переименовали в «Балтийский дом». Первый фестиваль был очень скромным и бедным. В нем участвовали только три театра: литовский кукольный театр «Шепос» (театр «Шкафчика»), театр из польского города Бельско-Бяла и театр из столицы Финляндии — Хельсинки. Тот смотр не был очень интересным для публики — маленькие театры, скромные спектакли. «Фестиваль выжил, потому что оказалось, что он прежде всего нужен его участникам, — вспоминал Шуб. — Были актерские клубы, мы сидели ночью, разговаривали, вспоминали, как вместе учились». Фестиваль выжил не потому, что были большие деньги — их не было, и не потому, что были полные залы — этого тоже не было, а потому, что он оказался нужным тем, кто в нем участвовал. «Потом, шаг за шагом мы приучали зрителя смотреть спектакли на иностранном языке, — продолжал Сергей Григорьевич. — Такой театр требует внимания, перевода и так далее. Мы воспитали традицию общения между театрами Балтийского региона».
Второй и третий фестивали тоже были очень скромные. Лишь к пятому организаторы уже получили какие-то деньги, стали активно их искать. Приехали более солидные театры. Жюри появилось не с первого фестиваля, а с третьего или с четвертого. В 1995 году для участия в его работе пригласили меня. Было решено, что жюри должно быть международным. «Донатаса Баниониса я пригласил потому, — говорил Шуб, — что знал его давно, это была личная симпатия. А так как фестиваль „Балтийский дом“ был моим детищем, то мое мнение было главным». Сегодня по рейтингу «Балтийский дом» — один из наиболее значительных российских театральных смотров. Он входит в тройку самых больших Европейских фестивалей России, рядом с Чеховским фестивалем и «Золотой маской».
После десятого фестиваля организаторы отказались от жюри, хотя оно всегда было серьезным. Председателем долгие годы был профессор, академик Лев Иосифович Гительман. В разное время в жюри входили: актер Игорь Дмитриев, Элеонора Германовна Макарова и профессор Алексей Вадимович Бартошевич из Москвы, Улла Баклунд из Норвегии, Анджей Журовски — вице-президент Международной ассоциации театральных критиков из Польши, театральный критик Мария Тимашева — обозреватель радиостанции «Свобода» и другие.
Сейчас спектакли для фестивалей подбираются тематически. Была, к примеру, тема «Учитель и ученики», когда приглашались, скажем, Кама Гинкас и его ученики, Йонас Вайткус и его ученики. Живы традиции. «Недавно, — говорит С. Г. Шуб, — мы учредили международную театральную премию и театрально-культурную премию „Балтийская звезда“, которой награждаются международные деятели культуры, внесшие огромный вклад в развитие искусства Балтийских стран, в том числе выдающиеся деятели европейского театра, среди которых, к примеру, Анджей Вайда». Удостоен этой награды и я.
«Я творю, потому что в этом мое счастье!»
После ухода с поста директора — художественного руководителя мне стало спокойней. Обидно лишь, что те восемь лет, которые я так или иначе руководил театром, для меня как для актера были не плодотворны. В тот период у меня в театре почти не было ролей и в кино — лишь несколько незначительных работ.
Но вот наступил 1989 год, и я сыграл роль в спектакле «Дерево» по пьесе польского драматурга В. Мысливского в постановке режиссера С. Варнаса. За эту роль на IV Фестивале драматического искусства Польской Народной Республики в СССР в 1989 году я даже получил диплом.
В 1991 году режиссер А. Поцюнас поставил «Самоубийцу» Н. Эрдмана. Там тоже для меня нашлась роль — Гранд-Скубик. Наш литовский режиссер Йонас Юрашас, который в советские годы был вынужден эмигрировать на Запад, несколько раньше в США, на Бродвее, тоже обратился к этой пьесе. Спектакль шел месяц, но не был понят.
В 1992 году болгарский режиссер П. Стойчев вновь поставил у нас спектакль, но на этот раз он приехал не из Болгарии, а из Швейцарии, где тогда жил. В «Метеоре» по пьесе Ф. Дюрренматта мне досталась главная роль — я сыграл Швитера. Работалось мне с режиссером трудно, я искал психологического обоснования поступков героя, режиссер же требовал, чтобы я делал разные театральные трюки, чуть ли не акробатические. Приехав из Швейцарии, он хотел поставить эффектный, «современный» спектакль, в котором главное — не сюжет, а форма. Но в конце концов мы нашли общий язык. С этим спектаклем наш театр гастролировал в Швеции, в городе Калмари. Паневежис и Калмари были так называемые города-побратимы. Мы ехали на автобусе, принадлежавшем театру, в Польшу, в Гданск, а оттуда — паромом в Швецию. Потом — опять театральным автобусом до пункта нашего назначения. Играли в Доме культуры, и меня удивило то, что в Швеции в таких домах культуры существуют разные кружки, которые содержатся на бюджетные средства. Правда, и там звучали голоса против подобного использования денег налогоплательщиков. П. Стойчев также осуществил в нашем театре постановку «Грустная корова и нежный бык» по пьесе К. Соколова. Я в ней играл роль, которая называлась «Дух его отца». В театре начались поиски эффектов и внешней иллюстративности. Правда, в 1995 году Э. Марцевич поставил у нас чеховского «Иванова», следуя традиции Малого театра, без всяких внешних эффектов.
И наконец, в 1996 году появилась работа, которая мне очень дорога, — «У Золотого озера» Э. Томпсона. Эту пьесу нашел заведующий литературной частью нашего театра Гедрюс Габренас. Он был эрудированным человеком, хорошо знал английский язык, писал интеллектуальные статьи о культуре. Пьеса «У Золотого озера» была известна на Западе, она шла в Нью-Йорке. Я слышал, что в США был снят по ней фильм. В нем Нормана Тэйера, ту самую роль, которую в нашем театре репетировал я, играл Генри Фонда. Дочь моего героя сыграла Джейн Фонда, а его жену — Кэтрин Хепберн. Позднее мне посчастливилось увидеть этот фильм…
И вот Габренас перевел пьесу и собирался сам ставить ее. Уже были распределены роли, мы начали работать и… случилось несчастье. Габренас скоропостижно умер. Мы остались без режиссера. Было очень жаль, что с уходом Габренаса спектакль может не состояться. Тогда я взял инициативу в свои руки: предложил руководителям театра другого режиссера — своего сына Раймундаса…
Наверное, будет уместно сказать несколько слов о моих детях. Они росли рядом с литовским театром и кинематографом. Мы с супругой часто брали их с собой на гастроли по городам и городишкам Литвы.
Старший сын Эгидиюс выбрал профессию, далекую от театра и кино. В 1966 году он поступил в Московский государственный историко-архивный институт, решив стать историком. В те годы институт был известен как очень сильный центр исторической науки в России. Там читали лекции Сергей Каштанов, Александр Зимин, Сигурд Шмидт. Окончив институт, в 1972 году Эгидиюс вернулся в Литву и начал работать в Архиве литературы и искусства, вскоре став его директором. В 1985 году он перешел работать в Институт истории Академии наук Литовской ССР. Читал лекции, стал научным секретарем, написал книгу «Литовская метрика», организовывал международные конференции исследователей Литовской метрики…
Увы, в конце 1992 года у Эгидиюса неожиданно обнаружились симптомы тяжелой болезни и, к нашему великому горю, его не стало. Это произошло 6 августа 1993 года. Оставил он жену Руту и дочь Милду — нашу внучку.
А младший сын, Раймундас, начал «играть» на сцене Паневежисского драматического театра, когда ему было всего три года. Он и сегодня вспоминает, как Мильтинис «захотел, чтобы в спектакле „Макбет“ в одной из сцен был маленький сын Макдуфа, которого убивают палачи». Его-то и «сыграл» Раймундас, а Эгидиюс, которому тогда было одиннадцать лет, появился в роли старшего сына Макдуфа. «Конечно, мы только сидели на сцене и молчали, когда нас „убивали“», — вспоминает Раймундас. А в одиннадцать лет у него была уже более значительная работа в «Пассажире без багажа» по пьесе Жана Ануя. «Это была большая, серьезная роль со словами в совсем не детском спектакле!» — рассказывает Раймундас.
Потом его снимали в нескольких крупных ролях на киностудии «Беларусьфильм» и на студии им. Горького в Москве. Был еще небольшой эпизод в «Солярисе» Андрея Тарковского. Довелось сыграть и главную роль — Героя Советского Союза Сашу Чекалина в биографическом фильме на студии им. Горького. Однако, играя в кино, Раймундас понял для себя, что ему не хочется играть! Ему не нравится быть актером. Когда он учился в восьмом классе, мы купили ему кинокамеру, маленькую, восьми миллиметровую. Видео тогда не было. Он стал снимать своей камерой для себя. В Доме пионеров создал кружок кинолюбителей, начал делать любительские фильмы. И наконец, осознал, что хочет стать режиссером. После окончания школы Раймундас поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Позднее он стал не только кино-, но и телережиссером.
Итак, Раймундас вырос в нашем театре, он его хорошо знал, к тому же он уже имел диплом кинорежиссера — договорились, что Раймундас завершит начатую Габренасом работу, а я ему помогу. Я рад, что зрители увидели этот спектакль, который идет по сей день. Он очень популярен, мы его уже сыграли 130 раз, и не только в Литве. В 1997 году его видели зрители Санкт-Петербурга. Играли мы и в Мытищах на фестивале в ноябре 2003 года.
Настоящая любовь не так часто встречается в современных спектаклях. Застенчивость и чувство обиды тоже редко можно увидеть на сцене. О любви много говорят, но часто ли мы по-настоящему верим, что герои любят друг друга? Хрупкие чувства трудно играть. Злость и мстительность — куда легче. «У Золотого озера» — это история одной давно поженившейся пары. Действие происходит на берегу озера в течение одного лета. Мой персонаж — старый профессор, за внешним обликом которого скрывается застенчивость. Мне всегда приятно играть эту роль. Будто бы это какой-то отблеск и моей собственной жизни: мне тоже уже восемьдесят, и я со своей женой прожил пятьдесят шесть лет. Да и симпатии зрителей я всегда чувствую, выходя на сцену в этом спектакле.
В том же 1996 году Раймундас поставил также «Круг» С. Моэма, но спектакль успеха не имел. Потом мы с Р. Зданавичюте сыграли в пьесе А. Р. Гурней «Любовные письма», постановку которой тоже осуществил мой сын. А в 2000 году актер нашего театра А. Келерис обратился к пьесе В. Дельмара «Дальше — тишина». Я когда-то очень давно видел ее московскую версию, в которой играли замечательные Фаина Раневская и Ростислав Плятт. Мы с Р. Зданавичюте играли несколько сезонов, пока моя партнерша не отказалась. Она очень устала и не могла больше выдерживать ту нервную нагрузку, которой требует этот спектакль.
Так случилось, что руководство республики за меня решило, когда я должен уйти из театра, где проработал всю свою жизнь. Был принят закон, согласно которому пенсионеры могут получать либо пенсию, либо зарплату и ни в коем случае то и другое. Я решил уйти на пенсию — зачем терять то, что заработано честным трудом. 22 декабря 2000 года я подал заявление, в котором просил уволить меня из театра с 1 января 2001 года по собственному желанию. В Паневежисском театре остался играть лишь роль в спектакле «У Золотого озера» по договору. Хотя на другой сцене у меня была интересная работа.
Я всю жизнь проработал в одном театре, все мои роли создавались на сцене этого театра. И вот в свой 75-летний юбилей я получил письмо из Вильнюса. Позволю себе его процитировать:
«Литовский Национальный драматический театр.
Вильнюс, 28–04–1999
Уважаемый Донатас Банионис, в начале следующего сезона, осенью, в Литовском Национальном драматическом театре предполагается постановка пьесы немецкого драматурга П. Барца „Возможная встреча“. Для нас было бы большой честью, если бы Вы согласились создать в этом спектакле образ Иоганна Себастьяна Баха.
Надеемся, что это наше предложение Вас заинтересует и мы с Вашей помощью обогатим репертуар Литовского Национального драматического театра.
С искренним уважением Римас Туминас, Генеральный директор Литовского Национального драматического театра».
Меня ждала интересная работа. Работа на сцене столичного театра. Единственный в ту пору спектакль, созданный не на паневежисской сцене.
Как-то я был в Москве, и друг моего сына Раймундаса посоветовал мне посмотреть во МХАТе спектакль «Возможная встреча». Это комедия о встрече двух знаменитых композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Фридриха Генделя, которой на самом деле не было. Играли два прекрасных актера — Олег Ефремов и Иннокентий Смоктуновский. Мне не все понравилось в спектакле. Артисты, стараясь рассмешить публику, излишне комиковали. А вот пьеса меня заинтересовала, я даже подумал, что хорошо бы и у нас ее поставить. И вот когда Национальный театр предложил Раймундасу сделать спектакль по этой пьесе, а мне — в ней сыграть, я очень обрадовался. Поехал в Москву, во МХАТ, зашел в литературную часть и попросил, чтобы мне показали запись спектакля. Мы с Раймундасом проштудировали ее и загорелись. Но текста на литовском языке у нас не было. Я хорошо знаю немецкий, поэтому обратился в Германию, и мне прислали текст на немецком. В оригинале пьеса называлась «Возможная встреча». Я сам ее перевел, но мне не хотелось, чтобы моя фамилия фигурировала как фамилия переводчика. Поэтому договорились, что автором перевода будет считаться редактор Дашкус, который отредактировал текст. Вначале я не был уверен, что мне предложат сыграть Баха. Меня же очень заинтересовала история жизни этого композитора. Я знал, что С. Сондецкис тоже является поклонником Баха. Мы его считали «моцартистом», а он как-то сказал, что Моцарт — лучший композитор всех времен, но для него Бах — выше Моцарта. Мы с Раймундасом очень серьезно углубились в материал. В спектакле, который у нас назывался «Встреча», зазвучало много музыки Баха. Премьера спектакля состоялась 20 ноября 1999 года.
«„Встреча“ обретает классическую форму по ряду причин: во-первых, это хороший текст, во-вторых, спектакль поставлен с чувством меры и с идейным размахом, и, в-третьих, на сцене — двое мастеров, Д. Банионис и Р. Адомайтис, — написал об этой постановке философ Арвидас Юозайтис, смотревший ее более 20 раз. — Вечные идеалы в столкновении с властью денег и политического рынка — эта тема звучит чрезвычайно убедительно. Немецкий драматург и литовский режиссер „встречаются“ благодаря мастерству актеров. И при этом мысли, воплощаемые исполнителями на сцене, как бы совпадают с идеями, которыми „живут“ их персонажи. Как это возможно? Возможно, ибо режиссер Раймундас Банионис воплощает драматургическое произведение, опираясь на мощную художественную традицию.
Донатас Банионис, которому 28 апреля 2004 года исполнилось 80 лет, не заканчивал „школу К. С. Станиславского“, профессии он учился в Паневежисе, в студии Ю. Мильтиниса. Значит, он не играет в русле традиций МХАТа? Ничуть не бывало! Ведь общеизвестно, что Мильтинис слыл мэтром психологического театра и „кодекс веры“ у него был тот же, что и у Станиславского: перевоплощение и „приспособление“, а также характер-идея как нечто обязательное и необходимое.
Бах — Банионис — настоящий провинциальный музыкант, не стесняющийся признаться в том, что он — нищий. Гендель — Адомайтис, „Орфей нашего времени“, — франт. Несравнимые величины? Очевидно. Бравируя своим общественным превосходством, Гендель встречает коллегу со снисходительной улыбкой. Банионис утверждает, что Бах — это его ego; Адомайтису достается другая задача — Генделя он играет как свое alter ego.
И мы начинаем понимать: голосом Баха говорит власть культуры. Не стыдясь своих пустых карманов, бедствуя, он доказывает силу иерархии вершин. Таким образом, культура отказывается подчиниться диктату цивилизации. Так и только так творчество подымает голову и оказывается куда выше всего остального. Культуре, а не цивилизации, служащий творец — настоящий профессионал. А условие высокой игры — слияние актера и его персонажа. Артист принимает взгляды персонажа, ибо верит им, как своим собственным? Быть может, Банионис встретился на сцене именно с таким героем? „Мир надо завоевать, преодолеть“, — говорит Гендель (цивилизация). „Мир надо полюбить“, — отвечает Бах (культура). Поэтому он в силах объяснить знаменитому конкуренту, что здесь, на их общей родине, в Лейпциге, музыку Генделя никто не ценит. „Даже Мессию?“ — таращит глаза тот. „Лейпциг надо завоевать, — бросает Бах. — Это вам не Лондон!“ То есть здесь — Паневежис, это вам не Вильнюс. Идеология, власть, деньги, рынок — все это в столицах, а творчество — у нас, в провинции. Благодатное место для творчества не в суете, когда „надо цепляться за мантию и не прозевать день рождения королевы“. „Что же тогда важно?“ — недоумевает Гендель, а Бах, ударяя себя в грудь, кричит: „Музыка!“
Д. Банионис не играет на сцене — он живет на ней. Так служат, чтобы остаться навсегда. Таким образом преодолевается рынок и хаос демократии, постмодернизм и бедность цивилизации».
Как-то на съемках какого-то фильма молодой актер спросил меня: «Вы там кого играете? Какого-то б… б… б…» — «Баха, — отвечаю. — Иоганна Себастьяна Баха!» — «Ну и что ваш Бах? — сказал мне юноша. — Кому его музыка сегодня нужна? Вот мы собираемся на стадионе, из динамиков „прет“ звук. Музыки я не слышу, но зато кайф какой!» Несмотря на это мнение юноши, я с удовольствием играю свою роль. У меня прекрасные партнеры. Помимо Генделя — Регимантаса Адомайтиса — Витаутас Томкус и Витаутас Румшас, которые в очередь играют роль Шмита, слуги Генделя. А не так давно премьер-министр предоставил нам финансирование, чтобы мы могли снять фильм на основе этого спектакля. Перефразируя слова моего персонажа, я могу сказать: я творю, потому что в этом мое счастье!
И напоследок
Я общаюсь с людьми разных национальностей. Когда я читаю Достоевского, Чехова, Стриндберга, Шекспира, Бальзака, Сэлинджера, Хемингуэя, меня интересует не их национальная принадлежность, а общечеловеческая психология. И в «Гамлете», и в «Эдипе», и в «Гедде Габлер», и в «Трех сестрах» заключены вечные вопросы, отражены неизменные пороки и добродетели человека, которые одинаковы и в России, и в Литве, и во всем мире. Иначе мы бы не понимали друг друга.
Я прошел актерскую школу Мильтиниса, который жил и в Англии, и во Франции, и в Германии, и в Литве. Великий режиссер считал, что нельзя разделять людей по национальной принадлежности. Люди есть люди. У каждого народа — свои герои и свои преступники. Мы читаем Библию, которая одна на всех. И сегодня у каждого народа есть свой Авель и свой Каин.
Как-то, листая текст трагедии Еврипида «Ипполит», написанной две с половиной тысячи лет назад, я наткнулся на следующие слова героя пьесы — Тесея:
О, до чего ж дойдешь ты, род людской?
Иль грани нет дерзости?.. Препоны
У наглости?.. Рожденьем человек
Приподнимай на палец, только гребень
У дерзости, чтобы отца возрос
Хитрее сын, а внук хитрее сына,
И на земле не хватит места скоро
Преступникам. Тогда богам придется
Вторую землю к нынешней прибавить.
(Перевод И. Анненского)
Литва на протяжении веков испытывала гнет то одного государства, то другого. Только сейчас она опять обрела независимость. Но это уже политика, а мне не по душе любая политика. Конечно, я считаю себя литовцем и заявляю об этом категорически. Мое отношение к делению людей по национальностям очень точно передает фильм «Гойя», в котором я играю испанского художника. Сценарий к фильму по роману Лиона Фейхтвангера написал сценарист из Болгарии А. Вагенштейн, а поставил режиссер К. Вольф, который был родом из Германии.
Искусство служит правде, а не политике, не партиям, не национальностям, в рамки которых оно не укладывается. Конечно, у каждого народа существуют какие-то национальные особенности, но я не берусь обобщать, какие они. Я не философ.
С чего начал Мильтинис? С того, что в своем театре начисто отказался от так называемых «актеров-премьеров», которых так любила публика в те времена. Он таким образом составлял репертуар, чтобы актеру, в одном спектакле игравшему главную роль, в другом досталась лишь эпизодическая или даже роль без слов. Часто каждая новая роль, которую готовил актер, будто бы оспаривала его предыдущую работу.
И еще один урок Мильтиниса: он говорил, что нужно собраться лишь для одной наиболее важной цели — быть творцом, без компромиссов отдавая себя своим устремлениям. Я уже вспоминал о том, как он поначалу контролировал каждый наш шаг, каждую нашу мысль. Он не разрешал нам бессмысленно распускаться, каждый вечер проверял, что мы читаем, что думаем о прочитанном.
Для Мильтиниса была лишь одна достойная тема для разговора — театр, искусство, а все остальное не имело смысла. В те годы мы, молодые, еще ничего не понимали в кинематографе, но наш учитель, будучи хорошим педагогом, заранее «осторожно» прививал нам иммунитет от легкой, дешевой удачи.
С самого начала Мильтинис отказался от постановки тех пьес, которые призваны лишь развлекать публику. Хотя, чего греха таить, для того, чтобы «выжить», иногда должен был идти на компромисс. Театра, который не несет серьезного философского заряда, он не признавал. Для того чтобы создавать аналитические спектакли, в которых показывался бы не быт, а Бытие, ему нужны были актеры-интеллектуалы. Поэтому он и организовывал наши поездки и в Москву, и в Ленинград, чтобы мы смогли увидеть спектакли МХАТа, БДТ, чтобы могли посетить Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Русский музей и тому подобное. Он нам объяснял сложнейшие проблемы литературы, философии, социологии, истории, политики…
Если мне удалось в кино или в театре создать что-то интересное, то в этом далеко не только моя заслуга. Я считаю, что в большой степени это заслуга режиссеров. Ни один актер без помощи режиссера-единомышленника ничего хорошего в художественном смысле не создаст. Кто-то мне скажет: «Но существуют же исключения». Возможно, однако, я говорю лишь о том, что знаю по собственному опыту. Конечно, можно выстроить роль, «срежиссировать» ее, опираясь на собственное представление, найти выигрышные куски, но ведь вокруг себя не выстроишь той психологической, жизненной ауры, которая или делает ярче, или разрушает тот рисунок роли, который создает актер. Не случайно большие удачи артистов ассоциируются с именами режиссеров. Так, имя Джульетты Мазины неотделимо от имени Федерико Феллини, а имя Лив Улман — от имени Ингмара Бергмана…
Если в театре я в основном работал у одного режиссера (не считая постановок коллег-актеров), то в кино мне очень повезло с режиссерами. Я снимался у В. Жалакявичюса, Г. Козинцева, М. Калатозова, С. Кулиша, М. Швейцера, А. Тарковского. Все они личности, не разрешавшие себе использовать актера не творчески. Не скажу, что работать с ними было легко. От меня эта работа потребовала большого психического напряжения, необходимого для того, чтобы как можно точнее реализовать те задачи, которые они передо мной ставили. Особенно ценными для себя я считаю те уроки, которые я получил у В. Жалакявичюса. И не только потому, что, работая вместе над несколькими фильмами, мы научились понимать друг друга. Главное — это сами принципы работы режиссера, сотрудничать с которым — просто наслаждение. Но в этом наслаждении есть и другая сторона — мучительный в физическом и духовном смысле труд.
Я давно понял, что два моих главных учителя — Мильтинис и Жалакявичюс — очень схожи в своих взглядах на искусство. Хотя в жизни они были разными, но одинаково понимали актерскую природу. Я, снимаясь в картинах разных режиссеров, мысленно всегда советовался с Мильтинисом и Жалакявичюсом, которые будто бы невидимо стояли у меня за спиной. К сожалению, не всегда мне это удавалось.
Не знаю, сознательно или нет, я старался учиться и на картинах других режиссеров, и на работах других актеров. Чудо в искусстве происходит тогда, когда нет никаких «вторичных» планов, а существует одна, каждую секунду ощущаемая правда о человеке, о его сомнениях, разочарованиях и надеждах. В одном я твердо убедился: все лучшее в нашем актерском деле берется из жизни и жизнью проверяется. Но это не копия жизни. В актерской профессии чрезвычайно важно уметь творчески воссоздать явления жизни, пропустить их через себя, свою душу и, отобрав философски, духовно и нравственно, в осмысленной форме вернуть через сцену и экран обратно в жизнь. А форма — комедия, трагедия, пантомима или даже напряженная пауза — все это лишь вопрос техники. Он всегда останется в стороне, когда на сцене или на экране есть главное: жизненная правда, правда бытия героя — живого человека, способная волновать, потрясать, вести за собой.
Иллюстрации

Д. Банионис с сестрой Дануте.1930

С другом детства Витасом. 1936–1937

Школа керамики. 1939

Школа керамики. 1940. В первом ряду, в центре — Д. Банионис, во втором, в центре — В. Бледис

Д. Банионис. 1941

Родители после свадьбы. 1920

Мачеха Барбора, сестра Ирена, Донатас, отец. 1948

Свадьба. Паневежис. 3 мая 1948

Она Банионене (в девичестве О. Конкулявичюте). 1943

Актеры Паневежисского театра. В первом ряду, слева — В. Бледис, Д. Банионис, во втором, крайний справа — Ю. Мильтинис. 1941

С Ю. Мильтинисом. Ялта, 1954

С Ю. Мильтинисом. Паневежис, 1941

У театрального автобуса на гастролях Паневежисского театра в городе Друскининкай. 1950
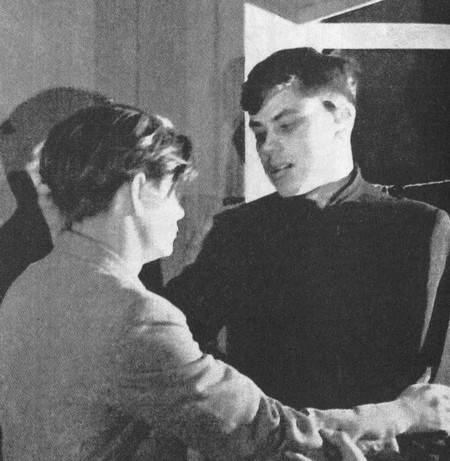
«Поросль», 1941 Ясюс. Сцена из спектакля. Первая роль в Паневежисском театре

«Женитьба Белугина», 1949 Андрей. Сцена из спектакля

«В сумерках»,1945. Эдвардас. Сцена из спектакля

«В степях Украины», 1951. Чеснок

«Как закалялась сталь», 1952. В центре — Павка Корчагин. Сцена из спектакля

«Как закалялась сталь», 1952. Павка Корчагин. Сцена из спектакля

«Мнимый больной», 1950. Бонфуа

К/ф «Адам хочет быть человеком», 1959. Дауса

«Поднятая целина», 1964. Давыдов. Сцены из спектакля

«Смерть коммивояжера», 1958. Вилли Ломен

«Смерть коммивояжера», 1958. Вилли Ломен. Биф — С. Петронайтис

«Гедда Габлер», 1957. Тесман. Гедда — Е. Шулгайте

«Макбет», 1961. Банко

«Соломенная шляпка», 1959. Бопертюи. Анне — Л. Адомавичуте. Сцена из спектакля

«Соломенная шляпка», 1959.Бопертюи. Фадинар — А. Масюлис. Сцена из спектакля


«Соломенная шляпка»,1959. Бопертюи

«Третье желание», 1960. Петрус. Сцена из спектакля

«Роза Бернд», 1960. Кристов Фламм. Сцена из спектакля

«Парень с чертовым волосом», 1960. Римша. Сцена из спектакля
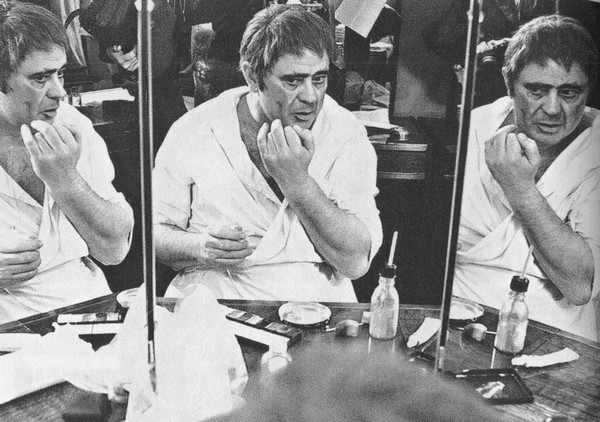
В гримерной

«Заседание кафедры». Сцена из спектакля

К/ф «Открытие», 1973 Академик Юрышев

«Там, за дверью», 1966 Бекман. Подметатель улицы — Б. Бабкаускас

«Там, за дверью», 1966 Бекман. Другой — А. Масюлис

«Там, за дверью», 1966 Бекман. Сцена из спектакля

С сыном Раймундасом. 1966

60-е годы

В кругу семьи: младший сын Раймундас, Донатас, жена Она, старший сын Эгидиюс. 1970

70-е годы



К/ф «Никто не хотел умирать», 1965 Председатель Вайткус. Она — В. Артмане


К/ф «Никто не хотел умирать», 1965 Председатель Вайткус

На съемках фильма «Никто не хотел умирать» с режиссером В. Жалакявичюсом

70-е годы

К/ф «Никто не хотел умирать», 1965 Вайткус

К/ф «Мертвый сезон», 1968 Ладейников. Савушкин — Р. Быков

На съемках фильма «Мертвый сезон» с режиссером С. Кулишом

К/ф «Берегись автомобиля», 1966. Пастор. Деточкин — И. Смоктуновский

Т/ф «Операция „Трест“», 1968. Стауниц. Мария — Л. Касаткина

Т/ф «Операция „Трест“», 1968. Стауниц

К/ф «Король Лир», 1970. Герцог Олбэни. Лир — Ю. Ярвет, Гонерилья — Э. Радзиня

К/ф «Красная палатка», 1969 Мариано


На съемках фильма «Бетховен — дни жизни»

К/ф «Бетховен — дни жизни», 1976. Бетховен с режиссером X. Зееманом и актрисой Р. Рихтер


Т/ф «Где ты был, Одиссей?», 1977. Огюст. Карл — А. Ромашин


К/ф «Гойя», 1971. Франсиско Гойя




К/ф «Гойя», 1971. Франсиско Гойя

К/ф «Бегство мистера Мак-Кинли», 1975. Мак-Кинли. Шамуэй — А. Степанова

К/ф «Бегство мистера Мак-Кинли», 1975 Мак-Кинли. Мисс Беттл — Ж. Болотова

К/ф «Бегство мистера Мак-Кинли», 1975 Мак-Кинли

К/ф «Командир счастливой „Щуки“», 1972 Гунар. Носов — В. Кашпур

«Пляска смерти», 1973 Эдгар

К/ф «Мама, я жив», 1977. Майор Маурич

К/ф «Кентавры», 1978. Президент

К/ф «Солярис», 1972. Крис Кельвин



к/Ф «Солярис», 1972. Крис. Хари — Н. Бондарчук

К/ф «Солярис», 1972 Крис
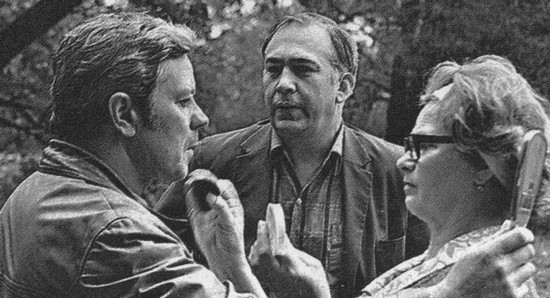
На съемках «Соляриса» с гримером и оператором В. Юсовым

На съемках к/ф «Солярис»

На съемках «Соляриса» с актером Ю. Ярветом и режиссером А. Тарковским

На съемках к/ф «Солярис»

Фестиваль в Сорренто. 1972. С Н. Бондарчук и А. Тарковским

С О. Янковским на фестивале фильмов А. Тарковского. Вена, 1991

На съемках «Соляриса». Хари — Н. Бондарчук, Крис — Д. Банионис с режиссером А. Тарковским

«Счастье в уголке» Доктор. Сцена из спектакля «На Золотом озере»

«На Золотом озере» Норман. Сцена из спектакля

«На Золотом озере» Норман. Сцена из спектакля

«Любовные письма» Сцена из спектакля



«Возможная встреча», 2000. Бах. Гендель — Р. Адомайтис

«Круг»

«Самоубийца»

В Индии. 1974

С В. Терешковой и Р. Гамзатовым

С Г. Вициным

На кинофестивале в Каннах. 1972

На съезде Союза кинематографистов СССР в Кремле

С Е. Максимовой и В. Васильевым в президентуре Литвы в Вильнюсе. 2002

С В. Артмане на Московском кинофестивале. 2000

С К. Прунскене

В гостях у кинорежиссера Ю. Мякаса. Нью-Йорк, 1988

На кинофестивале в Твери

С Э. Неизвестным Нью-Йорк. 1988

С П. Макаровым и А. Калягиным

С А. Лебедем и Оной на фестивале в Твери

Официальный визит президента Литвы Валдаса Адамкуса в Россию. Представление делегации президенту РФ В. В. Путину. Москва, Кремль, 2001

Дома с Оной

2006

С женой Оной.1996

У озера Саратай. Она ловит рыбу… 2005
Примечания
1
Симашка — актер Вильнюсского театра.
(обратно)
2
Рудзинскас — режиссер
Вильнюсского театра.
(обратно)
3
Печатается с сохранением написания оригинала.
(обратно)
Оглавление
Вступительное слово
Мои детские мечты
Начало
Новые веяния
Интрига
Театр без Мильтиниса
Возвращение Маэстро
Мои первые опыты в кино
«Мертвый сезон»
«Красная палатка»
Америка
«Гойя, или Тяжкий путь познания»
«Солярис»
«Пляска смерти»
Кинематографические пути-дороги
Третье предсказание
И еще несколько встреч…
Из дальних странствий
Фестивали… фестивали
«Я творю, потому что в этом мое счастье!»
И напоследок
Иллюстрации
*** Примечания ***

 …Вечер 1999 года. В Паневежисском драматическом театре имени Юозаса Мильтиниса идет спектакль по пьесе Э. Томпсона «У Золотого озера», посвященный 75-летнему юбилею Донатаса Баниониса. Он исполняет роль главного героя — пожилого профессора Нормана Теера. Игра трогательная, веселая, как апрельский ветер. Занавес не опускается. Актер стоит в холщовом костюме. Словно рабочий сцены… Он и в самом деле — Рабочий сцены, самый обыкновенный, спокойный среди празднично ликующих, готовый сыграть еще один спектакль, такой же блестящий и значительный.
Банионис никогда не стремится обратить на себя внимание, как разведчик Ладейников в фильме «Мертвый сезон». Он борется с жизнью и иногда терпит поражение, как Ломен в спектакле «Смерть коммивояжера». Он спрашивает и спрашивает, хотя и не слышит ответа, как солдат Бекман в постановке «Там, за дверью». Он кипит эмоциями и умеет их скрывать, как капитан Эдгар в «Пляске смерти». Он ищет путь, когда огонь охватывает его с обеих сторон, как председатель Вайткус в картине «Никто не хотел умирать». Он пытается понять себя и других в бесконечном пространстве, как ученый Кельвин в фильме «Солярис». Он не выбирал творчество — творчество выбрало его, как художника Гойю в одноименном фильме.
Русский, литовец, немец, американец, испанец, швед…
Он — Человек всех национальностей. Донатас Банионис всегда играет Человека.
Елена Мезгинайте
…Вечер 1999 года. В Паневежисском драматическом театре имени Юозаса Мильтиниса идет спектакль по пьесе Э. Томпсона «У Золотого озера», посвященный 75-летнему юбилею Донатаса Баниониса. Он исполняет роль главного героя — пожилого профессора Нормана Теера. Игра трогательная, веселая, как апрельский ветер. Занавес не опускается. Актер стоит в холщовом костюме. Словно рабочий сцены… Он и в самом деле — Рабочий сцены, самый обыкновенный, спокойный среди празднично ликующих, готовый сыграть еще один спектакль, такой же блестящий и значительный.
Банионис никогда не стремится обратить на себя внимание, как разведчик Ладейников в фильме «Мертвый сезон». Он борется с жизнью и иногда терпит поражение, как Ломен в спектакле «Смерть коммивояжера». Он спрашивает и спрашивает, хотя и не слышит ответа, как солдат Бекман в постановке «Там, за дверью». Он кипит эмоциями и умеет их скрывать, как капитан Эдгар в «Пляске смерти». Он ищет путь, когда огонь охватывает его с обеих сторон, как председатель Вайткус в картине «Никто не хотел умирать». Он пытается понять себя и других в бесконечном пространстве, как ученый Кельвин в фильме «Солярис». Он не выбирал творчество — творчество выбрало его, как художника Гойю в одноименном фильме.
Русский, литовец, немец, американец, испанец, швед…
Он — Человек всех национальностей. Донатас Банионис всегда играет Человека.
Елена Мезгинайте