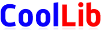
Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!
Для среднего и старшего возраста
Георгий Иванович Кублицкий
ВОЛГА
ИБ № 1020
Ответственный редактор Г. В. Малькова Художественный редактор И. Г. Найденова Технический редактор В. К. Егорова Корректоры
Л. М. Агафонова и Е. Б. Кайрукштис
Сдано в набор 6/VI 1977 г. Подписано к печати 25/IV 1978 г. А00417. Формат 90х70‘/!6. Бум. тифдр. № 1. Шрифт обыкн., журн.-рублен. Печать глубокая. Усл. печ. л. 16,38. Уч.-изд. л. 17,87. Тираж 75 000 экз. Заказ № 484. Цена 1 руб. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Сущевский вал, 49.
Кублицкий Г. И.
К88 Волга: Научно-худож. лит-ра.— М.: Дет. лит., 1978.-223 с. ил.
В пер.: 1 руб.
Энциклопедическая книга о сегодняшней и завтрашней Волге.
ЗЗС ББК 65.9(2)04







Волга... Она приходит к нам еще в детстве строкой поэта, раздольной песней, рассказами о подвигах народа, давних и

Москва
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1978
Научно-художественная литература
В книге использованы фотографии М. Редькина, Е. Кассина, Л. Раскина и фотохроники ТАСС
Оформление Евг. Когана
Опять иду на Волгу.
Надеюсь, вы знаете: речник, как и моряк, никогда не скажет, что он плавает. Моряки и речники ходят на судах, ходят по морям и рекам. Это всему сухопутному люду втолковывал еще Иван Александрович Гончаров. Вспоминая о своем плавании на фрегате «Паллада», о желаниях и надеждах, связанных с дальними странствиями, он писал:
«Я хотел бы перенести эти желания и надежды в сердца моих читателей и - если представится им случай идти (помните — идти, а не ехать) на корабле в отдаленные страны — предложить совет: ловить этот случай, не слушая никаких страхов и сомнений».
Не буду настаивать, что пассажир уютной каюты теплохода, совершающего рейсы между Москвой и Астраханью, непременно должен говорить, что он «прошел Волгу». Но, наверное, глаголы «ехать» и «проехать» все же лучше оставить для поездов и автобусов.
Я хожу по Волге больше тридцати лет. Не обязательно каждую навигацию. Бывали перерывы в два-три года. Но случалось и так, что за одну навигацию встречал на Волге весну и на Волге же провожал позднюю осень. Поднимался по волжским притокам, жил в приречных городах и селах. За лето успевал сделать несколько рейсов.
Тридцать лет — это очень много. Иных капитанов знал совсем молодыми, теперь у них седые головы. И сколько всяких речных историй наслушался я за эти годы! Сколько разных судов повидал!
Каждое судно — свой особый мир. Свой быт, свои нравы. На туристском речников почти и не видно, всюду отдыхающие, отпускники, народ пестрый, шумный, любознательный. Едва судно к берегу — все валом валят на причал. Там уже экскурсоводы с микрофонами:
— Граждане пассажиры, кто хочет ознакомиться с достопримечательностями нашего города, прошу сюда! Автобусы ждут вас, продолжительность экскурсии три часа.
Потом уставшие пассажиры, возвратившись «домой», спешат в судовой ресторан, чтобы за обедом обмениваться впечатлениями и хвалиться сувенирами, большинство которых, между нами говоря, можно купить в любом городе и за тридевять земель от Волги.
Приход «Ракет» и «Метеоров» экскурсоводов совершенно не волнует. Эти скоростные суда — для деловых людей, для командированных, для тех, у кого каждый час на счету.
На грузовых судах пассажиров нет вовсе. Одни речники. Судно иногда идет напрямик из одного порта в другой. Все нужное его команде часто доставляют на ходу. Навстречу выходит суденышко «ПМ», что значит «плавучий магазин». Подходит к борту, причаливает, идет вместе: пожалуйста, дорогие покупатели!
Грузовые суда — главные волжские работяги. Тот, кто хочет по-настоящему почувствовать речную жизнь, должен походить и на буксирах — толкачах, и на грузовых теплоходах, и на танкерах, и на плотоводах.
Лишний раз напомнив вам об этом, я взял билет на обычный пассажирский теплоход линии Москва — Астрахань.
Дело в том, что у грузовых судов один недостаток: их рейсы почти без остановок. Берега проплывают мимо. Судно может миновать причалы самых расчудесных городов. Оно не зайдет в бухту, где отличный пляж. Оно не замедлит ход возле утеса Степана Разина. Остановится оно в самом неживописном месте, около нефтеперекачечной станции, чтобы запастись топливом для продолжения пути.
Вот почему решил: сначала посмотрю всю Волгу сразу, посмотрю, какой она стала в начале последней четверти нашего века, когда юбилейная десятая пятилетка набирает полный разбег.
А ведь я помню, как начиналась первая пятилетка. Самая первая. Я в тот год кончал школу далеко от Волги, в большом сибирском городе. Само слово «пятилетка» казалось таким же новым, непривычным, как и слово «колхоз». Тогда в кинотеатрах перед началом сеансов обычно выступали куплетисты, и я запомнил такую глуповатую песенку:
Все колхозы и сельхозы
Пусть цветут сильнее розы...
В книге, которую вы сейчас читаете, я часто буду возвращаться к прошлому, иногда близкому, хорошо памятному мне, иногда к такому далекому, что о нем не всё знают даже археологи и историки. Но главное в книге — рассказ о сегодняшней Волге.
В конце каждой главы вы найдете отдельные небольшие заметки. Они напечатаны в три столбика-колонки и другим шрифтом. Это вовсе не значит, что в заметках рассказывается о чем-то менее значительном. Напротив, там много важных тем. Напечатаны заметки по-другому потому, что некоторые из них совершенно самостоятельны, не связаны прямо с главами.
Заметки — как бы разрозненные, разноцветные кусочки из общей мозаичной панорамы великой реки. Где упоминание о крупной стройке, где полузабытая речная история, старинное предание, а там страничка из дневника, отрывок из биографии выросшего на Волге знаменитого человека, наконец, просто деловая справка или пересказ газетного сообщения.
Быть может, вам встретится и то, о чем вы уже слышали; ну что же, лишний раз освежите в памяти.
Дизель-электроход «Ленин», флагман волжского флота.

...Итак, в один прекрасный день я оказался обладателем билета на теплоход «Клемент Готвальд». Неважно, какой день был на самом деле. Начало любого путешествия всегда прекрасно, даже если дождь зарядил с утра и перед отъездом тебе надо сделать еще уйму дел.
Рейс начинался от Северного речного вокзала. Он кажется уже старомодным. Во многих приволжских городах вокзалы куда современнее. Там везде стекло, сквозь здание можно смотреть на реку, а уж если кое-где стены украшены росписью, то на ней непременно космонавты, космические корабли и корабли на подводных крыльях. Ну и чайки, разумеется.
А на Северном речном вокзале — будто картинки из учебника истории СССР. Тут все, чем были мы сильны и богаты в середине тридцатых годов.
Вот летит мощный паровоз. Паровозов мы уже давно не строим, всюду теперь тепловозы и электровозы. Стратостат? Многие просто не знают, что это такое, думают, будто изображен огромный воздушный шар. А ведь именно стратостаты первыми штурмовали стратосферу. Наши, советские, поднялись выше всех, установили мировой рекорд.
Что же еще? Дирижабль. Нельзя сказать, чтобы этот сюжет устарел вовсе. Некоторые конструкторы думают, что рядом с самолетами, обгоняющими звук, нашлось бы в небе дело и для дирижабля. Пусть не для такого, какой на цветной керамике вокзала, но, в общем, схожего с ним. Никакой вертолет, говорят конструкторы, даже самый мощный, не может поднять столько груза, сколько дирижабль, летательный аппарат легче воздуха.
У вокзальных причалов полно судов. Одни только что вернулись из рейса, и загорелые, оживленные пассажиры спускаются но трапам на московскую землю. Другие готовятся в путь. Они принимают на борт людей бледнолицых, еще только предвкушающих прелести судовой жизни.
«Клемент Готвальд» — обычный волжский теплоход. Теперь на линию вышли новейшие, роскошные, а этот служит Волге, как сказал мне вахтенный матрос, больше двух десятилетий. Для кораблей это возраст зрелый, но уж никак не пожилой. Корабли служат долго.
Много лет назад я был в Норвегии. Поехал из Осло, столицы страны, к ее западному побережью. Дорога шла по всхолмленной равнине. Слева открылось большое озеро Мьёса.
— Господа, вам повезло,—сказал в микрофон шофер междугородного автобуса.— Вы видите самый старый в Европе пароход. Взгляните, он как раз подходит к берегу. Это не музей, это действующий пароход, и на нем очень любят ездить господа туристы.
Я тогда довольно высокомерно оглядел издали старую калошу. А недавно прочитал в газетах, что пароход «Скибландер» — тот самый! — благополучно ходит по озеру до сих пор. Он построен в 1856 году, дважды тонул, и, когда второй раз компания судовладельцев объявила, что намерена пустить старика на слом, местные жители сами собрали деньги и отремонтировали его.
Я позавидовал патриотизму норвежцев, берегущих старину. Разве не интересно побывать на пароходе, который ходил по своему озеру уже в те годы, когда на дорогах многих стран еще пылили кареты и дилижансы, а железные дороги были редкостью? Да и пароходы сто двадцать лет назад казались диковинкой.
«Клемент Готвальд» отошел от причала секунда в секунду.
Десятью минутами раньше нас ушел в рейс «Днепр». Почти сразу за нами должен был отправиться еще один теплоход.
Мы отчалили под веселую музыку — и пошла Москва развертывать свои панорамы. Сначала справа тянулся один из трех столичных портов. Порт пяти морей, очень современный и механизированный, принимающий для столицы грузы Волги и отправляющий на Волгу изделия московской индустрии. Москва строится — Волга шлет ей песок и цемент, щебень и лес. Целые пирамиды песка, а все равно его недостает. Стройки торопят, только давай!
В Москве свое пароходство. Его флот перевозит каждую навигацию десятки миллионов тонн грузов. Это уголь, руда, хлеб, лес, разные строительные материалы. Много груза деликатного, требующего особенно быстрой и бережной доставки: овощи и фрукты, ранняя картошка, нежные абрикосы, сладкие астраханские арбузы, от которых тент над верхней палубой — на судах тент, не крыша! — зеленеет, словно бахча.
А пассажиры? Двадцать миллионов за навигацию. На одних только водах Подмосковья — на канале, водохранилищах, речках — погожим выходным днем бывает до полутораста тысяч отдыхающих.
Но вот и повод для экскурсии в первую пятилетку. Давайте-ка сравним кое-что.
Было тогда Московское пароходство? Было, но маленькое. Можно даже сказать — ничтожное. Ведь канала имени Москвы не существовало. Не было и Северного вокзала. Не имела Москва никаких портов. Стояла возле берега Москвы-реки пристань. От нее небольшие суденышки шли через обветшавшие старинные шлюзы Москворецкой системы на Оку.
По Оке добирались до Рязани. Там пассажиры пересаживались на пароходы побольше, и на них путешествовали к Волге, к Нижнему Новгороду, который позднее переименовали в город Горький. Пароходов насчитывалось около десяти. Почему «около»? Потому что они чаще ремонтировались, чем ходили.
Была Москва в те годы городом «сухопутным до чертиков», откуда, как выразился один бытописатель, хоть семь дней скачи, ни до какого моря не доскачешь.
Вее перевернул канал, названный именем столицы. Он привел Волгу в Москву. Протянул туда искусственное волжское русло. Открыл по нему дорогу для больших судов и дал Москве волжскую воду. Каждый год Волга посылает московскому водопроводу два миллиарда кубометров воды — два Московских моря. Московское море из волжских далеко не самое крупное, но все же...
Открываешь в Москве водопроводный кран — льется из него Волга. Поливает дворник клумбу — волжская вода поит цветы. А главное — превратила Волга хилую Москву-реку в полноводную, на которой не тесно крупным волжским теплоходам.
Прежде глубина Москвы-реки на фарватере, то есть на пути, где проходят суда, едва достигала полутора метров. По такому, с позволения сказать, фарватеру рослый человек вполне мог вброд ходить. А ближе к берегу было и вовсе мелко.
Теплоходы дальних линий обычно покидают Северный речной вокзал под вечер. Москва провожает нас. Светится небо над городом. Ночь на канале беспокойно-праздничная. Зеленые, красные, оранжевые огни, обозначающие водную дорогу, манят, притягивают, обещая чудесную поездку. Их отсветы качаются на волнах. Вода в канале редко бывает спокойной: слишком много судов даже за полночь идут в столицу и из столицы.
Вот на буксире, который мы обгоняем, приоткрылась дверь каюты с зашторенным окном, в ней парень в белой майке сидит над книгой, прижав ладони к вискам.
Я люблю канал ночью, когда смолкает победный рев подвесных моторов и на прогулочных катерах магнитофонные записи популярных певцов не заглушают птиц в прибрежных кустах.
Ночь приходит на канал как бы нерешительно, и лишь ближе к утру дремота охватывает судно и берега. Последние пассажиры, упрямо не покидавшие палубы, проникаются наконец сознанием, что впереди будет еще много речных ночей. Скоро нам предстоит встреча с Волгой, значит, нужно поспать хотя бы часочка три.
Утром «Клемент Готвальд» — на подходе к последним шлюзам канала. Солнечный свет заливает равнину, лесистую и влажную, пахнущую свежим сеном и горьковатым дымком рыбацких костров.
Шлюзы теперь у нас на многих реках. К ним привыкли. Раньше, бывало, едва покажутся вдали шлюзовые башни, вся публика — на носу. Спорят, ахают, вспоминают школьную премудрость о сообщающихся сосудах. Теперь разве что малые ребята канючат:
— Мам, а мам... Скоро ворота откроют?
В шлюзе тесно. Вместе с двумя грузовыми теплоходами, отдавшими свой груз столице и спешащими за новым,— наш знакомый туристский теплоход «Днепр». При отходе из Москвы я заметил четверку на его корме: сразу сели за карты. Ночь минула, а они снова дымят за столиком. Что им шлюз? Так, глядишь, и проиграют всю Волгу...
А до нее уже рукой подать.
Первый волжский гидроузел перед нами: гидростанция и плотина, заставившая Волгу разлиться Московским морем. Оно простирается слева от нас, спокойное, похожее на большое лесное озеро. За ним — верховья Волги, ее исток.
Ворота шлюза выпустят нас на главную волжскую дорогу, ведущую к Каспию, на дорогу с перекрестками, откуда ответвляются пути к Балтике и Белому морю, на Оку и Каму, на Дон, к Азовскому и Черному морям.
Пока «Клемент Готвальд» идет к шлюзу, самое время оглянуться назад, прощаясь с каналом.
Канал? Москвича завлекают сюда панно на торцевых стенах домов: «Прогулка на речных судах — лучший отдых!» Иные прогулкой и ограничиваются, завидуя тем, для кого здесь начало водных дорог к заповедной волжской дельте, к невским берегам, в края уральские, на окские тихие плесы.
Москвичи знают, разумеется, что канал, кроме всяческих отпускных и воскресных удовольствий, еще и делом служит столице. Но лишь для немногих он — воспоминание о войне.
А канал был боевым рубежом обороны столицы. Не главным, не решающим, потому, наверное, об этом мало знают и помнят.
Осенью 1941 года, когда фашисты рвались на ближние подступы к столице и положение стало тревожным, речники задумали одну операцию...
Зима в тот год пришла рано. К концу ноября по окрепшему льду Московского моря гитлеровцы проложили удобные и прямые дороги. Но когда их войска двинулись через море, лед вдруг стал резко оседать, трескаться, ломаться. Началась паника. И ведь не было никакой оттепели, напротив, мороз крепчал час от часу!
Тем временем другие гитлеровские части прорвались к шлюзу № 3 у города Яхромы. Там канал проложен через удобную для продвижения танков и пехоты равнину, пересеченную реками Яхромой и Сестрой. Реки были скованы льдом. Гитлеровцы подтянули сюда войска для нового наступления.
И тут в русло замерзших рек неожиданно хлынули потоки. Вода вышла из берегов, разливаясь по долине в густых клубах пара. Поток разрушил переправы. Перед наступавшими фашистскими частями возникла неожиданная преграда.
Приказ о выполнении плана, задуманного речниками, дал лично командующий фронтом Георгий Константинович Жуков.
Что же сделали речники? Быстро спустив через плотину много воды из Московского моря, они осадили, взломали на нем лед. Ниже плотины начался бурный разлив. Вода поднялась местами до шести метров. Такого здесь не бывало при самых бурных паводках!
...А наш «Клемент Готвальд» тем временем тихим ходом минует выходные ворота шлюза. До свидания, канал, здравствуй, Волга!
Пристань называется Большая Волга.
Сама пристань совсем небольшая. Да и Волга в том месте, где начинается канал, не широка.
Гордое название пристани — в честь плана преобразования реки, задуманного еще в тридцатых годах. Волга никогда не была маленькой. Но большое можно сделать еще более величественным.
План Большой Волги предусматривал строительство на главной нашей реке и ее притоках плотин, гидростанций, искусственных морей. Он намечал соединение Волги каналами с другими реками и с морями, омывающими берега страны. Часть волжской воды предполагалось использовать для орошения засушливых земель. Смысл плана был в том, чтобы великая река приносила наибольшую пользу человеку.
Гидростанция, построенная возле бывшей деревни Иваньково и поднявшая воду Московского моря, как раз и была первой гидростанцией Большой Волги.
Недалеко от плотины и от входа в канал — памятник Владимиру Ильичу Ленину. Он огромен, как утес, и сделан не из бронзы, а из розоватого гранита.
План Большой Волги был задуман немало лет спустя после смерти Владимира Ильича. Но Ленин оставил партии и народу завет об электрификации страны. А Большая Волга должна была помочь превратить нашу страну в страну электричества.
Случилось так, что именно возле пристани Большая Волга вслед за гидроузлом возник город мирного атома. По имени протекавшей поблизости речки назвали его Дубной.
В этом городе работают ученые нашей страны и братских социалистических стран. Для них построили великолепные лаборатории и небывалые, невиданные машины. Улицы Дубны — Атомграда названы именами величайших физиков мира. Некоторые из них были гостями города.

«Дубна»! Добро пожаловать в Атомград!
Дубна прославилась открытиями мирового значения. В таблице, составленной гениальным Менделеевым, оставались пустые клетки для неоткрытых элементов. Заполнить клетки невероятно трудно: эти элементы не встречаются в природе.
В приволжском Атомграде сумели впервые создать искусственно 102-й, 103-й, 104-й, 105-й элементы Периодической системы Менделеева. Здесь найден также след 106-го, распадающегося за ничтожные доли секунды.
У города мировая слава, а с речной дороги — ну решительно ничего особенного! Сначала обыкновенный указатель, как и у шоссейных дорог: крупные желтые буквы «Дубна». Самого города не видно, он скрыт лесом и не торопится показать себя.
Но вот между стволами рослых сосен замелькали дома. На обозрение волжским пассажирам Дубна никаких чудес не выставляет. Обычные здания, какие увидишь в приречных санаториях. Гостиница просто «Дубна». Лишь в названии плавательного бассейна сделана маленькая уступка тем, кто хотел бы узреть особые приметы этого необычного города: бассейн называется «Архимед».
Ушла за мысок Дубна — и открылась деревня, быть может помянутая еще в архивных бумагах как собственность помещицы, какой-нибудь госпожи Собакиной. Церковь к памятникам архитектуры явно не отнесена и посему находится в изрядном запустении: на месте купола угнездились березки. Но какие основательные дома! Большие навесы спускаются, от крыши над двором, чтобы защищать его от снежных заносов и осенних дождей.
Первую остановку на коренной Волге теплоходы дальних линий делают в Кимрах.
Кимры, а напротив — промышленное Савелово. Трудно им друг без друга. Не разобщать, а соединять их должна Волга. И просят Кимры с Савеловом: нам бы мост, без моста общение весьма затруднено, никакими паромами не обойдешься, вон на Волге сколько флота в ходу, попробуй пережди. На самых людных улицах в городах устраивают подземные переходы, чтобы движение было безопасным и удобным. А главной улице России нужны мосты.
Дают мост и Кимрам. С обоих берегов навстречу друг другу выдвинулись в реку насыпи, первый легкий пролет повис над водой.
Стары Кимры! Случилось так, что уже в XVI веке их обитатели занялись сапожным промыслом. Стали Кимры поставлять свой товар всей России. Хотя в те годы на изделия не ставили ни фабричную марку, ни тем более Знак качества, всюду знали, что работают кимряки добротно, сапоги носи — не сносишь, еще и сыну пригодятся, когда подрастет.

В Дубне говорят: у нас атом — не солдат, он — работник.
Выполняли мастера из Кимр заказы для армии Петра Первого. Одевали солдат, бившихся с армией Наполеона под Бородином, и в тех сапогах прошли солдаты пол-Европы, в них же прошагали по улицам Парижа.
А помните у Некрасова? Явились странники на ярмарку и там «любуются платочками, ивановскими ситцами, шлеями, новой обувью, издельем кимряков».
Старую свою профессию сохранил город до Великой Отечественной войны. Кимрские солдатские сапоги топтали ступени рейхстага в Берлине. И сегодня шьют Кимры обувь, но есть у города и другие специальности — например, обработка металла.
Как и во всех старинных волжских городах, тут дома с мезонинами, уютно укрывшиеся в садах, обширных и густых.
А за Кимрами Волга исподволь, не спеша, показывает, как разнообразны, как красивы ее берега. И красота эта не броская, не приедающаяся, не яркая, как на рекламном туристском плакате. Будто хочет сказать Волга: вот, мол, смотрите, ваши предки выбирали для поселения места с толком, чтобы был отдых глазу, чтобы красота облагораживала душу. Берегите же ее, эту красоту!
Народ на Волге расселялся широко и вольно. Да ведь именно так велела сама река, простор ее плесов. Она, Волга, всему придавала размах, смелость. Чего же тесниться, когда вокруг дали необъятные, в половодье вода сливается с небесной голубизной.
И какое счастье, что остались еще на Волге уголки, вызывающие в памяти некрасовские строки! Пусть была бедна та Волга, пусть бурлацкая песня-стон разносилась над ее водами. Но как дороги нам запечатленные в вечных стихах зеленое раздолье приречных лугов, облака, неторопливо, словно в задумчивости плывущие над стремительными «Ракетами», как плыли они некогда над барками, влекомыми бурлаками.
День жаркий, коровы забрели в прохладную воду и блаженствуют. Пастух присел возле, смотрит на реку. Дома у него транзистор и телевизор, но здесь, на выпасах, с ним все тот же длинный кнут, с которым не расставались пастухи, быть может, еще со времен монголо-татарского нашествия.
Есть на белом свете места, куда, наверное, не надо заглядывать часто. Пусть живет в тебе первое, самое сильное впечатление, которое не забудется, не сотрется.
Для меня одно из таких мест исток Волги.
Впервые я был там вскоре после войны. Второй раз... Жалею, что собрался туда вторично. Ничего мне этот поход не прибавил, скорее убавил. Было людно, шумно: теперь к волжской колыбели настоящее паломничество.
В давний год туристов почти не было. Тогда полузабылось даже это слово. Горе войны витало в воздухе и после бурной радости победы.
Народ жил бедно. Даже хлеба не было вволю. По деревням еще чернели пепелища: через волжские верховья прошел фронт. Мне стыдно было расспрашивать дорогу: все люди при настоящем деле, а я иду на поклон Волге. Это на поклон к святым мощам раньше богомолки ходили. Так то было раньше, тогда вообще бездельников было много. Никто не сказал этого прямо, но взгляды бросали косые, даже разговаривали не очень охотно.
У меня с собой была старая книга. Называлась она «Верховья реки Волги в их прошлом и настоящем». Написал книжку член Тверской ученой архивной комиссии, отпечатана в 1893 году. Редкая книжка.
Из нее я узнал, что местность, окружающая исток Волги, покрыта болотами и почти девственными лесами, «в которых еще и теперь царят медведи». Был в тех местах когда-то монастырь, но монахи мирно сосуществовать с медведями не пожелали и переселились в более хлебородные места.
Петр Первый, которого интересовали водные пути между Москвой и Петербургом, монастырь велел восстановить, однако вскоре он сгорел. Осталась возле истока лишь деревня Волгино-Верховье.
В книге повествовалось далее, что жителям этой деревни «выпало на долю ознаменовать по исконному русскому обычаю исток реки Волги какой-либо святыней. Они стали устраивать на ключе часовню. Эти крестьянские сооружения, получившие свое начало, весьма вероятно, еще со времен монастыря, то исчезали, то появлялись вновь, смотря по подъему или упадку благосостояния жителей деревни».
Я не помню подробностей дороги. Ночью тащился в местном поезде, ночью же приехал на берег озера Селигер, в город Осташков, оттуда на маленьком пароходике отправился к деревне Свапуще. Не выспавшись, клевал носом. Меня поразило, что над простором озера кружились одни чайки. Ни паруса, ни лодки.
До Свапущи со мной ехали два рыбака и старушка, всю дорогу что-то жевавшая. Так вчетвером и ушли мы с пароходика, а он сразу повернул обратно.
Я спросил дорогу к Волгино-Верховью.
— А лесом, лесом,—сказала старушка.— Тропинка тебя прямо и выведет. Дела у тебя там?
Я промычал что-то неопределенное.
— Ну давай, давай,— мирно напутствовала она.— Шибко пойдешь, засветло там будешь.
Лес напомнил мне родную Сибирь. Сосны и ели, да какие крепкие, высокие! Всюду валуны, натащил, набросал их великий ледник. И еще озера — прозрачные, чистые, прохладные.

Колыбель великой реки.
Я со школьных уроков географии запомнил: Валдайская возвышенность. В Сибири возвышенность — это горы, хребты. А здесь холмы, даже холмики. Так с холма на другой и тянулась дорога, скорее тропка. И ни одного встречного! Вот тебе и священные места!
Деревня Волгино-Верховье, маленькая, в одну улицу, вытянулась над котловиной, самой обыкновенной болотистой котловиной, каких немало в этих местах. Деревянные избы, куры, роющиеся в навозе, скрип петель на воротах, покосившаяся поскотина из жердей, сизая капуста на огородах, спускающихся к низине.
А в низине — Волга. То есть никакой Волги сначала не видишь. Просто настил через топь к избушке, похожей на часовенку, изображенную в старой книжке. Только сверху шпиль вместо креста.
Я прошел по настилу и припал к Волге. Тогда не было еще алюминиевых перил и резных колонок, которые устроили позднее. Было четырехугольное отверстие в полу, какие бывают в избах и ведут в подполье. Там-то, в этом отверстии, и пробивались, слабо шевеля песчинки, струйки родничка.
Вот и все.
Тоненький ручеек уходил из избушки, словно теряясь в болоте. Но нет, вон он, пробил все же себе дорожку. Отправился в путь долгий и славный, чтобы растворить первые свои капли в колоссальном океане вод, уносимых к Каспию.
У меня не было честолюбивого желания перешагнуть через Волгу. Мне хотелось унести навсегда в памяти ощущение простоты и будничности этого места.
Русский купец любил шик и позолоту. Российский помещик устраивал великолепные празднества и спектакли в своем театре, где крепостных секли розгами за оговорку или неловкость на сцене. Трудовой же народ ценил простоту и естественность.

Отсюда Волга отправляется в дальний путь...
...чтобы закончить его в морских просторах.

Да, в народных празднествах всегда было достаточно красок. Хохломская роспись солнечна и ярка, народные костюмы поражают буйством фантазии, резные наличники на окнах в верхневолжских селах — произведения искусства. Но, насколько я знаю, никогда не делали особенно нарядной колыбель.
Не нарядна, не парадна и колыбель великой нашей реки. Шумит ветер в вершинах елей, шелестит осокой, стайка гусей тянется к болотцу. Парнишка проехал на лошади без седла, понукая ее басом. И облака плывут над Валдаем, такие неторопливые в бледном голубом небе.
Испытал ли я тогда разочарование? Ни капельки! Возникло ощущение какой-то особой близости, стали мне и эта деревня на пригорке, и болотце с осокой и белокопытником щемяще родными, дорогими.
Теперь к истоку Волги маршрут наезженный, нахоженный, проторенный. Все куда быстрее, удобнее. Можно примкнуть к экскурсии, послушать опытного экскурсовода. Но я уж лучше останусь со своими старыми воспоминаниями.
И остановили реку... Канал имени Москвы назывался сначала каналом Москва — Волга.
Его начали строить поздней осенью 1932 года. У нас еще не было мощных земляных машин. Паровые экскаваторы действовали только на самых трудных участках. А переместить надо было больше двухсот миллионов кубических метров грунта!
Строителям предстояло возвести двести сорок сооружений, в том числе одиннадцать шлюзов, пятнадцать плотин, несколько гидростанций, мощные насосные станции для перекачки волжской воды в столицу, мосты и многое другое.
На плотине первой волжской ГЭС, сооруженной возле деревушки Иваньково, ранней весной 1937 года опустили щиты, преграждающие путь воде.
В этот хмурый, ветреный день случилось небывалое: человек впервые остановил величайшую реку Европы!
Наши далекие предки верили в речные божества. Они поклонялись рекам. Если бы Волга была живым существом, она вскипела бы от негодования. Как?! Остановить ее, да еще перед половодьем, когда весна шлет ей отовсюду тысячи тысяч ручьев, помогая накапливать грозную силу!
Волгу держали перед закрытыми щитами в полном повиновении всего три минуты. Только три.
Нельзя было совсем осушить русло по другую сторону плотины. И часть воды стали пропускать через приоткрытые отверстия, а остальную копить в Московском море.
Весь канал был сооружен меньше чем за пять лет. Для него построили специальный флот.
В Первомайские праздники 1937 года москвичи восторженно встретили украшенные флагами теплоходы и катера, пришедшие по новому каналу в столицу.
Бухта Радости и Кобылья Лужа. До революции была выпущена книга «Окрестности Москвы. Спутник дачника, велосипедиста, фотографа». К книге прилагалась карта. Я нанес на нее канал имени Москвы; интересно, что было в тех местах?
Северный речной вокзал оказался даже не на московской окраине, а в загородной местности. Нынешнего столичного жилого района Химки-Ховрино, разумеется, не было и в помине. Там простирались сосновые леса, среди которых стояла деревня Химки. Неподалеку находилась деревушка Кобылья Лужа.
Теперь на карте возле канала — Березовая Роща, Зеленая Гавань, Солнечная Поляна, Бухта Радости. А в списке населенных пунктов Подмосковья, помещенных в «Спутнике дачника, велосипедиста, фотографа», я прочел: Гнилуша, Грязовица, Дурниха, Дурыкина, Кнутово, Обираловка, Погорелка, Сукино Болото, Таракановка. Когда авторы хотели похвалить какое-нибудь село, то писали: «...местность бойкая, с лавками и трактирами».
Из заметок Теофиля Готье. В шестидесятых годах прошлого века по Волге путешествовал известный французский поэт и романист Теофиль Готье. Он начал плавание в Твери на небольшом пароходике «Русалка».
Француза очень удивляло мелководье реки. Суденышко терлось дном о песок. В самых мелких местах прямо на плотах дежурили особые команды спасателей, которые длинными шестами помогали попавшим в беду судам.
Двигалась «Русалка» только днем, а на ночь машина спускала пар, суденышко бросало якорь и дожидалось рассвета.
«Движение по Волге очень оживленное,— записал в путевом дневнике поэт.— Суда плыли вниз по реке, развернув огромные паруса... Другие шли вверх по течению, их тащили лошади, шагающие по берегу».
«Такая уж здесь сторона». О деревне Иваньково, откуда началась Большая
Волга и где теперь город мирного атома, прежде в справочниках и энциклопедиях не писали. Окрестные места тоже ничем особенным в старой России не славились. Самым близким к Иванькову городом была Корчева.
Что за город? Вот что сказано о нем в книге, изданной перед революцией: «На правом берегу Волги расположен город Корчева, наихудший во всей губернии. Слишком захудалый провинциальный городок, больше даже похожий на село. Замечательного в нем ничего нет».
Корчеву упоминал Салтыков-Щедрин. Нельзя сказать, чтобы с большой похвалой: «Какое может осуществиться в Корчеве предприятие? что в Корчеве родится? Морковь? — так и та потому только уродилась, что сеяли свеклу, а посеяли бы морковь — наверняка уродился бы хрен».
«Такая уж здесь сторона»,— заключает великий сатирик.
Эту сторону он знал прекрасно. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился в селе Спас-Угол. От него, если считать по прямой, до бывшего Иванькова и сотни километров не наберется.
На канале имени Москвы есть небольшая пристань Витинево. Там была некогда усадьба писателя. От нее сохранился лишь уголок парка.
Салтыков-Щедрин вспоминал, как его «объегорили» при покупке этой усадьбы. Богобоязненный старичок, прежний ее владелец, ухитрился выдать чужой лес за свой, а ветхие стенки сараев ловко замаскировал сеном.
Такая уж здесь сторона!
«Дар Валдая». Наверное, вам знакомы слова песни:
И колокольчик, дар Валдая,
Звенит и плачет под дугой...
А почему «дар Валдая»? Потому, что в городке Валдае, на Валдайской возвышенности, издавна существовал заводик, отливавший удивительные колокольцы для ямщицких троек. Одни — заливистые, звонкие, а другие — певучие, навевающие грусть под мелькание придорожных берез и верстовых столбов.
И надпись на них была: «Дар Валдая».
Валдайскими колокольцами торговали по всей Руси, на всех городских и сельских ярмарках: ведь по российским дорогам всюду тянулись нескончаемые обозы, неслись лихие тройки.
Валдайские колокольцы и сегодня не исчезли из обихода. Они стали сувенирами. Туристы увозят их с собой на память о местах, откуда начинает путь Волга.
Кстати, не только Волга.
Район Валдайской возвышенности, где много озер и болот, где обильны осадки, можно считать также колыбелью Днепра и Западной Двины.
Скоро на Валдайской возвышенности появится еще одна достопримечательность, еще один «дар Валдая»: музей под открытым небом.
Сюда свезут из разных сел старинные деревянные постройки, образцы местного зодчества. Причем некоторые из них будут не только экспонатами. Туристы смогут подкрепиться в старой сельской харчевне и, возможно, даже переночевать на постоялом дворе, где когда-то останавливались ямщики.
Заметка о Москве-реке. В дореволюционных волжских путеводителях о Москве даже не упоминалось: какое, мол, отношение имеет она к Волге? А о Москве-реке писали так: «Изредка проползет через москворецкие мели яхт-клубский пароходик, да и того не каждый московский обыватель удосужится увидеть».
Из Твери в Индию. В верховьях Волги, там, где в нее впадает река Тверца, с XII века стоял старинный русский город Тверь. Он торговал со многими странами.
И вот в 1466 году местный купец Афанасий Никитин отправился вниз по Волге с торговым караваном. Он достиг Каспийского моря, высадился на персидском побережье и предпринял затем полное труднейших испытаний путешествие в Аравию и Индию. Никитин странствовал несколько лет и на обратном пути в родной город умер под Смоленском.

По каналу имени Москвы проходят тысячи волжских судов.
Тверской купец был первым европейцем, проникнувшим во внутренние области Индии. Он оставил описание своего путешествия, известное под названием «Хождение Афанасия Никитина за три моря».
Записки эти поразили русского историка Карамзина, писавшего: «Индийцы слышали о России прежде, нежели о Португалии, Голландии и Англии. В то время, как Васко да Гама думал лишь о возможности найти путь из Африки к Индостану, наш тверитянин уже путешествовал на берегу Малабара».
Родина «всесоюзного старосты». Тверь называется теперь Калинином. Город был переименован в честь Михаила Ивановича Калинина.
Он родился в селе Верхняя Троица, расположенном на берегу волжского притока, речки Медведицы. Раньше это село относилось к Тверской губернии.
После окончания школы молодой Миша Калинин, поработав некоторое время в родном селе, отправился в Петербург и стал рабочим. Он вступил в партию, много раз подвергался арестам, ссылкам, сидел в тюрьмах.
Владимир Ильич Ленин в 1919 году выдвинул кандидатуру Калинина на пост Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Позднее Михаил Иванович возглавил ЦИК СССР. В народе его называли сначала «всероссийским старостой», потом «всесоюзным старостой».
Почти три десятилетия Калинин вел огромную государственную работу и все эти годы не порывал связи с родным селом. Он помог односельчанам организовать колхоз. Во время отпуска жил в местном доме отдыха. Любил сенокос, с удовольствием занимался знакомыми с детства разными крестьянскими делами.
Сейчас рядом с родным селом «всесоюзного старосты» построен один из многих образцовых совхозных поселков, создаваемых в Нечерноземной зоне страны.
Соседство, оказавшееся полезным. Московское море привлекает массу рыбаков. Много их летом, много и зимой. И не зря сидят они у просверленных во льду лунок: редкий возвращается без улова.
Рыбаков много, а рыбы не убавляется. Специалисты говорят, что будет даже лучше, если леща станут вылавливать больше: ему тоже простор нужен, чтобы он не мельчал, не вырождался.
Обычно соседство с крупным промышленным предприятием или электростанцией не радует рыбаков. А Московское море — исключение. В него поступают теплые, но чистые воды Конаковской тепловой электростанции, и это оказалось благоприятным для многих видов рыб.
Почему на Селигере много островов! На это нам ответит предание.
Сейчас уже позабылось, что Селигер — родной брат славного озера Ильменя.
Жили они дружно, рядышком. Ну, прошло сколько-то лет, и задумали братья посвататься к Волге. Сговорились, что пойдутвместе.
Накануне ночью проснулся Селигер и думает: «А вдруг Волга брата выберет?» И решил идти к Волге без Ильменя, ни минуты не мешкая.
Уже совсем было Селигер до Волги добежал, когда проснулся Ильмень. Увидел, что брата нет, и все понял. Страшно рассердился Ильмень и крикнул на всю Русь-матушку:
— Если есть на белом свете справедливость, то пусть навалится на обманщика ноша тяжелая, чтобы не мог он больше двинуться ни шагу!
Только прокричал Ильмень эти слова, как на Селигере выросло больше чем полторы сотни островов. И встал, застыл Селигер: куда же побежишь с такой тяжестью?
Завтрашний день канала. Москва благодаря каналу превратилась в один из оживленнейших речных портов Европы.
Канал хорошо служит столице. Его значение еще более возрастет после реконструкции трассы и пополнения запасов Московского моря.
Столице, а также Подмосковью нужно все больше воды для городского хозяйства, для орошения полей. Есть несколько проектов удовлетворения этого спроса. Можно накапливать дополнительные запасы волжской воды, построив гидроузел у города Ржева. Можно перебрасывать в Московское море часть стока рек Меты и Медведицы.
Уже начала действовать гидросистема, связавшая столицу с рекой Вазузой.
Предполагается перестроить насосные станции канала. А другие работы позволят увеличить поток судов, идущих по трассе.
— Отдать швартовы!
После этой команды теплоход медленно отходит от берега, никому ничего не отдав. «Отдать швартовы» на языке моряков и речников означает лишь снять с береговых тумб канаты, которые удерживают судно во время стоянки. А «отдать якорь» — спустить его в воду на якорной цепи.
Итак, «Клемент Готвальд» снова в пути. Самое время рассказать о том, что такое волжский пассажирский теплоход или лайнер. Название «лайнер» происходит от английского слова, означающего линию, в транспортном деле — пассажирскую линию. Лайнер — многоместное, быстроходное судно. Кстати, теперь и скоростные пассажирские самолеты называют лайнерами.
У «Клемента Готвальда» на Волге много близнецов. Речные и морские суда выпускаются обычно сериями, иногда насчитывающими десятки однотипных кораблей.
Родина нашего «Клемента Готвальда» — Чехословакия. Он построен по заказу Советского Союза на верфи в городе Комарно.
Вы знаете, конечно, что такое Совет Экономической Взаимопомощи? Социалистические страны равноправно сотрудничают друг с другом, развивая и свою экономику, и экономику социалистического содружества в целом. В каждой стране — свои природные богатства, свои особенности народного хозяйства, свои наиболее развитые отрасли индустрии. Это все известно вам и по школьным урокам. Жизнь лишь подтверждает многие истины, в том числе и школьные. Иначе они не были бы истинами.
От Волги идет система нефтепроводов, названная очень точно: «Дружба». Советская нефть доставляется по ним на заводы Германской Демократической Республики, Польши, Венгрии, Чехословакии. Есть газопровод «Братство». Есть энергетическая система «Мир». Мачты ее высоковольтных линий перетекают границы стран Совета Экономической Взаимопомощи, эмблема которого — две руки в крепком рукопожатии.
Некоторые виды кораблей наши верфи строят для братских социалистических стран. Другие типы судов мы заказываем соседям. При этом обмениваемся новыми идеями, проектами, оборудованием, машинами. Выгодно и тем, кто строит, и тем, кто заказывает.
Итак, наш «Клемент Готвальд» построен на верфи в чехословацком городе Комарно. Любознательному пассажиру медная дощечка сообщает: длина — 96,5 метра, ширина — 14,98 метра (вот как точно!), мощность трех двигателей — 1575 лошадиных сил, скорость — более 25 километров в час.
Теплоход считается трехпалубным. Но, в сущности, у него четыре этажа. Однако нижний не имеет к пассажирам прямого отношения, поэтому в счет не идет. Там машинное отделение, грузовой трюм и разные служебные помещения.
Над ним — главная палуба. Это та, на которую пассажир вступает, прежде всего. Для него именно она — нижняя. Тут каюты, ресторан, буфет, салон отдыха.
Больше всего кают на следующей, средней палубе. Ее главный коридор напоминает гостиничный: справа и слева лакированные двери с номерами. Ближе к носу на этой палубе — читальный салон. Между нами говоря, читателей в нем маловато. Большинство просто сидит в глубоких мягких креслах и сквозь зеркальные стекла любуется пейзажем: видно отлично и ветерком не продует.
Наконец, еще выше — шлюпочная палуба. Но там не только спасательные шлюпки. Там тоже каюты, кроме того, ресторан и солярий.
А над шлюпочной палубой — рубка и капитанский мостик. «Посторонним вход воспрещен» — предупреждают надписи у ведущих туда трапов. На судне не говорят «лестницы», хотя на мостик ведут именно лестницы с поручнями и по ним спускаются и поднимаются капитан, штурманы, рулевые.
Капитана «Клемента Готвальда» зовут Владимиром Александровичем Бетко. Об этом, едва теплоход отправился в рейс, пассажирам сообщило судовое радио.
Когда Владимир Александрович узнал, что я сам когда-то ходил две навигации в команде теплохода и что с Волгой у меня связано почти полжизни, то кивнул на табличку у входа на мостик:
— К вам это не относится. Какой же вы посторонний?
Но я-то знаю: любой лишний человек в рубке — помеха. Разве что поднимусь туда ненадолго в спокойном плесе или побуду с капитаном часок на ночной вахте.
Владимиру Александровичу еще нет сорока. Давно на Волге? Да почти с рождения. А как выбрал профессию?
— Не я выбрал — она меня выбрала. Есть такой городок по дороге к Горькому: Юрьевец. Дом наш на берегу стоял, из окна можно было рыбу ловить. Вот и вошла Волга в мою жизнь с детства. У нас в Юрьев-це ребята шли либо на пароходы, либо на лесосплав. Ну и я как все.
Учился в Горьковском речном училище, а институт водного транспорта закончил уже заочно, работая на «Готвальде». Пятнадцатый год на нем хожу. Сначала вторым щтурманом, потом первым, затем стал капитанить. Интереснейшая работа, что говорить! У нас считают, что приятней всего на туристских: там атмосферу беззаботная, праздничная, на судне одни отдыхающие. Но и на нашем, рейсовом пассажирском, общаешься с интересными людьми. А минусы... Честно говоря, Волги не чувствуешь. Да, да! Верите ли, за все лето два раза искупался. Наше судно не завод, но уж с плавучей гостиницей его можно сравнить. И обслуживание надо держать на высоте, и саму гостиницу вести по реке. Двойная забота. Хочется, чтобы у пассажиров от путешествия остались лучшие воспоминания. Когда при посадке знакомое лицо в толпе замечаешь — радуешься: значит, понравилось, раз опять с нами. Некоторые лет десять на «Готвальде» путешествуют, я их по имени-отчеству знаю.

Колокольня ушедшей под воду части города Калязина оставлена маяком на водохранилище.
У Владимира Александровича диплом инженера водного транспорта. Не речного — водного. На зимовку судно приходит в Астрахань, и там капитан преподает в рыбопромысловом техникуме, где учат и речников и моряков.
Что еще сказать о нашем капитане для первого знакомства? Большой любитель книг. Особенно любит читать воспоминания военных, ученых, изобретателей, путешественников, книги из серии «Жизнь замечательных людей». Почему?
— Мне кажется, что каждый человек и в юности и в зрелые годы ищет, «делать жизнь с кого». Наблюдаешь, размышляешь, присматриваешься к людям, с которыми сводит тебя судьба. А Волга щедра на людей! Тут и адмирала встретишь, и конструктора, и знаменитого артиста. Артисты, как и художники, чаще всего в Плес едут, по следам Левитана, или в Щелыково, где возле усадьбы Островского у них дом отдыха! Сказочные места!
Упомянул капитан Плес и Щелыково, а ведь сколько на Волге подобных мест!
Я прочел однажды в старой книге статью «Поволжье — питомник русской культуры». Слово «питомник» показалось мне неудачным. Но если разобраться по существу...
Вот, минуя Кимры, вспомнили мы здешних мастеров сапожного ремесла. А между прочим, из тех же Кимр родом писатель Александр Фадеев, автор «Разгрома» и «Молодой гвардии».
Идем дальше, к Калязину. Прямо из воды поднимается оставленная маяком на Угличском водохранилище колокольня этого полузатопленного городка. Неподалеку от него как раз и находилась усадьба Спас-Угол, родина Салтыкова-Щедрина. Именно в Калязине, где пароходы дальних линий вообще не пристают, был приписан на должность «подканцеляриста» Ваня Крылов, будущий великий баснописец. Два города, всего лишь небольшой уголок Поволжья...
Мы предались литературным воспоминаниям, а Волга напоминает, что каждый ее плес — и страница истории. «Добро пожаловать в Углич!» — приглашает надпись старинной славянской вязью, сделанная, правда, на недавно положенных бетонных плитах набережной.
Пожаловали — и прикоснулись к тайне. Рядом с плотиной, рядом с автоматизированным шлюзом, который спустил нас к Угличу, притулился уголок древней Руси, хоромы и церковки. Одна из них поставлена на том самом месте, где пушкинскому Пимену довелось увидеть «...злое дело, кровавый грех».
Это церковь Димитрия «на крови». В конце XVII века ее, окрашенную в тревожащий красный цвет, возвели в память об «убиенном отроке», царевиче Димитрии.
В сумеречной полутьме церковки росписи на стене рассказывают, как все было. Вот царевич Димитрий с матерью и нянькой, ниже — сцена его убийства, рядом изображено, как угличане в ужасе и гневе расправляются с убийцами. Все, как было.

В Угличе — уголок древней Руси.
Но действительно ли все было именно так? Действительно ли убийц подослал Борис Годунов, чтобы избавиться от малолетнего сына Ивана Грозного, от помехи на пути к царскому трону?
Росписи в церкви относятся к XVIII веку, когда Россией давно правили Романовы. Годунов был опасным противником их рода, при нем они находились в опале. А уж угличане тем более ненавидели царя, жестоко расправившегося с ними, и в росписях своей церкви оправдывали себя.
Ведь что произошло в Угличе сразу после гибели «отрока Димитрия»? Следственная комиссия, посланная Годуновым, нашла, что страдавший «падучей болезнью» царевич, играя с ножом, сам на него накололся. Значит, угличане убили невинных людей, верных государевых слуг.
За такую предерзость погнали угличан пешком в снега Сибири, в ссылку. КЬлокол, набатом созвавший народ на расправу с предполагаемыми убийцами, тоже наказали как опасного преступника. Сбросили с колокольни, вырвали «язык» и отрубили одно из «ушей», за которые подвешивают колокола. Поставили клеймо, какими клеймили каторжников, и «сослали» в Сибирь вместе с угличанами.
Церковка вдруг наполняется звоном поющей меди. Старушка сторожиха, лучисто улыбаясь, ударила в колокол — в тот самый, в который, по свидетельству Пимена, «ударили в набат». Да, вот он: угличане много лет просили вернуть им «ссыльного», и в конце прошлого века их просьбу уважили.
А тайну убийства царевича пытались разгадать современные криминалисты, умеющие распутывать самые сложные преступления. Они изучали листы давнего «следственного дела» — сравнивали, взвешивали доказательства — и все же не пришли к какому-либо неопровержимому выводу.
Колокол гудит под сводами церквушки мощно и гулко. Но некоторые считают, что, строго говоря, это не «тот самый» колокол. Ссыльный растопился во время страшного пожара в Тобольске еще в XVII веке, и из расплавившегося металла отлили новый, похожий.
Теперь надо бы, наверное, подробно рассказать о сегодняшнем Угличе. Пройдешь по улице сотню метров от кремля с его церквушками —- и вокруг вполне современный город с асфальтом, автобусами, афишами об эстрадных концертах.
А вон Всесоюзный научно-исследовательский институт маслодельной и сыродельной промышленности (вспомните названия сыров в магазинных витринах: «Угличский», «Ярославский», «Пошехонский», «Костромской»). Величественное здание института с колоннами куда более похоже на дворец, нежели палаты угличских князей, скромно укрывшиеся в тени кремлевских деревьев.
Есть в Угличе знаменитый часовой завод. «Чайка», дамские угличские часы, получали награды на международных выставках и пользуются спросом в десятках стран. Есть и заводы, выпускающие электрические краны, домкраты, буровые установки для поисков полезных ископаемых.
И есть, наконец, мощная гидростанция со шлюзом, от которой все дальше удаляется «Клемент Готвальд», унося пассажиров, спорящих, виновен ли все же Борис Годунов, пассажиров, у которых в ушах — густой звук ссыльного колокола.
Идем в Рыбинское море.
Идем туда, где над морским простором воздвигнуто скульптурное йзображение Волги. Там она не Волга-матушка, а молодая женщина, простершая руку навстречу бегущим с моря волнам. В другой руке — свиток чертежей, в нем, надо думать, планы преобразования великой реки.
При входе же в Рыбинское море можно было бы поставить на каком-нибудь островке подобие того камня, перед которым на известной картине остановился в раздумье русский витязь. Только тут надписи на камне были бы весьма деловыми. Стрелки указывали бы: «К Балтийскому морю — через Волго-Балт», «К Белому морю — через Беломорско-Балтийский канал», «К Горькому и далее к Каспийскому, Азовскому и Черному морям — через Рыбинский шлюз».

А рядом с Угличским кремлем — автоматизированный шлюз Большой Волги.
Рыбинское море — очередной перекресток водных дорог.
Это наше первое большое пресноводное море. Ему уже свыше трех десятилетий. Создавать его начали еще до войны, а наполнилось оно только в 1947 году, ко Дню Победы, когда Волга, Молога, Шексна и множество рек поменьше принесли ему последние недостающие сотни тысяч кубометров вешних вод.
Вешние воды — и вдруг какие-то скучные кубометры! Но для гидротехников те двадцать пять миллиардов кубических метров воды, которые копит Рыбинское море, означают, что будут с полной нагрузкой работать турбины, рождая электрическую энергию, что по морским дорогам сможет Волга легко, свободно обмениваться грузами со всем Северо-Западом страны.
Нет искусственных морей, которые приносили бы только радости и выгоды. За последние годы мы отказались от строительства некоторых крупных гидростанций потому, что их моря затопили бы ценные земли.
Земли у нас много, но это вовсе не значит, что ее не надо беречь. С другой стороны, все настойчивее говорят, что вода — тоже огромное богатство, которым нужно умело, по-хозяйски распоряжаться, извлекая как можно больше пользы, ни капли не расходуя зря.
Рыбинское море разлилось в бывшем «журавлином краю». Пашни здесь мало, земля не особенно плодородна. Это был край лесов, озер, ольховых топей, моховых болот, на которых во время перелетов перекликались птичьи стаи.
Перед заполнением моря еще на сухом месте сделали плоты для обитателей затапливаемых лесов. На таких плотах спаслось немало лесного зверья, от зайчишек до могучих лосей, которые водятся тут с незапамятных времен.
Я говорю «водятся», а не «водились» потому, что по берегам моря оставлено немало заповедных мест. Здесь большой Дарвинский заповедник. Создавая его, думали не только о сохранении природы. Здесь человек вмешался в ее дела, многое изменил, и было важно проследить, понять, к чему приводят такие изменения: следом за Рыбинской строились плотины других волжских морей.
Лет пятнадцать назад в одной своей книжке о Волге я привел стихи поэта Леонида Мартынова. Стихи посвящались Рыбинскому морю. Засверкало оно, подобно сбывшейся надежде, и человеку стало легче дышать на его ветреном просторе. Но вот разразилась буря:
Отчего такая непогода?
Видно, из-за Рыбинского моря!
А уж потом стали сваливать на море все на свете. Винили его даже в том, что «плохо тлеют в печке головешки», в том, что «у избушек сгнили курьи ножки».
Когда появились стихи, мы еще не знали, где правда. Выяснить это помогли работники заповедника и созданной на Рыбинском море гидрометеорологической обсерватории, а также ученые, которые занялись другими искусственными морями: их у нас с тех пор сильно прибавилось.
Температура над морем и над окружающей его сушей разнится примерно на три-четыре градуса. Море остывает медленнее берегов и нагревает окружающий воздух. По-другому лишь в мае, пока вода еще не прогрелась. Море задерживает весеннее цветение на берегах, однако не пускает к ним ранние осенние холода. И если березы возле моря рано желтеют, то тут виновата не температура, а проникающие в почву излишки грунтовых вод: из-за них — увядание.
Ветры над морем дуют куда чаще, чем над сушей. Но ясных дней на побережье больше, чем в двух десятках километров от водоема. Должно быть, ветры гонят прочь облака. Вообще же искусственные моря заметно меняют климат лишь на расстоянии в несколько десятков километров.
Разлив морей привлек всякую водоплавающую птицу. Значит, и зверей, живущих обычно возле водоемов? Представьте, нет!
Бобры и выдры переселяются прочь от водохранилища. Гидростанции работают и зимой, пользуясь накопленными в теплое время водными запасами, отчего уровень падает, и лед у берегов садится на дно. Это зверям вовсе не нравится, они к такому не привыкли.
С борта теплохода не увидишь лосей, которых по берегам развелось множество: Дарвинский заповедник в стороне от нашей дороги. Вскоре берег вообще исчезает, и на горизонте вода сливается с небом.
Небо разное: в летнюю пору даже за полночь оно не темное, а бледно-желтое. Мы ведь в самой северной точке волжской дороги, тут почти белые ночи.
Капитан пригласил меня сегодня на ночную вахту. Эту вахту иногда называют «собакой». Продолжается она с десяти часов вечера до четырех часов утра, когда большая часть человечества видит самые сладкие сны. Хорошо, если ночь спокойна, как сегодня, а в непогодь, в туман, в шторм, когда, как говорится, хороший хозяин из дома собаку не выгонит?
Я спрашиваю Владимира Александровича, не отсюда ли, мол, название?
- Тогда почему бы не взять другую версию: в ночную пору собаки на страже? — смеется он.— Нет, нет, ничего в таком сравнении обидного не вижу!
Ночью у тебя каждая жилочка напряжена, весь ты, как говорится, превращаешься во взор и слух.
Для изучения жизни волжских морей построены специальные исследовательские суда.

В рубке полутемно. Лампа на столике бросает лишь узкий лучик. Изредка заглянет капитан в лоцию, где показан и описан путь,— и тотчас снова щелчок выключателя.
Люди на вахте должны видеть все, что делается на реке. Без минуты перерыва. Пассажиры спокойно спят в каютах. Два человека, капитан и рулевой, ведут судно в ночной тьме. Из них за все в ответе один: капитан.
Где-то сзади меня в рубке непрерывно бормочет рация. Суда переговариваются между собой и с берегом. Рация не выключается ни на минуту.
Когда теплоходы идут в этих местах, их больше всего интересует сообщение, передаваемое то и дело:
— Всем судам в Рыбинском водохранилище! Передаем сводку погоды! В течение ближайшего часа...
Рыбинское море шутить не любит. Хотя оно искусственное, но глубинами не уступает Азовскому. Есть где ветру и разгулять волну: сотня километров в длину, свыше полсотни в ширину.
Но нам сводка обсерватории обещает тишь и гладь. Отзвуком давно умчавшейся бури медленно, лениво колышется море, заставляя покачиваться сигнальные буи.
— Вон интересная штука, — показывает капитан. — Автомат. Сообщает обсерватории, куда дует ветер. Направление, силу. Прежде, помните, был пункт открытого моря, сокращенно «ПОМ»? Старая железная баржа, на ней метеорологи. Попробуй поторчи на такой. Теперь обходятся без людей. Путевые огни тоже не бакенщики зажигают. На каждом буе — солнечная батарея. И фотоэлемент. Как только начинает темнеть, он сам включает свет.
— А вдруг что-нибудь не сработает?
— Не знаю, не слышал о таком. Но ведь для чего-то на каждом судне есть рубка, а в ней —- люди. Трасса нахоженная, в случае нужды без огней пройдем. И эту штуку подключим.—Он касается рукой радиолокатора.— Знакомо вам?
Толстый резиновый кожух заслоняет лицо от постороннего света. На темном стекле — как бы условное отражение нашего пути: берега темны, вода светла. Зеленый лучик описывает круги возле той точки, где в этот момент находится судно. В любой туман, в любую темень локатор предупредит о препятствии, о встречных судах.
— А вообще, вы знаете, в этом море разные случаи бывали,— продолжает капитан.— Не со мной, правда, но приходилось слышать. В шторм разметывало караваны, это уж само собой. Или вот в первые годы после войны было. Встал пароход «Рульков» с баржами на якорь, чтобы переждать волну. Простояли так час, другой, вдруг — что за чудо? Начинает какая-то неведомая сила пароход из воды выталкивать, приподнимать. Выше, выше. Что же вы думаете? Торфяной остров всплыл как раз под «Рульковым»! И здоровенный! Пришлось другие суда срочно звать на помощь, еле сняли беднягу. Эти острова и сейчас изредка всплывают, носятся в шторм, как «летучие голландцы».
Впереди короткие вспышки: встречный танкер спрашивает, каким бортом будем расходиться. Отвечаем ему вспышками по левому борту. Разошлись с танкером — снова огоньки впереди. И далеко, у черты горизонта, тоже. Людно в море.
Светает. Прощаюсь с Владимиром Александровичем:
— Счастливой вахты!
Но в каюту не хочется. На теплоходе — тишина. Море спокойно. Далеко впереди — три башни над водной гладью. Там Рыбинский шлюз. На центральной его башне — барельеф волжского струга времен Степана Разина.
Шлюз выпускает из Волги навстречу нам, в Рыбинское море, два потока судов. Одни идут той дорогой, которой мы пришли сюда из Москвы.
Для других здесь начинается трасса Волго-Балтийского водного пути, ведущего к берегам Балтики и к Белому морю.
Расскажу о Нем хотя бы коротко: бывал я в тех краях, когда Волго-Балт только начинали строить, да и по готовому пути ходил не раз.
В прежние времена выражения «проложить курс», «брать курс» относились исключительно к морям и морскому флоту. Загляните в морской словарь. Там сказано, что «курс определяется углом между истинным меридианом, на котором в данный момент находится судно, считая от севера, и диаметральной плоскостью судна».
Ну зачем, спрашивается, был нужен истинный меридиан лоцману, который, посматривая на берега да мели, говорил рулевым: «Давайте тут маленько правее, ребята, а как поравняемся с избой у того ручья — сваливайте обратно к середке».
Но теперь капитану и на волжских морях порой приходится прокладывать курс. А если говорить о курсе на Балтику, то для судов типа «река — море» это выражение будет самым обычным, обиходным: ведь они с речных дорог выйдут в настоящие, не пресноводные моря, отправятся с грузом в свои или зарубежные морские порты.
Для таких судов и построен Волго-Балт. Маленькие обходились прежней Мариинской системой. С трудом, но обходились.
От нее остался теперь один старый обсохнувший шлюз. Он — как музейный экспонат под открытым небом. Экскурсанты с туристских теплоходов ходят вокруг и ахают:
— Какой смешной! Это что же, настоящий или модель?
Самый настоящий. Я был однажды на пароходе, входившем в этот шлюз. Пассажиры именовали его «голубчиком». Несколько таких «голубчиков», маленьких и неудобных, перевозили людей между пристанями Мариинской системы.
По этой системе я путешествовал в 1959 году. Путевой дневник у меня сохранился. Вот отрывки из него.
«Теплоход «Кузьма Минин» пересек Рыбинское море, и мы высадились в Череповце, где по горизонту — домны и трубы металлургического завода.
Тут конец большой водной дороге. Дальше будем подниматься вверх по Шексне. Смотрел карту. На одном берегу написано: «Болота Похта, труднопроходимые». На другом — еще похлеще: «Болота Похта, непроходимые». Вот в каких местах прокладывается трасса Волго-Балта!
Поздно вечером сел на пароход «Некрасов». Таких на Волге уже не осталось. Чего доброго, современник последних бурлаков. Тронулся в путь медленно, лениво. Хочется написать «вразвалку», хотя для судна выражение это нелепо.
Берега вокруг сонные, пустынные. Навстречу тянутся плоты-коротышки. В тихую воду смотрятся березовые рощи, осинники, местами кудрявятся липы. Север пока не чувствуется.
«Некрасов» высадил нас на пристани Топорня. Здесь мне придется ждать «голубчика», чтобы пробираться дальше. А потом будет еще одна пересадка.
Ночевали на пристани. Я настолько отвык от полнейшей, звенящей тишины, что просыпался то и дело. Где-то возле противоположного берега всплескивала рыбина. Если в Топорне кто-нибудь выйдет на крылечко и громко зевнет, я, наверное, и это услышу...
Утром подошел «голубчик» или, скорее, «голубушка», поскольку называлась сия посудина «Печорой». По сравнению с ней «Некрасов» — большой пароход.
Капитан на «Печоре» какой-то старомодный. Форменная фуражка, по-моему, еще дореволюционная. Часы на длиннейшей серебряной цепочке, она свисает из кармана кителя. Я бы не удивился, если бы капитан сказал: «Извольте, сударь, пройти в свою каюту».
Отчалила «Печора» — и пошла крутиться по шекснинским извилинам. Река словно сама запуталась, в какую сторону ей течь. Над лугами видны пароходная труба и мачта. То они спереди, то сзади, то сбоку. Встретились мы с трубой не раньше чем через час, но готов поклясться, что одно время этот встречный пароходик был почти рядом с нами, и нас разделяла только неширокая луговина.
Вот и шлюз. Коротышка, недомерок. Автоматика? Да тут, возможно, и слова этого не слышали! Ворота открывают вручную, поворачивая штуковину, на которую наматывается канат.
Впереди —- ширь Белого озера. Ну, тут уж разойдемся наконец на просторе! Как бы не так. Шлюз выпустил нас в канал, проложенный вдоль берега: для «голубчика» и подобных ему судов прямая дорога через озеро опасна. Ему много ли надо? Поднимет ветер волну высотой в полметра — и того гляди, переломит суденышко.
Но суда понадежнее, покрепче пересекают озеро напрямик. Там пройдет и трасса Волго-Балта.
А мы тем временем тащимся... по водной улице. В самом деле, как иначе назовешь канал, проходящий через старинный город Белозерск? Прохожие, не напрягая голоса, переговариваются с пассажирами.
Я сделал в Белозерске остановку. Бродил по улицам, где в некоторых местах еще со времен великого ледника лежали огромные валуны. Городок так и застроился возле них; да, в сущности, кому они тут могут помешать? Телега объедет, места хватит.
Когда «Печора» покинула пристань, через канал навели разводные мосты. Их разводят перед каждым судном. Но делать это приходится не так уж часто.
Пришла «Шексна», оказавшаяся родной сестрой «Печоры». Мы поплелись дальше по реке Ковже. Утром оказались возле пристани Анненский Мост. Тут бывалый народ повалил прочь с парохода, сгибаясь под узлами.
— Куда это они? Неужели все здешние, анненские? — поинтересовался я.
— Какое там,— махнул рукой капитан.— Дальше шлюз за шлюзом, мышеловка за мышеловкой. Сами подумайте: до Вытегры семьдесят верст (он так и сказал «верст»), мы протащимся туда семнадцать часов. Это если задержек не будет. А на попутных машинах их (капитан кивнул на спешивших к сельской площади пассажиров) в Вытегру за пару часов подкинут.
Если бы я не знал, что старая «Мариинка», как часто называют Мариинскую водную систему, доживает последние дни, то ринулся бы вслед за нетерпеливыми пассажирами.
Но тогда я не увидел бы знаменитого Девятинского перекопа, который строители «Мариинки» на удивление всей Европе пробили в высокой горе.
Пока «Шексна» перебиралась по перекопу из шлюза в шлюз, я поднялся на откос, набрал душистой земляники, погулял в рощице. Мог бы уйти в соседнюю деревню, выпить там холодного молока и вернуться на пароходик, который к тому времени едва ли преодолел бы половину «лестницы» шлюзов.
На «Мариинке», на водной дороге, соединяющей Москву и Ленинград, Волгу и Балтику, почти сорок шлюзов и шлюзиков! Почему же так медлили с новым путем?
Война — вот ответ. Для своего времени Мариинская система была очень хороша, да успела сильно состариться: ведь ей полтора века. Не раз перестраивали ее, и даже довольно капитально. Без конца чинили и подновляли. Но пришла пора окончательно заменить «Мариинку» новым, современным водным путем. И если бы не война, если бы не ее раны, давно уже сдала бы «Мариинка» свою затянувшуюся вахту.
Теперь как раз и происходит эта сдача. Первые сооружения Волго-Балта вступают в строй».
Здесь я оборву свой путевой дневник 1959 года. Не буду описывать, как трудно было строить новый водный путь. Расскажу немного о поездке по уже действующему Волго-Балту. Я увидел его. с палубы теплохода скорой линии Ярославль — Ленинград. Это было обычное волжское судно, пассажирский лайнер.

На старой Мариинской системе.
От Череповца мы пошли к шлюзу гидроузла. Он мало отличался от любого шлюза великого волжского каскада. Но для того и строили новый путь, чтобы вместе с Волгой он стал частью Единой водной системы всей европейской части страны. Единой глубоководной, подходящей для кораблей типа «река — море».
Они то и дело попадались нам, едва мы вышли в Череповецкое водохранилище, воды которого навсегда скрыли прежнюю извилистую Шексну.
Мощные корабли с высокими бортами, с белыми надстройками на корме вздымали волну. Их название было написано и по-русски, и латинскими буквами. Это — требование морских дорог, где не каждый знает чужой язык.
Шли «Балтийские», предназначенные для перевозки сухогрузов — так именуют водники то, что не льется, в отличие от наливных грузов, нефти и мазута, для которых приспособлены танкеры типа «Волгонефть».
Я ходил на таких по Волге. Один из них видел летом как-то в гавани Хельсинки. Среди кораблей, стоявших у причалов столицы Финляндии, гость с Волги не казался чужаком. Внешним видом да и размерами он мало отличался от морских кораблей прибрежного плавания.
Топорня, где я когда-то коротал ночь, превратилась в пристань с благоустроенным причалом, с нарядным павильоном. Не было прежней тишины: ревели самосвалы, занятые каким-то своим делом возле леса.
На водном пути теперь всего семь шлюзов вместо прежних четырех десятков. Судовое радио рассказывало о том, как строители воевали с топями (я вспомнил «Болота Похта, непроходимые»). О том, что по новому пути грузовые суда добираются от Череповца до Ленинграда в четыре раза быстрее, чем по «Мариинке». О том, что Волго-Балт вдвое сократил дорогу от Балтики до Черного моря по сравнению с морской вокруг Европы, и о многих других выгодах, которые дал народу новый путь.
А потом мы вышли в Онежское озеро. Здесь снова развилка водных дорог.
Часть кораблей поворачивает на север, ко входу в Беломорско-Балтийский канал.
Его построили около полувека назад. Он позволил кораблям, идущим из Ленинграда в Архангельск, экономить четыре тысячи километров. Им уже не надо было огибать Скандинавию, они шли по внутренним водам своей страны.
Мы когда-то очень гордились Беломорканалом. А он незаметно стал стареть. Нет, сравнивать его с Мариинской системой было бы смешно, канал, разумеется, еще может служить и служить. Но раз мы создаем Единую глубоководную... Короче говоря, в десятой пятилетке началась коренная реконструкция Беломорско-Балтийского пути.
А суда волго-балтийской трассы после пересечения Онежского озера входят в шлюзованную Свирь. Оттуда — в пресноводное море, созданное самой природой, в бурную, грозную Ладогу.
И вот — Нева, мощное течение которой торопит суда к причалам города Ленина.
Для одних здесь конец пути. Для других — короткая стоянка перед выходом в воды Балтики, на морские трассы, ведущие к дальним портам.
Великий каскад. Первым было Московское море, вторым — Угличское, не широкое, но довольно длинное, третьим —- Рыбинское. А весь великий волжский каскад — восемь гидростанций и искусственных морей.
Помните остальные? Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское.
Плотина Чебоксарской ГЭС сооружается в десятой пятилетке. После того как она вступит в строй, вся Волга превратится в цепочку водохранилищ, в единый глубоководный путь. Искусственные моря позволяют разумно использовать волжские воды для судоходства, получения энергии, орошения полей и других нужд народного хозяйства.
Общая мощность волжских ГЭС — около 10 миллионов киловатт, а вырабатывают они свыше 40 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.
Пока не были построены гидростанции на Ангаре и Енисее, Волжская ГЭС имени Ленина в Жигулях и Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС под Волгоградом были крупнейшими в мире.
Самое большое из волжских морей — Куйбышевское. Его длина — 580 километров, ширина местами доходит до 30. Воды в нем вдвое больше, чем в Рыбинском море.
Гидростанции и водохранилища есть также на притоках Волги. Наиболее известен Камский каскад.
Три Волги. «Где работает ваш теплоход?» — «На Нижней Волге». Это самый обычный разговор речников. У них не одна Волга, а три. Много лет было также три пароходства: Верхневолжское, Средневолжское и Нижневолжское.
Верхняя Волга — от истока до Горького, до впадения Оки. Средняя — от устья Оки до устья Камы. Нижняя Волга — от впадения Камы до Каспийского моря.
Как обманули гитлеровских разведчиков. Когда началась война, Рыбинская гидростанция еще не была достроена. Ее здание казалось заброшенным, покинутым.
Вокруг стен не были сняты строительные леса, потемневшие от дождей. Вместо крыши колыхался по ветру серый брезент.
Фашистские летчики, летавшие в разведку, донесли, что Рыбинская гидростанция бездействует и на нее не стоит тратить бомбы. Да й шлюз выглядел как-то странно: недостроенные башни, причем одна вроде бы уже начала разваливаться...
Все это было ловкой маскировкой. Гидростанция была пущена осенью первого года войны и посылала ток оборонявшейся Москве. Через шлюз шли суда с военными грузами. Их старались пропускать ночью, в темноте, не зажигая огней.
«Я люблю Россию до боли сердечной...» Среди произведений Салтыкова-Щедрина есть «Пошехонская старина», есть «Пошехонские рассказы».
Конечно, писатель, работая над ними, использовал жизненные наблюдения, относящиеся не только к какому-либо определенному месту.
Но вообще говоря, Пошехонье — не плод фантазии. Так назывался реально существовавший город. Он известен сегодня, как Пошехонье-Володарск, но стоит уже не среди болотистых лесов, а на берегу подошедшего к нему Рыбинского моря.
Само же слово «Пошехонье» образовалось так же, как и Поволжье. Шехоной называли в старину реку Шексну, впадавшую в Волгу возле Рыбинска; теперь она впадает в Рыбинское море далеко от этого города. Места вокруг Шексны-Шехоны и стали называть Пошехоньем.
Салтыков-Щедрин, беспощадный и блистательный критик, обличал всяческие уродства царской России. Но при этом он любил свою страну, был всей душой привязан к ее просторам, ее лесам, полям, рекам.
Ему принадлежат строки: «Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, Бразилию, окружите какой хотите роскошною природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я все-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние».
И еще: «Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России».
В бывшей усадьбе. На Рыбинском море можно встретить специальные исследовательские суда. Они принадлежат Институту биологии внутренних вод Академии наук Советского Союза.
Институт расположен немного в стороне от моря. На самом старом из его зданий — мемориальная доска, где сказано, что здесь, в усадьбе Борок, родился, провел детские годы и сюда же вернулся после тридцати лет, проведенных на каторге и в ссылке, революционер и ученый, почетный академик Николай Александрович Морозов.
Он был сыном помещика и крепостной крестьянки. Еще юношей с головой ушел в революционную работу. Был членом секции Парижской коммуны 1-го Интернационала, встречался с Марксом. Царский суд приговорил Морозова к бессрочной каторге. Много лет он просидел в одиночной камере страшной Шлиссельбургской крепости, и все эти годы занимался изучением физики, математики, астрономии и других наук.
Усадьба Борок была оставлена в распоряжение Морозова по указанию Ленина. Когда началось создание Рыбинского моря, старый ученый предложил открыть в Борке биологическую станцию. Теперь это институт с международной известностью: искусственных морей на земном шаре с каждым годом становится все больше, и изучать их очень важно.

Рыбинское море. Символическая Волга как бы напутствует уходящих в дальние плавания.
Утки в скворечниках. Обычно утки устраивают гнезда на земле, в прибрежных зарослях. А уток из породы гоголей это не устраивает. Гоголи гнездятся в дуплах деревьев, выстилая гнездо пухом. Птица довольно привередлива: любит, чтобы дупло было повыше от земли, но чтобы само дерево стояло близко к воде.
В тех местах, где теперь Рыбинское море, водилось много уток. Большинство примирилось с переменами. Но не утки-гоголи! Ушли под воду прибрежные дуплистые деревья, на которых они гнездились из поколения в поколение,— и стали гоголи на водохранилище редкой птицей.
Тогда работники Дарвинского заповедника попробовали сооружать искусственные дупла. Смастерили нечто вроде больших скворечников и развесили в прибрежных лесах.
Утки в скворечниках?
Но, представьте, гоголи прижились на новоселье. С «жилищным строительством» в заповеднике размахнулись, изготовили сотни дуплянок-скворечников. И теперь гоголей в «журавлином крае» не меньше, чем было до разлива моря.
Современник мамонта. Среди наших лесных птиц одна из самых древних — глухарь. Ее считают современником мамонта. Если бы глухарь не был очень осторожной птицей, гнездящейся вдали от людей, в самой непроходимой чаще, охотники, верно, давно истребили бы его.
В Дарвинском заповеднике возник первый в мире «глухарятник», где пытаются приручить этих птиц.
Трудное дело! Глухари редко выживают в зоопарках, а если выживают, то не дают потомства. Понадобилось бесконечное терпение, чтобы исподволь, постепенно приучить пугливых птиц к присутствию человека.
Но зачем это нужно?
С каждым годом остается все меньше мест, куда не ступала нога человека. Значит, надо попытаться изменить привычки некоторых животных и птиц, чтобы сохранить их в наших лесах.
Быть может, удастся превратить глухаря в полудомашнюю птицу? Он ведь не только красив, но и очень вкусен. А весит глухарь примерно столько же, сколько откормленный гусь...
Город, который плавал. В начале XVI века Казань была под властью жестоких ханов, выходцев из Золотой Орды. Их воины нападали на русские селения, угоняли пленников и продавали их в рабство.

Сохранились в Поволжье и такие, уголки...
Когда Русь окрепла, Иван IV решил пойти на Казань войной. Ему обещали помощь марийцы, чуваши и даже некоторые казанцы, страдавшие от ханского гнета.
Готовясь к походу, царь, вызвав к себе опытного строителя Ивана Выродкова, дал ему тайное поручение.
Выродков уехал в густые леса под Угличем. Туда же согнали плотников из окрестных селений. Они рубили лес, ставили деревянные стены и башни, а потом, пометив каждое бревно, разбирали их.
По весне в Углич явились стрельцы с пушками. Бревна сплотили в плоты и поплыли вниз по реке. Плыли больше тысячи верст.
В конце мая 1551 года плоты остановились у холма неподалеку от устья впадающей в Волгу реки Свияги.
Ни минуты не мешкая, одни принялись расчищать на холме место, а другие — таскать бревна. Уже на другой день поднялась первая башня с бойницами. От нее потянулась стена. В ней установили ворота с подъемной железной решеткой.
Раньше чем казанские ханы узнали о происходящем, на холме неподалеку от Казани поднялась грозная крепость Свияжск. Стены в пять метров толщиной были засыпаны землей и камнем. Восемнадцать башен поднимались над чудо-городом, готовым к отражению врага.
Увидев, что русские сумели меньше чем за месяц построить такую крепость, ханы побоялись напасть на Свияжск.
Годом позже войска Ивана IV вошли в Казань.
А Свияжск и сегодня стоит на своем холме. Теперь вокруг него—воды Куйбышевского моря.
«Веселая река». О Волге написано очень много. Мысли крупнейших русских писателей q великой реке можно найти в хрестоматиях. Они хорошо известны. Но есть и такие, о которых вспоминают гораздо реже.
Писатель Леонид Андреев нашел, что самоеблизкое к действительности определение Волги — «веселая река». Она, утверждал писатель, весела даже в хмурости, в ней всегда сквозит, проглядывает неистребимое веселье. Оттого-то так любили Волгу все крупные русские люди. Ведь в русском характере нет бесцельной, бессмысленной меланхолии.
Сколько нам нужно воды? С каждым годом ученых все больше занимает вопрос, над которым прежде мало задумывались: как сберечь для человечества воду? Пришло, время, когда обыкновенная пресная вода признана природным богатством. Его надо держать в чистоте, разумно и. экономно использовать, чтобы потомки не пострадали от нашей расточительности.
Пресная вода — всего два процента всех вод планеты.
«Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь». Эти поэтические строки о воде принадлежат французскому писателю Сент-Экзюпери. Их можно дополнить словами английского физика Джона Бернала: «Жизнь, в сущности, есть производное воды».
Именно в водной среде зародилась жизнь.
А мы, а наше тело? Физиолог скажет вам, что оно почти на две трети состоит из воды.
Для удовлетворения потребности человека требуется до тонны воды в сутки.
Хлеб к утреннему завтраку — почти 150 литров воды, мясо к обеду — 3500 литров. Цифры кажутся фантастическими. Но сколько дождей должно пролиться над полем, чтобы из зерна созрел колос! Сколько нужно воды, чтобы корова всегда была вволю напоена, чтобы вырастить для нее корма, чтобы трава на лугах была сочной, свежей!
А промышленность? Производство тонны стали — 50 тонн воды, тонны бумаги — 200 тонн, тонна нейлона или капрона «впитывает» 1500—2500 тонн воды. Совершенно «безводных» отраслей индустрии не существует.
Сегодня человечество уже использует каждые сутки 7 миллиардов тонн воды. А ведь население земного шара быстро растет.
Все ближе палевые башни Рыбинского шлюза. Летняя ночь светла и коротка. В Рыбинск мы придем, когда город еще спит, в Ярославле будем утром. Днем у нас Кострома, ночью пройдем Юрьевец, столь милый сердцу нашего капитана. А на следующий день — длительная стоянка в Горьком.
И вот что я предлагаю. Покинем-ка на время борт теплохода для путешествий в прошлое.
Одно — на Волгу бурлацкую. Начав поход с артелью бурлаков от низовьев реки, мы «придем» как раз к тем местам, где «Клемент Готвальд» будет завтра.
А второе... Второе начнется как бы сразу за воротами шлюза, в городе Рыбинске. Но только на календаре пусть будет 1913 год.
Потом мы вернемся в последнюю четверть XX века, на Волгу десятой пятилетки, чтобы продолжить знакомство с ней и с приволжскими городами, с волжской стариной и волжской новью.
* * *
— Ну, скажите, ради бога, какая нелегкая вас дернула писать эту нелепую картину? — возмущался первый зритель.— Да ведь этот допотопный способ транспорта мною уже сведен к нулю, и скоро о нем не будет и помину. А вы пишете картину, везете ее на Всемирную выставку в Вену и, я думаю, мечтаете найти какого-нибудь глупца-богача, который приобретет себе этих горилл, этих лапотников.
— Нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя,— так сказал о той же картине другой зритель.— Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится!
— Со смелостью, у нас беспримерной, — сказал о художнике третий,— он окунулся с головой во всю глубину народной жизни, народных интересов, народной щемящей действительности.
Первым зрителем был министр путей сообщения Зеленой. Вторым — Федор Михайлович Достоевский. Третий отзыв принадлежал замечательному критику Владимиру Васильевичу Стасову.
Речь шла о картине молодого художника Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге».

«Бурлаки на Волге». Картина И. Репина.
Написанная свыше ста лет назад, она сразу же вызвала споры.
Вы наверняка знаете эту картину.
Знойный день на Волге. По раскаленному прибрежному песку в рубище, в вылинявших лохмотьях идут бурлаки. Они налегают на потемневшие от пота лямки. Их тела напряжены в нечеловеческом усилии. Большинство уже в годах, но есть и вовсе молодой парень. На лицах усталость, покорность судьбе. угрюмое упорство. Один безнадежно поник головой, другой, откинувшись, оглядывает даль. Тяжек их труд, долог их путь. Но сколько скрытой силы у этих людей, запряженных в ярмо! Придет время — и выпрямятся они, расправят согнутые плечи, широко, вольно вздохнут, натруженной грудью...
Бечева привязана к расшиве — так называли на Волге судно, которое тянет бурлацкая артель. Велика расшива, глубоко осела под тяжестью товаров, нагруженных в трюм. Парус спущен — значит, ветер дует навстречу, утяжеляя работу бурлаков.
Большое судно — а бурлаков всего одиннадцать. Одиннадцать против ветра, течения, зыбкого песка, в котором вязнут ноги. Одиннадцать против Волги!
А путь бесконечен. И сегодня в ярме, и завтра, с весны до ледостава, год за годом, пока хватит сил...
Картина Репина до сих пор потрясает людей.
Мы должны знать историю Родины, ее светлые стороны и ее тени. Долгие десятилетия без бурлаков нельзя было представить себе Волгу. Бурлацкий труд — прошлое великой реки, о котором нельзя забыть.
Когда на Волге появились первые бурлаки? Судя по старинным документам, уже в XIV веке беднота нанималась к купцам, чтобы проводить по реке барки с товаром.
Это было опасным делом. На волжские суда часто нападали воины татарского хана, который правил в Казани. Лишь после того, как хан был разбит, Волга стала главной водной дорогой Русского государства.
Началась оживленная торговля с дальними странами. В Астрахань, к устью Волги, приезжали купцы с Кавказа, из Средней Азии, Ирана, Индии. Появились в приволжских городах и англичане.
Судов с товарами становилось все больше. По течению им спускаться легко. А против? Хорошо, если поможет ветер, надует паруса. Человек, гребец или бурлак, надежнее, безотказнее.
Гребцов брали, чтобы спешно везти важных гостей — например, иностранных послов. Гребные струги были чем-то вроде нынешних пассажирских судов. Барки же с товарами тянули бурлаки.
В XVI веке на Волге их было уже несколько десятков тысяч: ведь чтобы поднимать против течения самые большие суда, в лямку впрягалось до трехсот — четырехсот человек!
Бурлаки были не только в России. В разное время бечеву знали во многих государствах Европы. Немецкие расчетливые купцы прикидывали: для подъема 10 — 15 тонн груза против течения нужна либо лошадь, либо 7—10 человек; в неурожайные годы, когда дорожал корм, нанимать людей выгоднее. Во Франции, на Сене, через участки реки с быстрым течением большие суда тянули на бечеве, в которую впрягалось до двухсот мужчин и женщин из ближайших селений.
Шли годы, торговля в России росла, рос волжский флот, были проложены водные пути от Волги к Петербургу. И по весне из обнищавших деревень Поволжья уходило все больше крестьян, готовых тянуть лямку, чтобы прокормить себя и помочь семье.
В тридцатых годах прошлого века число бурлаков превысило шестьсот тысяч. Их было столько же, сколько солдат в армии Наполеона, двадцатью годами ранее вторгшегося в Россию!
А затем бурлацкий промысел постепенно пошел на убыль.
Крепостной крестьянин Михаил Сутырин придумал «коноводку». Посередине этого судна был устроен вал, на который наматывался канат. Вал вращали ходившие по дощатому помосту лошади. Другой конец каната завозился на лодке вместе с тяжелым якорем далеко вперед. Наматывая канат, коноводка подтягивалась к якорю. Затем все начиналось сначала. Продвигались коноводки медленно, но груза брали много.
Тем временем появились пароходы. Первые были тяжелыми, неуклюжими, потом стали строить более сильные и быстроходные. Разве могли бурлаки тягаться с ними?
И за какие-нибудь тридцать — сорок лет растаяла бурлацкая армия. Пошли бурлаки в грузчики, кочегары, матросы, бакенщики.
К началу нынешнего столетия бурлацкий промысел исчез вовсе.
Ушли с Волги бурлаки, но осталась о них память. В архивах хранятся горы бумаг, из которых можно узнать, как работали бурлаки, что они ели, сколько лет каторжного труда выдерживали.
Тяжелой бурлацкой участи посвятили немало страниц поэты и писатели России. Среди них был человек, который сам работал в бурлацкой артели. Это Владимир Алексеевич Гиляровский, прозванный на Волге «дядей Гиляем».
Он родился еще при крепостном праве, а умер в 1935 году. «Дядя Гиляй» часто заходил в редакцию газеты «На вахте», которая издавалась в Москве для советских речников. Это был человек богатырского сложения, с седыми казацкими усами — как на рисунках, изображающих Тараса Бульбу. Хрипловатым голосом он рассказывал молодым журналистам о прежних волжских нравах. «Дядя Гиляй» нюхал табак. Оглушительно чихнув несколько раз, хитро поглядывал на окружающих:
— Смотрите, смотрите, запоминайте. Перед вами музейная редкость, последний лямочник России!
Владимир Алексеевич оставил записи о своих скитаниях по Волге. Он «отведал лямки» уже в ту пору, когда бурлачество сильно пошло на убыль. Но в старых газетах и книгах можно найти рассказы очевидцев о временах более ранних. Воспользовавшись ими, я и попытаюсь набросать дальше картинки бурлацкой жизни, как бы примкнув вместе с читателем к одной из артелей.
Начну с весны, когда люди собирались в приволжских городах, чтобы наняться в упряжку.
Снег подтаял, пропитался водой. Лапти у крестьян промокли, одежонка плохонькая, а тут еще злой ветер с реки. Однако всяк бодрится как может. Бурлак должен выглядеть чертом, будто голод и холод ему нипочем. Хилого ни одна артель не примет.
Все приволжские улочки Саратова забиты мужиками. Они сошлись сюда на бурлацкий базар, где торгуют не дегтем, не кожами, не рогожами. Тут товар живой: бурлацкая силушка.
Купец подряжает артель. Расшива большая, а хозяин скупится, хочет нанять поменьше людей да и с ценой прижимает:
Чтоб пустяков не болтать, по полста рубликов на человека дам.
За лето каторжного труда по пятьдесят рублей?! Прошлый год семьдесят пять платили.
Рядились долго, отчаянно. Наконец сошлись на пятидесяти семи рублях.
Хозяин забрал у всех паспорта, дал по три рубля задатка — и попали бурлаки в кабалу.
...Быстро бежит время. Вот и льдины прошумели, рвет Волга с якорей готовые в путь суда, набитые мукой, канатами, пенькой, солью, вяленой рыбой. Тут и расшива купца, подрядившего бурлаков. Бойкий на выдумку, умелый народ смастерил для своей Волги такое судно. Нос у него полукруглый, ложкообразный. Расшива не режет воду, а как бы скользит по ней. Если наткнется на мель — легко снимать.
И как расписана, разрисована расшива! Глаз, недремлющее око,— это чтобы не проглядеть мель или камень. Рядом солнышко нарисовано —- пусть светит, ясное, дожди не пускает.
Высоченная мачта, на которую при попутном ветре поднимается парус, украшена флюгером из жести и длинной красной лентой, развевающейся на ветру.
Бурлацкая артель в сборе. Верховодит ею «шишка» — самый опытный бурлак. Он отвел каждому местечко в трюме, где бурлаки спят все вместе вповалку. Лоцман да хозяйский приказчик заняли расписанную красной и зеленой краской «казенку», каюту на палубе.
Едва рассвело, как бурлаки взялись за лямки. Это длинный кожаный пояс с деревянной палочкой или шариком на конце. Его надевают на грудь. За шарик лямку прикрепляют к бечеве — тонкому канату, другой конец которого привязан к мачте.
Бурлаки заняли место у бечевы. Лоцман, в новой кумачовой рубахе и синем суконном кафтане, встал к рулю.
— С богом! — провозгласил приказчик и перекрестился.—А теперь силушки не жалей!
Бурлаки налегли грудью на лямки. Ноги тонули в мокром песке. Расшива дрогнула и медленно тронулась с места. Ох, нелегко будет спорить с весенней полноводной Волгой!
...Присмотритесь внимательнее к репродукции с картины «Бурлаки на Волге». Ни один бурлак не шагает как обычно идущие люди. У всех выставлена вперед одна нога, другая же как бы волочится сзади. Почему художник нарисовал так странно?
Он точно передал, как ходили бурлаки. Налегая на лямку изо всех сил, они выставляли вперед одну ногу, а затем, не теряя упора, подтягивали, волокли к ней другую. Снова выставляя ногу, опять подтягивали другую. И так весь день.

Когда ветер — под парусом, когда нет ветра — бурлацкая лямка...
...вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный, похоронный крик...
Почему Некрасов писал о крике, а не о песне? Бурлаки пели на ходу, когда грудь сдавлена лямкой, пели сиплыми, вечно простуженными голосами. Чтобы шагать в ногу, часто просто выкрикивали слова, ухали с надрывом, с тоской. «Этот стон у нас песней зовется...» — сказал поэт.
А ведь из бурлацкого «уханья» родилась песня, которая так и называется «Эй, ухнем!». Эта песня особенно очаровала композитора Гуно, автора оперы «Фауст», воскликнувшего:
— Скорее я выпил бы всю воду в Волге, чем охладел бы к чудным звукам этой русской песни!
К Жигулям бурлаки пришли из Саратова уже в разгаре лета.
Дымчато-синеватые, далекие, они росли на горизонте так медленно, что казалось, никогда не дойти до них. Но вот самые зоркие стали уже различать приметные вершины, знакомые курганы.
Перед Жигулями хозяйского приказчика словно подменили. Такой стал добренький, ласковый... Табаком угощает, все бранные слова забыл начисто. И в котле свежее мясо. А бурлаки только посмеиваются да перемигиваются. Знают, в чем дело.
Давно у Жигулей плохая слава среди тех, у кого денежки водятся. Дико, пустынно в Жигулях. Грозно нависают утесы, темнеют пещеры, даже в шелесте листвы по оврагам чудится хозяйским приказчикам угроза.
Нет в Жигулях селений, но по ночам в глубине лесов виден отсвет костра, а то слышится откуда-то издалека, с вершины утеса, песня. И в этой песне слова о волюшке-воле, о матушке-Волге, о Жигулях, где для смелого да удалого — дом родной.
Славное место Жигули! Есть в России горы грознее и выше их, но ни о каких других горах не ходит в народе столько легенд, как о Жигулях. И если станет кому совсем невмоготу крепостная неволя, думает тот бессонными ночами о жигулевских пещерах, где укрывается голытьба, гроза купеческих караванов.
На первой стоянке возле Жигулей приказчик велел остановиться еще засветло. Бурлаки, наслаждаясь отдыхом, разлеглись возле костра.
— А что, дядя Прохор, бают, был ты на расшиве, когда ее в здешних местах выпотрошили?
Бородатый бурлак важно кивнул головой:
— Дело было тому лет восемь. Вели мы самарского купца Мякишева расшиву. Вот, стало быть, встали в Жигулях на ночевку. А они — тут как тут! Человек шесть. Ну, крикнули: «Сарынь» на кичку!» Сарынь — это, значит, мы, бурлаки, а кичка — нос расшивы. Ложись, стало быть, на нос, лицом к полу и не шевелись, ежели жизнь тебе не в грош.
— Ишь ты! Сколько же вас на расшиве было?
— Нас-то? Человек пятьдесят.
А их шестеро?
— Сказал же, шестеро. Может, пятеро. А хоть бы и двое. Хозяин с приказчиком на наши кровемозольные денежки пузо наедают, а мы, стало быть, их добро защищать? Нашел дурней! Разбойник бурлака в жисть не трогал. Так и в тот раз. Хозяина, верно, здорово потрясли, всю мошну выпотрошили, он с перепугу потом заикаться стал.
— Дядя Прохор, а то еще говорят, будто в Жигулях Стенька Разин до сих пор по ночам бродит, клад свой стережет.
— Эх, дурья голова! Когда поймали Степана Тимофеевича царские слуги, стали пытать каленым железом: где, мол, богатства твои, сказывай! — он усмехнулся и отвечает: у всех на виду мои сокровища, да только не вам их взять. Больше ничего не сказал. Стали царевы слуги толковать его слова так и эдак, принялись в ближних пещерах искать, под курганы подкапываться, но ничего не нашли. А клад-то и верно у всех на виду.
— Как так?
— А так. Вот он, этот клад.
Дядя Прохор обвел рукой вокруг:
— Земля приволжская, стало быть, атаманов клад. Для народа ее Степан Тимофеевич оставил, а бояре да графы себе порасхватали.
...Вот и Жигули позади, все меньше, все ниже курганы, пока не растаяли вовсе. Идут, идут бурлаки — счет дням потеряли. Пора бы быть в Нижнем Новгороде, а до него еще верст сто, если не больше. Седьмую пару лаптей донашивают, еще пары три запасать надо.
Друзья-читатели, знаете ли вы, что в наше время лапти обходились бы стране дороже модельной обуви? Чтобы сплести пару лаптей, надо было ободрать лыко, кору с трех молодых липок или берез. А срок лапотной «службы» у бурлака — неделя, если берег каменистый. На песчаном часто обходились вовсе без лаптей.
Для бурлака лапти — чуть не главный расход. Двадцать пар за лето, а то и больше!
При тяжелой, невыносимо тяжелой работе питался бурлак дешевой пищей, чтобы накопить за лето денег для семьи. Постоянным блюдом была «мурцовка». Суп не суп, каша не каша: в деревянной чашке крошили ржаной хлеб, солили его, для вкусу сдабривали луком да двумя-тремя ложками масла из конопли, все это поливали водой — и садились хлебать.
Пшенная каша с салом считалась лакомством, а мясо хозяин давал изредка, обычно в начале пути, чтобы отощавшие бурлаки скорее втянулись в работу. На трудных участках или при сильном встречном ветре на завтрак и обед варились щи, в которые опять-таки крошился хлеб. Черного хлеба бурлак съедал около двух килограммов в день, а то и больше.
Так вот, сносили наши бурлаки за дорогу от Саратова уже добрую липовую рощу, съели урожай с целого ржаного поля. Тащатся по горячему песку, по острым камням. За ними другая артель, подальше третья. Так всюду, вдоль всего берега, кучка за кучкой. А полуденное солнце палит нещадно, воздух листа не шелохнет.
— Эх, низового бы! Плеченьки разломило, моготы нет!
— Подуй, подуй, батюшка, бурлацкое утешеньице!
Но попутный низовой ветер притаился где-то в степях, лень ему на Волгу выйти, разгулять силушку...
Было это уже неподалеку от Нижнего Новгорода.
Сначала никто не обратил внимания на дым над островом: мало ли на Волге жгут костров. Потом заметили, что дым передвинулся к песчаной косе. Из-за нее показалось странное судно.
Оно быстро шло по течению. Уже можно было разглядеть высокую трубу, из которой и валил густой дым. Пораженные бурлаки побросали лямки, и расшиву унесло бы прочь от берега, если бы лоцман не успел бросить якорь.
— Нечистая сила...— перекрестился «шишка».— Тьфу, тьфу, тьфу, сгинь, сатана. Господи, помилуй нас грешных...
Судно поравнялось с расшивой. Были видны его медленно вращающиеся деревянные колеса, похожие на мельничные. Шипел пар. Из поленницы на палубе два человека хватали дрова и сбрасывали их внутрь судна.
— Не иначе, как там внутри черт,— решил «шишка».
— Черт и есть,— поддержал его кашевар.— Ишь, дышит через трубу, не по-людски, да и не по-воловьи, а как-то по-своему.
— Ежели черт, то почему там люди? — возразил кто-то из бурлаков.— Просто посудина с печкой.
Так и окрестили бурлаки один из первых волжских пароходов. Впрочем, тогда слово «пароход» еще не придумали, и новые суда в газетах называли на заграничный лад стимботами и пироскафами.
«Посудина с печкой» напугала не только бурлаков. В церквах служили молебны. Попы просили бога погубить «большого черта», чтобы впредь он не смел поганить волжскую воду.
Долго еще толковали бурлаки о встреченном чудовище.
— Нет, брат, на Волге бурлака никакой черт не заменит, — убежденно говорил «шишка».— Сколько нашего брата бечевник топчет, в лямке ходит, а? Вот был в Нижнем, сказывают, человек, сделал водоходное судно для бурлацкого облегчения. Но только господам то судно пришлось не по нраву. Велели распилить на дрова.
Порешили на том, что, сколько Волга будет течь, столько и бурлаку лямку тянуть. Не дадут господа облегчения мужику. Мужик — он двужильный!
«Водохлебы» и «водоброды». Так разделяли бурлаков. Первые занимались бурлацким промыслом из года в год. Река была их постоянной кормилицей. «Водобродов» же выгоняла из деревень на Волгу лишь крайняя нужда. Бурлацкая жизнь пугала их. Но частенько случалось, что на следующий год крестьянин снова отправлялся по весне на бурлацкий базар и постепенно становился «водохлебом».
Нанимая бурлацкую артель, хозяин особо оговаривал: бурлаки должны вести судно «с наивозможной поспешностью, не просыпая без работы ни в коем случае утренних и вечерних зорь». Даже ели бурлаки не всегда вместе. Чтобы не останавливаться, менялись у бечевы на ходу и готовили мурцовку на расшиве.
Очевидцы рассказывали, как бурлаки карабкались иногда по песчаным обрывам, которые обрушивались и засыпали людей. Им приходилось «местами входить в глубину, так, что вам представляется картина нескольких сот голов, которые медленно движутся над поверхностью воды; оступившийся затаптывается артелью и нередко тут остается; при переходе же через русла ручьев или оврагов вся эта масса людей бросается вплавь, и горе тем, которые не имеют к этому навыков».
Так чаще бывало весной, в разлив. А осенью — другая беда. Волга сильно мелела, и возле трудных перекатов скапливались иногда десятки различных судов.
Каждой артели хотелось провести свое судно поскорее, обойти другие: за простой хозяин удерживал деньги из жалкого заработка. К трудным перекатам заранее посылали «усмирительные команды», которые, разнимая стычки между бурлаками, без разбора пороли правых и виноватых.
Плеть вообще часто гуляла по бурлацким спинам. Особенно жестоко наказывались побеги с судна. В середине XVIII века был издан специальный указ, по которому каждый беглый бурлак после поимки отправлялся на соляные промысла, которые тогда не зря назывались «соляной каторгой». Перед отправкой предлагалось «учинить беглому жестокое наказание плетьми и определить время к зарабатыванию взятых у подрядчика в задаток денег».
«Водоход» Ивана Кулибина. Водоходное судно, о котором в нашем рассказе упоминал «шишка», действительно существовало. Его создал талантливый русский изобретатель Иван Петрович Кулибин. Он сумел использовать для движения «водохода» силу течения реки.
Свое изобретение Кулибин испытывал в Петербурге, на Неве. Было лето 1782 года. Зрители толпились вдоль набережных. От «водохода» завезли вперед на длинном канате якорь. Другой его конец был привязан к валу с двумя колесами, опущенными в воду.
Взмах руки — и колеса стали медленно вращаться, наматывая канат. К общему изумлению, судно пошло против течения и довольно сильного, порывистого ветра.
Что же придумал Кулибин? На его колесах были подвижные лопасти с шарнирами. Они открывались лишь в одну сторону. Когда лопасти в воде прижимались к раме, течение давило на них, вращая вал.
Вернувшись в родной Нижний Новгород, Кулибин построил для Волги усовершенствованный «водоход». Судно признали «обещающим великие выгоды государству». А четыре года спустя продали на дрова. Царские чиновники считали, что бурлацкий труд дешев и нечего возиться с постройкой каких-то самодвижущихся судов.

«Водоход», созданный Кулибиным.
Огорчения Роберта Фультона. Появление первых «посудин с печкой» вызвало на Волге немалый переполох.
Но история сохранила нам описание одного из рейсов «Клермонта», построенного изобретателем паровых судов Робертом Фультоном в Америке.
Было объявлено, что осенью 1807 года «Клермонт» будет ходить между Нью-Йорком и городом Олбани. В назначенный день пароход покинул Нью-Йорк... совершенно пустым. Никто не рискнул сесть на «огневое судно». В огромном городе не нашлось человека, способного преодолеть страх и суеверия.
В топке «Клермонта» горели смолистые сосновые дрова. Завидев пламя и дым, поднимающиеся из трубы, люди на встречных парусных судах в панике прятались под лавки, а некоторые бросались в воду.
В Олбани на борт «Клермонта» поднялся единственный пассажир. Он протянул Фультону шесть долларов — за билет. Изобретатель сказал смельчаку:

Один из первых...
— Сэр, это первые деньги, которые я получил за шесть лет работы над паровыми судами. Выходит, по доллару в год... Я предложил бы вам выпить стаканчик вина за доверие, которое вы оказали моему судну, но сейчас я так беден, что не могу оплатить даже это скромное угощение.
О самых первых. Первые пароходы появились на Волге вскоре после окончания войны с Наполеоном. Их построили на Каме, главном волжском притоке. Кама начинается на Урале. Еще с давних пор русские люди строили там заводы. Один из них находился в городке Пож-ве. Под руководством талантливого инженера Соболевского на этом заводе и были построены сразу два парохода. Все для них, от якоря до паровой машины, изготовили уральские мастера.
Один пароход был довольно большой, примерно такой, как нынешний пригородный катер, другой поменьше.
Осенью 1817 года под звуки пушечного салюта разукрашенные флагами первые пароходы отправились вниз по Каме. Большой пароход вел крепостной крестьянин Николай Беспалов, хорошо знавший Каму и Волгу.
Пароходы благополучно дошли до Казани. Однако на обратном пути их захватил ледостав. Весной, во время половодья, вмерзшие в лед суда были сильно покалечены. Но машины с них успели снять. Вскоре пароходы с Камы сделали первые рейсы по Волге до Рыбинска.
Четверть века спустя паровые суда плавали уже по всей реке.
На смену бурлацкой лямке пришла машина.
Бурлацкие присказки и поговорки. «Лошадь в хомут, а бурлака — в лямку». Только у бурлака доля была тяжелее, чем у сивки-бурки: лошадь, по крайней мере, кормили и тогда, когда она не работала.
«Симбирск видим, да семь ден до него идем». Симбирск стоит на высокой горе и виден издали. Бурлаки тянули барки против течения со скоростью десяти — двенадцати километров в сутки. Вот и получалось, что после того, как вдали впервые блеснут купола симбирского собора, бедняги еще долго тащились до города.
«Дома бурлаки — бараны, а на Вол-re — буяны». Дома, в деревнях, многие считали бурлаков чуть не последними людьми. Вернувшись домой после изнурительного лета, бурлак и тут не имел отдыха: то крышу почини, то в лес за дровами отправляйся. Не до гульбы ему: дома нужда беспросветная.
А на Волге бурлаков всюду подстерегали кабатчики. Выпьет бурлак с горя — и отводит душу: буйствует, лезет в драку с теми, кто обижал его, а порой и с первым встречным^ Вот и родилась еще одна поговорка: «Собака, не тронь бурлака, бурлак сам собака».
Былина о Садко, госте новгородском. Но обратимся к временам более отдаленным. Как выглядели первые волжские суденышки? Быть может, это были грубо выдолбленные или выжженные из древесных стволов челны. Вероятно, далекие наши пращуры пользовались также небольшими плотами из двух-трех деревьев.
Достоверно известно, что в VIII веке Волга уже была большой торговой дорогой.
Летописи упоминают бесстрашные плавания славян-руссов по реке и Каспийскому морю. Они появлялись со своими товарами на шумных восточных рынках Багдада.
Легкие струги новгородцев скользили по волжским водам, проникали далеко вверх по Каме.

У некоторых пароходов гребное колесо вращалось за кормой.
Вспомните: былинный новгородский торговый гость Садко целых двенадцать лет «гуляет» по «славной матушке-Волге-реке», причем с «вершины» (то есть с верховьев) до «царства Астраханского». А когда нагулялся Садко, то отблагодарил реку, опустив в ее воды хлеб, щедро посыпанный солью. И Волга, приняв дар, просит гостя новгородского «поклониться брату моему, славному озеру Ильменю».
Мы знаем, что в былинах часто находили отражение действительные события, в данном случае — продолжительные волжские походы новгородцев.
Великий Болгар. Недалеко от впадения в Волгу Камы есть развалины древнего города.
Вот уже больше ста лет сюда приезжают археологи.
За остатками крепостного вала и сегодня можно увидеть Малый минарет, Черную палату, Красную палату, описанные во многих научных работах. Эти здания украшали когда-то Великий Бол-rap, один из трех главных городов Волжско-Камской Болгарии.
Предполагают, что в VII веке на земли местных племен с юга пришли кочевники-болгары. Они обитали до этого в Приазовье. Хозары потеснили их. Часть болгар ушла на Дунай, и вместе со славянами образовали там всем известную Болгарию. Часть осела на Волге и в низовьях Камы.
Волжско-Камская Болгария превратилась в сильное раннефеодальное государство. В X веке оно торговало с Киевской Русью, Сирией, Ираном. Связи с мусульманским Востоком способствовали тому, что в Волжско-Камской Болгарии распространился ислам. Строились мечети — мусульманские храмы.
Крепнущая Русь то заключала союз с болгарами, то схватывалась с ними на поле битвы. Во время монголо-татарского нашествия волжские болгары оказали сильное сопротивление завоевателям и отбили их первые натиски. Лишь огромная армия Батыя сломила непокорных.
Для некоторых народов Поволжья Волжско-Камская Болгария — страница истории предков. С болгарами связано, например, происхождение казанских татар и чувашей.
Флотилия Степана Разина. Оба вождя крестьянских войн, Степан Разин и Емельян Пугачев, родились на Дону в казацкой станице Зимовейской.
После казни Пугачева Екатерина 11 велела уничтожить все, что у народа связывалось с памятью о нем. Дом, где он родился, сожгли, и палач долго бил пепелище кнутом, которым наказывали преступников. Станицу переименовали в Потемкинскую—по имени князя Потемкина, любимца императрицы.
Теперь она называется Пугачевской.
Действия войск Разина и Пугачева в Поволжье, наверное, известны вам из курса истории. Расскажем только, каким опытным флотоводцем был казацкий атаман: в начале войско Разина действовало больше на воде, чем на суше.
Вот летопись первых его походов. В 1667 году Разин вооружил небольшую флотилию. Выйдя в Каспийское море, она на следующий год начала смелый рейд. Струги Разина внезапно появлялись в приморских владениях персидского шаха. Казаки захватывали добычу и освобождали из неволи русских пленников.
В 1669 году Разин одержал блестящую победу над персидским военным флотом, насчитывавшим полсотни вооруженных кораблей. Сделав вид, что его флотилия «спасается бегством», он в удобный момент внезапно повернул свои струги для боя. Только трем кораблям персов удалось избежать гибели.
В 1670 году у Разина было на Волге 80 новых судов, вооруженных пушками. Флот астраханского воеводы перешел на его сторону. Войско Разина начало победоносное движение вверх по Волге, и разинские струги по-прежнему оставались грозной боевой силой.
Плавание «Орла». Первый военный корабль «Орел» появился на Волге в 1669 году. Это было трехмачтовое судно, вооруженное двадцатью двумя пушками.
Среди команды «Орла» находились голландские моряки, и один из них, парусный мастер Ян Стрейс, оставил интересное описание плавания. Он рассказал о приволжских городах. «Чебоксары — самый красивый и укрепленный город из встречавшихся мне в этом краю, он хорошо застроен»,— отметил голландец.
В Казани «Орлу» устроили торжественную встречу. Стрейс записал, что сам город окружен деревянными стенами, а его кремль — широкой каменной стеной.
До Астрахани судно добиралось три с половиной месяца. Оно много раз садилось на мель, застревало на перекатах, теряло якоря. Может, в этом отчасти был виноват голландский капитан Давид Бутлер, который совершенно не знал Волги. Но русский царь не доверял волгарям...
В Астрахани «Орел» оказался как раз в то время, когда возле города стояло войско Степана Разина. Парусный мастер не раз видел народного вожака и так описал его: «Это был высокий и степенный мужчина крепкого сложения... Он держался скромно, с большой строгостью».
В 1913 году мне было два года.
Если бы родители и провезли меня тогда по Волге, я вряд ли смог бы сегодня печатать свои воспоминания о том, как в приволжских городах отмечалось трехсотлетие дома Романовых, последних русских самодержцев.
А что, если вообразить такое путешествие? Представить себя российским обывателем, попавшим на Волгу 1913 года? Причем увидеть речную жизнь его глазами, не так, как увидел бы ее наш современник.
Время «поездки» я выбираю не случайно. Недаром в учебниках используются для сравнения цифры и факты именно за 1913 год: царская Россия достигла тогда своего «потолка». Лотом началась первая мировая война, а вскоре революция смела прогнивший режим царя, помещиков и капиталистов.
Как же представить себе Волгу 1913 года? Ну, прежде всего, у меня собрано много рассказов старых волгарей. Некоторые из моих собеседников начинали работать на Волге еще в начале века и 1913 год помнили превосходно.
Кроме того, полистал я старые газеты, которые издавались в приволжских городах, выписал оттуда массу всяких мелочей, вплоть до расписаний пароходов, просмотрел «Коммерческий календарь» за 1913 год, заглянул в книги, которые были напечатаны тогда о Волге.
Ни один из фактов, о которых вы прочтете дальше, не выдуман. Например, в пути нам повстречаются гимназисты. Встречу с ними я описал, прочитав отчеты Тверской и Псковской гимназий об ученических экскурсиях по Волге, а также довольно редкую книжку «Дневник девочки», где рассказывается о поездке на волжском пароходе.
Вымысел только в том, будто я сам стал путешественником по дореволюционной Волге, превратив людей, о которых мне удалось прочесть, в своих спутников. При этом кое-где изменил место действия и подлинные события поездок разных людей соединил в одну цепь.
Хочу сказать еще вот что. Я не старался выискивать только темные стороны жизни наших дедов и прадедов. Мне хотелось показать прошлое как можно правдивее. Что было плохо — то плохо. Но ведь и тогда было много хороших людей. В 1913 году они работали, учились, любили, страдали, мечтали о лучшем будущем и старались его приблизить.
А начну я свое путешествие по дореволюционной Волге из Рыбинска. Волжские верховья были тогда мелководными, и большие пароходы ходили только между этим городом и Астраханью.
Так не забывайте, пожалуйста: на календаре — 1913 год!
...Приехал в Рыбинск и прямо с вокзала — на Волгу. Боже мой, сколько же судов, всякого рода барок, барж, баркасов! И во всех — зерно. Здесь его перегружают на мелкие суденышки, чтобы по Мариинской системе везти к Петербургу.
Можно дойти до середины Волги, перепрыгивая с палубы на палубу. А будь Волга поглубже — шли бы все эти суда напрямик, не надо было бы тысячам грузчиков таскать мешки из трюма в трюм. Адски тяжелая работа! Говорят, что зимой в Рыбинске тридцать тысяч жителей, а летом — до ста тысяч. И весь пришлый люд на Волге горб гнет.
Я почел своим долгом осмотреть главную рыбинскую достопримечательность — биржу. Целый дворец на берегу Волги: с башенками, с балкончиками, с каменной резьбой. Биржу построили для себя местные хлеботорговцы и владельцы пароходов. Здесь рыбинские воротилы заключают сделки, перекупают баржи хлеба, вагоны тканей, земельные участки вместе с усадьбами, лесами и посевами.
Пристань в Рыбинске неподалеку от биржи. Пока ждал парохода, разговорился с чиновником, рыбинским уроженцем.
— Достопримечательностями интересуетесь? — спросил он.— В соборе хранится кресло, государыня императрица Екатерина Великая изволила на нем сиживать. Сад за городом есть увеселительный, певички там выступают. Ну, а главное — биржа. Двадцать тысяч суденышек в Рыбинск за навигацию проходят, и от каждого ниточка незримая туда тянется. Прочнее каната, каким суда зачаливают, да-с. С каждого денежка в кармане предпринимателя оседает. Копеечка к копеечке — глядишь, и миллион рубликов.
Мой собеседник оглядел здание биржи так почтительно, будто перед ним был храм. Мы помолчали.
— Однако не наш ли пароход идет? — встрепенулся чиновник.
Хлопая плицами колес и шипя паром, к пристани причалил приземистый «Великий князь Алексей», отправляющийся до Ярославля.
— Нижегородского первой гильдии купца Дмитрия Васильевича Сироткина пароход, — сказал чиновник, когда мы поднялись по трапу и уселись на палубной скамье.— Большую силу забирает на Волге господин Сироткин. Выбрали его купцы и дворяне городским головой в Нижнем Новгороде, а он и говорит: «Много времени городским делам уделять не могу, со своими дай бог управиться». Да вот о нем и в нашей газете пропечатано.
Чиновник протянул мне тощий «Вестник Рыбинской биржи». Внизу было написано: «Издатель 2-й гильдии купец И. Кукуев». Оказывается, газетка долгие годы печаталась в соседнем Ярославле, потому что в Рыбинске не было ни одной печатной машины.
«Вестник Рыбинской биржи» сообщал новости, интересовавшие местных тузов. Выделялся жирный шрифт заметки о том, что в этом году на бирже уже заключено 167 сделок с агентами иностранных фирм и что недавно открытое отделение «Русско-французского общества» удваивает капитал.
— А вот вы помянули господина Сироткина,— обратился я к спутнику.— Он что же, из купеческого звания?
— Да как вам сказать? Отец его простым мужиком был, щепой торговал. Купил по случаю бросовую паровую машину и, представьте, в своей деревне смастерил с другими мужиками деревянный пароход. Назвал его «Многострадальным», с этого начал денежки выколачивать, купил уже настоящий пароход. На нем его сыночек плавал поваренком, дальше — больше, уже капитан. А потом придумал строить баржи, каких на Волге до него никто не строил. Большие, ходкие, грузу берут много. Ну и разбогател. Башковитый человек господин Сироткин, ничего не скажешь.
Пассажиров на пароходе нашем было немного. По палубе прогуливался толстяк в фуражке с дворянским околышем — наверное, помещик — и с ним сонная барыня. Появился священник в Черной рясе, купец в поддевке и сапогах, еще два купца в сюртуках, с массивными золотыми цепочками поперек живота.

Возле Рыбинска забита вся река: дальше судам нет хода из-за мелководья.
— Это, извините, Вшивая горка.— Чиновник показал на берег, застроенный хибарками и землянками.—Тут рабочий люд обитает, бурлацкие, можно сказать, потомки. Прозывается этот люд «зимогорьем», потому что, когда зимой работы на пристанях прекращаются, переживает он много горя и забот. Я вот в одной столичной газете прошлый год вычитал упрек городским властям: нельзя, мол, не удивляться небрежному отношению заправил города к нуждам тружеников, руками коих создаются миллионные состояния. Подействовало: открыли «царскую кухню». Это народ так прозвал новую харчевню. Что же касаемо жилья, так многие «зимогоры» и в холода ютятся под навесами да в трюмах барж. А ведь здешний груз, считайте, миллионы пудов, эти простолюдины на своем хребте таскают. За границей, говорят, паровые краны придумали.
— Ни к чему они на Волге,— вмешался в разговор господин в дворянской фуражке.— От них только развращение народа. Кто насидится без работы, тот и копейке рад. А краны — штука дорогая.
«Ярославль-городок — Москвы уголок».
Не зря, видно, такую поговорку народ сложил. Сколько церквей — и одна другой лучше. Набережная чистая, зеленая, липы на ней цветут, на весь город аромат.
Я прогулялся до Демидовского юридического лицея, прекрасного здания неподалеку от Стрелки, где в Волгу впадает река Которосль. Этот храм науки воздвигнут на средства разбогатевшего внука тульского кузнеца Демидова еще в 1805 году.
Мне сказали, что лучший вид на город — с вышки над зданием реального училища.
Едва я поднялся по ступенькам, как из-за угла появились извозчичьи дрожки. На заднем сиденье ехал мужчина в мундире министерства просвещения, а вокруг стояли и сидели гимназисты. Непостижимо, как все они уместились в одной пролетке!
Пролетка остановилась у подъезда реального училища. Вскоре вся компания появилась на вышке:
— Ой, как красиво! Господа, не толкайтесь! Борис Нилович, а что это за дом? А там что?
Для начала я вместе с гимназистами выслушал из уст учителя легенду о том, как киевский князь Ярослав вот в том месте, где овраг, убил в 1010 году лютую медведицу и тогда же заложил город. Поэтому-то медведь и изображается на гербе Ярославля.
— Известно ли вам, господа,— продолжал учитель,— что в Ярославле, в Спасском монастыре, в восемнадцатом веке был найден единственный список с древней рукописи «Слова о полку Игореве», жемчужины нашей литературы? Монастырь мы с вами посетим всенепременно, а пока напомню, что публичный театр российскийродился здесь же, на волжских берегах. Его основатель, Федор Волков, в полутемном амбаре для хранения кож дал представление драмы «Эсфирь». Добавлю, что в Ярославле предпринято было издание первого провинциального журнала «Уединенный пошехонец».
— Борис Нилович, а вон там трубы...
— Это? господа, бумаго-прядильная и ткацкая фабрика «Товарищества Большой Ярославской мануфактуры», принадлежащая господину Корзинкину. Кроме нее, в городе есть колокольный завод Оловянишникова и спичечная фабрика Дунаева.
На следующий день я встретил гимназистов у церкви Ильи Пророка. Она сохранилась от «золотого века» Ярославля, когда в городе работали искусные зодчие и живописцы. Стены церкви расписаны фресками: на еще мокрую штукатурку художники наносили краску, разведенную яичным белком.
Художники изображали библейские сцены на свой лад. На бесах, например, были боярские костюмы; у древних египтян в руках виднелось что-то очень похожее на ярославские корзинки из березовой коры; библейский Каин подгонял деревенскую лошаденку, запряженную в соху; на столах у пирующих лежали румяные русские калачи. Живописцы XVII века на стенах храма изобразили то, что окружало их в жизни.
С Борисом Ниловичем мы раскланялись, как старые знакомые. Он сказал, что преподает естествознание в Псковской гимназии и совершает с гимназистами образовательную поездку по Волге. Экскурсанты намеревались поглядеть Большую Ярославскую мануфактуру, а потом побывать в Грешневе, где прошли детские годы Некрасова.
Ярославль, 1913 год...

— Но представьте мое возмущение,— разволновался учитель,— когда узнал я, что там происходит. Усадьба, если слышали, сгорела еще при жизни нашего народного поэта, однако уже одно посещение этой исторической местности должно было бы всколыхнуть юные души. И что же читаю я о Грешневе? Да вот, извольте взглянуть своими глазами.
Борис Нилович протянул мне книжку в красном переплете. «К. Андреев. Путеводитель по Волге» — так было написано на обложке.
— Вот, страница шестьдесят девятая.
Я прочел: «На том месте, где когда-то стояла усадьба Некрасовых, свил себе в настоящее время гнездо целовальник, украсивший дом следующей безграмотной, но красноречивой надписью: «Постоялый двор «Раздолье» с распитием крепких напиток и на вынос и с продажею чая».
— Нет, каково? — возмущался учитель.— Кабак в усадьбе поэта!
И, оглянувшись на своих питомцев, прошептал мне:
— При жизни власть имущие его не жаловали и память не чтят. Прискорбно это для русской души!
Вот я и в Костроме. Прямо у выхода с костромской пристани — два высоких каменных столба с царскими орлами на верхушке. Улица поднимается отсюда к площади с памятником Ивану Сусанину.
Но почему Сусанин такой молодой и в меховой шапке с крестиком? Да это вовсе и не Сусанин! Это первый царь из рода Романовых, Михаил. Он — на вершине гранитной колонны. А Сусанин — всего только фигурка у ее подножия. Стоит на коленях перед царем.
Тут шевельнулась у меня крамольная мысль: если Сусанин, простой русский мужик, завел в чащу отряд захватчиков и погиб под ударами их сабель, а будущий царь тем временем спасся, то почему же скульптор поставил на колени именно мужика-героя?
Размышляя подобным образом, переправился я через речку Кострому в Ипатьевский монастырь, чтобы побывать в покоях, где обитали предки царствующего императора Николая II, ведущие свой род от боярина Андрея Кобылы. В костромских палатах Романовых во всех углах висели иконы, а печные изразцы были разрисованы птицами, кубками, винными бочками.
1913 год... Ровно триста лет, как царствующий дом Романовых повелевает Россией. Всюду юбилейные торжества, а в Костроме — особенно. Сам государь император решил навестить родное гнездо своих предков. Для его пребывания рядом с монастырем построили прекрасный дом.
А костромское купечество тряхнуло мошной, выложило денежки на устройство выставки. Там собрано все, чем богата Костромская губерния. Очень наглядно! Богата же губерния лесом, птицей, зверем, изделиями из льна, лыка, бересты.
Должен признаться, что Кострома показалась мне довольно скучным городом. Набережная, не в пример Ярославлю, изрядно запущена, мостовые неровные, и во время прогулки на извозчике покрылся я пылью, будто путешествовал по тракту. А тут еще прочел в путеводителе господина Андреева, который приобрел по примеру Бориса Ниловича: «Санитарное состояние города очень плохое, процент смертности страшно высок».
Зачем же мне еще увеличивать этот процент? И я поспешил на пристань.

На стенах храмов живописцы изображали не только святых, но и земледельцев.
Ближайшей целью моей был городок Плес. Будучи большим поклонником живописи Левитана, давно уже стремился я повидать места, запечатленные на его полотнах.
Местный пароходик довольно быстро доставил меня в этот заштатный городок. Надо ли говорить, какие чувства испытывал я, узнавая и лесистый берег, и церквушки на взгорье?
Плес чудо как живописен. Недаром стал он любимым местом, где проводят лето художники и артисты. Узнал из путеводителя, что именно здесь волею судеб оказались в 1812 году, во время нашествия Наполеона, многие актеры московских театров.
А Волга сначала Левитану не понравилась, он даже хотел было уехать прочь, но на следующий год облюбовал Плес и возвращался сюда еще дважды. Поднимаюсь на горку по тропинкам, вьющимся вдоль оврагов, смотрю оттуда на речной простор и все поражаюсь, как тонко уловил художник особенности русской природы, как поэтически передал их.
Надо же быть такому совпадению: сажусь в Плесе на пароход, а там мои знакомцы. Мало того, что Борис Нилович со своими гимназистами, так еще и рыбинский чиновник: спешит по делам в Нижний Новгород. А гимназисты думают добраться до Саратова.
— Ежели времени у вас не так много, советую ездить только «самолетскими»,— посоветовал Гаврила Владимирович — так звали чиновника.
— А «кавказ-меркурьевские»? — спросил Борис Нилович.— Мы же с вами именно на таком.
В разговор вмешались другие пассажиры. У каждой компании волжских судовладельцев нашлись свои поклонники. Одни хвалили общество «По Волге», оно существует с 1843 года. Другие считали, что пароходства «Братья Каменские», «И. Любимов» или «Русь» ничем не хуже. Но, конечно, самые известные компании на Волге «Самолет» и «Кавказ и Меркурий».
Я, признаюсь, давно недоумевал, каким образом в последнем соединились горный хребет и бог торговли. Гаврила Владимирович пояснил. Когда объединялись две компании, каждая хотела, чтобы новое пароходное общество носило ее прежнее название. Спорили, спорили и наконец соединили вместе оба старых названия.
В Кинешму мы пришли ранним утром. Я, пользуясь утренней прохладой, прогулялся по бульвару, совершенно пустынному в этот час. Говорят, здесь прогуливался наш славнейший драматург Александр Николаевич Островский. Он и погребен возле Кинешмы, в своем имении Щелыкове.
Уж не на этом ли бульваре разыгрывались сцены, побудившие драматурга написать «Бесприданницу»? Местные жители уверяют, что так оно и есть, что все лица, выведенные в пьесе, списаны с натуры. А в «Грозе», говорят, у Островского очень многое совпало с истинными происшествиями в семье костромских купцов Клыковых. Когда эту пьесу впервые ставили в Костроме, актеры даже гримировались так, что походили на Клыковых, которых многие зрители знали в лицо.
Я вернулся на пароход перед тем, как капитан дал третий свисток. И тотчас засвистела «Императрица», стоявшая возле пристани «Самолета».
Оба парохода вышли на середину реки. Из трубы «Императрицы» повалил густой дым, и она стала понемногу обгонять нас. Вот уже ее корма поравнялась с нашим носом. Кормовой матрос приподнял конец каната и помахал им в воздухе. Это по волжским понятиям и оскорбление и вызов: вот, мол, вам буксир, не хотите ли прицепиться вместо баржи?
Теперь и наш «кавказ-меркурьевский» пароход задымил на всю Волгу. Через люк было видно, как полуголые кочегары метались у топки. То и дело звякал звонок: капитан с мостика требовал еще поднять пар.
— Ну, будет гонка! — сказал чиновник.— Говорят, на ближней пристани рабочий люд собрался — вот каждый и спешит, чтобы пассажиров себе, значит, захватить.
Наверху все толпились у перил. Наш пароход, сильно накренясь на правый борт, обгонял «Императрицу». Было видно, как ее багровый напитан что-то яростно кричал в переговорную трубу.
Тем временем оба несущихся на всех парах судна вошли в узкий рукав реки. И тут «Императрица» стала как-то бочком, бочком приближаться к нам. Капитан схватился за рукоятку свистка. Но «Императрица» продолжала теснить нас. Ее капитан явно хотел вытолкнуть наше судно на мель или заставить его резко сбавить ход. Пассажиры заволновались:
— Что они делают? Что происходит? Прекратите!
Борта пароходов неумолимо сближались. Побледневший Борис Нилович суетился с гимназистами у спасательной шлюпки. Признаюсь, и мне стало не по себе. Ведь если суда столкнутся, вода хлынет через проломленный борт, взорвутся котлы...
Но узкий рукав кончился, и пароходы вылетели на простор. «Императрица» вырвалась вперед.
— Не поздоровится нашему капитану,—покачал головой Гаврила Владимирович.— Конкурента вперед упустил — за это с него компания взыщет. Тут не зевай: или тебя раздавят, или ты раздавишь.
Страсти постепенно улеглись, о гонке вспоминали уже со смехом. Пассажиры разбрелись по каютам. Мое внимание привлекли трое господ в белых костюмах. Разговаривая по-английски, они важно вышагивали по палубе, куря сигары. Вертлявый молодой переводчик, должно быть, стеснялся перевести иностранцам надпись на табличке: «Покорнейше просят здесь не курить».
— Простите,— обратился я к вертлявому,— господа не говорят по-русски?
— Ни словечка. Это же американцы. Кто желает с ними разговаривать, сам английский учит. Вот у нас в «Казан ойл филд»...
— Извините, как вы сказали?
— Вы что же, впервые слышите? — удивился вертлявый.— Иностранная акционерная компания в Казани. А эти господа из главных владельцев.
— Не могли бы вы спросить, как им нравится на Волге?
— Да чего же спрашивать? У них небоскребы, а тут дикость, необразованность...
— Все же весьма буду вам обязан, ежели переведете мой вопрос.
Вертлявый, пожав плечами, спросил. Высокий американец посмотрел сквозь меня и, невнятно произнеся несколько фраз, отвернулся.
— Господин Джексон говорит, что он думал, что в России нет ничего, кроме пашен, пастбищ, лаптей, самоваров и полуцивилизованных людей. Но на Волге он видит хорошие пароходы и русских предпринимателей, с которыми можно иметь дело.
В этот момент на мостике появился капитан и громко сказал в рупор:
— Господа, покорнейше прошу внимания. Навстречу нам идет «Баян», судно новейшей постройки Сормовского завода, а следом за ним первый на Волге пассажирский винтовой теплоход «Бородино», в прошлом году построенный нашей компанией «Кавказ и Меркурий». Таких компанией заказано двенадцать.
Пассажиры вышли на палубы.
— Красавцы, что и говорить,— услышал я за спиной.— Довелось мне проехать на «Бородино».
Салон карельской березой отделан. Роскошь! И ходок преотличный.
— А что, господа, вон дымки впереди. Никак, Сормовский завод? Значит, Нижний близко.
Ко мне подошел Гаврила Владимирович:
— Американцев видели? Теперь Волгой многие иностранцы интересуются. Говорят, желают получить реку в аренду. Только наши тоже не лыком шиты. Господин Ласский, умнейшая голова, в Петербурге недавно брошюрку выпустил, «Всероссийский водный метрополитен» называется. Мысль же такая: передать все реки одному «Торговому союзу». Чтобы был хозяин на всю Россию. Ему и пристани строить, и глубины на реках соблюдать, и барыши получать. На американский лад, вроде всероссийского синдиката. Ловко придумано, а? Может, американцы-то по этому делу на Волгу и пожаловали? Думают опередить господина Ласского с его проектом?
Я возразил Гавриле Владимировичу: как, мол, сумеют пароходчики на всех реках договориться, когда на Волге каждый старается друг другу ножку подставить?
— Не скажите! — произнес мой собеседник.— Капитал с капиталом всегда договорятся, ежели барыш верный. Вот вы про «Кавказ и Меркурий» давеча спрашивали. А ведь это общество объединяется с компанией «Восточное пароходство». Название будет опять же из начальных букв — «КАМВО». Большую силу в России капитал забирает. Однако и те не дремлют, кто против законного порядка. Вы про конфуз в Нижнем слышали? Да что конфуз — скандал на всю Россию! Опозорился Нижний!
И вот что, понизив голос, рассказал мне всезнающий рыбинец. К трехсотлетию дома Романовых нижегородские богачи построили новое здание банка. Государь император Николай II милостиво соизволил согласиться приехать в Нижний Новгород на открытие «сего храма золотого тельца», как выразился чиновник. Купцы не поскупились: всю дорогу к банку устлали коврами, чтобы царская нога, оборони бог, не ступала по булыжнику. Наняли несколько оркестров, а к вечеру устроили на волжском берегу гуляние в честь царя.
— И вот в разгар, понимаете, праздника... Нет, не осмелюсь повторить...— Мой собеседник оглянулся и зашептал: — Вдруг в самый разгар с Волги кто-то ка-а-ак гаркнет... Страшно сказать: «Долой самодержавие!» Государь император побледнели и сделали так вот ручкой: прекратить, мол, безобразие. А ведь, главное, на реке-то, откуда кричали, ни лодки, ни суденышка. Уж когда второй раз голос раздался, заметили, что человек какой-то из воды вынырнул. Полицейские живо в лодку, налегли на весла. Купеческие приказчики сели в другую — охота была выслужиться перед государем. Но так и не поймали смутьяна. Говорят, из сормовских рабочих. Ну, пойду укладываться. Вы как — на ярмарке нижегородской побывать намереваетесь? Признаюсь, бывал там многократно, но и на сей раз не упущу случая, со всей Руси великой собирает ярмарка товары и произведения промышленности. Быть может, опять встретимся? Как говорится, гора с горой не сходится, а человек с человеком...
Но мы не встретились по причинам, от Гаврилы Владимировича не зависящим. Придется ему и гимназистам ехать по Волге 1913 года без меня: глава и так растянулась, пора поставить точку.
У постели умирающей... До революции в России издавался сатирический журнал «Будильник». Рисунок на обложке одного из номеров был посвящен Волге.
Художник изобразил Волгу умирающей в постели женщиной с распущенными волосами. На одеяле пестрели названия приволжских городов. Возле умирающей рыдали, упав на колени, ее дочери, Кама и Ока. Тут же в глубокой печали застыли Поэзия, История, Торговля.
Журнал пояснял, что значит рисунок. Волга мелеет с каждым годом, ее заносит песками. О ней все реже вспоминают поэты, ее забывают историки, торговцы предпочитают доставлять товары не по обмелевшей реке, а по железным дорогам.
Волгу под Костромой — вброд. Но, может быть, сатирический журнал преувеличивал? Однако вот что сообщал солидный «Иллюстрированный спутник по Волге» о верховьях великой реки: «Там затруднения и печали судоходства доводили до отчаяния: в конце лета между Нижним Новгородом и Рыбинском могли плавать только самые мелкие суда; а еще выше пароходство совершенно прекратилось. Смешно сказать, что в некоторых местах, даже у Ярославля и Костромы, нашу матушку-Волгу переходили вброд».
В 1913 году по Волге ездил учитель Коваленков. Он опубликовал свои впечатления. Капитан парохода «Дворянка», по его словам, не знал минуты покоя, стараясь не посадить судно на мель. «Грустные думы зарождаются при виде массы песков, упорно стремящихся засыпать собою кормилицу русского народа.
— Волга, такой ли заброшенной и беспомощной я тебя стремился видеть!— раздалось восклицание одного из экскурсантов».
«Английское полотно» из Ярославля. Большая Ярославская мануфактура существовала с начала XVIII века. Разрешение на ее открытие дал сам Петр Первый. Ему нужно было парусное полотно для молодого русского флота.
С годами слава ярославских ткачей разнеслась по всей России. Скатерти, салфетки, бельевое полотно из поволжского города охотно покупали на ярмарках.
И вот какая любопытная история произошла дальше. Большие партии ярославского полотна стали приобретать лондонские фирмы. Часть товара они отправляли в Америку, а часть... возвращалась в Россию, но с английским клеймом. И русские богачи, падкие до всего иностранного, платили^за «английское полотно» втрое дороже, чем оно стоило в соседней лавке, но с клеймом Большой Ярославской мануфактуры.
Крепостной скульптор. В Москве на площади имени Пушкина стоит всемирно известный памятник поэту.
Автор этого выдающегося произведения — крепостной крестьянин Александр Опекушин из деревушки Свечкино. Принадлежал он ярославской помещице Ольхиной и в списке ее дворовых значился под № 9.
Это был удивительно талантливый юноша. Обучаясь ремеслу лепщика в Петербурге, он обратил на себя внимание видных скульпторов. Те стали поручать ему заказы, и когда Опекушину исполнился двадцать один год, он выкупил себя у помещицы.

До революции многие города Поволжья страдали от сильных наводнений. Вешние воды каждый год затапливали, например, Нижегородскую ярмарку.
На проект памятника Пушкину было объявлено три конкурса, в которых участвовали лучшие скульпторы России. Победителем всех трех стал Опекушин.
Легкая, как дым, жаркая, как пламя. Свыше двухсот лет назад ярославские крестьяне вывели романовскую породу овец. Им нужны были теплые и легкие овчины. Поедет крестьянин в лес по дрова; пока едет на дровнях, полушубок должен спасать его от мороза. А приехал, выхватил топор из-за пояса и ну махать — тут уж одежда должна быть легкой, не сковывать движений.
У романовской овцы шерсть серая с голубизной. Шерстинки разные: одни тонкие, как бы пуховые — от них тепло; другие покороче, пожестче — эти не дают меху сваливаться, сбиваться в комки.
А почему порода «романовская»? Вывели ее возле волжского города Романова-Борисоглебска, названного в честь угличского князя Романа. Теперь это город Тутаев. Красноармеец Илья Тутаев геройски погиб, сражаясь с белогвардейцами, и его память увековечена в названии родного города.
Романовскую овцу разводят теперь во многих областях Советской России. Ее покупают у нас французские фермеры. Немало романовских овец в Венгрии, Чехословакии, Болгарии. Говорят, во всем мире не найти овчин легче и теплее романовских. Их слава, как видно, переживет и нейлон, и перлон, и многие другие «лоны», из которых делают искусственные меха для шуб.
«Злоба дня». Под таким заголовком дореволюционный журналист Г. П. Демьянов опубликовал заметку, в которой говорилось: «Давно уже возник вопрос о Волге, которая становится иностранным путем сообщения. Река во власти двух иностранцев, Ротшильда и Нобеля, и нефтяного синдиката, который опять они же. Господа эти самые крупные и заметные, но за ними тянется целый ряд относительно мелких капиталистов...
Нужно подумать над вопросом освобождения Волги от иностранцев, и подумать серьезно».
Хотя бурлаков уже не было... В 1913 году о бурлаках на Волге стали забывать. Но рабочему люду, занятому судоходным промыслом, жилось по-прежнему трудно.
На буксирных пароходах и баржах в светлую летнюю пору трудились в одну смену с четырех часов утра до десяти вечера. Жили в трюмах. «Если спуститься в эти помещения, то свежему человеку они покажутся скорее каким-то погребом, пещерой, ямой, но только не жильем»,— писал врач, побывавший на многих волжских судах.
Когда кончалась навигация, матросов и кочегаров увольняли: идите на все четыре стороны, кормитесь до весны, как сумеете.
Хуже всего было грузчикам, которых на Волге называли крючниками. Их подряжали ранней весной. От бурлацких базаров сборища крючников отличались только тем, что людей подряжали не тянуть лямку, а таскать непомерные тяжести. Каждый крючник должен был на своих плечах перетаскивать за день 300—500 пудов груза. Бывали силачи, переносившие до 800 пудов — почти по 13 тонн!
Надолго ли могло хватить человека при такой работе? Редкий грузчик доживал до сорока лет. Иногда вернувшихся с Волги грузчиков нанимали в деревнях пасти скот. Но пастухи из них получались плохие: попробуй побегать за отбившейся от стада коровой на больных, разбитых ногах.
И большинство бывших грузчиков становились нищими, выпрашивающими кусок хлеба.
Во время гонок. На волжском пароходе «Иоанн», принадлежащем купцам братьям Каменским, лопнул котел. Вот описание этой катастрофы. «Половина парохода взлетела на воздух, несколько десятков пассажиров было изувечено, остальные погрузились в Волгу; к счастью, пособил пароход общества «Самолет», которого «Иоанн» хотел обогнать; упавшие в воду пассажиры, у которых еще не были оторваны руки и ноги, были спасены. Братья Каменские целый год служили в церкви панихиды по воспринявшим мученическую кончину на их пароходе».
Дорога в Щелыково. Неподалеку от Кинешмы, на другом берегу Волги, в костромских лесных краях — старый деревянный дом, где один из талантливейших драматургов России, Александр Николаевич Островский, написал около половины пьес.
Он полюбил небогатую усадьбу Щелыково и этой привязанности остался верен до последнего часа. В день первого приезда сюда записал в дневнике: «Что за реки, что за горы, что за леса». И добавил о Кинешемском уезде: «Если бы уезд этот был подле Москвы или Петербурга, он давно бы превратился в бесконечный парк, его бы сравнивали с лучшими местами Швейцарии и Италии...»
Драматург любил тихую речку Куекшу со старой мельницей, часами просиживал там у омута с удочкой, любил спокойное раздолье полей, неторопливые беседы с крестьянами («А какой народ здесь!» — говорил он друзьям). В окрестных местах сохранились предания о древних языческих обычаях, есть там и «Ярилина долина»,— не ею ли навеяны образы «Снегурочки»?
В творчестве Островского мощно прозвучала тема Волги. Критики говорят о его «волжских» пьесах, о том, что он, в сущности, по-настоящему открыл Волгу в русской драматургии. И тут, наверное, стоит вспомнить, что Островский знал Волгу не только возле Костромы и Кинешмы.
Так, в 1856 году он по предложению Морского министерства отправился в длительное путешествие от волжского истока до Нижнего Новгорода, причем занимался изучением «экономических условий жизни и быта приволжского населения». Именно под свежим впечатлением поездки драматург задумал написать несколько пьес, обобщенных названием «Ночи на Волге», и рассказал о своем замысле Некрасову. Полностью этот замысел осуществлен не был, но как ощутимо дыхание Волги в «Грозе», «Воеводе», «Бесприданнице»!
«Много песен слыхал я в родной стороне...» Слова из знаменитой «Дубинушки», песни, рожденной на Волге. У нее много авторов, потому что и «Дубинушек» много. Скорее всего, родилась она в бурлацких артелях. Пели ее, чтобы работа спорилась.

Волжский грузчик-крючник.
Вероятно, впервые «Дубинушку» опубликовал больше ста лет назад корабельный врач-балтиец Богданов. Трудно сказать, какие слова и строки сочинены им, какие он услышал и записал.
Позднее песня не раз переделывалась, дополнялась, изменялась. В ней все сильнее звучали бунтарские, революционные мотивы.
Одним из лучших исполнителей «Дубинушки» был Федор Иванович Шаляпин.
К счастью, сохранилась граммофонная запись песни в его исполнении, и дивный голос певца будет еще долго звучать в эфире.
Русская песня «Во поле березонька стояла», мелодия которой возникает в Четвертой симфонии Чайковского, написана татарским поэтом Нигматом Ибрагимовым, преподавателем гимназии в Казани.
Многие считали народной популярную любимую революционерами песню о Степане Разине «Есть на Волге утес». Впрочем, некоторые видели ее напечатанной за подписью «Н. Вроцкий».
Но это псевдоним. Автором текста и музыки был помощник прокурора, впоследствии генерал-лейтенант, Александр Навроцкий, противник революционных народников, которые распевали его песню.
Не напиши он в молодости «Утес», вряд ли кто вспоминал бы о нем как о литераторе, хотя в его литературном наследстве есть и стихи и пьесы.
Эта глава — как бы послесловие к предыдущей, короткие деловые примечания к дневнику пассажира, «путешествовавшего» по Волге в 1913 году, примечания, сделанные во время вполне реальной поездки по тем же местам шесть с лишним десятилетий спустя.
Начну с Рыбинска.
Конечно, никаких «пробок» на Волге возле города теперь не бывает. Суда без перегрузки идут отсюда глубоководной дорогой в Рыбинское море и дальше.
Не увидишь у набережной и деревянных баржонок. Рыбинск сам строит корабли дальнего плавания. Именно здесь спустили на воду мощнейший на Волге буксир-толкач «Маршал Блюхер». Это, как говорят кораблестроители, головное судно серии. Следом за ним отправился в плавание «Маршал Тухачевский». У новых толкачей мощность четыре тысячи лошадиных сил — почти в два с половиной раза больше, чем у нашего «Клемента Готвальда».
В городе, который свой «Вестник Рыбинской биржи» за неимением печатной машины выпускал у соседей-ярославцев, действует один из наиболее известных в стране заводов полиграфического оборудования. Некоторые центральные газеты в Москве печатают на рыбинских машинах. Их покупают европейские страны, где полиграфическая промышленность была развита уже в прошлом столетии, когда мимо Рыбинска еще тянулись бурлаки.
Рыбинские мастера разъезжают по всему свету, налаживая и пуская в ход свои машины. Устанавливают их в тропических странах — работают отлично, печатают газеты и книги. И на дальнем Севере — отказа нет. Были рыбинские машины испытаны сильным ташкентским землетрясением — устояли, не вышли из строя.
В 1913 году главным грузом, которым «ворочал» Рыбинск, был хлеб Поволжья. И сегодня на рейде Рыбинского порта — грузовые теплоходы с зерном. Его принимают мельничный комбинат и один из крупнейших в стране элеваторов. Но грузчиков, согнутых под тяжестью мешков с мукой, можно найти лишь в одном месте: в музее .на снимках.
Рыбинск, бывшая «бурлацкая столица», строит корабли дальнего плавания.

Выгрузка и погрузка зерна автоматизированы. Его «всасывают» из трюмов с помощью потока воздуха. Центральный пульт управления элеватором знает все о грузе: какова влажность зерна, какой сорт поступает сегодня, что должно идти в размол, а что на хранение. Дежурный диспетчер со своего пульта распоряжается потоками поволжской пшеницы, перемещая их внутри многоэтажной громады. За несколько минут машины выполняют работу, на которую не хватило бы долгого летнего дня всем артелям грузчиков, в разгаре навигации трудившимся на хлебных пристанях дореволюционного Рыбинска.
Кроме завода полиграфических машин и мельничного комбината, в Рыбинске много других предприятий. Но не буду их перечислять. Теперь у нас гораздо труднее найти город, где бы вовсе не было фабрик и заводов. Индустрией кого же удивишь?
А вот о ком хочу упомянуть — о владельце парохода, на котором «путешествовал» в 1913 году.
Вскоре после войны я написал книжку «Великая речная держава». В ней рассказывалось и о том, как Сироткин строил невиданные на Волге баржи. И вдруг — письмо из Югославии, из Белграда. Я глазам своим не поверил: Сироткин! Тот самый.
После революции он уехал за границу, след его пропал надолго. И вот — объявился. Сироткин приводил в письме некоторые подробности о постройке барж, просил, если можно, упомянуть о них в следующем издании книжки.
Летом 1956 года, впервые попав в Белград, я попытался разыскать Сироткина. Оказалось — поздно. Никто не знал даже, где похоронен человек, о котором когда-то говорили, что он в одном кулаке держит всю Волгу, а другой ручищей тянет к себе Северную Двину и еще десяток рек поменьше...
Рыбинск долгие десятилетия слыл «бурлацкой столицей». Надо ли стыдиться такого названия? Быть может, оно задевало когда-то самолюбие рыбинских купцов и судовладельцев. А рабочий человек, а настоящий волгарь, а справедливый историк произносят его и с болью и с гордостью.
Тяжел был труд бурлака. Горько нам вспоминать о людях, запряженных в ярмо. Но своим трудом бурлаки помогли развитию на Волге судоходства, промышленности, торговли. В расшивах, которые тянули они, был хлеб для рабочих людей, кирпич для постройки городов, железо для заводов. Бурлаки заслужили признательность потомков.
В бывшей «бурлацкой столице» у волжского берега — памятник бурлаку.
Неизвестному бурлаку, одному из сотен тысяч, натруженными ногами в зной, в холод, в осеннюю непогоду ходивших по волжским бечевникам.
И сегодня не устарело: «Ярославль-городок — Москвы уголок». Только вот как быть со словом «городок»? Не подходит оно одному из крупнейших городов Поволжья!
А разговор о Ярославле можно, как и в том «путешествии», начать с храмов. Они по-прежнему среди главных достопримечательностей города.
Ярославль — на «Золотом кольце» оживленных шоссе, соединяющих теперь старинные русские города. Десятки тысяч наших и иностранных туристов едут в Загорск, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострому, восхищаясь памятниками зодчества, мастерством художников, многие из которых так и остаются для нас безымянными. Каждый год о городах «Золотого кольца» выходят книги и альбомы на разных языках мира, и одна из них начинается словами: «В драгоценном ожерелье древнерусских городов, опоясавших Москву, Ярославль сияет особенно ярким, неповторимым светом».
Большинство ярославских памятников искусства восстановлено любовно и тщательно с участием крупных историков, архитекторов, художников. Когда ходишь по улицам старой части Ярославля, разглядывая то древний храм, то похожий на боярский терем жилой дом с башенкой, то монастырские замшелые стены, то ворота, защищенные толстым кованым железом,— не покидает тебя чувство гордости предками. Эти талантливые и мастеровитые люди, ценившие красоту, работали вдохновенно, в полную силу, словно зная, что правнуки будут любоваться их творениями.
Да и сегодня любуемся мы дивными фресками церкви Ильи Пророка и других храмов. А вот Демидовский лицей Ярославль не сохранил. Он был разрушен во время белогвардейского мятежа в 1918 году. Утешением может послужить разве то, что стал теперь Ярославль университетским городом, что, кроме университета, есть тут еще несколько учебных и научно-исследовательских институтов.
Я пробовал спрашивать пожилых ярославцев и стариков о господине Корзинкине. На меня смотрели с удивлением. Но его бывшую Большую Ярославскую мануфактуру, конечно, знает в городе каждый. Называется она «Красным Перекопом». Сменили название с тех пор, когда под Перекопом наши войска разбили барона Врангеля.
На этом огромном, обновленном предприятии работала Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт. Впрочем, начинала она на другом ярославском заводе — шинном.

Большая химия Ярославля.
А шинный Ярославлю очень кстати, потому что именно в волжском городе был построен завод СК-1, первым в мире давший для промышленности синтетический каучук.
Это произошло летом 1932 года. В Германии удалось наладить выпуск искусственного каучука шесть лет спустя, а в Соединенных Штатах Америки — лишь в 1942 году, уже во время войны.
Ярославцы всегда слыли умельцами и искусниками. Прежде — в зодчестве, во всяких ремеслах: ведь и бричку для знаменитой русской тройки, описанной Гоголем, топором да долотом смастерил «ярославский расторопный мужик».
Сменилось время, сменились профессии, сменились изделия — расторопность, умение остались. Выпускает, например, Ярославль дизельные моторы — так ведь о них на всю страну слава! Прочны, надежны. Есть небольшие, есть такой мощности, что, пересчитай ее в лошадиные силы, для сотен троек хватит. «Запрягают» эти моторы в минские самосвалы, тянут они тракторы-богатыри, пригодны для целых автопоездов.
Но не только мощностью радуют народ ярославские дизели. Главное в том, что дали им ярославские умельцы долгий век. Мотор как будто тот же, да делают его теперь столь добротно, что служит он вдвое дольше. А это значит: каждый дизель отработает для страны за два.
Когда «Клемент Готвальд» пришел в Кострому, нашим соседом у причала оказался теплоход «Михаил Калинин».
Это было старое судно линии Ярославль — Астрахань. Наши пассажиры критически оглядывали его. На верхней палубе в два слоя были разложены ярославские автомобильные покрышки. А рубка! В ней виднелось большое рулевое колесо для ручного управления.
На мостик вышла женщина в белом берете и синей речной форме. Она склонилась над переговорной трубой, ведущей в машинное отделение. Должно быть, предупредила, чтобы там готовились к отходу.
Едва у нас навели трап, как я, не очень вежливо пробивая себе дорогу, побежал к «Михаилу Калинину» и, нарушая все правила, влетел на капитанский мостик.
Штурман Файруза Фаткуловна Галиева взглянула на меня вопросительно и с явным неодобрением.
— Скажите, ведь ваше судно прежде называлось «Баяном»?
— Да,—подтвердила она.—А что?
Это был старый «Баян», построенный еще при царизме! Он перевозил затем красные войска в годы гражданской войны, а в 1942 году прорвался возле Сталинграда сквозь вражеский огонь.
Нет, штурман Галиева не была на судне во время этого прорыва. Война для нее началась на Днепре.
Она была тогда совсем молоденькой. Из татарской деревни приехала в Казань, работала там в порту, потом окончила речной техникум. С новеньким дипломом отправилась в Белоруссию, где ее назначили на пароход «Марат». Ходил он по Припяти и Днепру. На Днепре его застала война, там он и погиб.
Днепровские водники перебрались из занятых врагом мест на Волгу. А война и к Волге подошла...
— Вы извините, нам сейчас отходить,—закончила штурман Галиева.— А о прорыве под Сталинградом в книжках написано.
Я распрощался и поспешил на берег.
Заглядывать в книги мне не было нужды: сам писал по свежим следам об этом событии. Вот о нем совсем коротко.
Во время обороны Сталинграда фашистам на некоторое время удалось выйти к волжскому берегу. У поселка Акатовка они хотели перерезать Волгу.
Четыре крупных судна, которые до этого были заняты перевозками войск, а для работы на переправах оказались бы слишком уязвимой мишенью, дерзнули прорваться через вражеский заслон. Первым тронулся грузовой теплоход «Таджикия». Его обстреляли. На судне загорелся хлопок, которым были загружены трюмы, но команда потушила пожар.
Тогда пошли на прорыв пассажирские суда. Была туманная августовская ночь. Кроме того, теплоход «Парижская коммуна» поставил дымовую завесу.
Но его заметили. С берега на ломаном русском языке кто-то прокричал в рупор:
— Поворачивай сюда или будете расстреляны! Капитан Галашин покорно подчинился приказу. Теплоход снизил скорость и двинулся к берегу. Прошло несколько минут. И вдруг судно рванулось вперед. Когда начался обстрел, оно было уже далеко. Матросы непрерывно поливали палубы, чтобы снаряды или осколки не подожгли теплоход.
«Михаил Калинин» шел следом. Капитан Богатов рассчитывал только на маневр и скорость. Пока фашисты били вслед уходящей «Парижской коммуне», ему удалось проскочить заслон.
Но третье судно прорыва, теплоход «Иосиф Сталин», загорелось от прямого попадания мин и снарядов. Судно начало тонуть. Подоспевший к месту трагедии баркас «Наблюдатель» подобрал оставшихся в живых речников и пассажиров. Среди них не было капитана Рачкова, погибшего на посту.
...Помахав медленно отходящему от Костромской пристани «Михаилу Калинину», из трубы которого валил густой черный дым, я тут же дал себе слово побывать и на «Парижской коммуне». Это оказалось не так-то просто. Поймал я теплоход на стоянке в Казани много позднее, под осень.

"Парижская коммуна"...

...и «Михаил Калинин» участвовали в прорыве сквозь вражеский заслон под Сталинградом.
В главном пролете судна на видном месте — памятная доска:
«Пассажирский теплоход «Парижская коммуна» в дни жестоких боев с немецко-фашистскими захватчиками за Сталинград под артиллерийским и минометным обстрелом, под ударами немецкой авиации самоотверженно подвозил войска городу-герою.
Слава героическому кораблю и его команде за доблесть и отвагу в боях за нашу Родину!»
Капитаном на «Парижской коммуне» ходил Борис Михайлович Моталин. Участников прорыва на судне уже не Осталось.
— Он у нас из ветеранов, — сказал Борис Михайлович о теплоходе.— В девятьсот четырнадцатом построен на Коломенском заводе. Не так давно шестидесятилетие отпраздновали. Их тогда целую серию выпустили, двенадцать таких вот теплоходов. Первым спустили на воду в девятьсот тринадцатом «Бородино».
— «Бородино»? И что же с ним?
— А ничего. До сих пор плавает. Так и называется. Не переименовывали. Наш же был после постройки «Петроградом». Из всей серии теперь в ходу осталось шесть. Кроме нашего, еще «Семнадцатый год», «Урицкий», «25-й Октябрь», «Память Маркина». В каких только переделках не побывали, а все еще служат. Многие предпочитают наши старые. Вы посмотрите, что за ширина у прогулочных террас! Прежде для пассажиров первое удовольствие было на палубе чаи распивать. Ставили столы на шесть, а то и восемь персон, приносили на стол самовар и блаженствовали.
— Я вижу, пассажиров у вас достаточно?
— Вполне. Не жалуемся,— сказал капитан.— Послужим еще Волге, послужим!
В Ипатьевском монастыре, превращенном теперь в историко-архитектурный музей-заповедник, сохранены палаты бояр Романовых. Только вот что оказалось: не вполне они подлинные.
Однажды приехал в Кострому царь Александр II, походил, посмотрел и нашел, что хоромы вроде бедноваты, не внушают почтения к их былым обитателям. Велел все перестроить, подогнать историю под свое понятие о величии и благолепии. Появились, например, на печах яркие изразцы, один из них изображает винный бочонок с нравоучительной надписью: «Не потребен без рома»...
Ипатьевский монастырь ведет родословную от первого укрепления, семьсот лет назад появившегося при впадении реки Костромы в Волгу. С годами его стены становились выше и мощнее. Все было приспособлено для обороны.
Ну зачем, вы думаете, узкие отверстия в самом низу стен? А для «подошвенного боя». Чтобы бить осаждающих не только сверху, со стен, но и «лупить по ногам», как сказал бойкий мальчишка, добровольный экскурсовод.
А настоящих экскурсоводов в разгар туристского сезона Костроме недостает. Росписью здешние храмы и с ярославскими поспорят. Большой Троицкий собор Ипатьевского монастыря расписан в пять ярусов чудесными фресками. Это сделала артель знаменитого Гурия Никитина.
Девятнадцать человек работали всего один сезон. Никто не утверждал их эскизы, не собирались художественные советы, не созывались заседания по поводу того, какие крылья рисовать ангелам. Пришли отличные мастера своего дела, сработавшаяся артель, где каждый исполнял свой «урок». И, наверное, знали эти художники себе цену, знали, что созданное ими переживет их, и поэтому поименовали себя в память потомству: «Трудившиеся сию святую церковь града Костромы сии суть имена Гурий Никитин, Сила Савин, Василий Осипов»... и далее все остальные.
Гурий Никитин с помощниками расписывал соборы в Московском Кремле, в окружающих Кострому монастырях. Да и к фрескам церкви Ильи Пророка в Ярославле приложила его артель талант и руки. Их работа восхищает теперь сотни тысяч людей. Собор в Костроме они расписали после окончания работ в Ярославле. Это лебединая песня Гурия Никитина.
Весь старый центр Костромы сохранен почти в неприкосновенности, только памятник Ивану Сусанину новый: с гордо поднятой головой, опираясь на посох, стоит на пьедестале русский крестьянин, готовый принять смерть за отчизну.
Центр Костромы застроен в духе русского классицизма. Здесь все гармонично и пропорционально, от парадного здания «присутственных мест» до пожарной каланчи и торговых рядов.
Но Кострома как бы хочет показать, что и костромская деревня талантами не беднее города. Здесь один из наших музеев под открытым небом. Когда плотина Горьковской гидростанции должнабыла поднимать воду, из костромских низин перевезли интересные постройки. Спасибо умным людям, сберегшим старину!
Деревянная церковь, что высится теперь на луговине, за оградой Ипатьевского монастыря, была построена при Иване Грозном да так и простояла до наших дней. Деревянная, целиком деревянная!

Мост через Волгу у Костромы прекрасно «вписался» в пейзаж старинного города.
А показывая другую церковь, экскурсовод приводил некрасовские строки о деде Мазае и зайцах. Как там у поэта о месте действия? «В августе, около «Малых Вежей» с старым Мазаем я бил дупелей». И дальше об этой деревеньке сказано: «Домики в ней на высоких столбах (всю эту местность вода понимает, так что деревня весною всплывает, словно Венеция)».
Церковь в Малых Вежах тоже на сваях, дубовых, корявых, но прочных. На них церковь простояла с начала XVII века, на них же встретит в музейной ограде и XXI век...
Очень мы с вами задержались в костромской старине?
Так ведь стоит она того! Известность ее растет год от года, интерес к ней все усиливается.
А как же промышленная Кострома? Прошу прощения у костромичей, что упомяну лишь: их город — один из крупнейших льноперерабатывающих центров страны; в нем весьма развито также машиностроение: костромичи выпускают экскаваторы и строительные машины, различное оборудование для текстильных фабрик, автоматические линии, детали автомашин и многое другое.
«Клемент Готвальд» покидает Кострому.
Две колоссальные трубы возникают в небе. Над ними — легкий синеватый дымок. Это Костромская тепловая электростанция. Ее мощность — 2 миллиона 400 тысяч киловатт. Больше, чем у самой крупной из волжских гидростанций. Правда, пока совсем немногим больше. Но в десятой пятилетке здесь построят энергетический блок-гигант: 1 миллион 200 тысяч киловатт. А это значит, что Костромская электростанция вдвое превзойдет мощностью все станции, строительство которых намечалось когда-то планом ГОЭЛРО, ленинским планом электрификации России.
Утром мы уже на подходах к Горькому.
Проплывают мимо корпуса «Красного Сормова» — знаменитейшего завода, век с четвертью пополняющего волжский флот.
Над равниной приречных лугов, над водной ширью возникает еще далекий, тонкими штрихами набросанный мост — не простой, двухэтажный, где над поездами бегут автомашины.
Все отчетливее, все явственнее выступает из синевы утренней дымки высокая гора, а на ней крепостные стены. Все это так величественно, так красиво, так мощно!
Вот и речной вокзал, весь в стекле, с башней, похожей на граненый хрустальный бокал.
Пока «Клемент Готвальд» стоял в Горьком, я успел побывать лишь в управлении Волжского пароходства, условиться о нескольких поездках и деловых встречах в ближайшем будущем. Затем вернулся на судно, чтобы продолжить путешествие к Каспию.
После того, как наш рейс закончился возле устья Волги, я остался на реке до конца навигации. Жил по две-три недели в городах, которые пассажиры «Клемента Готвальда» осматривали за два-три часа обзорной экскурсии. Ходил от порта до порта на грузовых судах, бывал на заводах и стройках.
Поэтому мой дальнейший рассказ уже не столько о речном путешествии, сколько о жизни на Волге и о волжанах, о тех, с кем меня связывает давняя дружба, и о тех, с кем встретился впервые.
Мы с вами еще вернемся на палубу теплохода. Но сейчас — наша первая большая остановка: на две главы.
Остановка в волжской столице. И не буду заключать эти слова в кавычки. Именно в Горьком строится значительная часть волжского флота. Отсюда управляют его движением на тысячах километрах речных путей. Тут учат речному делу в училищах и институте. Горьковский порт — крупнейший среди речных портов страны.
Да, Горький — главный город на великой реке, волжская столица!
Котельная Костромской ГРЭС — огромный зал с автоматическими устройствами. Здесь забыли само слово «кочегар»...

Ярославский миллиард. От высокого качества изделий всем большая выгода. Радуется человек, купивший в магазине красивую, добротную вещь. Она служит безотказно, не портит настроение, ее не нужно то и дело таскать в мастерскую для ремонта.
Рады и работники предприятия, выпускающие такую вещь. Если она действительно хороша во всех отношениях, ей присваивают государственный Знак качества.
Вы, наверное, видели его изображение на разных предметах. В пятиграннике— буквы «СССР». Такой пятигранник был на первом вымпеле, который доставила на Луну советская космическая станция. Есть еще в пятиграннике буква «К». Она как бы положена, превращена в подобие уравновешенного коромысла весов. Смысл этого символа — показать, что в изделии высокого качества во всем высокая точность, соразмерность.
Качество очень важно и для международной торговли. Если изделие уступает в качестве одинаковым с ним на десять процентов, цена ему снижается на одну пятую. А за товар, качество которого на десять процентов превышает международный стандарт, платят в полтора раза дороже.
Ярославцы, улучшив изделия своей промышленности, за пять лет получили дополнительно целый миллиард рублей.

Наверное, тут пояснений не требуется...
Знак качества красуется на пятой части продукции с ярославской маркой.
Приволжское Нечерноземье. Значительная часть бассейна Волги относится к Нечерноземной зоне европейской части страны. Это земли у истока Волги и вокруг Рыбинского моря, древняя ярославская и костромская земля, земли вокруг волжской столицы, земли республик марийцев и чувашей... Это также земли, омываемые Окой, часть Прикамья.
Сегодня Нечерноземье — самая
большая стройка страны. Вернее, множество разных строек. Их цель — не только увеличение плодородия нечерноземных полей, местами переувлажненных, местами покрытых обломками валунов, но и общий подъем сельского хозяйства, превращение старых сел и деревень в современные, благоустроенные агрогорода и поселки, удобные для жизни.
Государство щедро шлет полям Нечерноземья машины и удобрения. Из всех республик приехали сюда тысячи добровольцев, чтобы строить осушительные системы, дороги, животноводческие комплексы, клубы, школы. Помогает селу и мощная индустрия Поволжья.
Есть на ярославской земле колхоз «Горшиха». Назван он так потому, что прежде считалось: нет вокруг для земледельца места горше — топкие болота, кочкарники, ни проехать, ни пройти.
Но вот осушили болота, стали сеять на отвоеванной земле клевер, сами вывели стадо молочных коров,— и пошла о «Горшихе» слава. Не удивляет теперь никого асфальт на улицах колхозного поселка, водопроводные колонки, автобусы, многоэтажные дома, электродоильные аппараты на ферме.
Мы привыкли, что ферма — на селе, фирма — в городе. А на ярославской земле создана сельскохозяйственная-фирма «Весна». Она объединяет специализированные хозяйства — молочные, мясные, овощные, где машины вытесняют человеческие мускулы и где труд в поле, на ферме становится все более схожим с работой в заводских цехах.
Летящая дуга бетона. Так называют мост через Волгу, несколько лет назад построенный в Костроме. Мосты сооружаются у нас все изящнее, красивее. Они украшают реки. Большие корабли должны свободно проходить под их арками. В Костроме эти арки подняты на высоту девятиэтажного дома.
Длина Костромского моста — свыше 1200 метров. Любопытно, что его отдельные бетонные блоки... склеены между собой особыми прочнейшими смолами.
Все волжские новые мосты превосходит построенный в Саратове. Он самый большой на реках Европы. Его длина почти три километра, проезжую часть поддерживают тридцать восемь опор.

Карабиха, где творил Некрасов.
«О Волга!.. колыбель моя!» Николай Алексеевич Некрасов родился в местечке Немирове бывшей Подольской губернии. Но «краем родимым» называл Поволжье, и кто не помнит идущих из глубины души строк поэта: «О Волга!.. колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?»
Мальчику было три года, когда осенним тусклым днем его привезли в сельцо Грешнево, стоявшее на бойком тракте между Ярославлем и Костромой. Там мальчик рос возле матери, мягкой, образованной женщины. Друзьями его детства были деревенские ребятишки, к которым он пробирался через лазейку в садовой ограде.
Пожалуй, единственное, что он унаследовал от отца, грубого, жестокого помещика, была любовь к охоте. Уже в детстве Коля умел хорошо стрелять. Позднее охотничьи скитания позволяли поэту ближе узнать народную жизнь. Он присаживался к бурлацкому костру на песчаной косе, затевал разговор с горемыкой, бредущим по лесной тропе, выслушивал взволновавшую крестьян историю об убитых и ограбленных коробейниках.
Когда знаменитый поэт был тяжело болен и знал, что дни его сочтены, к нему пришел старый знакомый, охотник Мироныч. Увидев гостя, Николай Алексеевич обрадовался, заулыбался. А близкие уже давно не видели улыбки на его изможденном лице...
От грешневской усадьбы сохранился лишь флигель, где жили крепостные музыканты. Там теперь музей.
Памятник Некрасову — на волжском бульваре Ярославля. В гимназии этого города поэт учился. Его именем назван район и большой поселок. А главный музей памяти поэта — в Карабихе, под Ярославлем.
Дорога к этой бывшей усадьбе идет мимо гигантского нефтеперерабатывающего завода. Но вблизи нее все бережно сохранено, ничто не тронуто. В Карабихе написаны «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Дедушка», «Орина, мать солдатская»...
В одном из последних стихотворений поэта есть такие строки:
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой.
Долюшка женская... Сколько теплых и горестных строк посвятил Некрасов русской крестьянке! По его словам, «вряд ли труднее сыскать» более тяжкую долю, чем долюшка женская...
В местах, которые хорошо знал поэт, и сегодня трудятся на полях, на фермах много женщин. Не всегда легок их труд, не всегда безмятежны их дни.
Но какие разительные перемены произошли в судьбах правнучек и внучек крестьянок, о которых писал поэт!
Прасковья Малинина начинала жить «в людях»: была батрачкой, нянчила чужих ребятишек. Она вспоминает, как в трудное время в ее большой семье покупали куски черствого хлеба у одной нищенки, которая побиралась под окнами сельских богатеев.
А потом революция, новая жизнь в деревне. В колхозном селе Самети, что неподалеку от Костромы, Малинина стала бригадиром на ферме. Увидели колхозники в ней настоящую хозяйку, преданную общему делу, избрали председателем колхоза.
Много трудных лет прошло с тех пор: настоящий успех в сельском хозяйстве без боя не дается. Но зато и победа в этом бою награждается по достоинству.
Прасковья Андреевна Малинина, председатель колхоза «XII Октябрь» — дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии. Колхоз, которым она руководит, знаменит на всю страну. А сама бывшая батрачка иногда покидает село, чтобы участвовать в решении государственных дел.
Вам известно, конечно, что тысячи выпускников школ Костромской области захотели работать в сельском хозяйстве. Их примеру последовали ребята во многих других местах. Костромичи отличились в первый же год. Они оказались в числе победителей Всероссийского конкурса юных животноводов.
На слете в Костроме Прасковья Андреевна Малинина сказала о ребятах:
— Им мы со спокойной душой доверим и фермы, и тока, и технику, и землю-кормилицу.
Про «фараонку». Возле древнего Городца — плотина гидростанции. Она подняла воды четвертого волжского моря, Горьковского. Около гидростанции возник промышленный город Заволжье. В Городце тоже появились заводы, однако его старая часть оставлена в неприкосновенности.
Город известен передававшимся из поколения в поколение искусством деревянной резьбы. Мастера изощрялись, украшая оконные наличники или ворота. Ходишь по улицам и любуешься. Не улица, а музей.
Прежде самым популярным сюжетом городецких резчиков была «фараонка», речная богиня, полуженщина-полурыба с чешуйчатым туловищем и большим хвостом. В некоторых приморских странах так изображали сладкоголосых сирен, заманивающих путников в морские пучины.
А еще работают в Городце мастера росписи. На деревянных досках изображают цветы, птиц, причудливые яркие узоры. Городецкие расписные изделия нравятся посетителям международных выставок. Они красуются теперь в магазинах сувениров у нас и за рубежом.
Учась у природы. Природа многому может научить того, кто умеет и хочет у нее учиться.
Помещичье именьице под Костромой после революции стало совхозом «Караваево». Однажды туда пришел новый зоотехник, участник гражданской войны, бывший скотник Станислав Иванович Штейман. Стал приглядываться: вокруг луга с сочными травами, воды — вволю, а пасутся среди этой благодати низкорослые коровенки без роду, без племени.
Новый зоотехник начал подбирать коров покрупнее, кормить их так, как требовала наука. Но вот беда: многие телята погибали прежде, чем успевали окрепнуть. Потянет сквозняком — у теленка воспаление легких. Чего только не делали с телятами! Ухаживали словно за малыми детьми, чуть не в пеленки укладывали — ничего не помогало.

Жаль, что этот рисунок не цветной, он не позволяет увидеть, как ярка, красочна городецкая роспись!
И Штейман задумался: а как же вырастает лосенок? Ведь у лосихи никаких телятников — чистое поле да темный лес. Может, и для телят не нужны тепличные условия?
Великая книга природы подсказала ему ответ. Однажды корова, которая должна была принести теленка, исчезла из совхоза. Нашли беглянку недели две спустя. Она жевала сено возле стога, а рядом на слабеньких ножках стоял прямо в снегу новорожденный теленок.
Он выглядел здоровеньким. Привезли его в совхоз: здоров. Проходит неделя, другая: быстро прибавляет в весе, задирает сверстников, выросших в теплом телятнике.
И Штейман решился. Долой телятники-теплицы! Пусть свежий холодный воздух лугов и лесов закаляет молодняк! Закалка, прежде всего — закалка!
Животноводы назвали то, что сделал Штейман, холодным методом воспитания телят. Об этом методе узнал Иван Владимирович Мичурин. Он написал в совхоз ободряющее письмо.
Книги Мичурина были учителями и советчиками Штеймана, а животноводы совхоза и окрестных колхозов, в том числе Прасковья Андреевна Малинина,— его единомышленниками.

Резьба по дереву — старинное искусство мастеров Поволжья,
Крупные коровы, закаленные, стойкие против заболеваний, стали давать невиданные удои. Новую породу скота назвали костромской.
Это было еще до войны. Ныне «Караваево» — учебное хозяйство сельскохозяйственного института «Караваево». В нем живут, работают и преподают почти тридцать Героев Социалистического Труда. Среди преподавателей института — бывшие доярки. Теперь в «Караваеве» преобладают операторы машинного доения, все хозяйство полностью механизировано.
В приволжских городах предпочитаю гостиницу речного вокзала. В Горьком она называется «Волжские огни». Немножко шумно, зато в гуще речной жизни.
На рассвете меня будит радио:
— Граждане пассажиры! От причала номер семь скоростным рейсом до Ярославля отправляется теплоход «Метеор» номер двадцать шесть!
— Внимание! От шестого причала в скоростной рейс до Городца отправляется теплоход «Ракета» номер двести тридцать четыре!
И так весь день:
— ...от причала номер... скоростным рейсом до... «Метеор» номер...
Радио не молчит ни минуты. Кроме судов на подводных крыльях, то подходят, то отходят пассажирские теплоходы. При этом ни одно порядочное судно не покидает причал без музыкального сопровождения.
С темнотой вокзал понемногу затихает. Ночью «Ракеты» и «Метеоры» пока не бегают, а для туристских теплоходов расписание составлено так, чтобы пассажиры могли побродить по волжской столице при свете дня.
С балкона гостиницы виден горьковский рейд. Он не меньше, чем в морском порту: растянулся на два десятка километров. И всюду суда. Одни стоят на якоре, другие маневрируют, третьи подходят к причалам — а этих причалов только возле речного вокзала почти полтора десятка.
Тесно на рейде!
Слушаешь рассказы о крупных аэропортах мира: чуть не каждую минуту взлетает или садится самолет. И не сталкиваются, каждый знает свою взлетно-посадочную полосу, свой воздушный коридор.
На реке, понятно, не то. Какое же может быть сравнение с бешеными скоростями воздушных лайнеров? Да и кто подсчитает, сколько судов маневрируют на том же горьковском рейде?
Однако нашлись люди, подсчитали.
Летом каждый час рейд возле Горького пересекают от пятидесяти до семидесяти судов. Это если считать только пассажирские лайнеры, грузовые теплоходы, танкеры, суда на подводных крыльях — словом, флот солидный. Мелочь с подвесными моторами — не в счет.
Значит, в среднем крупное судно в минуту. Одни идут мимо, другие останавливаются. Но ведь и в небе некоторые самолеты минуют аэропорты. Поищем на воде сравнение со взлетами и посадками.
Пожалуйста. Вот причалы, принимающие и отправляющие «Ракеты», «Метеоры» и теплоходы пригородного сообщения. Здесь подход и отход, сравнимые со взлетом и посадкой, каждые две минуты.
Это в обычные дни. В выходные же, когда десятки тысяч горьковчан устремляются на любимую Волгу, приходится по утрам и под вечер вообще приостанавливать сквозное движение грузовых судов. Танкеры и огромные сухогрузные теплоходы покорно ждут своей очереди.
Да и в остальное время для каждого вида флота на рейде свои дороги. Строго регулируются скорости. Есть места, где запрещен обгон, и места, куда могут заходить лишь суда определенного типа и куда вход «чужакам» решительно воспрещен.
Такова сегодня Волга.
Как бы ни были талантливы и опытны люди, которым поручено управлять ее колоссальным транспортным хозяйством, им нужны очень быстрые, расторопные помощники. Эти помощники — электронно-вычислительные машины.
Вычислительный центр Волжского объединенного пароходства выполняет множество заданий. Его машины не гремят, не грохочут, не заставляют дребезжать оконные стекла. Они не режут металл и не штампуют детали.
В рабочих помещениях вычислительного центра— телетайпы. Быть может, вам приходилось слышать при передаче новостей: «с телетайпной ленты»? Это значит, что новости получены не по телефону или телеграфу, а с помощью особых машин: там, откуда передается сообщение, его печатают, как на машинке, а во всех местах, где это сообщение принимают, аппарат сам воспроизводит текст, без помощи человека. Телетайпы есть во всех редакциях крупных газет. А зачем они вычислительному центру?
Для той же цели. Только здесь телетайпы принимают новости, в которых посторонний человек не поймет ровно ничего, хотя они и не зашифрованы.
Бегут колонки цифр. Они рассказывают, сколько хлеба, руды, нефти, соли отправлено и принято во всех портах, на всех пристанях Волги. И сразу же телетайп переводит эти сообщения на язык, понятный электронно-вычислительным машинам. Непрерывно ползущие ленты испещряются дырочками.
Эти так называемые перфоленты и поступают в электронно-вычислительные машины, которые должны решать задачи, поставленные перед ними человеком. Самая простая: допустим, подсчитать, сколько зерна отправлено сегодня всеми волжскими пристанями.
Много времени для этого не нужно: ведь машина производит десятки тысяч операций и более в секунду.
Есть и сложные задачи, на которые вычислительный центр тратит часы.
— А если поручить это дело счетным работникам? — спросил я.
Трудились бы годы.
В недалеком будущем Волга получит АСУ — автоматизированную систему управления, что еще более облегчит труд тех, кто добивается слаженности действия гигантского транспортного конвейера Волги.

Горький, волжская столица...
Ведь это, если можно так сказать, конвейер со многими неизвестными. Ход заводского конвейера, например, не зависит от ветра или штиля, от дождливой или сухой погоды, от обмелений или разливов, от ранних заморозков или запоздалой весны.
А на Волге и ее притоках? Притом и предвидеть влияние капризов природы можно лишь приблизительно. Синоптикам не всегда удается точный прогноз даже на завтра. Волге же для точного планирования нужен прогноз на всю навигацию, и не для одного какого-либо участка, а для всей площади, в которой она и ее бесчисленные притоки собирают воду.
Площадь же эта, как известно, огромна — около трети Европейской территории нашей страны.
Здесь разные зоны, с разным количеством осадков. Здесь предгорья Урала и полупустыни Прикаспийской низменности, северные влажные леса и сухие заволжские степи.
Для того чтобы составить прогноз вскрытия отдельных участков самой Волги и ее главных притоков, определить характер паводка и предполагаемый уровень вод, приходится анализировать результаты десятков тысяч наблюдений за много лет.
А как пестра, как разнохарактерна работа волгарей! Они перевозят все, от гравия до пианино. Груз берут в разных местах и выгружают тоже в разных. Знаете, сколько их, этих мест, в волжском бассейне? Почти восемнадцать тысяч! Добавьте сюда же и заводы, где суда ремонтируют, добавьте сам волжский путь, за которым нужно неусыпно следить, держа в порядке множество навигационных знаков, углубляя дно.
Однажды на Волгу приехали гости с Миссисипи. Американцы были поражены, узнав, что такая громадина, как транспортная Волга, подчинена одному «хозяину» — пароходству. Разве это возможно?
Волгари напомнили гостям, что Волга во всех отношениях послушна человеческой воле гораздо больше, чем Миссисипи. Там, например, небольшие гидростанции и водохранилища есть только в верховьях. А 1973 год, когда Миссисипи и Миссури, несмотря на защитные дамбы, затопили огромные площади земли, в девяти штатах появились «районы бедствия», тридцать пять тысяч жителей покинули пострадавшие селения, общий ущерб превысил полмиллиарда долларов. Подобные наводнения, естественно, могут спутать все карты, в том числе и перфокарты счетных машин.
Вычислительный центр Волжского объединенного пароходства собирает и обрабатывает огромный объем информаций со всей Волги. Его машины действуют двадцать два часа в сутки. Они успевают за это время заниматься еще и своим подшефным Горьковским портом.
Порт — сосед вычислительного центра. Из окон видна только небольшая его часть. В том месте, где Ока впадает в Волгу, на бетонном откосе причала крупными красными буквами написано: «Стрелка». Там стоят несколько судов и краны разгружают их. Больше ничего из окон не разглядишь.
Но в залах вычислительного центра прекрасно «виден» весь порт и каждый его работник. Здесь подсчитывают, например, что именно сделала за смену любая из соревнующихся бригад. Машина знает, как выполнил сегодня свой план каждый портовик, и даже успевает подсчитать до последней копейки его сегодняшний заработок. Сведения передаются в порт, и там Иванов или Петров легко находят свою фамилию в таблице, вывешенной возле рабочего места.
В «памяти» электронно-вычислительных машин — все, что полезно знать о волжском флоте. Она хранит расстояния между всеми пристанями волжского бассейна. В ней — все самое главное о Большой Волге.
Но душа этой Большой Волги — человек. Машины лишь его верные помощники.
Горьковский порт — крупнейший на наших реках.

Воскресенье. Послеполуденное время. Улицы пусты. Горьковчане в парках, на пляжах, за городом.
А в диспетчерских Волжского пароходства разгар работы, Волга трудится без выходных. Вот из этой комнаты управляют всеми грузовыми теплоходами, действующими на Верхней Волге.
На большом столе перед диспетчером полуразвернут огромный рулон бумаги. Он весь исчерчен тончайшими линиями. Рядом пульт диспетчерской связи. Можно вызвать любой порт, любое судно. А если нажать клавиш, на котором написано «циркуляр», то диспетчера услышат сразу во многих местах. Этот клавиш нажимают, когда надо, например, передать «всем, всем, всем» предупреждение о внезапно надвигающемся шторме.
Я бы, пожалуй, сравнил диспетчера с шахматистом во время сеанса одновременной игры на многих досках. Эти «доски» по всей Волге. И на каждой нужно сделать верный ход.
Вот нажат клавиш:
— Добрый день, это диспетчер Горького. Сколько машин к погрузке у вас на Куйбышев? Двадцать восемь всего? Посылать к вам никого сегодня не буду. «Мичуринск»? Прошел уже, лучше на другом подкинем.
Диспетчер делает пометки в журнале. Просматривает линии графика: что там есть на подходе? Какому судну дать приказ принять груз?
Тем временем — сигнал вызова.
— Диспетчер Горького слушает. Здравствуйте. Пойдете в Куйбышев за углем — и домой. Куда? Нет, там «Грузия».
Над столом диспетчера — таблица, где поименованы все грузовые теплоходы, их скорость, мощность двигателей и прочее. Однако опытный диспетчер и без таблицы все помнит. За каждым названием у него не только грузоподъемность судна, но и знания, опыт, даже характер капитана.
Снова вызов. На этот раз с диспетчером говорит судовая радиостанция.
Да? «Волго-Дон сто тридцать пятый»? Я — Горький, диспетчер, что у вас? Прием. Да, согласован, теперь вас должны ставить к причалу, прием. Вас Городец берет на ремонт, прием. Вставайте, через полчаса на связь выходите с результатами. Счастливо, до связи!
Только занес в журнал запись — вызывает «Волго-Дон-143». «Сто тридцать пятый» был близко, возле Городца, а этот — за сотни километров, на Каме.
— Диспетчер Горького, прием. Понял вас. Вы когда в Мензелинск пришли? Прием. Понял. Другого груза нет. Почему не выполнили план по грузам Минстроя? Прием. Ясно, вызову вас в Котловке в шестнадцать, счастливо, до связи.
В соседней комнате диспетчерская Нижней Волги. Там также рулон, середина которого развернута на столе.
Рулон заполняется всю навигацию. На этом свертке плотной бумаги отражены двести сорок — двести пятьдесят суток рабочей жизни реки и ее грузового флота, капитанские радости и огорчения, досрочные рейсы и непредвиденные задержки.
И все умещается в одном рулоне бумаги, каждый день на определенный отрезок медленно протягиваемой по диспетчерскому столу. Диспетчер наносит на график события своей смены. Линии прочерчиваются карандашами, заточенными остро, словно иголки. Сор от резинок, исправляющих ошибки, тут же сметается особыми мягкими щетками.
Разумеется, график точно рассчитывается заранее. Есть декадный график, есть на каждые сутки. Но еще в старые времена солдаты пели: «Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить».
— Река — она с норовом, с капризами, тут шторм, там туман,— говорит диспетчер.— Всего не предусмотришь. Волга вносит свои поправки, а наше дело — быть всегда готовыми к маневру, быстро решать, как «ввести в график» тех, кто из него выбился.
Во всю стену диспетчерской — карта. Думаете, Волга-матушка? Отнюдь. Средиземное море. Тоже район плавания волжского флота, судов типа «река — море». Карта цветная, морская синь прочерчена красным пунктиром маршрутов.
Кроме Средиземного моря, ходят волгари в Северное, Балтийское, Азовское, Черное и, конечно, в Каспийское. Забот у диспетчеров все больше.
— Средиземное море пока оставим, а вот вам простая задача. Есть у нас линия Ленинград — Таганрог — Ейск — Жданов.— Диспетчер кивает на таблицу над столом.— Видите, теплоходы однотипные, как будто могу послать любой. Но на некоторых у экипажа настоящие морские навыки, на других только втягиваются в морское дело. Должен я это учитывать?
Все суда крупнейшего пароходства Европы — под контролем пяти человек, дежурящих в пяти диспетчерских. В сложных случаях им помогают другие специалисты, но обычно именно дежурные диспетчеры руководят движением на всей Большой Волге.
Сколько же у нас специальностей, о которых мы знаем так мало! И каких интересных специальностей!
Начальник Волжского объединенного пароходства Константин Константинович Коротков тоже прошел в свое время диспетчерскую школу.
Его рабочий кабинет немного напомнил мне пульт управления гидростанцией. Правда, нет больших панелей с красными, оранжевыми, зелеными огоньками, но здесь находятся как бы «ключи» от этих панелей.
Начальник пароходства за считанные секунды, в худшем случае — минуты может «выйти на связь» с любым уголком огромного Волжского бассейна, с Москвой, с крупными предприятиями, отправляющими и принимающими грузы.
— Наша Волга,— говорит начальник пароходства,— усердная труженица. А как вы думали? Сто миллионов тонн груза перевозим каждую навигацию. Кому? Городам, заводам, стройкам. И отметьте себе в блокноте: многое доставляем без перегрузки в судах типа «река — море». Например, так возили из Италии часть оборудования для Волжского автомобильного завода. Брали груз в Генуе, разгружали прямо в Тольятти. А Камский автомобильный? Туда в разгар стройки доставляли за навигацию несколько миллионов тонн. Или вот еще одна стройка десятой пятилетки — Чебоксарский завод промышленных тракторов. И ему Волга помощница!
Но грузы — грузами, однако есть у Волги и другое дело, не менее важное: людей радовать. Для речника Волга с притоками — рабочее место, а для сотен тысяч людей — огромный курорт длиной в тысячи километров. Многие просто не представляют себе отпуска без Волги. Им палуба лайнера лучше санатория. И отдых, и развлечение, и познание родной земли — все вместе.
Ну, а те, кто торопится по служебным или своим делам — речники их называют «деловыми пассажирами»,— те, конечно, пользуются судами на подводных крыльях. Наш завтрашний день — судно, вмещающее полтораста пассажиров и летящее со скоростью до полутораста километров в час. Ждем скоростное судно на воздушной подушке!
Что такое Откос? Слово прозаическое, да и означает оно всего лишь Верхне-Волжскую набережную. Одна набережная внизу, у реки, другая вверху, на горе, в соседстве с Нижегородским кремлем.
Но для горьковчанина Откос — место особое, любимое.
Здесь встречают рассвет после выпускного школьного бала, здесь назначают встречи в памятные годовщины. Приезжие приходят сюда, чтобы полнее ощутить очарование волжской столицы.
С Откоса любуешься слиянием Волги и Оки. Дух захватывает от простора упоительных заречных далей. Кажется, будто паришь над ними в бесшумном, легком полете. Только горные высоты да еще детские сны дарят нам это удивительное ощущение.
Поезжай с Откоса, от кремля по любой из улиц — и пока доберешься до окраин, пройдет час, полтора, а то и два. Громаден первый из поволжских городов-миллионеров! Главный на Волге, он и в Советской России спорит с Новосибирском за третье место — после Москвы и Ленинграда — по числу жителей, по промышленной мощи.
Сегодняшний Горький территорией перерос прежний Нижний Новгород раз в двенадцать. Разработан проект метро, и горьковчане обсуждают, какой должна быть отделка станций. Некоторые думают, что для рабочего города особенно подошла бы черная листовая и нержавеющая сталь. Конечно, ею не следует отделывать какую-то станцию всю целиком, но строгость металла подчеркнула бы характер городской индустрии. Первая очередь метро пройдет от проходной Горьковского автозавода до Московского вокзала.
Волжская столица завораживает гостей. Всматриваешься в памятники, читаешь надписи на мемориальных досках, знакомишься с бесценными сокровищами музеев — и диву даешься: кажется, будто не остался этот город в стороне ни от одного крупного события отечественной истории.
Бродишь по стенам кремля, откуда лилась на врагов кипящая смола, — много осад выдержал Нижний в трудные времена Руси! И ведь где-то здесь, возле этих стен, обратился Кузьма Минин к согражданам с призывом собрать ополчение, идти на выручку Москве, захваченной иноземцами: «Не пожалеем животов наших... дворы свои продадим, жен и детей своих заложим. Дело великое!»
Над белой надгробной плитой Минина среди склоненных знамен — то, с которым другое нижегородское ополчение ушло в 1812 году сражаться против Наполеона. И почти рядом — Вечный огонь в память героев-горьковчан, павших на фронтах Великой Отечественной.
Нижний Новгород — в биографиях Кулибина, Лобачевского, Сеченова, Попова, Докучаева...
Здесь жили, работали, останавливались на перепутье Пушкин, Шевченко, Толстой, Чехов, Бунин, Короленко, Успенский, Мельников-Печерский, Гарин-Михайловский...
Нижний — родина Добролюбова и Свердлова.
Отец Ленина, Илья Николаевич, преподавал в нижегородской гимназии. Владимир Ильич встречался в этом городе с местными марксистами.
Много дорогих имен в истории Нижнего Новгорода — и все же прежде всего это город Горького.
В прошлом веке пароходы приставали примерно там же, где сейчас построен речной вокзал. И однажды здесь причалил пришедший из Астрахани буксирно-пассажирский пароход. По трапу сошла молодая женщина с маленьким сыном Алешей и его бабушкой. Приезжих встретили их родственники Каширины. Все вместе перешли площадь и стали подниматься в гору по довольно крутому Почтовому съезду.
Сотни тысяч людей поднимаются теперь той же дорогой. У входа на Почтовый съезд оставлен старый кирпичный дом. И дальше кое-где сохранились его ровесники, но вообще-то склоны оврага, по которому поднимаешься в гору, расчищены, засажены березками и вязами, а высоко над головой перекинут легкий мост.
Чувствуется, что старину хотели сберечь, да трудно это в центре огромного города. Ведь не музей, всюду люди живут, каково им в столетних особняках? И овраг обступили привычные громады с балконами и лоджиями.
Но как и сто с лишним лет назад, на самом верху Почтового съезда стоит одноэтажный дом с нахлобученной крышей. Перед ним — булыжная мостовая, керосиновый фонарь на столбе, табличка на воротах: «Дом цехового Василия Васильевича Каширина».
Дом принадлежал деду Алеши Пешкова, будущего великого писателя Алексея Максимовича Горького.
«С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутемных комнатах было тесно... двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою...»
Так рассказывал потом Алексей Максимович в повести о своем детстве.
Алеша Пешков родился в Нижнем, но отец и мать его переехали в Астрахань. Там семью постигло страшное горе: заразившись холерой, умер Алешин отец. И вот молодая вдова вместе с трехлетним Алешей и приехавшей к ней в Астрахань бабушкой Акулиной Ивановной вернулись в дом деда, владельца кустарной красильной мастерской.
В этом доме ощущаешь духовную скудость и затхлость жизни провинциального мещанства, «полной свинцовых мерзостей», жизни, отравленной взаимной «враждой всех со всеми». Тот, кто читал повесть «Детство», сразу узнает полати, пузатые самовары, водочные штофы, розги в ведре под рукомойником: дед мочил их, чтобы были гибче и били больнее. У деда набожность уживалась с алчностью и жестокостью.
В домике Каширина посетителям напоминают слова писателя: «Я — свидетель тяжбы старого с новым. Я даю показания на суде истории перед лицом трудовой молодежи, которая мало знает о проклятом прошлом и поэтому нередко слишком плохо ценит настоящее».
Алеша Пешков после раздела семьи Кашириных некоторое время жил с матерью и бабушкой в Сормове. Постоянные драки были одним из немногих развлечений сормовских мальчишек. Когда Алешу не пускали на улицу, он видел в окно, как «из-за крыш черными кукишами торчали в небо трубы завода и густо, кудряво дымили». В холодных комнатах домика постоянно стоял жирный запах заводской гари.

Домик Каширина — музей детства А. М. Горького.

Комната Акулины Ивановны, любимой бабушки Алеши Пешкова.
В воспоминаниях детства, в рассказах Алексея Максимовича есть много примет жизни приволжского города. Школа, где мальчика презирали за то, что он собирает тряпье, помогая обедневшей бабушке как-то сводить концы с концами. Обувной магазин, куда Алешу отдали «в люди» и где он впервые почувствовал тяжесть рабской зависимости от «хозяев жизни». Дом чертежника, у которого Алеша не столько учился, сколько был «мальчиком за кухарку»; этот дом с распластавшимся перед ним грязным оврагом напоминал «гроб для множества людей». Ярмарка, где подросток вместе с разными мастерами подновлял ежегодно затапливаемый в половодье «мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо».
— Меня влекло на Волгу, к музыке трудовой жизни, эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое...— говорил писатель в зрелые годы.
Волга как бы струится с первых страниц повести «Детство». Бухает и дрожит медлительный пароход, уходят назад дивные берега с городами и селами, точно пряничными издали. Мальчик еще мало знает трудные стороны жизни, это для него дни «насыщения красотой».
Алеша Пешков поймет потом другую, трудовую Волгу, плавая две навигации поваренком и посудником на пароходах «Добрый» и «Пермь». Там судовой повар Смурый приохотит мальчика к чтению.
Позднее, в Казани, юноша Пешков, чтобы как-то прокормиться, работал на пристани грузчиком. Так ярко передать героическую поэзию труда, как это сделано в повести «Мои университеты» при описании ночной разгрузки баржи, мог только человек, сам зарабатывавший кусок хлеба в артели волжских крючников.
Уже на склоне лет больной Горький дважды посетил Волгу. Вторая поездка превратилась как бы в прощание с рекой: была осень 1935 года, до кончины писателя оставалось уже немного времени...
Алексей Максимович прошел тогда Волгу от города Горького до Астрахани и обратно на теплоходе «Максим Горький». Шли почти без остановок, минуя большие города, где Горького непременно встречали бы толпы народа. Писатель был болен, ему часто носили в каюту подушки с кислородом. Но Алексей Максимович отмахивался от врачей, говоря, что уже сам волжский воздух для него куда целительнее лекарств.
В обратном рейсе теплоход поднялся вверх по Каме до села Красный Бор, и Алексею Максимовичу рассказали, что здесь в гражданскую войну произошел бой красной флотилии с флотилией белогвардейцев.
...В центре города Горького — большой памятник писателю, а недавно поставлен еще один.
Туда от домика Каширина можно пройти по легкому мосту через лощину.
Бронзовый Алексей Пешков присел на большой камень у края склона к Волге. Он в косоворотке, в тяжелых сапогах, словно покрытых пылью. Оперев руку на трость-посох, глядит не наглядится на Стрелку, на плавное течение вод, на песчаные отмели и луга волжского заречья. Он молод, он словно прощается на время с родным городом, чтобы отправиться в дальнюю дорогу. Мы знаем с его слов: ходил он по Руси не из стремления к бродяжничеству, а подгоняемый желанием видеть, где он живет, что за народ вокруг него.

Кухня в доме, где обычно собиралась вся семья и где дед порол розгами ребят...
И он увидел страну, узнал ее народ. В стороне от камня, на котором сидит молодой странник,— две соединенных воедино стелы, на которых как бы итог долгих жизненных наблюдений великого писателя, дожившего до превращения своей родины в страну социализма. Вот слова, выбитые на них:

Над былыми оврагами город перебросил мосты.
«Моя радость и гордость — новый русский человек, строитель нового государства».
«...Товарищ! Знай и верь, что ты — самый необходимый человек на земле. Делая твое маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир».
Над Волгой неподалеку от памятника — гостиница «Нижегородская». С ее крыши вид, разве что немногим уступающий тому, которым любуешься с Откоса. Вернее, здешняя панорама дополняет, расширяет, продолжает увиденную оттуда.
Прямо внизу мост через Оку. И сколько хватает глаз — огромный город, город рабочий, с фабричными трубами, споднятыми всюду кранами.
За Окой была знаменитая Нижегородская ярмарка, и кажется, как мог город обходиться без моста? А ведь обходился! В 1913 году известный уже читателю городской голова Сироткин напечатал в газете просьбу к нижегородцам — собирать пожертвования на постройку моста. «Можно надеяться,— писал он, — что найдутся добрые люди, пожелающие уподобиться тому перевозчику, который угодил богу, перевозя бесплатно людей через реку».
Однако нижегородские миллионеры угождать богу не спешили. Мост построен уже в советское время — прочно, красиво. Расчет был до будущего столетия. А мост уже стал узким и тесным для бурно растущего города. Пришлось обновлять, расширять, чтобы автомобили могли мчаться через Оку в четыре ряда.
За мостом, в том месте, где прежде среди серых домишек выделялся лишь главный ярмарочный дом,—- новая площадь. Она стала парадной площадью города.
Нет, и тут во всех отношениях не промахнулись в выборе наши предки, заложив крепость и город у слияния двух рек! Сколько в Горьком мест, откуда виды один лучше другого! Тот, что дарит нам площадь Ленина, помогает увидеть город с непривычной точки.
Площадь раскрыта не на Волгу, а на Оку. За рекой по холмистым высотам — старая часть Горького. Старая? Много ли от нее осталось? Разве что Благовещенский монастырь — островок прошлого. Новые кварталы тянутся по высокому берегу далеко-далеко, туда, где строят еще один мост через Оку.
Я часто приезжаю на площадь Ленина. Возле нее лучший в городе книжный магазин, совсем новый, с залом, где читатели встречаются с писателями или спорят о только что вышедших книгах. Меня больше интересуют дореволюционные, о нижегородской старине. Но «улов» мой ничтожен: в городе университет, много высших учебных заведений, интерес к прошлому велик, и старые редкие книги не застаиваются на магазинной полке. Новые, впрочем, тоже.
Приехав однажды в Горький вскоре после того, как площадь была торжественно открыта, я спрашивал прохожих, проверяя свою память:
— Скажите, пожалуйста, что здесь было прежде?
И слышал в ответ:
— Ничего не было.
— Здесь-то? Болото, осока росла.
— Ну, что было? Пустырь, домишки кое-где. Видите, вон там, возле моста, бульдозеры старье крушат? Вот и здесь развалюхи торчали.
Теперь — огромная площадь с памятником Владимиру Ильичу. Отсюда начинается широчайший бульвар Мира. А на его месте что было? «Болото было...»

На пути в волжскую столицу.
В Горьком так: выбирай любое направление и в конце концов непременно окажешься в каком-нибудь индустриальном районе.
Самый старый — Сормовский. Его история началась с середины прошлого столетия, когда был построен завод, давший позднее имя району. Но смотрите, уже и Автозаводский не отнесешь к молодым, появились новые районы, вдвое, втрое моложе его.
Автозавод был заложен в майские дни 1930 года возле пригородной деревни Монастырки, вокруг которой далеко простирались поля да пустоши. Строили его с напором, с энтузиазмом. Сохранился любопытный приказ: «Считать всю краевую комсомольскую организацию с 10 сентября мобилизованной для решающих боев за своевременный пуск автомобильного гиганта». Подняли на штурм всех комсомольцев края!
В начале 1932 года завод был готов.
Теперь это, конечно, вовсе не тот завод, который удивлял мир в те годы. Он обновлен и перестроен почти полностью. А вокруг него такой городской район, что, кажется, перенеси его целиком в другое место, поставь в степи или на речном берегу — и будет он выглядеть как современный крупный индустриальный город едва ли не областного масштаба.
«Нижний — сосед Москве ближний». Поговорка-то верна не только в географическом смысле!
Онегин в Нижнем. Когда Евгений Онегин путешествует по России, он попадает и на знаменитую Нижегородскую ярмарку, которую в те годы называли также Макарьевской или еще проще — Макарием. И вот герой романа на Волге: «пред ним Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим».
В «Евгении Онегине» есть упоминание, что на ярмарку, где торгуют индийским жемчугом и поддельными винами, игрок «привез свои колоды и горсть услужливых костей», чтобы выманивать денежки у простаков, а помещик приехал с дочками-невестами, видимо надеясь найти им женихов среди множества съезжавшихся в Нижний богачей.
В каком году Пушкин увидел всероссийское торжище?
Вот что он пишет жене, Наталье Гончаровой, 2 сентября 1833 года из Нижнего: «Ярманка кончилась. Я ходил по опустелым лавкам. Они сделали на меня впечатление бального разъезда, когда карета Гончаровых уже уехала».
В слове «ярмарка» — не опечатка. В прошлом веке писали «ярманка» и «ярмонка». У Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо» одна глава называется «Сельская ярмонка».
«Прямо к желтому песочку...» Знаменитая ярмарка сначала собиралась не в Нижнем, а под стенами Макарьевского монастыря. Нижегородским купцам это не нравилось. И однажды все лавки в Макарьеве сгорели при загадочных обстоятельствах: пожарные пальцем не шевельнули, чтобы сбить огонь. А тем временем — вот совпадение! — в Нижнем за Окой успели построить новые торговые павильоны...
С 1817 года ярмарка перебралась в Нижний. Она стала одной из достопримечательностей России. Иностранные гости старались обязательно побывать здесь.
Автор замечательной сказки «Алиса в Стране Чудес» Льюис Кэрролл за всю жизнь совершил единственное путешествие. Из Англии он отправился в Россию и после Петербурга и Москвы поехал в Нижний осматривать ярмарку. Он побывал даже в ярмарочном театре, причем нашел, что «актеры играли великолепно, очень мило пели и танцевали».
Торговые обороты ярмарки были колоссальными. Многие сотни судов разгружались возле ярмарочных пристаней. И вот как это выглядело: «Суда пристают прямо к желтому песочку и обрывистой глине... Культурный подъемный кран заменяют прочные хребты крючников, татар и русских».
А что теперь? Во время гражданской войны ярмарка, конечно, закрылась. Потом ее открыли снова, уже как всесоюзную. 1925 год стал для нее рекордным. В Нижний, кроме советских торговых фирм, привезли товары из шести зарубежных стран.
Что же на месте ярмарки сегодня? Как что? Ярмарка! Я сам там был, мед пил, по усам текло и в рот попало...
Медовый напиток пил в киоске «Русский квас», закусывал пирогом, купленным в павильоне «Русские пироги». Зашел в ресторан «Медведь», где у входа стояло потертое медвежье чучело в позе, явно унижающей могучего зверя: его согнули в поклоне перед посетителями и заставили держать поднос с хлебом-солью. Посетители, сидя на деревянных лавках за старинными боярскими столами, жевали шашлыки. Напоминанием о прошлом на прилавке стоял старинный граммофон с огромной трубой.
А как торговля? Ведь ярмарка же! Торговля шла вовсю в главном ярмарочном доме, превращенном в универмаг, и в многочисленных павильонах. Там, где прежде торговали рогожами, лаптями, кожевенным товаром, на прилавках были выставлены электрические утюги, ведра из пластмассы, радиоприемники, а также электрические соковыжималки новейших моделей.
Имени Аркадия Гайдара. В волжской столице — два пароходства. Второе — детское. Но тоже вполне настоящее. У него своя большая пристань на Оке. Вместо вывески, что это причал номер такой-то, крупными буквами написано: «И с той поры на кораблях твои дороги».
У Детского речного пароходства имени Аркадия Гайдара два судна, которые еще не так давно ходили по Волге, перевозя пассажиров.
Пароходству двадцать лет. Первые его воспитанники уже стали капитанами, штурманами, конструкторами, а один бывший юный водник сам преподает в Институте инженеров водного транспорта.
Две зимы ребята изучают устройство речных судов, речную лоцию, основы судовождения, правила плавания и многое другое. Конечно, в свободное от школьных занятий время. Тех, кто плохо учится, в детское пароходство не принимают.
А летом ребята уходят в плавание. Они получают форменную одежду речников, живут на судне, работают матросами, ухаживают за машиной, несут вахту.
Не все привыкают к речному делу. Ну что же, ребят никто насильно в пароходстве не держит. Зато тем, кому речная жизнь пришлась по душе, гораздо легче учиться дальше в речных училищах и институтах водного транспорта.
Пуговица для Форда. Когда в 1975 году страна отмечала сорокалетие стахановского движения, горьковчане особо чествовали своего земляка, ветерана автозавода, кузнеца Александра Харитоновича Бусыгина.
Выступая в цехах, он рассказывал, как четыре десятилетия назад ему удалось отковать за смену более тысячи коленчатых валов вместо шестисот семидесяти пяти. А шестьсот семьдесят пять давали американские кузнецы, работавшие на автомобильных заводах Генри Форда-старшего.
И вот что случилось дальше. Бусыгину дали путевку на курорт в Гагру. Там его разыскала группа американцев. Стали расспрашивать, фотографировать.
Вдруг один из гостей схватил цепкими пальцами пуговицу бусыгинского пиджака и вырвал ее, что называется, «чуть не с мясом». Бусыгин сначала оторопел, потом рассердился.
А американец хлопнул его по плечу: «Я приеду к Форду и скажу ему: вот пуговица Бусыгина. Того самого, знаменитого...»
В семьдесят восемь стран. Американцы удивлялись рекорду Бусыгина, но утверждали, что завод в целом едва ли станет нормально действующим предприятием.
Сколько было в свое время подобных пророчеств! О них давно забыли на Горьковском автозаводе, который за годы своего существования выпустил свыше восьмидесяти моделей автомашин, причем наиболее удачные из них оказались на уровне лучших мировых образцов.
Десятую пятилетку наследники Бусыгина начали соревнованием под девизом: «Ни одного отстающего рядом!» Сам добивайся успеха, помоги подтянуться соседу — ведь в поточном производстве все взаимосвязано, перебой в одном месте отзовется на других.
Филиалы автозавода не только в Горьковской области, но и на Украине, в Мордовии, в Таджикистане. Они входят в мощнейшее производственное объединение «ГАЗ», разросшееся вокруг основного предприятия.
Самому заводу-гиганту при реконструкции добавили больше десятка новых цехов — и каких! Под крышей одного из них можно было бы разместить сорок футбольных полей.
Заводские конвейеры по протяженности сравнялись с Московской кольцевой дорогой. На этих конвейерах рождаются грузовики, «Волги», «Чайки». Часть машин идет на экспорт. Их покупают у нас 78 стран.
Горьковчане сотрудничают с автомобилестроителями братских социалистических государств. На автомобильный завод «Мадара» в болгарском городе Шумене они отправляют полные комплекты для сборки грузовиков. «Мадара» присылает на Волгу запасные части. Такое разделение труда выгодно обоим предприятиям.
Надо ли говорить, что горьковчане радушно встречали своих болгарских товарищей, приезжавших на стажировку, помогали «Мадаре» наладить сборку автомобилей?
В капиталистическом мире предприятия разных стран — ожесточенные конкуренты. В мире социализма такие предприятия дружат, обмениваются опытом, радуются успехам друг друга.
В Городке — по-городскому. В нечерноземной Горьковской области тоже перестраивают жизнь села.
Тринадцать деревень и деревушек колхоза имени Ленина построили Городок, свою центральную усадьбу. Там кирпичные дома на одну семью, часть домов с двухэтажными квартирами. Есть и коттеджи, в которых по четыре трехкомнатных квартиры. Всюду центральное отопление, газовые плиты, ванны.
Возле домов — садики и приусадебные участки.
В местном Дворце культуры такая сцена, что на ней выступала гастрольная труппа Горьковского театра оперы и балета. И школьники в Городке не обижены: для них устраиваются автобусные экскурсии не только в Горький, но и в Москву, в Третьяковскую галерею.
Неподалеку от Городка — животноводческий комплекс для двух с половиной тысяч коров. На этой фабрике молока в числе прочего используются специальные телевизионные установки и различные автоматические устройства.
Страшная чаруса. Разные леса в Поволжье. Есть и такие, где даже бывалый таежник-сибиряк руками разведет: ну и чащоба!
Поднимаешься над ними на вертолете — конца-краю не видно зеленоватосиним лесным полянам. Только серебряные нити речек да ручьев вплетены в этот пышный ковер.
С воздуха — ковер, но опуститесь-ка на землю, сверните с дороги, по которой ходят машины в ближайшее лесопромышленное хозяйство, и через час-другой окажетесь в местах, где словно не ступала еще нога туриста или охотника.
Такие леса сохранились в Горьковской области. Есть там и «мшавы», моховые кочковатые болота. С опаской смотришь на «окно»: издали похоже на лужу, однако лужа эта — лишь отверстие в слое торфа и корневищ растений, прикрывающих глубокое озеро.
Больше всего надо остерегаться «чарусы». Может быть, название происходит от слова «чары»?
Неопытного человека и в самом деле очарует полянка с яркой зеленью и цветами. Однако будь осторожен, турист! Прежде чем ступить, попробуй палкой. Если не встретит она сопротивления — прочь от этого места.
Вот как предостерегал путника Мельников-Печерский: «Пропасть ему без покаяния, схоронить себя без гроба, без савана, если вступит он на эту заколдованную поляну». Изумрудная чаруса с ее благоухающими цветами засосет, утопит несчастного.
Иногда думают, что леса в Поволжье поредели за последние десятилетия. Это не так. Тот же Мельников-Печерский писал: «По иным местам таково стало безлесно, что ни прута, ни осинки, ни барабанной палки; такая голь, что кнутовища вырезать негде, парнишку нечем посечь».

Нижегородский кремль, крепость XVI века, по протяженности стен лишь немногим уступает московскому.
А такой знаток и ценитель природы, как Аксаков, предупреждал свыше ста лет назад: «Мы богаты лесами, но богатство вводит нас в мотовство, а с ним недалеко и до бедности».
По Оке. Горький — главный город не только на Волге, но и на Оке: он далеко вытянулся вдоль берегов каждой из рек.
От истоков, из широколиственных лесов Средне-Русской возвышенности, Ока проходит до встречи с Волгой полторы тысячи километров. Проходит спокойно, нигде не торопится, не шумит на перекатах. По-настоящему большой водной дорогой она становится после впадения Москвы-реки.
На Москве-реке долго обходились шлюзами построенной сто лет назад Москворецкой системы. Когда их заменили новыми, столица подключилась через Оку к Волге вторым глубоководным путем, разгрузившим канал имени Москвы.
Пассажиры маршрута «Московская кругосветка» путешествуют по кольцу Москва — Ока — Горький — Ярославль — Рыбинск — канал имени Москвы — Москва. Две реки сразу! И притом одна оживленнейшая, магистральная, другая более «домашняя», «уютная», сохранившая очарование мало потревоженной человеком природы.
Ока богата интересными городами. В верховьях — Орел, Калуга, Кашира, Таруса. Но пассажир «кругосветки» их не видит. На его пути — Дзержинск, Павлово, Муром, Касимов, Рязань.
Это значительные промышленные города. Молод из них только Дзержинск. Касимов почти ровесник Москвы. Возникновение Мурома теряется в дали времен. X век он встретил важным торговым центром на водных путях, связывающих Русь с Востоком: археологи находят при раскопках арабские монеты, отчеканенные едва не тысячелетие назад.
А Илья Муромец — он не из Мурома? Нет, скажут вам, богатырь — крестьянский сын родом из села Карачарова, что под Муромом. Не стоит требовать неопровержимых доказательств: если не сам богатырь, то былины о нем вполне могли родиться на этой земле, где русские воины схватывались в несчетных жестоких сечах с захватчиками.
Ока — второй по длине и значению волжский приток. Ее почитатели охотно цитируют Сергея Есенина: «Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий...»
Рязанские раздолья — родина поэта. В приокском селе Константинове бережно сохраняется изба крестьянской семьи Есениных.
На Оке, в селе Ижевском, родился и «отец космонавтики» Константин Эдуардович Циолковский.
Детство его было тяжелым. В девять лет, после скарлатины,— почти полная глухота. До недавнего времени полагали: болезнь вынудила мальчика бросить школу. Однако теперь найдены документы, свидетельствующие, что Циолковский не один год учился в Вятской гимназии. Затем он стал заниматься самостоятельно. В шестнадцать лет перебрался в Москву, где часто питался одним черным хлебом.
Одав экзамен на звание учителя, Константин Эдуардович преподавал арифметику, физику, геометрию. Калуга, где скромный учитель заложил основы теории межпланетных сообщений, благодаря ему известна всему миру.
На Оке, в Рязани, родился другой наш великий ученый — Иван Петрович Павлов. Он учился в рязанской гимназии, среди учеников которой был и уроженец Рязанской губернии Иван Владимирович Мичурин.
Еду на «Красное Сормово», на знаменитый завод, недавно отметивший свое 125-летие.
Первый раз я побывал у сормовичей, когда там праздновали его столетие.
Был июль 1949 года. С тополей, росших вокруг здания заводоуправления, летел пух. В густой листве перекликались грачи. Не верилось, что за проходной, на заводском дворе,— цеха огромного предприятия.
Столетие завода праздновал весь город. На улицах вывесили флаги. Гостей водили к старой стене, внешне ничем не замечательной. Но когда вам говорили, что она осталась от механического цеха, построенного к пуску завода в 1849 году, вы видели ее совсем другими глазами.
К столетию «Красное Сормово» наградили орденом Ленина. То был четвертый орден завода. Ранее заводу вручили орден Отечественной войны I степени. В Горьком знали, за что именно он получен. Однако считалось еще преждевременным много говорить о заслугах сормовичей в военные годы.
На торжествах нам сказали, что теперь «Красное Сормово» строит буксирные суда в десять раз быстрее, чем до войны. Мы приехали в Горький скорым поездом, который вел новый локомотив, где на кабине машиниста красовались крупные буквы «СУ» — «Сормовский усиленный».
Высунувшись из окна на поворотах, любо было смотреть, как лихо несся впереди этот красавец, с высокими, ярко-красными колесами, как споро и энергично работали шатуны, будто сгибаемые в локте мускулистые руки. Сегодняшние электровозы куда мощнее, внушительнее, но нет в них того зрительного ощущения легкости, стремительности, которое было у сормовских локомотивов.
Сормовские буксиры уже тогда знала не только Волга. Их надежность осенью того же юбилейного года была испытана в необычных условиях. Флотилия сормовских теплоходов ушла с Волги по Мариинской системе и Беломорско-Балтийскому каналу в Белое море, а оттуда через льды полярных морей к устьям Оби и Енисея.
Где они теперь, сормовские буксиры тех лет? Волгари когда-то прозвали их «музыкантами». Не за особую музыкальность гудков, а за мощное радиооборудование, позволявшее оглашать и Волгу и берега популярной «Сормовской лирической». Эту песню, кстати, поют в Горьком до сих пор. Но «музыкантов» на Волге встретишь редко. Уступили место более мощным, а сами ушли работать на притоки.
Не прошло после юбилея и десяти лет, как прогремело «Красное Сормово» судами на подводных крыльях. А дальше — корабли типа «река — море», морские паромы для перевозки целых железнодорожных составов через Каспийское море между Азербайджаном и Туркменистаном. Да и мало ли еще чем одарили сормовичи наши моря и реки.
...Еду на «Красное Сормово». На завод, недавно отметивший стодвадцатипятилетие.
Сел в автобус у речного вокзала. Путь не близок. За мостом через Оку потоки машин разделяются. Один из самых густых --- в Сормово.
Автобус летит мимо кварталов, где еще сохранились старые домики заречной слободы. Они даже сильнее бросаются в глаза рядом с Дворцами культуры, универмагами, стеклянными кафе, корпусами на сотни квартир.
Приехал в Сормово — туда, где заканчивается застройка проспекта Кораблестроителей, где возле озера, словно по волшебству, вырос целый городок. Да ведь зря написал «по волшебству». Какое уж там волшебство, когда оно у нас на каждом шагу!
Прежде чем пойти к заводской проходной, без спешки брожу по знакомым улицам старого сормовского центра. Вот и четырехэтажный кирпичный дом с необычным названием: «Школа баррикад». Здесь в декабре 1905 года был центр вооруженного восстания сормовичей. Тут они сражались на баррикадах за рабочее дело, за будущее.
История любого завода неотделима от борьбы, труда, надежд, судеб поколений рабочего класса.
«Красное Сормово» — из старейших наших заводов. Его история по-своему отразила и долгую борьбу пролетариата России, закончившуюся великой победой в Октябре, и путь страны социализма за шесть героических десятилетий.
Алексей Максимович Горький, описывая старое Сормово, рассказывал, как по утрам над рабочей слободкой в дымном воздухе ревел фабричный гудок и, послушные его зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, «точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы».
Бараки и домишки тесно стояли вдоль немощеных, грязных улиц. Работали люди много, питались кое-как: на еду не хватало денег, заработки были маленькие. «Сормовска Больша дорога вся слезами залита»,— жаловалась одна из унылых заводских песен.
Бороться за лучшую долю? Так ведь бесполезно: за богачей и полиция, и войска, и жандармы. С богатыми — сам царь. И бог — за богатых, бедным велит только терпеть.
Но были среди рабочих смелые люди, борющиеся за справедливость. В конце семидесятых годов сормовичи бунтовали против понижения расценок, против произвола заводского начальства. Зачинщиков арестовали, тех, кто их поддерживал, вышвырнули с завода.
Однако в начале восьмидесятых годов новая забастовка напугала городские власти. Рабочие пришли со своими требованиями к дому губернатора. Это было уже серьезно!
Революционеров бросали в тюрьмы, ссылали в дикие, малонаселенные края. Полиция хватала одних — появлялись другие. Выли среди них и свои, сормовские рабочие, которые выросли у всех на глазах, работали, как все, бедствовали, как все.
Петр Заломов жил с матерью в той самой слободке, которую описал Горький. Работал он слесарем. Вступив в подпольный рабочий кружок, Заломов настаивал: надо делом доказать, что среди сормовичей есть люди, которые не боятся ни жандармов, ни солдат, ни царя.
Приближалась весна 1902 года. Заломов предложил в первомайские дни выйти на улицы с красными знаменами. Конечно, жандармы набросятся на демонстрантов. За дерзость придется расплачиваться: царские законы пощады не знают. Но когда тысячи сормовских рабочих увидят людей, готовых пойти за правое дело даже на смерть, место погибших или сосланных займут новые борцы. Там, где был один, встанут трое, пятеро. Важно начать борьбу.
— На главном знамени мы напишем: «Долой самодержавие, да здравствует политическая свобода!» — сказал Заломов.
— А кто понесет такое знамя? — спросили его.— Ведь за это могут и повесить.
— Могут,—спокойно согласился Заломов.— Я понесу знамя.
Полицейские узнали от своего шпика, что в Сормове что-то готовится. Жандармы обыскивали всех подозрительных. Они разнюхали, что революционеры собираются разбрасывать листовки «против царя».
Петр Заломов и его товарищи были у полиции на примете. А если их схватят до демонстрации, пропадет все дело. И Заломов попросил о помощи свою мать Анну Кирилловну.
Странно переплетаются порой человеческие пути и судьбы! Анна Кирилловна Заломова приходилась дальней родственницей семье Кашириных и знала людей, о которых великий писатель рассказал позднее в повести «Детство». Она дожила до открытия музея в стареньком домике, была одной из первых его посетительниц и, переступив порог, воскликнула: «Каширины-то словно только что вышли отсюда!»
В те далекие годы, когда Петр Заломов вступил на революционный путь, Анна Кирилловна и боялась за сына, и сочувствовала его делу.
Она уже возила однажды тюк с листовками в другой город. Нарочно села в вагоне рядом с жандармом и всю дорогу разговаривала с ним. Тюк лежал под лавкой, жандарм задевал его ногой...
Сын не таил от матери, какой опасности она подвергается.
— А если поймают, пытать не будут? — спрашивала Анна Кирилловна. — Не вынесу я пыток...
— Нет,— ответил ей сын,— пытать не станут, ты старуха. Подержат в тюрьме и сошлют в Сибирь. Самое большее, что могут сделать,— это повесить. Не смею я скрыть от тебя правды.
— Смерти я не боюсь,— сказала Анна Кирилловна.—Лишь бы не пытали.
И незадолго до демонстрации она привезла листовки в ведрах, где сверху была положена для маскировки кислая капуста. А знамена, которые из предосторожности шили не в слободке, а в городе, Анна Кирилловна, обмотав вокруг себя, пронесла под пальто.
День Первого мая был хмурым, дождливым, и друзья Заломова опасались, что народ не выйдет на демонстрацию. Однако погода постепенно улучшилась. Сотни рабочих уже с утра не пошли на завод, а после обеда цеха стали покидать и те, кто колебался. Ближе к вечеру на главной улице поселка собралось несколько тысяч человек. Толпа волновалась, все чувствовали, что назревают важные события.
Но вот люди расступились, давая дорогу небольшой группе. Это были сормовские партийцы. Они шли плечом к плечу, выкрикивая:
— Долой царя! Да здравствует свобода!
Полицейские и стражники бросились было на смельчаков. Но толпа рабочих не дала их в обиду. В воздухе засвистели камни, комья грязи.
Между тем в Сормово были вызваны войска. Две роты торопливо сгружались с пароходов. А рабочие не расходились.
Примчались мальчишки:
— Дяденьки, дяденьки! Там солдаты! Много, с ружьями! Сюда идут!
Вот тогда-то Петр Заломов и велел развернуть знамена. Именно в тот момент, когда это было опаснее всего.
Петр Заломов высоко поднял знамя. Он сказал своим товарищам:
— Я один пойду навстречу солдатам, чтобы они подняли меня на штыки на глазах у всех рабочих. А вы, когда солдаты будут близко, спрячьте свои знамена и сами скройтесь в толпе. Вам продолжать общее наше дело!
Раздалась зловещая барабанная дробь. Из ближайшего переулка показалась рота солдат.
Офицер скомандовал:
— Ружья на руку! Бегом марш!
Солдаты, выставив вперед штыки, побежали к ручью, разлившемуся после дождя. Толпа попятилась. По другую сторону ручья осталась лишь горстка храбрецов.
И тут Заломов прыгнул через ручей навстречу солдатам. Бесстрашно пошел один, без товарищей, прямо на штыки.
Ошеломленные солдаты замедлили бег, потом остановились. Заломов подошел к ним вплотную. Первым опомнился офицер, он с руганью вырвал знамя, приказал солдатам бить безоружного...
Пока Заломова увозили на пароходе в нижегородскую тюрьму, пока его истязали и допрашивали, пока готовились судить, весть о демонстрации в Сормове облетела всю Россию, проникла за границу. Мужество Заломова произвело сильное впечатление на рабочих, забастовки и волнения на Сормовском заводе продолжались. Полиция рыскала по слободке, шарила в домах, арестовывала участников демонстрации.
Заломов и пятеро его товарищей предстали перед царскими судьями. На суде бесстрашный революционер произнес речь.
Он начал с рассказа о своем детстве. О том, как его отец работал литейщиком на заводе, уходя на работу с утренней звездой и возвращаясь с вечерней. Мальчику было семь лет, когда отец умер, отравившись на заводе ядовитыми парами. Семья осталась без кормильца, дедушка собирал милостыню. Дети ходили босыми, в одних рубашонках, ели заплесневевшие корки, отковыривали остатки каши, присохшей к стенке горшка.
А потом подросток пошел на завод, трудился в цехе четырнадцать часов в дневные и ночные смены, в грязи, в тесноте, выполняя ту же работу, что и взрослые. Он возвращался с завода ночью, а в четыре часа утра мать уже будила его...
— Рабочие, создавая богатства и защищая своей грудью общество от внешних врагов, все свои силы отдают государству, но им не дано никаких прав,— продолжал Заломов.— Самодержавие является врагом русского народа!
Суд приговорил Заломова и пятерых его товарищей к пожизненной ссылке в отдаленные места Сибири.
Заломов оказался на берегу реки Енисея, в селе Маклаково. Но его не забыли там. Он получил деньги на побег. И в конце зимы, когда смягчились морозы, Заломов исчез из-под надзора.
Он тайком пробрался на Волгу, оттуда в Киев, затем в Петербург. Пригородный поезд доставил его однажды в дачную местность. Из предосторожности Заломов покинул вагон не на той станции, которая была ему нужна, и долго шел через сырой лес.
На даче его встретил высокий человек, которого уже тогда знала вся Россия. Гость и хозяин крепко обнялись. На глазах хозяина появились слезы радости и волнения.
Заломов, тоже взволнованный до глубины души, принялся благодарить Алексея Максимовича Горького за помощь во время суда, за посылку продуктов в тюрьму, где побои и сырая камера так подорвали здоровье узника, что он харкал кровью, наконец, за пересылку денег в Сибирь. А Горький только смущенно отмахивался, слушая слова благодарности.
Заломов прожил у Алексея Максимовича две недели, рассказывая писателю о своей жизни. Тот делал пометки в записной книжке. Обо всем расспрашивал, все записывал: и про мать Анну Кирилловну, и про товарищей по подпольному кружку, и, конечно, особенно подробно о демонстрации.
Речь Павла Власова на суде. Иллюстрация художников Кукрыниксов к повести Горького «Мать».


И еще иллюстрация к той же повести: мать Павла разбрасывает прокламации на вокзале.
А спустя некоторое время появился роман Горького «Мать». Его перевели на многие языки. Им зачитывались рабочие во всем мире. Те, кто слышал о событиях в Сормове, сразу узнали в главном герое романа Павле Власове сормовича Петра Заломова. А мать Павла, Пелагея Ниловна, походила на Анну Кирилловну. Но, конечно, писатель не просто рассказал о событиях в Сормове: он дал верную картину борьбы всех русских рабочих-революционеров.
Владимир Ильич Ленин, прочитав роман, назвал его очень своевременной книгой.
— Книга — нужная,— сказал он Горькому,— много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.
А что же герой первомайской демонстрации сормовичей?
И после выхода романа Заломов нисколько не возгордился. Оставшись рядовым борцом революции, в 1905 году сражался вместе с московскими рабочими на баррикадах Красной Пресни. Когда здоровье его с годами сильно ухудшилось, он поселился в маленьком городке Судже недалеко от Курска.
Там Заломов прожил свыше трех десятилетий. Некоторые жители городка, где, кажется, все знали друг друга в лицо, даже не подозревали, что за человек живет в Гончарной слободе. Слышали, конечно, что он — коммунист, что в гражданскую войну его, как и других местных большевиков, белогвардейцы хотели повесить, да товарищи отбили, напав на тюрьму. Знали и то, что он помог создать первый возле Суджи колхоз «Красный Октябрь», всегда охотно участвовал во всех хороших и полезных делах. Но никогда Заломов не хвалился былыми заслугами, никогда не хвастал, что близко знал великого Горького.
На склоне жизни Петр Андреевич часто вспоминал молодость, тот майский день, когда он со знаменем шел на солдатские штыки:
— Это был высший момент счастья в моей жизни, и только Октябрьская революция затмила его.
Сормович Петр Заломов, известный сотням миллионов читателей под именем Павла Власова, считал, что наивысшее счастье — в борьбе. В одном из последних писем старому другу он писал:
«Если бы мне дали возможность заснуть на сто лет и проснуться при полной победе коммунизма во всем мире, то я бы от этого отказался, потому что борьба за коммунизм для нас, старых подпольщиков, ценнее, чем коммунизм, упавший с неба, без всяких наших усилий».
Тихон Григорьевич Третьяков умер на сто первом году жизни.
Он лишний раз оправдал истину: лентяи редко доживают до глубокой старости, трудолюбивые, деятельные люди живут дольше. Таких трудолюбивых, как Тихон Григорьевич, даже среди сормовичей поискать надо было.
Последний раз я встретился с Тихоном Григорьевичем за несколько лет до его смерти, когда вместе с режиссером Анатолием Александровичем Волошиным мы работали над документальным фильмом о Волге. Тогда же записали на магнитофонную ленту его рассказ о рабочей жизни и о заводе.
Тихон Григорьевич жил на одной из тихих улиц Сормовского района. Называлась она странно: Обрубная улица. Дом стоял в саду — деревянный дом русского мастерового человека, удобный и просторный.
Во дворе — колодец. Если не ошибаюсь, колодец сохраняли по старинке, считая, что вода в нем особенно хороша для чая, до которого Тихон Григорьевич был большим охотником.
Говорил Тихон Григорьевич медленно, с достоинством, взвешивая слова. Временами он прерывал речь, причем не было заметно, чтобы он напрягался, что-то вспоминая. Нет, скорее он как бы погружался, уходил в прошлое, не обращая внимания на собеседника. Он замолкал, а узловатые его руки, изуродованные еще в молодые годы, когда пальцы попали в машину, что-то передвигали на столе. Что-то невидимое, воображаемое, будто делали какую-то важную и сложную работу.
— Третьяковы, род наш, среди волгарей — из коренных коренной, да и среди сормовичей — тоже. Это я не из хвастовства. Родовитостью дворяне хвастали, а у рабочего люда хорошо, если кто хотя бы деда помнил. Умирали люди рано, но дел успевали сделать много. За все брались куска хлеба ради. Да и бродили по Руси, помирали в чужих местах бесследно. А у нас, Третьяковых, получилось так, что не мы на Сормовский завод пришли, а завод к нам. Здесь, в этой местности, и бедовали еще до завода. Хлебопашествовали, бурлачили, ремеслом всяким промышляли. И по той причине, что корни наши оставались в здешней земле, знал я и о деде, и о прадеде, и даже о прапрадеде. Прапрадеда звали Максимом, по батюшке Ефимовичем. А спрошу вас теперь — как вашего прапрадеда имя-отчество? Запамятовали? А может, у вас к этому и интереса не было?
Пристыдил меня Тихон Григорьевич. Дедушку я помнил плохо, по его отчеству мог назвать имя прадеда. Но прадедово отчество... И тут же мелькнуло у меня, что не знаю я, чем мой прадед был занят в жизни.
...Когда дельцы в Петербурге собрали капитал для строительства под Нижним Новгородом машинной фабрики возле приволжской деревушки Сормовой, Третьяковы уже успели похоронить родоначальников своей мужицкой семьи на местном погосте. И очень возможно, что они, Третьяковы, вырубали проданную дубовую рощу помещицы Крюковой, расчищая место для фабрики, что помогали они класть ту стену первого цеха, которая оставлена заводской реликвией.
Одним из воротил компании, строившей завод, был обрусевший грек Дмитрий Бенардаки. Есть основания думать, что именно знакомство с ним натолкнуло Гоголя на мысль написать в «Мертвых душах» образцового помещика Константина Костанжогло.
Гоголь был знаком с Бенардаки. Они встретились за границей, на курорте. Среди прожигающих жизнь бездельников Бенардаки, видимо, привлек внимание Гоголя своим практицизмом и деловитостью. Помните, Чичиков завидует Костанжогло, у которого фабрики «сами завелись». Из рыбьей шелухи, выбрасываемой на рыбном промысле, Костанжогло стал варить клей, «да сорок тысяч и взял». «Экий черт! — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза,— загребистая какая лапа».
И еще напомню из «Мертвых душ» разговор Костанжогло с крестьянами: «...Дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работай — первое; мне ли, или себе, но уж я не дам никому залежаться».
Насколько похож гоголевский Костанжогло на реального Бенардаки — не столь важно. В одном похож несомненно: была и у него «загребистая лапа» и требовал он с рабочего люда, «как нигде».
— Дед мой работал, когда грек-то уже всех своих компаньонов подмял,— рассказывал Тихон Григорьевич.— Жали при нем из рабочих пот, это верно, однако верно и то, что не впустую завод работал. С самого начала бельгийских инженеров и бельгийские машины выписали, не мелочились. Считайте, на третий год жизни завод уже выпустил «Ласточку» — маленький такой пароходик, а следом «Астрахань». Оба деревянные. А мало спустя начали в Сормове строить железные суда. Верно, по четырнадцать — шестнадцать часов работали люди. Так разве так было только в России? Во всем мире капитал давил рабочий класс.
Не подумав хорошенько, я спросил Тихона Григорьевича, не помнит ли он Бенардаки: старый рабочий казался мне едва ли не современником Сормовского завода.
— Бенардаки не помню, — с усмешкой покачал головой Тихон Григорьевич.— Мал был. При нем после деда отец мой работал, от работы и погиб: надорвался. А я пришел на завод в аккурат десять лет спустя, как грек помер. Миллионщиком был, на рабочем хребте громадное состояние нажил. Перед смертью вспомнил, что родом из Греции, капиталы туда перевел. Ну, а завод, конечно, на месте остался. У наследников.
Мне тринадцать лет было, когда в цех-то пришел,— продолжал неторопливый рассказ старый сор-мович.— Сормово тогда для железных дорог много работало: рельсы, вагоны. Который вагон свое отслужит, его обратно на завод гонят в разборку, чтобы снова пустить все в дело, что сгодится. Вот я старые гвозди из деревянной обшивки и выдирал. Аккуратно, чистенько. Десять — двенадцать часов подергаешь — тебе десять — двенадцать копеек начислят. Час — копеечка. Но тогда, верно, и деньги другие были. Матрос вон на пароходе тридцать копеек в день получал, кочегар сорок — пятьдесят.
Ну, потом стал учеником клепальщика, а там пошло и пошло. Голова у меня смолоду варила, не то что сейчас. Да и грамотным я был. А в то время грамотных наперёчет знали. Между прочим, учился я не в школе — какая уж там школа,— а у безногого солдата. Жил он не в Сормове, в Починках, соседней деревне. За учение деньги брал, на них и жил. Доставалось от него крепко, а благодарен я ему по гроб жизни.
...Все, о чем рассказывал Тихон Григорьевич, даже мне, человеку немолодому, казалось неправдоподобно далеким. Сколько же он помнил, сколько видел, сколько пережил! При нем завод стал строить морские шхуны, паровозы, фермы для мостов, землечерпалки. Построил даже крейсер для Каспия. И, конечно, строил флот для Волги. Пароходы всех типов, самые крупные на реке баржи. Наконец, первые в мире теплоходы — «Сармат» и «Вандал».
При нем, Тихоне Григорьевиче Третьякове, начались на заводе первые рабочие волнения. Ходил Третьяков вместе с делегацией к директору: жить невмоготу, рабочий день долог, жалованье маленькое, мастера штрафами замучили.
И Петра Заломова помнил Тихон Григорьевич. И бурные демонстрации сормовичей, облавы и аресты, баррикадные бои 1905 года, смертные приговоры революционерам...
А потом вместе с двуглавыми царскими орлами полетела прочь с заводских ворот вывеска «Акционерное общество Сормово». Рабочие начали сами управлять заводом.
За беззаветную службу народу в первой пятилетке машинист прокатного стана Тихон Григорьевич Третьяков был удостоен звания Героя Труда. Орденом Трудового Красного Знамени его наградили в числе первых ста человек во всем Советском Союзе.
Свое семидесятипятилетие Тихон Григорьевич не отмечал «почти что никак». Не до того было. Второй год бушевала война. Третьяков вернулся в цех. Уже плоховато видел, но память его была ясной, а дело он знал превосходно.
Ушел Тихон Григорьевич с завода... Трудно сказать, когда ушел. Приходил на завод до тех пор, пока были силы. Видел, как создавались «Ракеты».
Охотно принимал гостей — своих, заводских, и приезжавших издалека. О нем слышали и за рубежом. Однажды пожаловали к нему судостроители из Финляндии, привезли в подарок кисет и трубку.
Теперь волжские плесы бороздит сормовский теплоход «Тихон Третьяков». Наш «Клемент Готвальд» повстречал его возле Дубны.
Обычно кораблям дают имена людей, которых уже нет с нами. Для Тихона Григорьевича сделали исключение. Он сам видел, как Волга приняла корабль с крупными буквами «Тихон Третьяков» на борту.
На торжество съехались его сыновья, дочери, внуки и правнуки — а всего их было более сорока человек. Один из сыновей Тихона Григорьевича волновался больше всех: он сам строил корабль, названный именем его отца.
И еще одна страница истории завода.
Николай Гаврилович Курицын живет на Юбилейном бульваре. Этот новый сормовский район один из самых привлекательных. Вокруг пруда без тесноты поднялись многоэтажные дома, не в одну линию, а полукругом, как велел берег. Насажали берез, просторные газоны напоминают луг — и получилось очень славно, будто это все не в городе, а в дачной местности.
Николаю Гавриловичу исполнилось восемьдесят. Он из того поколения сормовичей, для которого пора зрелости совпала с Октябрем.
Но и событияреволюции 1905 года у него в памяти. Правда, ему тогда десятый год шел, однако мальчишки — народ шустрый, они всюду поспеют. Семья жила неподалеку от главной сормовской проходной. Когда принялись рабочие строить баррикады, Коля увязался за отцом. Видел, как сваливали телеграфные столбы, как остановили обоз с дровами, свалили их в общую кучу. А где под рукой ничего не было, просто снег сгребали и доски сверху набрасывали: издали не видно, что «укрепление легкомысленное».
— Ну, с баррикад меня, конечно, прогнали. Там сормовские боевики два дня с полицией и казаками бились. Да ведь народ-то наш был необстрелянный, разве устоишь против военной силы? Школу видели? Так по ней усмирители из пушек били. Возле нее как раз и была главная баррикада.
Черед вступить в борьбу за рабочее дело настал для Николая Курицына несколько лет спустя. Большевик Григорий Минин поручал ему незаметно раскладывать листовки возле станков и по ящикам, где рабочие хранили инструмент. Поймали бы за этим занятием — с завода долой, под суд, а там в тюрьму или Сибирь.
Когда сбросили царя, Курицын шагал в первых рядах сормовичей, которые прямо с завода, пешком, несколько километров шли к центру города с пением «Марсельезы». Прошли к губернаторскому дому — тот словно вымер, охрана за ограду попряталась. Оттуда — к тюрьме, освобождать политических заключенных.
— Мне партийный стаж хотели считать с шестнадцатого года, — рассказывает Николай Гаврилович.— А я говорю: правильнее будет с апреля семнадцатого. С той поры, когда Владимир Ильич, вернувшись из эмиграции в Питер, все разъяснил народу в Апрельских тезисах. Слышали, поди, что наш сормович Чугурин Иван Дмитриевич с красной лентой через плечо встречал Владимира Ильича прямо на Финляндском вокзале? Там же и вручил Ленину партийный билет от питерских большевиков.
У Чугурина была конспиративная кличка «товарищ Петр». Ленин с ним встречался за границей, узнал его. А в двадцать первом году вернулся Иван Дмитриевич к нам на завод, года три работал заместителем красного директора, потом отозвали его опять на партийную работу в Питер.
Николай Гаврилович помнит, как в октябрьские дни захватывали почтамт. Опять шагали из Сормова через весь город, а непогодь была страшная: дождь, грязь, слякоть. Потом пришли в типографию газеты «Нижегородский листок». Потом... Да мало ли было забот в те дни!
— А взяли власть — разве их поубавилось, забот-то? Сначала пошел я против Деникина воевать, потом с отрядом продразверстки собирал хлеб для голодавших рабочих. Тем временем на заводе что? А на заводе главное дело — как помочь республике от врага отбиться. Кто на фронт не ушел, тот красную флотилию вооружал. Другим боевое задание: подготовить для боев с беляками пятнадцать бронепоездов. А сормовичи сработали тридцать, вот как.
Вы в директорском кабинете на камине модель видели? Первый советский танк, назывался он «Борец за свободу товарищ Ленин». Построили таких танков Полтора десятка. Маленьких, в длину четыре метра. Но тогда больших и не строили, наш был не хуже французского «Рено».
Теперь скажите, кто все это делал — и танки и бронепоезда? Рабочие, которым давали десять фунтов хлеба в месяц. Четыре кило, другими словами. Потом, конечно, жизнь стала налаживаться. Медленно, правда. Уж больно тяжело было оправиться после гражданской войны и голода в Поволжье.
Николай Гаврилович был среди тех, кто сопровождал приехавшего в родные места Алексея Максимовича Горького. Это произошло в 1928 году. Горький побывал на бумажной фабрике в соседней Балахне, долго ходил по заводскому двору и цехам «Красного Сормова».
— И вот что я вам скажу. В Балахне очень Алексею Максимовичу понравилось, он даже назвал бумажную фабрику прекрасным творением человеческого разума. А в Сормове... Алексей Максимович хорошо знал завод еще с прошлого века. И печалился он, что с тех пор в цехах вроде бы стало даже еще теснее. А вот что изменилось — труд рабочих стал на Сормове особенно героическим, Алексей Максимович так и написал. Очень он изумлялся талантливости наших рабочих людей. Жаль, что не пришлось ему побывать на заводе лет десять спустя. К тому времени мы все обновили, все перестроили. Я не говорю уж о нашем времени, когда от старого «Красного Сормова» остались название, рабочая гордость, традиции да трудовая слава. Но все это не менять, а крепить надо. Что и делается.
В Горьковском кремле выставка «Горький — фронту». Здесь всегда особенно много мальчишек: увидеть вблизи, даже потрогать танки, пушки и «катюши», так страшившие фашистов! Тут же истребитель, словно готовый взмыть в небо навстречу гитлеровским бомбардировщикам, которые в начале войны прорывались к Горькому и бомбили его заводы.
Немного в стороне от выставки, возле Вечного огня, поднят на пьедестал танк «Т-34». Это сормовский танк. Внук той маленькой зеленой машины, на которой было написано: «Борец за свободу тов. Ленин».
Сормовский завод выпустил в войну тысячи и тысячи грозных боевых машин. Первые из них фронт получил в дни боев за Москву.




На Волге — тысячи разнообразных судов. Есть пожарные, есть дноуглубительные, есть плавучие магазины, плавучие библиотеки и кинотеатры...
А здесь вы видите огромный пассажирский лайнер новейшей конструкции, теплоход типа «река — море», корабль на подводных крыльях, толкач для буксировки речных составов.
Много позднее стал известен отзыв о качестве этих сормовских танков. Человека, давшего его, никак нельзя заподозрить в стремлении преувеличить достижения нашей оборонной промышленности. Это был гитлеровский генерал Гудериан, командовавший танковой армией.
Вот что он писал: «В ноябре 1941 года видные конструкторы, промышленники и офицеры управления вооружения приезжали в мою танковую армию для ознакомления с русским танком «Т-34», превосходящим наши боевые машины».
Один из сормовских танков был возвращен заводу. Он стоит в тени деревьев на пьедестале, где отлиты изображения орденов, которыми награждено «Красное Сормово».
Эта машина была среди первых, ворвавшихся в Берлин. Ее пушка била по рейхстагу.
Решение о том, что завод должен выпускать танки, состоялось уже на девятый день войны.
После судов — танки?! Все надо было переделывать, перестраивать. И сталь нужна другая, и многие виды изделий, с которыми завод никогда не имел дела,— например, гусеничные траки, без которых танк неподвижен. Но ведь недаром Алексей Толстой, побывав на заводе, рассказал миллионам читателей: «Народ здесь смышленый и злой до работы. Им только раз поглядеть — поймут».
В эти дни вернулся на завод Тихон Третьяков. В эти дни Петр Заломов обратился к своим бывшим соратникам с такими словами:
— Ценность жизни, счастье жизни заключается не в том, что человек получил от других, а в том, что он сумел дать другим... Все силы, товарищи старики, приложим к тому, чтобы передать свои знания молодежи!
Чем тревожнее были вести с фронта, тем заметнее убыстрялась сборка танков. Бои шли уже на подступах к Сталинградскому тракторному заводу, который тоже строил «Т-34». Было ясно, что вот-вот там уже нельзя будет выпускать боевые машины. И сормовичи поклялись под Красным знаменем, что дадут больше танков, помогут нашим танкистам отстоять город на Волге.
Люди сутками не выходили из затемненных цехов. Были тревожные ночи, когда сквозь стены доносился вой фашистских пикирующих бомбардировщиков и стрельба наших зенитных орудий.
У рабочих поизносилась, истрепалась одежда, в домах было холодно, питались люди скудно — но как они работали!
И когда слушали фронтовые сводки Советского Информбюро, знали, что это их танки гонят врага от Волги, что это их танки ведут великий бой на Курской дуге, что это их танки преследуют отступающего врага, что грохот сормовских танков ворвался наконец в улицы городов фашистской Германии.
И пришла весна Победы, а с ней за первыми радостями — новые заботы.
Заводу опять надо было многое менять и перестраивать.
«Красному Сормову», только что работавшему на войну, поручалось снова выпускать суда для поредевшего в боях волжского флота, вернуться к строительству знаменитых сормовских паровозов.
Вот примерно в те годы и появились на «Красном Сормове» в числе других два человека, не схожих ни по возрасту, ни по жизненному опыту.
Один прошел войну. Другой в военные годы был еще малолетком. А общим у них было то, что оба окончили Сормовское профессионально-техническое училище № 5. Старейшее и заслуженное училище, основанное в первые годы после революции и награжденное за многолетнюю отличную работу орденом Трудового Красного Знамени.
Александр Петрович Удалов закончил учебу в 1939 году. А через два года — война. И он ушел на флот.
Вячеслав Васильевич Пайщиков покинул стены того же училища лишь в 1952 году. Танки «Т-34» были сняты с конвейера, и он впервые увидел боевую реликвию сормовичей уже на пьедестале.
Удалов воевал на подводной лодке «Ярославский комсомолец». Она топила вражеские корабли и однажды сама чуть не затонула, когда ее забросали бомбами гитлеровские самолеты. Поврежденная лодка погрузилась на большую глубину и, может, не всплыла бы, но умелые подводники сумели заделать трещину. Что говорить, пережили не мало: сначала погас свет, лодка легла на дно в кромешной тьме, всплыть удалось только на исходе двенадцатого часа...
После войны подводник вернулся на «Красное Сормово». И куда же еще было ему возвращаться, если дед его участвовал в той демонстрации, на которой Петр Заломов нес знамя, а отец проработал на заводе всю жизнь, начав с ученика? Так стал Александр Удалов слесарем-монтажником.
У Пайщикова все начиналось по-другому. Вырос он в деревне, там же окончил семилетку и надумал поступить в строительный техникум. Приехал в Горький. Экзамены сдал, но по оценкам до стипендии не дотянул.
— А денег у меня с собой было...— Пайщиков смотрит на меня, будто предлагая угадать сумму.— Короче говоря, проел я их на мороженое. Понимаете сами, невелик был капитал. Пишу отцу: так, мол, и так, что делать дальше? Отец отвечает откровенно: сынок, содержать тебя не смогу, возвращайся. Я и вернулся.
Проработал год в колхозе. А дальше... Как бы это сказать поточнее? Почувствовал влечение, вкус к тому, чтобы вот этими руками что-то создавать, мастерить что-то ощутимое, заметное. К тому времени понял уже, что мастерство без учения не приходит. И отправился опять в Горький, но на этот раз не в техникум, а прямиком в ПТУ. Тогда оно называлось еще по-старому, ремесленным училищем. Выбрал электросварку. С тех пор ею непрерывно и занимаюсь на «Красном Сормове».
Впрочем, перерыв был: военная служба. Служил на Балтике и на Северном море. Трудное и прекрасное было время, вспоминаю о нем всегда с огромным удовольствием. Что говорить, не легко на флоте, да закалка на всю жизнь.
Военная служба помогла двум сормовичам стать людьми собранными, целеустремленными, умеющими добиваться цели. Оба стали бригадирами. Пошла об их бригадах слава. Вячеслав Васильевич Пайщиков, а затем и Александр Петрович Удалов стали Героями Социалистического Труда.
Стали Героями, но остались рабочими, остались бригадирами. Вячеслав Васильевич уже двадцать пять лет бригадир. Я спросил: а как, мол, выше? Мастером, например? Вячеслав Васильевич ответил просто:
— А быть рабочим — разве это не высота?
Оказывается, он о прежнем замысле не забыл и техникум окончил. Учился вечерами, после рабочего дня. У него диплом техника-технолога.
Стать мастером может хоть завтра. Но он-то любит электросварку. Любит сваривать сам, своими руками. Любит слушать шипение дуги, оно для него как музыка, любит чувствовать, как послушны ему ослепительное пламя и крепчайший металл.
Но не замкнулся в заводских делах сормовский рабочий Вячеслав Васильевич Пайщиков. Во время отпуска на своей машине едет по туристским маршрутам, любит смотреть древние города. И за рубеж ездил не раз.
Бывал в Швеции на верфи «Гётаверкен». Дело прошлое, там не очень верили, что к ним в гости приехал рабочий. Тогда он взял в руки сварочный аппарат. Смотреть первоклассный шов сбежались чуть не со всего цеха.
Повидал сормович предприятия Финляндии. До контрреволюционного переворота в Чили летал в эту далекую страну, ездил по ее городам и заводам. Выступал перед рабочими и студентами. Рассказывал о Волге, о своем заводе, о жизни рабочих в Советском Союзе.
Снова пересечь океан Пайщикову довелось в составе нашей рабочей делегации. Ездили вчетвером: электросварщик, металлург, трикотажница, слесарь. На этот раз побывали в Нью-Йорке, Вашингтоне, пожили в семьях американцев. Пайщиков был гостем американского врача. Делегации показали кондитерскую фабрику, сталеплавильный завод.
— Ну что говорить? Полезного много: высокий уровень производства, деловитость, точность, культура труда. И одновременно умение выжать из человека все, на что он способен. Пожалуй, даже больше. Кое-что стоит перенять, кое-что глубоко чуждо нам. Другие общественные отношения, другая психология.
Недавно Вячеслав Васильевич поступил на заочное отделение Высшей партийной школы. Нагрузка серьезная, свободного времени остается совсем мало, но как раз временем своим он умеет распорядиться очень точно, умело, разумно.
И сегодня охотно идет в школы, чтобы поговорить с ребятами, всегда готов помочь отстающей бригаде. Проводил отпуск в деревне, а тут как раз в Сормове устроили конкурс молодых сварщиков. Забыл Пайщиков об отдыхе, примчался в Горький: среди участников конкурса был парень, работавший прежде в его бригаде, так мог ли он усидеть у речки с удочкой?
Бригады Удалова и Пайщикова уже давно трудятся так, чтобы задание пяти лет выполнять за три с половиной года.
Это очень трудно. Не все рабочие справляются с обычными нормами. А их бригады должны каждый день выполнять почти полтора задания. Каждый день!
Теперь припомните: хотя бы одну четверть выполняли вы все школьные задания точно к тому сроку, какой для себя наметили? Сколько бывает благих намерений: напишу сочинение не к следующему понедельнику, а к этой пятнице, положу на стол Елизавете Ивановне... Но всегда ли увидит Елизавета Ивановна ваше сочинение хотя бы во вторник? Ну, если честно?
Бригады же Удалова и Пайщикова твердо держат слово уже третью пятилетку подряд. Если чуть отстали сегодня, обязательно нагоняют завтра или послезавтра. В удачный день вырываются вперед, чтобы иметь задел.
Десятая пятилетка труднее девятой. Намного повысились требования к качеству продукции. Но лучшие бригады сормовичей, рассчитав все точно, пообещали: и с десятой справимся досрочно.
Александр Петрович и Вячеслав Васильевич не забывают свое ПТУ № 5, которое дало им верное направление в жизни. При училище уже много лет действует университет передового опыта, где лучшие рабочие-наставники посвящают ребят в тайны мастерства.
Так вот, Александр Петрович Удалов — декан «факультета будущего судомонтажника», а Вячеслав Васильевич Пайщиков — декан «факультета будущего сварщика».
Большим кораблям — большое плавание. Волжский флот не имеет равных в мире. Дело не только в числе судов, но и в их новизне, разнообразии, назначении. На многих зарубежных реках — только грузовое движение. Нигде нет такого комфортабельного, мощного флота, пригодного для поездок и для отдыха, как на Волге.
Волжский флот непрерывно пополняется судами, построенными по последнему слову техники. Кроме «Красного Сормова», их спускают на воду многие верфи и заводы у нас и за рубежом. О некоторых типах судов я уже рассказывал. Упомяну о менее известных.
На Волге работают, например, нефтерудовозы. Гибрид танкера и сухогрузного теплохода имеет как обычный трюм, так и трюмы для нефти. У него почти не бывает порожних рейсов.
Ходят по Волге «Жигули». На палубах этого судна-автомобилевоза размещаются сотни автомашин. Возят «Жигули» не только «Жигули», но и грузовики Горьковского автозавода. Опять загрузка в оба конца!
Самый крупный теплоход. «Валериан Куйбышев» — самый крупный речной теплоход в мире. Его длина 136 метров, ширина 17, по высоте — пятиэтажное здание. Это плавучий дом отдыха с установками искусственного климата, лифтами, кинотеатрами, ресторанами, кафе. Есть даже биллиардная: судно настолько велико, что лишь штормовая волна, перекатывая шары, может помешать игрокам.
«Валериан Куйбышев» предназначен для рейсов между Ленинградом и Ростовом. Он построен в Чехословакии, но главные двигатели и часть оборудования изготовлены нашими заводами. По заказам Советского Союза строятся еще несколько таких же судов.
Катамараны. Эти несколько необычные суда появились очень давно у разных народов мира. Простой катамаран — две лодки, соединенные между собой по бортам.
А простейший... Надо сесть верхом на два бревна и обхватить их ногами: на одном едва ли удержишься, а два дают достаточно надежную опору.
По Волге ходят большие пассажирские и грузовые катамараны. У каждого два узких корпуса, между которыми как бы широкая площадка. Пожалуй, внешним видом катамаран напоминает паром.
Достоинство катамаранов — большая вместительность. Длина пригородного катамарана типа «Отдых» немногим превышает сорок метров, а на нем почти семьсот мест для сидения пассажиров, концертная эстрада, просторная танцевальная площадка.
Первый в мире грузовой речной катамаран был построен на Волге в 1961 году. Теперь есть грузовые линии, где работают только катамараны.

Испытывается построенное сормовичами судно на в воздушной подушке», которое как бы парит над водой.
В честь пятилеток. Когда на Волге началось сооружение гидростанции возле Жигулей, «Красное Сормово» получило задание — создать для строителей землечерпательную машину небывалой мощности. Ее назвали «Пятилеткой» в честь первой послевоенной пятилетки, когда народ вернулся к мирному труду.
Открытие XXIV съезда партии сормовичи ознаменовали спуском на воду большого сухогрузного теплохода «Девятая пятилетка». Когда в Москве работал XXV съезд КПСС, страна досрочно получила от завода корабль типа «река — море», названный «Десятой пятилеткой»
Неудобное название. Пароходы для Волги долго строились однопалубными. В 1871 году сормовичи построили двухпалубный, проведя в пассажирские каюты водопровод и паровое отопление. Новое судно назвали «Переворотом». Оно и в самом деле означало переворот, создавая небывалые по тем временем удобства для пассажиров.
Но вскоре «Переворот» переименовали в «Колорадо». Прежнее название не понравилось властям: как бы не было брожения умов, «смутьяны» могут превратно толковать, о каком перевороте речь идет, на что название намекает...
Русский человек и река. Известный историк Василий Осипович Ключевский писал о русском человеке: «На реке он оживал и жил с ней душа в душу. Он любил свою реку, никакой другой стихии своей страны не говорил в песне таких ласковых слов...»
Реки, замечает историк, служили путями переселения, на их берегах русские люди выбирали места для сел и деревень.
Реки, изобиловавшие рыбой, давали пищу. Были они и готовой дорогой. Зимой — ледяной, санной; а летом знай только «вовремя поворачивай руль да помни мели, перекаты».
Картина длиной в 746 метров. Ее авторы— академики живописи, братья Григорий и Никанор Чернецовы. В 1838 году они совершили путешествие по Волге, продолжавшееся с весны до ледостава. Стараясь запечатлеть полную картину жизни реки, Чернецовы сделали 1982 рисунка. Зарисовки склеили в четырнадцать полос. Их общая длина оказалась равной 746 метрам. Они составили единую «Панораму Волги».
Несколько лет назад воспоминания художников о волжском путешествии и многие их рисунки впервые были изданы отдельной книгой.
Почти одновременно с Чернецовыми американский художник Джон Банвард зарисовал берега Миссисипи.
Он провел на реке полтора года, и общая длина его зарисовок достигла пяти километров.
Записки автора «Трех мушкетеров». Александр Дюма известен читателям прежде всего как автор «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
В его литературном наследстве есть роман «Записки учителя фехтования», герой которого — русский декабрист, женатый на француженке, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку. А в 1859 году, после путешествия в Россию, Дюма выпустил книгу «От Парижа до Астрахани».
«Каждая страна имеет свою национальную реку,— писал Дюма.— Россия имеет Волгу — самую большую реку в Европе, царицу наших рек,— и я поспешил поклониться ея величеству Волге».
Романист побывал в Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Астрахани. Позднее в русских архивах было обнаружено много донесений полиции, которой было предписано следить за каждым шагом писателя и не допускать его встреч с простыми людьми: царская Россия помнила, что ее гость — автор романа о декабристе.
Быть Волге чистой! Во всем мире за последние десятилетия особенно сильно загрязняются воды рек и озер.
По их берегам растут города, фабрики, заводы, распахивается все больше земли, редеют леса. И прежде дожди уносили в реки всяческий мусор и хлам. Теперь особенно вредные отходы попадают туда из промышленных предприятий.
С развитием индустрии Поволжья, с ростом речных перевозок нефти начала загрязняться и Волга. На поверхности воды расплываются радужные нефтяные пятна, рыбаки жалуются на сильное оскудение рыбных богатств. Помутнели, загрязнились и другие наши реки. Это тревожило ученых, любителей природы, государственных деятелей. Во всем Поволжье десятки, сотни тысяч людей начали действовать под лозунгом: «Быть Волге чистой!»
Правительство приняло строгие меры против загрязнения бассейнов Черного и Азовского морей. Другим решением предусматривалось, как вернуть и сохранять впредь чистоту вод в бассейнах Волги и Урала.
К 1980 году ни одна капля неочищенных вод с промышленных предприятий не должна попадать в Волгу и ее притоки. На это тратятся колоссальные средства.
Теперь промышленное предприятие не может вступить в строй, если у него нет установки для очистки промышленных стоков. На многих старых предприятиях также пущены очистительные установки. Флот, перевозящий нефть, бензин, смазочные вещества, удобрения, переоборудуется так, чтобы его груз вовсе не мог попадать в воду. Запрещено бросать в реку мусор с пассажирских судов.
Все это — только начало. Предстоит затратить еще очень много труда и денег, чтобы наши реки и озера снова стали чистыми, прозрачными, радующими глаз.
«Сточная канава Европы». Так теперь называют Рейн. Река, несущая воды через Швейцарию, Австрию, Федеративную Республику Германии, Голландию, Францию, воспета поэтами, овеяна легендами. Это один из оживленнейших речных путей мира, некогда привлекавший множество туристов. И вот — «сточная канава»...
Были взяты пробы рейнской воды. 658-й километр. «Вода имеет желто-коричневый цвет и издает резкий трупный запах». 707-й километр. «Отмечается особенно сильная загрязненность нефтью». 766-й километр. «В воде значительное количество нефтяной и жировой слизи, овощных объедков и нечистот».
Один фотограф утверждал, что рейнские воды содержат столько разных химических веществ, что в них можно проявлять фотопленку. Ему не поверили. Он предложил пари — и выиграл его, получив вполне приличные негативы пейзажей Рейна, проявленные в зачерпнутой с лодки воде.
Чья вина? Загрязняют Рейн прежде всего города. Они сбрасывают в реку свои нечистоты. Затем — промышленные предприятия. Их отходы особенно обильны и ядовиты. Они содержат ртуть, мышьяк, свинец.
Шестьдесят лет назад в Рейне вылавливали до полутораста тысяч лососей в год. Теперь рыба исчезла совершенно. В 1974 году последний рейнский рыболов и торговец рыбой подарил свои рыболовные принадлежности местному музбю.
Рейн заканчивает путь на территории Голландии. Прежде две трети жителей этой страны использовали его воду для питья, для бытовых нужд, для поливки плантаций знаменитых голландских тюльпанов. Теперь голландские домохозяйки стирают белье в воде, привозимой из Норвегии: выстиранное в рейнской воде вызывает кожные болезни.
Мертвые реки, мертвые озера. Не один Рейн в беде. Вот что сообщает французский журнал: «На реках Рона и Луара, Ране и Алье, Брюш и Линьон — одна и та же картина гибели животного мира: мертвые карпы и плотва, форели, лососи, уклейки, щуки плывут по воде брюшком вверх, создавая зловоние, сливающееся со столь же отвратительным запахом грязных вод».
В реки Франции каждый день попадает двадцать тысяч тонн вредных отходов. Четверть всех рек стали опасными для жизни человека. Всюду висят объявления: «Купаться воспрещается».
Главные враги рек — владельцы промышленных предприятий. Завод близ
Руана загрязняет все вокруг так, как это едва мог бы сделать миллион человек. Крупная бумажная фабрика причиняет рекам столько же вреда, сколько все население Франции. Когда люди начинают протестовать, они слышат ответы, подобные тому, какой дал председатель комитета текстильных промышленников:
— Уносить всякие отходы и отбросы — естественное назначение рек.
Куда уносить? Разумеется, в море. Рейн выбрасывает в Северное море около 60 миллионов тонн растворенных в воде отбросов.
Знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал, совершивший со спутниками плавание через Атлантический океан на лодке из папируса, рассказывал, что даже в самых отдаленных водах он всюду видел масляные пятна, пластмассовые бутылки и другие «следы цивилизации».
А в Америке? Большая статья американского журналиста, озаглавленная «Умирающие воды», начинается так: «Речь пойдет о национальном позоре США».
Автор пишет, что американцы имели счастье начинать свою национальную жизнь на фактически нетронутом, неиспорченном континенте. Горы, долины и равнины Соединенных Штатов орошались одной из самых обильных в мире водных систем. Всюду были кристально чистые горные ручьи, большие, плавно текущие реки, огромные пресные озера.
Но что же происходит теперь? Вот красивейшая река Потомак, которую любил Джордж Вашингтон, герой национальной истории. «Турист, если ему вздумается окунуться в реке, может с тем же успехом поплавать в выгребной яме... Летом река нередко находится в состоянии гниения».
А Миссисипи?
Сегодня эту реку называют «канализационной трубой». На всем протяжении Миссисипи, пишет американский журналист, «наше неряшливое общество спускает в нее всевозможные отбросы. Сотни городов и поселков используют реку для того, чтобы сбрасывать в нее воды из канализационных труб. Водоплавающая птица и рыба гибнут массами».
В воде, взятой возле города Сент-Луиса и разбавленной чистой водой в 10 раз, рыба погибала менее чем через минуту. Пробовали разбавлять воду Миссисипи чистой в 100 раз, но и в ней рыба через сутки всплыла мертвой.
Вот почему вдоль Миссисипи во многих местах расставлены щиты, предупреждающие, что на берегу нельзя устраивать пикники: есть опасность заразиться. О купании, понятно, и говорить нечего.
Сколько людей, оставивших благодарный след в памяти потомков, могли бы начать рассказ о себе словами: «Родился я на Волге». Или: «Моя родина — Поволжье». И сколько наших соотечественников именно здесь, на землях, омываемых водами великой реки, прославили себя взлетом мысли, раскрытием дарования, величием подвига!
Но разве могло быть иначе? Ведь Волга словно слита с самой историей нашего народа!
Перед вами лишь немногие из тех, чья жизнь так или иначе, дольше или короче была связана с Волгой. Портреты расположены не в строго хронологическом порядке, не обязательно по профессии или месту рождения.
Наверное, вам не надо особо пояснять, почему здесь Разин и Пугачев, Минин и Кулибин, Некрасов и Горький, Салтыков-Щедрин и Островский, Киров и Калинин...
О некоторых выдающихся деятелях прошлого вы многое знаете. Кое-что уже рассказывалось и на страницах этой книги, кое-что вы прочтете дальше.
А пока лишь отдельные штрихи, короткие строчки из биографий, строчки, имеющие отношение к Волге, к Поволжью.

С. Т. Разин.

Е. И. Пугачев.

Кузьма Минин.

А. Н. Радищев.
В селе Верхнее Аблязово бывшей Саратовской губернии прошло детство Александра Николаевича Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву».
В этом произведении, прочтя которое Екатерина Вторая воскликнула, что его автор «бунтовщик, хуже Пугачева», использованы и воспоминания писателя о жестоких саратовских крепостниках.
Радищев был приговорен к смертной казни. Ее заменили ссылкой в Сибирь, куда «бунтовщика» везли по Каме.

А. С. Пушкин.

И. А. Гончаров.
После ссылки Радищев провел в Верхнем Аблязове почти год.
Александру Сергеевичу Пушкину Поволжье подарило необыкновенно плодотворную «Болдинскую осень». В нижегородском селе Болдино были созданы «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», в основном завершен «Евгений Онегин»...
Мы упоминали о посещении поэтом Нижнего Новгорода. Собирая материалы о Пугачеве, он побывал также в Симбирске и Казани.
Пушкин посетил Симбирск осенью 1833 года и встречался здесь со старожилами, помнившими народного вожака. Отсюда поэт направился в Оренбург, а на обратном пути снова проезжал через Симбирск. Он побывал в усадьбе своих знакомых Языковых. Автор стихотворений «Пловец» («Нелюдимо наше море»), «Из страны, страны далекой», поэт Николай Языков и его братья передали Пушкину материалы, связанные с Пугачевым.
О посещении Казани Пушкин писал: «Здесь я возился со стариками, современниками моего героя; объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону».
Симбирск дал отечественной литературе автора «Обломова», «Обрыва», «Обыкновенной истории»,
Воспитателем Ивана Александровича Гончарова был моряк Трегубов. Он зародил у юноши стремление к дальним странствиям. Гончаров стал единственным крупным русским литератором, совершившим почти кругосветное труднейшее плавание на парусном фрегате «Паллада».
Писатель часто говорил, что родные места, Волга тесно связаны со всем его творчеством.
В 1849 году он приехал из Петербурга в Симбирск. «План романа «Обрыв»,— писал впоследствии Гончаров,— родился у меня... на Волге, когда я, после четырнадцатилетнего отсутствия, в первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости, новые встречи, картины берегов Волги, сцены и нравы провинциальной жизни — все это расшевелило мою фантазию, и я тогда же начертил программу всего романа».
Илья Николаевич Ульянов, выдающийся русский педагог...
В Поволжье — глубокие корни рода Ульяновых. Дед Ленина, Николай Васильевич, происходил из крепостных крестьян Нижегородской губернии и был, как сказано в недавно обнаруженных документах, «коренного российского происхождения».

И. Н. Ульянов.

К. Д. Ушинский.
Он переехал в Астрахань, стал ремесленником. Там у него родился сын Илья.
Илья Николаевич окончил Казанский университет. Талант и труд выдвинули его. Став директором народных училищ Симбирской губернии, он очень много сделал для образования простых людей, русских и чувашей. Его другом стал Иван Яковлевич Яковлев, чувашский просветитель, составивший первый букварь для своего народа.

И. П. Кулибин.

Н. И. Лобачевский.

И. П. Кулибин.

Н. И. Лобачевский.
Илья Николаевич Ульянов был последователем Ушинского, основоположника русской педагогической науки и народной школы в России.
Константин Дмитриевич Ушинский одно время преподавал в Ярославле. Он написал для ребят книгу «Родное слово», которая переиздавалась сто пятьдесят раз!
По ней учились десятки миллионов школьников. А самого Ушинского называли «учителем русских учителей» — так велик был его вклад в отечественную педагогику.

И. А. Некрасов.

А. Н. Островский.

И. А. Некрасов.

А. Н. Островский.
Какое это почетное и благодарное дело — быть учителем, педагогом! Педагогической деятельности, наряду с научной, посвятил себя уроженец Нижнего Новгорода, создатель неевклидовой геометрии, великий математик Николай Иванович Лобачевский.
Почти всю жизнь он прожил в Казани. Два десятилетия, когда Лобачевский возглавлял Казанский университет, были порой расцвета этого старейшего учебного заведения.
Николай Гаврилович Чернышевский с юношеских лет мечтал о служении народу. Став преподавателем гимназии в родном Саратове, он рассказывал гимназистам о постыдном ярме крепостного права, о долге подлинного гражданина — быть борцом за свободу. Рассказывал, сознавая, что такие разговоры «пахнут каторгой».
Позднее Чернышевский возглавил революционно-демократическое движение в России. Царизм жестоко преследовал его. Знаменитый роман «Что делать?» Николай Гаврилович написал уже в камере Петропавловской крепости. В родной город он вернулся тяжело больным после 27 лет, проведенных в тюрьмах, на каторге, в ссылке. Внутри мавзолея Чернышевского в Саратове написано: «Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее».
Рядом с Чернышевским в нашей памяти привычно возникает имя другого революционного демократа, нижегородского уроженца Николая Александровича Добролюбова. Его юные годы прошли в Нижнем Новгороде. Потом — Петербург, педагогический институт, нелегальный студенческий кружок, сотрудничество с Чернышевским и Некрасовым в журнале «Современник», пропаганда революционных идей... Блистательные статьи Добролюбова о творчестве Гончарова, Островского, Тургенева и сегодня изучаются всеми, кто любит русскую литературу.

Н. Г. Чернышевский.

Н. А. Добролюбов.

П. Н. Яблочков.

А. М. Бутлеров.

К. Э. Циолковский.

Я. Я. Вавилов.
Великий русский химик, создатель теории химического строения, Александр Михайлович Бутлеров родился на Каме, в Чистополе.
«Он сделался химиком не в чужих краях, а в Казани... В химии существует бутлеровская школа и бутлеровское направление». Так писал Дмитрий Иванович Менделеев.
Созданная в Казани школа русских химиков-органиков приобрела всемирную известность.
«Русской свечой», «русским светом» назвали электрическое освещение, впервые появившееся на площадях Парижа. Оно стало сенсацией Всемирной выставки 1879 года. Изобрел первый в мире электрический источник света Павел Николаевич Яблочков, уроженец Саратовской губернии, которому принадлежит немало других важных открытий в электротехнике.
В Саратове летом 1920 года на съезде селекционеров России выступил с докладом молодой профессор Николай Иванович Вавилов. По окончании доклада ему устроили овацию. Раздался возглас:
— Биологи приветствуют своего Менделеева!
Будущий ученый с мировым именем преподавал в Саратовском университете. Одну из первых работ Вавилов посвятил саратовской земле, «солнечному, знойному, суровому краю».
Выдающийся агроном и ботаник, генетик и растениевод, путешественник, объехавший весь земной шар, первый президент Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук, почетный член многих зарубежных академий — таким остался Н. И. Вавилов в истории науки.
«Николай Иванович — гений, и мы не сознаем этого только потому, что он наш современник»,— сказал о нем академик Д. Н. Прянишников.

М. Е. Салтыков-Щедрин.

Л. Н. Толстой.
Лев Николаевич Толстой почти шесть лет прожил в Казани, учился здесь в университете. На Волге он бывал неоднократно и в более поздние годы. В течение почти тридцати лет писатель навещал самарское Заволжье. Сначала ездил туда на лечение кумысом, жил в башкирской кибитке. Снова посетив знакомые места, Лев Николаевич писал: «Башкирцы мои все меня узнали и приняли радостно».
Степная жизнь прельстила Толстого. Он купил в Заволжье имение.
1873 год был засушливым. В Заволжье начался голод. Проехав по окружавшим имение деревням, Лев Николаевич «был приведен в ужас» тем, что увидел. Он рассказал в печати о бедствиях крестьян и призвал Россию помочь голодающим.
В 1883 году Толстой писал из имения: «...мне теперь неприятно мое положение хозяина...»
Больше он в Заволжье не ездил, но в очередной голодный год отправил сына для открытия столовых, где кормили тысячи голодающих крестьян.

А. М. Горький.

Ф. И. Шаляпин.
С Поволжьем связаны имена многих знаменитых артистов. Леонид Витальевич Собинов, один из лучших теноров своего времени — ярославец.
Из Казани родом Федор Иванович Шаляпин. Будущий великий артист рано узнал нужду. Его путь на оперную сцену не был легким. Юноша нередко оказывался без средств к существованию.
Настоящий успех впервые выпал на его долю в Нижнем Новгороде. А затем — гастроли в Петербурге, Большой театр в Москве, Триумфальные поездки по крупнейшим городам мира...

В. Г. Короленко.

А. Н. Толстой.
Одиннадцать лет провел в Нижнем Владимир Галактионович Короленко. Он приехал сюда после тюрьмы и якутской ссылки. Поступил сначала кассиром на пароходную пристань, потом полностью отдался литературному труду.
Именно здесь он стал крупным писателем, а его дом — центром культурной жизни города. А. М. Горький назвал годы пребывания писателя в Нижнем «временем Короленко».

И. Е. Репин.

И. И. Левитан.
«Заволжье» — так называлась первая книга Алексея Николаевича Толстого. В повести «Детство Никиты» упомянуты многие места, реально существующие в заволжских степях возле нынешнего города Пугачева. Там и родился автор «Петра Первого», «Хождения по мукам» и других широкоизвестных произведений.
Алексей Николаевич хорошо знал также симбирское Заволжье и Симбирск.
Во время Великой Отечественной войны он на Волге писал пламенные статьи о борьбе с фашизмом.

Я. М. Свердлов.

М. И. Калинин.

С. М. Киров.

В. В. Куйбышев.
В Нижнем Новгороде родился и вступил на революционный путь Яков Михайлович Свердлов, известный сормовским рабочим под конспиративной кличкой «товарищ Андрей».
В мастерской отца, ремесленника-гравера, Свердлов тайком, ночами, изготовлял печати и штампы для документов, нужных революционерам-подпольщикам. В донесениях агентов полиции, охотившейся за ним, молодой Свердлов значился как «опасный пропагандист-революционер, человек самого вредного направления».
Я. М. Свердлов много раз подвергался арестам, прошел через царскую тюрьму и ссылку.
После Октября он по предложению В. И. Ленина был избран первым председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
Именем Валериана Владимировича Куйбышева назван один из крупнейших городов Поволжья. В этом городе, бывшей Самаре, бежавший из сибирской ссылки революционер-большевик под чужим именем работал на заводе фрезеровщиком. Его выследили, арестовали, но не успели снова отправить в Сибирь: пал царизм.
Вернувшись на Волгу, Куйбышев провозгласил в Самаре Советскую власть. Он сражался за эту власть на многих фронтах гражданской войны, вместе с Сергеем Мироновичем Кировым защищал волжское устье.
Куйбышев был членом Реввоенсовета группы Южного фронта, которой командовал выдающийся полководец Михаил Васильевич Фрунзе. Она нанесла решающий удар Колчаку, рвавшемуся к Волге. В ее рядах сражались Чапаев и Фурманов.
Василий Иванович Чапаев родился в деревне, которую поглотили разросшиеся Чебоксары; комиссар его легендарной дивизии, Дмитрий Андреевич Фурманов — в костромском селе, ставшем теперь городом Фурмановом.
Чапаев, мобилизованный во время войны в царскую армию, был награжден за исключительную храбрость четырьмя Георгиевскими крестами. Его полководческий талант проявился в боях против белых. Одно имя Чапая приводило врага в ужас.

В. И. Чапаев.

Д. А. Фурманов.
Комиссар чапаевской дивизии после гражданской войны стал писателем. Известность Фурманову принесли романы «Чапаев» и «Мятеж».

К. А. Федин.

Муса Джалиль.
«Житейская моя судьба прочно связана с Саратовом»,— говорил выдающийся советский писатель Константин Александрович Федин. Он вспоминал, что первые его представления о русской земле пошли «от Волги с ее неповоротливыми пароходами, бесконечными вереницами плотов, просмоленными рыбачьими дощаниками и окрестными фруктовыми садами деревень...» Саратов, Волга — в романах «Братья», «Первые радости», «Необыкновенное лето», в повести «Старик» и других произведениях писателя.
Вы, конечно, слышали о «Чайке», о Валентине Владимировне Николаевой-Терешковой, первой среди женщин планеты совершившей космический полет.

Ю. А. Гагарин.

В. В. Николаева-Терешкова.
Дочь тракториста из ярославского колхоза, работница комбината «Красный Перекоп», она увлеклась парашютным спортом. Дорога в космос началась для отважной девушки в воздушном просторе над волжскими берегами.
На этих страницах — совсем немногие из сотен, из тысяч выдающихся людей, в чьих судьбах Волга, Поволжье. Об одних — короткие строки здесь, о других — например, о Мусе Джалиле или о Юрии Алексеевиче Гагарине, называвшем Саратов своей второй родиной,— на тех страницах книги, которые вам еще предстоит прочесть.
Идет по реке «Волгарь-доброволец». Он окрашен в серую защитную краску, сливающуюся с цветом воды.
На встречных судах люди стараются получше разглядеть теплоход, напоминающий старый буксир, каких на Волге осталось не так много. А этот вообще единственный на всей реке.
Он идет по сегодняшней Волге, мирной и веселой, но на корме его видна пушка. И пулеметы есть на «Волгаре-добровольце». Хоть сейчас в бой.
«Волгарь-доброволец»—последнее и единственное сохранившееся судно Волжской военной флотилии времен гражданской войны. «Волгаря-добровольца» называют иногда братом «Авроры». Честь великая!
Каждый год «Волгарь-доброволец» отправляется из Горького в рейсы по тем местам, где в гражданскую войну корабли красной флотилии сражались против белых. Иногда в этих рейсах участвуют ветераны, которые своими глазами видели и «баржу смерти», и легендарного Маркина, и гибель «Вани-коммуниста». Сколько рассказов слышал я от них!
Они вспоминали, как весной 1918 года начался контрреволюционный мятеж в Самаре. В том же году июльской ночью белогвардейские мятежники ворвались в центр Ярославля. Коммунистов убивали на месте, либо бросали в трюм баржи, чтобы затопить ее посредине Волги. Но рабочие Ярославля, а также подоспевшие на помощь отряды красных бойцов разгромили мятежников.
Однако во многих других местах одержали верх контрреволюционеры. Взялись за оружие кулаки, бывшие помещики и прочие враги Советской власти. На помощь им со всех сторон поспешили иностранные интервенты.
С каждым днем положение становилось все тревожнее. К осени 1918 года враги захватили уже три четверти страны. На Волге в их руках оказались Самара, Симбирск, Казань. Они нацеливались и на низовья реки. Удары были направлены на Царицын, на Астрахань.
Поволжье пересекала линия Восточного фронта, на котором решалась тогда судьба революции.
Волга была в огне два года.
Некоторые города переходили из рук в руки. Дым пожарищ стлался над рекой. Поля были вытоптаны, изрыты окопами, изуродованы воронками снарядов.

Шесть десятилетий назад «Волгарь-доброволец» сражался против белых. На сегодняшней Волге он как бы оживший памятник времен гражданской войны.
За Волгу красные и белые дрались особенно ожесточенно. Слишком много значил для тех и других главный водный путь России. Сначала бои шли на берегах, потом начались стычки и на воде. В сражения втянулся волжский флот.
Первая красная флотилия формировалась в Нижнем Новгороде.
На заборах, на афишных тумбах были расклеены листы серой бумаги. Объявлялось, что открыта запись добровольцев, готовых на кораблях Волжской военной флотилии сражаться против контрреволюции. Однако записаться мог не каждый. От желающих требовались не только преданность Советской власти, но и «безупречная честность как по отношению к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих этих качеств просим не беспокоиться».
Внизу стояла подпись: «Комиссар Волжской военной флотилии Н. Маркин».
Обычно на заборах расклеивали приказы: явиться туда-то и тогда-то, за неявку — под суд. А этот чудак комиссар вежливо просил не беспокоиться... Бывшие купцы и чиновники усмехались: как же, придут к нему добровольцы, дожидайся!
Но если бы злопыхатели прошлись любопытства ради к трехэтажному каменному дому сорокинского подворья, где записывали во флотилию, то увидели бы там волжских матросов, кочегаров, грузчиков, рабочих Сормовского завода.
Среди них мелькали бескозырки и бушлаты военных моряков, балтийцев и черноморцев. Чтобы черноморские корабли не достались врагу, моряки затопили их, а сами пошли сражаться против белых на суше. В Нижний Новгород они привезли пушки и пулеметы, снятые с кораблей. Моряки рвались в бой: пусть Волга не море, но все же родная стихия...
Комиссар Маркин, чтобы казаться старше, отрастил усы и темную бородку. Хотя и был он молод, но успел уже отсидеть в царской тюрьме, штурмовал Зимний дворец, арестовывал министров Временного правительства Керенского. Все знали, что на Волгу Маркин приехал по заданию Ленина.
Создавать военную флотилию было трудно. Пред-стояло вооружить обычные буксиры, выбрав самые новые, с надежными машинами, легкие в управлении. Но владельцы постарались угнать такие куда-нибудь в укромные затоны.
Так случилось и с будущим «Волгарем-добровольцем», который назывался тогда по имени своего хозяина «Матвеем Башкировым».
Этот ходкий и сильный теплоход исчез, будто на дно опустился. Искали, искали — нет нигде. Кому-то пришла в голову мысль проехать по затонам Оки, куда обычно большие суда не заходили. Возле одного из таких затонов и стоял «Матвей Башкиров». Судно было ловко спрятано за мысок, поросший лесом, но известный всей Волге позолоченный шар над его штурвальной рубкой сверкал на солнце.
Первые пять судов нижегородцы сумели переоборудовать довольно быстро: моряки и рабочие хотя и сидели на голодном пайке, но трудились дни и ночи.
Нижегородцы провожали флотилию торжественно. Моряки выстроились на палубах канонерских лодок — так назывались теперь вооруженные пароходы. Стволы дальнобойных морских орудий грозно поднимались над железной баржей «Сережа», превращенной в плавучую батарею.
Флотилии предстояли жаркие бои. Белые перерезали Волгу у Симбирска, захватили Казань и готовились наступать дальше. У них на Волге к этому времени уже была своя флотилия, гораздо сильнее нашей.
Ленин дал Балтийскому флоту задание помочь Волге.
Четыре небольших миноносца: «Прыткий», «Прочный», «Ретивый», «Поражающий» — отправились по Мариинской системе.
Не верилось, что морские корабли пройдут этой старой водной дорогой. Сначала, сняв с кораблей пушки и снаряды, перегрузили их на баржи. Потом туда же сгрузили уголь. Всё мало — цепляются корабли за дно.
Погасили топки, спустили воду из котлов. Сняли все, что можно, и лишь после этого боевые корабли, превратившиеся в подобие железных барж, потащились на буксире слабосильных пароходиков.
В Сормове их уже ждали. За двое суток сормовичи установили орудия и подготовили миноносцы к боевым действиям.
Вскоре балтийцы соединились с другими кораблями флотилии, начавшими бои возле Казани.
Здесь белые собрали крупные силы. На береговых высотах вблизи города стояли батареи, державшие под прицелом Волгу. В боевой готовности были корабли белой флотилии, которой командовал опытный адмирал Старк.
Когда сейчас подходишь к Казани со стороны Куйбышевского моря, видишь вокруг простор и ширь, то легко воображаешь бои двух флотилий. Вон, скажем, в той стороне, у горизонта, корабли белых, а с противоположной, зарываясь в волну, идут в атаку миноносцы с красными флагами на мачтах.
Но на самом-то деле все было совсем по-другому. Не было тогда никакого моря. Осенняя обмелевшая Волга струилась мимо песчаных кос.
Я специально разыскал старую лоцию. В те годы волжские воды подходили к самому городу только во время весеннего разлива. Потом начинался спад. Волга все отходила и отходила от города, и пароходы могли приставать только возле так называемого Устья, откуда до центра Казани несколько километров.

На Волге сражались против белых моряки-черноморцы.
Лоция предупреждала капитанов, что, начиная от железнодорожного моста, переброшенного через Волгу на подходах к Казани, возле станции Свияжск, есть несколько опасных мелей и что фарватер здесь «отличается изменчивостью».
А моряки красной флотилии как раз и выбрали этот плес для стоянки. Готовясь к штурму Казани, они не должны были забывать о защите очень важного моста, который уже не раз атаковали белогвардейцы. Пытался пробиться сюда и бронепоезд белых, однако его отогнала метким огнем канонерка «Ваня», на которой находился Маркин.
Однажды к железной дороге прорвалась вражеская конница, разгромила и сожгла станцию неподалеку от моста. В общем, редкий день обходился без схваток. Бывало, что моряки покидали корабли и бросались в рукопашную.
Стычки на Волге не походили на морские бои, описанные во многих книгах. Начать с того, что наши корабли иногда шли в атаку не носом, а кормой, пятясь задним ходом вниз по течению. На узком фарватере им трудно было бы повернуться, чтобы уйти из-под обстрела. Пришлось бы подставлять под вражеские снаряды борт. А если при. маневре судно сядет на мель? Его попросту расстреляли бы с высоких холмов береговые батареи.
В морских боях схватываются в поединках бронированные корабли, вооруженные дальнебойной артиллерией. Наши «канонерки» были буксирными работягами с деревянными надстройками. Даже обычная пуля могла «прошить» насквозь каюты, войдя с одного борта и вылетев с другого. От снаряда, попавшего в такую надстройку, часто сразу же вспыхивал пожар.
О боях за Казань остались интересные записи одного восемнадцатилетнего пулеметчика с канонерки «Ваня».
Этого отважного разведчика охотно брал с собой Маркин. Чтобы выследить расположение батарей, особенно досаждавших флотилии, разведчики переодевались кто во что горазд. Маркин, например, водружал на голову где-то раздобытую шляпу. Белые издалека вполне могли принять его за горожанина, возвращающегося откуда-то в Казань.
Юный пулеметчик с «Вани» участвовал во многих боях. Вот как он описал один из них: «После малой передышки попадаем в очень сильный бой. Гудит артиллерия с обеих сторон. Волга окончательно растревожена. Фонтаны взрывов окатывают палубы, мы совсем мокрые; комендоры бьют на разных «курсовых углах», не считаясь с тем, что мы на крыльях мостика, и глушат нас совершенно. Каждый выстрел встряхивает до боли; в ушах боль, слов не слышно. Подвергаемся непрерывным контузиям».
Имя автора воспоминаний — Всеволод Вишневский. Он стал позднее известным советским писателем.
В стычках и боях с вражеской флотилией наши корабли прорывались всё ближе к Казани и даже совершили ночной налет в районе городских пристаней. На кораблях возбужденно обсуждали подробности боя, когда появился бледный Маркин:
— Товарищи! Покушение на Ленина... Ильич тяжело ранен... Его жизнь в опасности...
Он срывающимся голосом прочитал только что полученную из Москвы телеграмму: 30 августа эсерка-террористка Каплан стреляла во Владимира Ильича после его выступления перед рабочими.
Моряки на минуту оцепенели. У многих на глазах выступили слезы. Раздались крики:
— Смерть врагам! Отомстим за нашего Ильича! Даешь Казань!
Каждое утро на кораблях читали правительственные бюллетени. Владимиру Ильичу угрожала смертельная опасность, он потерял много крови, одна из пуль пробила верхушку легкого.
Все эти тревожные дни начала сентября флотилия почти непрерывно атаковала противника, готовясь к решающему штурму.
Маркин летал на стареньком тарахтящем гидроплане над Казанью, высматривая вражеские батареи. Его едва не сбили.
Ночью он пустил по течению шлюпку с зажженным фонарем, а сам с несколькими разведчиками тайком двинулся за ней по берегу. Белые, заметив огонек, обстреляли «корабль красных». Маркин по орудийным вспышкам точно засек, где укрыта батарея белых, которую он не заметил во время воздушной разведки.
Ожесточение боев все нарастало. Волга кипела от разрывов. По реке плыла масса оглушенной рыбы. Наша флотилия в одном бою потеряла два корабля — «Дельфин» и «Ташкент». Их экипажи, покинув горящие и тонущие суда, присоединились к пехоте, чтобы продолжать наступление.
Становилось все яснее, что белым Казань не удержать, особенно после того, как была захвачена важная высота вместе с вражеской батареей и стволы орудий повернули туда, где враг лихорадочно готовился к обороне.
Накануне штурма Маркин с шестьюдесятью моряками высадился в Казани, поднял там панику и скрылся под завесой дыма. Это была последняя разведка боем.
На рассвете наши корабли пошли на штурм казанских пристаней. С других сторон в город с боями вошли сухопутные части.
Казань пала. И с каким ликованием встретили бойцы телеграмму выздоравливающего Ленина: «Приветствую с восторгом блестящую победу...»
После падения Казани флотилия белых отступила с Волги на Каму. Один отряд наших кораблей преследовал суда противника в камских водах, второй остался на Волге, чтобы помочь освобождению Симбирска.
В первом отряде находились миноносцы и три парохода-канонерки. Командовал флотилией моряк Раскольников, его помощником был Маркин.
Адмирал Старк, штаб которого находился на корабле «Ливадия», всячески уклонялся от решающего боя. Едва показывались миноносцы, как суда противника, сделав несколько торопливых выстрелов, уходили на всех парах. При этом белые старались всячески задержать наши корабли: устраивали на берегу засады, ставили мины, затапливали в узких местах баржи с камнем.
Особенно хотелось белым захватить или потопить «Ваню-коммуниста». Так стал называться корабль Маркина. За героический десант в Казани «Ваню» наградили Почетным Красным знаменем и признали достойным стать коммунистом...
Старк выбрал позицию за мысом у села Пьяный Бор. Наши моряки отправили по берегу небольшой десант для разведки, с тем чтобы в случае нужды поддержать его огнем кораблей.
«Ваня-коммунист», другие канонерские лодки и миноносец «Прыткий» стояли в полной боевой готовности, когда вдали затрещали пулеметы. Маркин тотчас приказал сняться с якоря.
«Ваня-коммунист» почти поравнялся с мысом, прикрывавшим Пьяный Бор, и тут с корабля заметили какую-то возню в поленницах дров. Засада?!
Дерзкая отвага Маркина, быть может, на этот раз притупила в нем чувство осторожности и расчета. Он, сам того не ожидая, вывел судно на поединок с хорошо укрытой береговой батареей. Именно на поединок: миноносец «Прыткий» шел довольно далеко сзади, остальные корабли тянулись за ним.
С берега били наверняка. Первые вражеские снаряды повредили трубу, в борту канонерки появилась зияющая пробоина. Маркин повернул было «Ваню-коммуниста» к берегу, чтобы захватить батарею и спасти от огня другие корабли. Но матрос, измерявший глубину, с тревогой закричал:
— Мелко! Не подойти!..
А батарея била по кораблю. Вспыхнули деревянные палубы, сухие, крашенные масляной краской стены кают. Вот уже задымилась рубка, осколком повредило руль, два снаряда разорвались в машинном отделении.
Наши подоспевшие корабли пытались взять горящего, беспомощного «Ваню-коммуниста» на буксир, но, осыпаемые градом снарядов, не смогли сделать это на мелководье.
— Бей белых, товарищи! — слышался голос Маркина.
Упал, сраженный осколком, подносчик снарядов. Маркин соскочил с мостика и сам бросился к орудию. Всюду лежали убитые. В холодной воде, цепляясь за обломки, стонали раненые.
И тут из-за мыса вышли, стреляя из всех орудий, шесть кораблей флотилии Старка. Наши ответили огнем. Надрывно выл пар, рвущийся из поврежденной сирены «Вани-коммуниста». Один из вражеских кораблей расстреливал тонущих.
«Ваня-коммунист» умирал как воин. Огонь подбирался к месту, где хранились снаряды. Каждую минуту мог раздаться взрыв.
— Всем оставить корабль! Живым не сдаваться! Прощайте, товарищи!
Это были последние слова Николая Маркина. В огне, в удушливом дыму, припав к пулемету, он стрелял до последнего патрона и погиб вместе с «Ваней-коммунистом».
На миноносце «Прыткий», которому удалось спасти часть людей с канонерки, надолго запомнили и этот трагический бой, и протяжный крик сирены, которым как бы звал к себе на помощь несчастный «Ваня-коммунист», зажженный неприятельским снарядом, пылающий среди ледяных вод реки, со сломанным рулем и оборванным телеграфом.
«Как долго, как непрерывно кричала его сирена! Все чаще подымались вокруг фонтаны воды, уже на поверхности реки замелькали черные точки — люди, бросившиеся вплавь к берегу, и течение понесло вниз обгорелые щепы, какие-то ведра и табуреты, а она все не умолкала — окутанная паром, опаленная огнем, обезумевшая, страшная сирена смерти».
Эта запись принадлежит перу Ларисы Михайловны Рейснер. Она была политработником флотилии, комиссаром. Ходила в разведку по улицам занятой белыми Казани. Участвовала во многих сражениях. Во время боя у Пьяного Бора была на «Прытком», спасавшем людей с «Вани-коммуниста».
Ларисе Рейснер в 1918 году исполнилось двадцать три года.
Среди спасшихся соратников Маркина был пулеметчик Всеволод Вишневский. Рейснер подошла к отогревшимся матросам, попросила подробнее рассказать о бое. Те стали подталкивать Вишневского: «Валяй, ты умеешь». Он рассказал. Рейснер выслушала, потом поцеловала рассказчика в лоб. Парни стали смеяться, она взглянула на них — и смех оборвался.
— Это было просто, и у меня осталось в памяти на всю жизнь,—вспоминал Вишневский.
Лариса Рейснер умерла от тифа, дожив лишь до тридцати лет. На фронте она стала писательницей, и одна из книг, которые написаны ею за короткую и яркую жизнь, называется «Фронт».
Жестоко отомстили моряки за смерть своего Маркина.
Они взорвали вражескую канонерскую лодку и потопили у Пьяного Бора самое большое судно флотилии Старка. Адмирал поспешно отступил в реку Белую, куда мелководье не пускало наши миноносцы.
У красных моряков была на Каме среди многих боевых задач одна особенно трудная: вызволить узников «баржи смерти».
Вот что рассказывали о ней. Белые, захватив город Сарапул, согнали в тюрьму всех, кто показался им подозрительным. Многих расстреляли, оставшихся в живых морили голодом. Когда части Красной Армии стали приближаться к городу, заключенных загнали в трюм большой старой баржи, люки закрыли и для верности положили на них тяжелые якоря и якорные цепи. Многие попали на баржу полураздетыми. Холодной уральской осенью несчастные укрывались старыми, полусгнившими рогожами, найденными в углу трюма.
Часто среди ночи заключенные просыпались от окриков конвойных. Вызывали несколько человек. Раздавался залп и всплески воды. Иногда вместе со всплесками слышался хриплый предсмертный крик раненого, брошенного в воду вместе с мертвыми.
Когда Старк отступил на Белую, наши разведчики донесли, что «баржи смерти» с его флотилией нет. Начались поиски. Вскоре в штабе узнали, что баржа отведена в тыл, к прикамской деревне Гольяны, и что там готовятся к зверской расправе.
...На рассвете со сторожевого катера противника увидели три корабля, поднимающиеся вверх по Каме. Командир катера встревожился, но, разглядев на мачтах флаги царского военного флота, опустил бинокль. С судна, шедшего впереди, просигналили: «Предупредите береговые батареи». Значит, адмирал Старк вывел флотилию для решительного боя с большевиками.
Корабли тихим ходом подошли к деревне Гольяны. Черная баржа стояла на якоре посередине реки. По палубе расхаживали часовые. На берегу толпились солдаты, с причала уставилось жерло орудия. Небольшой буксирный пароход «Рассвет» дымил у пристани.
Один из кораблей приблизился к барже.
— Что за груз? — окликнули с мостика.
— Большевики, ваше благородие. Будем ими рыб кормить,— отозвался один из конвойных.
— Молчать! Кто начальник караула?
— Я, ваше благородие,—козырнул унтер-офицер.
— Поднимай якорь, заводи буксир! На «Рассвете»! Взять баржу, поведем на Белую! Живо!
Приказ не был неожиданным. Уже с утра в Гольянах говорили, что сегодня баржу отведут подальше и расстреляют всех узников.
Пароход медленно трогает с места огромную баржу. Уплывают назад Гольяны.
Навстречу идет еще один корабль, «Волгарь-доброволец»? Ну что же, у генерала Деникина есть целая Добровольческая армия...
«Волгарь-доброволец» причаливает к барже, помогает «Рассвету» быстрее тянуть ее. Белогвардейские караульные все еще прохаживаются возле люков. Когда баржа вместе с кораблями минует опасные воды, моряки с «Волгаря-добровольца» мигом связывают часовых, бросаются к люкам.
— Живы ли вы, товарищи? — кричит командир в черную дыру.
А в трюме слышали окрики с корабля в Гольянах и готовились к последнему часу. Накануне ночью были расстреляны тридцать человек. Когда узники услышали какой-то шум на палубе, когда загремели крышки люков, люди стали обниматься, прощаясь перед смертью. И вдруг — «товарищи!».
В тот же день Ленин получил рапорт от командующего флотилией Федора Раскольникова. В нем говорилось, что спасено 432 человека и что «все они были почти голые, покрытые рогожами, голодные и больные. Все они были приговорены к расстрелу с наступлением темноты...».
Сколько славных подвигов отмечено летописью гражданской войны на Волге, в Поволжье, в Прикамье!
После того как была освобождена Казань, красноармейцы страстно хотели обрадовать выздоравливающего Владимира Ильича — поднять красное знамя и над его родным Симбирском.
Была создана дивизия, которую сами бойцы назвали Железной. Командовал ею большевик Гай.
Сентябрьским днем комиссары подняли красноармейцев в атаку:
— Бойцы Железной! За раны Ильича вперед, на Симбирск!
Вражеские части отступали к железнодорожному мосту через Волгу. Бесстрашный Гай на автомобиле вылетел к обрыву над рекой и из пулемета сам обстреливал бегущих белых. Симбирск пал!
Вскоре победители собрались на главной симбирской площади у Нового Венца — там теперь стоит памятник Владимиру Ильичу. Перед строем была прочитана телеграмма Ленина:
«Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы».
На Железную дивизию заполнили символическую анкету. Вот ответы на некоторые ее вопросы:
Место рождения: На Волге, под Симбирском.
Происхождение: Из рабочих и крестьян Симбирской губернии.
Образование: Окончила университет гражданской войны.

Этот снимок был сделан на «барже смерти» вскоре после освобождения узников.
Такой же замечательный «университет» окончили наши части, сражавшиеся под Царицыном. В 1918 году белым, несмотря на все усилия, так и не удалось захватить город. Только летом следующего года туда с большими потерями пробились войска Врангеля и Деникина.
Однако наши вскоре начали теснить противника. Волжская военная флотилия, среди кораблей которой был и «Волгарь-доброволец», поддерживала сухопутные войска.
Особенно прославили себя моряки вылазкой в северную часть города, к заводу «Дюмо» — теперь это завод «Красный Октябрь». Несколько десятков храбрецов, захватив конюшни, превратились в кавалеристов. Они вихрем проскакали до нефтяного склада, откуда к центру города ходили трамваи. Вскочили в вагоны и велели гнать к вокзалу. Из несущихся трамваев стреляли по белогвардейцам. Началась паника:
— Красные! Красные!
Местные богатеи хлынули на вокзал, где едва не разнесли готовый к отходу поезд: лезли в окна вагонов, карабкались на крыши.
Опомнившись, белые бросили против моряков столько солдат, что на каждого десантника приходилось по десять — пятнадцать преследователей. Моряки с боем отошли к Волге, потеряв многих своих товарищей.
Этот отчаянно-смелый налет напугал белых и воодушевил рабочих Царицына на борьбу за освобождение города.
Много сделали моряки и для защиты Астрахани, вокруг которой враги почти сомкнули кольцо.
Астраханским Военно-революционным комитетом руководил Сергей Миронович Киров. Его знали на Волге. Родом из маленького городка возле реки Вятки, он рано остался сиротой, воспитывался в детском приюте. За отличные успехи был направлен в Казанское механическое училище. В Казани голодал, спал на сундуке в темном коридоре, ночами на засаленном кухонном столе делал чертежи и писал листовки. Окончив училище, уехал в Сибирь, вступил в партию, участвовал в вооруженных стычках с полицией, попал в тюрьму. После Октябрьской революции Сергей Миронович помогал устанавливать Советскую власть на Северном Кавказе.
В Астрахани Киров работал без устали. Он дни и ночи проводил на заводах, вооружавших корабли красной флотилии, подбирал преданных Советской власти командиров, открывал библиотеки-читальни — словом, поспевал везде и всюду.
Киров дружил с моряками. Эти смелые люди доставляли в Астрахань горючее из... занятого врагом Баку.
На легких рыбацких лодках они пересекали бушующее море. Покупали у бакинских торговцев бензин и проскальзывали мимо вражеских дозоров. Несколько смельчаков попали в руки белых. Их живыми бросили в море, завязав вокруг шеи веревки с тяжелым камнем.
Красная флотилия помогала защищать Астрахань.
Среди боевых рейдов особенно удачным был ночной захват форта Александровского. Вражеский радист не успел отстучать написанную прыгающими буквами радиограмму коменданта: «Всем, всем, всем...»
Тогда возникла мысль: а что, если попытаться перехватывать сообщения, которые будут передавать ничего не знающие о падении форта вражеские радиостанции?
Радист, насильно мобилизованный белыми, согласился помочь нашим морякам. Он принимал радиограммы из города Гурьева, где находился штаб белого генерала Толстова. Среди них были важные донесения в штабы Деникина и Колчака: мощная радиостанция форта служила передаточным пунктом в цепочке вражеской связи.
Так продолжалось несколько дней. И однажды пришло сообщение, особенно заинтересовавшее Кирова: на судне «Лейла» к Колчаку направляется миссия деникинского генерала Гришина-Алмазова. Судно выйдет под охраной и в сопровождении английского корабля «Президент Крюгер». В море корабль повернет назад, и генералу Толстову надлежит позаботиться о встрече «Лейлы» и о том, чтобы высокий гость мог беспрепятственно и быстро продвигаться дальше в Омск, к адмиралу Колчаку.
...Когда английский крейсер расстался с «Лейлой» в открытом море, появился дымок встречающего судна. Капитан хотел было поднять сигнал приветствия, как вдруг разглядел название режущего воду миноносца: «Карл Либкнехт»!
Попытаться ускользнуть? Но снаряды предупредительных выстрелов разорвались перед самым носом «Лейлы». Когда с миноносца, быстро подошедшего к судну, уже спускали шлюпку, из иллюминаторов «Лейлы» полетели обрывки бумаг: там уничтожали важные документы.
— Немедленно закрыть все иллюминаторы, или мы расстреляем судно в упор! — загремел в рупор голос с мостика миноносца.
Генерал Гришин-Алмазов успел выстрелить дважды: в матроса, рванувшего дверь каюты, и себе в лоб. В генеральском желтом портфеле лежало письмо Деникина Колчаку и другие секретные документы. В них содержались планы контрреволюции: не задерживаясь на Волге, соединенными силами обрушиться на Москву.
«Даст бог, встретимся в Саратове,—писал Деникин.— Получаем широкую помощь снабжения от англичан...»
Захваченные документы были важности чрезвычайной: они раскрывали главный замысел врагов Советской России. О нем немедленно сообщили в Москву.
...Летом враги подступили совсем близко к Астрахани.
В ответ на призыв Ленина защищать город до конца Киров от имени всех астраханских большевиков поклялся:
— Пока в Астраханском крае есть хоть один коммунист, устье реки Волги было, есть и будет советским!
Положение на фронтах стало постепенно меняться в нашу пользу. Давление на Астрахань ослабло. Белые начали откатываться назад. Угроза для города миновала.
Прошло менее четверти века — и на низовья Волги направил удар враг куда более жестокий, сильный, коварный. Но в Сталинграде, бывшем Царицыне, ему сломали хребет.
Устье Волги было, есть и всегда будет советским! Как и вся Волга!
«Смертоносная артерия». Последние бои на Каме с отступающими колчаковцами были тяжелыми. Белые старались задержать продвижение наших кораблей.
Вот сохранившееся от тех дней подлинное донесение: «Река Кама была превращена в какую-то смертоносную водную ленту, начиненную всюду минами, перерезанную поперек цепными и бревенчатыми заграждениями, причинявшими движущимся судам в лучшем случае поломку, в худшем — гибель с массой человеческих жертв».
Красные войска, вступив в Пермь, увидели, что по реке плывут мертвые, обгоревшие суда. Белогвардейцы собрали весь лучший камский флот, свыше сотни судов, в устье реки Чусовой и выпустили в воду керосин из резервуаров. Затем подожгли его — и «огненной стихией флот был уничтожен до основания».
Далекие друзья. Когда после злейшей засухи 1921 года в Поволжье начался голод, Советское правительство распорядилось, прежде всего спасать детей. Свыше пятидесяти тысяч ребят вывезли в те места, где их могли прокормить. Детей приняли многие города и села. Часть уехала в Сибирь и Среднюю Азию.
Поезда с детворой пересекали и советскую границу: рабочие Чехословакии пригласили голодающих в свои семьи.
Ребята вернулись в Поволжье после того, как в их родных местах собрали хороший урожай.
В памяти народной. Во многих городах Поволжья установлены памятники героям гражданской войны. Их именами названы улицы, площади, корабли.
Гости города Горького из речного вокзала выходят на площадь Маркина. Имя моряка-героя впервые было присвоено боевому кораблю флотилии еще в 1918 году. «Товарищ Маркин» сражался на Волге и Каме до разгрома белогвардейцев. Морская канонерская лодка
«Маркин» входила в состав Морских сил Каспия.
«Ваня-коммунист», на котором погиб Маркин, был поднят со дна и отремонтирован в 1923 году. Он водил плоты и баржи.
Во время Великой Отечественной войны на старом судне не раз раздавался сигнал боевой тревоги. Однажды «Ваня-коммунист» подвергся воздушной атаке. Команда мужественно отстреливалась, пока прямое попадание бомбы не решило судьбу ветерана.
Когда в наши дни по Волге идет «Волгарь-доброволец», встречные суда салютуют ему. Это салют кораблю и салют героям гражданской войны.
Боевой счет. На боевом счету Волжской военной флотилии — участие в разгроме белых под Свияжском, в освобождении Казани, Вольска, Сызрани, Самары и других городов. Ее корабли содействовали обороне Царицына. На реках Каме,
Белой и Уфе они нанесли сильные удары армии Колчака.
Осенью 1919 года Волжская флотилия объединила силы с Астрахано-Каспийской. В составе единой Волжско-Каспийской флотилии было уже свыше двухсот боевых кораблей. Она обороняла устье Волги, помогла освобождению Закавказья и Каспийского моря от белогвардейцев и иностранных интервентов.
После окончания гражданской войны подсчитали: в боевых действиях, перевозке войск, перевозке раненых, доставке для фронта снарядов и продовольствия участвовала почти половина волжских пароходов.
Герои боев против белогвардейцев и интервентов получили награды. Особо были отмечены заслуги астраханских водников в обороне волжского устья. Им вручили орден Красного Знамени.
По местам военных действий на Волге и Каме отправился пароход «Красная звезда». На нем находилась Надежда Константиновна Крупская.
Пароход всюду водил за собой большую железную баржу, где устроили сцену для выступления артистов, натянули полотно киноэкрана, разместили выставки. Там же находилась походная типография для выпуска газеты.
«Красная звезда» останавливалась возле больших и малых пристаней. На митингах выступала Надежда Константиновна. Раздавались листовки и брошюры, рассказывающие о том, как рабочие и крестьяне должны строить новую жизнь. Трудно начиналась эта жизнь для волгарей! Флот поредел, для уцелевших судов не хватало топлива. Людей косил сыпной тиф. Плохо было с едой. Астраханцы, например, питались только рыбой и яблоками, никаких других продуктов в городе не осталось.

Канонерка «Ваня-коммунист », погибшая в неравном бою.
И все же настроение у речников было бодрым. В первую послевоенную зиму камские водники телеграфировали в Москву: «Трудовая дисциплина стоит на должной высоте. Несмотря на недостаток обуви и других предметов, работаем при 42 градусах мороза. Считаемся с тем, что в центре тоже ничего нет. Приступили к подъему затопленных белыми судов».
Заповедник в дельте. Еще до окончания гражданской войны, при непосредственной поддержке В. И. Ленина, был создан заповедник, сохранивший для грядущих поколений нетронутый уголок волжской дельты.
Народ начал заботиться об охране волжской природы в трудное время. Даже на следующий год после организации заповедника мимо его границ корабли Волжско-Каспийской военной флотилии уходили в море, чтобы окончательно очистить его от врага. Знаменитый боевой рейд флотилии к порту Энзели, когда вражеские корабли выкинули белый флаг, был совершен уже в мае 1920 года.

Цветет лотос, цветок мира...
В заповеднике — памятник Николаю Николаевичу Подъяпольскому, ботанику, преподавателю из Астрахани. Он был принят Владимиром Ильичем Лениным. По воспоминаниям Подъяпольского, Владимир Ильич, прочитав его докладную, одобрил идею организации заповедника и сказал, что нужно принимать срочные меры для охраны природы во всей республике.
Несколько дней спустя видные ученые по заданию Ленина набросали предварительный план создания в стране заповедных земель.
Сегодня Астраханский заповедник — значительный научный центр, разрабатывающий способы сохранения и приумножения богатств природы.
Площадь заповедника утроилась по сравнению с первоначальной. В его границах на десятки тысяч гектаров простираются пересеченные протоками прикаспийские джунгли. Весной и осенью это «гостиница для пернатых», место отдыха миллионов перелетных птиц.
В заповеднике бегают фазаны. Белые цапли, которых некогда беспощадно истребляли ради красивых перьев, стали здесь обычной птицей. Грациозно выгнув шеи, плывут лебеди. Зобатые пеликаны, шумно хлопая крыльями, загоняют рыбешку на мелкое место, чтобы вдоволь полакомиться ею.
В заповеднике цветет «каспийская роза» — лотос. Он олицетворял прекрасное в Древнем Египте, Вавилоне, Индии. Лотос был известен как символ плодородия, как цветок мира.
Сквозь огонь. Когда началась Великая Отечественная война, некоторые волжские суда, как и во времена Маркина, превратились в боевые корабли.
Они вошли в состав Волжской военной флотилии. Военные моряки действовали на плесе от Саратова до Астрахани. Отбивались от вражеской авиации, защищали при воздушных налетах грузовой флот, вылавливали из Волги мины, которые ночами, тайком, сбрасывали фашистские самолеты.
Многое сделала флотилия для победы под Сталинградом. Корабли били по врагу, поддерживая героев обороны, высаживали десанты. Морская пехота в яростной атаке отбросила прорвавшихся гитлеровцев от волжского берега.
Огнем кораблей и десантами в многочисленных боях и стычках было уничтожено более трех полков врага, много танков,пушек, автомашин.
Вместе с речниками боевые корабли перевезли через Волгу более чем полмиллиона людей, почти тридцать тысяч автомашин, свыше восьмисот орудий.
С такой огромной работой и в мирное время справиться нелегко. А ее выполнили на переправах на виду у врага, часто под его прицельным огнем. Выполнили на широкой реке, где все открыто, где некуда спрятаться: вода и небо. Вода, кипящая от разрывов, небо, откуда сыплются бомбы...
Бойцов, снаряды, пушки перевозили наименее уязвимые суденышки, в мирное время выполнявшие разную вспомогательную работу на рейде.
Самым крупным из них был пожарный пароход «Гаситель». Остальные — дореволюционный буксирный пароходик «Ласточка», буксир «Абхазец», баркас «Пожарский», катер «Лейтенант Здоровцев», буксир «Генерал Панфилов», просто «Катер № 2»...
Их команды сотни раз пересекали Волгу. Ежечасно рисковали жизнью, не спали сутками, терпели лишения. Бросались вплавь, когда через развороченный снарядами борт врывалась вода, обнажали головы над погибшими товарищами, переходили с затонувшего судна на другое,— и снова к Сталинграду, от Сталинграда — за Волгу, оттуда — опять в Сталинград...
Когда участник обороны Царицына, старый капитан Павел Иванович Колшенский, выплыв на обломке разбитого миной «Катера № 13», без промедления поднялся на мостик «Капитана Иванищева», комендант переправы только покачал головой.
Через некоторое время фашисты потопили и это судно.
— На вас, папаша, флота не напасешься,— пошутил комендант.
А капитан Колшенский тут же сменил раненого капитана «Громобоя» и отправился в новый рейс.
С горючим для танков и самолетов. Зенитные пулеметы и орудия были установлены на обычных судах, работавших в низовьях Волги.
Буксирный пароход «Сократ» атаковали несколько вражеских самолетов. Фашистские летчики рассчитывали на легкую добычу, но попали под меткий огонь. Три подбитых самолета, объятые пламенем, рухнули в Волгу.
«Сократ» водил баржи с нефтью. За военные навигации он отразил девять атак, увеличив счет сбитых самолетов до пяти. Если на обычном судне осколок бомбы мог пробить борт или вызвать пожар, то для нефтеналивного он означал взрыв, катастрофу. Растекшееся горючее превращало воду в огонь.
Перевозки нефти и бензина продолжались на Волге без перерыва, хотя фашистские самолеты особенно охотились за танкерами и нефтеналивными баржами, зная, что в их трюмах — горючее для танков и самолетов.
Я вот думаю: а сколько за всю жизнь было у меня знакомых капитанов, штурманов, лоцманов? Ну уж наверняка полтораста, если не больше.
С некоторыми встречался много лет подряд. Капитана Константина Александровича Мецайка помню с тех пор, когда мне было лет девять-десять. Потом, уже взрослым, ходил с ним в экспедицию по Енисею на Таймыр и в Карское море. Последний раз мы встретились в его юбилейную шестидесятую навигацию. Мне было уже куда больше лет, чем капитану в те годы, когда он поражал воображение мальчишек моего родного города кителем с золотыми пуговицами и белой форменной фуражкой.
Среди судоводителей, с которыми сводила меня судьба, встречались мрачноватые, осторожные, нелюдимые, суровые. Были шутники, большие охотники до всяких «розыгрышей», балагуры. Были люди суеверные, попадались также со всяческими причудами. Были образованные, были вовсе «темные», с несколькими классами школы, бравшие лишь поразительным знанием речной практики.
Всякие бывали люди, особенно в прежние годы, когда считалось, что настоящий судоводитель тот, кто начал с матроса и прошел через все мытарства и передряги речной жизни.
Но вот кого не было среди моих знакомых — людей, вовсе равнодушных к реке. Не встречал я таких, кому река казалась бы постылой. Трудной — да. Чужой — нет. Пусть не всегда была любовь, пусть иные поругивали и реку, и свое дело. А вот когда приходилось покидать судно, у многих недоставало сил вовсе расстаться с рекой.
...На нашем «Клементе Готвальде» народу было полно, даже обедали в три очереди. Постоянно толпились люди и возле киоска, где продавались газеты, журналы, значки и разная мелочь вроде косынок или крема для облегчения участи тех, кто неосторожно загорал до ожога. Газеты расхватывали мигом, но пассажиры не расходились. Сам Борис Алексеевич— так звали киоскера — был для них живой газетой.
Маленький, сухонький, в какой-то ермолке и стареньком кителе, он, казалось, никогда не закрывал окошка. Машинально перекладывая товар на крохотном прилавке так, чтобы все лежало ровно, не вкривь и вкось, Борис Алексеевич без устали отвечал на десятки вопросов.
— Нет, почтеннейший, свежий номер «Огонька» раньше Саратова нам с вами не видать. Стержни для ручек имеются фиолетовые и красные, специально для резолюций. Расписание? Да его еще в первые рейсы расхватали, благоволите воспользоваться стенным, вон оно на самом видном месте. Какую, говорите, вам в Казани улицу надо? Татарстан? Так это прямо от речного вокзала на троллейбусе, он как раз по этой улице идет.
Как-то я услышал обрывок разговора, заинтересовавшего меня.
— Нет, зря вы это! — Киоскер говорил сердито, даже ладонью по прилавку пристукивал.— Совершенно зря! Пассажирским флотом Волга и прежде славилась. Вы возьмите «Бородино», построено судно еще при царе, а двадцать три километра в час делает. Наш же самоновейший лайнер — до двадцати семи. Или, скажем, «Двадцать пятый Октябрь», я на нем в восемнадцатом году практику проходил...
Мы разговорились. Оказывается, Борис Алексеевич начал работу на Волге еще в пароходном обществе «Кавказ и Меркурий». Сначала на пристани, потом окончил речной техникум, стал капитаном. Ну, пришла пора покидать мостик...
— А как с ней расстаться, с Волгой? Пошел в судовые киоскеры. На общественных началах. Пятнадцать лет так вот и хожу. Маятно, к осени устаешь: ну, все, последний раз, бросаю! А как весна — опять тянет. Ну тянет и тянет, сил никаких нет.
Слушая старого волгаря, думал: нельзя, говоря о Волге, не рассказать о волжских судоводителях. Нет без них Волги, они — ее слуги, ее верные работники, частица ее славы.
Как раз за Горьким растянулись по берегам села, оттуда чуть не сотню лет все сильные, здоровые парни шли на Волгу, чтобы в преклонные годы передать штурвал сыновьям, вернуться на покой в родные Кадницы, Работки, Безводное.
За старыми капитанскими селами шумят на увалах густые широколиственные дубравы. Начался «Марий Эл», край марийский, земля марийцев, древнего народа, история которого прослежена по крайней мере от V века.
С времен незапамятных была Волга дорогой общения племен и народов. Случалось, что враждовали они между собой, но и перенимали друг у друга многое. Река с годами как бы сближала их. Октябрь сдружил навсегда.
Земля марийцев первая на нашем пути. Семь автономных республик связывает водными артериями великая река и ее притоки.
Вместе с русскими живут в Поволжье и Прикамье чуваши, татары, башкиры, мордва, калмыки, удмурты, марийцы.
— Птица сильна крыльями, человек — дружбой.
Так говорят марийцы. Подобные поговорки есть и у других народов. В марийских преданиях прославляется богатырь Онор, бесстрашный защитник угнетенных. И разве не будет обеднен наш рассказ о Волге, если вовсе не вспомним мы о прошлом народов Поволжья, об их борьбе за счастье, не заглянем в приволжские республиканские столицы, для начала хотя бы в ближайшую — Чебоксары?
Говаривали прежде: что ни город, то норов. Что ни город, то свои нравы и особенности, своя история, свои достопримечательности, своя судьба.
Городов на дальнейшем нашем пути к Каспию будет еще много.

На памятнике, поставленном чебоксарцами своему земляку, Чапаев словно поднимает бойцов в атаку...
Среди них — Ульяновск, родина Владимира Ильича Ленина.
Среди них — Волгоград, волжская твердыня, железная стойкость которой переломила ход всей великой войны.
А молодые города, не обозначенные на карте Поволжья ни в войну, ни в первые послевоенные годы и теперь известные миру своими индустриальными колоссами, опорой могущества державы?
Но сколько ни рассказывай о Волге, рассказ твой все равно будет далек от полноты.
Волга — тема поистине необъятная!
Как только у нас с Алексеем Николаевичем выкраивался свободный вечер, мы бродили по улицам Чебоксар.
Была поздняя теплая осень. Листья слабо шуршали под ногами на аллеях, на асфальте проспектов. В темном бархатном небе мерцали звезды. Торопились поздние троллейбусы, и яркие вспышки над ними на мгновение освещали улицу как бы бенгальским огнем.
— Вы обратите внимание на этот дом, — говорил Алексей Николаевич.— Нет, нет, не исторический памятник, архитектурная ценность его тоже не велика. Принадлежал он чувашскому купцу Федору Ефремову, а всмотритесь, что за стиль: итальянское палаццо. И жила в этом доме южанка. Тут вот какая романтическая история...
Алексей Николаевич Студенецкий — журналист и краевед. Он написал книгу «Знакомьтесь, Чебоксары...». Книга интересная, но, я думаю, автор не рассказал в ней и десятой доли того, что нашел в архивных документах, узнал от старожилов и местных ученых.
Спросите о любом сколько-нибудь приметном доме, об улочке, назовите случайно услышанное имя человека, когда-либо и чем-либо известного в Чувашии,— и Алексей Николаевич тотчас расскажет вам столько, будто на той самой улочке прожил всю жизнь, а человек, заинтересовавший вас, был его хорошим знакомым.
Особенно любил я ходить с Алексеем Николаевичем поздним вечером к Волге. Берег высоко поднят над рекой, зарос березой и тополями. В полутьме смутно белела балюстрада набережной. На скамейках безмолвствовали парочки. Влюбленные — народ вообще не шумный, а в Чувашии особенно.
Я на этот раз прожил в главном городе республики уже довольно долго и ни разу не был свидетелем уличных перебранок, крикливых ссор, пьяного буйства. О мудром миролюбии, о добросердечном нраве жителей Чувашии известно давно. Да вот, послушайте Алексея Николаевича:
— Вы даже не представляете, какой это замечательный народ! Скромный, работящий. Если бы была такая статистика — сколько хвастунов и крикунов на тысячу человек, то чуваши, уверяю вас, были бы на одном из последних мест.
Ночью приволжская часть Чебоксар куда привлекательнее, чем днем. При дневном свете она кажется несколько запущенной. Город в этом не виноват. Виновато Чебоксарское море, которое скоро придет к городу и даже войдет в него большим заливом.
Его поднимет плотина последнего волжского гидроузла.
А пока в приречных кварталах, которые будут затоплены, ничего не строят и почти ничего не ремонтируют. Люди переселяются отсюда в новые дома.
Внизу, под нами, неторопливо несет воды Волга. Она темная и спокойная, по-осеннему молчаливая. Не видно прогулочных катеров, уже не тянет людей прокатиться вечерком в легкой лодке, да и пассажирские теплоходы идут не так густо, как в разгар сезона. Только толкачей и грузовых теплоходов не убавилось. Но они ночью мало заметны, огнями не сияют: красный и зеленый по бортам, светляки на мачтах да короткие вспышки сигналов при встречах и обгонах.
Что за воздух в эти теплые осенние вечера! Ветер с заречных лугов несет ароматы вянущих трав, от Волги тянет свежестью и запахом мокрой коры: внизу за буксиром неясным прямоугольником очерчивается большой плот.
— Алексей Николаевич,— говорю я,— вот в Кинешме с приволжским бульваром связывают историю «Бесприданницы». Будто именно там и разыгрывались драматические события, взволновавшие Островского. А здесь, в Чебоксарах? Уж больно место романтическое...
— Нет, своей «Бесприданницы» чебоксарская набережная в летописях не числит, извините. Но ведь не зря же именно сюда, к Волге, к волжскому раздолью, вынес город памятник Константину Иванову. Где и стоять поэту, как не над Волгой? И вы знаете, конечно, что в его прекрасной поэме «Нарспи», переведенной на многие языки, рассказывается о несчастной и трагической любви чувашской девушки.
Алексей Николаевич прожил в Чувашии почти всю жизнь. Его отец умер во время голода в Поволжье, когда всюду свирепствовал сыпной тиф. Маленький Алеша попал в детский дом. Там вступил в комсомол. Родной край покидал только в войну, после ранения вернулся домой. Очень увлекся историей, каждый свободный час проводит в архивах.
Как-то мы встретились с Алексеем Николаевичем днем на главной улице. Но поговорить толком нам так и не дали: чуть не каждый второй прохожий здоровался с ним, да еще и перекидывался парой слов.
Я был уверен, что Чебоксары знаю давно и довольно хорошо. Бывал здесь в разные годы несколько раз. Но как бывал? День, два — и дальше.
Славна Волга городами, о которых наслышана вся страна. Чебоксары же долго оставались в тени своих более именитых соседей. Обычный волжский город, причем долгие годы считавшийся захолустьем без будущего.
Впрочем, начало его истории было как будто многообещающим.
Чебоксарам более пятисот лет, и возник город как крепость. А где крепость, там и монастырь, где военные и монахи, там и купцы.
Немецкий путешественник Адам Олеарий, посетив город в первой половине XVII века, отметил, что он приятен на вид. Более поздние путешественники застали в разросшихся Чебоксарах много ремесленников. Богатеи понастроили церквей. Казалось, что Чебоксарам суждено стать процветающим городом.
Алексей Николаевич раскопал в архиве документы: в середине XVIII века ио числу посадских жителей, купцов, ремесленников, работного люда Чебоксары обогнали Вятку, Воронеж, Рязань, Брянск. Несколько позже путешествовавшая но Волге Екатерина Вторая сделала городу комплимент: «Чебоксар во всем для меня лучше Нижнего Новгорода».
Но после страшного пожара, которые тогда вообще часто испепеляли деревянные города, начался долгий упадок Чебоксар. Город почти не рос целых два века. В 1926 году в Чебоксарах было 7702 жителя.
Сказать, что за последние десятилетия старинный город переживает второе рождение — слишком это слабо для Чебоксар!
Бывшее волжское захолустье — и взлет до университетского города, рост населения без малого в сорок раз, строительство мощнейших индустриальных предприятий, в том числе и мирового класса!
XXV съезд партии решил начать в десятой, пятилетке серийное производство промышленных 330-сильных тракторов. Где? В Чебоксарах.
XXV съезд партии постановил пустить первые агрегаты Чебоксарской ГЭС. Где она сооружается? Под Новочебоксарском.
Это был спутник столицы Чувашии, и лет пять назад я видел, как его быстро растущие кварталы начинают прижимать к Волге последние домишки приречной тихой деревеньки.
Сегодня от нее и воспоминаний не осталось. А сам Новочебоксарск далеко превзошел прежние Чебоксары: уже семьдесят пять тысяч жителей.
Над котлованом строящейся гидростанции шумит дубовая роща. Давняя любовь чувашей к лесу сберегла ее от порубок. И как славно, как спокойно здесь в солнечный денек! А рядом, внизу, стройка. Дело идет полным ходом.
Чебоксарский гидроузел завершает важное и нужное дело. Он превратит в глубоководное водохранилище оживленный участок Волги, где главенствует Горький, участок, по которому перевозят много камских и окских грузов и проходят все главные линии «река — море».
Стройка гидростанции несколько затянулась: уже готовый проект переделывали, добиваясь, чтобы водохранилище затопило как можно меньше земли. Теперь низины, пригодные для пастбищ и овощеводства, будут защищены дамбами. Строители гидростанции осушают окрестные торфяники. Затапливаете земли — превращайте в плодородные другие!
Строители наверстывают упущенное время. Когда задумывалась гидростанция, промышленность Чувашии только-только пошла в гору. А сейчас...
Недалеко от котлована ГЭС — завод промышленных тракторов. Огромные корпуса — есть такие, где двадцать гектаров под одной крышей! — заняли чистое поле как раз на полдороге между Новочебоксарском и столицей республики.
Новый завод выпускает сверхмощные машины. Они предназначены не для пахоты. Это промышленные тракторы для строек. Их ждет Байкало-Амурская магистраль. Они нужны тем, кто прокладывает нефтепроводы и газопроводы в сибирской тундре. «Чебоксарцы» помогут ускорить мелиоративные работы на стройках Нечерноземья. Годны они для карьеров и рудников открытых работ.
Почтительно разглядываю «Т-330», ярко-желтый трактор, один из первенцев завода. Машина — триста тридцать лошадиных сил. Позднее начнется выпуск и 500-сильных. А когда-то мы гордились тем, что производим машины мощностью в пятнадцать сил.
Многое может силач-«чебоксарец»! Недаром его называют волжским универсалом. Он приспособлен, например, для раскорчевки тайги. Может работать на вывозке леса там, где застрянет любая другая машина. У него навесное сменное оборудование.

Мощные промышленные тракторы — новая продукция, столицы Чувашии в десятой пятилетке.
Вот он действует как бульдозер, легко толкая перед собой гору тяжелого грунта. Сменили «нож» на ковш — и трактор превратился в экскаватор. Можно поручить ему рытье канав. Поставьте рыхлитель — его стальной зуб начнет крушить скальный грунт, какой обычно уступает только силе взрыва. Снова замена — и «чебоксарец» готов к укладке труб. А всего у него около сорока различных специальностей...
Однажды Алексей Николаевич дал мне старую пожелтевшую газету:
— Посмотрите на досуге.
Это был номер «Красной Чувашии» за 24 июня 1940 года. Ага, вот в чем дело! Фантастический рассказ «В один из июньских дней», написанный Алексеем Николаевичем.
На рисунках — плотина гидростанции и электровоз.
Я стал читать. Герой рассказа занят освоением воздушной пассажирской линии через Северный полюс. Он приезжает на Волгу в отпуск. В Чебоксарах видит троллейбусы и такси. Радуется, что над улицами поднялись пятиэтажные дома. К одному из них и направляется наш герой: там живет та, которую он любит. Но она, как на грех, отлучилась в город.
Скорее на поиски! Герой попадает в прохладные залы Чувашского университета, в парк возле Центральной библиотеки, к плотине Чебоксарской гидростанции, на завод автоматических приборов, в Чувашский театр оперы и балета...
— Алексей Николаевич, но вы ведь решительно все угадали,— сказал я при встрече, возвращая газету.— А концовка рассказа? «Фантазия осталась где-то позади, наша жизнь опередила ее, как ветер над Волгой опережает волны». Хорошо сказано! Интересно, как восприняли чебоксарцы ваш рассказ тогда, в сороковом году?
— Ну, что вам сказать? Конечно, многим хотелось, чтобы фантазия стала реальностью. Правда, железную дорогу к Чебоксарам уже успели подвести — это было в тридцать девятом,— но, как вы понимаете, троллейбус, гидростанция... И с промышленностью было не очень: кожевенный комбинат, кирпичный завод... Это теперь мы выпускаем электроаппаратуру, приборы для автоматизации, станки, ткани, сталь, посылаем свои изделия в десятки стран. А помните, какое правительственное задание получила Чувашия в годы гражданской войны? Сплести для Красной Армии миллион пар лаптей.
В название главки я вынес строчку из стихотворения татарского поэта Габдуллы Тукая: «К единой цели мы идем, свободной мы хотим России».
Тукай написал это давно, до революции. Ему не суждено было увидеть Россию своей мечты. Он приехал в Казань из татарской деревни, жил трудно и в 1913 году умер от туберкулеза в казанской больнице. Тукай завещал народу прекрасную поэму «Шурале».
Говоря о Казани, часто цитируют Маяковского: «Сказанием встает Казань, столица Красной Татарии». В этих строках был загляд в будущее. В сегодняшний день, когда над синим морским разливом и внешне сказанием встает Казань с чудесными башнями кремля на холме, с многоэтажными громадами. А из старой Казани к Волге надо было долго добираться по дамбам, мимо кривобоких домишек окраинной слободы.
Габдулла Тукай сегодня первым приветствует тех, кто приехал в столицу Татарии водной дорогой. От морского порта, от стеклянного прямоугольника вокзала город приглашает вас на широкий проспект. Над ним - памятник любимому поэту.

Казанский университет. Здесь учился Владимир Ульянов.
Быть может, в книге, которую он раскрыл, как бы готовясь вслух читать стихи, строки о Казани, возбуждающей «грусть и бодрость», об очень разной дореволюционной Казани, где дым фабричных труб уже коптил небо, а на Сенном базаре кипели мелкие торгашеские страсти, о городе, в котором люди труда начинали впервые осознавать свою силу?
Улица Татарстан ведет к оживленнейшему центру города. Там густота движения заставляет прохожих нырять в подземные переходы. Казань среди волжских городов — очередной кандидат в «миллионеры»: первым стал Горький, вторым — Куйбышев.
Куда спешат гости города? К кремлю. К Казанскому университету.
...Семья Ульяновых переехала в Казань из Симбирска летом 1887 года, вскоре после смерти Ильи Николаевича. Симбирск напоминал и о другом страшном горе: туда пришло однажды сообщение о суде над участниками «злоумышления на жизнь священной особы государя императора». В нем было сказано, что Александр Ульянов, который «принимал самое деятельное участие как в злоумышлении, так и в приготовительных действиях к его осуществлению», приговорен к смертной казни через повешение.

Татарский поэт-герой Муса Джалиль увековечен в бронзе у стен Казанского кремля.
Любимый брат Владимира Ильича был казнен в Шлиссельбургской тюрьме на рассвете 8 мая 1887 года.
Осенью того же года Владимир Ильич поступил в Казанский университет, где некогда учился его отец.
Участие в знаменитой студенческой сходке, одним из вожаков которой был первокурсник Владимир Ульянов, закончилось для него исключением из университета и высылкой в деревню Кокушкино под надзор полиции.
Неподалеку от старого здания университета, где бережно воссоздано все относящееся к недолгой студенческой жизни Владимира Ильича,— кремлевские стены и башни.
Напротив главных ворот кремля прежде стоял памятник Александру Второму. Император был изображен в генеральском мундире. Левая рука его опиралась на скипетр, символ самодержавной власти.
Теперь на этом месте памятник татарскому поэту Мусе Джалилю. Узник фашистского концлагеря, полураздетый, опутанный колючей проволокой, он как бы бросает вызов своим палачам.
Джалиля казнили за организацию подпольной группы сопротивления. Перед смертью он писал стихи, полные веры в победу.
Красива Казань с кремлевских высот. Уходит вдаль плавная линия дамб, защищающих город от волн Куйбышевского моря. У подножия холма — один из уголков новой застройки города: цирк совершенно необыкновенной формы, несколько похожий на пиалу, чашку без ручки, накрытую другой пиалой, Дворец спорта, универсальный торговый центр.
По вечерам все это, как и кремлевские башни, освещают разноцветные меняющиеся огни. Симфонию света дополняет музыка. Светомузыкальные установки, заинтересовавшие зарубежные фирмы, изобретены и изготовлены в Казани.
Кремль, бывшую резиденцию казанского губернатора, занимают теперь правительственные учреждения Советской Татарии. Их названия — на двух языках, татарском и русском. Так же, как названия казанских улиц. Так же, как вывески учреждений, магазинов, аптек. Газеты издаются на двух языках. Есть театры, где спектакли идут на татарском, есть театры, где со сцены звучит русская речь.
Русские — значительная часть населения Татарии и других национальных республик Поволжья, тогда как много татар живет в городах, далеких от Волги, например в Москве. Так исторически сложилось задолго до революции.
Житель республики свободно выбирает основной язык, на котором будет обучаться в школе его сын или дочь. В русских школах ученики по желанию обучаются татарскому. В татарских вторым языком становится русский.
Русский язык позволяет быстрее овладевать сокровищами мировой культуры. Он помогает в жизни. Татарину, пожелавшему работать на рыболовецком судне в Прибалтике или на нефтяных разработках Азербайджана, легче осваиваться на новом месте: там многие тоже говорят по-русски. Это язык межнационального общения.

Один из новых корпусов Казанского университета.
Да, Волга — река дружбы народов. Революция доказала, что былые рознь и неприязнь, которые старались раздувать царские чиновники, приносят вред всем народам, что с этим должно быть покончено.
Вскоре после того, как Ленин подписал декрет об образовании Татарской республики, на Поволжье обрушилась большая беда: засуха и голод. В 1922 году закрылось больше половины заводов Татарии: не было сырья, некому было работать.
В это страшное время голодавшая Татария получила хлеб из Белоруссии, Украины, Сибири. Города и села в разных уголках страны приняли и прокормили почти двести тысяч женщин и стариков, а также четырнадцать тысяч детей из Татарии.
Татарин, русский, украинец почувствовали тепло человеческих отношений в новой семье народов.
Семь автономных братских республик на сегодняшней карте Волжского бассейна. Семь процветающих республик. Татария производит за день гораздо больше, чем бывшая Казанская губерния за год. Но разве в других республиках не тот же мощный, все нарастающий подъем?
Важно, сколько именно продукции выпускают предприятия Татарии. Но не менее важно, какая это продукция.
Казанская губерния отправляла на Нижегородскую ярмарку мыло, свечи, сафьяновую кустарную обувь, овчины.
Советская Татария производит те же виды изделий, что и индустриально развитые страны Западной Европы. Это, например, воздушные лайнеры, электронно-вычислительные машины, синтетический каучук, полиэтилен, сложнейшие приборы, станки многих типов.
Когда в Москве работал XXV съезд партии, на Красной площади столицы, куда и легковым машинам въезд запрещен, появились грузовые автомобили. Они выстроились вблизи Спасской башни Кремля.
Огромные грузовики примчались в столицу прямиком из Татарии. Это был подарок съезду — первые машины Камского автомобильного завода.
Двадцать лет назад в путеводителе подробно описывался расположенный на Каме город Елабуга.
Елабуга — родина известного пейзажиста Шишкина, репродукции с картины которого «Утро в сосновом лесу» расходились в миллионах экземпляров и даже перешли на обертку шоколадных конфет.
В Елабуге жила героиня Отечественной войны 1812 года, девица-кавалерист Надежда Дурова, ординарец Кутузова, воспоминания которой Пушкин напечатал в «Современнике».
Наконец, над Елабугой высится «Чертово городище», развалины древнего укрепления, — сколько всяческих занятных легенд связано с ним!
А чем была примечательна соседняя пристань?
«Если бывалый пассажир сразу узнает Елабугу по башне «Чертова городища», то о приближении к следующей, лежащей на левом берегу пристани Набережные Челны говорит ему вырисовывающийся в небе силуэт элеватора. Зимой в местном затоне ремонтируются суда. Кроме судоремонтных мастерских, имеются хлопчатобумажная фабрика и лесопильный завод».
Вот и все.
Пристани Красный Ключ, расположенной несколько ниже Елабуги, путеводитель уделял вообще три строки: в местном ключе отменно вкусная вода, имеется дом отдыха речников, а также лодочная станция.
Минуло двадцать лет — и сколько перемен на небольшом плесе Камы!
Возле Набережных Челнов оказалось самое подходящее место для строительства Нижнекамской гидростанции. И на этот же тихий городок пал выбор, когда было задумано строительство завода грузовых автомобилей.
Вблизи Красного Ключа обосновались химики. На картах появился город Нижнекамск. Он рос с поразительной быстротой. Его крупный нефтехимический комбинат стал как бы связующим звеном между нефтяными промыслами и химической индустрией республики. Здесь сырье превращают, например, в этилен, нужный для производства пластмасс.
Двинулись в рост и Набережные Челны. 1970 год сделал название городка известным всем: началось строительство гиганта для выпуска грузовиков и дизельных двигателей.
Я долго не заглядывал на Каму. В памяти моей всплывал все тот же элеватор и небольшой дебаркадер, на котором праздно толпились парни.
...И вот белые многоэтажные здания камского Автограда, широко, с размахом спланированные проспекты, отличный Дворец культуры, построенный, я бы сказал, не только красиво, но даже роскошно, с гранитом и мрамором.
Что такое КамАЗ?
Самый большой в мире завод грузовых автомобилей.
По улицам городов, по шоссе с рычанием и ревом несутся грузовики, окутывая все вокруг синеватым едким газом. Если прикинуть, сколько их на дорогах страны, счет пойдет на миллионы. Но достаточно ли они мощны и грузоподъемны, эти машины? «Мамонтов» среди них маловато. В автомобильных табунах преобладают сивки-бурки XX века, поднимающие от двух до пяти тонн.
Для перевозок внутри городов они, в общем, хороши. А вот между городами — другое дело. Тем более между соседними странами.

Дорога в Автоград.
В чем преимущество больших автомашин при дальних перевозках? За баранками восьми грузовиков, везущих по две тонны, восемь шоферов. Такой же груз возьмут две машины-восьмитонки, которыми управляют два шофера. Или одна машина, поднимающая шестнадцать тонн, где за рулем один человек.
Теперь: сколько надо покрышек для восьми машин и сколько для одной, пусть огромной? Сколько места на дороге занимает одна большая машина и сколько — восемь обычных грузовиков?
В общем, современному автомобильному хозяйству без «мамонтов» обойтись трудно.
Камский автозавод, или КамАЗ, даст стране не один тип, а целое семейство особенно мощных и грузоподъемных автомашин. Некоторые, например, будут брать в рейс восемь тонн, другие — вдвое больше. А с прицепами по хорошей дороге — до шестидесяти тонн.
— Наши машины вседорожные,— говорили мне на заводе.— Могут мчаться по первоклассной магистрали, могут вывозить зерно с полей в осеннюю непогодь. Разница в загрузке. Сделано все, чтобы на плохой дороге шофер испытывал бы как можно меньше тряски. Метет пурга? Вести машину, понятно, труднее, однако никакой пурги внутри кабины шофер не почувствует: там свой микроклимат. Большой грузовик — шумная машина. Но одно дело, когда он мчится мимо вас — прошумел и исчез. Другое — слушать шум дизеля весь рейс. Вот почему шоферская кабина на наших машинах звукоизолирована. И еще: нашими машинами легко управлять.
Волга уже стала самой «автомобильной» рекой в стране. К Волжскому автомобильному заводу в Тольятти надо добавить Ярославль, выпускающий автомобильные двигатели, Горьковский и Ульяновский автозаводы, а также предприятия, производящие автомобильные детали. В Прикамье город Ижевск выпустил уже свыше миллиона малолитражных автомобилей. На Оке, в Павлово, делают небольшие автобусы.
Десятки тысяч машин с маркой «КамАЗ», где мощность двигателя — свыше двухсот лошадиных сил, машин, способных при сорокаградусном морозе и пятидесятиградусной жаре преодолевать с тяжелым грузом большие расстояния, уже работают.
Первые десятки из ста пятидесяти тысяч, которые страна будет получать от завода каждый год.
«Второе Баку». С прошлого века нефть для всего Поволжья везли через Каспийское море, из Баку. В Астрахани ее перегружали на речные суда.
В те годы во всем мире нефть возили в огромных бочках. И вот астраханцам, братьям Артемьевым, пришла в голову мысль: а что, если наливать ее прямо в трюм, разделенный перегородками?
Шхуна «Александр», переоборудованная таким образом, стала одним из первых в мире танкеров. Это было свыше ста лет назад.
В годы Советской власти геологи нашли нефть в самом Поволжье. После Великой Отечественной войны здесь стали добывать больше горючего, чем на Кавказе. Новый нефтеносный район занял первое место в стране. Его называли «Вторым Баку». Особенно много горючего дают промыслы Татарии.
Танкеры доставляют волжскую нефть во многие уголки Советского Союза и в морские зарубежные порты. Как вы знаете, в социалистические страны горючее идет и по нефтепроводу «Дружба».
На стыке трех границ. Там, где возле Волги сходятся границы трех республик — Марийской, Чувашской и Татарской,— расположены три индустриальных города. Их заводы заняты главным образом переработкой древесины. Понятно, что города-соседи тесно связаны между собой, помогают друг другу.
Зеленодольск стал одним из крупных промышленных центров Татарии. Он выпускает фанеру, мебель, шпалы. Козловка посылает продукцию далеко за пределы Чувашии. Отсюда расходятся по стране, в частности, автофургоны.
А в городе Волжске — гидролизный завод, комбинат строительной индустрии, крупный целлюлозно-бумажный комбинат. Здесь изготовляют также лыжи различных размеров и различного назначения. Треть из них поступает в детские спортивные магазины. Большие партии лыж Волжск отправляет строителям Байкало-Амурской магистрали.
До революции на марийской земле не было ни одной типографии, не выходили газеты и не печатались книги. Первой книгой, изданной после победы Октября, была биография Владимира Ильича Ленина.
Гумбольдт на сабантуе. Знаменитый немецкий ученый и путешественник Александр Гумбольдт посетил Поволжье в 1829 году.
На Волге был разлив, и путешественник, видевший великие реки Южной Америки, нашел, что мать русских рек не менее могуча.
Гумбольдту предоставили баркас — большую лодку из досок с помостом посередине. Восемь гребцов-силачей сели за весла, и плавание началось. Все радовало путешественника: прекрасная погода, красивые города, встречи с русскими учеными.
В Казани он осмотрел университет и познакомился с великим математиком Николаем Ивановичем Лобачевским. Здесь же встретил он старого знакомого, астронома Ивана Михайловича Симонова, участника знаменитой экспедиции на кораблях «Восток» и «Мирный», которым впервые удалось достичь берегов шестого материка — таинственной Антарктиды.
Гумбольдта пригласили на татарский праздник сабантуй. Крестьяне по древнему обычаю отмечали окончание полевых работ. На зеленом лугу состязались борцы и наездники.

Сабантуй, татарский народный праздник.
Сабантуй и в наши дни остается одним из самых веселых праздников Татарии.
Гости из Венгрии. В республиках марийцев и чувашей часто бывают гости из Венгрии. У народов Поволжья и венгров общая прародина — низовья Камы. Оттуда предки венгров переселились в конце IX века в причерноморские степи, затем на Дунай.
Известный венгерский композитор Золтан Кодай обрабатывал марийские и чувашские песни. Он говорил, что память о давних временах не исчезла: «Наши языки и сегодня сохраняют эту память, особенно в словах, связанных с земледелием, животноводством, бытом, и, конечно, в музыке».
Венгерские ученые составили марийско-венгерский словарь. Республиканский научно-исследовательский институт в Чебоксарах готовит к изданию капитальный трехтомный словарь чувашского языка. В работе над ним участвуют и венгерские лингвисты.
Университет столицы Чувашии и венгерского города Сегеда обмениваются студентами. Венгры изучают в Чебоксарах чувашский, чуваши в Сегеде — венгерский.
Чувашия — побратим Хевешской области в Венгрии. Чувашские строительные отряды работали в Эгере, центре области, и, конечно, на стройках Чувашии можно было услышать венгерскую речь.
Волга и Дунай протягивают друг другу руку дружбы.
«Марий Эл». Перевод двух красиво звучащих слов знаком вам: земля марийцев, край марийский. Так называется и крупное объединение механизированных овцеводческих комплексов, созданное на этой земле.
В Нечерноземье, где много хороших пастбищ, овцеводство приносит большие доходы. О том, каких овец разводить, спору не было: конечно, романовских. Тут помогли ярославцы. Не спорили и как разводить. Сама жизнь дала на это ответ: только на промышленной и научной основе.

Поволжье — одна из житниц страны.
Объединение «Марий Эл» — пять комплексов, конструкторское бюро, отделение института животноводства, овчинно-шубная фабрика, способная выпускать фирменные дубленки.
В этом объединении каждый рабочий обслуживает несколько сотен животных. Большинство животноводов — выпускники сельских производственно-технических училищ.
«КамАЗ — моя судьба». Корреспондент «Известий» спросил строителя из Набережных Челнов Раиса Салахова, чем стал для него КамАЗ. Тот ответил:
— КамАЗ — моя судьба, моя жизнь... КамАз дал мне все, что я знаю и что умею. Он дал мне дом, работу, друзей, он познакомил меня с замечательными людьми. Как посланец завода, я побывал, например, у Алексея Стаханова. КамАЗ распахнул для меня дверь в мир... Я ездил в США: Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, Питтсбург. И там повсюду о КамАЗе знают.
Кто такой Раис Салахов? Парень из татарской деревни, росший без отца в семье, где было пятеро ребятишек. Решил стать строителем, перебрался в тихий городок Набережные Челны. Самым высоким зданием был тогда элеватор, самый высокий дом имел два этажа...
А потом началась настоящая стройка — и стал Раис Салахов знатным бригадиром, депутатом Верховного Совета страны.
Добрые соседи. Сто лет назад в Петербурге вышла книга А. Овсянникова «Очерки и картины Поволжья». Автор рассказывает о народах, населяющих берега Волги. Для русских крестьян, говорит он, «чуваши самые добрые, милые и покойные соседи. Оставляйте смело ваши жилища настежь, чуваш не воспользуется вашей простотой... Он всегда и везде оправдает ваше доверие, не украдет, не обманет... Попробуйте остановиться у избы чуваша и попросить у него ковш воды, он непременно предложит вам хлеба, яиц, всего, что только найдется в его хозяйстве...
Пытливая природа чуваша развивает в нем охоту к грамотности; по этой же причине и успехи их быстрее».
Передовым русским людям всегда было чуждо чванство, стремление не признавать или умалять достоинства других народов.
Главный приток. Кама — всего лишь приток Волги, правда, главный. Но на материке Европы этот приток уступает длиной— 1805 километров — лишь самой Волге, да еще трем рекам: Дунаю, Днепру и Уралу. Площадь, с которой Кама собирает воду, немногим меньше Франции.
Мы рассказали уже кое-что о низовьях реки, о некоторых прикамских городах и заводах. Добавим, что Кама была водной дорогой в Сибирь, по которой за дружиной Ермака тронулись «встреч солнцу» отважные землепроходцы. Иных неведомая Сибирь не манила, и они осели на камских берегах. Копнули землю, нашли руды — и задымили заводские трубы, двинулись по реке баржи с добытой в варницах солью, чугуном, изделиями уральских мастеров на все руки.
Сегодня Кама — главная водная магистраль индустриального Урала. В нашей стране она на втором после Волги месте по количеству перевозимых грузов. Грузы эти — лес, нефть, уголь, машины, станки, руда, бумага и многое другое.
Речные составы идут по водохранилищам, образованным Камской и Воткинской гидростанциями, перед выходом на Волгу пересекают широкий Камский залив Куйбышевского моря. После того, как будет готова Нижнекамская ГЭС, завершающая создание камского каскада, от устья до Соликамска откроется единый глубоководный путь.
На Каме десятки городов и крупных городских поселков. Главенствует среди них Пермь — мощный индустриальный форпост Западного Урала. К тому времени, когда вы будете читать эту книгу, Пермь, вероятно, станет еще одним нашим городом-миллионером.
Слава камских городов — их индустрия: Набережные Челны — автомашины, Березники — удобрения и другая продукция химических заводов, Краснокамск — бумага и нефть, Чайковский — текстиль и химия, Нефтекамск — тут и пояснений не требуется...
О том, какое место отводится Каме в грандиозном проекте поворота части стока северных рек,— речь впереди.
«У вас нет голоса». Горький говорил о себе: «Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно — в Казани». Здесь он прошел суровую школу жизни.
Недалеко от подвала булочника, где будущий писатель работал крендельщиком и подручным пекаря, стоял дом, в котором родился Федор Иванович Шаляпин. Жизнь не баловала его: начал трудиться с одиннадцати лет, был учеником сапожника, токарем, за гроши переписывал казенные бумаги.
Горький и Шаляпин в Казани вместе ходили на Волге грузитьбаржи. Однажды в поисках работы оба пытались поступить в оперный хор. Горького приняли, будущему великому певцу отказали: «У вас нет голоса»...
Когда к обоим пришла известность, Горький и Шаляпин помогали сбору средств на постройку Народного дома в Нижнем Новгороде. Этот дом в перестроенном виде и сегодня украшает город. Горьковчане знают его как Театр оперы и балета.
В этой главе рассказывается о знаменитых волжских капитанах и еще более знаменитом лоцмане, который, впрочем, водил пароходы по совсем другой реке.
Начну с лоцмана.
Будущий знаменитый лоцман жил в маленьком городке. Большая река несла мимо мутные воды. Жаркое южное солнце палило будто вымершие улицы, по которым бродили свиньи, подбирая арбузные корки.
Но вот над дальним мысом появлялся дымок парохода. Первыми замечали его мальчишки.
— Идет! Идет! — вопили они во все горло.
И тотчас городок оживал. Забыв о жаре, все спешили к пристани.
Из высоких труб парохода валил дым. Капитан, важный и величественный, дергал ручку свистка, делал знак рукой — и матрос ударял в медный колокол. Пароходные колеса переставали вращаться, пароход останавливался, и несколько пассажиров спускались по трапу на берег.
Через десять минут капитан опять давал свисток, судно трогалось, и вскоре городок погружался в обычную дремоту.
Мальчишки тоже разбредались кто куда. Но Сэм, герой нашего рассказа, частенько задерживался на берегу, глядя вслед уходящему пароходу до тех пор, пока в голубом небе не исчезал последний след дымка. Ох, как он мечтал попасть на корабль! Сначала побыть «щенком» — это обидное прозвище давали лоцманским ученикам,— потом стать настоящим лоцманом.
Но отец Сэмюэля Клеменса умер, когда пареньку не исполнилось и двенадцати лет. В таком возрасте в «щенки» не брали, зарабатывать же на жизнь надо было немедленно. И Сэм поступил наборщиком в местную газету, а когда газетка закрылась за отсутствием читателей, стал бродячим рабочим.
Так он скитался по всей стране, занимаясь различными делами, и незаметно вырос. Но мечта стать лоцманом не покидала его.
После долгих скитаний юноша вернулся однажды в родной городок Ханнибал. Вы не слышали о нем? Ну как же, есть такой на берегах Миссисипи, которую Владимир Маяковский назвал «американской Волгой». Маленький городишко, куда сегодня ездят туристы, чтобы посмотреть необычный памятник. Не полководцу, не писателю, не ученому, а двум мальчишкам. Но о памятнике — позднее.
Так вот, однажды лоцман парохода «Поль Джонс» мистер Горас Биксби услышал за своей спиной:
— Не пожелали ли бы взять на выучку молодого человека? Я наборщик, но это мне надоело.
Лоцмана удивила манера разговора незнакомца: он сильно растягивал слова. Откуда у него такая привычка?
— Вам лучше было бы спросить об этом мою матушку,— ответил юноша.— Это она всегда растягивала слова.
Лоцман расхохотался. Парень ему понравился. Горас Биксби взялся научить «щенка» лоцманскому делу, с тем чтобы тот позднее заплатил учителю за науку из своего жалованья.
И началась эта самая наука! Мистер Биксби показывал «щенку» разные мысы, перекаты, отмели и называл их.
— Ты, мальчик, заведи себе записную книжечку и каждый раз, когда я тебе что-нибудь говорю, сразу записывай,— посоветовал он.— Лоцманом можно стать только так: надо всю реку вызубрить наизусть. Надо знать ее, как азбуку!
А Сэм-то мечтал когда-то убежать из школы на пароход, чтобы не заниматься зубрежкой!
Лоцманская наука оказалась очень сложной. Такая огромная река, как Миссисипи, которую еще индейцы прозвали «отцом вод», постоянно размывает берега, громоздит мели, меняет направления течения.
Много лет спустя Сэмюэл Клеменс вспоминал, как он понял самое главное:
— Мне стало ясно, что надо изучить очертания реки во всех возможных направлениях — задом наперед, вверх ногами, шиворот-навыворот, наизнанку, а кроме того, надо знать, что делать в темные ночи, когда у этой реки отсутствуют какие бы то ни было очертания.
Мистер Биксби иногда оставлял ученика у штурвала в опасных местах, а сам прятался поблизости, чтобы в самый последний момент прийти на помощь.
И настал наконец желанный день, когда Сэма Клеменса признали настоящим лоцманом, мастером своего дела и дали ему обучать «щенков».
Это было свыше ста лет назад. Но тут как раз и кончилось золотое время для пароходства на Миссисипи. Вдоль реки проложили железные дороги, которые гораздо быстрее возили пассажиров.
Затем в Соединенных Штатах Америки началась война между северными и южными штатами. Судоходство вовсе сократилось, и многие лоцманы остались без дела. Сэм Клеменс попытал счастья на серебряных приисках, но потерпев неудачу, попробовал писать юмористические рассказы. И это у него получилось очень хорошо.
Лоцман подписывал свои рассказы не настоящим именем, а псевдонимом: «Марк Твен». В переводе с английского это звучит довольно странно: «Мерка два» или «Отметь две».
Непонятно? Ну, это как сказать! Любой лоцман, любой капитан и матрос с Миссисипи прекрасно знали, что «мерка два» — это как раз та глубина, которая нужна для безопасного прохода судна.
Лоцман Сэмюэл Клеменс стал знаменитым писателем Марком Твеном. Он написал много чудесных книг. Среди них есть такие, где рассказывается о мальчишках, выросших на берегах Миссисипи. Это «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна».
Родной городок Ханнибал писатель назвал в книгах Санкт-Петербургом. Многие приключения Тома Сойера испытал в детстве сам будущий писатель, а также его друзья, Джон и Уилл. Тетя Полли — точный портрет матери Сэма. А Гек Финн — это маленький оборвыш Том Блэнкеншип, которого знал каждый житель Ханнибала.
Я упоминал о странном памятнике, установленном в этом городке. Он воздвигнут в честь героев книг Марка Твена — Тома Сойера и Гекльберри Финна. Босоногие, в засученных штанах и продранных рубашках, они спешат куда-то по своим мальчишеским делам.
Марк Твен написал книгу и о том, как он ходил лоцманом по «американской Волге». Книга называется «Жизнь на Миссисипи». Став уже всемирно известным писателем, слава которого была так велика, что ему посылали письма по адресу: «Америка, Марку Твену», бывший лоцман Сэмюэл Клеменс двадцать лет спустя снова отправился на реку и встретился там со старыми знакомыми. Он даже стоял на вахте в лоцманской рубке.
Марк Твен признавался, что любил профессию лоцмана и гордился ею больше всех, которыми овладел впоследствии, в том числе и писательской.
— Со временем поверхность воды стала чудесной книгой,— рассказывает Марк Твен о тех годах, когда плавал лоцманом.— Она была написана на мертвом языке для несведущего пассажира, но со мной говорила без утайки, раскрывая свои самые сокровенные тайны с такой ясностью, будто говорила живым голосом.
Вот тут-то бывший лоцман и подходит к самому важному в профессии тех, кому доверено водить суда по любой из рек земного шара. Река становится для них чудесной книгой, которую они научились читать. Но этого мало. Река — книга особенная.
— И книга эта,— продолжал Марк Твен,— была не такой, которую можно прочесть и бросить, — нет, каждый день в ней открывалось что-нибудь новое... Среди книг, написанных людьми, не было ни одной столь захватывающей, ни одной, которую было бы так интересно перечитывать, так увлекательно изучать изо дня в день.
Это было верно во времена, когда Марк Твен плавал «щенком» на Миссисипи. Это верно сегодня и останется верным завтра. Реку надо изучать изо дня в день.
И если капитан не будет снова и снова «перечитывать книгу», о которой так хорошо написал лоцман Клеменс, ему лучше покинуть судно и поискать более спокойное дело на берегу.
Я мечтаю, что когда-нибудь будет написана книга о знаменитых волжских капитанах. Она не будет приключенческой. В ней, мне кажется, должно быть просто, без прикрас, рассказано о подлинных людях и фактах.
Ведь какие события пронеслись над Волгой! Пережила она гражданскую войну, не миновала ее Великая Отечественная, фронт подходил к волжскому берегу. Сама Волга была фронтом, и капитаны водили суда под вражеским огнем.
А другие работали в мирные годы. Их труд кажется довольно будничным. Они не пробивались во льдах к Северному полюсу, не пересекали просторы южных морей, кишащих пиратами. Каждый из знаменитых капитанов трудовой Волги придумал и сделал что-то очень нужное, полезное для родной реки. И это нужное, полезное подхватили, переняли Другие.
Других — тысячи. Если каждый перевезет хотя бы на четверть больше груза, то это дополнительные миллионы тонн хлеба, соли, угля, металла, доставленные нашим городам и стройкам.
Одним из знаменитых волжских капитанов старшего поколения был Николай Иванович Чадаев. Я познакомился с ним давно, в ту пору, когда волгари называли его просто «Чадай». Похоже на «Чапай». А Чапаем, как известно, ласково именовали самого Василия Ивановича Чапаева.
Николай Иванович Чадаев, высокий, сутуловатый, шаркая ногами, расхаживал по капитанскому мостику. Был он молчалив, говорил тихо и при этом зажимал в кулак свою седенькую бородку клинышком.
Иные капитаны старались выглядеть орлами: грудь колесом, белая фуражка с золотым шитьем, зычный голос. А Чадай... Любой его помощник был одет куда щеголеватее, чем он. Китель сидел на нем мешковато, фуражку носил старую, выцветшую, похожую больше на лоцманский картуз.
Я попытался было расспрашивать о его жизни, о том, как он стал капитаном, о его знаменитых «рельсах». Но старик отвечал «да», «нет», «было дело», «что-то запамятовал, уж извините». Страницы моего блокнота оставались чистыми, если не считать завитушек, которые я чертил в полном замешательстве. Наконец Чадай сжалился:

— Отправляйтесь, стало быть, с нами в рейс. Посмотрите все своими глазами.
Лучшего и желать не оставалось.
Когда я попал к Николаю Ивановичу Чадаеву на его буксирный пароход «Степан Разин», Волга была совсем не такой, как сегодня. Не существовало еще главных волжских морей и гидростанций. Если бы тогда сказать волгарю, что на реках появятся суда, мчащиеся с быстротой поезда, он бы такую нелепицу и слушать не стал: виданное ли это дело, когда самые лучшие волжские скороходы тридцати километров в час не делают! А уж на какие только хитрости строители не пускались: и колеса особые ставили, и гребные винты изменяли, и сами пароходы строили узкими, обтекаемыми, чтобы легче резали воду, чтобы меньше ей сопротивлялись на ходу.
Нового флота на Волге было маловато. Меня удивили пароходы, где большие колеса вращались за кормой. Их называли «американцами». Такие плавали по Миссисипи во времена Марка Твена, волжские пароходчики построили подобные и у себя. Остались последние из них: «Бирюза», «Бриллиант», «Яхонт»...
«Степан Разин» был судном тоже весьма почтенного возраста. Его построили еще в прошлом веке. У него была огромная, мощная машина, две высоких трубы и очень тесные каютки: прежде судовладельцы об удобствах команды вовсе не думали.
Капитан показался мне ровесником судна. Примерно так оно и было. Весь род Чадаевых издавна трудился на Волге. Прадед ходил бурлаком, дед работал на барже, отец дослужился до капитана. Но своего сына он не сразу потянул на капитанский мостик. Заставил три года плавать матросом, причем не давал никаких поблажек, спрашивал строже, чем с чужих.
Затем Чадаев-младший три года вертел штурвальное колесо, повинуясь команде лоцмана. На Миссисипи его, конечно же, назвали бы «щенком». После трех лет науки волжские лоцманы признали Чадаева-младшего за своего. Лоцманом он ходил долго и лишь после смерти отца заменил его на капитанском мостике буксирного парохода «Баранов».
К тому времени, когда я познакомился с Николаем Ивановичем, мне еще не удалось прочесть «Жизнь на Миссисипи». Капитан Чадаев был далеко не столь красноречив, как лоцман Клеменс. Но, перелистывая много-много лет спустя старые блокноты, я поражаюсь, насколько совпадает суть рассказов судоводителей с двух великих рек.
— Волга — ведь она что? — неторопливо говорил Николай Иванович, то теребя седые короткие усы, то забирая бородку в горсть как бы с намерением вытянуть ее подлиннее.— Она и дня одинаковой не бывает. Вот, стало быть, шли мы тут прошлым рейсом. Да. Островок-то примечаете песчаный? Так он тогда чуть спину из воды показывал. А нынче — глянь-ка, какой вылез. Значит, в перекате вода ушла, обмелел перекат, надо ход сбавить, матроса на нос с шестом-наметкой послать, чтобы промеры делал. Приди сюда через день — опять новая картина, вот оно как. И тот лоцман, тот капитан, кто, одну примету глазом зацепив, по памяти всю картину окрест сложит. А как же?
Николай Иванович знал Волгу наизусть. Что там все мели да перекаты! Это уж само собой. Но был у него, как он сказал, «глаз настрелян» и на то, чтобы по чуть заметной ряби, по тому, как плывут щепочки либо опавшие листья, определять направление и скорость течения. А определив, решать, где выгоднее идти. Все время маневрировать так, чтобы при ходе против течения выбирать места, где потише, при ходе по течению — где быстрее.
И опять загвоздка: как маневрировать? В отличие от Марка Твена, который водил пассажирский пароход, капитан Чадаев тянул за своим пароходом-силачом хвост нефтеналивных барж. Они были прицеплены на длинном буксире. Глядишь, сам «Степан Разин» давно уже миновал перекат, а конец его «хвоста» только подтягивается к нему. Вот тут и рассчитывай, куда этот «хвост» отнесет течением и ветром!
Чем же все-таки прославился капитан Чадаев?
С тех пор, как «Степан Разин» появился на Волге, он, а также другие суда примерно одинаковой с ним мощности тянули против течения баржи, в которых было не больше четырнадцати-пятнадцати тысяч тонн груза.
Почему именно столько? А потому, что Американская корпорация внутренних водных путей после многих опытов на Миссисипи нашла, что брать больше груза опасно, возможна авария. Волгари с американцами спорить не стали: у нас в ту пору речная наука была не очень сильной. «Степан Разин» исправно водил свои баржи с пятнадцатью тысячами тонн груза, и все были довольны: не отстаем от Америки.
В 1935 году Алексей Стаханов установил небывалый рекорд добычи угля. К этому времени у нас уже было много новых машин, люди научились хорошо владеть ими. И посыпались рекорды за рекордами: в кузнечных цехах, на ткацких фабриках, на железных дорогах. Все заработало быстрее, смелее, сноровистее. Страна производила больше угля и стали, тканей и хлеба, станков и тракторов.
На Волге первым капитаном, начавшим работать по-стахановски, стал Николай Иванович Чадаев.
Как же все было?
— А что было? — переспросил капитан.— Ничего особенного не было. Шуметь мы не стали, не бахвалились, Волга-матушка хвастунов не любит. Думали-гадали с командой и решили к рекорду подбираться не рывком, а, значит, по ступенькам. Для первого раза попросил дать нам груза на две тысячи тонн больше американской нормы. Провели. А что, думаю, если баржи тянуть не «бочонком», как испокон веков делали, а «гусем», друг за другом? Конечно, управлять так труднее, зато выигрыш в скорости. Попробовали. Получилось. Ну, а к осени взяли баржи, в которых было тридцать четыре тысячи тонн. Стало быть, вдвое больше, чем у американцев на Миссисипи.
Год спустя капитан Чадаев провел на буксире «воз» из нефтеналивных барж, в которых было 42 тысячи тонн груза. Волга установила мировой рекорд.
Меня, конечно, интересовали подробности. Ну, были, например, штормовые ветры, какие-нибудь происшествия, опасные минуты? А капитан, зажимая в кулаке бородку, посмеивался:
— Так ведь все это в каждом дальнем рейсе бывает. Без риска в нашем деле нельзя. Как же, и туманы были, да и ветерок возле Камышина сильно нас к берегу жал. Ничего, обошлось. Прошли, ни одного бакена не сбив, нигде дна не царапнули. У капитана должны быть свои рельсы, по ним и ведешь...
— Рельсы?!
— А как же? Ежели знаешь реку, на каждом ее участке выбираешь самый надежный ход. Вот и по-
лучается вроде рельсов. Одна беда: рельсы эти раз навсегда не положишь, каждый рейс их мысленно перекладываешь.
...Много лет прошло с тех пор. Нет на Волге капитана Николая Ивановича Чадаева, но режет волжскую волну его тезка, «Капитан Чадаев». И рельсы капитана не забыты: их находят его ученики и последователи.
Что делали бурлаки? Тянули на бечеве барку, груженную товаром.
Что делали буксирные пароходы, ходившие по Волге сто лет назад? На длинном канате тянули за собой одну или несколько барж.
Что делал капитан Чадаев в годы, когда началось стахановское движение? Тянул за своим «Степаном Разиным» больше барж, чем это удавалось до той поры другим капитанам.
Бурлаков сменили пароходы, вместо маленьких барок появились большие и даже огромные баржи. Но главное оставалось без изменений: пароход или теплоход тянул за собой «воз», как лошадь тянет телегу. Между прочим, на Волге да и других реках чаще всего буксировщик с баржами так и назывался возом, а иногда караваном.
Тем временем ученые занимались интересными опытами. А что, если поставить буксировщик сзади баржи? Что, если он будет толкать баржу перед собой?
К опытам готовились долго и тщательно. И вот два совершенно одинаковых теплохода взяли две одинаковые баржи. Один тянул свою баржу, другой толкал. Тот, который толкал, вскоре ушел вперед. Кроме того, его баржа двигалась прямо, а ту, которую тянули на буксире, в трудных местах, как обычно, заносило из стороны в сторону.
В общем, опыты ученых показали, что толкать выгоднее, чем тянуть.
Но для толкания был нужен особый флот. Приспособить один теплоход с одной баржой и то оказалось трудным, сложным: не все сразу ладилось, ученые перепробовали разные способы, трудились целый год.
А как же быть со всем волжским флотом? Кроме того, придется переучивать многие тысячи людей. Кто же дерзнет, кто покажет пример другим? Кто начнет толкать баржи самостоятельно, без помощи ученых, в самом обыкновенном рейсе?
Одним из первых смельчаков оказался капитан Леонид Васильевич Пушкарев. Впрочем, тогда он еще не был капитаном. Он был штурманом, помощником капитана на стареньком буксировщике «Иркутск». А капитан «Иркутска» был тоже стареньким, собирался на пенсию, и когда Пушкарев начал уговаривать его попробовать новое дело, тот замахал руками: зачем, мол, это, вся Волга тянет помаленьку — и хорошо, нечего дурить.
— Ну ни в какую! — вспоминает Леонид Васильевич.— Я его уламываю, он свое твердит: а если авария? Наконец согласился, но предупредил: твоя затея, тебе и отвечать. Ладно, говорю, семь бед — один ответ. А бед и верно хоть отбавляй. У «Иркутска» нос острый, уж мы и так и эдак стараемся его с баржой покрепче канатами закрепить — все равно нет настоящей надежности. Наконец справились.
Поднялись в рубку — опять беда: баржа высокая, закрывает нам обзор. Что делать? Решили управлять с баржи, оттуда подавать команды на «Иркутск». Пошли. На нас со всех встречных бинокли нацеливают: чудят, мол, на «Иркутске». Окликают в рупор: что, товарищи, или буксирные канаты утонили, тянуть не на чем? Мы отшучиваемся, а дело делаем. Привели баржу благополучно раньше срока. Сделали второй рейс, третий. Тут уж многие смеяться перестали. А зимой я придумал приспособление для надежной учалки парохода с баржой. Совсем хорошо пошло дело!
Я навестил Пушкарева позднее, когда его перевели на новое мощное судно «Адмирал Ушаков».
Тогда он был уже не просто капитаном, а капитаном-механиком.
И на Волге и на Миссисипи издавна было так: капитан и лоцман, неся вахту на капитанском мостике, вели судно, а внизу, в машинном отделении, механик и его помощники управляли машиной, выполняя их команду. Капитан почти не разбирался в двигателях, а механик не рискнул бы встать к штурвальному колесу даже на самом спокойном плесе.
Когда надо было прибавить или убавить ход, лоцман Клеменс дергал за веревку колокола, из машинного отделения ему отвечали таким же звонком — мол, слушаем вас, а затем с мостика в переговорную трубу кричали: «Полный ход!» Позднее трубу заменил машинный телеграф, но суть дела от этого не менялась.
Между тем на реках появились навигационные знаки, показывающие, где и как вести судно. Уже не было нужды заучивать наизусть каждый мысок и каждую отмель.
Капитаны смогли обходиться без лоцманов. В 1949 году последний из них прошел по Волге последним рейсом. Лоцманы превратились в штурманов. Прежде они знали только реку, только водный путь. Теперь они изучили судно и могли управлять им, как управляют капитаны.
Совершенствовались и двигатели, паровую машину сменял дизель. Можно было прямо с мостика легко запускать и останавливать его, менять скорость хода. И капитаны стали изучать двигатели, а механики — судовождение.
Первые капитаны-механики, владеющие сразу двумя профессиями, появились на небольших пригородных катерах. Там-то все проще! И управление не сложное, и машина маломощная. А вот как пойдет дело на больших кораблях?
«Адмирал Ушаков» был большим и мощным буксирным теплоходом. На судне работало двадцать два человека. Сначала сам Пушкарев освоил машину и научился управлять ею с мостика. Потом механик стал постепенно осваиваться на капитанском месте. А за ними и другие члены экипажа овладели второй профессией. Пятнадцать человек справлялись с работой, которую прежде выполняли двадцать два.
Как-то стал я расспрашивать Леонида Васильевича о детстве, о юности. Он, по обыкновению, начал деловито, будто заполнял анкету:
— Ну что? Тут все в десять слов укладывается. Отец на «Иркутске» работал, я на этом суденышке помню себя с пяти лет. Да. Отец был первым штурманом. На «Иркутске» и умер. И я на «Иркутске» дорос до отцова места. А из первых штурманов в капитаны — один шаг. Вот, в основных чертах...
— Слышал, в войну вы сильно поморозились, чуть ног не лишились...
— Что?! Наговорят тоже, только слушай! Правда, с тех пор если застужу или промочу ноги — болят.
— Так как же все-таки было?
— Да в войну. В первый год. Вел наш «Иркутск» баржи с ребятишками. Их из Ленинграда успели вывезти еще до того, как фашисты окружили город. Надо было доставить туда, где теплее, — в Куйбышев, в Саратов. А уже зима на носу. По Волге лед все гуще, все плотнее. До Кинешмы кое-как дотянули, а дальше — стоп: ледовый затор, смерзшийся лед. А возле затора суда с пассажирами, тоже эвакуированными. Нам приказ — на выручку. Баржи оставили, повели свой «Иркутск» крушить лед, другим дорогу прокладывать. Ума не приложу, как мы вызволили, их.
Ну и встала вся флотилия возле берега на зимовку. Мы последними угомонились, шли во льду толщиной сантиметров двадцать. Под конец пешнями путь пробивали. Пассажиров сразу увезли на лошадях и машинах, а речники, конечно, остались, чтобы суда отремонтировать, а весной от ледохода спасти.
— Тогда и поморозились?
— Тогда только уши мне прихватило да руки. А с ногами так. Поручили мне как-то долбить лед возле винта вмерзшего парохода. Там тесно, неудобно. А мороз около сорока пяти градусов., зима лютой была. Мне ничего, жарко, даже пар идет, только ноги затекли, совсем их не чувствую. Занемели, думаю, ведь согнулся в три погибели.
Приходит капитан: «Молодец, Ленька, давай кончай, пойдем обедать». Выполз я из своей ямы — и хлоп на лед. Капитан испугался: «Ты что, парень?!» Ноги, говорю, не идут. Он кликнул моего дружка, Яшку, вдвоем они меня под руки — и в избушку, где народ отогревается.
Разрезали мне валенки: снять нельзя было, они к ногам примерзли. Ноги белые, мертвые. Притащили воду со льдом, давай оттирать. Я ору, боль немыслимая. А капитан: «Терпи, Ленька, если всю жизнь на костылях ковылять не хочешь». Оттерли. Две недели, верно, ходить не мог. И вся кожа слезла, это уж само собой. Я бы, наверное, быстрее поправился, так ведь еда-то какая была? По талонам, по карточкам щи из зеленой мерзлой капусты, ее в поле с осени оставили, убирать было некому. На второе ложка пюре из мерзлой картошки.
— А что потом с «Иркутском»?
— Переделали в военное судно. Ушел под Сталинград. Меня за малолетством не взяли. После того, как гитлеровцев в Сталинграде разгромили, опять стал наш «Иркутск» волжским работягой. И я на него, конечно, вернулся. По сравнению с «Адмиралом Ушаковым» таким он мне теперь стареньким да слабым вспоминается, а вот смотрите: и за ледокол потрудился, и за Волгу постоял, под вражеским огнем действовал.
На «Адмирале Ушакове» Леонид Васильевич стад толкать две баржи и при этом нашел надежный способ их учалки, то есть соединения между собой и с толкачом.
Его назначили капитаном-наставником, капитаном над капитанами. Он обучал толканию тех, кто за долгие годы работы на Волге привык тянуть баржи на буксире.
Поручили ему затем дело еще более сложное: следить за строгим соблюдением правил судоходства на всей главной улице России. Чтобы, например, в тесноте не сталкивались суда. А на Волге теснее год от года. Ко всей громаде волжского большого флота добавьте-ка почти триста тысяч лодок с подвесными моторами.
Под наблюдением Пушкарева вся Волга. Инспекторов же судоходства, его помощников — чуть больше сотни. Мало. На быстроходных катерах уже не справляются. Пошли в дело вертолеты: сверху виднее. Катера патрулируют на плесе, вертолеты — над плесом. Переговариваются между собой по радио.

Таков капитанский мостик современного волжского судна.
Леонид Васильевич носится по всей Волге, по всем ее «горячим точкам» — есть такие и на реке, особенно в годы мелководья или под ледостав, когда мороз может прихватить судно на плесе, да еще в опасном месте.
О Пушкареве говорят: капитанский талант. А это, помимо тонкого знания дела, чуткость ко всему новому, готовность рискнуть с ясной головой и трезвым расчетом, умение в трудных случаях быстро обдумать все способы выхода из положения и безошибочно выбрать наиболее подходящий. Капитанский талант — это, следовательно, быстрота и смелость мысли. Ну и, конечно, опыт, знание реки, знание людей, с которыми работаешь.
В канун нашей недавней встречи Пушкарев вернулся с Куйбышевского моря. Попал там в сильный шторм, едва его катер на берег не выбросило. Каждодневных хлопот у него полным-полно. Но не был бы он тем Пушкаревым, который столько раз заставлял говорить о себе Волгу, если бы голова его была занята только ими. Нет, опять задумал новое.
Протягивает книгу «Управление речными судами при плавании в ледовых условиях». Он — один из ее авторов. Я уже видел эту книгу в библиотеке. Там доказывается, что с помощью речных ледоколов современный волжский флот может плавать дольше. Приходит время поспорить с природой наших рек, отвоевать для навигации лишние дни, недели, даже месяцы!
— Мы уже удлиняем плавание флота суток на пятнадцать,—- поясняет мне Леонид Васильевич.— А дайте нам несколько мощных линейных ледоколов — и откроем судам дорогу во льдах по весне и осенью. Осенью льды, понятно, моложе, слабее. Но весна благоприятнее в другом смысле. Каждый речник по весне о воде тоскует, в бой рвется. А к осени люди устают. Во льды же надо идти смело, весело. И есть на чем идти! Новые наши корабли и сейчас прокладывают путь немногим хуже старых волжских ледоколов, А как получим линейные — расступись Волга! Это дело захватывающее! Ого!
Позавидовал я капитану Пушкареву. Разве такого человека можно разлучить с Волгой? Все его думы о ней, о Волге, о том, чтобы сделать для нее еще что-либо нужное, полезное.
Был капитан Пушкарев в числе первых, кто переучивал Волгу, заставлял ее не тянуть, а толкать. И что же сегодня? Весь волжский буксирный флот, за самым малым исключением, работает по-новому.
Выигрыш тут бесспорный. Ускорилось движение судов. Стало легче, проще использовать разные механизмы и автоматы. Улучшился труд и быт речников.
Пройдя Волгу от Москвы до Астрахани, я видел, как всюду резали воду мощные толкачи с высоко поднятыми рубками, толкая перед собой баржи-громадины.
Мне попался на глаза лишь один прежний «воз». Старый пароход тянул на длинном буксире шесть барж и баржонок разной величины, счаленных попарно, а в хвосте болталось совсем уж корыто. На баржах был лесной груз — доски, горбыли, тонкие бревна. Смотреть диковинный «воз» собрались любопытные пассажиры всех трех палуб встречного туристского теплохода, и дети смеялись, показывая пальцами!
А ведь это был всего лишь вчерашний день Волги.
Я прошел немного на толкаче «ОТ-2005» с учеником Пушкарева, капитаном Николаем Михайловичем Сенаторовым.
Толкач вел секционный состав. Раньше составы были только на железных дорогах. Теперь есть и на водных. Только вместо вагонов — стандартные баржи-секции. У них, как и у вагонов, надежные устройства для автоматической сцепки. Получается одно целое с толкачом.
С железнодорожных составов исчезли проводники, торчавшие у ручных тормозов на вагонных площадках. На баржах-секциях стали ненужными команды.
Толкач — словно локомотив, только локомотив с телевизором, холодильником, мягкой мебелью: здесь для команды стол и дом на всю навигацию.
Капитан Сенаторов, крупный, добродушный, сидел в рубке на вращающемся кресле. Действуя рукояткой управления, он вел состав точно по фарватеру, довольно узкому коридору между красными и белыми буями. И какой состав! 274 метра в длину.
Однажды мне довелось возвращаться из Америки в Европу на «Куин Элизабет», одном из прославленных океанских гигантов, самом большом пассажирском судне в мире. Вместе с билетом пассажирам вручали роскошно отпечатанную книжечку: знайте, мол, на какой громадине вам посчастливилось пересекать Атлантический океан.
Она сохранилась у меня, и, заглянув в нее после возвращения с Волги, я глазам своим едва поверил: оказывается, «Куин Элизабет» лишь на сорок метров длиннее нынешнего большегрузного состава волгарей.
Состав «ОТ-2005» вез против течения восемнадцать тысяч тонн соли и щебня для химических предприятий и строек Поволжья.
Капитан Сенаторов по-своему тоже «толкнул Волгу».
Пушкарев первым начал толкать две баржи, Сенаторов — четыре, причем очень больших. Его судно установило на речном транспорте страны рекорд производительности труда.
А посмотришь на капитана Сенаторова в рубке — будто он спокойно, неторопливо читает книгу. Ту книгу, о которой говорил Марк Твен.
Я спросил капитана, кем был его отец.
— Коренным волгарем,— ответил капитан.
— А хотели бы вы, чтобы и ваши дети работали на Волге?
— Знакомьтесь,—сказал Николай Михайлович, показывая па высокого парня, как раз поднявшегося в рубку.— Мой сын, рулевой-моторист Александр Сенаторов. Саша, проводи товарища писателя в машинное отделение. Там на вахте рулевой-моторист Владимир Шаров. Сын моего главного помощника, капитана-дублера Геннадия Асафовича Шарова.
Виктора Григорьевича Полуэктова я привык видеть у штурвала судов на подводных крыльях. Он и теперь на крылатых, только чаще рядом с капитаном: следит и за судном, и за судоводителем, чтобы в нужную секунду дать единственно верный совет.
Виктор Григорьевич стал капитаном-наставником скоростного флота всей Волги. А зимой к нему съезжаются капитаны из далеких бассейнов, куда либо Северным морским путем, либо по суше — бывает и такое — доставляют «Ракеты» и «Метеоры».
Да, быть капитаном-наставником чуть не всего, что бегает на подводных крыльях по рекам страны, почетно, ответственно. Но когда я спросил, чего бы хотел сегодня Виктор Григорьевич, он посмотрел на меня с удивлением:
— Странный вопрос! Испытывать, конечно!
До того как стать капитаном-наставником, был Полуэктов капитаном-испытателем. Есть такая должность или, быть может, такая жизненная нацеленность. Последнее вернее. По приказу стать настоящим испытателем нельзя. Надо обладать для этого если не талантом, так даром. И смелостью. И еще многими другими качествами. Об этом достаточно написано в очерках о наших летчиках-испытателях.
Крылатое судно не летает. Но когда эти суда испытывались впервые, о них знали не больше, чем о самолете необычной конструкции. Это была техническая революция на флоте, совершенно новые, непривычные отношения с водной стихией — и здесь можно было ждать всякого.
Капитан Полуэктов начинал, можно сказать, с самого начала. С первого, головного образца «Ракеты». С конструкторского бюро знаменитого (впрочем, знаменитым он стал позже) Ростислава Евгеньевича Алексеева. Не посадили капитана на готовую «Ракету», нет! Его позвали на «Красное Сормово», когда «Ракета» только еще рождалась.

На волжских морях не всегда тишь и благодать...
Рождалась мучительно, трудно, потому что почти все в ней было другим, нежели на тысячах тысяч судов, сработанных человечеством с тех пор, как Фультон отправил в рейс свой «Клермонт», как Берд построил в Петербурге «Елизавету», как завод в Пожве пустил первые неуклюжие пароходы по Каме и Волге.
Создание крылатых судов прославило Волгу. Не обойден славой и капитан Полуэктов. Он лауреат Ленинской премии, которой отметили тех, кто вынашивал идею, строил и испытывал корабли на подводных крыльях. Получил Виктор Григорьевич и прозвище, звучащее названием многосерийного приключенческого фильма: «капитан Скорость».
Приключений у капитана и в самом деле было предостаточно. Но рассказывать о них он не любит, любое укладывается у него в несколько фраз:
— Ну, возьмем первый выход на «Буревестнике». Скорость, вы знаете, за девяносто километров в час. Прошли мы минут пять — и вдруг всё отказало. Все, кроме руля. На борту полно людей, а навстречу пассажирский теплоход пригородного сообщения, и тоже переполнен. Я проскочил метрах в трех от него. Сначала как будто ничего, а потом... Хочу встать — не могу: прирос к креслу. Ноги ватные.
Речное дело «капитан Скорость» начинал осваивать, как многие его сверстники. В четырнадцать помогал шкиперу на маленькой пристани (время было военное), пошел затем в матросы, выдвинулся в рулевые-мотористы, навигацию проходил боцманом, поступил в речное училище. Стал третьим штурманом, потом первым. В капитанском деле преуспел быстро, и когда сормовичи попросили у речников судоводителя, сочетающего молодость, опыт, смелость, техническую хватку, выбор пал на Полуэктова.
Он пришел в цех. «Ракеты» еще не было. Первая строилась при нем и не без его участия. Он первым испытывал первое судно. Летом 1957 года, в Москве, во время фестиваля молодежи и студентов, показывал невиданный корабль гостям со всего света. Участвовал затем в конструировании и испытаниях первого «Метеора», привел его в столицу, где судно осмотрели руководители партии и правительства.
Полуэктов «обкатывал» также трехсотместный «Спутник». Следом за ним — первый газотурбоход «Буревестник», вмещающий полтораста пассажиров и способный развивать скорость, близкую к ста километрам. Это было самое трудное судно из всех. Его пришлось не просто испытывать, но и осваивать, притом в обычных рейсах, укладываясь в расписание, воюя с различными неполадками.
Конструкторы работали почти сутками. С завода приезжали на причал к Полуэктову. Расспрашивали, советовали — и сами просили совета.
— Первым всегда плохо,— просто сказал Виктор Григорьевич, когда мы с ним перебрали в памяти имена и даты.— Но зато до чего же интересно! В том, наверное, и полнота жизни.
Вспоминает атмосферу коллективного творчества, находки, споры. У Алексеева, «отца крылатых», была порой грубоватая прямота. Нервный, темпераментный конструктор Зайцев весь кипел, горел...
«Метеоры» бегают под номерами. Исключение — «Инженер Зайцев». Там в салоне на самом видном месте — большая металлическая доска с портретом. На доске: «Инженер Зайцев Николай Алексеевич. 1922—1967. Известный советский конструктор, лауреат Ленинской и Государственных премий. Один из основоположников создания отечественных судов на подводных крыльях. Под его руководством и при личном творческом участии созданы суда на подводных крыльях «Волга», «Ракета», «Метеор», «Беларусь», «Чайка», «Буревестник», «Комета», «Вихрь».
На портрете он совсем молодой. Должно быть, перерисован с какой-нибудь ранней фотографии, последние годы не снимался за недосугом.
Семейство крылатых быстро разлетелось по рекам. Не только у нас — на всех материках. И по морям, материки омывающим.
Пересаживаясь с одного крылатого судна на другое, можно пронестись по всей Волге, от Рыбинска до Астрахани. Быстрее только самолетом. Сибирь, где реки в некоторых районах все еще остаются главными путями сообщения, получает «Ракеты» Северным морским путем на кораблях ледового плавания. Так доставили первую «Комету» для Байкала.
Но Сибирь нетерпелива — и помимо водной приспособили для крылатых еще и автомобильную трассу от Перми до Тюмени. Везут их в нефтяные края на особых трайлерах. Восемьсот пятьдесят километров — за неделю, тогда как через полярные моря дорога растягивалась иногда на всю навигацию.
По заказу фирмы «Кларк шипинг лимитед» наши морские «Кометы» отправились в Англию, чтобы скоростной линией связать Лондон с европейским побережьем. «Волгу-70», «Ракету» и другие крылатые суда знают в Японии, Соединенных Штатах Америки, ФРГ, Италии, Марокко.
Среди заказов, которые получает наш «Судоимпорт», был, в частности, заказ из Тринидада: другое полушарие, Вест-Индский архипелаг, воды южных морей. Впрочем, перечислять все страны, куда идут наши скоростные суда,— дело долгое: таких стран свыше четырех десятков.
Семья крылатых пополняется усовершенствованными судами: для рек — «Восходом», для морей — «Циклоном», вмещающим двести пятьдесят пассажиров. А начало всему — Волга, «Красное Сормово», небольшая группа конструкторов-энтузиастов во главе с Ростиславом Евгеньевичем Алексеевым, группа, в которой нашел свое место и сказал веское слово «капитан Скорость».
Огромный дизель-электроход замер посредине Волги. С борта спустили шлюпку. В нее сели люди, чью грудь украшали ордена и медали. Большой венок и букеты живых цветов лежали на красном полотнище. Пассажиры от мала до велика стояли на палубах, обнажив головы.
Капитан скомандовал:
— Венок в Волгу опустить!
Он медленно поплыл, колыхаясь на легкой волне. Следом в воду полетели цветы. Бросали со шлюпки, бросали с борта судна.
И вновь раздался голос капитана:
— Защитникам города-героя Волгограда, погибшим в годы Великой Отечественной войны,— салют!
Над Волгой торжественно и печально прозвучал долгий сигнал дизель-электрохода.
Это было как раз напротив Мамаева кургана, где высится гигантская скульптура Родины-Матери, как бы ведущей воинов в решительный бой.
Дизель-электроход «Ленин», главный, флагманский корабль волжского флота, останавливается здесь для торжественной церемонии.
Этому кораблю, построенному сормовичами, ежегодно выпадает честь и открывать навигацию на Волге. Он выходит в первый рейс из Горького 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича Ленина. В эту нору на Волге иногда еще довольно холодно, но все равно на флагмане много пассажиров. Первый рейс особенный. Дизель-электроход направляется к Ульяновску. Там пассажиры приносят первые тюльпаны к подножию памятника Владимиру Ильичу.
Командует флагманом Волги капитан Кириллов.
Мне рассказал о нем министр речного флота Российской Федерации Сергей Андреевич Кучкин.
Сергей Андреевич сам волгарь. Родился в Волгограде. Прошел, можно сказать, всю речную науку. Начинал кочегаром на волжском пароходе, был начальником пристани, начальником пароходства, окончил Академию морского и речного флота.
Во время Сталинградской битвы Сергей Андреевич Кучкин находился среди речников, смело и мужественно работавших под огнем врага на волжских переправах.
Когда я спросил министра, кто будет открывать очередную волжскую навигацию, он ответил:
— Как всегда, Володя... простите, Владимир Кириллов.
Министр запомнил будущего капитана флагмана еще со времен битвы за Волгу.
— Ему тогда было лет восемнадцать, не больше. Почти мальчик на капитанском мостике. Суденышко все продырявлено, живого места нет, рядом догорает «Красноармеец»... В войну люди рано взрослели. Вы непременно побывайте у Кириллова, посмотрите, какой у него порядок на судне, да и самого расспросите о прошлом.
С тех пор я и зачастил на флагман. И верно, судно отличное. Очень его любят туристы. Даже в осенний рейс на нем так славно и интересно. Холодный ветер? Ну и что? В каютах свой климат, можешь устроить себе хоть тропики, а в летний зной — прохладу. И для прогулок в непогоду есть закрытые палубы.
В Горьком по холмам прошлой весной еще лежал снег. Музыканты оркестра, пришедшего проводить судно в первый рейс, дули на озябшие руки. В пути чайки кружились над льдинами, но льдины такому судну не страшны, оно их колет и режет. С каждым километром к югу становилось все теплее и теплее, возле Куйбышева — разгар весны, в Ульяновске весь склон в белом цветении яблоневых садов. А если отправиться дальше, к Астрахани, там ужеи загорать можно.
У Владимира Андреевича Кириллова среди других правительственных наград — медаль «За оборону Сталинграда». Вот история этой медали, рассказанная капитаном.
— Когда началась война, я учился в речном техникуме. Мне оставался еще год, но нас стали спешно готовить к выпуску: на пароходах людей сильно поубавилось, многие ушли на фронт. Давайте, говорят, на их место. И после выпуска меня назначили на буксирный пароход «Орджоникидзе» сразу третьим штурманом. Ног под собой не чуял от гордости. Прямо, можно сказать, на капитанский мостик! И начали мы ходить под Сталинградом. Сначала ничего, а потом попали в переделку...
Когда на «Орджоникидзе» налетели вражеские самолеты, Володя Кириллов вместе со своим другом Сашей Лепилкиным только что отплыли от парохода в лодке — их послали за хлебом на берег.
Одна бомба разорвалась неподалеку. Володя почувствовал боль в затылке, упал на дно лодки, закричал: «Сашка, меня ранило!» Никто не откликнулся. «Да Сашка же!» Молчание.
Володя приподнялся, оглянулся и почувствовал, что у него остановилось сердце: Саша лежал обезглавленный в луже крови. Ему осколком бомбы оторвало голову.
Отсюда. из капитанской рубки, можно управлять всеми главными механизмами лайнера.

И тут еще одна бомба подняла фонтан посередине реки. Взрывная волна опрокинула лодку, Володя оказался в воде. Он плохо помнил, что было дальше. От потери крови стал слабеть и утонул бы, если бы его не заметили с баржи и не вытащили из воды.
Отлежавшись, он побрел искать свой пароход. По дороге наткнулся на смертельно раненного капитана «Орджоникидзе» Леонида Александровича Загрядцева. Перед самой бомбежкой его вызвали на берег. Увидев, что судно в опасности, капитан бросился назад — и тут его настиг осколок.
Одиннадцать человек потерял «Орджоникидзе» за несколько минут вражеского налета.
Кириллов работал под Сталинградом до той поры, пока судно не вмерзло в лед. Потом простился с товарищами и пошел на морской флот. Воевал на Севере, в полярных морях, служил на подводной лодке.
Когда флагман Волги замедляет ход возле Мамаева кургана и матросы готовят к спуску шлюпку с венком, капитан надевает парадный мундир с боевыми наградами.
Шлюпка провожает медленно плывущий по течению венок, судовой сигнал призывает почтить память погибших минутой молчания, а капитан вспоминает своего друга Сашу Лепилкина, своего первого учителя капитана Загрядцева и многих, многих других, сложивших голову за Волгу и Родину.
Не подумайте, что в заголовке опечатка. Вот именно так: не Миша-капитан, а Маша-капитан.
Знакомы мы были еще с военных лет. И после войны в первые годы встречались. А потом потерял я след капитана Марии Поповой. Спрашиваю — нет, не знаем такую, должно быть, ушла с флота на берег. Сменила профессию, не женское это дело — капитанить. Ну, в войну понятно, а после войны...
В военные годы о Поповой слышали многие. Я тогда писал о ней в газете. Вот что писал:
«Она выросла в приволжском городе Козьмодемьянске, который стоит в стороне от железных дорог и оживает по весне с первым гудком парохода. Это город речников и плотогонов, которые сплавляют плоты в низовья Волги. Многие мальчишки в Козьмодемьянске мечтали стать капитанами. Но из девочек, кажется, только пионервожатая Маша Попова решила поступить в речной техникум.
В самый канун войны она получила диплом штурмана. А когда началась война, ее назначили капитаном на буксирный пароход «Краснознаменец».
Мария Попова решила доказать, что в трудное для страны время женщины могут заменить мужчин на самой трудной работе. Она набрала на свой «Краснознаменец» экипаж, состоящий почти целиком из женщин. Единственный мужчина на пароходе — судовой механик.
Сначала волгари прозвали было «Краснознаменец» плавучим женским монастырем. Но после того, как судно с честью выдержало испытания и справилось с перевозкой грузов для фронта, экипаж «Краснознаменца» стали называть «женским батальоном».
Так я писал тогда.
И вот снова встретились почти случайно. Она, оказывается, после замужества сменила фамилию,— потому-то я так долго и не мог ее разыскать.
Изменилась Маша-капитан, под белым беретом волосы с сединкой — не прежние, золотистые. Но осталась такой же быстрой, такой же худощавой, не погрузнела нисколько.
— Так ведь должность хлопотная, забот много! Быть штурманом на нашей громадине, пожалуй, посложнее, чем капитаном на «Краснознаменце».
«Дмитрий Пожарский», на котором она работает, раза в три больше ее первого судна.
— Вы знаете, в войну без огней ходили, в темноте кромешной —- и ничего. Теперь не Волга, а проспект настоящий, всюду знаки, вся рубка в приборах, все они твои помощники — но все же...
Она открывает ящик столика в каюте, достает пакеты с фотографиями, со статьями из газет. Тут и моя статейка, та самая, которую вы только что прочитали.
Мы вспоминаем прошлое, перебиваем друг друга, а на нас снисходительно посматривает Люба, дочь Марии Николаевны. Она молодой инженер, работает в конструкторском бюро, где думают над новыми моделями кораблей на подводных крыльях.
А вот фотография ее мамы в том же возрасте: из спасательного круга с надписью «Краснознаменец» выглядывают две девичьи физиономии. Девицы хмурят брови, чтобы казаться серьезными и важными. На них форменные кителя речников.
— Это Сима Игнатьева, мой первый штурман. Нам новую форму выдали, мы и снялись. Как раз перед рейсом с фронтовым грузом. Потом таких рейсов много было, привыкли. Помню, на открытом месте не боялись. Ну бомбят и бомбят. Научились по звуку узнавать, чей летит, наш или фашист. Маневрировать можно, если, конечно, не стаей налетят.
А вот в шлюзе... Опускаешься вместе в водой словно в могилу. Ночь, тьма-тьмущая, все замаскировано, ни одного огонька. По бокам — мокрые стены, вверху только кусочек неба, а в небе они воют, проклятые. Ну могила и могила! Накроет бомба — и все. Девчата у меня плакали, а одна под койку забилась: лучше, говорит, тут умру. Едва ее оттуда вытащили.

Маленькая «Ласточка», которую знали все на огненных сталинградских переправах...
Дочь смеется. Она-то видела бомбежки только в кино. В кино не страшно, в кино под мягкое кресло не лезут даже самые маленькие.
Я спрашиваю Марию Николаевну, Машу-капитана: а если бы ей начинать жизнь сначала, что бы она выбрала?
— Чего же тут спрашивать? Странно даже. Волгу выбрала бы. Капитанский мостик. Люблю Волгу, в ней все для меня — и труд и дом.
Дорога на мостик. Первыми водителями волжских пароходов были опытные лоцманы, прежде ходившие по реке на непаровых судах. Потом судовладельцы стали приглашать иностранцев. «Немец у нас капитан, но русские все кочегары»,— писал Добролюбов. Это продолжалось недолго. На волжские большие пароходы стали охотно поступать вышедшие в отставку русские морские офицеры.
Постепенно подавляющее большинство капитанов составили наиболее способные практики, смолоду выбравшие речное дело.
Любопытно, что даже в 1926 году на Волге встречались малограмотные капитаны. Написать отчет о рейсе им было труднее, чем отстоять несколько ночных вахт.
В тот год половина руководителей пароходств в графе «образование» писала: «начальное». Капитан с дипломом был тогда редкостью. Сегодня капитана без диплома можно встретить разве что на маленьком вспомогательном суденышке.
И тронулся лед... Этого дня с нетерпением ждут волгари. Тронулся лед — значит, скоро в первый рейс! Начинается навигация, оживает река.
Обычно Волга вскрывается возле Астрахани уже в середине марта, а иногда и еще раньше, около Волгограда — в первой половине апреля, на всем остальном протяжении — в апреле. Но, как говорится, год на год не приходится. Иногда весна запаздывает. Да и водохранилища внесли свои поправки: лед на них держится дольше, чем на обычных плесах.
Речники научились поторапливать весну. Где надо, им помогают саперы: взрывают лед. На водохранилищах прокладывают трассы ледоколы «Волга», «Дон», «Днепр», «Кубань» и другие.
Ледоколов на Волге все больше. Сделав свое дело, они превращаются в обычные буксиры и работают до осени, когда им снова предстоят схватки со льдами.
К помещику в гости... Одна из волжских дореволюционных газет опубликовала воспоминания о первых пароходах общества «Самолет».
Волжский старожил замечает, что «они были диковинкой для публики. Капитаны изображали из себя очень важных особ и с пассажирами не церемонились. О расписании рейсов не было и помину; загадывать вперед, мол, приду тогда-то, считалось чуть ли не грехом. Бывало, пароход причалит где-нибудь —и стоит час, другой, а иногда и целый день: это капитан отправился на охоту или пошел в гости к знакомому помещику».
Рассказчик считал естественным, что все это время пассажиры сидели смирно. «Да, прежний пассажир был не то, что нынешний, исполненный вольномыслия и строптивости»,— заключает он.
Пра-Волга. Геологи по отложениям в земной коре определяют, что за неизмеримо долгую историю Земли значительные пространства нынешнего Поволжья не раз превращались в морское дно. Одно из морей медленно отступало к югу примерно двадцать миллионов лет назад, и тогда по его следам потекла пра-Волга.
Частица «пра», разумеется, понятна вам? Мы говорим: прадедушка, прабабушка.
Пра-Волга начиналась вовсе не на Валдае, а возле Уральских гор. Она как бы срезала угол, взяв оттуда направление на Жигули, и дальше несла воды значительно восточнее, чем сейчас.
Движения земной коры, образование новых возвышенностей и впадин, резкие колебания уровня Каспия и другие причины заставляли пра-Волгу менять направление.
Ученые предполагают, что примерно семь миллионов лет назад ее дельта могла быть там, где теперь Апшеронский полуостров.
Долину реки выше устья Камы образовали воды, устремившиеся на юг во время таяния колоссальной массы льдов, покрывавших значительную часть нашей страны. Это началось совсем недавно, всего лишь около миллиона лет назад...
Ра, Итиль, Атиль. Как самые древние обитатели волжских берегов называли свою реку? Вероятнее всего, словами, которые на их языке означали просто «вода».
Но вот в древних рукописях стала упоминаться большая река, и по некоторым признакам мы догадываемся, что речь шла о Волге.
Ра — так называл ее греческий ученый Птолемей в своей «Географии». Он жил далеко от Волги, на побережье Африки, в городе Александрии, но и туда доходили слухи о великой реке. Было это во II веке нашей эры.
Итиль, Этель, Атиль... Такие названия отмечены в средневековых хрониках.
Когда же обрела река нынешнее свое имя? И каково его происхождение?
Ответить на этот вопрос трудно. Известно лишь, что на языке древних племен есть слова, звучащие примерно как «валге», «валгда», «валка». Они означают «ясная», «белая», «светлая».
Великий Болгар — в названии этого древнего города тоже можно обнаружить сходство с именем, данным реке. Но строители, возводя город, могли уже до этого слышать, как местные люди именуют свою реку...
Сколько у нас водохранилищ? Крупные искусственные моря пересчитать не трудно. Но до сих пор ни в нашей стране, ни за рубежом не подсчитаны точно все водохранилища, включая сравнительно небольшие пруды. Думают, что в Советском Союзе их около ста пятидесяти тысяч.
Только десятая часть этих водоемов имеет хозяйственное значение, выходящее за пределы одного района. Водохранилищ государственного значения всего около двухсот.
До революции на крупных реках у нас не было ни одного искусственного моря. Теперь возле плотин гидростанций разлилось почти сто двадцать водохранилищ. Самые большие—на Волге, Каме, Ангаре, Енисее, Оби, Иртыше, Днепре, Дону.
Велика ли общая площадь поверхности «зеркала» всех наших водохранилищ? Судите сами: она примерно равна территории двух союзных республик, Армении и Эстонии!
Ужасно хочется парохода... Лев Николаевич Толстой путешествовал в мае 1862 года по Волге из Твери в Самару. Вот его запись в дневнике:
«На пароходе как будто опять возрождаюсь к жизни и к знанию ее».
Антон Павлович Чехов прошел по Волге, Каме, Амуру во время путешествия на остров Сахалин. В одном из его писем есть фраза: «Мне ужасно, ужасно хочется парохода и вообще воли».
Николай Георгиевич Гарин-Михайловский писал в 1904 году перед отъездом в Маньчжурию на фронт русско-японской войны:
«С Волгой очень много связано у меня в жизни, и для меня было бы очень тяжело не повидать ее еще раз, еще раз не пожить ее жизнью, проехать на пароходе, под шум колес вспоминать, думать, читать, писать».
Владимир Галактионович Короленко любил на пароходе не писать, а слушать. В 1905 году он с дочками Соней и Наташей купил билеты на волжский пароход. Дочки ехали в каюте 2-го класса, писатель — в трюме, где в тесноте ютился всякий рабочий люд. Бородатый «мужик» в косоворотке не смущал крестьян, рыбаков, старух, направляющихся на богомолье.
Они обсуждали свои дела, свои беды и невзгоды, а писатель жадно вслушивался в их разговоры.
Волга, Поволжье — двадцать три года жизни Владимира Ильича Ленина.
В трудные времена сибирской ссылки, эмиграции на чужбине он в письмах к родным часто вспоминал приволжские города, Жигули, поездки на пароходах. Из Парижа, из прославленного и воспетого на все лады Парижа, почта приносит родным в Саратов ленинские строки: «Как-то у вас весна на Волге?», «...вспоминаем Волгу», «...соскучился я по Волге!»
Есть маршруты, знакомящие людей со всего света с главными ленинскими местами Поволжья. Но, в сущности, почти вся основная часть Волги — ленинский маршрут. Ленинский потому, что Владимир Ильич в разные годы жил в различных городах и селах вблизи волжских берегов, совершал поездки по реке. Ленинский и потому, что преобразование Волги, осуществленное партией и народом,— в русле ленинских планов, ленинской мечты.
Множество людей стремится в Ульяновск, где родился Владимир Ильич.
В этом городе, за исключением заповедных мест, очень мало осталось от того Симбирска, который долго сохранял репутацию одного из самых тихих, сонных и застойных городов Поволжья.
Даже Волга не прежняя, не та, где между островами лениво струилась вода в мелевших к середине лета протоках. Блестит теперь под Ульяновском ширь волжского моря, лазурного в ясный день, вздыбленного, взбаламученного в непогоду, когда корабли спешат скользнуть под защиту мола-волнолома, ограждающего здешний порт.
Гору над Волгой венчает беломраморный Ленинский мемориал, воздвигнутый народом в знак вечной признательности тому, кому сотни миллионов людей во всем мире обязаны столь многим.
Ульяновск — на виду у планеты. Он украшен прекрасными зданиями. Он стал индустриальным центром, он строит уникальные станки, высотой превосходящие трехэтажный дом. По дорогам многих стран бегают автомобили с маркой его автозавода.
Но главную притягательную силу в этом городе сохраняют сегодня и будут сохранять века некоторые уголки, оставшиеся от прежнего захолустного Симбирска.
Мы знаем теперь все дома, где в разные годы жили в Симбирске Ульяновы. Последняя их квартира на бывшей Московской улице стала всемирно известным Домом-музеем.
Он не выделяется среди соседних. На улице берегут старину. Сюда лишь издали доносится погромыхивание трамваев, шум грузовиков, многоголосица большого города, к которой теперь привыкают уже и в небольших городах.
Ульяновск для меня не перепутье. В свое время я несколько месяцев здесь жил и работал. Потом часто приезжал сюда.
Я помню Московскую улицу почти такой, какой она, по словам старожилов, выглядела в конце прошлого века или в начале нынешнего. Вдоль тротуаров росла жесткая трава. На спуске к речке Свинге улица кривилась, ее обступали двухоконные серые домишки с покосившимися заборами. На приречном лужке паслись гуси и козы.
Совсем нетрудно было представить, как видавший виды тарантас подкатывал к крыльцу с навесом. Директор народных училищ Ульянов, разминая затекшие ноги, шел в дом, предвкушая отдых после утомительной поездки по деревенским школам, после ночевки на угарном постоялом дворе, после споров с тупыми волостными старшинами и равнодушными сельскими богатеями...
В самом Доме-музее на Московской улице все знакомо и вам. Знакомо по книгам, фильмам, снимкам, открыткам, гравюрам.
Наверное, впечатляющая сила этого дома в том, что здесь нет ничего внешне необыкновенного. Все необыкновенное поражает, врезается в память, но остается в ней чем-то чужим, не близким тебе, не твоим.
В доме же на бывшей Московской улице ощущаешь: гении могут рождаться, расти не в какой-нибудь особенной тепличной обстановке, а просто в атмосфере честной трудовой семьи, в атмосфере взаимного уважения и требовательности.
Мне кажется, что одна старая крестьянка, прожившая долгую, нелегкую жизнь, сумела понять главное, что задевает здесь сердца людей, ставящих честный труд превыше всего. Она обошла дом и, остановившись возле швейной машины Марии Александровны, прошептала: «Как мы... Как и у нас...»
Комната Володи Ульянова — над лестницей. Далеко не лучшая в доме. Маленькая. У единственного окна — стол. К стене придвинута железная кровать. Два стула. Сделанная из дощечек висячая книжная полка.
Всю жизнь Ленин не разлучался с книгой. Книги были с ним в подполье, в ссылке, в эмиграции. Едва попав в какой-либо город, он тотчас разыскивал библиотеку. Так было по дороге в ссылку, в Красноярске и Минусинске, так было в Лондоне, Париже, Цюрихе, Стокгольме — словом, всюду.
Случилось, что я побывал в Ульяновске и незадолго до первой своей поездки в Соединенные Штаты Америки. Подумал: а что читали об Америке, о странах Европы, о том, как устроена жизнь на земном шаре, гимназисты, сверстники Владимира Ульянова?
По воспоминаниям Дмитрия Ильича, младшего брата Ленина, детская литература тех лет ярко отображала борьбу негров против рабства. Правда, в учебниках П. Белохи и К. Смирнова, по которым учились симбирские гимназисты и которые стоят среди книг на Володиной полке, об этой борьбе не рассказывалось. Там я прочел: «Промышленность народонаселения Соединенных Штатов находится на высокой степени развития... После Англии, но промышленности и торговле, это первое государство в свете. Оно своими изделиями снабжает всю Америку и многие страны Азии...»

В Ульяновске, над Волгой...
Но в гимназические годы Володи Ульянова выходили и другие книги, часть которых он, несомненно, читал. Генрих Сенкевич в американских очерках рассказывал о «дядюшке Линче», о самосудах над неграми. Учитель из приволжского города Михаил Владимиров, вернувшись после четырехлетних скитаний по Соединенным Штатам, выпустил книгу «Русский среди американцев». Волгарь плавал по Миссисипи, видел в портовых городах тысячи голодных безработных, белых и негров, пешком и на подножках вагонов пересек страну и пришел к выводу, что в Америке «капиталисты пьют кровь рабочих...».
Среди книг в комнате Володи есть томик в голубовато-зеленом переплете. На нем — надпись: педагогический совет Симбирской гимназии, «уважая отличные успехи, прилежание и похвальное поведение воспитанника IV класса Ульянова Владимира, наградил его сею книгою при похвальном листе».
Книга «Жизнь европейских народов» принадлежит перу педагога и писательницы Водовозовой. Она не так уж безобидна для тех времен. В IV классе Володя Ульянов вместе со всеми писал сочинения на темы: «Волга в осеннюю пору», «Описание окрестностей города Симбирска», «Лошадь и польза, приносимая ею человеку». А в книге, которой наградили тринадцати летнего Володю за отличные успехи в писании этих невиннейших сочинений, была самая настоящая «крамола», которую с таким усердием искореняли в гимназиях.
В этой книге, которую читал Володя, говорилось, что французский рабочий «смотрит на хозяина как на вампира, сосущего его кровь, и поэтому ненавидит его изо всех сил».
Книга рассказывала, что громадное большинство фабрикантов старается нажиться за счет рабочих, и те устраивают забастовки и стачки, добиваясь улучшения своей доли.
Сверстники вспоминали, что Володя видел на Волге тяжелый труд бурлаков, на симбирской пристани знакомился с грузчиками. В сенокос гимназисты бегали за Свиягу, где матери оставляли грудных детей без присмотра в тряпье у стогов сена. Сама жизнь, которую наблюдал гимназист Ульянов, доказывала правоту книг, обличающих несправедливость, неравенство, угнетение.
Свеча в медном подсвечнике, и сегодня стоящем на столе комнаты над лестницей, освещала страницы написанного Чернышевским в тюремной камере Петропавловской крепости романа «Что делать?», которым зачитывалась революционно настроенная молодежь России.
В комнатке Володи Ульянова старая географическая карта полушарий.
В те годы в гимназических атласах всех частей света огромные площади материков заливала розовая краска британских колониальных владений, лиловая -- французских, оранжевая — голландских и так далее: вся палитра колониализма.
На старой карте простиралась Российская империя. С ней граничила полуколониальная Китайская империя. Тогда была не просто Индия, а Британская Индия, Нидерландская Индия...
Карта в комнатке гимназиста Володи Ульянова не меняется. Меняется мир.
Важнейшие перемены произошли уже при жизни Ленина. Октябрьская революция, вождем которой стал бывший симбирский гимназист, навсегда покончила со старой Россией. Красные знамена поднялись над страной, и на месте двуглавых царских орлов в ее гербе появились серп и молот.
Я начинал учиться в двадцатых годах по учебнику Гермогена Иванова «Начальный курс географии». Тогда на земном шаре была единственная страна социализма — Советский Союз. Она еще не успела оправиться от гражданской войны, голода и разрухи. О первых достижениях в учебнике говорилось мало и сдержанно.
Остальной мир изменился к тому времени еще не очень заметно, если не считать перекроенных войной государств Европы. Вот выписки из моего старого учебника. «Обширные части Азии находятся во владении европейских буржуазных государств: так, Индостан и часть Индокитая принадлежат Англии, другая часть Индокитая — Франции. Владения эти носят название «колоний» — они захвачены силой и служат для эксплуатации природных богатств и труда их огромного населения».
И об Африке говорилось примерно то же: «Вследствие слабости негрских государств европейцам удалось завоевать или же почти без всякой войны захватить все саванны и лесные области Африки».
К учебнику была приложена таблица: сколько людей живет в европейской стране, или, как тогда говорили, в метрополии, и сколько в ее колониях. В Англии было 44 миллиона жителей, а в английских колониях — свыше 400 миллионов. Население колоний Голландии в семь раз превосходило число жителей этой страны.
Мир был поделен силой, поделен несправедливо, но ленинское учение уже начало расшатывать колониальную систему.
Соединенные Штаты Америки учебник называл государством, по силе занимающим одно из первых мест на земном шаре. Всего там было много. Железных дорог больше, чем в Европе и Азии, вместе взятых. Нашу страну по добыче нефти США превосходили в 12 раз, каменного угля — в 34 раза. Тут они обогнали даже Англию, которая долго держала первенство.
Кукурузы американцы собирали столько же, сколько Россия собирала перед войной всех хлебав. Лошади на полях американских фермеров, сообщал учебник, заменяются тракторами. У американцев свыше десяти миллионов автомобилей.
А мы, школьники, читали все это в выстуженных сибирскими морозами классах. Готовили уроки при тусклых, вполнакала горевших лампочках, которые в иные вечера не загорались вовсе, и тогда на столе появлялась керосиновая лампа. Мы пили «чай», настоянный на высушенной моркови и подслащенный сахарином, а коржики из отрубей, перемешанных с размолотыми ягодами черемухи, были редким лакомством.
Ни один из нас, мальчишек сибирского города, не видел в те годы «живого» трактора, а автомобилей было так мало, что каждый раз они вызывали панику на улицах: лошади крестьян, приехавших на базар, в испуге взвивались на дыбы или бешено неслись прочь, грозя задавить прохожих.
Быть может, я начал разговор с карты в комнате Володи Ульянова потому, что с детства разглядывание и вычерчивание географических карт да еще собирание марок были моими любимыми занятиями. Я и специальность себе выбрал, имеющую отношение к картографии. В молодые годы занимался геодезическими изысканиями в Сибири и на Дальнем Востоке, участвовал в составлении карты Таймыра.
Здесь жила семья Ульяновых...


Комната Володи Ульянова.
...Если бы старая карта в комнатке над лестницей могла бы изменяться в зависимости от того, что происходит в мире, то с тех пор, как над нашей страной взвилось алое знамя Октября, она отметила бы годины величайшей тревоги за будущее всего человечества.
Первый раз это было в гражданскую войну. Тогда исколотые булавками с флажками другие карты, уже в кремлевском кабинете Председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина, обозначали кольцо фронтов вокруг отчаянно отбивавшейся от врагов и сжатой до небольшого красного лоскута молодой Республики Советов.
Партия Ленина подняла в те годы народ на смертный бой за правое дело — и победила.
И снова пришло время грозной опасности. Почти вся Европа оказалась под сапогом оголтелого и беспощадного гитлеровского солдата. После этого фашисты вторглись в нашу страну. Они заняли Украину, Белоруссию, Прибалтику, взяли в страшное кольцо блокады Ленинград, прикидывали, затопить или разрушить Москву после захвата, намечали, как они будут хозяйничать на Волге и на Кавказе.
Партия Ленина подняла народ на Великую Отечественную — и победила. Победа над врагом человечества круто повернула колесо истории. Это было событие поистине мирового значения. Оно определило многое в сегодняшней судьбе и в грядущем планеты.
Сотни миллионов людей вступили на путь социализма. Ускорился распад колониальной системы. Сегодня последние колонии доживают последние дни. Это уже островки среди океана стран, завоевавших право поднять свой государственный флаг, написать на карте новые названия на языке своих народов, переименовать города в честь своих национальных героев.
Мир — в движении. И со всеми переменами к лучшему связаны имена борцов за счастье человечества, в первом ряду которых — сын учителя, уроженец тихого приволжского города.
В этом городе по утрам спешат в школы ребята. Некоторые идут по тем же улицам, где ходил в гимназию Володя Ульянов.
В ранцах и портфелях у них учебники географии. На уроках ребята привычно отвечают, что по добыче угля, нефти, железной руды, по выплавке чугуна и стали, производству цемента и удобрений Советский Союз на первом месте в мире.
Наша могучая индустриальная держава производит теперь одну пятую промышленных изделий, изготовляемых всеми странами планеты. Мы держим мировое первенство в выпуске тракторов и электровозов. У нас печатается больше книг, чем в любой стране. И много других примеров приводят ребята, иногда не очень вдумываясь в их смысл, а порой даже досадуя: сколько цифр приходится запоминать, заучивать...
А это — великие цифры.
За ними пот и кровь миллионов людей, поверивших в правоту ленинского дела и отстаивавших его. Эти люди, голодные и плохо одетые, с песнями шли на субботники. Они, строя первые тракторные и автомобильные заводы, рыли котлованы лопатами, долбили мерзлую землю киркой.
Они гибли в боях с Колчаком и Деникиным, они бились под Москвой и отстояли Волгу, они подняли Знамя Победы над рейхстагом в поверженном Берлине.
И всегда с ними был Ленин.
— Симбирские виды уступают по красоте немногим в Европе! — говаривал знаток здешних мест историк Николай Михайлович Карамзин.
Водное зеркало отражает за Ульяновском меловые холмы — «шиханы». Они круто обрываются к реке. Пологие солнечные склоны отданы яблоневым садам. Не успел примелькаться этот пейзаж — а на горизонте синева Жигулей.
Ближе, ближе...
Различима уже и темная зелень лесов по вершинам, и грозные утесы, и Девья гора, и Молодецкий курган.
Бывалые пассажиры тотчас превращаются в сказителей. Новички слышат: потому Молодецкий курган, что сбросила с него красна девица удалого добра молодца за измену за коварную...
Нет, возражает другой сказитель, не так дело было, оба они, молодец да красна девица, к войску Степана Разина примкнули, а когда, царевы слуги окружили их, бросились в Волгу. Тот утес, откуда прыгнул раненый молодец, с тех пор Молодецким зовется, а гора, где простилась с жизнью верная его подруга,— Девьей горой.
Кто про Жигули, а кто про «Жигули».
Вон он, волжский Автоград, на подходе к Жигулям, только по другому берегу.
До наполнения Куйбышевского моря как раз напротив того места, где начинаются Жигули, стоял городишко Ставрополь, о котором до революции писали, что никакого торгового и промышленного значения он не имеет и вообще решительно «ничем не интересен».
Ставрополь я помню с весны 1951 года, когда началась новая его история. Пароход вошел в протоку и остановился подле глинистого яра. Настоящей пристани не было. Да и города, в сущности, не было. Так, большое село, деревянные домики вдоль улиц, над которыми маячила пожарная каланча.
По вечерам молодежь собиралась возле большого купеческого лабаза, приспособленного под кино «Буревестник». Старухи в черных платках рассаживались по лавочкам у ворот, косясь на девиц в брезентовых, заляпанных бетоном штанах.

Уголок нового Ульяновска.
В Ставрополе временно разместилось управление строительством гидростанции. Она должна была перегородить Волгу у Жигулей.
В день, когда ее решили строить, определилась судьба городка: ему предстояло погрузиться на дно нового моря,
Пока сооружалась гидростанция, я бывал в Жигулях два-три раза за год. При мне начали переселять Ставрополь к сосновому бору, подле которого должно было остановиться море.
Вскоре оно заплескалось над последними домишками старого городка: их не было смысла переносить. А новый Ставрополь, переименованный в город Тольятти, стал расти с удивительной быстротой: завод за заводом, благо мощнейшая гидростанция имени Ленина рядом, электроэнергии достаточно.
В 1966-м Тольятти выбрали для строительства гигантского завода легковых автомобилей.
Я приехал туда, когда стройка шла полным ходом.
Два дня просто бродил по гигантским цехам. Какое обилие света, простора, воздуха! Даже в кузнечном цехе стены были выложены цветной плиткой, а трубы покрыты белой эмалью.
Завод занял более пятисот гектаров. Взгляните, говорили мне, на нашу соседку, Волжскую ГЭС, и мысленно соедините пять таких гидростанций. Это и будет примерный объем заводских сооружений. Я пытался мысленно соединять громады, но, должно быть, у меня не хватало технического воображения.
Вот вам, показывали мне, главный корпус — длина два километра, ширина около полкилометра, объем — почти четыре здания Московского университета на Ленинских горах.
А что это за корпус неподалеку, по старым меркам равный целому заводу? Оказывается, всего лишь вспомогательные цеха.
Близость великой реки подсказала автомобилестроителям заводскую эмблему — волжскую ладью. Весной 1970 года первые машины с ладьей на радиаторе сошли с главного конвейера завода.
Теперь завод выпускает свыше шестисот шестидесяти тысяч машин в год.
Каждые двадцать — двадцать две секунды — новый автомобиль.
«Жигули» мчатся по дорогам, по улицам.
Хорошая машина, это каждый вам скажет. Ее знают не только у нас. Я приехал в Будапешт, и от вокзала до новой гостиницы «Волга» таксист домчал меня на «Жигулях». Правда, за границей нашу машину называют «Лада». У многих народов нет в алфавите буквы «ж». Они не умеют ее произносить и писать. Англичане, например, скажут, примерно, так: «Дзигули». Зачем же ломать язык? «Лада» проще.
1973 год Волжский автомобильный завод закончил выпуском машины, на которой написал: № 1 000 000. Летом 1975 года с конвейера сошла машина за № 2 000 000.
В канун 1977 года заводские ворота покинул трехмиллионный автомобиль.
Со временем страна станет получать из Тольятти миллион машин ежегодно.
Жигули...

В автомобиле «Жигули» около четырех тысяч деталей. Есть большие, как, например, бампер — блестящий никелем буфер спереди и сзади автомобиля, который защищает кузов от ударов, от толчков других автомобилей. Есть вовсе крохотные. Но нет таких, без которых автомобиль мог бы служить долго и надежно.
Многие детали делают на самом автозаводе. Другие получают от заводов-поставщиков, расположенных иногда довольно далеко от Волги. Четыре тысячи деталей надо собрать вместе, пригнать, приладить друг к другу до последнего винтика, до последней гаечки, чтобы из них в конце концов получились «Жигули».
Основная сборка происходит на конвейерах.
Рабочий находится на своем месте, а мимо него движутся изделия, выпускаемые заводом. Небольшие передвигаются вместе с медленно, ровно ползущей лентой. Большие, как, например, кузова автомобилей, плывут в воздухе, надежно и прочно зажатые оранжевыми лапами-захватами.
Человек не трудится над одним изделием от начала до конца. Каждый рабочий выполняет какую-то свою, порученную ему часть работы при изготовлении любого из множества изделий.
Допустим, на проплывающем мимо него моторе рабочий ставит деталь. Сосед закрепляет ее в одном месте. Третий человек — в другом. Четвертый проверяет закрепление, скажем, доводя винты до полного упора.
К главному конвейеру другие, вспомогательные, несут разные детали для сборки. Но если хотя бы один из них — только один! — вовремя не принесет ровно столько деталей, сколько требует плывущий по главному конвейеру поток автомобилей, никакими другими деталями недостающую не заменишь. Не поставишь же лишнюю фару на место ручки для дверцы автомобиля.
Колоссальное предприятие работает в одном, строго и точно рассчитанном ритме. Все конвейеры — их длина полтораста километров — подчинены одной кнопке на пульте главного диспетчера.
Если бы что-либо подобное было возможно на великом транспортном конвейере Волги! Если бы можно было заставить все притоки, все ручейки давать главной реке раз и навсегда рассчитанное количество воды, не зависящее ни от дождей, ни от засух! Ровно столько, сколько нужно для беспрепятственного движения флота, для равномерной работы гидростанций.
Да, полтораста километров конвейеров Волжского автомобильного завода, подчиняясь кнопке главного диспетчера, одновременно приходят в движение.
Легко ли работать у конвейера? Очень легко. Надо выполнять одну и ту же операцию, обычно не столь уж сложную.
Одну и ту же — а это трудно. Да, да! Легко и трудно!
Когда-то в нашумевшем кинофильме знаменитый актер Чарли Чаплин, приставленный к конвейеру закручивать гайки, слегка «тронулся» от однообразия работы и автоматически тем же гаечным ключом принялся закручивать пуговицы на пиджаках встречных.
Конвейеры нашего автозавода стараются приспособить к особенностям человека, к его характеру, к его привычкам и потребностям.
Волжский автомобильный завод. Каждые 22 секунды — новые «Жигули».

Ровно в 7.30 главный диспетчер нажимает кнопку. Он пускает конвейеры, но не на полный рабочий ход. Тысячи людей в синих полукомбинезонах с изображением волжской ладьи только что встали на свои места. Не все хорошо выспались, не у всех бодрое настроение, кое-кто вообще прибежал в цех запыхавшись, ему еще надо отдышаться.
И конвейеры как бы говорят людям: ну-ну, ладно, мы не будем торопить вас с первых секунд, втягивайтесь в рабочий ритм постепенно.
Но и полный рабочий ход тщательно рассчитан. Он не допускает излишней перегрузки людей. Его определили с участием врачей, психологов, специалистов научной организации труда.
Наверное, можно было бы, убыстрив ход конвейеров, выпускать не шестьсот шестьдесят, а восемьсот тысяч машин в год. Но некоторые чувствовали бы себя после работы разбитыми, утомленными. В войну рабочие не выходили из цехов по двенадцать — четырнадцать часов в сутки, трудились без выходных. Этого требовал фронт. А в мирное время нам нет нужды перенапрягать людей, если только не случится что-нибудь необычное, из ряда вон выходящее, от чего может сильно пострадать производство.
Так вот, конвейеры постепенно набирают полный ритм. Работают час, другой. Вдруг — стоп! Что-нибудь случилось?
Ничего решительно: пусть рабочие отдохнут пяток минут, обменяются новостями, перебросятся шуткой.
Вот еще средство, помогающее избегать усталости от однообразия работы. Конвейер обслуживают бригады, в которых люди умеют выполнять несколько операций. Можно меняться рабочими местами.
Скажем, час делаешь одно, час другое, потом -третье.
Одним нравится работа у конвейера, другим она может со временем наскучить. Молодости свойственно испытывать свои силы на каком-либо новом, более сложном деле, чем то, которое уже освоено. Ну и прекрасно!
На таком гигантском предприятии, как Волжский автомобильный, требуется много специалистов высокой квалификации. Можно одновременно с работой на конвейере учиться и перейти, допустим, на обслуживание электронно-вычислительных машин: у завода свой большой вычислительный центр.
Можно продолжать образование и дальше, в политехническом институте Тольятти. Кстати, будущие инженеры-механики сами проходят практику у конвейеров, а инженеры по сварке непременно работают некоторое время там, где свариваются автомобильные кузова.
Может быть, мы слишком хвалим свое новое предприятие? Но там часто бывают иностранные корреспонденты. Есть такие, которым все не нравится, даже Жигули: ну что это за горы, то ли дело Альпы! И Волга какая-то не такая, мало в ней величавости...
Но большинство иностранных корреспондентов признают, что завод в Тольятти оборудован по последнему слову техники и может потягаться с лучшими предприятиями Европы.
Один шведский корреспондент сравнил: в Тольятти конвейер движется со скоростью 4,8 метра в минуту, в Италии — 6 метров, в Швеции — 7 метров.
Волга помогала строить завод, Волга развозит «Жигули» по городам Поволжья.

На советском заводе скорости замедляются в начале дня, перед обедом, к концу работы.
— Мы технику приспосабливаем к людям, а не наоборот, — сказали корреспонденту.
«Жигули» — хорошая машина, но что же дальше?
А дальше — другие машины. Например, машина-люкс, более мощная, особенно красиво отделанная. Или машина «Нива» для жителей сельской местности, где у пас еще далеко не везде асфальт. «Нива» внутри похожа на обычные «Жигули», но проходимость у нее особая: модель испытывали и в болотных топях, и в сыпучих песках, и в снежных заносах. Таких машин к концу пятилетки завод будет выпускать пятьдесят тысяч в год.
Я уже рассказывал, как побывал на стройке несколько лет назад. Корпуса завода росли быстрее, чем дома для автостроителей. И я написал, что самый новый Тольятти, где живут автозаводцы, назвали городом-спутником. Но какой же это спутник, если в нем скоро будет сто пятьдесят тысяч жителей: двенадцать бывших Ставрополей или, скажем, полторы Самары начала нашего века.
Так вот, мои предположения оказались слишком скромными. В Автограде уже не полтораста, а свыше двухсот тысяч жителей.
Город вышел на берег Куйбышевского моря. В этом городе — хотя он считается всего лишь одним из районов Тольятти — есть школа для трех тысяч ребят. Есть дом для молодоженов на тысячу триста человек. Там постарались все сделать так, чтобы с самого начала облегчить жизнь молодых семей, избавить от лишних хлопот и мелких бытовых неудобств и неприятностей.
О таких заводах, как ВАЗ, совсем недавно мы лишь мечтали. Такими рисовались нам «предприятия будущего». И вот одно из них построено в переехавшем на новое место старинном городке Ставрополье, который прежде считался решительно никем и ничем не интересным.
Порт Тольятти — последний перед плотиной Волжской гидростанции имени Ленина. Шестикилометровой стеной земли и бетона она удерживает напор вод самого большого волжского моря. Ворота шлюза выпускают идущие вниз по Волге корабли к причалам города Куйбышева.
На высоком берегу — обелиск из нержавеющей стали. Металл светится в солнечных лучах. На вершинеобелиска — рабочий человек, стройный, сильный, мускулистый. Подняв руки, он как бы протягивает навстречу солнцу два стальных крыла. Эти символические рукотворные крылья рождают образ воздушной машины нашего века, обгоняющей звук.
У подножия монумента — каменные плиты, которыми замощена площадь Славы, строгая и величественная. Одна плита вынута, там чернеет квадрат земли с плакучей ивой. Она склоняет ветви вблизи Вечного огня.
Памятные стелы на площади — как страницы летописи города. Они напоминают: здесь, в бывшей Самаре, начинал путь в революцию Ленин. В гражданскую войну на фронтах Поволжья дважды решалась судьба революции. Трудовой героизм первых пятилеток превратил бывший купеческий торговый город в один из центров волжской индустрии.
«Здесь тыл был фронтом» — предельно кратко говорит надпись на стеле о годах Великой Отечествен-
ной войны, когда город сумел по-фронтовому развернуть мощную оборонную промышленность, в пять с лишним раз увеличив производство. С тех пор продукция снова выросла в десятки раз — и изображение двух орденов Ленина свидетельствует о достойной оценке трудовых подвигов куйбышевцев.
Надписи-памятки сжаты до нескольких слов, но какие события за каждой из них!
Самарский период жизни Владимира Ильича начался переездом семьи Ульяновых из Казани на хутор близ деревни Алакаевки, а затем в Самару. Здесь бывший студент, нуждаясь в заработке, давал уроки, одновременно готовясь к экзаменам за весь университетский курс юридического факультета. Отсюда выезжал в Петербург. После блестящей сдачи экстерном экзаменов вернулся в Самару с дипломом первой степени, стал выступать в местном окружном суде, беря под защиту главным образом крестьян-бедняков и ремесленников.
Это был период необычайно напряженной работы мысли, период обретения революционной зрелости. В Самаре Владимир Ульянов организовал первый кружок марксистов, здесь перевел с немецкого «Манифест Коммунистической партии». Из Самары потянулись нити в другие приволжские города, Поволжье становилось одним из главных очагов распространения марксистских идей в России.
Самарский период отграничен отъездом Владимира Ильича в Петербург, в центр, в гущу революционной борьбы.
И обо всем этом — строка на памятной стеле.
Под монументом несет воды Волга, плывут белые корабли, чертят воды яхты. Синь Жигулей, снова далеких, почти призрачных, вызывает сожаление, что вот уже и больше половины Волги пройдено, в волжском калейдоскопе промелькнули, быть может, самые впечатляющие картины. Впрочем, впереди Волгоград.
В Куйбышеве над Волгой — площадь Славы.

Деловые кварталы Куйбышева как бы обтекают площадь Славы. Она немножко в стороне от самой шумной части города. Внизу — широкая, спокойная кайма набережной, приволье песчаных пляжей. Там бульвары, тень, прохлада.
О, в Куйбышеве, как и в соседнем Саратове, хорошо знают цену местам, сулящим укрытие от палящего зноя! Пожалуй, можно спорить, чья набережная лучше, куйбышевская или саратовская, но что обе они — украшение Волги, в том спору нет.
Саратовская полого спускается к реке несколькими ярусами, где аллеи каштанов и кленов удивительно быстро успели повзрослеть, окрепнуть. Уже само название — набережная Космонавтов — говорит о ее сравнительной молодости.
И в Куйбышеве и в Саратове с наступлением лета самое людное место — пляжи. Самое людное и совершенно необходимое. Пляжи полны днем, они не пустуют после захода солнца. Уж больно жарко в здешних местах!
Порывы ветра, дующего из заволжских степей, волнами горячего, сухого воздуха всюду настигают суда на фарватере Нижней Волги. По белесым береговым обрывам почти не видно лесов, деревья попрятались в притененные овраги, на солнцепеке лишь сизоватые степные травы.
Житель тропических стран привыкает к равномерно высокой температуре. Для обитателя полярных окраин настоящее тепло — редкость. В степях же Заволжья, где зимой бывают злые морозы, летом иной раз жарче, чем на экваторе, и суховеи похожи на сирокко, дующий из Северной Сахары.
В степи под Саратовом засуха наведывается примерно раз в три года. Но уж если небо не поскупится на дождичек, земля благодарит земледельца отменным урожаем. Пшеница здесь замечательная: недаром так славится саратовский калач — пышный, вкусный, ароматный.
Не поленитесь, посмотрите карту Поволжья. К востоку от Саратова вы увидите странные реки. Не только обычные для географических карт синие жилки, но и синий пунктир.
Я побывал на этих пунктирных реках в начале пятидесятых годов. Там работали изыскатели Ленинградского института водного хозяйства.
Была середина августа. Над выгоревшей степью струился перегретый воздух. Позднее мне довелось узнать пустыню возле Суэцкого канала, но, уверяю вас, в этой части Африки не жарче, чем в верховьях реки Большой Узень.
Да и не было там никакой реки! Было совершенно пересохшее русло, над которым вихрь закручивал пыльные смерчи.
Голубым пунктиром обозначают реки с непостоянным стоком. Так их называют изыскатели. А на мой взгляд — просто умирающие реки. Весной русло наполняют талые воды. Но надолго ли их хватит, если солнце от восхода до заката катится по чистому голубому небу, ни разу не спрятавшись за тучку?
В то засушливое, душное лето заволжская степь была какой-то давящей, безрадостной. Дорожная глина затвердела до звона, будто ее обжигали в гончарной печи. На полях лежали серые мертвые комья: с весны прогноз был таков, что в иных местах вообще не сеяли, чтобы зря не переводить зерно.
Почвовед экспедиции уверял меня: прежде здесь везде росли пышнейшие сочные травы.
— Давайте представим себе времена, когда вот именно эти степи пересекали шедшие на Русь татаро-монголы, — предлагал он. — Будь все таким, как сейчас, они остановились бы, повернули назад. Им просто нечем было бы поить и кормить лошадей. Грозная конница превратилась бы в пешее войско. А огромные стада, которые завоеватели всюду гнали за собой? Они чем питались бы? Со стад-то и началось. Скот вытоптал, выбил травы, почва оголилась, за дело принялись ветры. Потом пошел гулять топор по лесам, защищавшим речные поймы,— и наступило вот это безобразное оскудение.
Экспедиция, работавшая в Заволжье, была одной из многих, которым поручалось восстановление и обновление природы. Они продолжали дело, начатое одновременно с рытьем котлованов первых плотин Большой Волги.
Но подлинно государственный размах этому нужному народу делу придали девятая и особенно десятая пятилетки. Орошение и обводнение земель Поволжья дополнились крупными работами, цель которых — охрана вод в бассейнах Волги и Камы.
Создается гармоничный, прочный союз земли и воды с заглядом в век грядущий, союз широчайший, всеохватывающий. Тут и охрана от загрязнения, расточительства вод Волги и Камы, а в дальнейшем и их пополнение. Тут и орошение, обводнение засушливых земель Поволжья, создание обширных зон, где не будут знать неурожаев.
Дело это трудное — человек вступает в спор с природой неподатливой, капризной, порой жестокой к земледельцу. Но ведь сколько сделано! Миллион гектаров земли в Поволжье уже сегодня получает воду. Десятая пятилетка прибавит к нему еще многие сотни тысяч гектаров.
Для здешних краев это размах небывалый, неслыханный. Притом все делается капитально. Строятся мощные оросительные системы с магистральными каналами, подземными трубопроводами, насосными станциями, установками для дождевания полей.
На карты обычно наносят лишь крупные оросительные каналы. Не уверен, что среди них окажется Саратовский. Сто двадцать километров длины — не так много. А он не только дает воду десяткам тысяч гектаров земли, но и наполняет русло пунктирных рек, оживил давно пересохшие озера, куда, к ликованию местных жителей, вернулись дикие гуси и утки.
Подобных каналов в Поволжье становится все больше. Они уходят в засушливую степь неподалеку от Тольятти, пересекают левобережье южнее Куйбышева. Они орошают земли на подходах к Саратову, возле Волгограда, их трассы — по обоим берегам Волги до самого Каспия.
Многие действуют не первый год. По их искусственному руслу электрические насосные станции поднимают волжскую воду на степные возвышенности. На других еще работают землеройные машины.
Самый крупный канал соединит Волгу с рекой Уралом. Его-то уж наверняка обозначат на картах: почти пятьсот километров длины. Канал не только оросит и обводнит земли в трех областях, но и пополнит волжской водой мелеющий Урал, где водятся очень ценные породы рыб.
Как смело, как мощно возрождают, обновляют, преобразуют природу Поволжья советские люди! И главная их опора, надежная их помощница — Большая Волга, полноводные ее моря.
Гагаринское поле. 12 апреля 1961 года планету облетело известие: житель Земли впервые побывал в космосе. Колумбом Вселенной был Юрий Алексеевич Гагарин.
Вот как описал он приземление своего космического корабля «Восток».
«Внизу блеснула лента Волги. Я сразу узнал великую русскую реку и берега, над которыми меня учил летать Дмитрий Павлович Мартьянов. Все было хорошо знакомо: и широкие окрестности, и весенние поля, и рощи, и дороги, и Саратов, дома которого, как кубики, громоздились вдали...
В 10 часов 55 минут «Восток», облетев земной шар, благополучно опустился в заданном районе на вспаханное под зябь поле...»
Это поле колхоза «Ленинский путь» под Саратовом зовут с тех пор Гагаринским. Там — монумент: космический корабль взмывает в небо, оставляя за собой шлейф раскаленных газов. Под южным солнцем нержавеющая сталь шлейфа слепит отраженным блеском, от нее пышет жаром.
Юрий Гагарин вернулся из космоса туда, где впервые в жизни летал на самолете. Саратов был важной вехой в его биографии, в формировании его характера.
Именно здесь бывший ученик ремесленного училища поступил в индустриальный техникум. Сохранилась его характеристика: «Гагарин является хорошим, дисциплинированным учащимся. Учится очень хорошо, преобладает оценка 5. Хороший физкультурник... Принимает активное участие в общественной жизни техникума...»
Обучаясь на четвертом курсе, Гагарин одновременно начал посещать аэроклуб. Водил самолет, прыгал с парашютом. Летное дело захватило Гагарина, но это не помешало ему закончить техникум и получить диплом с отличием.
Предстоял выбор дальнейшей жизненной дороги. Юрий Гагарин выбрал авиацию, стал военным летчиком...
После полета в космос Гагарин приезжал в Саратов. Прежде всего он пошел к Волге. Потом в техникум, в аэроклуб, затем — на Гагаринское поле, где его встретили те, кто видел, как приземлялся «Восток». Тут же, в поле, Гагарину вручили трудовую книжку колхозника.
Чести убирать хлеб вокруг Гагаринского поля удостаиваются теперь лучшие колхозные механизаторы. Они водят комбайны по своей земной орбите, а над ними — обелиск в честь человека, корабль которого впервые вышел на орбиту космическую.
Еще одна трасса дружбы. В десятой пятилетке общими усилиями Советского Союза и европейских социалистических стран — членов Совета Экономической Взаимопомощи сооружается гигантский газопровод, самая мощная в мире газовая магистраль. Она протянется на 2750 километров от Оренбурга до западной границы Советского Союза. Отсюда газ будет поступать городам и заводам Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии.
Все страны вносят свой вклад в строительство. Чехословацкая молодежь трудится, например, на участке, где газопровод пересекает Волгу. Чехословацкие специалисты монтируют компрессорные станции, а советские укладывают трубы. Самый «крепкий орешек» этого участка — широкое Волгоградское море. Газопровод проходит по его дну.
Волга укоротилась... За последние десятилетия великая река укоротилась, притом очень заметно: на 157 километров. «Виноваты» в этом водохранилища. Они спрямили Волгу. Навсегда исчезли некоторые колена и кривуны, удлиняющие русло любой реки.
Волга собирает воды примерно с трети просторов европейской части страны. Трудно подсчитать совершенно точно, сколько речек и ручьев течет на этом огромном пространстве. Во всяком случае более полутораста тысяч. Но лишь около двухсот рек заслужили честь именоваться волжскими притоками.
Когда задумали гидростанцию в Жигулях? Очень давно, в 1910 году. Идея постройки родилась у соратника Владимира Ильича Ленина, талантливого инженера и революционера Глеба Максимилиановича Кржижановского. Три года спустя появился первый набросок проекта.

Самый длинный речной мост в Европе — в низовьях Волги, возле саратовской набережной Космонавтов.
Жигули в то время фактически принадлежали графу Орлову-Давыдову. Он владел там огромными участками земли. Когда слух о проекте гидростанции дошел до самарского епископа Симеона, тот написал графу, проживавшему в Италии, послание, в котором просил: «Явите милость своим прибытием сохранить божий мир в жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии...»
Пронесся над страной Октябрь. Летом 1919 года Кржижановский с одобрения Ленина осматривал район Жигулей на специально выделенном катере. К концу года комиссия инженеров определила место для стройки плотины.
Но тут обострилась обстановка на фронтах гражданской войны, затем Поволжье стало жертвой голода. А позднее решили начать строительство плотин с Верхней Волги.
Старое и новое. На старом гербе Саратовской губернии — три стерляди, Самарском — антилопа с короткими рожками, Симбирском — белый столб с золотой короной. Этот герб был пожалован Екатериной II, обрадованной тем, что именно в Симбирске после разгрома повстанцев ненавистный ей Пугачев был посажен в железную клетку и отправлен на расправу.
Три стерляди саратовского герба свидетельствовали о рыбных богатствах края. Сегодня эта символика мало подходит Саратову.
Став одним из наиболее значительных городов Поволжья, он растянулся вдоль реки на три десятка километров. Саратовцев около девятисот тысяч человек, и большинство из них связано отнюдь не с рыболовством, а с индустрией.
В Саратове было впервые открыто промышленное месторождение природного газа. Его используют местные предприятия, он по газопроводу идет в столицу. Город строит самолеты для нашей страны и для многих государств мира, производит гораздо больше станков, чем вся царская Россия, выпускает надежные, удобные холодильники «Саратов», лампы для цветных телевизоров, электронное оборудование, подшипники, часть которых экспортируется в Швецию, прославившуюся именно производством подшипников.
Мечта Чернышевского. Великий революционный демократ Николай Гаврилович Чернышевский родился в Саратове. Волга текла возле его дома. «Все она и она перед глазами,— и не любуешься, а полюбишь»,— вспоминал он впоследствии.
В знаменитом романе «Что делать?» Чернышевский рисовал картины будущего родного края. «Бесплодная пустыня превратилась в плодороднейшую землю... У них так много таких сильных машин,— возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение, явилась зелень, явилось и больше влаги в воздухе...»
На орошенной же земле — хлеба, только не те скудные, что вызревали в сухой степи во времена Чернышевского, «а густые, густые, изобильные, изобильные».
Мнение великого ученого. Однажды царское правительство получило доклад, в котором убедительно доказывалось, что «наибольшего и наивернейшего успеха» можно ждать от орошения земель в низовьях Волги.
Автор писал, что для орошения нужно использовать воды самой реки. Он считал, что их можно было бы перекачивать двигателями, приводимыми в движение ветрами, дующими со стороны закаспийских пустынь.
Автором этого доклада был великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев.
Пшеница-чемпион. В Ленинграде собрана коллекция пшениц из разных стран: свыше двадцати тысяч образцов.
Но какой сорт лучший? Кто может это определить? Ведь каждая страна, наверное, гордится своей пшеницей и считает, что она — лучше других.
Много десятилетий оценку всем пшеницам, которыми торгуют разные страны, дает лаборатория англичанина Кент-Джонса. Эта лаборатория нашла, что среди так называемых сильных пшениц по мукомольным и хлебопекарным качествам можно считать чемпионами некоторые сорта, выведенные селекционерами Саратова.
Пусть радуют глаз леса! В Поволжье леса шумят на площади в 21 миллион гектаров. Но распределены они очень неравномерно.
В верховьях Волги лесами занята примерно половина всей площади, а в самых низовьях, ближе к Астрахани,— всего 2 процента.
Волжане стараются не только сохранять, но и восстанавливать зеленый наряд земли. Новые лесные посадки — это сотни тысяч гектаров ежегодно. В низовьях реки засаживаются государственные лесные полосы, защищающие и реку и поля от суховеев.
За последнее время широкие ленты зелени протянулись от Саратова до Астрахани, от Камышина до Волгограда, от Чапаевска до Владимировки. Их длина — свыше двух с половиной тысяч километров. В засушливых степях стали гнездиться в молодых посадках лесные птицы.
Утес Степана Разина и С тол бич и. Утес, названный славным именем, озадачивает пассажира. Это не одинокая, неприступная вершина, а часть гористого берега, отделенная с двух сторон глубокими оврагами. Утес круто обрывается к Волге, однако вершина его плоская, широкая.
С этим местом часто связывают слова известной песни: «..,Из людей лишь один на утесе том был, лишь один до вершины добрался...»
Но историки считают это романтической вольностью. Скорее всего, на гористом высоком берегу Разин остановился с многочисленным войском перед походом к Симбирску. Быть может, его шатер стоял на одной из вершин. Отсюда и ее название.
Утес Степана Разина расположен южнее Саратова. Там же и Столбичи, краса Нижней Волги, колоннада из столбов песчаника, самой природой как бы тесно придвинутых друг к другу. Они несколько напоминают обрывы над дворцом женщины-фараона Хатшепсут в долине Нила. Только там столбы однообразного тускло-желтого цвета, тогда как у волжских утесов много оттенков: палевый, пепельный, серый, голубой.
Суда из камня. Да, есть такие. Правда, не из природного камня, а из железобетона. Присмотритесь-ка к плавучим пристаням-дебаркадерам. Залы ожидания, рестораны, помещения для багажа, каюты для пристанских матросов,— все это обычно сделано из дерева. А сам корпус дебаркадера — железобетонный.
Из железобетона строят также плавучие склады, ремонтные мастерские. Эти суда не легки в ходу. Но они и не предназначены для дальних плаваний: весной ставят их, где нужно, осенью уводят на зимовку под защиту дамб.
«Каменный флот» прочнее и долговечнее металлического. Он не ржавеет. А если железобетонное судно где-нибудь заденет дно, так скорее раздробит подводное препятствие, чем само получит повреждение.
После перелета через полюс. Летом 1937 года впервые в мире удалось совершить беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс в Америку. Это осуществил на самолете «АНТ-25» экипаж одного из блистательных летчиков своего времени, Валерия Павловича Чкалова.
Ему устроили восторженную встречу в Сан-Франциско, в Вашингтоне, в Нью-Йорке и других городах Америки. Чкалова приглашали выступать с лекциями в столицах Европы.
А он, вернувшись в Москву, вскоре выехал на Волгу.
Сначала встретился с трудящимися Рыбинска. Потом выступил на главной площади Ярославля. Затем был Горький, радостная встреча с сормовичами. После этого Чкалов сел на катер и отправился в приволжское село Василево. Там на Пристани его уже ждала мать.
Здесь, в Василево, Валерий Чкалов родился в семье бывшего сормовского котельщика, перебравшегося в местный затон, где ремонтировались волжские суда. Прадед летчика был бурлаком.
Подростком Валерий поступил в Череповецкое ремесленное училище, но в голодное время учеба прекратилась. Вернувшись в Василево, четырнадцатилетний Валерий стал молотобойцем, потом — кочегаром на землечерпалке, оттуда перешел на пароход «Баян».
Работая на «Баяне», Валерий Чкалов впервые увидел над Волгой самолет. Это решило его судьбу. В пятнадцать лет паренек поступил в авиационные мастерские, занятые ремонтом и сборкой аэропланов.
В 1923 году Валерий Чкалов впервые поднялся в воздух.
По волжскому методу. В европейских странах уже много лет присматриваются к опыту Большой Волги. Разрабатываются проекты каналов, которые, подобно нашим, дали бы некоторым европейским рекам удобный выход к морям.
Один из таких проектов — соединение Дуная с рекой Майн, притоком Рейна, впадающего в Северное море.
Когда корабли идут из Черного моря в Северное вокруг Европы, их поджидают, в частности, бурные воды Бискайского залива. Внутренний водный путь от нашего дунайского порта Измаила, скажем, до голландского порта Роттердама стал бы намного короче и куда безопаснее.
Сооружение нового пути уже началось. Движение по нему, вероятно, будет сходно с тем, какое применяется у нас на Волге и на каналах.
Английская газета «Файненшл таймс» писала по поводу волжских составов: «Они снабжены радарными установками и приспособлены для плавания ночью и при плохой погоде».
Газета добавила, что эти методы уже успешно используются на Рейне и Сене.
Миссисипи сегодня. Двое советских журналистов отправились на Миссисипи. Они окликнули матроса баржи, стоявшей у берега:
— Привет с Волги!
Парень оказался из семьи потомственных речников. Дед его водил пароход, но это было очень давно, когда Миссисипи оставалась еще такой чистой, что из нее можно было зачерпнуть воду и сварить кофе. Отец работал на буксире, и с тех пор прошло тоже немало времени: тогда в Миссисипи еще можно было купаться...
«По Миссисипи,— описывают свои впечатления журналисты,— почти беспрерывно по течению и против течения шли буксиры — связки барж и маленький жилистый катеришко. Пять минут — и новый буксир... Ни лодки, ни паруса на воде. Ни человека с удочкой или сетью. Ни птицы, ни всплеска рыб... Почему-то стало тоскливо. Лоцман Клеменс, любимый с детства Марк Твен, где же романтика?»
Романтики действительно маловато. Теперь Миссисипи — водная дорога для грузов.
Свыше ста лет назад по реке ходило около пяти тысяч пассажирских пароходов. В 1910 году их осталось менее шестисот: железные дороги отняли у Миссисипи пассажиров.
Сегодня ходят единицы, вроде «Королевы дельты», старинного судна с колесом за кормой, на котором туристы как бы переносятся во времена Марка Твена. Есть и несколько прогулочных пригородных судов, похожих на плавучие рестораны с барами и танцевальными залами.
Главное назначение сегодняшней Миссисипи — перевозить нефть, хлопок, металл, зерно, лес, уголь. И с этим она справляется вполне успешно.
Перед Волгоградом река перегорожена огромной плотиной. Она. сдерживает напор последнего моря волжского каскада.
Когда начали строить плотину, из города сюда надо было добираться полдня. На пустынном берегу поднимался деревянный обелиск братской могилы. Поодаль виднелись полузасыпанные снегом бараки поселка изыскателей. Они промеряли дно реки и ставили буровые вышки в переметенной буранами степи.
Зимой 1950 года я поехал с изыскателями за Волгу, где они выбрали место для будущего города Волжского: там предполагалось разместить заводы, которым даст энергию гидростанция.
Ледяной ветер врывался в щели брезентового верха машины. Мы остановились у Ахтубы, большого рукава, который отделяется тут от Волги и тянется рядом с основным руслом к Каспию. Стуча зубами, я выскочил из машины.
— Вот это самое место и намечаем,— сказали мне.
Здесь строить город?! Ну и ну! Да кто же сюда поедет? Голая степь, ветрище свищет, ему и зацепиться не за что: ни деревца, ни кустика.
...Огромная плотина перегораживает Волгу. Два маяка указывают нашему судну вход в гавань города Волжского. Она защищена от волн Волгоградского моря. В ней десятка полтора больших судов. Вдоль берега вытянули жирафьи шеи портовые краны.
Это водные ворота города, в котором уже около двухсот тысяч жителей. Крупного промышленного города, где самому старому зданию нет двадцати пяти лет. Густые, тенистые парки и бульвары Волжского как бы бросают вызов окружающим полынным степям, где по-прежнему гуляют ветры.
А на правом берегу — Волгоград. Он успел дотянуться до плотины. В утренних лучах на взгорье белеют утесы домов-башен. Я часто повторяю эти слова, но как иначе назвать громадины, поднявшиеся всюду в новых городских районах? Просто «дом» — для них мало. Домище — это еще подошло бы. Кое-где годилось бы даже слово «небоскреб». Но оно чужое. С ним связано представление о городах за океаном, хотя корни-то его как раз самые русские.

Гигантская скульптура Родины-Матери поднята над героическим городом, над Волгой.
Плотина связала Волгоград с Волжским, заменив мост. Машины по ней идут плотно, будто это одно из главных подмосковных шоссе. Над шлюзом проносятся электричка за электричкой.
Выйдя из шлюза, мы побежали вдоль дамбы канала, на время прикрывшей от нас Волгоград. Но вот кончилась эта несносная дамба...
Первыми вышли на парад заводы — и каждый из них не только в истории Сталинградской битвы, но и в летописях индустриализации страны: «Баррикады», «Красный Октябрь», Волгоградский тракторный. Проплывают гранитные лестницы набережных, заводские грузовые причалы, здания, величественные, словно дворцы, сады, скрывающие последние домики бывших пригородных поселков.
И над всем этим — Мамаев курган, кровью политая высота, опаленная огнем, прославленная подвигами. На ее вершине изваяна Родина-Мать. Кажется, будто олицетворяет она и Волгу сталинградских переправ, Волгу сражающуюся, затянутую дымом пожарищ, Волгу, кипящую от разрывов бомб и снарядов.
Судно меж тем скользит вдоль города, на который будто никогда и не падало ни одной бомбы. Он по-южному светел, он наряден и праздничен.
После битвы в нем не осталось ни одного полностью уцелевшего крупного здания. Зарубежные архитекторы и градостроители предлагали: поскольку восстановление Сталинграда решительно невозможно, лучше превратить его страшные руины в гигантский памятник и новый город построить на чистом месте.
А вы, раздумывая об этом, смотрите на зелень набережных, на величественные архитектурные ансамбли. Может быть, не так уж сильно все было разрушено?
И тут на берегу неожиданно возникает осколок того Сталинграда, который знаком миру по снимкам военных лет. Это кирпичное четырехэтажное здание.
Здание? Назвать его так — сравнить голову с черепом. Крыши нет. Чернеют лишь оконные проемы, иные обычные прямоугольные, другие как дыры с рваными краями. По окнам били прямой наводкой, кроша кирпич. В стенах нет живого места, кое-где выломаны, вырваны куски.
Это мельница № 4. Во время битвы ничем особенным она не выделялась. Там находился командный пункт батальона, сдерживавшего фашистов на этом участке. Оставили здание не потому, что оно было разрушено сильнее других, а потому, что оно как раз пострадало меньше соседей и не грозило немедленным обвалом. Лишь потом решили сохранить его руины навечно.
Десятка полтора лайнеров теснят друг друга на рейде. Один подходит к причалу, высаживает пассажиров и отходит к середине реки, чтобы дать место другому, за которым очередь третьего.
Обычно высадка с судна — веселая толчея, смех, шутки. В Волгограде пассажиры выходят на берег молчаливыми, сосредоточенными. В руках у них цветы.
Люди идут к Вечному огню мимо фасадов, на которых — гордый герб Волгограда. В верхнем поле щита, на фоне алой крепостной стены — Золотая Звезда Героя, в нижнем, отделенном лентой сталинградской боевой медали,— шестеренка и сноп заволжских степей.
Вечный огонь пылает на площади Павших Борцов.
Здесь сердце Волгограда.
А дальше город будет сам рассказывать о себе, потому что в нем что ни шаг — история. Она не всегда запечатлена в величественных памятниках. Не всюду о ней повествуют мемориальные плиты. Иногда она --- в рассказе человека, который, казалось бы, просто по молодости лет не должен иметь отношение к тем двумстам сталинградским дням и ночам, которые значили так много не только в судьбах нашей страны, но и в судьбах мира.
Сталевары
Возле мартеновских печей жара адская. Пламя бушует, ревет, воет. Оно слепит — взглянешь на него без защитных очков, какие у сталеваров на козырьке шлема или кепки, — и поплыли перед глазами темные пятна.
Возьмите машиниста экскаватора — вон какой махиной управляет: одна за тысячи землекопов действует. Или вахтенный на теплоходе. Чуть двинул рукой — и плавучий городок послушно отклоняется от красного буя, ограждающего мель. В общем, много на свете профессий, где могущество человека видно очень наглядно.
И все же в слове «сталевар» чувствуешь какую-то особую значительность. Может, потому, что сталь в нашем представлении — образец прочности, твердости, гибкости. Это броня и оружие. Это меч и плуг.
Владимир Никифорович Харченков похож на сталевара, каким людей его профессии любят изображать на плакатах. Широкоплеч, осанист, гордо посаженная голова. Нетороплив и точен в движениях. И есть что-то располагающее к нему в его манере держаться. Рассказывая, доверительно касается собеседника рукой, смотрит в глаза, как бы проверяя, все ли тот понял, не надо ли ему что-то повторить, разъяснить. А ведь он занят, идет плавка, притом трудная: новая марка стали.

В дни войны...
В закуток при цехе, где мы присели на минуту для разговора, входит подручный.
— Сколько? — спрашивает Владимир Никифорович.
— Ноль семьдесят три.
Это похожая на добавочный номер телефонного коммутатора цифра означает содержание углерода. Сталевар покачивает головой. Через несколько минут подручный возникает снова. Владимир Никифорович идет за ним к своей одиннадцатой печи. Глядит в ее пасть сквозь очки.
Он собран, сосредоточен. Наблюдает и взвешивает все в ходе плавки. Торопит не себя, не подручных, а печь. Он словно главный хирург на операции, распоряжение которого исполняется немедленно и точно.
Возвращается в закуток. В баке плавают глыбы льда. Наливает кружку, неторопливо пьет: печь сушит глотку, гонит пот, ледяная вода утоляет жажду ненадолго.
Владимир Никифорович говорит о своем «Крас ном Октябре». Предприятие особое, ну, если сравнивать, как бы гигантская лаборатория. Значит, главное — искать, находить. Что находить? Наиболее надежные способы скоростных плавок высокосортной стали. Легированная сталь — это сталь с добавками, которые придают ей разные нужные свойства.
и сегодня.

Добавьте в сталь хром и никель — она станет нержавеющей, марганец придаст ей особую твердость. Без легированной стали новых марок нет современного производства.
— Работаем на прогресс, на научно-техническую революцию. Может, и громко это звучит, но по существу именно так. Вот возьмите нашу плавку...
Владимир Никифорович называет марку стали. Она напоминает формулу: несколько букв и чисел. Каждый сталевар легко определит по ним, сколько в этой стали углерода, буква «Н» подскажет ему, что при плавке добавлялся никель, а цифра после буквы — сколько именно его добавлялось. Наконец, комбинация букв и чисел укажет, для чего предназначена эта сталь — допустим, для производства шарикоподшипников.
Как именно варить эту марку стали? Сама технология, конечно, разработана. Казалось бы, соблюдай ее точно — и все. А на деле куда сложнее. Не бывает двух тютелька в тютельку совершенно одинаковых плавок. Мартен — он ведь как бы живой организм, в обращении с ним одних знаний мало, тут чутье нужно, взаимопонимание, что ли...
На Владимире Никифоровиче летняя армейская рубашка защитного цвета с расстегнутым воротом, расхожие брюки из плотной ткани. Но в заводских витринах, где портреты лучших из лучших, я видел его в полном параде: полтора десятка орденов и медалей, боевых наград и наград за труд, почетных знаков победителя в соревновании.
Из всех отличий Владимиру Никифоровичу особенно памятна медаль «За отвагу». Была она первой и заслужена вот здесь, где мы теперь разговариваем. Ну, не точно на этом самом месте, однако неподалеку...
В Стенах-руинах, на Мамаевом кургане изваяны герои, победившие смерть.


В жизни бывают иногда совпадения удивительные, почти невероятные. После войны многие вернулись в те города, где воевали, в те села, которые освобождали. На Курской дуге ветераны войны пошли добывать курскую руду. Но у Владимира Никифоровича военная и трудовая биография отчасти совместились в пределах одного заводского двора, даже цеха: в Сталинградскую битву «Красный Октябрь» был передним краем.
Сталевару не надо далеко отходить от своего мартена, чтобы вспоминать и показывать:
Тут поблизости меня контузило, вон там; подальше, погиб Миша Мухин, а возле нашей одиннадцатой печи сильно ранило Михаила Копылова. На моих глазах было. А по соседству, в дымоходе четырнадцатой печи, размещался штаб батальона народного ополчения.
— Но вы-то когда успели? Ведь вам тогда едва шестнадцат ь исполнилось ?
— Точно. Шестнадцать. Однако я рослым был, крепким, хватким. Но о военных делах, однако, давайте в другой раз, когда время будет посвободнее. За плавкой смотреть надо, как за малым ребенком. А пока, может, в музей заглянете, товарищи собрали кое-какие воспоминания.
В музее на «Красном Октябре» я бывал не раз.
Там литой столб из заводского поселка. Он наполовину снесен снарядом, весь во вмятинах от осколков. Там же квадратный метр земли, взятой после боев прямо на заводе, — мертвой земли, спекшейся от огня, начиненной ржавым смертельным железом.
Да что музей! По дороге к мартеновскому цеху непременно остановишься возле искалеченных снарядами, выщербленных осколками мертвых стен. В нижнем этаже оконные проемы заложены камнем: среди развалин едва не погибли мальчишки, игравшие в войну.
Это бывшая заводская лаборатория. Ее подвал занимал штаб истребительного батальона народного ополчения. При мерцании тусклых коптилок здесь решали, как минировать подходы к цехам, как переправлять через Волгу раненых. Жили впроголодь, варили кашу из зерен ржи. Отсюда штаб перебрался позднее в дымоход четырнадцатой мартеновской печи, о котором говорил сталевар.
«Красный Октябрь» плавил металл после того, как фронт приблизился к городу. Только ужасающая многодневная бомбежка, превратившая Сталинград в пылающие развалины, вынудила сталеваров погасить мартеновские печи.
Три завода — Сталинградский тракторный, «Красный Октябрь» и «Баррикады» — крепостями встали на пути гитлеровцев.
«Красный Октябрь» и заводской поселок обороняли три дивизии. Сражались за каждый цех, за каждый цеховой пролет. Держали оборону среди груд кирпича, в подземных ходах, в горах шлака, где нельзя было даже вырыть окоп для защиты от вражеских пуль. Эти шлаковые отвалы находились всего в ста метрах от Волги. Четверть минуты для бегуна — и непреодолимая дистанция для вражеской пехоты и танков.
Завод часто зовет в гости тех, кто его защищал. Приехал сюда и Владимир Михайлович Ионов, гвардии полковник в отставке, бывший начальник штаба 39-й гвардейской дивизии, отражавшей атаки на самой территории «Красного Октября».
Ему вспоминается полуразрушенный цех, по которому с ящиком боеприпасов пробирался юноша. Лицо показалось знакомым, Ионов окликнул бойца. Да, они встречались в одной из десантных частей под Москвой. Там Володя Харченков укладывал парашюты. Потом часть переформировали, бойцы влились в 39-ю гвардейскую дивизию, и вот теперь он дома: «Я здешний, сталинградский. Отец на этом заводе работал сталеваром, дед тоже тут начинал».
Ионов расспросил паренька подробнее. Оказывается, тот уже боец бывалый, обстрелянный. Когда часть сражалась еще на Дону, ходил в разведку возле хутора Зимовейского. Переплыли реку, на занятом противником берегу в небольшом хуторе напали на фашистский штаб, взяли документы. С тех пор не раз ходил в разведку. Теперь на родном заводе приставлен к важному делу: доставляет боеприпасы третьему батальону. Склад у известковой печи мартеновского цеха.
Бывало потом с Володей Харченковым разное. Чуть не утонул на переправе в дырявой лодке, когда вместе со своим другом Ашкиром Мурзагалиевым вез патроны с противоположного берега Волги. Лодку гитлеровцы потопили. Ребята спаслись, держась за бревно, нашли другую лодку и под утро вернулись на пей к своим с боеприпасами, которые им дали вместо затонувших.
В другой раз Володя и Ашкир среди развалин внезапно наткнулись на гитлеровца. Прежде чем Ашкир всадил в него нулю, он успел ранить Володю. Харченкова вместе с другими ранеными ночью переправляли за Волгу, но катер попал под огонь, затонул, и Володя выплыл, загребая одной рукой.
Он не только тонул, но и горел. Вдвоем с Ашкиром они однажды тащили ящик, где были сосуды с зажигательной смесью. Вражеская пуля сразила Ашкира. Одновременно другие попали в ящик, и пламя охватило Володю, который пытался помочь смертельно раненному другу. Подоспели наши бойцы, сбили с Володи пламя, оттащили обоих в укрытие.
...Конечно, Владимир Никифорович помнит однополчан, с которыми прошел до Берлина. Был тогда уже не рядовым, дослужился до старшины.
— Как быстро пролетело все...— вздыхает Владимир Никифорович.-— Будто вчера носились под пулями с Ашкиром, и вот уже на голове седина. Многих хороших людей потеряли мы от Волги до Берлина, ой, многих...
Он называет имена, рассказывает, как гибли его боевые товарищи.
Сильнее всего у меня боль, конечно, о погибших в нашей дивизии. Видели на Мамаевом кургане плиты? В память героев Сталинградской битвы. Много плит. И на одной имя: Степан Савельевич Гурьев. Командир нашей дивизии. В День Победы имени не видно: вся плита в цветах. Не только наши краснооктябрьцы его в памяти крепко держат, но и многие горожане.
Конечно, приезжают ко мне ребята из нашей дивизии. Был недавно дружок мой Володя Великов из Красноярска, он теперь шофером работает; Тут, в развалинах цеха, мы и сошлись с ним в те годы.
Повез я его по городу. Возил всюду — и, знаете, сам порой не верил, что это тот самый Сталинград, где места живого не осталось, где пыль да прах, развалины да горе. Я с детства его любил, наш город. Ну и Волгу, само собой. Всегда она рядом, всегда с тобой. За нее, за город, за свой завод мы люто бились, что говорить. Так ведь было за что!

Там, где шли бои за Волгу,— мощнейшая гидростанция великого волжского каскада.
Пройти Волгоград из конца в конец под силу разве что марафонцу: растянулся вдоль Волги на семь десятков километров. Метро пока нет, но скоростной трамвай, местами бегущий под землей,— на очереди дня.
Сначала о городе говорили просто: Волгоград. Потом появился Волгоград II. Теперь, когда у волгоградцев жилья уже в четыре раза больше, чем было до войны, есть, в сущности, уже несколько Волгоградов. В каждом свои центры, проспекты, бульвары, любимые места прогулок и встреч, кинотеатры, дворцы культуры. И, конечно, свои заводы. Канатпо-проволочный, например. Это на южной окраине. Там среди главных улиц — проспект Канатчиков.
Алюминиевый, нефтеперерабатывающий, нефтяного оборудования, моторный... Нет этих заводов в справочниках, изданных в первые послевоенные годы. Новые индустриальные гиганты город получил за последние пятилетки.
Казалось, после восстановления центр Волгограда застроен полностью. Оставались лишь места, как будто вовсе непригодные, вроде глубокого оврага речки Пионерки, которую по старой памяти чаще называют Царицей. Но дошла очередь и до него. Землесосы перегнали туда массу песка, и овраг превращают в парк. Возле него строят новый Дворец пионеров и высотную гостиницу.
А у самой реки, немного в стороне от главной лестницы, от парадного входа в город, — новый речной вокзал. По величине, удобству и красоте он превосходит все другие вокзалы великой реки. Я не говорю уж о гостинице: при вокзале задуман даже концертный зал, вмещающий тысячу с лишним зрителей. Он рассчитан не только на летний сезон, но и на зиму, на гостей и волгоградцев.
Десятая пятилетка распахнет двери нового здания Музея обороны. Это возле руин мельницы. По фотографиям военных лет и воспоминаниям воинов вокруг все будет воссоздано так, как было во время битвы. Исчезнет асфальт, возникнут воронки от снарядов, ходы сообщения, укрытия, где были огневые точки. Вечерами руины мельницыосветит как бы колеблющийся отблеск близкого пожарища, вспышки разрывов выхватят из тьмы то один, то другой кусок стены.
Тут же — круглое здание панорамы Сталинградской битвы.
А на открытых площадках возле музея — подлинная боевая техника тех лет, наша и трофейная.
В новый Музей обороны перенесут из старого тесного здания шашки Ворошилова, Буденного и других героев борьбы за Царицын в годы гражданской войны, бинокли, пистолеты, простреленные шинели героев Сталинградской битвы, знамена плененных в Сталинграде гитлеровских частей...
Велик воинский подвиг города, но славна и его трудовая биография. Страницы истории неразрывны, они продолжают и дополняют друг друга.
Огромный тракторный завод на Волге задумали строить, когда только что были залечены раны гражданской войны. В те годы человек, умевший кое-как нацарапать свою фамилию, считался грамотеем. Люди, ехавшие строить тракторный завод, видели трактор лишь на картинках.
Нам требовалась помощь. Больше всего тракторов выпускали тогда Соединенные Штаты Америки. На стройку пригласили американских инженеров и рабочих, закупили за океаном нужные станки.
Зарубежные специалисты считали, что строительство займет года три, в лучшем случае — два с половиной.
Но гигант на Волге был готов через одиннадцать месяцев после закладки. Американцы заказывали обратные билеты на океанские суда. Однако некоторые не торопились с отъездом. Среди них — Фрэнк Бруно Хоней. американский инженер, с юных лет участвовавший в рабочем движении.
Хоней не был неудачником. В Америке у него была хорошо оплачиваемая работа. Он приезжал с завода в собственный дом, сидя за рулем собственного автомобиля. У нас инженер Хоней думал пробыть не больше года.
Но он и сегодня живет в Волгограде. Вспоминает прошлое, задумчиво поглядывая в окно, прислушиваясь к привычному шуму большого города, который он уже давно считает своим.
— Я обучал русских парней, как надо работать на станках. Это были парни из деревни. Они хотели знать много, но знали очень мало. Ребята были дурно одеты. Многие в лаптях. Жили в бараках. Холод, парни собираются вместе и так спят, чтобы теплее было. Ночью крик: «Вставайте, оборудование прибыло! Давай! Давай!» И встают среди ночи, идут разгружать вагоны. Давай, давай!
Летом 1930 года из заводских ворот вышел первый трактор. Мистер Хоней вместе со своими учениками провожал его. Трактор отправили в Москву. С вокзала он двинулся по улицам прямо к Большому театру, где заседал съезд партии. Москвичи аплодировали дорогому волжскому гостю.
Вскоре мистер Хоней отказался получать валюту. Он хотел жить, как рядовой советский инженер. Американский коммунист стал советским гражданином, товарищем Хонеем.
Когда началась война, его вместе с частью других специалистов послали в Барнаул, чтобы налаживать выпуск фронтовой продукции в Сибири.
Сталинградский тракторный вместо тракторов стал выпускать танки. Он был под огнем сто шестьдесят два дня. Как и «Красный Октябрь», завод превратился в участок фронта. Когда в Сталинграде был пленен последний гитлеровец, на месте огромного завода оставались лишь груды битого кирпича и искореженного металла.
Фрэнк Бруно Хоней вернулся в город, ставший для него родным. Жил среди развалин в клетушке, где вместе с ним ютилось тринадцать человек. Помогал ремонтировать танки. Летом 1944 года, когда еще продолжалась война, заводу поручили вновь строить тракторы. Хоней, провожавший когда-то первый трактор, был в числе ветеранов, праздновавших выпуск первой послевоенной машины.
Недавно я снова встретился с товарищем Хонеем. Был канун его восьмидесятилетия. В квартире непрерывно звонил телефон. Поздравляли старые друзья, поздравляли знакомые и незнакомые. Звонков было так много, что Фрэнк Брупович под конец совершенно обессилел, и на приветствия отвечала его жена...
В Волгограде собрались на слет победители похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.
Ребята побывали всюду. Они были на Мамаевом кургане. Они ходили возле знаменитого «дома Павлова», в котором во время битвы сержант Павлов вместе с маленьким гарнизоном пятьдесят восемь дней сдерживал натиск фашистов,—ходили и слушали рассказ самого бывшего сержанта Якова Федотовича Павлова, немолодого уже человека со Звездой Героя Советского Союза на пиджаке.
В дни слета были военно-спортивные игры и была «плавка дружбы» в мартеновском цехе завода «Красный Октябрь», где вместе с волгоградскими сталеварами к печам встали металлурги из разных наших республик и из братских социалистических стран.
И еще в те дни распахали Солдатское ноле.
Свыше тридцати лет его не трогал плуг. Это было одно из тех полей боя, где землю особенно густо начиняли не разорвавшиеся мины, снаряды, бомбы. И вот саперы наконец полностью очистили его от смертоносного наследия войны.
Поле вспахали. Отныне на нем будут колоситься хлеба. А рядом поставили бронзовое изваяние: худенькая девочка с цветком в руке.
С поля многие увезли с собой горстку земли. Это давний обычай. Когда однажды после войны в город на Волге приехали участники Всемирного конгресса мира, им вручали два подарка. К подаркам прилагались памятные надписи:
«Горсть сталинградской земли — той земли, на которой не мог удержаться ни один захватчик. Эту горсть земли мы вручаем вам в знак гостеприимства, которое друзья мира всегда встретят в нашем городе.
Горсть пшеничных зерен, выращенных на политой кровью сталинградской земле,— как символ трудолюбия советских людей и обилия того хлеба, который дает во время, мира ожившая сталинградская земля».
Две водные дороги уходят от Волгограда. Одна древняя, другой четверть века.
Когда учился Михайло Ломоносов, ученики уже зубрили, что Волга впадает в Каспийское или, как называли его прежде, в Хвалынское море. Наши предки давным-давно постигли эту истину на практике. Низовья реки были оживленным торговым путем между Каспием и Поволжьем.
XIV век оставил о нем подробные свидетельства. Ибн Баттута, первое путешествие которого длилось двадцать четыре года,— вот пример человека, действительно одержимого «охотой к перемене мест»! — дважды побывал в низовьях Волги и прошел от Каспия вверх по реке почти до устья Камы.
Венецианский посол Амвросий Контарини во второй половине XV века поднимался вверх по Волге от города Цитрахани, причем описал свой путь вдоль «величайшей из всех известных нам рек», поскольку путешествовал не на лодке, но с караваном, который шел вдоль берега.
В низовьях Волга пересекает огромную Прикаспийскую низменность. Для волжского путешественника она начинается возле Волгограда. В тех местах реку пересекает «нулевая горизонталь» — условная линия, обозначающая уровень Мирового океана. Значительная часть низменности лежит ниже этого уровня.
За «нулевой горизонталью» пассажир, сам того не замечая, начинает постепенно опускаться в океанские глубины. Метр за метром. Возле Астрахани выше уровня океана останутся лишь верхушки мачт...
Каспий, которому несет воды Волга, по размерам и истории возникновения вполне можно считать морем. Но поскольку он занимает замкнутую котловину, не связанную проливами с морями Мирового океана, часть географов склонна именовать его величайшим озером земли. Сегодня уровень Каспия примерно на 28 метров ниже океанского.

С речной дороги — на морскую!
Но прежде чем спуститься древней дорогой, познакомимся с новой, выводящей Волгу на встречу с океанским простором.
Она начинается на южной окраине Волгограда Волго-Донским судоходным каналом. Канал, потом Дон, затем Азовское море, а там Черное, проливы в Средиземное, оттуда — в Атлантику...
Я помню, как начинали строить Волго-Дон, как экскаваторы «прогрызали» трассу, как в опустошенной войной степи, возле воронок от бомб, вырастали шлюзы, плотины, насосные станции, поселки.
Весной 1952 года теплоход «Сергей Киров» впервые прошел по готовой трассе.
Мы шли из шлюза в шлюз, и канал с нарядными башнями, с зеркальными водохранилищами был еще совершенно чужим всему, что его окружало. Кое-где торчали тощие топольки, на клумбы высадили поникшую рассаду — а в десяти шагах от воды начиналась полупустыня, да притом обезображенная грудами глинистого грунта, вынутого экскаваторами из русла канала.
Трудно было поверить, что когда-нибудь канал изменит все вокруг. Так же трудно, как представить сегодня, что возле канала не было ничего, кроме пятен солончаков да сизой полыни.
Произошло чудо, знакомое еще земледельцам древнего Вавилона и обитателям пустынь, над которыми поднялись пирамиды Египта: вода принесла жизнь.
Каждый раз, когда судьба приводит меня в Волгоград, я непременно бываю на канале, стараясь прогуляться от Волги хотя бы до Цимлянского моря. И не проходит у меня ощущение, что тот, давний, знакомый канал перенесли в совсем другое место. Шлюзы стоят среди рощ, откосы зеленеют, как в Подмосковье, вокруг оросительные каналы, поля, сады, над плантациями в струях дождевалок сияют десятки маленьких радуг.
Канал изменил все вокруг и сам изменился. Его приспособили для прохода больших волжских кораблей, появившихся в последние годы. Для них канал не только путь с Волги на Дон, но через Азовское и Черное моря — в Средиземное, а там — в порты Западной Европы и Северной Африки. Однако большинство волжских судов, особенно пассажирских, заканчивает плавание в Ростове-на-Дону.
Начало же рейса для всех одинаково: из канала в Цимлянское море. На башнях шлюза при плотине Цимлянской ГЭС изваяны вздыбившие коней и обнажившие шашки донские казаки. Так атаковали они и в XVI веке, и в рейдах по фашистским тылам.
А рядом с плотиной — город Волгодонск, где у бойкой дороги выбрано место для Атоммаша, одной из главных строек десятой пятилетки.
Заводов, подобных ему, не было у нас, не было и нет нигде в мире.
Наша страна построила первую в мире атомную электростанцию. Теперь такие станции — в разных уголках Советского Союза. Под Москвой и Ленинградом. В железорудном бассейне Курской магнитной аномалии и на далекой холодной Чукотке, где еще полвека назад жилища освещались каменными плошками с тюленьим жиром, в котором плавал фитиль из мха.
Мы будем с каждым годом, с каждой пятилеткой все больше, все шире использовать энергию мирного атома. Значки строящихся атомных электростанций уже не кажутся на картах непривычными, одинокими.
Эти станции сооружаются не только там, где нет рек, подходящих для возведения плотин гидростанций, они — где недостает топлива для теплоцентралей.
Они нужны и полезны всюду. В маловодные годы снимут часть нагрузки с гидростанций. Помогу! экономить топливо, сжигаемое теплоцентралями: ведь его можно использовать как ценное сырье.
И еще выгоды: для атомных электростанций не надо затапливать земли. Эти станции не загрязняют атмосферу дымом и газом и, значит, помогают беречь окружающую природу. Не нужно постоянно загружать железные дороги или танкеры тысячами и тысячами тонн угля или мазута, которые пожирают тепловые электростанции. Атомной станции мощностью в миллион киловатт нужно всего несколько вагонов горючего на два-три года. Тепловой такой же мощности — требуется 45 тысяч вагонов каменного угля в год.
Волгодонской Атоммаш в ближайшее время станет выпускать атомные реакторы. Не один, не два, а много. Это будет поточное производство.
Построить атомный реактор мощностью в миллион киловатт, конечно, гораздо сложнее, чем автомобиль «Жигули». Но и на гиганте в Волгодонске действуют конвейеры, действуют все законы массового, серийного производства. Как же далеко шагнула наша атомная энергетика, если источники энергии, каждый из которых мощностью превосходит Днепрогэс, становятся у нас заводской продукцией десятой пятилетки!

Волгодонск возник одновременно с Цимлянским морем. Тогда же на его главной площади появились скульптурные изображения водника и строителя. Теперь строитель — главная фигура на волгодонской ударной стройке.
Одновременно с Атоммашем возводится новый город в степи, рассчитанный удобно и мудро: зелени — по пятнадцати квадратных метров на человека, притом пышной южной зелени, на всех улицах велосипедные дорожки, но зато на тех, что ведут внутрь жилых кварталов, знак, запрещающий въезд автомашинам. Машину можно оставить поблизости, в гараже на границе своего микрорайона: пройтись немного по тихой улице, благоухающей цветами, а не отработанным газом,— и удовольствие, и польза.
Ниже плотины Цимлянской ГЭС тихий Дон струится меж благодатных берегов. Над богатыми станицами красуются пирамидальные тополя, по солнечным склонам наливаются кисти на виноградниках. Но если тонкие и ароматные донские вина, которые здесь делали еще со времен Петра Первого, удерживают международную известность, то слава превосходной донской и азовской рыбы основательно померкла. Рыба, правда, не стала хуже. Но добывают ее куда меньше, чем прежде.
Азовское море было раем для рыб. Оно хорошо прогревается солнцем, изобилует рыбьим кормом. С каждого гектара азовские рыбаки получали «урожай» в несколько раз выше, чем их черноморские соседи.
Но с годами в рыбьем раю начались перемены к худшему. Причин много, и одна из них — вода в Азовском море посолонела. Дон и Кубань все меньше разбавляют ее пресной: по дороге к морю люди забирают у рек часть стока для орошения, для рисовых полей.
Зато Черное море готово расщедриться для соседа. Через Керченский пролив оно шлет непрошеное подкрепление. Радости от этого мало. Черноморская вода куда солонее азовской. А излишняя соленость вредна для тех ценнейших пород рыб, которыми как раз и славится Азовское море.
Что же делать? Разрабатывается проект большого гидроузла в Керченском проливе. Он станет как бы воротами, которые можно закрывать и открывать. Дело в том, что обмен водой между морями не постоянен. Когда дуют сильные южные ветры, через пролив мощно идет черноморская вода. Северные же, напротив, обильно перегоняют в Черное море азовскую. Плохо и то, и другое.
Но если построить плотину и закрывать, когда нужно, ее донные отверстия, то из Азовского моря воды станет уходить гораздо меньше, сократится и встречный приток черноморской.
И все же без прибавки Азовскому морю пресной речной воды не обойтись. Тут первый помощник — тихий Дон.
В его низовьях создаются водохранилища. Первое, Николаевское, уже готово. Второй гидроузел, Константиновский, строится в десятой пятилетке. Вода, накапливаемая за новыми плотинами, увеличивает глубины в низовьях реки, орошает землю и помогает морю в самое решающее время, когда рыба идет на нерест в азовские лиманы.
Но гидроузлы могут правильнее, разумнее распределять лишь то, что есть. А воды у Дона мало. Он сам нуждается в прибавке.
Существуют разные проекты. Они, однако, не обещают Дону многого. От кого же тихий Дон может ждать действительно щедрой поддержки?
От Волги.
Из низовьев Дона мы и вернемся на Волгу. Именно здесь определится будущее двух соседних рек, породненных каналом. Ближайшее и более далекое, уже за пределами нашего века.
Снова развилка водных дорог у южной окраины Волгограда.
Миновали вход в канал. Идем к Каспию.
Откровенно говоря, за нулевой горизонталью далеко не самые привлекательные волжские пейзажи. И до чего же жарко здесь в разгаре лета! Пассажиры прячутся от палящего солнца по каютам, то и дело вытирая потное лицо висящим на шее полотенцем. Говорят, так поступали купцы, в охотку выпивавшие по десять чашек чая.
Даже вентиляторы почти не освежают, жужжат впустую, гоняя все тот же горячий воздух. Эх, дождичка бы!
Но дождь здесь редкость. За нулевой горизонталью по дороге к Каспию сумма годовых осадков все уменьшается и уменьшается. Немного в стороне от Волги — всего 150—200 миллиметров. Это один хороший ливень где-нибудь под Батуми.
Горячий воздух — дыхание полупустынь Прикаспийской низменности. Однако они не мозолят глаза пассажиру. Они — подальше, они как бы за кулисами, а судно идет мимо невысоких островов, катит вал на песчаные отмели, вспугивает цапель и уток с мелководных проток.
Полупустыни и сухие степи начинаются за высокими обрывами коренного берега. Фарватер лишь изредка приближается к нему. Путь судна — среди раздолья Волго-Ахтубинской поймы, одной из величайших речных долин планеты.
Эта пойма — творение Волги и ее рукава Ахтубы. Почти полтысячи километров они несут воды рядом, не сливаясь вместе, но и не отделяясь окончательно. Прежде в половодье здесь бывало море разливанное. Теперь Волгу поукротили плотинами. Однако в дружную весну после снежной зимы многие островки по-прежнему уходят под воду, чтобы вынырнуть и пышно зазеленеть к началу летнего зноя.
Пойма и полупустыня — рядом. Волга и Ахтуба вклинили общую свою широкую долину в совершенно чужой ей мир. У поймы и коренного берега — разная жизнь. Вон верблюд вышел на желтый, голый обрыв. Он у края своих владений. Не думаю, чтобы цапли, неторопливо взмахивающие крыльями над водой, летали к нему в гости, нечего им там делать...
Лишь люди, неугомонные люди пытаются сблизить два мира. Для этого нужно, в сущности, одно: по-хозяйски, с пользой распоряжаться водой.
В пойме она прежде застаивалась до середины лета, не давая сажать и сеять. Потом постепенно скатывалась в море, испарялась в протоках, во впадинах озер — и там, где квакали лягушки, начинали желтеть, сохнуть травы.
В прибрежных степях и полупустынях с водой было плохо почти круглый год. Лишь после таяния снегов весна торопливо расстилала дивный ковер тюльпанов, который вскоре уступал место полыни.
Уже не первое десятилетие люди стремятся превратить Волго-Ахтубинскую пойму в долину плодородия. Чтобы уравновесить добро и зло, творимое здесь рекой, защищают землю от затягивающихся разливов валами, пуская лишь столько воды, сколько нужно.
А потом начинают шуметь в пойме моторы насосных станций, качая воду из мелеющих проток на быстро сохнущие овощные плантации. Хлопот много, зато и собирают помидоры с кулак, капусту куда больше футбольного мяча, причем не вялую, а тугую, крепкую, тяжелую. И на рисовых плантациях урожай хорош. О лугах же, о кукурузе, о кормовых травах говорить нечего, пойма словно для них создана.
А что же с сухими степями, с полупустыней? Забыть о них, заниматься только поймой?
Но, представьте, в степи, в той раскаленной, иссушенной степи, откуда летом тянет на Волгу, словно из печки, можно выращивать овощи ничуть не хуже, чем в пойме. Нужна лишь вода. Причем защищаться от нее в степи, понятно, не надо, с плеч долой часть хлопот, неизбежных для овощеводов поймы.
У нас теперь такая техника, такие насосные станции и дождевалки, что полив степного гектара вблизи Волги обходится не дороже, чем уход за пойменным гектаром. И урожайность на хороших участках не меньше.
А как же со знаменитыми пойменными помидорами? Сравнили с выращиваемыми в орошенной степи: так ведь не отличишь, вкус отменный у тех и других.
Здесь река пересекает Прикаспийскую низменность.

Волга пока еще лишь отдельными тоненькими ручейками уходит в приречные части Прикаспийской низменности, в каналы первых оросительных систем.
Уходит... На всем протяжении плеса от Волгограда до Каспия у нее только расходы и расходы: притоков нет, испарение сильнейшее, теперь и степи хотят получать у нее ту влагу, на которую скупится небо.
Собирались было соорудить в низовьях Волги, медленно катящей воды все дальше к Каспию, еще один гидроузел. Но водохранилище поглотило бы слишком много ценной земли. Построили лишь так называемый вододелитель, чтобы значительную часть воды направлять в те места волжской дельты, где рыба мечет икру, где выводятся мальки. Важно, чтобы не обсыхали, не мелели рыбьи «пастбища».
По правобережью Волги, несколько поодаль от нее,— земли Калмыкии.
«Другом степей» назвал калмыка Пушкин. Как и встарь, жители республики любят свой степной простор, хотя приезжему он может показаться несколько однообразным и суровым. Есть даже что-то пугающее в самом названии одного из степных районов Калмыкии: Черные земли. А на самом деле это одно из лучших в стране зимних пастбищ. Здесь растут житняк, полынь, «солянки», которые любит скот. Сравнительно мягкая зима, темная от засохших трав степь, не прикрытая снежной пеленой,—вот вам и Черные земли.
В давние годы калмыки шли к Разину и Пугачеву. В рядах русских войск лихие калмыцкие всадники сражались под Полтавой против шведов. Во время войны с Наполеоном калмыков видели рядом с донскими казаками на улицах Парижа. Когда фашисты заняли Элисту, столицу республики, партизанский отряд «Гром» бесстрашно боролся против оккупантов.
«Друг степей» учится сегодня в Калмыцком государственном университете, работает над диссертацией об исторических корнях замечательного народного эпоса «Джангар», разведывает нефть и газ, сооружает оросительные каналы, строит животноводческие механизированные комплексы там, где кочевали когда-то со своей убогой кибиткой его деды и прадеды.
Последние десятки километров великого водного пути...
Вы помните карту дельты? Как широка она, сколько корней-проток расходятся от ствола, от главного волжского русла! И у основания ствола — Астрахань.
Не в пример большинству волжских городов, забравшихся на берега повыше, она возникает как бы прямо из воды глыбами своих многоэтажников и колокольней старинного собора на невысоком холме.
Возникает в томящем знойном мареве безоблачного дня. Северянину, даже жителю средних широт астраханская жара кажется африканской. Больше сорока градусов — разве такое с непривычки выдержишь?
Астраханцы же работают в полную силу. Разделывают, замораживают, консервируют, солят, сушат рыбу. Строят морские сейнеры для ее лова. Вяжут капроновые сети. Спускают со стапелей танкеры для Большой Волги. Ремонтируют тепловозы железным дорогам страны. Вырабатывают картон, целлюлозу, бумагу. И на вопрос о том, сколько сегодня градусов, отвечают шуткой: сто километров до сорока. Это значит — сорок в тени, на солнцепеке куда больше, но вожделенную тень в полдень ближе ста километров вряд ли сыщешь...
В Горьком, признанной волжской столице, Волга во всем и всюду. Этот царственно поставленный над слиянием двух рек город первенствует среди других городов Поволжья.
Но в одном он уступает Астрахани. Только здесь, в Астрахани, как бы равноправны, равнозначны река и море, речной простор и соленая морская волна. Тут волжский лайнер встречается с промысловыми каспийскими судами. Ключ-город на стыке давних и новых водных дорог сдружил, объединил волгарей, каспийских мореходов и каспийских рыбаков в братство водников.
Широкой лентой протянулась Волга через Астрахань. Вся она в слепящих солнечных бликах, в толчее волн, поднятых множеством судов. Река тоже трудится в полную силу, как и астраханцы. Такой вот, работящей, деятельной, уходит Волга дальше, на встречу с Каспием.
Она впадает в море множеством проток своей дельты. Я прошел как-то по такой протоке на лодке. Минуло несколько часов, пока мы, после утомительного скольжения между стенами камыша, выбрались на распахнутый к горизонту простор.
Море?! Оно оказалось немногим глубже лужи. Каспий мелеет, отступает, обнажая дно, очень полого выстланное песчаными наносами. Лишь в бинокль далеко-далеко различались дым корабля, серые паруса баркасов. Туда отошло, отодвинулось настоящее море, а не то море по колено, по которому, вопреки поговорке, мы могли в совершенно трезвом виде брести рядом с лодкой.
В Астрахани - свое Лебединое озеро...

Когда-то корабли причаливали неподалеку от Астраханского кремля. В прошлом веке их вел к Астрахани свет маяков. Теперь погасшие, обезлюдевшие башни торчат среди сухих песков.
Сегодня, если считать по судоходному фарватеру, доступному для современных судов, до настоящего моря от Астрахани не ближе, чем до пресловутой тени. Даже дальше: без малого двести километров.
Эти двести километров — искусственно прорытый под водой, постоянно расчищаемый от наносов канал. Его обслуживает флотилия мощных землесосов. Прекрати они работу — и мелководье остановит транспортный конвейер Волга — Каспий.
Волга, несомненно, по-прежнему впадает в Каспийское море. Эта азбучная истина незыблема. Но не прежняя Волга и не в прежний Каспий.
Народная фантазия, наделявшая Волгу чертами величавой красавицы, превратила море в «седого Каспия». На рисунках его изображали белобородым стариком.
У Лермонтова Терек обращается к Каспию: «Расступись, о старец-море, дай приют моей волне!» Но старцу не нужны воды буйной реки. Он «стихнул, будто спит». Тогда Терек предлагает ему другие дары...
Сегодня старца обрадовали бы именно речные волны. Простая вода для него теперь «...дар бесценный! Что другие все дары?» И мы вполне поняли бы его. Всем нужна вода, только давай!
Волга, Терек, Урал, Эмба, Кура и другие реки, впадающие в Каспий, во времена Лермонтова не скупились. Поэтический образ подкреплен наблюдениями гидрографов: в начале XIX века уровень моря повышался. Так бывало и прежде. Ученые полагают, что наиболее высоко воды Каспия поднимались несколько тысяч лет назад. А в VII—XI веках нашей эры море, напротив, отступало, возможно, даже дальше, чем сегодня.
Непостоянство его нрава объясняется колебаниями климата. Каспий стал заметно мелеть с тридцатых годов нашего века. Сказалось общее потепление в Северном полушарии. Усилилось испарение, уменьшился сток Волги и других рек.
Да и человек год от года забирает все больше воды для городов, индустрии, орошения полей. Тот же Терек отдает оросительному каналу изрядную долю «своей волны», и «старцу-морю» не приходится особенно расступаться, чтобы дать ей приют...
Последние данные говорят: похоже, что обмеление Каспия пока замедлилось. Уровень колеблется в пределах нескольких сантиметров. Но это еще не обещает благополучия с главными «пастбищами» ценных пород рыб.
Азовскому морю нужна помощь, Каспийскому морю нужна помощь...
Было много проектов. Среди них — дамба, отделяющая северную, самую рыбную часть моря: для нее было бы достаточно нынешнего волжского стока. Предлагалось закрыть залив Кара-Богаз-Гол, где на мелководье испаряется особенно много морской воды. Но это лишило бы страну осаждающихся на дне залива ценных солей. И сегодня главная надежда на Волгу, которой сначала... тоже нужно помочь!
Север нашей страны изобилует водами. Он без ущерба для своих рек может поделиться с югом. У нас уже есть мощнейшая землеройная техника для поворота части северных вод в бассейн Волги. Эти воды позволят каскаду волжских гидростанций вырабатывать дополнительную электроэнергию, орошать миллионы гектаров земли. По каналу Волга — Урал часть их можно направить мелеющему Уралу. Есть несколько вариантов переброски волжских вод через Дон Азовскому морю. И, конечно, не останется в обиде Каспий.
Так за чем же дело стало, если техника у нас есть, опыт крупного гидростроительства — тоже? Быть может, возникают сомнения, нужны ли все эти очень дорогие работы?
Нужны. Без поддержки вод Севера народному хозяйству Юга не обойтись.
Изыскания идут не первое десятилетие. Тысячи крупных специалистов взвешивают тысячи «за» и «против» по каждому предлагаемому проекту. Ведь предстоят работы континентального масштаба. Нужно предвидеть не только их очевидную пользу, но и возможные неблагоприятные последствия.
Казалось бы, какое дело астрономам до плотин и каналов? Однако именно им поручили проверить, не повлияет ли поворот рек на вращение Земли, что, в свою очередь, привело бы к изменению климата планеты. И астрономы лишь после долгих расчетов смогли ответить: нет, не повлияет.
Геологи, лесоводы, мелиораторы, ихтиологи, градостроители, речники, агрономы, железнодорожники, метеорологи, синоптики, почвоведы и множество других знатоков своего дела оценивают проекты. Предстоит небывалое вторжение в природу и жизнь. Тут нельзя ошибиться, нельзя просчитаться!
Разработаны два основных проекта. Один предполагает перебросить часть стока северных полноводных рек Печоры и Вычегды через пологие водоразделы в Каму. Отработав свое на гидростанциях камского каскада, северные воды вольются в Волгу.
Другой проект намечает использование рек Сухоны и Онеги, а также Онежского озера и озер менее известных, но достаточно полноводных: Кубенского, Воже, Лача. Волга получит от них подкрепление через долину реки Шексны. Эта река, как вы знаете, стала частью Волго-Балта и выходит в Рыбинское море. Значит, северные воды пройдут дальше через турбины всех наиболее мощных гидростанций Волги.
Возможно, придется использовать оба проекта, чтобы напоить миллионы гектаров засушливых земель Поволжья и по-настоящему помочь Каспию и Азовскому морю. А в отдаленном будущем ученые не исключают прибавку, притом щедрую, из Сибири. Воды сибирских рек предполагается использовать главным образом для орошения Средней Азии и Казахстана. Но разве не заманчиво часть стока Оби перебросить в Печору, а оттуда — в Каму и Волгу?
У основных проектов есть свои варианты. Из той же Печоры воду можно направить в Каму по-разному: из верховьев и из нижнего плеса, по каналам или по «антирекам», т. е. рекам, течение которых полностью изменяется на противоположное. Такими «антиреками» с помощью мощных перекачечных станций могут стать Пижма и Сухона.
Проблем, притом серьезнейших, не счесть. Поговорка «семь раз примерь, один раз отрежь» здесь не подойдет. Примеривают семьдесят, а в иных случаях, быть может, и семьсот раз.
Сталкиваются технические идеи, сталкиваются самые разнообразные, подчас неожиданные интересы.
При всей грандиозности сооружений, которые предстоит возвести, не только они волнуют сегодня тех, кому предстоит повернуть реки. Их волнуют затапливаемые леса и поля, нарушение равновесия в природе, возможные потери на Севере — ведь воды северных и сибирских рек, помимо прочего, несут к океану запасы тепла, смягчающего суровость климата этих мест, и тут тоже следует хорошенько все рассчитать.
Вот почему в десятой пятилетке ученые и инженеры, занятые подготовкой к началу работ, получили правительственное задание: еще и еще раз провести обширные научные исследования, предусматривающие все возможное для охраны природы, для того, чтобы помочь Волге, Каспию, Азовскому морю без крупных потерь в пространствах Севера, которые еще очень и очень пригодятся нам и нашим потомкам.
Выход экскаваторов на трассы будущих каналов пока задерживается. Задержка не так уж велика. Потерпим, ведь предстоит определить будущее главной нашей реки и связанных с ней пространств страны не только в уходящем столетии, но и в веке грядущем.
Побратимы. В центре Волгограда — невысокая полукруглая стена. На ней вокруг герба города-героя изображено несколько гербов с непривычной геральдикой: вздыбленный конь, корона, слон, якоря, медали, лук с натянутой тетивой...
Это гербы городов-побратимов Волгограда. В Чехословакии — Острава, в Англии — Ковентри, в Японии — Хиросима, во Франции — Дижон, в Финляндии — Кеми, в Италии — Турин, в Египте — Порт-Саид, в Индии — Мадрас, в Бельгии — Льеж породнились с городом на Волге.
Города-побратимы часто обмениваются делегациями, взаимно приглашают детей на отдых, посылают друг другу подарки, устраивают недели и месячники дружбы.
Породненные города назвали в честь побратимов улицы и площади. В Ковентри, разрушенном в годы войны фашистской авиацией, на площади Сталинграда — клумбы. Одни мертвы и пусты, другие пышно цветут, орошаемые струями фонтанчиков. Клумбы символизируют жизнь и смерть, опустошительность войны и счастье мирного труда. В городском управлении Ковентри хранится шкатулка с землей, взятой на Мамаевом кургане.
Подвиг Сталинграда вызвал восхищение у всех противников фашизма. Уже во время войны город стал получать памятные дары из разных концов света. Среди них — большой рыцарский меч, выкованный в 1943 году лучшими оружейниками Англии. От имени английского короля он был вручен «людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда». Эти слова выгравированы на мече.
Самый большой из подарков — планетарий, Он замыкает улицу Мира. Его оборудование прислали трудящиеся Германской Демократической Республики.
Есть десятимиллионный! В канун 1978 года из ворот Волгоградского тракторного вышла машина, на радиаторе которой было крупно написано: «10 000 000».
Это был десятимиллионный трактор, выпущенный в нашей стране.
Вместе с волгоградцами его собрали представители других тракторных заводов, соревновавшихся за право сборки юбиляра на своем конвейере. Победил Волгоградский тракторный.
Десятимиллионный трактор торжественно передали лучшему пахарю области трактористу совхоза «Вол го-Дон» лауреату Государственной премии Владимиру Яковлевичу Стенковому.
А где теперь машина № 1, выпущенная заводом в 1930 году?
Два десятка лет отработав на землях Заволжья, старый трактор стал экспонатом Музея Революции в Москве.
«Всесоюзная солонка». Один путешественник по Прикаспийской низменности жаловался: «На озеро наткнетесь — беда. Ни освежиться купанием, ни напиться нельзя! Соль!»
Тысячи озер различных оттенков — белого, аквамаринового, золотисто-пурпурного, красноватого—отсвечивают во впадинах низменности. В них не вода, а раствор солей. Многие из них используются химической промышленностью.
По Волге движутся секционные составы, где в трюмах — поваренная соль.
Обычай встречать дорогого гостя хлебом-солью мудр и стар. Без соли человеку плохо. Недаром из-за нее в прежние времена возникали бунты и войны. На Руси соль выпаривали из воды соленых источников.
Уже много лет наша главная «солонка» — расположенное в полупустыне недалеко от Волги озеро Баскунчак. В его чаше поваренная соль залегает на большую глубину несколькими слоями. Сверху— «новосадка», которую приносят текущие в озеро соленые ключи, под ней — «чугунка», еще ниже «гранатка», особо ценимая за чистоту и вкус.
Добывают соль «комбайнами», которые подрезают и дробят пласты. Баскунчак дает примерно треть всей поваренной соли, нужной стране.
Воды в озере нет вовсе. Есть рапа, тонкий слой насыщенного раствора. Летом озеро высыхает. Под солнцем блестит идеально гладкая поверхность. На ней можно испытывать новые модели гоночных автомобилей.

У ворот Волгоградского тракторного.
Через Волго-Донской водораздел. Некоторые исследователи считают, что водораздел между Волгой и Доном был важной сухопутной дорогой еще за шесть веков до нашей эры. С начала X века русские на катках перетаскивали через него легкие суденышки. Позднее этот путь хорошо освоила донская казацкая вольница.
Первую попытку прорыть через междуречье канал предпринял в XV! веке турецкий султан Селим Второй. Он вместе с крымским ханом хотел вывести на Волгу свои корабли. К водоразделу согнали невольников. Но вскоре султан получил донесение: чтобы сделать прокоп, понадобится сто лет...
Серьезную попытку прорыть канал предприняли при Петре Первом. Следы этих работ сохранились до сих пор. Было сделано многое, однако война со Швецией отвлекла силы, и дело заглохло надолго.
Позднее суда через перешеек стали перетаскивать на особых повозках, в которые запрягали десятки лошадей и волов. При попутном ветре поднимали паруса, чтобы облегчить тягу. Казалось, корабли плывут по степи.
Наконец, Волгу с Доном соединила сначала конно-железная дорога, где повозки-платформы передвигались по рельсам за упряжками, а затем настоящая железная дорога.
Знаменательно, что вопрос о строительстве через междуречье канала был рассмотрен Совнаркомом в первый год существования Советской власти, и тогда же были начаты изыскания.
Помесь барана и арбуза. Легенда о «баранце» повторялась несколькими иностранными путешественниками, посетившими «Московию» в XVII веке. Они описывали похожее на ягненка чудесное растение, плоды которого покрыты блестящим мехом, пригодным для шитья шапок. В рассказах иноземцев причудливо сплелось воедино услышанное об арбузе, о его красной, как кровь живого существа, сердцевине и о каракулевой овце...
А если говорить серьезно — разве не чудо наш волжский арбуз? Сочный, сладкий, он может и в самом деле достичь веса барашка. Выращивают арбузы, весящие 16—20 килограммов. Такие сорта выведены селекционерами на Волге и на Украине.
Арбуз, кроме сахара, содержит нужное человеку железо и другие полезные вещества. Из него приготовляют мед и патоку.
Название «арбуз», возможно, пришло к нам из Индии или Персии. Арбузы выращивают на бахчах, а «бахча» — слово персидского происхождения. Не исключено, что первые семена арбузов попали на Волгу с обозами монголо-татарских завоевателей.
Живое ископаемое. Десять миллионов лет назад сайгаки уже носились по будущим русским равнинам. Этих антилоп не назовешь современниками мамонта: они древнее давным-давно вымершего гиганта.
Сегодня стада сайгаков пасутся в степях Прикаспия и Казахстана, над которыми чертят небо сверхзвуковые самолеты. Как же удалось нам сохранить живое ископаемое?
Решением Советского правительства охота на него была запрещена в 1919 году. Если бы не этот запрет, сайгаки были бы, несомненно, истреблены полностью. Охота на них всегда считалась очень выгодной. Особенно ценились рога антилоп, из которых приготовляют лекарства.
К тому времени, когда вступил в силу запрет, одиночные сайгаки встречались лишь в самых глухих местах. Сегодня их в одной Калмыкии более полумиллиона.
Существует специальная служба охраны стад. Машины, оборудованные рациями, следуют за антилопами в некотором отдалении. Иногда шоферам приходится вести машины на большой скорости. Сайгаков не зря окрестили «степными метеорами». Они могут пробегать семьдесят — восемьдесят пять километров в час.
Внешне сайгак не очень грациозен. У него крупная голова со странным вздутием, напоминающим небольшой хобот. Зато в стремительном беге антилопа как бы легко стелется над степью.
Бестер и его родственники. Сначала — про осетров, белуг и севрюг. Этих рыб из породы осетровых называли «красными». У наших предков «красный» по смыслу был близок «прекрасному». Лучшие балыки, деликатесные консервы, черная икра — это «красная» рыба.
Образ жизни осетра, севрюги, белуги, а также белорыбицы, представительницы породы лососевых, можно коротко определить словами «река — море». Все они поднимаются для нереста, для метания икры, далеко вверх по рекам, где ищут места с чистой, проточной водой. Затем появившееся потомство — молодь — спускается назад в море. Ихтиологи называют таких рыб-путешественниц проходными.
И вот на извечном пути проходных рыб встали плотины. При плотинах построили рыбоходы и лифты-подъемники. Но природа не запрограммировала осетрам навыки пользования столь сложными сооружениями. Некоторые рыбы шли в рыбоход, другие — нет...
Пока строились лифты, ихтиологи думали и о том, как вывести породы рыб, пригодных к существованию в новых условиях.
У осетровых есть речная родственница — стерлядь. После долгих и весьма сложных опытов удалось вывести гибрид белуги и стерляди, окрещенный по начальным слогам названий обеих рыб «бестером». Он унаследовал многие ценные качества белуги, а от стерляди — наиболее важное для Волги: бестер живет и размножается в пресных водохранилищах, обходясь без путешествий в Каспий.
Мальков ценных пород рыб теперь разводят и на специальных рыбоводных заводах. Их в стране около, ста пятидесяти. В Каспий и Азовское море ежегодно выпускают свыше ста миллионов мальков осетровых пород.
Сейчас в стране уже вылавливается больше «красной» рыбы, чем в рекордном для ее улова 1930 году. Однако спрос с тех пор вырос во много раз, и с прилавков рыбных магазинов она исчезает очень быстро.
Вот и подошел к концу мой рассказ. Еще один рассказ о Волге из многих тысяч. Неисчерпаема тема, начатая древними летописями, полузабытыми устными преданиями, вошедшая в русскую, да отчасти и мировую литературу. Она вечна, как вечна жизнь Волги.
Жизнь эта — в постоянном движении, в непрерывных переменах. Сбылись многие мечты и предвидения патриотов Волги. Мы вспоминаем Некрасова: «народ неутомимый» свершил то, что рисовалось поэту в отдалении «иных времен». Наука углубила воды, «несчетною толпою» бегут по ним суда-гиганты...
Но, размышляя о Волге грядущих лет, лучшие сыны России прежде всего и больше всего желали перемен в судьбе народа, населяющего ее берега.
Эти перемены принес Октябрь.
Завоеванное Октябрем Волга отстаивала в боях красных флотилий на фронтах гражданской войны и наогненных переправах Сталинграда. Она помогала народу отражать врага и поднимать разоренное им хозяйство. Из шестидесяти послеоктябрьских лет почти треть отняли у нас войны, залечивание нанесенных ими страшных ран — но не зря были принесены все жертвы.
Четвертое десятилетие над Волгой, как и над всей страной, мирное небо. За эти годы мы сражались в Поволжье разве что с засухой и суховеями. Народ, ведомый партией, продолжает на главной нашей реке великую мирную стройку, польза от которой всем и каждому. Узнавая сегодняшнюю Волгу, черпаешь запасы бодрости, видишь многое, возвышающее душу и согревающее сердце.
— По государству и река!
Эти крылатые слова принадлежат Николаю Языкову, уроженцу волжских берегов, современнику и другу Пушкина. Они пережили свою эпоху. Их смысл стал в наши дни более точным и глубоким.
По государству и река, остающаяся для народа Волгой-матушкой. Но теперь, преобразованная руками народа, она и его любимое детище.
Народ вывел ее в «бескрайний плес всемирных вод», она несет и туда «земли родимой отраженье».
Земли, дороже которой для нас нет ничего на белом свете.
Твоей и моей земли.
