Элий Аристид
Надгробные речи
Монодии
Издание подготовила С.И. МЕЖЕРИЦКАЯ

Элий Аристид.
Сидячая статуя.
Ок. 200 н. э.
Скульптор не установлен.
НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ. МОНОДИИ
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ АЛЕКСАНДРУ
Аристид приветствует совет и народ Котиэя.
Похоже, что люди со всей Эллады стеклись, дабы разделить с вами скорбь в столь великом несчастье и почтить память столь славного мужа, первого среди эллинов
[1]. А посему и я, отправляя это послание и причисляя себя к тем, кто переживает случившееся как личное горе, не считаю свое участие излишним. Ведь всё, что человечество признаёт прекрасным и славным, что доставляет радость юношам и вызывает одобрение стариков, было присуще этому мужу. Он воспитал и обучил меня
[2], и когда я в скором времени получил всё, что уготовила мне судьба, Александр стал для меня и наставником, и учителем, и отцом, и товарищем. Но главным было то, что мы признавали друг друга равными: я почитал его как учителя, он же делил со мной мою славу. Пока я был способен писать ему, мы вели с ним вдохновенные разговоры о риторике. Но когда общение наше стало более невозможно и руки самого дорогого мне человека не коснулись последнего моего письма, мне не оставалось ничего другого, как отправить сие послание вам — не в дом Александра, а в общий дом его сограждан
[3]. Мне казалось, что так я окажу своему учителю двойную честь: во-первых, должным образом почтив его память, а во-вторых, соединившись через него дружескими узами с вами. Я думал и вам доставить двойное удовольствие, открыто выразив свое доверие и почтив память мужа, коего вы столь высоко цените. И не только вы, полагаю, но и все те, кого можно причислить к эллинам!
Мысленно мне удается воссоздать все его достоинства, но в речи я с трудом могу их перечесть, ибо они возникают в моей памяти все разом, так что невозможно рассказать о каждом в отдельности. Мне кажется, что не стоит и пытаться это сделать, ведь если я буду говорить безо всякой меры, то окажусь не лучше тех, кто вовсе молчит.
Прежде всего, благодаря Александру изменилась сама природа похвальной речи
[4], так как, в отличие от тех, кто ищет покровительства у народа или родного города, он прославился не благодаря своему роду. И хотя род ваш — разумеется, древнейший из родов
[5], а город ваш, как говорят, — старейший из городов фригийского племени, Александр сам прославил свой город и весь народ Фригии, так что все вы немало гордитесь перед эллинами тем, что являетесь его согражданами.
Говорят, что у него были лучшие учителя, однако он явно превзошел их всех, словно детей. С юных лет связанный с самыми выдающимися людьми, он учился у древнейших из них
[6], для современников же был либо учителем, либо товарищем по ремеслу. О тех, кого взрастил Александр, скажут другие, но для его учеников, имевших и других наставников, не было никого важнее него. Кто-то, стремясь к великому, пренебрегает малым; Александр же достиг совершенства в своем искусстве, начав с самых его азов, — ведь и в Великие мистерии нельзя быть посвященным прежде Малых
[7]. Иные ораторы изучали основы и первоначала
[8], тратя на это всю свою жизнь, но то, ради чего стоило их изучать, либо не узнавали вовсе, либо так и не постигали как следует. Этот же муж с первых шагов шел словно по некоему пути, никогда не пренебрегая тем, что хотя бы в малой степени заслуживало изучения. Он поистине стал для эллинов кем-то вроде хранителя сокровищ: каждый, кто желал учиться у Александра, черпал из него знания, как из источника.
Но главное его достоинство, заслуживающее особого упоминания, о чем я и ему сказал как-то раз во время нашей беседы, заключается в том, что, постигнув все науки до единой, и притом намного глубже тех, кто изучает каждую в отдельности, он не взял себе самого пышного титула
[9], но сохранил прежний;
[10] и никогда никому он не отказывал в общении, но всегда помогал открыто и по мере сил способствовал возвышению каждого. Другие приобретают величие благодаря искусству своей профессии, он же возвеличил само искусство красноречия, и возвеличил настолько, что благодаря ему оно приняло свой нынешний вид. Ибо иным бывает достаточно превзойти своих товарищей по ремеслу в какой-то одной области, он же превзошел остальных во всех областях ораторского искусства. Так, из обучавшихся красноречию одни казались сильны в построении суждений, но были беспомощны в написании речей; другие добивались умения хорошо говорить, но не отличались большой ученостью; третьи постигали многие премудрости, но, ослепленные ими, не видели чего-то более важного и пропускали самое главное. И только Александр смог овладеть всем сразу.
Однако, обладая великим даром красноречия, он не стал писать исторических трудов и тому подобного, а избрал своим поприщем служение древним эллинам
[11]. А как добр он был к ученикам, наполняя их знаниями и помогая им достигать положения в обществе и желаемых должностей! Ведь этот муж один воспитал и дал миру так много своих последователей, что стал для эллинов как бы основателем колонии
[12]. Его роль можно сравнить с ролью метрополий
[13], так как по всей земле он расселил своих многочисленных учеников — как для пользы их самих, так и для блага окружающих. Он — единственный, кто своим примером изобличил во лжи Гесиода, сказавшего, что певец завидует певцу
[14]. Ибо для товарищей по ремеслу Александр был как отец, и все сообща полагались на него больше, чем каждый в отдельности — на себя самого. Он один не уличал в невежестве простых людей
[15] и прежде всех вызывал восхищение людей знающих; он один побеждал остальных разнообразием и точностью доводов. Ораторы почитали знакомство с ним за честь; люди, ныне известные и уважаемые, приобрели благодаря ему высокое положение в обществе. Все относились к Александру с должным почтением. Когда же он не был занят общественными делами, он состоял на службе у могущественных людей и даже во дворце самого императора
[16]. Пребывание в кругу императорской семьи стало для него как бы завершением пути. Будучи известен всему греческому миру и имея огромный опыт, он прибыл ко двору и удостоился чести выступить перед правителем
[17]. После, перейдя в услужение от одного наследника к другому
[18], Александр сделался подобен одному из императорских сокровищ.
Когда же Александр получил власть и достиг столь высокого положения, став не просто учителем, но наставником этих юношей
[19], он проявлял во всём такую умеренность и скромность, что это трудно описать, и продолжал вести тот же образ жизни, что и прежде. Говорят, что ни разу никому он не причинил вреда — ни ученикам своим, ни слугам, что их сопровождали, но всегда действовал всем во благо. Ибо многие из этих слуг благодаря Александру получили свободу и другие почетные награды. И произошло это, я полагаю, в значительной мере потому, что их подопечные выказывали большие успехи, и слуги, которые приводили к Александру детей и ожидали их возле школы, пользовались у хозяев хорошей славой. Кроме того, Александр и сам открыто просил о таковых благодеяниях для слуг — не в пример тому, о чем обычно просят люди. Подобное же происходило и во время его службы у императора. Никому никогда не причинил он горя, но всю свою жизнь творил одно лишь добро — и родным, и друзьям, и отечеству, и остальным городам. Оказав бессчетное количество благодеяний бессчетному количеству людей, он ни у кого ни разу не потребовал за это платы, и уж тем более не запятнал себя взиманием денег за свое искусство
[20]. Вообще он считал, что молодым людям идет лишь на пользу, если они тратят свои сбережения на приобретение знаний, — тем из них, конечно, у кого есть, что тратить. Тем же, у кого денег не было, он не докучал, но, напротив, как мы знаем, помогал им, не жалея собственных средств.
Будучи столь же полезен вам своим искусством и преподаванием, он не меньше других занимался общественными и государственными делами
[21]. Вам, вероятно, хорошо известно, ибо я узнал это от некоторых из вас, что он заново отстроил почти весь ваш город. Таким образом, ораторское искусство было не единственным его поприщем
[22]. Но гораздо важнее городских построек были присущие Александру благоразумие и справедливость, каковые он считал необходимым блюсти и на словах, и на деле, а также его щедрость, которую он заботливо проявлял по отношению к вам, не считая бедность пороком. Более того, он помогал городу бескорыстно, и знак его великодушия — лучшие постройки вашего города. Но даже если бы он ни разу не оказал вам денежной помощи, я полагаю, его следовало бы считать вашим благодетелем уже за всё то, что он говорил и делал ради вас. И, наоборот, если бы единственной помощью, которую вы от него получили, стали потраченные им средства, вам все равно подобало бы включить его в число самых почитаемых граждан города. Если же, наконец, он не принес бы никакой пользы городу ни своими тратами, ни чем-либо еще, то уже одни его заслуги перед эллинами возбудили бы к вам всеобщее уважение. Ибо слава его стала славой и вашего города.
В самом деле, это великая честь и для города, и для народа — дать миру мужа, единственного в своем роде и первого во всём. И вы как никто в полной мере насладились плодами его счастливой судьбы. Никакой другой муж не носит имени своего отечества, но если другие получили свои имена от имен отцов или по роду занятий
[23], то его имя звучит так же, как и название вашего города. Об этом свидетельствуют книги, которые он исправлял:
[24] рядом с именем «Александр» там значится название города. Поэтому, сколько бы его ни вспоминали, вас всегда будет окружать слава, а ваш город теперь — будто метрополия древней Эллады. За это вы заслуженно украшаете гробницу Александра и почитаете его как родоначальника и основателя колонии
[25], делая для него всё то же, что и для созидателей вашего города.
Когда я узнал об этих почестях умершему, они послужили мне хотя и слабым, но всё же утешением в горе, и я решился отправить вам это письмо, восхитившись вашим отношением к Александру. Ведь если амфипольцы сочли Брасида достойным жертвоприношений, какие полагаются герою и основателю города, за то, что он освободил их от афинян
[26], то для вас было бы позором не почтить как родоначальника — и притом, я говорю, всей Эллады — того, кто расположил к вам эллинов и кто никогда и никому не сделал ничего дурного, но, напротив, прожил свою жизнь, помогая всем, и прежде всего вам, и словом, и делом. И если Гомер принес славу жителям Смирны
[27], Архилох — паросцам
[28], Гесиод — беотийцам
[29], Симонид — кеосцам
[30], Стесихор — гимерийцам
[31], Пиндар — фиванцам
[32], Сапфо и Алкей — митиленцам
[33], а другие поэты — другим городам (я уже не говорю про Афины), то и вам следует гордиться мужем, который упорядочил и объяснил сочинения всех этих поэтов. И если бы кто-нибудь из богов воскресил их, пока Александр был жив, полагаю, они посоветовали бы его товарищам по ремеслу сообща учиться у него тому, что следует думать и говорить об их сочинениях.
Мне всегда были смешны те, кто, щеголяя своими познаниями в премудрости Платона, рассуждают лишь о нем одном. Ибо Александр, по моему убеждению, гораздо милее Платону, чем все остальные, — настолько он превзошел прочих своим знанием поэтов, писателей и всего того многоцветья, каковое, говорят, приносят с собой различные времена года
[34]. И хотя ни от вас, ни от потомков, конечно, не укроется, как прекрасно всё то, что он написал и оставил нам, и насколько его труды превосходят сочинения всех его соплеменников, тем не менее они — лишь слабое отражение его образованности и ума, — настолько сильное впечатление производили его выступления! По этому поводу мне приходят на ум слова Платона о том, что написанное в книгах кажется пустяком в сравнении с беседами мудрых людей
[35]. Вот почему не следует думать, будто можно узнать всю мудрость Александра по его сочинениям, хотя и один трактат о Гомере красноречиво свидетельствует об учености этого мужа
[36]. Его сочинение об Эзопе
[37] кажется мне весьма изящным и мудреным, и всё же оно — лишь забава утонченного ума, настолько мала вся Эзопова мудрость в сравнении с той, что содержится в сочинениях Александра! Вот почему во второй раз ваша земля дала лучший урожай, чем в первый
[38].
Удивительно и то, что только ему божество ниспослало всего в меру: самое красивое, самое крепкое, самое здоровое и самое грациозное тело. Насколько я могу судить, еще никто не имел в пору глубокой старости такого цветущего и прекрасного вида, как он. Душа у него была кроткая и добрая, образование — превосходное, слава — заслуженная, почет и от простых граждан, и от правителей — соразмерный положению каждого из них. Благосостояние его постоянно умножалось, труды чередовались с отдыхом, конец жизни был весьма далек — всё это было похоже на исполнение того, о чем обыкновенно просят в молитвах, и заслуги Александра явно свидетельствовали о том, что ему сопутствует удача.
До сей поры казалось невозможным, чтобы один человек обладал всеми этими благами, но Александр — единственный, у кого были они все или, по крайней мере, большая их часть. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к одному событию в его жизни — к дружбе с императорами, и сравнить ее с дружбой Аристотеля с Филиппом и Александром
[39]. Если последняя вызывала у эллинов недовольство и казалась им союзом Аристотеля с противниками и врагами всего их народа, то Александр благодаря дружбе с правителями приобрел не только влияние, но и почет. Ибо Александр был связан узами дружбы не с притеснителями и супостатами эллинов, а с их благодетелями, и это не грозило его соплеменникам всеобщим бедствием. Последним же он не только ни в чем не противоречил, но, напротив, всегда по возможности помогал, открыто оказывая покровительство всем нуждавшимся. А дружба Платона с Дионисием
[40] — с тем самым Дионисием, которого позднее увидали в Коринфе?
[41] Впрочем, я умолчу о том, что хотел сказать, а именно, что дружбу эту можно назвать благородной, но отнюдь не счастливой. Александру же всегда удавалось и то, и другое: постоянно стремиться к лучшему и достигать этого. И нелегко решить, какой народ оказал ему больше почестей — римляне или эллины, настолько высоко ценили его общие их правители.
Кто из живущих не слышал о нем теперь или прежде? Кто населяет такие окраины земли? Кто настолько равнодушен к прекрасному? Кто не рыдает над полученной вестью? Даже если смерть его пришла в свой черед, всех эллинов постигла нежданная утрата! Ныне и поэзия, и проза обречены на гибель, ибо они лишились наставника и покровителя. Риторика же овдовела, навсегда утратив былой размах в глазах большинства людей. То, что Аристофан говорит об Эсхиле — будто, когда тот умер, всё погрузилось во мрак
[42], — подобает теперь сказать об этом муже и его недюжинном мастерстве.
О наивысшее воплощение красоты, о почтеннейший из эллинов, чья жизнь достойна восхищения! О желанный для тех, кто был тебе близок, а у остальных вызывавший желание приблизиться к тебе! Ты счастлив даже в своей смерти: мы знаем, что ты не был ни измучен болезнями, ни сломлен страданиями, но провел этот день в привычных для тебя занятиях. Словно призванный к себе божеством, ты вложил свою душу в книгу и окончил жизнь, как подобает человеку с твоим именем
[43]. Как и те, кто во всём проявляет основательность, ты прошел свой жизненный путь до конца, отдав своему делу все силы. И если правдивы слова Пиндара, Платона
[44] и других сочинителей из мастерской Александра
[45] и в Аиде действительно ведутся какие-то беседы, то теперь сего ритора наверняка окружают хоры поэтов под предводительством Гомера, простирающих к нему правую руку, хоры логографов
[46], историков и других великих, и каждый из них зовет Александра и предлагает ему место подле себя. Они украшают его голову лентой и венком
[47] — разумеется, не после суда над ним и состязания в мастерстве с другими риторами
[48], но при всеобщем шумном одобрении. И я думаю, что еще долго в Аиде не появится человек, способный оспорить эту честь у Александра, и он вечно будет восседать на своем троне лучшего глашатая и предводителя эллинов.
Да не осудит меня никто за то, что я пишу подобные вещи, ибо поводом для моего послания послужило желание и слушать, и говорить об Александре. Во всяком случае, никто не сможет упрекнуть меня в том, что я не оплакиваю этого мужа, коль скоро он умер не в расцвете лет. Ибо человека нужно ценить не за молодость, а за основательность характера. Более того, утрата тем тяжелее, чем реже выпадает счастье увидеть человека на склоне лет столь деятельным и вдобавок сохраняющим здоровье, память, разум и бодрость духа. Поэтому следовало больше заботиться о том, чтобы он однажды нас не покинул, пока Александр был еще жив, и взирать на него, как на нечто нам дорогое, пока это было возможно, а не сетовать о его летах теперь, когда он умер. Впрочем, я не боюсь, что вы станете осуждать за эти слова того, кто слушает, действует и говорит во имя Александра.
Однако я вновь обращусь в своей речи к вам, хотя оставшаяся часть ее будет краткой. Ибо вы во всём, как я уже говорил, оказываете Александру заслуженные почести, и о семье его не забываете, поступая в высшей степени справедливо и благоразумно. К жене его вы относитесь как к святыне, словно бы она, с позволения сказать, ниспослана вам добрым божеством; к родственникам его — как к прекрасному о нем напоминанию; к старшим его детям выказываете всяческое уважение, младшего же воспитываете с величайшим тщанием, ибо опека над ним — ваше общее дело. Поэтому случившееся несчастье для чада не так страшно. Но поскольку отцу его, воспитавшему большинство эллинов и даже детей своих воспитанников, не суждено было воспитать собственного сына, то сын их общего учителя сам ныне нуждается в обучении. Поддержите же дитя в этом несчастье и во всех связанных с ним тяготах, как бы взяв на себя роль его отца! Иными словами, считайте дом Александра своим домом!
Побудить вас к этому было моим долгом. Как я уже сказал в начале своего письма, или как вам угодно будет называть сие сочинение, — Александр был мне близок по многим причинам. Дружба с ним оказалась для меня настолько плодотворной, что, считая его своим другом, я сам был ему другом не меньше <...>
[49]. Помимо всего прочего, он доказал это еще и тем, что сделал для меня, когда я лежал больной в Риме
[50]. Он приложил все усилия для моего спасения и после благосклонных богов более всех способствовал моему счастливому возвращению домой. Стоит ли говорить о том, что было позже! Но меня огорчала его настойчивость, ибо бесчисленное количество раз — и во время наших встреч, и в письмах — он просил меня наряду с прочим преподнести вам в дар и мои собственные речи
[51], обещая, что они займут среди всех сочинений первое место. Я же, всё надеясь пересмотреть написанное, его не послушался. И Александр так и не составил перечня моих сочинений
[52] и не узнал о большинстве из них. Что же касается одобрения, с каким он обычно относился к моим речам, то я не берусь судить, было ли оно вызвано завистью или, скорее, тем, что Александр преувеличивал их значение.
Всё это я сказал ныне для того, чтобы вспомнить об Александре и осознать его смерть как большое несчастье и чтобы, помимо прочего, доказать, что, беседуя с вами, я не вмешиваюсь не в свое дело. Хотел бы я, кроме того, обладать и более крепким здоровьем
[53], чтобы быть вам хоть чем-то полезным, ибо, кто был дорог ему, дорог и мне.
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ЭТЕОНЕЮ
Не счастливыми событиями и чаяниями вызвана эта речь, а необходимостью послужить утешением городу, родным Этеонея и нам самим. И если бы плачи по умершим с давних пор не были в обычае у людей
[54], то в нынешних обстоятельствах, думаю, следовало бы положить им начало. Разве что-нибудь из этого поистине не достойно оплакивания: юные годы, в кои он нас покинул; доблесть, что, увы, сокрылась от наших взоров; скромность, равную каковой найти нелегко; надежды, которых лишился он сам, его родные, друзья, города и всё, что составляет ныне Азию?
[55] Какой Симонид сложит о том погребальный плач?
[56] Какой Пиндар какую изобретет мелодию или слово для этого случая?
[57] Какой хор
[58] исполнит песнь, достойную столь великого несчастья? Разве фессалийка Дисерида так же сильно страдала по умершему Антиоху
[59], как ныне страдает мать этого юноши?
Поистине, не будет довольно ни скорбеть о нем молча, ни выкрикивать его имя
[60], а посему мы присоединим к плачу некоторую долю похвалы. Разве нас пугает трудность правдиво рассказать о человеке, чей род столь знаменит и в городе, и во всей Азии, что никто, пожалуй, не возьмется это оспаривать? Ведь все выходцы из этого рода — люди выдающиеся, каждый, как говорится, по-своему. И в самом деле, родные Этеонея по матери были не менее достойными людьми, чем сородичи его отца. Что же касается родителей юноши, то отец его был самым известным из мужчин, а мать — самой благоразумной из женщин, ибо своею заботой о детях превосходила всех остальных.
Воспитание и нрав Этеонея достойны его происхождения. Мать его была ему и кормилицей, и чутким стражем, тело же и душа его пребывали в согласии друг с другом. Красотою, статью и совершенством, доставлявшими величайшее удовольствие всякому, кто его видел, Этеоней превосходил остальных своих сверстников. Характером же он был всех скромнее и всех благороднее и отличался такой щедростью и простотой, что трудно было решить: ребенок ли он, юноша или старец. Ибо он обладал наивностью ребенка, красотою юноши и мудростью старца. Восхищение вызывало то, что в своих суждениях он не отличался ни дерзостью, ни решимостью, ни самоуверенностью, а сдержанность его характера сочеталась с необыкновенной живостью ума. Однако сдержанность эта не имела ничего общего с вялостью, ленью или косностью — но как весною погода всегда бывает переменной, так и у него сметливость соседствовала с кротостью, а скромность и обаяние не вредили друг другу. К матери он был привязан так же, как младенцы — к материнской груди, а брата любил, словно сына. Жаждой учения он был охвачен такою, словно не мог жить иначе. Всё, что он слышал, он схватывал на лету. И, едва взглянув на человека, он знал, кто перед ним: надо ли с ним сближаться или же стоит его остерегаться.
Признав справедливость слов Гомера о том, что «нет в многовластии блага»
[61] и что избыток учителей чаще ведет к невежеству, из всех них Этеоней выбрал того, кого выбрал
[62], — мне не подобает об этом говорить, — и настолько был ему предан, что, исполняя все требования с величайшим старанием и любовью, он никогда не считал себя учеником, достойным своего учителя. Посещая занятия, он испытывал такую великую радость, словно только ради них и жил. А если что-то мешало ему присутствовать, то он огорчался, но никогда никого в том не винил. Слушая ораторские выступления, он бывал настолько увлечен, что не тратил времени даром на пустые похвалы: как всякий, испытывающий сильную жажду, утоляет ее молча, так и Этеоней желал лишь внимать речам ораторов, всем своим обликом, кивками и сияющим взором выражая ту радость, какую вызывали в нем эти выступления. Часто можно было застать его либо за чтением книги, либо за составлением речей
[63], либо развлекающим свою мать рассказами или декламациями. И всё это он делал с таким воодушевлением, каковое в высшей степени достойно изображения в живописи.
Ежедневные и еженощные забавы сверстников были для него чем-то вроде мифов. Единственной женщиной, делившей с ним трапезу, была его мать, единственным мальчиком в ближайшем окружении — его брат, друзьями же — его единомышленники и все те, кто вместе с ним посещал школу. «Сам же всех превышал он»
[64]. Всякий сказал бы, что он был воплощение Стыдливости
[65], благодаря которой предпочитал больше молчать; говорил же он лишь тогда, когда загорался восторгом. Голос его вы услышали бы не иначе, как по необходимости, когда он говорил, краснея, или краснел, говоря. Так он и жил, не видя, не слыша и не зная никаких пороков. А знал он одну лишь риторику и учение, и, когда настал последний его час, он умер за этим занятием, произнося хвалебную речь и упражняясь в красноречии.
О юноша, наилучший во всём! Еще не достигнув надлежащего возраста, ты оказался почтеннее и старше своих лет. По тебе скорбят хоры твоих сверстников
[66], скорбят старики, скорбит город, который возлагал на тебя великие надежды и который ты совсем недавно привел в такое восхищение — в первый и последний раз
[67]. Что за ночи и дни выпали на долю твоей матери, каковая прежде слыла «прекраснодетной»
[68], а ныне стала тщетно родившей! О эти глаза, закрывшиеся навеки! О голова, прежде прекраснейшая, а ныне обратившаяся в прах! О руки, незримые более! О ноги, носившие такого хозяина, теперь вы неподвижны! О Этеоней, ты вызываешь больше жалости, чем новобрачный, охваченный погребальным огнем, ибо ты достоин победных венков
[69], а не надгробного плача! Какое же безвременье постигло тебя в самом расцвете лет, если прежде, чем пришло время спеть тебе свадебный гимн, ты заставил нас петь погребальную песнь! О, великолепнейший образ! О, голос, прославляемый сообща всеми эллинами! Явив нам пролог своей жизни, ты ушел, вызвав тем большую печаль, чем большую радость доставил. Мне лишь остается сказать словами Пиндара, что «и звезды, и реки, и волны моря»
[70] возвещают о твоей безвременной кончине.
О, новое горе! Ты, столь прекрасный собою, разделил участь столь же прекрасного храма!
[71] О, страшное новое несчастье, последовавшее за первым! О, божество трагедии, еще так недавно являвшее перед нами полные залы, выступления, состязания и радость!
[72] Сколь быстрым и далеким от всего этого оказался конец драмы!
[73] О боги красноречия и подземного мира, вас постигло общее несчастье!
[74] Что мне ответить на государственные постановления?
[75] Сказать, что Этеоней отправился в лучший мир? О достойнейший из юношей! Какое же сочинение я тебе посылаю, какою же речью ты наслаждаешься ныне!
Но вот, поистине словно в какой-то трагедии, мне кажется, я слышу среди горестных жалоб голос некоего бога из театральной машины
[76], превращающего плач в славословие и говорящего так: «Прекратите же плакать, о смертные! Этот юноша, а скорее мужчина, не нуждается в вашей жалости. Не сокрушайтесь о странствии, в которое он ныне отправился, ибо он, как никто другой, прекрасно завершил свой человеческий путь! Ведь ни Коцит, ни Ахеронт не забрали его
[77], и могила не поглотит его бесследно. Но в ореоле славы и неувядающей молодости он будет вечно шествовать, как герой, рука об руку с Кизиком
[78], окруженный почетом со стороны Аполлона — бога своего отечества
[79], подобно Амиклу, Нарциссу, Гиацинту
[80], даже если явится среди них тот, кто превосходит других не только красотой, но и доблестью».
Итак, Этеоней достоин иных почестей и иной процессии
[81], ибо он слишком величественен для слез и покинул отчий дом не без божественного соизволения. Смерть кладет общий предел всему, но смерть в окружении славы, с мыслию о том, что ты достоин наивысших наград, почитается наилучшей и у богов, и у людей. Однако выпадало сие на долю не всех, а лишь некоторых. Всякая человеческая жизнь коротка и немного стоит, если вести ей счет. И даже если вспомнить Арганфония, Тифона и пережившего три поколения Нестора
[82], царя Пилоса, и сложить вместе всё то время, которое они прожили, то оно окажется гораздо меньше целой вечности, что бы об этом ни говорили. Не стоит слишком дорожить своей жизнью и мерить счастье тем, сколь многого ты достиг и насладился ли долгой старостью, чему обыкновенно радуются люди. Но всем нам подобает признать, что более всего повезло тому, кто прожил отпущенный ему срок наилучшим образом и, подобно поэту, завершил пьесу, пока ее еще хотят слушать и смотреть зрители.
Счастливый и вызывающий всеобщую зависть — и у молодых, и у стариков — отправляется Этеоней в свой последний путь, насладившись в жизни всем, ради чего только стоило родиться; не испытывая страданий, не ведая хлопот, познавши славу, будучи воспитан в любви к красноречию и учению и окружен заслуженной похвалой. Отправляется он из дома своей возлюбленной матери в лоно древней матери-земли. Но если кому-то кажется, что он вкусил слишком мало славы, то ныне нам надлежит восполнить это упущение, почтив Этеонея как героя, ибо умерших можно хвалить сколько угодно
[83]. Надобно предсгавлять, будто мы слышим эти слова от богов, и верить, что, думая так, мы приближаемся к истине и угождаем Этеонею. Прекрасно воспевать его и в застольных песнях, как Гармодия
[84], говоря: «Нет, ты не умер!» Ибо как никто другой, он продолжает жить в памяти людей ученых — как его сограждан, так и чужеземцев.
О Этеоней, проживший жизнь так, словно исполнивший священный обряд, и умерший смертью более прекрасной, чем дано большинству людей! О украшение друзей, рода и города! О затмевающий всех доблестью, каковая только может быть у человека в твои годы! Вот мой дар тебе, об остальном же позаботятся твои сограждане.
ЭЛЕВСИНСКАЯ РЕЧЬ
О Элевсин
[85], лучше бы мне было воспеть тебя в прежнее время! Какому Орфею или Тамириду
[86], какому элевсинцу Мусею
[87] под силу такое дело?! На каких лирах или кифарах оплачут они дорогие всем руины, общее сокровище земли?! С чего же, о Зевс, мне начать? Едва приступив к речи, я немею и теряюсь, принуждая себя говорить по одной лишь причине — оттого, что не могу молчать. Кто из эллинов или варваров настолько груб и невежествен, кто обитает так далеко от нашей земли и богов или вовсе равнодушен к красоте — я не говорю о тех бессовестных нечестивцах, которые всё это содеяли, — чтобы не почитать Элевсин главной святынею всей вселенной, местом, самым радостным для людей и внушающим наибольший трепет из всех мест, каковые только связаны с божеством?! О каком другом уголке земли сложено больше прекрасных мифов?! Где священнодействия внушали столь же великий трепет, а зримое глазом настолько превосходило то, что могут услышать уши?!
[88]
Многим поколениям мужей и жен выпало счастье увидеть неизреченные таинства Мистерий
[89]. Что же до общеизвестного, то все поэты, логографы и историки говорят следующее: однажды дочь Деметры пропала, и богиня в ее поисках обошла всю землю и море. И нашла она ее, лишь придя в Элевсин, и оттого так названо это место
[90]. Обретя дочь, учредила Деметра Мистерии, и даровали обе богини афинянам пшеничное зерно, а уже от афинян распространилось оно среди прочих греков и варваров. Также в этом мифе повествуется о Келее, Метанире и Триптолеме, а еще — о запряженных драконами крылатых колесницах, которые носились над всею землей и морем
[91]. Первыми из чужеземцев в Мистерии были посвящены Геракл и Диоскуры
[92]. Первое в Аттике гимнастическое состязание тоже состоялось в Элевсине, и наградою в нем служили новоявленные пшеничные зерна:
[93] так люди стремились узнать, сколь великую силу они обрели благодаря выращиваемой ими пище. Каждый год эллины отвозили первый отборный урожай в Афины
[94], ставшие для них как бы праотчизной и являвшиеся родиной зерна. А Эвмолпиды и Керики, чьи предки восходят к Посейдону и Гермесу
[95], были верховными жрецами и факелоносцами. Таковы события, описанные в мифах.
Позднее, когда Гераклиды вернулись на Пелопоннес
[96], дорийцы пошли войной на Афины
[97]. Но, оказавшись в Элевсине, они испугались (а лучше сказать — устыдились) и покинули его. Благодаря этому походу была заселена наша Иония
[98]. Когда же нагрянуло мидийское войско
[99] и великая опасность нависла не только над Элладой, но и надо всей землею за пределами Персидского царства, были сожжены многие эллинские храмы, и в довершение всего — твердыня Эллады, город афинян
[100]. Элевсин же война не затронула, так что он не только остался, как говорится, невредимым, но сам Иакх
[101], когда началось морское сражение
[102], явился союзником эллинов: с той стороны, где находился Элевсин, налетела туча и обрушилась сверху на корабли под торжественную песнь, каковую обычно исполняют участники Мистерий
[103]. Пораженный сим, Ксеркс бежал, и царство мидийцев сокрушилось
[104].
Когда же в Элладе началась междоусобная война
[105] и всё пришло в смятение, один Элевсин каким-то чудом не был ею затронут. Ни беотийская конница, ни вторжение лакедемонян и пелопоннесцев не нарушили его границ, и никто из них не смотрел на храм иначе, чем с почтением, как это подобало. Когда позднее Сфодрий двинулся из Феспий
[106], одного лишь вида факелов
[107] оказалось достаточно, чтобы погасить огонь его дерзости. Все прочие священные перемирия были нарушены
[108]. Сначала во время Пифийских игр захватили Кадмею
[109]. Затем аргосцы, участвовавшие в общей процессии на Истмийских играх, с оружием в руках напали на коринфян
[110]. О битве при Алфее
[111] я умолчу; скажу лишь, что тогда мужество и победа тех, кто лишился законных прав, стали явным знаком воли Зевса
[112]. И только перемирия на время Мистерий оставались в силе, только во время Элевсинских празднеств Эллада приобретала былую крепость. Сей всенародный праздник был самым верным очищением от безумия и всех невообразимых бедствий.
Нужно ли перечислять все эти события? Впрочем, и Филиппы, и Александры
[113], и Антипатры
[114], и вся эта вереница позднейших правителей, ставших причиной многих потрясений для Греции, считали Элевсин единственным местом, поистине для них недосягаемым и превосходящим их собственное величие. Я уже не говорю о галлах, ворвавшихся в довершение всего в Грецию
[115], и обо всех тех событиях, каковые можно сюда причислить. Но все эти беды миновали святилище, которое всегда оставалось невредимым. И для города
[116], и для всей Эллады оно было единственным напоминанием о времени их былого расцвета и могущества. Морские и пешие сражения, законы и государства, их спесь и наречия — всё, как говорится, ушло в прошлое, а священные таинства существуют по сей день.
Остальные всенародные праздники справляются каждый пятый или каждый третий год
[117], но Мистерии превосходят их все, ибо проводятся ежегодно. Только во время Элевсинских празднеств все участники собирались в одном месте, и это — самое что ни на есть великое и божественное в Мистериях, ибо число людей в городе и в Элевсинском храме было равновеликим
[118]. Кто не восхитился бы при виде скульптур, картин и общей красоты даже на улицах? Чего только здесь нельзя было увидеть, не говоря уж о самом главном!
[119] Однако польза от этого всеобщего праздника не только в той радости, которую он приносит, не только в избавлении и спасении от прежних тягот, но и в более светлых надеждах, питаемых людьми по поводу смерти, — что они перейдут в лучший мир, а не будут лежать во мраке и грязи, каковая участь ожидает непосвященных
[120]. Так было вплоть до этого страшного дня.
Разве аргивский погребальный плач
[121], разве песни египтян и фригийцев
[122] сравнятся с тем, что божество послало нам нынче увидеть и воспеть?! Какой элевсинец Эсхил
[123] сложит об этом хоровую песнь?! Можно ли сравнить «огненные ловушки Навплия»
[124], как выразился Софокл, с этим пожаром?! О факелы, что за люди вас погасили? О, страшный и темный день, уничтоживший светоносные ночи!
[125] О, священный огонь, в одночасье превратившийся в губительное пламя!
[126] О, мрак и тьма, в которые погрузилась Эллада! О Деметра, некогда нашедшая здесь свою дочь, — ныне тебе приходится искать храм свой!
А Мистерии близятся, о земля и боги! Месяц Боэдромион требует ныне иного клича
[127], нежели тот, с которым Ион спешил на помощь Афинам
[128]. О, предупреждение!
[129] О череда священных дней и ночей, в какой же из этих дней ты прервалась! Кто достоин большей жалости — непосвященные или посвященные? Ведь одни лишились самого прекрасного из того, что когда-либо видели, а другие — того, что только могли бы увидеть. О, осквернители Мистерий, предавшие огласке сокровенное
[130], общие враги богов подземных и вышних! О эллины, поистине вы были детьми в древности и остались ими поныне!
[131] Вы бездействовали, покуда близилось столь великое несчастье! Неужели и теперь вы не очнетесь, о достойные удивления мужи?! Неужели не поспешите на помощь самим Афинам?!
МОНОДИЯ СМИРНЕ
О Зевс, как же мне поступить? Молчать, когда Смирна лежит в руинах? Но какой железный характер нужно для этого иметь
[132] и какое самообладание проявить! Или, наоборот, оплакивать город? Но как мне настроиться на подходящий лад и где набраться такой смелости?! Ведь если бы голоса всех эллинов и варваров — и ныне живущих, и тех, кто уже умер, — если бы все они, говорю я, слились воедино
[133], их всё равно было бы недостаточно даже для беглого упоминания о случившемся бедствии, не то что для правдивого рассказа о нем!
Горе мне, столь многое видевшему и слышавшему!
[134] О время, властвующее надо всем! Как же ты изменило облик города, который придало ему прежде! Как всё не похоже на то, что было раньше! В древнейшие времена куреты водили здесь хороводы;
[135] здесь рождались на свет и воспитывались боги;
[136] отсюда некогда устремлялись за море люди, подобные Пелопу, основавшему царство на Пелопоннесе
[137]. Здесь Тесей основал поселение у подножия Сипила
[138], и здесь же родился Гомер
[139]. Новейшие времена
[140] знают битвы, трофеи и победы тех, кто правит всеми народами
[141], и ученые описания, называющие город красивейшим из всех
[142].
Увиденное же воочию намного превосходило любое описание! Приезжих город тотчас ослеплял своей красотой, монументальностью и соразмерностью зданий и спокойной величавостью облика. Нижняя часть города прилегала к набережной, гавани и морю, средняя же располагалась настолько выше береговой линии, насколько сама она отстояла от верхней части, а южная сторона, поднимаясь ровными уступами, незаметно приводила к Акрополю, с которого открывался прекрасный вид на море и город. Красоту открывавшегося вида нельзя было ни передать словами, ни полностью охватить взглядом — ускользая от вас неведомым образом, она в то же время манила к себе надеждой однажды постичь ее. Эта красота не была губительной, подобно той красоте, о которой писала в стихах Сапфо
[143], но вызывала восторг, насыщала и увлажняла взоры — не как гиацинтов цвет
[144], а так, словно не было на свете ничего прекраснее этого. Как хорошо изваянная статуя привлекает к себе всеобщие взоры, так и ты был прежде самым совершенным из всех городов. Теперь же <...>
[145] куда ни взгляни, повсюду следы безвременной гибели. Отныне прекраснейший образ этого города, то простирающегося <...>
[146] прямо перед тобой, то являющегося со стороны своих предместий, гаваней, залива — с суши и с моря, будет жить лишь в нашей памяти. Таким он был прежде
[147].
Разве затихали здесь когда-нибудь разговоры людей, разве прекращалось их общение? Был ли другой такой город, в котором бы так желали оказаться? О источники, театры,
улицы, крытые и открытые ристалища! О блеск главной площади города! О Золотая и Священная дороги, каждая по отдельности образующие каре, а вместе выступающие наподобие агоры!
[148] О гавани, тоскующие по объятьям любезного города! О невыразимая красота гимнасиев! О прелесть храмов и их окрестностей!
[149] В какие недра земли опустились вы? О прибрежные красоты! Теперь всё это лишь сон. Разве могут потоки слез утолить такое горе? Разве довольно звучания всех флейт и пения всех хоров, чтобы оплакать город, который снискал себе славу благодаря хоровым выступлениям
[150] и трижды теперь желанен для всего человечества?! О, гибель Азии! О, все прочие города и вся земля! О, море перед Гадирами
[151] и за ними! О, звездное небо, о всевидящий Гелиос! Как вынес ты это зрелище?! Рядом с ним падение Илиона — сущий пустяк, как ничтожны и неудачи афинян в Сицилии
[152], и разрушение Фив
[153], и гибель войск, и опустошение городов — всё, что причинили прежде пожары, войны и землетрясения.
О Смирна, до сих пор затмевавшая красотою и изяществом все города, а ныне разрушениями превзошедшая Родос!
[154] Тебе суждено стать знаменитой среди эллинов тем, что «вторая попытка бывает менее удачной»
[155]. О день заупокойных жертв
[156] для всех единоплеменников, о роковой день
[157] для всех эллинов! Ты обезглавил целый род
[158], ты лишил его глаза!
[159] О украшение Вселенной, театр Эллады
[160], одеяние Нимф и Харит!
[161] И я смог всё это вынести! Где мне теперь оплакивать тебя? Где здание городского совета?
[162] Где собрания юношей и старцев, где шум рукоплесканий? Говорят, и у подножия Силила некогда существовал город, который погрузился на дно озера
[163].
О Смирна, давно ли я воспевал тебя в гимне!
[164] Что за скорбная участь тебя постигла, вовсе тобою не заслуженная! Ныне всем птицам следовало бы броситься в огонь
[165], ибо им объят город, всему материку — остричь волосы, ибо город лишился своих кудрей
[166], рекам — течь слезами, кораблям — отплывать под черными парусами!
[167] О Мелес, текущий через пустыню! О погребальные плачи, сменившие прежние радостные песнопения! О песнь лебедей и хор соловьев, настал ваш черед!
[168] Если бы Горгоны были живы, они оплакивали бы не Медузу и не свой собственный глаз, а глаз Азии
[169]. Разве не достигла твоя слава Босфора, нильских порогов или даже Тартесса
[170], о божественный город? Разве может это несчастье ограничиться Массалией или Борисфеном? Кто из эллинов забрел так далеко от Эллады, кто из варваров столь дик и неподвластен разящим стрелам
[171] и колдовским чарам Смирны, чтобы не полюбить ее или не страдать из-за нее, пусть зная о ней лишь понаслышке? Говорят, что дочери Гелиоса, оплакивавшие своего брата, в конце концов превратились в тополя
[172], а их затвердевшие слезы — в янтарь. Тебя же, о прекраснейший город, должны оплакивать сами деревья!
ДОПОЛНЕНИЯ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ
V В. ДО Н. Э. — IV В. Н. Э.
Горгий
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Фрагмент
<...> Разве не было у этих мужей качеств, которыми они должны были обладать? И разве обладали они качествами, которых у них быть не должно? Пусть же мне хватит сил сказать то, что я желаю, и пусть у меня явится желание сказать то, что я должен, дабы мне и гнева богов миновать, и зависти людской избежать! Ибо этим мужам была присуща внушенная богами отвага, но дан свойственный людям конец. Не раз они предпочитали человеколюбие и милосердие суровой справедливости, а букве закона — прямоту суждений, полагая, что важнейший божественный и всеобщий закон состоит в том, чтобы говорить и делать то, что нужно и когда нужно, и не говорить и не делать, чего не нужно и когда не нужно. Но более всего они тренировали в себе два качества, каковыми обладать необходимо: разум и силу, первый проявляя в решениях, вторую — в свершениях. Заботясь о незаслуженно претерпевших и карая незаслуженно преуспевших, они презирали выгоду и смирялись перед долгом. Рассудительностью ума они сдерживали безрассудство силы, были дерзки с дерзкими, законопослушны — с законопослушными, безопасны — для тех, кто безопасен, ужасны — для тех, кто ужасен. Свидетельством тому являются боевые трофеи, каковые они установили:
[173] Зевсу в знак почитания, о своих заслугах — в напоминание. Им не были чужды ни воинственный от природы дух, ни освященная законным браком любовь, ни бряцающая оружием война, ни любящий красоту мир. Благодаря присущей им праведности были они благочестивы к богам, благодаря почтительности — внимательны к родителям, благодаря беспристрастности — справедливы к согражданам, благодаря верности — бескорыстны к друзьям.
Вот почему, несмотря на то, что они умерли, наша любовь к ним не умерла вместе с ними, но живет, бессмертная в смертных телах, хотя их уже нет на свете.
Лисий
НАДГРОБНОЕ СЛОВО В ЧЕСТЬ АФИНЯН, ПАВШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ КОРИНФА
Сограждане, окружающие эту могилу! Если бы я считал возможным изобразить словом величие духа мужей, здесь лежащих, то я не одобрил бы распоряжения властей, давших мне всего лишь несколько дней для приготовления речи в честь их. Но так как весь мир во веки веков не сможет составить речи, достойной их подвигов, то, думается мне, по этой именно причине государство приказывает исполнить сие поручение в такой короткий срок:
[174] государство заботится об ораторах, выступающих здесь, полагая, что при таком условии слушатели всего скорее окажут им снисхождение. Но, хотя моя речь имеет своим предметом этих героев, тем не менее соревнование мое направлено не на их подвиги, а на прежних ораторов, говоривших в честь них. Их храбрость дала такое обилие материала как людям, способным сочинять стихи, так и желающим говорить речи, что хотя наши предшественники и много сказали о них хорошего, но многое они и пропустили, да и грядущим поколениям можно еще довольно много сказать о них: нет земли, нет моря, где бы не знали их: везде, во всём мире люди, оплакивающие свои бедствия, тем самым прославляют их доблестные деяния.
Итак, прежде всего я скажу о древних войнах наших предков; сказание о них я заимствую из предания. Да, и о них должны помнить все, прославлять их в песнях, говорить о них в похвальных речах, оказывать им почет во времена, подобные теперешним, учить живых примерами деяний усопших.
Амазонки вели древний род свой от Арея; живя на берегах реки Фермодонта
[175], они единственные из всех окрестных народов были вооружены железом и первые в мире стали ездить на конях; при помощи их они догоняли бегущих врагов, не знакомых с таким искусством и потому не ожидавших этого, а сами оставляли преследователей далеко позади. Благодаря своей храбрости они считались скорее мужчинами, чем женщинами, по природе, потому что все видели, что превосходство их пред мужчинами по душевным свойствам больше, чем недостатки по строению тела. Когда они властвовали над многими народами и действительно уже поработили соседей, они услышали рассказы о великом блеске нашей страны и ради громкой славы, с большою надеждой на успех пошли войной на наш город, взявши с собою самые воинственные народы. Но когда они встретились с доблестными мужами, то их храбрость оказалась соответствующей их природе, и они получили славу, противоположную прежней: опасности еще более, чем их тело, показали, что они — женщины. Только им одним не было дано научиться на своих ошибках, чтобы стать благоразумнее на будущее время и, вернувшись на родину, рассказать о своем несчастии и о доблести наших предков: погибши здесь и понеся кару за свое безумие, они сделали память о нашем городе бессмертной вследствие его доблести, а свое отечество лишили славы, потерпев здесь поражение. Так, пожелав завладеть чужой страной вопреки справедливости, они лишились своей вполне справедливо.
Когда Адраст и Полиник пошли войной на Фивы и потерпели поражение в битве
[176], то кадмейцы
[177] не позволяли хоронить убитых. Афиняне, полагая, что если кадмейцы были чем-нибудь обижены, то они подвергли врагов своих высшей каре — смерти, а между тем подземные боги не получают того, что им подобает
[178], а горних богов оскорбляет осквернение святынь, сперва послали глашатаев и просили их разрешить похоронить убитых. Они держались убеждения, что люди храбрые должны мстить врагам при жизни, а лишь те, которые не надеются на себя, показывают свою храбрость на телах убитых. Ввиду того, что афиняне не могли получить этого разрешения, они пошли войной на кадмейцев
[179], хотя у них прежде не было никакой ссоры с ними; не в угоду оставшимся в живых аргосцам, но находя, что убитым на войне надо отдать последний долг, они вступили в борьбу с одной из воюющих сторон, имея в виду пользу обеих сторон, чтобы одни дальнейшим надругательством над убитыми не оскорбили еще более богов, а другие — чтобы не вернулись к себе на родину лишенными отцовской чести
[180], отрешенными от эллинского закона
[181], утратившими общую надежду
[182]. Держась таких убеждений и зная, что военное счастье для всех людей одинаково, афиняне, несмотря на многочисленность врагов, выиграли сражение, потому что правда была на их стороне. Но они не возгордились от счастья, не захотели подвергнуть кадмейцев более тяжелой каре, а, в противоположность их нечестию, показали им высоту своих нравственных качеств: получив трофеи, ради которых пришли, — тела аргосцев, они похоронили их у себя на родине в Элевсине. Вот как отнеслись они к убитым в войске Семи против Фив!
В более позднее время, когда Геракл исчез из мира людей, детей его, бежавших от Эврисфея
[183], все эллины гнали от себя из страха перед силой этого царя, хотя им стыдно было за свои поступки. Придя в наш город, они с мольбою сели на алтарях
[184]. Несмотря на требование Эврисфея, афиняне отказались их выдать: уважение к доблести Геракла было в них сильнее страха перед собственной опасностью. Они предпочитали сражаться за слабых, имея на своей стороне правду, чем, в угоду сильным, выдать угнетенных ими. Когда Эврисфей, в союзе с тогдашними властителями Пелопоннеса, пошел на них войной, то они пред лицом близкой опасности не изменили своих убеждений, а держались того же мнения, как и прежде; а между тем отец их никакого особенного благодеяния им не оказал, а каковы будут дети, достигши зрелого возраста, они не знали. Однако они приняли на себя такую борьбу за них, потому что считали это справедливым, несмотря на то, что у них не было прежде вражды с Эврисфеем и никакой выгоды им не представлялось, кроме доброй славы. Они сделали это потому, что жалели угнетенных, ненавидели насильников, одним старались поставить преграду, другим хотели помочь. Свободу они видели в том, чтобы не делать ничего против своей воли, справедливость — в том, чтобы помогать угнетенным, храбрость — в том, чтобы в случае надобности сражаться и умирать за ту и за другую.
Обе стороны были так горды, что Эврисфей со своим войском не старался ничего получить от афинян с их согласия, а афиняне не согласились бы на выдачу моливших о защите Эврисфею, даже если бы он сам молил их об этом. Афиняне выставили только свои силы и победили в сражении войско, пришедшее из всего Пелопоннеса. У сыновей Геракла они не только тело избавили от опасности, но и душу освободили, избавив ее от страха; за доблесть отца они их увенчали победным венком, подвергая опасностям себя. Дети оказались намного счастливее отца: отец сделал много добра всем людям, и жизнь его была полна трудов, стремления к победам, к чести; однако он, наказавший всех злодеев, не мог отомстить Эврисфею, хотя тот был его врагом и делал ему зло; а дети его благодаря нашему городу в один и тот же день увидели и свое спасение, и месть врагам.
Много было обстоятельств у наших предков, призывавших их единодушно бороться за правду. Прежде всего, начало их жизни было справедливо: они поселились не в чужой земле, подобно большинству народов, сойдясь со всех сторон и изгнав других, но были исконными жителями:
[185] одна и та же земля была их матерью и отчизной. Они первые и единственные в то время изгнали бывших у них царей и установили у себя демократию, полагая, что свобода всех производит величайшее единодушие. Так как надежды при опасностях были у всех одинаковы, то они жили с чувством гражданской свободы в душе; по закону оказывали почет хорошим и карали дурных; властвовать друг над другом путем насилия, думали они, свойственно диким зверям, а люди должны законом определить справедливое, словом убедить, делом повиноваться тому и другому; закон должен быть царем, слово — наставником.
При таком благородном происхождении и таком же образе мыслей предки здесь лежащих совершили много славных и достойных удивления подвигов; а их потомки благодаря своей храбрости оставили повсюду вечно памятные, великие трофеи
[186]. Они одни вступили в бой со многими мириадами варваров на защиту всей Эллады.
Царь Азии
[187], не довольствуясь имеющимися у него богатствами и надеясь покорить также и Европу, снарядил войско в пятьсот тысяч. Персы, думая, что, если они или добровольно привлекут к дружбе наш город, или покорят его против воли, то легко подчинят большую часть эллинов, высадились у Марафона
[188], рассчитывая, что у афинян будет меньше всего союзников, если они вступят в бой, пока еще эллины спорят о том, как отражать наступающих врагов. Кроме того, у них еще на основании прежних подвигов наших предков составилось такое мнение о нашем городе, что, если они сперва пойдут на другой город, то будут иметь дело не только с ним, но и с афинянами, так как последние охотно придут на помощь притесняемым; если же придут прежде всего сюда, то никакие другие эллины не отважатся, спасая других, вступить с ними в открытую вражду ради тех. Так рассуждали они. А между тем наши предки, не холодным рассудком оценивая опасности войны, а веря, что славная смерть оставляет бессмертную молву о героях, не испугались множества врагов, но больше положились на свое мужество. Стыдясь того, что варвары находятся в их стране, они не стали дожидаться, пока союзники узнают об этом и придут к ним на помощь, и решили, что не они должны быть благодарны другим за спасение, но остальные эллины им. Единодушно приняв такое решение, они все пошли — немногие против многих. Они были проникнуты мыслью, что умереть — общий удел всех, а быть героями — удел немногих, и что вследствие смерти жизнь не принадлежит им, а память, которую они оставят о борьбе, будет их собственностью. Затем, думали они, кого они не победят одни, тех не смогут одолеть и вместе с союзниками; в случае поражения они погибнут лишь ненамного раньше других, а в случае победы освободят остальных. Эти герои, не щадившие тела и ради подвигов храбрости не жалевшие души, более уважавшие свои законы, чем боявшиеся битвы с неприятелями, воздвигли в своей стране, у границ ее, ради всей Эллады трофей
[189] как памятник победы над варварами, вторгшимися в чужую страну ради добычи. Битву они окончили так скоро, что одни и те же гонцы принесли остальным эллинам весть и о приходе сюда варваров, и о победе наших предков. Таким образом, никто из остальных эллинов не испугался грядущей опасности, а все, услышав такую весть, обрадовались своей свободе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что хотя это — дела давно минувшие, но геройство их прославляется и теперь еще во всём мире, как будто они недавние.
После этого царь Азии Ксеркс, относясь с пренебрежением к Элладе, обманувшись в расчетах, чувствуя позор от происшедшего, досадуя на неудачу, сердясь на виновников ее, не испытав еще несчастий и не зная храбрых мужей, спустя десять лет подготовился к войне и пришел с флотом в 1200 кораблей;
[190] и сухопутного войска он вел такое несметное число
[191], что даже пересчитать народы, шедшие с ним, было бы нелегким делом. Лучшим доказательством многочисленности его войска служит то, что, имея возможность на тысяче кораблей перевезти в самом узком месте Геллеспонта сухопутное войско из Азии в Европу, он не захотел этого, полагая, что это будет для него большая задержка. Презирая порядок природы, дела богов, мысли людей, он проложил себе сухопутную дорогу через море и насильственно устроил плавание через сушу, построив мост на Геллеспонте и прорыв Афон
[192]. Никто не сопротивлялся ему: одни подчинились против воли, другие перешли на его сторону добровольно; одни не могли защищаться, другие были подкуплены деньгами; и то и другое действовало на них — корысть и страх. При таком положении Эллады афиняне сами сели на корабли и пошли против него к Артемисию
[193], а спартанцы с некоторыми союзниками противостояли им у Фермопил
[194], в надежде заградить проход благодаря тесноте места. Произошло сражение в одно и то же время: афиняне победили на море, а спартанцы, не вследствие недостатка в мужестве, но потому, что они обманулись относительно числа как защитников, так и тех, с кем им предстояло сражаться, были истреблены, не побежденные противниками, но павши там, где были поставлены сражаться.
Когда таким образом одни потерпели несчастие, другие овладели проходом, неприятели пошли на наш город, а наши предки, узнав о бедствии, постигшем спартанцев, не знали, что делать при таких обстоятельствах. Они понимали, что если встретят варваров на суше, то последние нападут с моря на тысяче кораблей и возьмут беззащитный город, а если сядут на триеры
[195], то он будет взят сухопутным войском; а сделать и то и другое — отразить врага и оставить достаточно сильный гарнизон — они не будут в состоянии. Таким образом, им предстояло выбрать одно из двух — или оставить отечество, или, примкнув к варварам, поработить эллинов; они предпочли свободу — с доблестью, бедностью и изгнанием рабству отечества — с позором и богатством. Поэтому для блага Эллады они покинули свой город
[196], чтобы бороться поочередно с каждым войском в отдельности, а не с обоими вместе. Перевезя детей, жен и матерей на Саламин, они стали собирать также морские силы остальных союзников. Через несколько дней пришло и сухопутное войско, и флот варваров. Видя их, кто не устрашился бы при мысли, в какую великую, страшную борьбу вступил наш город за свободу эллинов? Что думали те, которые смотрели на воинов, бывших на тех кораблях, когда и их собственное спасение, и исход приближавшейся борьбы были неизвестны? Что думали те, которым предстояло сражаться на море за самое дорогое для них — за победную награду, находившуюся на Сал амине? Их окружало со всех сторон такое множество врагов, что самым меньшим злом в это время было для них то, что они знали заранее об ожидающей их смерти, а самым большим несчастием было беспокойство о судьбе тех, которые были перевезены на Саламин, в случае успеха варваров.
В этом бедственном положении они, надо думать, много раз прощались друг с другом и, конечно, оплакивали свою участь: они знали, что у них кораблей мало; видели, что у неприятелей их много; им было известно, что их город покинут, страна опустошается и наполнена варварами; храмы горели, все ужасы были близки. Они слышали боевые песни эллинов и варваров, сливавшиеся в один звук, слышали возгласы одобрения с обеих сторон и крик погибавших; море было наполнено трупами; обломки кораблей дружественных и вражеских во множестве сталкивались; битва долгое время оставалась нерешенной: то казалось им, что они победили и спасены, то казалось, что поражены и погибли. При таком страхе, конечно, они воображали, что видели многое, чего не видали, что слышали многое, чего не слыхали. Каких молений не воссылали они к богам, о каких жертвах не напоминали им! Жалели детей, тосковали по женам, горевали об отцах и матерях, думали о предстоящих бедствиях в случае неудачи. Кто из богов не пожалел бы их при виде такой грозной опасности? Кто из людей не пролил бы слез? Кто не восхитился бы их смелостью? Да, они далеко превзошли всех людей мудростью в советах и мужеством в опасностях войны: они покинули город, сели на корабли, своих немногих воинов противопоставили полчищам Азии. Своей победой на море
[197] они показали всему миру, что лучше с немногими бороться за свободу, чем с множеством слуг царя — за свое рабство. Для свободы Эллады они сделали самый большой и самый ценный вклад: доставили полководца Фемистокла, отличавшегося красноречием, умом и деятельностью, кораблей большее число, чем все остальные союзники, людей самых опытных. И действительно, кто из остальных эллинов поспорил бы с ними умом, численностью и мужеством? Таким образом, они по заслугам получили от Эллады без всякого спора первую награду за храбрость в морском сражении и по справедливости приобрели счастье, соответствовавшее опасностям, и показали азиатским варварам, что доблесть эта есть истинно благородный плод родной земли.
Показавши себя такими в морском сражении и взяв на себя самую большую долю опасности, они своим мужеством завоевали и для остальных эллинов свободу, сделав ее общим достоянием. Впоследствии, когда пелопоннесцы стали строить стену поперек Истма
[198], довольствуясь тем, что сами они спасутся, и, считая себя избавленными от опасностей, угрожающих с моря, равнодушно относились к тому, что остальные эллины попадут под власть варваров, афиняне с гневом советовали им, если они останутся при таком решении, окружить стеной весь Пелопоннес: если сами афиняне, преданные эллинами, соединятся с варварами, то последним не будет надобности в тысяче кораблей, а спартанцам не поможет стена на Истме, потому что господство на море будет без всякого сражения у царя. Получив такой урок, да и сами убедившись, что их поступок несправедлив и план безрассуден, а доводы афинян, напротив, справедливы и совет очень полезен, спартанцы пришли в Платеи на помощь. Когда большая часть союзников, ввиду огромного числа неприятелей, ночью бежала со своих позиций, спартанцы и тегеаты обратили в бегство варваров, а афиняне и платейцы победили в сражении всех тех эллинов, которые, потеряв надежду на свободу, надели на себя иго рабства
[199]. Славно завершивши в тот день свои прежние битвы, афиняне прочно завоевали свободу Европе и, давши доказательство своей храбрости во всех боях, сражались ли они одни или с другими, на суше или на море, с варварами или с эллинами, были удостоены всеми — как теми, с кем вместе они сражались, так и теми, против кого боролись, — чести стать во главе Эллады.
Впоследствии возникла война между самими эллинами вследствие ревности и зависти к тому, что афиняне совершили: у всех было много спеси, и каждому государству нужны были лишь ничтожные поводы для обвинения афинян. В морском сражении, произошедшем между афинянами и эгинетами и их союзниками, афиняне захватили у них семьдесят триер
[200]. Пока афиняне в это же самое время держали в блокаде Египет
[201] и Эгину и вся молодежь была в отсутствии, находясь во флоте и в сухопутном войске, коринфяне со своими союзниками, рассчитывая или вторгнуться в беззащитную страну, или оттянуть наше войско из Эгины, выступили в поход поголовно и заняли Геранею
[202]. Когда таким образом у афинян одни были далеко, другие близко
[203], они не захотели никого отозвать обратно: надеясь на свое мужество и презирая наступающих врагов, люди пожилые и не достигшие еще военного возраста захотели начать борьбу в одиночку: одни имели храбрость благодаря опытности, другие — от природы; одни сами во многих местах показали храбрость, другие подражали им; старшие умели повелевать, младшие — исполнять приказания. Под начальством Миронида они сами вступили в мегарскую землю:
[204] воины, уже потерявшие силы и еще не достигшие расцвета сил, победили в сражении всё неприятельское войско: вступив в чужую страну, победили тех, которые хотели вторгнуться в их собственную. Воздвигнув трофей в честь дела, очень славного для них и очень позорного для врагов, одни, уже не имевшие сил, а другие, еще не имевшие их, но и те и другие превосходившие храбростью противников, с величайшей славой возвратились к себе на родину: одни стали продолжать свое образование, другие — совещаться об остальных делах.
Нелегко одному пересказать все в отдельности опасные предприятия, совершённые многими, и в один день изобразить то, что было сделано в течение всех веков. В самом деле, какая речь, какое время, какой оратор сможет рассказать о доблести здесь лежащих мужей? С великим множеством трудов, с опасностями, известными всем, со славными битвами они освободили Элладу, возвеличили отечество: семьдесят лет они владычествовали над морем
[205], среди союзников их не было внутренних междоусобий, потому что афиняне не требовали того, чтобы народная масса была в рабстве у немногих, а заставляли всех иметь равные права: они не ослабляли союзников, но делали и их сильными и показали, что их собственная сила так велика, что великий царь
[206] уже более не стремился завладеть чужими землями, но отдавал и часть своих и боялся за остальные свои владения. В то время военные суда не приходили из Азии, не возникали тирании в Элладе, ни один эллинский город не был порабощен варварами: такую умеренность и страх внушало всему миру их мужество. За это они одни должны стоять во главе эллинов и иметь гегемонию над городами.
И в несчастиях они выказали свое мужество. После гибели нашего флота в Геллеспонте
[207], вследствие ли малодушия его начальника или по замыслу богов, что было величайшим бедствием не только для нас, потерпевших это несчастие, но и для всех вообще эллинов, немного времени спустя обнаружилось, что могущество нашего города было благом для всей Эллады. Когда во главе ее стали другие
[208], то победили эллинов на море те, которые прежде не осмеливались вступать в Эгейское море:
[209] они поплыли в Европу;
[210] города эллинские попали в рабство:
[211] в них утвердились тираны
[212] — одни после нашего несчастия, другие после победы варваров
[213]. Поэтому Эллада должна была тогда при этой могиле остричь себе волосы
[214] и оплакать здесь лежащих, зная, что вместе с их мужеством погребается и свобода эллинов. Как несчастна осиротевшая Эллада, лишившаяся таких мужей, и как счастлив царь Азии, что во главе ее стали другие! Элладе, лишившейся их, грозит рабство, а у царя, когда гегемония перешла к другим, явилось желание подражать замыслам предков.
Однако я увлекся и стал оплакивать жребий всей Эллады, но все — и отдельный человек, и государство — должны помнить и о тех мужах, которые, избегая рабства, борясь за правду и восстав на защиту демократии, вступили со всеми во вражду и вернулись в Пирей
[215] не по принуждению закона, а по зову природы. В новой борьбе они подражали древней доблести предков, чтобы ценою своей жизни сделать наш город общим достоянием и для остальных граждан. Смерть со свободой они предпочитали жизни в рабстве; стыдясь своих неудач столько же, сколько пылая гневом против врагов, они хотели лучше умереть в родной земле, чем жить, оставаясь на чужбине; их союзниками были клятвы и договоры, врагами, кроме прежних, — их собственные сограждане
[216]. Однако они не побоялись огромного числа противников, но, подвергая свою жизнь опасности, воздвигли трофей в знак победы над врагами, и свидетелями их мужества служат могилы спартанцев, находящиеся близ этого памятника. Таким образом, они сделали наш город великим из малого, восстановили в нем согласие после раздоров, воздвигли разрушенные стены
[217]. Те из них, которые вернулись на родину, показали, что их образ мыслей соответствует подвигам здесь лежащих: они обратились не к мести врагам, а к спасению отечества; не будучи в состоянии быть ниже других, но и не нуждаясь ни в каких преимуществах, они дали участие в своей свободе даже и тем, кто хотел быть в рабстве, а сами не желали делить с ними их рабство. Великими и славными подвигами своими они доказали, что прежние несчастия отечества происходили не от их малодушия и не от храбрости врагов: если, при взаимных раздорах и против воли бывших там пелопоннесцев и других врагов, они были в состоянии вернуться к себе на родину, то, очевидно, легко могли бы воевать с ними при единодушии граждан.
Этих мужей прославляет весь мир за их борьбу в Пирее; но надо воздать хвалу и чужестранцам
[218], здесь лежащим, которые пришли на помощь народу и, сражаясь за наше спасение, считали своим отечеством мужество и так окончили жизнь. За это наш город всенародно оплакал их и похоронил и определил им на вечные времена такие же почести, как и гражданам.
Погребаемые ныне помогли коринфянам, притесняемым их старыми друзьями, ставши их новыми союзниками
[219], — помогли потому, что они держались иных убеждений, чем спартанцы: последние завидовали их счастью, а наши жалели их при виде их угнетения, не помня прежней вражды, а высоко ценя новую дружбу. Они показали всему миру свое мужество. Чтобы возвеличить Элладу, они решились не только бороться за свое собственное спасение, но и умереть за свободу врагов:
[220] именно они сражались с союзниками спартанцев за их освобождение. В случае победы они даровали бы им те же права; но так как с ними случилось несчастие, то они оставили пелопоннесцам крепкое рабство.
При таком положении жизнь им кажется жалкой, а смерть желанной; а жребий наших и при жизни, и после смерти завиден: они воспитаны среди благ, добытых предками; достигши зрелого возраста, они сберегли их славу и показали свое мужество. Да, у них много славных заслуг перед отечеством; они исправили неудачи других; они удалили войну на большое расстояние от родной земли. Они окончили жизнь, как подобает окончить ее хорошим людям, — отечеству воздав за свое воспитание, а воспитателям оставив печаль. Поэтому живые должны томиться тоской по ним, оплакивать себя и сожалеть об участи их родных в течение остальной их жизни. В самом деле, какая радость им остается, когда они хоронят таких мужей, которые, ставя всё ниже доблести, себя лишили жизни, жен сделали вдовами, детей своих оставили сиротами, братьев, отцов, матерей покинули одинокими? При таком множестве несчастий я считаю детей их счастливыми, потому что они слишком еще малы, чтобы понимать, каких отцов лишились, а тех, от кого они родились, жалею, потому что они слишком стары, чтобы забыть о своем несчастии. Да, какое горе может быть сильнее, чем похоронить детей, которых ты родил и воспитал, и на старости лет остаться немощным, лишившись всяких надежд, без друзей, без средств, возбуждать жалость в тех, которые прежде считали тебя счастливым, желать смерти больше, чем жизни? Чем лучше они были, тем больше печаль у оставшихся. Как же им перестать печалиться? Может быть, при бедствиях отечества? Но тогда и остальные, конечно, вспомнят о погибших. Может быть, при счастливых обстоятельствах государства? Но для возбуждения печали достаточно мысли о том, что их дети погибли, а живые наслаждаются плодами их храбрости. Может быть, при личных своих опасностях, когда они увидят, что прежние их друзья бегут от их нужды, а враги надменно смотрят на их несчастия?
Мне кажется, мы могли бы лежащим здесь воздать благодарность только тем, если бы родителей их высоко ценили подобно им, детей их любили бы так, как будто сами были бы отцами их, а женам их были бы такими помощниками, какими были они при жизни. В самом деле, кто имеет больше прав на уважение, как не лежащие здесь? Кого из живых мы можем с большей справедливостью высоко ценить, как не их родных, которые от их мужества вкусили плодов наравне со всеми другими, а по смерти их, если сказать правду, одни несут бремя несчастия?
Но не знаю, к чему такие сетования: ведь нам не было неизвестно, что мы смертны. Поэтому зачем теперь горевать о том, чего мы давно ожидали? К чему так сильно тяготиться несчастиями, происходящими от природы, когда мы знаем, что смерть — общий удел и самых дурных людей, и самых хороших? Ведь если бы возможно было людям, избежавшим опасности на войне, быть бессмертными в остальное время, то живым следовало бы вечно оплакивать погибших; но и природа не может бороться ни с болезнями, ни со старостью, и божество, которому досталось управлять нашей судьбой, неумолимо. Поэтому надо считать их в высшей степени счастливыми, так как они окончили жизнь в борьбе за величайшие и лучшие блага, не предоставляя себя в распоряжение судьбе и не ожидая естественной смерти, но выбрав себе самую лучшую.
И действительно, память о них не может состариться, честь, оказываемая им, желанна всем. Их оплакивают за их природу как смертных, а прославляют как бессмертных за храбрость. Поэтому их погребает государство; в честь них устраивают состязания в силе, уме и богатстве
[221] на том основании, что погибшие на войне заслуживают почитания наравне с бессмертными. Я, со своей стороны, считаю их счастливыми и завидую их смерти и думаю, что им одним стоило родиться на свет, так как они, получив в удел тело смертное, благодаря своей храбрости оставили по себе память бессмертную. Однако надо соблюдать древние обычаи и, уважая закон отцов, оплакать погребаемых.
Демосфен
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Когда государство постановило похоронить на общественный счет мужей, покоящихся в этой могиле
[222], ибо они явили себя доблестными воинами, и поручило мне произнести над ними установленную обычаем речь, я озабочен был прежде всего тем, чтобы воздать им подобающую хвалу; однако, подбирая и обдумывая слова, достойные павших, я счел невозможным выполнить эту задачу до конца. В самом деле, если они презрели свойственную всем по природе любовь к жизни и решили лучше с честью умереть, чем, оставаясь в живых, видеть Элладу несчастной, то разве не оставили они память о своем мужестве, которое превосходит любую речь? И всё же, кажется мне, я могу высказаться наравне с другими, говорившими здесь до меня.
А в какой мере наш город заботится о погибших на войне, можно видеть как из всего прочего, так и особенно из вот этого закона, по которому выбирается оратор на общественные погребения
[223]. Зная о том, что храбрые мужи пренебрегают приобретением богатств и наслаждением удовольствиями жизни и, напротив, стремятся к доблести и похвалам, город считал нужным чествовать их такими речами, какие более всего могли бы служить исполнению их желаний, с тем чтобы слава, утвердившаяся за ними при жизни, сопутствовала им и по их смерти. И вот, если бы из того, что относится к доблести, я усмотрел лишь отличающую их храбрость, то, восхвалив ее, я должен был бы закончить свою речь. Но так как судьба одарила их прекрасным происхождением, разумным воспитанием и достойной жизнью, благодаря чему они были превосходными людьми, то я постыдился бы, если бы что-то из этого оказалось мною упущенным. Итак, я начну, прежде всего, с их происхождения.
Благородство происхождения этих мужей, восходящее к давнему времени, признаётся всеми людьми. Род каждого из них можно возвести не только к отцу и предкам от поколения к поколению, но и напрямую ко всему отечеству, ибо они, по общему мнению, являются исконными его жителями
[224]. Они единственные из всех людей населяют эту страну, из которой происходят и которую передали своим потомкам, так что людей, пришедших в города и называемых их гражданами, справедливо было бы считать чужеземцами, хотя их вернее было бы сравнить с приемными детьми, эти же — законные граждане всего отечества по рождению. Насколько я знаю, и плоды, коими кормятся люди, впервые появились у нас;
[225] это, оказавшись само по себе величайшим благом для всех, бесспорно доказывает, что эта страна — мать наших предков. Ведь по установлению самой природы всё рождающее одновременно дает и пищу рожденному; так произошло и с нашей страной.
Итак, с происхождением предков этих мужей дело обстоит таким образом от века. Что же касается храбрости и вообще доблести, то я об этом пока воздержусь говорить, опасаясь, как бы моя речь не оказалась неуместно длинной. Но то, о чем полезно вспомнить людям сведущим и любопытно послушать никогда не слышавшим, то, что достойно усердного подражания и не делает тягостными длинные речи, вот об этом в общих чертах я и попытаюсь сказать. Предки и отцы нынешнего поколения и затем те, чьи имена указывают на более отдаленное время и по кому распознаются единоплеменники, никогда никого не обидели — ни эллина, ни варвара, — но, будучи благородными и справедливейшими людьми по отношению ко всем остальным, они, отражая врагов, совершили много блестящих подвигов. Они наголову разбили вторгшееся войско амазонок
[226], так что отбросили их за Фасис, и изгнали войско Эвмолпа
[227] и многих других не только из своей страны, но и из областей прочих эллинов, которых не смогли ни сдержать, ни одолеть все живущие от нас на запад. Их даже назвали спасителями детей Геракла, доставлявшего спасение другим, когда они, бежав от Эврисфея, как умоляющие пришли в эту страну
[228]. Вдобавок ко всему этому и ко многим другим прекрасным деяниям они не позволили нарушить права мертвых, когда Креонт препятствовал погребению Семерых, ходивших походом на Фивы
[229].
Поскольку эти подвиги баснословны, я, о многом умолчав, напомнил лишь о тех, каждый из которых дает столь большую возможность для изящных изложений, что и пишущие прозой, и поэты в своих стихах, и многие из историков сделали деяния этих мужей предметом своего искусства. Но теперь я скажу о том, что по своей значительности нисколько не уступает этим подвигам, но совсем близко отстоит от нашего времени и не относится ни к преданиям, ни к героическим сказаниям. Они в одиночку дважды победили на суше и на море полчища врагов, вторгшихся из всей Азии
[230], и, сами подвергаясь опасности, стали источником общего спасения всех эллинов. Хотя то, о чем я намереваюсь сказать, уже до меня сказано другими, тем не менее не следует лишать сейчас этих мужей заслуженной и справедливой похвалы: их по праву можно считать более доблестными, чем отправившихся в поход под Трою, поскольку последние, будучи храбрейшими во всей Элладе, за десять лет осады едва взяли одно местечко в Азии
[231], тогда как первые собственными силами не только одолели войско, пришедшее со всего Азиатского материка, до того покорявшее всё остальное, но и отомстили за обиды, нанесенные другим эллинам. Затем, противостоя своекорыстным устремлениям самих эллинов, они переносили все опасности, какие только ни случались, неизменно приходя на помощь тем из них, на чьей стороне была справедливость, покуда время не привело нас к ныне живущему поколению.
Пусть никто не считает, будто я, не зная, что следует сказать о каждом из этих деяний, ограничился их перечислением. Если бы я по сравнению со всеми был совершенно беспомощным в нахождении нужных мыслей для моей речи, то уже сама их доблесть указывает на то, о чем легко и просто можно рассказать. Но я, упомянув о благородстве происхождения и о великих свершениях наших предков, стремлюсь как можно скорее приступить к рассказу о подвигах вот этих мужей, чтобы воздать им, — ибо знатность происхождения тех и других была общей, — общую хвалу, полагая, что как одним, так и в особенности другим было бы приятно, если бы они взаимно разделили не только от природы унаследованную доблесть, но и похвалу.
Между тем следует на время остановиться и, прежде чем рассматривать их деяния, призвать к благосклонности тех из присутствующих на погребении, кто не связан родством с погибшими. Если бы мне было поручено украсить похороны на пожертвования из собственных средств или с помощью какого-нибудь зрелища — конных или гимнастических состязаний
[232], то я тем усерднее и не считаясь с затратами подготовил бы их, чем больше обнаружилось бы, что я сделал это так, как подобает. Но поскольку меня избрали прославить этих мужей посредством речи, то я опасаюсь достигнуть результата, противоположного своему желанию, если не смогу склонить на свою сторону слушателей. Богатство, ловкость, сила и всё подобное сами по себе приносят выгоду и дают такое превосходство тем, кто этими благами обладает, что они не испытывают нужды в одобрении со стороны прочих людей. Напротив, искусство убеждения словом нуждается в благосклонности слушателей, и с ее помощью, если бы даже было посредственным, оно доставляет славу и почет. Когда же благосклонность отсутствует, речь вызывает у слушателей отвращение, если даже она превосходит всякую меру красоты.
Хотя я мог бы немало сказать о том, за что эти мужи по справедливости заслуживают восхваления, я, однако, переходя теперь к их подвигам, колеблюсь, о чем мне следует сказать в первую очередь: всё сразу пришедшее мне на ум делает затруднительным выбор предмета рассказа. Тем не менее
я попытаюсь расположить свою речь в таком порядке, в каком проходила их жизнь. Они с самого начала отличались во всех науках, прилежно занимаясь теми, которые соответствуют каждой поре возраста, и радовали всех, кого должно радовать, — родителей, друзей, близких. Поэтому еще и теперь память о них родственников и всех друзей от мала до велика, словно идущая по их следам, скорбит о них и распознаёт всё новые приметы, свидетельствующие об их совершенстве. Когда же они достигли зрелого возраста, то проявили свой характер не только перед согражданами, но и перед всеми людьми. Ведь благоразумие, именно благоразумие — начало всякой доблести, а вершина ее — мужество! С помощью первого испытывается, что следует делать, с помощью последнего находят спасение. В том и другом они отличились больше всего. Когда для всех эллинов возникала общая опасность, они были первыми, кто ее замечал, и часто призывали к общему спасению, что служит доказательством их доброго разумения. И в то время как поведение эллинов отличалось малодушием, соединенным с неведением
[233], когда всё еще можно было предотвратить — одно, произошедшее по недосмотру, другое — вследствие притворства, — эти мужи, однако, не стали им мстить, когда те уступили и пожелали исполнить свой долг
[234], но, встав во главе и добровольно предоставив им всё — людей, деньги, союзников, сражались до конца, не щадя собственной жизни.
Когда происходит сражение, то неизбежно одни одерживают победу, другие терпят поражение. Однако, как мне кажется, я могу утверждать: павшие на поле боя как с одной, так и с другой стороны не причастны к поражению, но те и другие равно одержали победу. Среди живущих судят о победе как о даре божества. Но то, что требовалось от отдельного человека для достижения ее, сделал каждый, кто сохранил свое место в строю. Если же он, смертный, уступил воле судьбы, то этого, конечно, пожелала судьба, но мужество его не было сломлено врагами. Если враги не вторглись в нашу страну, то причиной того, я убежден также, была не столько их нерешительность, сколько доблесть этих мужей: тогда, сойдясь в том сражении
[235], они испытали каждого из них и не захотели снова подвергать себя опасности со стороны родственного им народа; ибо они встретились, по их мнению, с людьми того же характера, но вот тот же жребий, они считали, получить в удел нелегко. Условия мирного договора
[236] также ясно показывают, что дело обстоит именно таким образом; ведь нельзя найти более несомненную и прекрасную причину, чем восхищение неприятельского повелителя доблестью погибших, который предпочел заключить дружбу с людьми, близкими по крови, нежели еще раз попытать счастье, поставив всё под удар. Если бы кто спросил самих участников сражения, не считают ли они, будто добились успеха благодаря собственной доблести или им помогла своенравная и суровая судьба, а также опытность и отвага их военачальника, то, я полагаю, не нашелся бы столь бессовестный и наглый человек, который стал бы приписывать результаты этих свершений себе. Более того, если божество, как властелин всех обстоятельств, определило успех согласно своему желанию, то следует признать невиновными тех, кто остался в живых: они всего лишь люди. Однако никто, конечно, не будет объявлять причиной превосходства неприятельского военачальника над выставленными против него полководцами действия воинов ни с противной, ни с нашей стороны
[237]. Если же на кого из людей за это и следует возлагать вину, то на фиванцев
[238], противостоявших ему, а не на всех участников сражения ни с той, ни с нашей стороны. Они, хотя и получили войско, отличавшееся непобедимостью и беззаветностью духа и неуемной жаждой славы, ничему из этого не нашли правильного применения.
О прочем каждый судит так, как думает; но что стало одинаково ясным для всех живущих людей, так это то, что залогом свободы всей Эллады была жизнь этих мужей: ведь после того как судьба похитила их, никто из остальных не оказал сопротивления. И да коснется недоброжелательство этих слов, но, мне кажется, не погрешил бы против истины тот, кто сказал бы, что доблесть этих мужей была душою Эллады; ибо, как только жизнь оставила их связанные родством тела, сокрушилось и величие Эллады. Хотя это, пожалуй, может показаться большим преувеличением, тем не менее я должен сказать: подобно тому как, если бы кто-то лишил вселенную света, вся остальная жизнь оказалась бы безрадостной и мучительной, так и вся прежняя гордость эллинов с гибелью этих мужей погрузилась во мрак и полное бесславие.
Они, конечно, были такими вот мужами в силу многих причин, но нисколько не меньше они были превосходными людьми благодаря способу государственного правления
[239]. Господство немногих вселяет страх в граждан, но стыда не внушает; когда же затем наступает военная опасность, то любой и каждый спасает прежде всего себя, зная, что если он подкупит власть имущих дарами или какой-нибудь иной дружеской услугой, то его постигнет лишь незначительный позор, пусть даже он будет вести себя самым гнусным образом. Напротив, правлению народа, заключающему в себе многое другое прекрасное и справедливое, чего должен придерживаться разумный человек, свойственна еще и свобода слова, и ей, поскольку она служит правде, нельзя помешать в обнаружении истины. Не могут же все потворствовать тем, кто совершает постыдные поступки, поэтому на их пути встает только тот человек, который высказывает справедливые порицания; и тогда те, кто сам не посмел бы сказать худого слова, с одобрением слушают другого, открыто говорящего об этом. Отсюда ясно, что все они, страшась этих порицаний и испытывая чувство стыда перед ожидающим их бесчестием, решительно встретили и опасность, исходящую от врага, и предпочли прекрасную смерть позорной жизни.
Итак, об общих причинах, побудивших всех этих мужей принять славную смерть, я сказал: это — происхождение, воспитание, склонность к достойному образу жизни, принципы всего общественного строя; теперь же я скажу о том, какой стойкостью все они отличались, храня обычаи своих фил
[240]. Всем Эрехтидам было известно, что Эрехтей, чье имя они носят, ради спасения страны принес в жертву, отдав их на верную смерть, своих дочерей, называемых Гиакинфидами
[241]. Они считали позорным, если бы оказалось, что он, рожденный от бессмертных богов, сделал всё возможное для освобождения своего отечества, а сами они поставили преходящую жизнь выше бессмертной славы. Не были в неведении Эгеиды, что Тесей, сын Эгея, первым установил равноправие в государстве
[242]. Поэтому для них было нестерпимо изменить его политическим принципам, и они решили лучше умереть, чем после их уничтожения влачить жалкое существование на виду у всех эллинов. Слышали потомки Пандиона предание о том, как Прокна и Филомела, дочери Пандиона, наказали Терея за оскорбление
[243], нанесенное им. И они держались мнения, что их жизнь потеряла бы всякий смысл, если бы они не обнаружили тот же образ мыслей по отношению к тем, кто у них на глазах оскорбляет Элладу. Слышали Леонгиды легенду о дочерях Леоя, как те принесли себя в жертву согражданам ради спасения страны
[244]. И если те женщины, полагали они, обладали мужской доблестью, то было бы недопустимо, если бы они, будучи мужами, уступили им в храбрости. Помнили Акамантиды стихи Гомера, где он рассказывает, как Акамант ради своей матери Эфры отправился в Трою
[245]. И какие только превратности он не испытал, чтобы спасти свою мать! А разве не были готовы они преодолеть любую опасность, чтобы у себя дома спасти всех своих родителей? Не является тайной для потомков Энея, что Семела была дочерью Кадма и у нее был сын, чье имя не подобает произносить на этом кладбище, и от него родился Эней
[246], названный их родоначальником. Когда же обоим городам
[247] стала угрожать общая опасность, то они решили бороться изо всех сил за оба. Знали Кекропиды о своем родоначальнике
[248], который, говорят, отчасти был драконом, а отчасти — человеком, и как раз потому, что по своему разуму он был подобен человеку, а по могуществу — дракону. И они считали нужным действовать с достоинством, равным этим его свойствам. Помнили потомки Гиппотоонта о браке Алопы, в результате чего родился Гиппотоонт
[249], и они почитают его своим родоначальником; о нем, как приличествует настоящему моменту, я подробно говорить не стану. И они считали своей обязанностью быть достойными продолжателями его деяний. Хорошо известно потомкам Аякса о том, что Аякс, после того как был лишен награды за свои подвиги, посчитал свою жизнь невыносимой
[250]. Поэтому, когда судьба наделила наградой другого, они, отражая врагов, предпочли умереть, чтобы ни в чем не уронить своего достоинства. Не забывали Антиохиды, что Антиох был сыном Геракла. И они считали должным или жить в соответствии с унаследованной славой, или прекрасно умереть.
Нет сомнения, оставшиеся в живых родственники погибших достойны сострадания — они потеряли таких мужей, навсегда лишившись ласкового с ними общения; без них и дела отечества пришли в печальное и бедственное состояние. Но, справедливо поразмыслив, их следует назвать счастливыми. Ведь они, презрев краткосрочную жизнь, оставляют великую и не увядающую в веках славу о себе, под сенью которой их дети будут воспитываться в почете, и родители их получат в преклонном возрасте заслуженный уход, тогда как слава этих мужей послужит для них утешением в горе. И затем, не испытывая физических страданий и не зная душевной боли, какие выпадают на долю живущим, они получают в удел установленные обычаем почести, вызывая величайшее уважение и всеобщее восхищение. Разве их, кого торжественно погребает вся родина, к кому исключительно направлены слова хвалебной речи от лица государства, о ком скорбят не только родственники и сограждане, но и всё, что может называться Элладой, и о ком печалится почти весь мир, — разве не следует считать их счастливыми? О них по праву можно сказать, что они сидят рядом с подземными богами и на Островах блаженных пользуются почетом, одинаковым с доблестными мужами предшествующих времен. И хотя оттуда не принес весть ни один очевидец, однако те, кого мы, живущие, считаем достойными почестей на земле, они — судим мы, с уверенностью полагая — получают те же почести и там.
Нет сомнения, трудно облегчить словами большое горе. Но всё же нужно попытаться направить чувства к утешению. Ибо приличествует тем, кто сам ведет начало от доблестных мужей, показать, что они сносят несчастья достойнее остальных людей и владеют собой в любой беде. Это послужило бы украшению и чести павших мужей и принесло бы великую славу всему государству и его гражданам. Тяжело отцу и матери лишиться детей и оказаться в старости без поддержки самых близких людей. Но с гордостью взирают они, как от имени государства их детям воздаются почести, которые навсегда останутся памятником их доблести, и как в их честь устраиваются незабываемые жертвоприношения и общественные игры. Горестно стать сиротами детям, лишившись отцов. Но прекрасно — унаследовать отцовскую славу. И если причиной этого скорбного удела мы признаём божество, которому в силу нашей человеческой природы мы должны подчиниться, то причину этого высокого подвига мы видим в решимости тех, кто добровольно избрал прекрасную смерть.
Что касается меня, то в своей речи я стремился не к тому, чтобы сказать много слов, а чтобы сказать правду. Вы же, оплакав и совершив то, что полагается по отеческим обычаям, возвращайтесь домой.
Гиперид
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Слова, которые мне предстоит сказать над этой могилой о военачальнике Леосфене и остальных, павших вместе с ним на войне, — о том, что они были мужи доблестные, — подтверждает само время, которое <...> не знало <...> за всю вечность <...> ни более храбрых мужей, чем погибшие, ни более великих деяний
[251]. Поэтому ныне я более всего опасаюсь, как бы речь моя не оказалась недостойной совершённых ими подвигов. Но, невзирая на это, меня всё же ободряет мысль, что вы, о слушатели, доскажете то, что я пропущу, — ведь слова мои будут обращены не к случайным людям, а к тем, кто воочию видел, что совершили эти мужи.
Итак, прежде всего подобает воздать хвалу нашему городу за принятое им решение
[252], ибо оно не только согласуется с теми деяниями, которые он совершал раньше, но даже превосходит их своею красотой и величием; затем павшим — за мужество, проявленное ими на войне, и за то, что не опозорили они чести предков; наконец, военачальнику Леосфену — и за то, и за другое, ибо для города он явился поборником этого решения, а для граждан стал предводителем войска. Однако мы не располагаем достаточным временем, дабы подробно рассказывать о городе и обо всех благодеяниях, каковые он оказал в прежние времена всей Элладе; нет у нас и повода, подходящего для подобного многословия. Кроме того, нелегко одному человеку припомнить и описать столь многочисленные и столь великие деяния! А посему я возьму на себя смелость сказать о нем лишь самое главное. Ибо как солнце обходит всю землю, надлежащим образом распределяя времена года и прекрасно всё обустраивая, а людей разумных и благонравных обеспечивая и потомством, и пищей, и плодами, и всем остальным, что необходимо для жизни, — так поступает и наш город: дурных карая, честным помогая, всех равными правами взамен несправедливости наделяя, за счет собственных опасностей и расходов общую безопасность для эллинов устрояя.
Итак, я не буду, как я уже сказал, останавливаться на деяниях города в целом, но ограничусь в своей речи рассказом о Леосфене и остальных воинах. С чего же мне ныне начать, о чем припомнить в первую очередь?
[253] Рассказать ли отдельно о роде каждого из них? Я думаю, это покажется вам наивным. Ибо кто восхваляет каких-нибудь других людей, кои, съехавшись в один город из разных мест, живут каждый со своим родом, тому надлежит составлять родословную каждого. Но кто произносит речь об афинянах — коренных жителях этого города
[254], отличающихся общим происхождением и непревзойденным благородством, — тому, я думаю, излишне восхвалять каждый род в отдельности. Упомянуть ли мне, как это обыкновенно делают, об их воспитании и о том, как еще детьми наставлялись и обучались они в величайшем благоразумии? Но, полагаю, все и так знают, что мы воспитываем детей ради того, чтобы они стали достойными мужами. И если те, оказавшись на войне, отличились доблестью, то очевидно, что их прекрасно воспитали в детстве. Правильнее всего, мне кажется, будет рассказать об их храбрости на войне и о том, как они стали источником многочисленных благ для своего отечества и остальных эллинов. Начну же я с их военачальника, ибо сие будет справедливо.
Ведь Леосфен, видя, что вся Эллада подвергнута унижению и <...> скована страхом, что она разорена людьми, подкупленными Филиппом и Александром во вред своим родным городам
[255], и что наш город нуждается в человеке, а вся Эллада — в городе, который сможет принять руководство, отдал себя в распоряжение отечества, а город наш — в распоряжение эллинов ради всеобщего освобождения. Собрав наемное войско и став во главе наших граждан, он победил тех, кто первым воспрепятствовал свободе эллинов — беотийцев, македонян, эвбейцев и прочих союзников их, — сразившись с теми в Беотии
[256]. Двинувшись оттуда в Пилы
[257] и заняв проход, через который и в прежние времена варвары проникали к эллинам
[258], он помешал вторжению Антипатра в Элладу;
[259] последнего же, настигнув в этих местах и победив в сражении, он запер в Ламии и начал осаду города
[260]. С фессалийцами, фокейцами, этолийцами и всеми остальными жителями сей местности заключил он союз; и если Филипп и Александр возвысились, управляя этими народами против их воли, то Леосфен стал начальствовать над ними с их же согласия. С тем, для чего он был выбран, справиться ему удалось, но судьбу свою превозмочь не пришлось.
Леосфена подобает славить прежде всех остальных не только за то, что он совершил сам, но и за то сражение, каковое произошло позднее
[261], уже после его смерти, а также за прочие успехи, достигнутые эллинами в этом походе. Ибо на основании, заложенном Леосфеном, зиждутся ныне наши дальнейшие действия. Но пусть никто не подумает, будто я ничего не говорю о других, а хвалю одного Леосфена. Ведь похвала Леосфену за выигранные битвы есть в то же время похвала и его согражданам. Ибо задача военачальника — в том, чтобы принимать правильные решения, дело же тех, кто добровольно рискует жизнью, — побеждать в сражениях. Поэтому, восхваляя одержанную победу, вместе с предводительством Леосфена я восхваляю доблесть и остальных воинов.
В самом деле, разве справедливо было бы не воздать хвалу тем из наших сограждан, кто погиб на этой войне, отдав жизнь за свободу эллинов, кто думал, что лучшее доказательство стремления добыть для Эллады свободу — это умереть, сражаясь за нее? Предыдущее сражение в Беотии пробудило в них великое желание бороться за Элладу. Ибо видели они, что город фиванцев безжалостно стерт с лица земли, что его Акрополь занят македонянами, жители обращены в рабство, а все прочие делят между собою их землю. Ужасное зрелище, представшее взорам воинов, принудило их немедленно двинуться навстречу опасности. Но битва при Пилах
[262] и Ламии принесла им не меньше славы, нежели сражение с беотийцами, — и не только благодаря победе над Антипатром и его союзниками, но еще и потому, что эта битва состоялась именно здесь
[263]. Ибо все эллины, приходящие в Пилы дважды в год
[264], станут свидетелями подвигов, кои совершили эти воины: ведь в этом самом месте одновременно будут и эллины собираться, и подвиги сражавшихся вспоминаться. Ведь никто и никогда за всю историю человечества не сражался за более великое дело, с более сильным врагом и с меньшим числом союзников, полагая, что сила и превосходство заключаются в доблести и храбрости, а не в великой численности людей. И свободу они сделали общим достоянием эллинов, а славу, заслуженную подвигами, в качестве победного венка даровали отечеству
[265].
Теперь надлежит поразмыслить над тем, что, как нам кажется, могло бы произойти, если бы они не сражались таким вот образом. Разве не оказался бы мир в подчинении одного господина и не вынуждена была бы Эллада руководствоваться его волею, словно законом? Словом, над каждым из нас властвовала бы дерзость македонян, а не мощь справедливости, так что насилие над женщинами, девушками и детьми <...> не прекращалось бы по всей земле
[266]. Это подтверждается тем, что нам и поныне приходится видеть: жертвоприношения совершаются в честь людей; сооружением статуй, алтарей и храмов для богов пренебрегают — зато старательно возводят их для тех, чьих слуг мы вынуждены почитать как героев
[267]. Если вследствие дерзости македонян уничтожены священные права богов, то что же тогда может статься с правами людей? Разве не будут и они полностью уничтожены? А посему, чем ужаснее те последствия, кои мы можем себе вообразить, тем больших похвал, надо полагать, заслуживают погибшие.
Ибо ни один военный поход не явил большей доблести сражавшихся, чем этот, в котором им приходилось целыми днями строиться в боевом порядке и принимать участие в большем числе сражений, нежели всем остальным эллинам за все предшествующие времена. А жесточайшую непогоду и столь великие и многие лишения в том, что касается повседневных нужд, переносили они так стойко, что и словами не передать. Разве не следует считать Леосфена, побудившего сограждан твердо сохранять подобную стойкость, и тех, кто с готовностью отдал себя в соратники такому военачальнику, скорее счастливыми вследствие проявленной ими доблести, нежели несчастными из-за того, что они расстались с жизнью? Ибо взамен смертного тела они обрели бессмертную славу и благодаря личному мужеству упрочили общую свободу эллинов.
Ведь без политической независимости нет и полного счастья
[268]. Ибо не угрозам правителя, а гласу закона должны повиноваться счастливые люди, не обвинений, а доказательств должны бояться свободные граждане, и не от тех, кто льстит власть имущим и клевещет на соотечественников, должна зависеть всеобщая безопасность, а лишь от верности законам. Ради всего этого, одни тяготы за другими на себя принимая и наших граждан и всех эллинов среди ежедневных опасностей от постоянных страхов освобождая, эти мужи отдали жизни за то, чтобы другие жили хорошо. Благодаря им отцы их сделались знамениты, матери окружены уважением сограждан, сестры законным образом вступают и будут вступать в приличествующие им браки, дети обретут благорасположение народа благодаря доблести — нет, не погибших, ибо этим словом нельзя назвать тех, кто пожертвовал собой ради всеобщего блага, — благодаря доблести тех, кто сменил земное существование на вечную жизнь. Ведь если смерть, будучи для остальных людей самым большим несчастьем, явилась для них началом великих благ, то разве справедливо почитать сих мужей несчастными и лишенными жизни, вместо того чтобы понять, что их второе рождение более прекрасно, чем первое? Ибо тогда они были неразумными детьми, а теперь родились доблестными мужами. Кроме того, раньше им приходилось доказывать свою доблесть долгие годы и среди многих опасностей, ныне же, единожды отличившись такой храбростью, они стали известны и памятны всем эллинам.
Разве настанет такое время, когда мы не будем вспоминать об их доблести? Разве существует такое место на земле, где они не будут вызывать зависти и заслуживать высочайших похвал? Может ли быть иначе теперь, когда наш город преисполнен благополучия? Кого другого, если не этих мужей, станем мы восхвалять и помнить за то, что достигнуто благодаря им? И разве может быть иначе, когда сами мы счастливы? Нет, их доблесть будет постоянно служить нам источником удовольствия. Людям в каких летах не покажутся они счастливыми? Неужели старикам, кои убеждены, что благодаря их заслуге проведут они остаток своей жизни без страха и в безопасности? Или сверстникам? <...>
[269] Или юношам и детям? Разве не будут последние завидовать их смерти и сами стараться подражать, словно образцу, их жизни, взамен которой сии мужи оставили нам память о своей доблести? И разве справедливо не считать их счастливыми при столь великом почете, который им оказывают? <...>
[270] Ибо если о подобной стойкости духа вспоминают ради удовольствия, то что может быть приятней для эллинов, нежели похвала тем, кто отстоял их независимость от македонян?
[271] А если память такого рода существует ради пользы, то какая речь будет полезнее для слушателей, чем та, которая восхваляет доблесть и доблестных мужей?
А посему очевидно, что погибшим подобает добрая слава и у нас, и среди прочих людей. И всё же надлежит поразмыслить над тем, кто будет приветствовать их военачальника в Аиде. Не должны ли мы предположить, что увидим среди встречающих Леосфена и с восхищением на него взирающих тех, кого именуют полубогами и кто отправился в поход против Трои? И хотя Леосфен совершил похожие подвиги, он всё же весьма отличается от этих героев, ибо те с помощью всей Эллады завоевали один-единственный город, он же с помощью одного своего родного города усмирил силу, властвовавшую над всею Европой и Азией
[272]. Более того, те полубоги отомстили за поруганную честь только одной женщины
[273], он же предотвратил бесчестие, грозившее женщинам всей Эллады, — он и его воины, погребаемые теперь вместе с ним. А тех, кто после троянских героев жил и подвиги, достойные их доблести, совершил, — я имею в виду соратников Мильтиада, Фемистокла
[274] и прочих, кто, освободив Элладу, отечеству почет оставил, а собственную жизнь прославил, — их сей муж намного превзошел храбростью и мудростью, ибо те всего лишь остановили надвигающуюся силу варваров, он же и вовсе предотвратил ее натиск. Кроме того, те герои видели врагов сражавшимися на своей родной земле, он же победил супостатов на земле самих врагов. Я думаю, что даже те, кто лучше всех доказал народу свою взаимную преданность, — я говорю о Гармодии и Аристогитоне
[275], — более всего себе подобными считают Леосфена и его соратников, и нет никого в царстве Аида, кто был бы к ним ближе, чем эти мужи. Сие же естественно, ибо вторые совершили не меньше подвигов, чем первые, а ежели об этом следует сказать, то и больше. Ибо первые уничтожили тиранов своего отечества, а вторые — тиранов всей Эллады.
О, как прекрасна и удивительна отвага, проявленная этими мужами! Как славно и велико решение, которое они приняли! Как превосходны доблесть и храбрость, каковые явили они среди опасностей ради общей свободы эллинов...
А посему равно тяжело найти слова утешения для тех, кто переживает такое горе. Ибо его нельзя умягчить ни речью, ни законом;
[276] только природа каждого человека и его любовь к погибшему устанавливают границу скорби. И всё же надо крепиться и по возможности смирять скорбь, памятуя не только о смерти погибших, но и о доблести, память о которой они оставили после себя. Ибо если плач
[277] они страданиями заслужили, то великие похвалы — тем, что совершили. И хотя не получили они в удел старости, подобающей смертным, зато приобрели нестарящуюся славу и стали полностью счастливыми людьми. Ибо кто умер бездетным, для того бессмертными детьми станут похвалы эллинов. А ежели кто оставил после себя детей, то опекуном для них будет благосклонность отечества. К тому же, если смерть есть небытие, эти мужи избавлены от болезней, горя и прочих страданий, выпадающих на долю человека при жизни. И если в царстве Аида способность к чувствам сохраняется и некий бог, как мы предполагаем, продолжает о нас заботиться, то тем, кто пришел на помощь, когда уничтожались почести богам, более всех подобает принять заботу о себе божества...
Дион Хрисостом
МЕЛАНКОМ
От горя и потрясения, вызванных этим нежданным несчастьем, мне не приходит в голову, о мужи, о чем тут можно сказать. Ибо не только по должности моей случившееся касается меня больше, чем кого-либо из граждан, но и оттого, что Меланком был мне другом, и притом самым близким, как знает большинство из вас. Кроме того, мне кажется нелепым существующий у нас обычай, согласно которому произнесение речей в честь покойных принято возлагать на тех, кто более всех скорбит. Ибо тот, кто переживает великое горе, как раз не годится для произнесения речей. И потом, я пребываю в том возрасте, когда любой человек уже может испытывать сильнейшую печаль или радость, но еще не способен выразить это в словах как подобает. Впрочем, если похвала военачальника над телом храброго солдата считается наиболее почетной, то и похвала должностного лица почетнее похвалы, произнесенной простым гражданином. И, стало быть, мне по долгу службы полагается сказать речь, приложив к этому всё старание. Сообразуясь же с доблестью умершего и моей неопытностью, надобно ожидать от меня не пространной речи и не такого энкомия, что составлен по всем правилам
[278], но скорее похвалы, идущей от самого сердца.
Прежде всего, Меланком обладал поистине благородным происхождением. Но если бы даже он произошел не от богатых предков и не от царей, а от людей, вовсе ничем не примечательных, он всё равно стал бы благородным человеком. Однако его родители — потомки таких же достойных людей, как и он сам. Ибо отец его отличался от прочих представителей своего круга двумя ценнейшими качествами — силой и мужеством. Об этом свидетельствуют победы, которые он одержал в Олимпии и на других состязаниях.
Сам же Меланком от рождения всех превосходил красотой — не только ныне живущих, но, судя по ее совершенству, и тех, кто славился ею в прежние времена, — я разумею смертных. Ведь многие из них, будучи красивы только одной частью тела, впоследствии прослыли красивыми в целом, ибо человеческий глаз всегда видит лишь наилучшее, наихудшего же не замечает. Другим же и вовсе не посчастливилось родиться красивыми; но вот пришла к ним пора расцвета — и все, кто повстречал их тогда, были сражены их цветущим видом и назвали его красотой. Ведь в наилучшую пору жизни все всегда расцветают — и животные, и растения. Всякий найдет, что тысячи людей, подобных Меланкому, могут казаться кому-то красивыми, а кому-то безобразными, и у одних они будут вызывать восхищение, меж тем как другие даже не удостоят их вниманием. Но если всё ж существует на свете истинная, безупречная и достойная удивления красота, то именно таковой обладал этот муж. Ибо тело его всегда было равно красиво — и до поры возмужания, и после нее. И если бы он дожил до глубокой старости, то никогда не вступил бы в ту пору, когда померкла бы его красота
[279]. Доказательством же его совершенной красоты является не то, что он превзошел ею обычных людей, и не то, что им восхищались те немногие, кто его видел воочию, но то, что он всегда был окружен поистине прекраснейшими из людей — атлетами, которые обладают величайшим ростом, красивейшей наружностью и проявляют наибольшую заботу о своем теле. А видеть его довелось едва ли не всему свету. Ибо не было ни одного известного города, ни одного народа, который он бы не посетил. И всюду он пользовался одинаковой славой, ибо людям не приходилось видеть никого прекраснее, чем он. Вызывая восхищение большинства зрителей и оставаясь одним из самых красивых мужей, о чьей красоте шла молва, он, бесспорно, был близок к некой божественной форме
[280].
Итак, прежде всего я почитаю его счастливым за красоту, каковая из всех человеческих благ является, конечно, самым явным и доставляет величайшее удовольствие как богам, так и людям, обладателю же своему почти не причиняет хлопот и с легкостью признаётся окружающими. Ведь остальные блага — мужество, благоразумие, мудрость, кто бы ими ни обладал, остаются скрыты от окружающих до тех пор, пока не обнаружатся благодаря какому-нибудь поступку. Красоту же нельзя укрыть, ибо она является вам вместе со своим обладателем
[281]. А кто-то, пожалуй, скажет, что и прежде него, — столь сильное впечатление она производит. Кроме того, прочие добродетели вызывают у большинства людей зависть и враждебность к их обладателю. Красота же человека делает всех, кто ее созерцает, его друзьями и никому не позволяет стать его врагом. А если кто-нибудь скажет, что я произношу похвалу не самому человеку, но красоте его, то сие обвинение будет несправедливым. Ибо допустим, что речь является похвалой, когда мы оцениваем мужество человека. Доказывать, что он им обладает, необходимо лишь в том случае, если сие представляется спорным. Но если некое качество признаётся всеми, остается лишь восхвалять природу этой добродетели. Так, похвала добродетели будет являться одновременно и похвалой ее обладателю.
Самое же удивительное, что, обладая подобной внешностью, Меланком превзошел всех мужеством. Лично мне кажется, что он стремился душою победить тело и благодаря этому прославиться еще больше. Ибо, узнав, что из всех занятий, требующих мужества, наиболее прекрасным и вместе с тем самым трудным является атлетика, он остановил свой выбор на ней. Ведь ему не представилось случая проявить себя на военном поприще; впрочем, подготовка к таковой стезе не требует столь уж большого труда. Я бы даже сказал, что она стоит много ниже атлетической подготовки, ибо на войне испытывается только мужество, атлетика же воспитывает и храбрость, и силу, и выдержку. Более того, он избрал не легчайший, но наитруднейший из видов атлетики, ибо упражнялся в кулачном бое. А ведь даже в легчайшем из дел достичь совершенства непросто, не говоря уж о том, чтобы превзойти остальных в самом великом и трудном, как это сделал сей муж.
Перечислять один за другим все его венки и все состязания, в коих он одержал победу, — перед вами, которым всё это известно, — излишне, тем более что всякий из вас сможет назвать и других атлетов, достигших такого же результата. Но знаете вы и о том, чего добился только он один, и это, конечно, заслуживает отдельного рассказа. Ибо тем, кто сего не ведает, в таковое поверить трудно. Речь же о том, что, имея столь многочисленных и серьезных противников, он не был никем из них побежден, но сам всегда побеждал всех. А ведь, пожалуй, едва ли за всю историю человечества найдется хотя бы один военачальник, который никогда не знал поражения, или хотя бы один герой войны, который ни разу не покинул бы в спешке ратное поле. Нельзя сказать и того, что Меланком остался непобедимым, потому что рано умер, ибо он принял участие в поистине огромном числе состязаний. Риск же потерпеть поражение зависит всецело от опыта борца, а не от того, сколько лет он прожил. Кроме того, всякий изумлялся тому, что Меланком побеждал, не пропустив ни единого удара и сам их не нанеся, — настолько превосходил он всех и выносливостью и силой. Ибо нередко приходилось ему состязаться в течение целого дня в самую жаркую пору. И хотя мог Меланком одолеть противника всего лишь одним ударом, он не желал такой победы, считая, что и слабейший борец может повергнуть сильнейшего единым ударом, если представится случай. Более честной он считал такую победу, когда принуждал сдаться невредимого противника, ибо тогда последний терпел поражение не от раны, но от него самого; и то, что слабее в этом случае оказывалось всё тело противника, а не только покалеченная его часть, было для Меланкома наилучшим доказательством его боевого мастерства. Также по душе бывало ему, когда тот, кто стремился победить быстрее при помощи ударов и взаимного захвата
[282], сам оказывался побежден зноем и долгим боем.
Если же кто не согласен с таким мнением, то пусть поразмыслит над тем, что кабаны и олени не подходят близко ни к собакам, ни к людям до тех пор, пока еще способны сопротивляться. Когда же зверь начинает слабеть и выбиваться из сил, он кидается на охотников и собак, желая скорее быть раненым и погибнуть, нежели и дальше подвергаться преследованию. Так же ведут себя и мужи на войне: хотя бы и зная, что быстрее получат рану, обратившись в бегство, нежели оставшись на месте, они всё равно отступают, не желая дольше сносить тяготы битвы, и подставляют спины под удары преследователей. И выходит так, что презрение к ранам говорит не о мужестве, а об обратном. Всё, что было сказано о храбрости и о мужестве, приложимо, как мне кажется, к выносливости и к выдержке. Ведь если бы Меланком не отличался этими качествами, то, я полагаю, он не превзошел бы всех силою, хоть бы и был по природе сильнейшим. Я даже не побоюсь сказать, что и героям древности, коих все воспевают, не уступал Меланком в доблести — ни тем, что сражались под Троей, ни тем, что позднее противостояли варварам в Греции
[283]. И если бы жил он в те времена, то совершил бы всё то же, что и они.
В целом я ставлю атлетику много выше воинской доблести. Во-первых, потому, что отличившемуся в атлетике подобает отличиться и на войне, ибо тот, кто сильнее телом и дольше других способен выносить трудности, способен превзойти остальных и с оружием, и без оружия. А во-вторых, не одно и то же — сражаться с людьми обычными и во всех отношениях более слабыми или вступать в поединок с сильнейшими из противников со всего населенного мира. Кроме того, на войне единожды победивший умертвляет противника и посему не имеет с ним дела вновь. В атлетике же победа завоевывается всего лишь на один день, после же победитель продолжает состязаться и с побежденными соперниками, и вообще со всяким, кто только пожелает. К тому же в атлетике лучший побеждает худшего, ибо здесь нельзя победить иначе, кроме как посредством силы и мужества. На войне же сила железа, намного превосходящая человеческую, не позволяет испытать крепость тела и часто оказывается на стороне наихудших.
Всё, что сказал я сейчас об атлетике, можно сказать и об этом борце, который показал себя наилучшим среди людей своей профессии. Ведь и мне, и всем здесь присутствующим подобает говорить лишь о том, что является наилучшим. И ежели человек отличался красотой тела, храбростью и мужеством в той же степени, что и выдержкой и способностью оставаться непобедимым, то можем ли мы найти хоть кого-то более счастливого, чем он? Но и такому человеку очень трудно сохранять храбрость и выдержку. Ведь красота весьма способствует изнеженности и приучает людей к роскоши, ибо, когда повсюду превозносится их наружность, им не нужно уже никакой иной славы, а праздная жизнь гораздо приятнее. Всякий, кто припомнит самых красивых мужей прошлого начиная с древнейших времен, увидит, что большинство из них не содеяли ни одного храброго или доблестного поступка, исключая разве Ганимеда; ибо тот не успел совершить ничего выдающегося, поскольку еще ребенком был похищен из мира людей
[284]. Ни об Адонисе, ни о Фаоне, ни о ком-либо еще, кто прославился своею красотою, нам больше ничего не известно
[285]. Среди красивейших мужей только Тесея и Ахилла можно назвать храбрыми, но даже и они не слишком-то отличались выдержкой. Ибо первый из них не похитил бы силой Елену
[286], а второй не вступил бы под Троей в спор из-за того, по поводу чего он стал спорить
[287]. Ипполиту хоть и была свойственна выдержка
[288], но неясно, отличался ли он храбростью, поскольку занятие охотой еще не свидетельствует об истинном мужестве.
И всё же тот, кто обладал наилучшими свойствами человеческой природы, достоин считаться счастливым и после смерти. Ведь если бы величайшим благом для человека была бесконечно долгая жизнь, то нам подобало бы оплакивать Меланкома. Но поскольку всякая жизнь, отпущенная человеку, коротка, то любой согласится, что для большинства людей лучше было бы умереть пораньше — столь великие несчастья их порой постигают. Кроме того, ни о ком из выдающихся мужей прошлого мы не слыхали, чтобы он прожил долгую жизнь: ни о Патрокле, ни об Антилохе, ни о Сарпедоне, ни о Мемноне, ни об Ахилле, ни об Ипполите
[289]. Не были долгожителями ни беотийцы От и Эфиальт
[290], коих Гомер называет самыми статными и красивыми людьми после Ориона
[291], ни сам Орион. Так, трое последних погибли по своему неразумию, прочие же из упомянутых мною считались детьми и отпрысками богов. А боги не послали бы своим детям и любимцам скорую гибель, если бы не считали ее благом для людей.
Итак, о мужи, приняв во внимание сказанное, следует почитать Меланкома счастливым и самим не меньше стремиться к труду и почету, коими он известен; ибо если кому-то из вас вскорости предстоит умереть, он не сможет уже насладиться ни одним из земных благ. Человек же, стяжавший великую славу, уходит в иной мир, обладая всеми благами. Так тренируйтесь же и усердно трудитесь: юноши — с верою в то, что их ждет судьба Меланкома, старцы — сообразно своим делам! И гордитесь этим так, как подобает мужам, что живут ради похвалы и доброй славы и упражняются в добродетели! Почтите того, кто нас покинул, памятью, а не слезами! Ибо не такой почет подобает благородным от благородных, и я не стал бы хвалить Гомера, сказавшего, что и песок, и доспехи были орошены слезами ахейцев
[292]. Ибо Гомер, изображая чрезмерное горе, стремился доставить поэтическое удовольствие, вы же сохраняйте крепость духа!
Либаний
МОНОДИЯ НИКОМЕДИИ
После того как Гомер не прошел без жалости даже мимо гибели растения, но, как если бы сам он явился и его насадителем, и взрастителем, а затем увидал простертым на земле, оплакивает его, словно своего отпрыска
[293], мне ли город Никомеда
[294], где я развил то красноречие, каковым обладал, и приобрел ту славу, каковой не обладал
[295], — этот недавно город, а ныне прах — оплакивать молча
[296], как поступает толпа? Или городу самому придется взяться за произнесение речей, кои он взлелеял?
[297] Будь я хотя бы флейтистом, одержавшим здесь множество побед своею игрою, я, предоставив прочим стенать кто как может, исполнил бы плач в виде скорбной песни
[298]. Пусть же дозволено мне будет вступить в беседу с богами так, словно бы они здесь присутствовали, и привлечь их к отчету в причине несчастья!
Разве некогда ты, Посейдон, сидя вместе с прочими божествами в чертоге Зевса и сердясь на греков за укрепление, каковое те воздвигли перед кораблями в Илионе, не винил их более всего в том, что они заложили его, пренебрегши волею богов? И потому, как только Илион был взят, разве ты, как и подобало, не счел нужным разрушить это укрепление и разве не исполнил это с легкостью, повелев рекам, берущим начало на Иде, хлынуть на него
[299]. Чем же не удовольствовавшись при возведении сего города, принял ты подобное же решение?
[300] Разве первый заселитель, принимаясь за основание города в ином месте, супротив ныне существующего
[301] — вернее, более уже не существующего, — не начал дело с вас
[302], и не было жертв на алтарях и толпы людей подле них, а вы не направили его усердие к противоположному берегу посредством орла и змея? Один из них, лапами выхватив из огня голову жертвенного животного, а другой, выползши из земли, — огромный, каковых, говорят, взращивает Индия
name=r303>[303], и тот, рассекая воздух, а этот — море, оба остановились на холме, а люди сопровождали их в уверенности, что следуют за богами, словно путеводителями
[304].
Но всё это было обманом. Прежде всего, город захлестывает волна войны
[305]. Пусть так! Ведь и Коринф, коим ты владел
[306], и земля Кекропа, каковую ты возлюбил
[307], подверглись тому же
[308]. Является второй заселитель, более всех властителей признававший богов вождями;
[309] превзошедши Креза величиною жертвы
[310], он с вашего соизволения восстановил город
[311]. Чем же пренебрегши, заслужил он наказание, подобное Энееву
[312] для Этолии? Разве похвально или по-божески те города, в созидании коих вы были пособниками людей, своими же руками рассыпать, подражая этим неразумным детям, каковые находят забаву в том, чтобы уничтожать то, что сами создали? А то, Посейдон, разве похвально, что из-за Аттики, покуда город еще не приобрел силу, ты вступил в спор с родственницей
[313] и в Акрополе, столь далеком от моря, поднял морской шум
[314], а сей великий и прекрасный город не только не возлюбил, но даже пошатнул его основание?
[315]
Ведь поистине, какой город — не скажу больше размерами — но красивее его? Размерами он уступал лишь четырем
[316], пренебрегши величиною в той мере, в какой это грозило утомить ноги жителей, а в отношении красоты одни превосходил, с другими равнялся, но, во всяком случае, побеждаем не был, охватывая объятиями своими море, вдаваясь в него оконечностями, подступая подковой и восходя на холм, перерезаемый двумя парами портиков, проходящими через весь город
[317], блистая общественными постройками и непрерывным рядом частных домов — от равнины до вершины горы, расположенными один над другим, словно ветви кипариса, орошаемый водами, окружаемый садами. Здания курии
[318], помещения для занятий красноречием, обилие храмов, обширные бани и вместительную гавань я видел, но описать бы не смог. Скажу только, что, направляясь туда из Никеи
[319], на протяжении всего пути вели мы беседу о деревьях, о том, чем урожайна земля, о близких и друзьях и о древней мудрости, но, едва миновав извилины гор и как только показался город — а было это на расстоянии ста пятидесяти стадиев
[320] от него, когда он воссиял перед нами, — о прочем мы говорить перестали, и весь наш разговор сосредоточился на городе. Ни плоды, качающиеся на ветвях, не привлекали нашего внимания, ни хребты пажитей
[321], ни рыбаки, хотя обычно труженик моря как-то притягивает к себе взоры путника — и как он взмахивает веслом, и как забрасывает сеть, и как с удой подстерегает рыбу; однако вид города был способен обворожить больше. Властно покоряя взоры своею красотою, он заставлял их устремляться лишь на себя одного. И одинаково был увлечен им и тот, кто впервые лицезрел город, и тот, кто успел в нем состариться. И вот один из нас указывал спутнику на дворец, сверкающий в заливе
[322], другой — на театр, сияющий надо всем городом
[323], третий — на другие лучи, исходящие с разных сторон. А что было всего превосходнее, решить было трудно. А посему мы приближались, словно бы поклоняясь статуе. На пути же к Халкидону приходилось оборачиваться, пока природные условия пути не скрыли от нас вида города, и это было похоже на то, как будто кончился праздник.
Разве не следовало всему сонму богов, обступив сей город, стеречь его, приглашая друг друга сохранять бдительность, дабы никакая беда не могла проникнуть в него? А на деле одни на него напали, другие от него отступились, но никто его не защитил! И вот, всё, о чем я рассказал и что некогда было, ныне не существует. О божество, какой локон вселенной ты унесло! Как ты ослепило другой материк, выбив славное око!
[324] Какое нестерпимое безобразие ниспослало на Азию, словно бы вырубив рощу на огромном пространстве или обрезав нос на красивейшем лице! О несправедливейшее из землетрясений, что же ты наделало?! О погибший город, о сие название, тщетно оставшееся! О скорбь, промчавшаяся по земле и морю! О молва, каковая потрясла сердце всякого человека независимо от его возраста, независимо от его положения! Кто обладает столь каменным, столь стальным сердцем
[325], чью душу не уязвила бы эта весть? Кто столь властен над своими слезами, чтобы не удариться в слезы? О испытание, превратившее в бесформенную груду бесчисленные красоты города! О несчастный луч солнца, на какой город упал ты на восходе и какой покинул на закате!
[326]
Недолго оставалось до времени, когда площадь заполняется народом
[327], а боги, хранители города, уже покинули свои храмы, и он был подобен брошенному кораблю
[328]. Владыка трезубца потрясал землю и вспенивал море. И корни города уже не держались крепко, но стены сталкивались со стенами, столбы со столбами, крыши падали вниз, основания домов выпирали из земли. И всё пришло в смятение. То, что было сокрыто внутри, выходило наружу, а что находилось снаружи, скрывалось внутрь. И очертания предметов, и их сочленения, и общее целое, складывающееся из частей, — всё смешалось в потоке в одну груду. Людей, занятых работою, засыпало под общественными и частными домами. Вблизи гавани погибло много лучших людей из высшего общества, которые собрались вокруг правителя
[329]. Театр, обрушившись, увлек за собою прилегавшие строения, люди же, всякий раз бежавшие в еще не тронутое землетрясением место, достигши его, попадали под новые обломки. Море под напором землетрясения заливало сушу. Огонь, где бы он ни был, охватив деревянные части зданий, присоединял к землетрясению еще и пожар, и какой-то ветер, как говорят, раздувал пламя. И вот, обширный прежде город ныне являет собой обширный холм
[330]. А спасшихся от сего бедствия немного, и они блуждают израненные.
О всевидящий Гелиос, что же с тобою стало, когда ты взирал на всё это?
[331] Как не удержал ты столь великого города, исчезающего с лица земли? Ведь из-за быков, на коих покусились изголодавшиеся моряки, ты пустил в ход все средства и даже грозил небожителям предаться Плутону
[332], а украшение земли, предмет заботы многих царей, создание долговременного труда, не пожалел, когда его похищали среди бела дня? О красивейший из городов, сколь ненадежному и коварному холму ты был поручен с самого начала, который уподобился лукавому коню, сбросивши со своего хребта прекрасного седока!
[333] Где теперь улицы? Где портики? Где дороги? Где источники? Где площади? Где школы? Где священные участки? Где то богатство? Где юность? Где старость?
[334] Где бани самих Харит и Нимф, из коих самая обширная, названная по имени построившего их царя, стоит целого города?
[335] Где теперь городской совет? Где народ? Где жены? Где дети? Где дворец? Где ипподром, крепчайший вавилонских стен? Ничто не осталось нетронутым, ничто — неистребленным. Всё охвачено бедствием. О обилие вод, где теперь ваше течение? У какого дома? У каких источников? Засыпаны каналы и разветвляющиеся водные пути. Скапливающаяся вода льется из ключей, прокладывая себе путь в оврагах и застаиваясь во впадинах. Никто ее не черпает и не пьет — ни люди, ни птицы. И страшен огонь, что стелется всюду из-под низу и там, где уступит ему верхний слой, взметывается в воздух. Прежде богатый людьми город днем необитаем, а ночью посещаем толпою призраков, которые, мне кажется, вызовут тесноту и у подземных обитателей, достигши Ахерона.
Вошли в пословицу «лемносские беды»
[336] и «Илиада бедствий»
[337], и память о них останется, но чрезмерность бедствия всякий желающий постигнет на этом примере. Случалось, что где-то землетрясение одно разрушало, другое щадило, но этот город оно сровняло с землею. Случалось, что некоторые города оно сравнивало с землею, но не разрушало столь великого города. Ведь если бы он лишился жителей из-за повального мора или в ту пору, когда они, по обычаю, всенародно приносили бы жертвы за его пределами, а сам бы не подвергся разрушению, то не пришлось бы справлять траур по всему городу. Ныне же и то, и другое лежит в руинах, и облик города подвергся разрушению вместе с гибелью его жителей. Пусть же рыдает всякий остров, всякий материк, и земледельцы, и моряки, и деревни, и хижины, и всё, что принадлежит к людской породе, и пусть охватит вселенную тот вопль, что раздавался в Египте при смерти Аписа!
[338] Ныне подобало бы, чтобы слезы даны были скалам и разум птицам для сообщества в плаче!
[339]
О гавань, убегая от коей корабли выплывали в открытое море, спешно обрубая канаты! Прежде полная грузовых судов, она не обнаруживает и входящего в нее челнока, будучи гораздо страшнее для торговцев, нежели жилище Скиллы
[340]. О несчастье путников, которые не идут более по лунообразному и тенистому пути, что привлекательно вился по краю залива
[341], но, сев на корабль, оплывают берег, к коему прежде спешили, и трепещут, словно перед Харибдою
[342], совершая по морю прежний свой путь по суше! О дражайший город, ты потряс людей своим бедствием, ты поразил их своим разрушением, и весь род людской пребывает в мольбах, ожидая, что целый мир осужден на погибель! Ведь ни к чему уже не будет пощады после истребления самого прекрасного его достояния! Кто бы, окрылив меня, унес туда? Кто бы поставил на вершине холма? О, горестный вид! Впрочем, есть для любящего некоторое утешение и в том, чтобы обнять лежащий мертвым предмет любви своей
[343].
Либаний
МОНОДИЯ ХРАМУ АПОЛЛОНА В ДАФНЕ
О мужи, чьи глаза, как и мои, заволоклись туманом, — ни красивым, ни великим не назовем мы более этот город
[344] <...>
[345]
Когда царь персов
[346] — предок того, кто воюет ныне
[347], — взяв город изменою и сжегши его
[348], двинулся на Дафну
[349] с тем же намерением, бог переменил его образ мыслей, и тот, бросив факел, поклонился Аполлону
[350]. Так, явившись, бог его смягчил и примирил <...> Тот, кто привел на нас войско, счел для себя лучшим сохранить храм, и красота статуи
[351] победила варварский гнев. А ныне, о Солнце и Земля, кто и откуда этот враг, который, не имея нужды ни в гоплитах, ни во всадниках, ни в легковооруженных воинах, всё истребил малой искрой
[352] <...> Храм наш даже тот великий потоп не разрушил, а при ясной погоде, когда прошла уже туча, он низвергнут
[353] <...> Позднее, в то время как твои алтари жаждали крови, ты, Аполлон, оставался верным стражем Дафны, даже когда тобою пренебрегали. А где-то, будучи и оскорбляем, и лишаем наружного украшения, ты это терпел
[354]. Ныне же, после множества мелкого скота, множества быков
[355], приняв государев поцелуй в ногу
[356], узрев того, кого ты предвещал, после того как возвещенный тобою узрел тебя
[357], после того как ты избавлен от негодного соседства некоего мертвеца докучавшего тебе своею близостью
[358], ты отдалился во время наивысшего твоего почитания! Чем же еще нам гордиться пред людьми, помнящими твои храмы и статуи?
Какого, о Зевс, лишены мы отдохновения для утомленной души! Сколь чистое от тревог место Дафна, еще чище храм — как бы гавань при гавани, устроенная самою природою; обе они защищены от волн, но вторая дарует больше покоя. Кто бы там не избавился от недуга, не стряхнул с себя страха, кто не забыл бы горе? Кто пожелал бы Островов блаженных? <...>
Недалеко Олимпии
[359], и праздник соберет города. А те явятся, ведя быков в жертву Аполлону. Что будем делать? Куда погрузимся? Кто из богов разверзнет под нами землю? Какой вестник, какая труба не вызовет слёзы? Кто назовет Олимпии праздником, когда недавнее разрушение исторгает из груди рыдание? «Подай мне лук из рога»
[360], — говорит трагедия. А я говорю: и немного прозрения, дабы мне с помощью одного уличить, а с помощью другого выстрелить в того, кто это содеял! О, нечестивая дерзость! О, скверная душа! О, наглая рука! Это какой-то новый Титий
[361] или Идас, брат Линкея
[362], — не великан, как тот, и не стрелок, как этот, а знающий только одно — безумствовать против всевышних. Сыновей Алоэя, в то время как они еще строили козни против богов, ты, Аполлон, остановил смертью
[363]. А этого, издали несшего огонь
[364], не встретила стрела, летящая в самое сердце?!
О, десница Тельхина
[365], о, преступный огонь! Куда же он упал в первую очередь? Каково было начало бедствия? С крыши ли перешел он на прочее — на эту голову, лик, чашу, кифару, хитон, спускавшийся до пят? И Гефест, распорядитель огня, не пригрозил всеистребляющему пламени, хотя должен был воздать благодарность богу за древнее извещение!
[366] И даже Зевс, властвующий над дождями, не послал воды на пламя, хотя некогда он погасил костер для несчастного лидийского царя!
[367] Что же сказал себе предпринявший эту войну? Откуда сия дерзость? Как сохранилось в нем сие побуждение? Как не оставил он своего намерения, посрамленный красотою бога?
Душу мою, о мужи, влечет к себе изображение бога, и перед моим мысленным взором предстает его образ — кроткий лик, нежная шея, переданная в камне, пояс под грудью, стягивающий золотой хитон, так что часть его подобрана, а часть вздымается. Чьего бы кипучего гнева не унял его облик?! Ведь он был подобен певцу, исполняющему песнь. И кое-кто, говорят, иногда даже слышал, как в полдень играл он на кифаре. О, счастливые уши! Песнь же эта была хвалою Земле. Ей, мне кажется, он и делал возлияние из золотой чаши за то, что та скрыла деву, разверзшись и снова сомкнувшись
[368]. <...>
[369]
Возопил путник на восходе солнца, заметалась милая обитательница Дафны — жрица бога, ударяя себя в грудь, и ее пронзительный вопль, пронесшись по обильному деревьями месту, достиг города, страшный и приводящий в трепет. Правителя
[370], недавно вкусившего сон, поднял он с ложа своим горьким словом, и тот помчался как безумный. Не обладая крыльями Гермеса, он сам приступил к разысканию причины беды, пылая изнутри не меньше, чем храм
[371]. А балки падали вниз, охваченные огнем, уничтожая всё, чего касались, — сначала Аполлона, ибо он находился на небольшом расстоянии от крыши, затем остальные красоты: изваяния обитавших там Муз, сверканье камня, прелесть колонн
[372]. А толпа людей стояла кругом, рыдая, не в силах помочь, как бывает с теми, кто с суши наблюдает за кораблекрушением, вся помощь которых в том, чтобы оплакать происходящее. Великий, должно быть, плач подняли вышедшие из источников Нимфы и восседавший где-то поблизости Зевс
[373] — плач, каковой надлежало поднять при уничтожении почестей его сыну; великий плач поднял сонм бесчисленных божеств, населяющих рощу, и не меньший — Каллиопа посреди города
[374], когда огонь творил обиду предводителю хора Муз. <...>
Стань же ныне, о Аполлон, таким, каким тебя сделал Хрис, проклиная ахейцев, — исполненным гнева и подобным ночи
[375], ибо, пока мы возвращали тебе жертвы и возмещали то, что было у тебя отнято, у нас похитили самый предмет почитания — словно жениха, умершего в ту пору, когда уже сплетались ему свадебные венки!
Либаний
МОНОДИЯ ЮЛИАНУ
Увы, великая скорбь постигла не только ахейскую землю
[376], но всю страну, где властвует римский закон. А ту, которую населяют греки
[377], — пожалуй, особенно, ибо она сильнее переживает сие несчастье. Однако же и всю землю, как я сказал, охватило горе, поражающее и терзающее души, так что не стало теперь никакого житья ни для наичестнейшего мужа, ни для всякого стремящегося к благочестивой жизни. Почести людям достойным ниспровергнуты, сообщества же людей порочных и разнузданных распространились повсюду. Законы — преграда для злодейств — одни упразднены, другие вот-вот прекратят свое существование, третьим, хотя они и не уничтожены, остается быть лишь буквою, лишенною действенной силы. С человеческим родом произошло нечто подобное тому, что бывает с городами, стены которых сокрушены. Ибо тогда, с разрушением ограды, имущество законных собственников становится достоянием тех, на чьей стороне сила: напав, они грабят, убивают, бесчестят схваченных женщин и детей
[378]. Вот и ныне для тех, кто творит беззакония против людей добропорядочных, открыта широкая дорога, отверсты широкие врата
[379], и ничто больше не защищено стенами. Так, Гектора из Трои кто-то уже назвал «незыблемым столпом»
[380], и назвал правильно. Ибо после его гибели Илион действительно стоял на зыбком основании, и городу суждено было пасть тотчас вместе с Гектором. Ныне же опрокинут столп не одного города вблизи Геллеспонта
[381] и не одного племени
[382], но вся держава потомков Энея
[383] — а это лучшая часть земли и моря — зиждется отнюдь не на твердой почве. И довольно не слишком сильных порывов ветра, чтобы ее сокрушить, ибо изнутри ее разрушает безнравственность, а извне теснит и захватывает вооруженный враг.
Кого же, кого из богов нужно в этом винить? Или же всех их в равной степени — за то, что перестали они нести охрану, каковую подобало им предоставить главе рода за бесчисленные жертвы, многократные молитвы, нескончаемые благовония, обилие жертвенной крови, лившейся и ночью и днем?
[384] Ведь не угощал он одних, обходя вниманием других, как поступил тот этолиец по отношению к Артемиде при сборе урожая
[385], но скольких ни упоминают поэты в своих преданиях — отцов и детей, богов и богинь, властвующих и подвластных — всем он совершал возлияния, алтари всех наполнял ягнятами и быками. Поэтому мне не раз приходило на ум, что этому мужу, пожалуй, и вовсе не понадобится ни быстроты коней, ни искусства лучников, ни силы гоплитов, ни ста тысяч воинов, но что, окруженный богами — малым войском великой силы, представ перед взором врагов, он убедит их разоружиться
[386]. Я уповал на то, что и гром, и молнии, и всяческие стрелы богов низвергнутся на персов, а боги вот какую выказали «справедливость»: насладившись обильным чадом
[387], посулив блестящий успех и не проявив поначалу зависти, они кончили тем, что и всему прочему воспрепятствовали, и, кроме того, его самого у нас отняли, уподобившись рыбакам с их приманкою, и с помощью побежденных ассирийцев
[388] завлекли его на погибель.
Значит, победил подвергавшийся доселе осмеянию образ мыслей
[389], каковой, вызвав у нас продолжительную, ожесточенную и непрерывную войну, погасил священный огонь, унял радость жертвоприношений, позволил попирать ногами и опрокидывать алтари, одни святилища и храмы запер, другие — срыл до основания, а в третьих, лишив их святости, разрешил селиться распутникам
[390] и, нарушив весь жизненный распорядок, оставил вам в наследство гробницу какого-то мертвеца
[391].
И всё же сей Салмоней или Ликург и Мелитид в придачу
[392] — ведь и ума у него не было ни капли, и был он ничуть не лучше изображений на картинах или глиняных изваяний
[393] — сорок лет продержал в своей власти землю, которую позорил, пока не умер наконец от болезни
[394]. А этот муж
[395], возобновивший священные обычаи и наладивший всюду полный порядок взамен беспорядка, выстроивший ваши дома, установивший алтари, собравший жреческие роды, таившиеся в тени, восстановивший остатки статуй, принесший в жертву богам целые стада скота, одни — снаружи, другие — внутри храмов, одни — ночью, другие — при свете дня, вверивший свою жизнь в ваши руки, на короткое время облеченный меньшей властью, а на еще более короткое — большей
[396], умер, дав вселенной вкусить благ, но не имея сил ее насытить.
С нами же произошло нечто подобное тому, как если бы птице Фениксу предстояло пролететь надо всею землей, нигде не останавливаясь — ни в деревнях, ни в городах
[397]. Ведь в этом случае люди разглядели бы птицу плохо. Так и ныне, благополучие, им дарованное, ускользнуло от нас, словно на крыльях, не успев утвердиться, в то время как зло, полагаю, отвоевало себе первенство. Поэтому гораздо легче было бы оставаться в худших условиях, не ведая царского порядка, нежели, переменив жизнь к лучшему, снова возвратиться в прежнее состояние, подобно кораблю, вынесенному течением из лишенных гаваней мест, но неблагоприятным ветром вновь отнесенному к скалам, чтобы о них разбиться.
А что бедствия вернулись не некоторое время спустя, но что благая судьба, словно бы заглянув на минуту, тотчас поспешно удалилась, — как это горько, о Геракл, и каких жестоких божеств это дело! Сей луг, едва зацветши, вдруг осыпался
[398]. И я еще называл новорожденных блаженными за то, что они явились на свет, будучи зачаты в это время, а стариков жалел за то, что те прожили свою жизнь в грязи и потеряли столько лет вдали от благ — не считая того времени в старости, каковое им еще осталось прыгать да плясать вплоть до своей кончины! Несчастное же новое поколение еще не ведало, что его ждет трясина и грозящая болезнями земля.
О, счастливые вести, кои молва доносила с запада, радуя города, возвещая о битвах, трофеях, плавании по Рейну, избиении кельтов, захвате пленников, возвращении плененных прежде римлян, дани от врагов, восстановлении поверженных городов, подвигах и доблести некоего божества!
[399] О, вторая, еще более дивная весть — о том пути через границы, о незаметном быстром передвижении, о шести гоплитах, наводящих ужас на двадцать тысяч, обо всех, вооружившихся против него, и о войне, улаженной без боя
[400]. О, возвещаемое на словах, о, доказываемое на деле! У Босфора государь уязвил своим сочинением человека
[401], по невежеству своему утверждавшего, что он подражает Диогену из Синопы
[402], не являя при этом собой ничего, кроме бесстыдства. Государь же написал послание непревзойденной красоты, и мы, обступивши со всех сторон, читали его.
И вот он отправляется к Матери богов во Фригию
[403]. Затем, услышав от нее там нечто
[404], спешит в путь. Потом из Киликии идет медленно, и это — по воле Зевса. Прибывает в великий город Антиоха или, если угодно, любезного ему Александра
[405], не позволявшего ему лениться, подобно тому как один афинский полководец — другому афинскому полководцу
[406]. Здесь он проводит бессчетное количество судебных заседаний, издает множество законов, пишет книги в защиту богов
[407], посещает храмовые святыни: одни — в городе, другие — на холмах перед городом, третьи — на высоких горах. Не было пути настолько трудного и неодолимого, каковой не показался бы ему ровным, если в конце его находился ныне существующий или некогда существовавший храм. Жители же тех мест вплоть до границ Египта и Ливии, узнав, сколь ревностно государь исполняет священные обряды, редко оставались по домам, но проводили всё время в храмах.
Не нужно было тебе тогда, о бесценнейший, отклонять персидское посольство, просившее мира и готовое согласиться на любые условия, какие бы ты ни выдвинул
[408]. Но тебя принудили к обратному страдания страны, находящейся вблизи Тигра, которая была разделена на части, опустошена и много раз подвергалась вторжениям
[409], при каждом из которых вывозились оттуда
[410] ее богатства. Ибо ты считал, что будет своего рода изменою, стремясь к покою, не отплатить врагам. Но глядите — божество сему воспротивилось! Вернее, ты подверг их каре, далеко превзошедшей их преступления. Ассирийская земля, прекраснейшее из всех владений персов, изобиловала тенистыми и высокими финиковыми пальмами и другими деревьями разнообразных пород, сохраняя золото и серебро ассирийцев, ибо была защищена наилучшим образом. Понастроены там были великолепные царские дворцы; кабаны, лани и другая добыча охотников стереглись в огороженных местах; крепости, не доступные для врагов, вздымались высоко вверх, села походили на города, и в остальном сия земля в высшей степени процветала. Напав на персов, государь наводнил их страну солдатами и, со смехом отдав на разграбление, так опустошил
[411], что тем оставалось только искать себе иного отечества, ведь даже целое поколение людей не смогло бы восстановить разрушенное. И невероятный подъем на крутой берег, и ночное сражение, уничтожившее великое множество персов
[412], и страх, сковавший их члены, и то, как издали робко взирали они на опустошение земли своей, — вот возмездие, каковому он их подверг.
Возврати же нам, о наивысший из богов, соименного тебе
[413], который, многократно призывал тебя в начале того года! Год сотоварища его
[414], хотя и старика, ты завершил
[415], а государь сошел в могилу среди года! И он лежал в могиле, а мы в это время ублажали Нимф в Дафне
[416], пляскою и прочими способами выражая свою благодарность, не ведая ничего о постигшем нас горе. Кто же выковал то копье, коему предстояло явить такую силу?
[417] Какое божество наслало на государя дерзкого всадника? Кто направил ему в бок это копье? Или сие сотворило не божество, а чрезмерное усердие самого государя, каковое его понуждало объезжать и воодушевлять войско, привыкшее к праздности и бездействию, по большей части не знавшее ран? Ибо он настолько пренебрегал своей безопасностью, что можно лишь удивляться, как это не вырвали его из рук врага ни Афродита, ни Афина! А между тем это было бы подобно той помощи, кою явили они в давние времена, когда одна спасла Менелая, а другая — Париса
[418], человека, содеявшего несправедливость и поделом притесняемого. Какою была тогда речь на небе? Кто поднялся в качестве обвинителя Ареса, как некогда — Посейдон
[419], когда государя, раненного, уносили на щите еле дышащим, когда войско изнемогало от рыданий, когда оружие выскальзывало из рук воинов, как в Сицилийском проливе вёсла — у товарищей Одиссея?
[420]
Подняли тогда плач Музы
[421], подняли они его в Беотии, во Фракии и в милых им горах, охвативший, я думаю, всю землю, море и воздух, — плач о том, каковое беззаконие свершилось, и обо всём прочем, ибо алтари их лишились своей трапезы. Оплакиваем его и мы в своих сообществах: философы — того, кто вместе с ними исследовал Платона
[422], риторы — того, кто был искусен в собственных речах и в умении судить о речах других, а те, кто враждовал друг с другом и ждал справедливого приговора, — лучшего судью, чем Радамант
[423].
О злосчастные земледельцы, ибо вы станете жертвою тех, коих назначают для взимания податей! О слабеющее могущество городских советов, каковое скоро превратится в призрак! О правители городов, от связанных с вашим титулом дел не останется и следа
[424], как это бывает во время процессий
[425], и власть окажется в подчинении у ваших подданных! О вопли обижаемых бедняков, вы тщетно будете разноситься по воздуху! О, отряды воинов, кои лишились царя, делившего с ними хлеб во время походов! О, попираемые законы, каковые по справедливости могли бы считаться Аполлоновыми!
[426] О, речи царя, обретшие столь великую силу и мощь
[427], а ныне ее потерявшие! О, руки писцов, побежденные изысканностью его речи! О, гибель всей вселенной!
[428]
Это какой-то второй потоп среди лета
[429] или пожар, каковой, как гласит предание, занялся во время езды Фаэтона!
[430] Вернее, нынешнее бедствие гораздо печальнее. Ведь то грозило опустошить землю, а это привело к тому, что лучший страдает от худшего, и города, как обильная трава для скота, являются пищей для зла, коей оно может питаться, пока не насытится. Ведь как для человека, имеющего дурной нрав и полного низких страстей, лучше умереть, чем жить, если худшая часть его души властвует над лучшей, так и для земли было бы полезнее скрыться под водой из-за непрерывных дождей, чем быть заселенной городами и питать человеческий род, где порок в почете, а добродетель подвергается бесчестию.
Вздохните спокойно, кельты! Пляшите, скифы! Исполните пеан
[431], сарматы! Ярмо ваше сокрушено и выи ваши свободны!
[432] Вот что означал храм Аполлона, истребляемый огнем
[433], — бог покинул землю, коей предстояло подвергнуться осквернению! Вот что значили землетрясения, поколебавшие всю землю
[434], — вестники грядущей смуты и разорения!
Ты, о наилучший из государей, свершая великое, ожидал от меня похвал и речей, посвященных твоим деяниям, а я изощрял ум, дабы в своем слове не отстать от этих подвигов
[435], словно какой-нибудь борец, усердно тренирующий тело при вести о том, что явится сильный соперник
[436]. Итак, я говорю и буду говорить и не обойду неправедным молчанием его подвиги, и другие услышат мои песни, но сам он, одержавший многочисленные победы, лежит в могиле, лишив вселенную ее прекрасных и благородных надежд. Погиб Агамемнон, но тот был всего лишь царем Микен; погиб и Кресфонт, но тот властвовал над одной Мессенией; и Кодр, но тот повиновался оракулу; и Аякс, но тот был малодушным военачальником; и Ахилл, но тот поддался любовной страсти и гневу и вообще был мятежным; и Кир, но тот имел двоих сыновей; и Камбис, но того охватило безумие. Умер и Александр — однако не от руки врага и дав при этом повод для упреков других людей
[437]. А тот, власть которого простиралась от запада до востока, кто обладал душою, преисполненной добродетели, кто был молод и не был ничьим отцом, повержен каким-то ахеменидом!
[438] Услыхав об этом, я воззрел на небо, ожидая росы, смешанной с кровью, какую ниспослал Зевс на Сарпедона
[439], — но не увидел ничего! Хотя, возможно, он ниспослал ее на мертвое тело, но в ходе сражения, в пыли и крови от резни, большинством воинов она осталась не замеченной.
О храмы, святилища и статуи, выносимые из царских дворцов! Он воздвиг вас, дабы вы, находясь рядом, свидетельствовали о его деяниях, а те с позором вас низвергли, говоря при этом, что освобождают место. О тот, кто многих заставил оплакивать себя и кто внимал плачу не «день», согласно стиху поэмы
[440], но и поныне, и впредь оставляет людей во власти горя — «воды доколе текут и пышно древа расцветают»!
[441] Кто-то, возвестивший о твоей кончине, уже был засыпан камнями на месте
[442], как будто он сам был твоим убийцей или же возвестил нечто невозможное — как если бы он сказал, что умер один из богов. Случалось иному проходить без слез мимо могилы сына, но кто бы ни обратил взор к твоему изображению, тотчас проливает потоки слез, одни — называя тебя сыном, другие — отцом, все же вместе — своим спасителем.
О, сиротство, каковое овладело землею — тою, что ты излечил от недуга, словно искусный врач, а затем снова отдал во власть лихорадки и прежних болезней! О, несчастные мои седины, о двойная скорбь — с прочими оплакивать царя, а самому — товарища и друга! Ты торопился мне помочь, давая права наследства моему побочному сыну
[443], а я сдерживал твое рвение в надежде, что сам умру раньше, а ты поможешь ему в этом деле. Мойрами же было предопределено иначе: я сочинял речь — снадобье для примирения твоего с городом
[444], а ты умирал, и снадобье это осталось без применения. Да и вообще я стал вялым в сочинительстве речей, подобно тому как чрево матерей становится бесплодным от великих страданий. Лишась рассудка, я не без труда снова пришел в сознание
[445]. А лучше было бы лежать безразличным ко всему, в полном неведении, вместо печали пребывая в безумии, раз никто из божеств уже не превращает горюющего человека в камень, в дерево, в птицу
[446].
Либаний
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ЮЛИАНУ
Следовало бы, о слушатели, ныне свершиться тому, что являлось предметом моих и всеобщих упований, — чтобы Персидская держава сокрушилась, чтобы земля персов находилась под властью римских правителей, а не сатрапов, и управлялась бы в соответствии с законами, чтобы храмы наши украсились добычей, привезенной из тех мест, и чтобы победитель, восседающий на царском троне, принимал поздравления со своей победой. Вот что, полагаю я, было бы и справедливым, и подобающим, и достойным того обилия жертв, которое он принес
[447]. Но поскольку завистливое божество
[448] оказалось сильнее благих упований и мертвым был принесен от Вавилона
[449] тот, кому немного оставалось до окончания свершений его, и поскольку, хотя много слез о нем было пролито, однако воспротивиться сей кончине мы не в силах, приступим же к единственному, что нам остается, а для него будет наилучшим, и скажем несколько слов о его подвигах в присутствии других слушателей, раз уж самому ему не суждено внимать похвале собственным деяниям! Ибо, во-первых, мы поступили бы несправедливо, если бы лишили его заслуженной награды, в то время как он на всё дерзал, дабы удостоиться похвалы; а во-вторых, было бы великим позором не воздать умершему той чести, каковую мы оказали бы ему при жизни. Ведь сие есть проявление крайней льстивости, когда угождают человеку, пока он жив, а умершего оставляют в забвении, ведь живым можно доставить удовольствие если не словом, то многими иными способами, в отношении же умерших нам остается только одно — славословия и речи, на вечные времена сохраняющие для потомства их доблестные деяния.
Что до меня, то, не раз собираясь произнести похвальное слово этому мужу
[450], я всегда находил, что речи мои слабы в сравнении с его подвигами, однако никогда, клянусь богами, не досадовал я на то, что доблесть государя, бывшего моим другом, превосходит искусство софиста, столь сильно к нему привязанного. Ибо я полагал, что сие на пользу всем гражданам — если тот, кто принял власть ради спасения своей державы, не оставил никому возможности сравняться речью с его великими свершениями. Но я, кто даже подвиги его у берегов Океана
[451] не был в силах восславить достойно, — в каком положении оказался бы я ныне, будучи вынужден в одной речи рассказать и о них, и о походе его против персов? Право, если бы сей муж милостью подземных богов вновь обрел бы жизнь, дабы содействовать мне в сочинении таковой речи, и тайно от всех остальных стал бы моим помощником в этом усердном труде, то и тогда, я полагаю, речь моя не была бы вполне соизмерима с его деяниями, и хотя была бы гораздо лучше, чем теперь, но всё равно не обладала бы тем величием, каким подобает. Так на что же мне уповать, принимаясь за столь серьезное дело даже и без этакой помощи?! Если бы прежде не замечал я того, что вы, прекрасно сознавая, сколь намного дела превосходят слова, всё же восхищаетесь моими речами, то не в укор было бы мне мое молчание. Но поскольку вы и тогда хвалили их и неизменно выказывали мне свое одобрение, то я, не находя достаточного оправдания для своего молчания, попытаюсь всё же воздать долг государю и моему другу.
Немало было у нас правителей, душой благородных, но родом незнатных, способных оберегать свою державу, но стыдившихся говорить о своем происхождении, так что ораторам, их восхваляющим, предстояла нелегкая задача — исцелять их от этой раны. Но сей муж не обладает ничем из того, что препятствовало бы похвале. Первым делом скажу я о его происхождении. Дед его был государем
[452], который менее всего стремился к обогащению и тем заслужил величайшую любовь своих подданных. Отец же его, государев сын и брат
[453], имевший больше прав на власть, чем тот, кому она досталась
[454], невзирая на то, пребывал в спокойствии, одобрял нового правителя и до конца своих дней жил с ним в дружбе и согласии. Женившись на дочери наместника
[455], человека дельного и благоразумного, к каковому даже победивший недруг его проникся уважением
[456] и увещевал своих сановников управлять, беря с него пример, он производит на свет этого благороднейшего мужа и оказывает честь тестю, назвав его именем своего сына. И вот, Константин умер от недуга, а чуть не весь род его — и отцов, и детей в равной мере — сразил меч
[457]. Однако сей муж и единородный старший брат его избегли великого избиения, причем одного из них спас недуг, представлявшийся достаточно опасным, дабы завершиться смертоубийством
[458], а другого — его возраст, ибо он лишь недавно был отлучен от груди
[459]. Старший проявлял больше интереса к иным занятиям, нежели к красноречию, полагая, что так он менее всего вызовет зависть, в младшем же божество, к нему благоволившее, пробудило любовь к речам, и он — внук государя, племянник государя и двоюродный брат государя — упражнялся в них в городе, величайшем после Рима
[460], посещая там школу и держась при этом скромно, ничем не выражая недовольства и не желая привлекать к себе внимания толпою прислужников и шумною свитой. А был при нем только евнух — надежнейший страж целомудрия — да еще один воспитатель, не чуждый учености
[461]. Одежда его была проста, в обращении с другими он не обнаруживал надменности, но первым вступал в беседу, не презирал бедняков, являлся на приглашения, а придя, ожидал, пока его не позовут, стоя там же, где полагалось стоять и остальным, слушал то же, что и остальные, и уходил вместе с ними, ни в чем не требуя к себе особого отношения, так что посторонний, оглядев толпу учеников и не зная, кто они и чьими детьми являются, нипочем не догадался бы о его высоком звании.
Однако не во всём он был им ровней: своей сметливостью, способностью воспринимать и удерживать в памяти сказанное и неутомимостью в труде он далеко опережал прочих. Видя это, я печалился, что не мне довелось заронить семена в столь даровитую душу. Ведь юноша находился в обучении у одного негодного софиста
[462], каковому он достался в качестве награды за то, что тот поносил богов, причем подобные же взгляды софист внушал и своему питомцу, вынужденному терпеть низменное красноречие своего учителя только из-за того, что он воевал с алтарями. Между тем юноша приближался к поре мужания, и царственная натура его уже угадывалась по множеству приметных черт. Это не давало Констанцию спать спокойно, и вот властитель, убоявшись, как бы этот великий город, равный своим могуществом Риму, не был очарован достоинствами юноши и как бы не вышло из этого чего-нибудь для него неприятного, посылает юношу в город Никомеда
[463], каковой не внушал подобных опасений, но давал столь же хорошие возможности для обучения. К этому времени там уже преподавал и я, предпочитая этот город, суливший мне покой, другому, изобиловавшему всяческими опасностями
[464]. Однако Юлиан школу мою не посещал, хотя по-прежнему проявлял интерес к моим сочинениям, доставая их за деньги.
Причина, по которой моими речами он восхищался, а автора их избегал, была такова: тот распрекрасный софист обязал его поклясться многими и великими клятвами, что он не будет зваться моим учеником и посещать мою школу. Юлиан же, хотя и досадовал на того, кто связал его этакими клятвами, обещания своего не нарушил, но, жаждя приобщиться к моему искусству, нашел способ и клятв не преступить, и к речам моим приблизиться, наняв за большую плату того, кто ежедневно приносил ему записи моих уроков
[465]. И в таковых обстоятельствах с особенною силой проявилась его природная одаренность. Ведь, не посещая вовсе моих занятий, он преуспел в подражании мне
[466] гораздо больше, нежели те, кто слушал меня всё это время, и, продвигаясь вперед впотьмах, опередил в обилии плодов учения тех, кто шествовал по ярко освещенному пути. Вот почему, полагаю я, есть в его речах, сочиненных позднее, что-то и от
моего искусства, как будто он был одним из моих учеников.
В то время как усердие последнего было направлено в эту сторону, брату его выпало разделить высокое звание с властителем, заняв при нем второе место
[467]. Произошло это так. Когда Констанций вступил в двойную войну — сначала с персами, а затем с самозванцем
[468], ему, конечно, понадобился соправитель, и Галл был призван из Италии охранять наши восточные земли
[469], и то звание, которое прежде имел его отец, ныне досталось ему — ведь он приходился властителю братом.
И вот, когда последний в сопровождении телохранителей шествовал через Вифинию, братья свиделись
[470], но настроений сего мужа счастливая судьба брата не изменила, и то обстоятельство, что тот стал цезарем, не сделало его нерадивым — напротив, прежнее его усердие в красноречии только возросло, и он с удвоенной силой отдался своему труду, полагая, что ежели суждено ему остаться простым гражданином, то словесное искусство, приобретенное им по божьей воле, заменит ему державную власть, а ежели судьба дарует ему скипетр, то своими речами украсит он царский трон.
Вот почему предавался он сим занятиям и днем, и ночью — и при сиянии солнца, и при свете лампады — и не умножал свое состояние, хотя без труда мог это сделать, а совершенствовал свою душу. Как-то, сблизившись с людьми, преисполненными Платоновой мудрости
[471], узнав от них о богах и о божествах, об истинных создателях и о блюстителях мира, о том, что такое душа, и откуда она берется, и куда исчезает, и что ведет ее к гибели, и что возвышает, и что тянет ее долу, и что возносит горе, и что для нее — оковы, и что — свобода, и как одного избежать, а другого достичь, — узнав всё это, он смыл чистою речью соленую горечь слуха
[472] и, отринув всё прежнее пустословие, украсил свою душу истиной, словно иной великий храм, прежде оскверненный, — статуями богов.
И стал он после этого душевного переворота иным, хотя и казался прежним, так как явиться в истинном своем виде не мог. Эзоп в этом случае сочинил бы басню, где не осел прикрывается львиной шкурой, а лев — шкурой осла
[473]. Однако он понимал, что хотя в знании — польза великая, зато казаться прежним — безопаснее
[474]. И так как повсюду шла о нем молва, то все почитатели Муз и прочих богов, кто по суше, а кто по морю, спешили увидеть его, узнать его, самим сказать и его послушать. Пришедшим же нелегко было от него оторваться, ибо сия Сирена притягивала к себе не только речами, но и душевным складом, располагавшим к дружбе. Его умение горячо любить пробуждало в других ответные чувства, так что, испытывая взаимную и искреннюю привязанность, и те, и другой с трудом расставались друг с другом.
Итак, накопив всевозможные познания, он являл их и в поэзии, и в риторике, и в философии, превосходно владея и греческим языком, и не в малой степени — другим
[475]. И хотя властитель проявлял заботу об обоих братьях, всякий благомыслящий человек возносил молитву о том, чтобы владыкою государства стал этот юноша, чтобы остановилась гибель вселенной и чтобы предстателем за всех недужных стал тот, кто умеет исцелять подобные недуги. Я бы не стал утверждать, что Юлиан осуждал эти чаяния, — не буду лгать, он и сам того желал, но не из стремления к роскоши, власти и порфире, а дабы собственными трудами вернуть народам всё то, чего они лишились, и прежде всего — благочестие. Ибо более всего ранило его сердце зрелище поверженных храмов, упраздненных священнодейств, перевернутых алтарей, отринутых жертвоприношений, подвергаемых гонениям жрецов и храмовых богатств, расхищенных бессовестными святотатцами
[476]. И если бы кто из богов его заверил, что всё это будет восстановлено другими, то он, я убежден, настойчиво уклонялся бы от власти, ибо стремился не к господству, а к благоденствию городов.
И вот, покуда в душах людей просвещенных зрело сие горячее желание — дабы земля обрела исцеление благодаря разуму этого мужа, Галл пал жертвой клеветы
[477]. И хотя нашел он письмо, свидетельствовавшее о преступном сговоре, и доносчики понесли от него заслуженное наказание
[478] — ведь не награждать же их победными венками за то, что он подвергся такому оскорблению, — однако было признано, что потерпевший сам заслуживает кары, и умер он безгласным, ибо меч упредил его оправдания
[479]. По этому делу тотчас привлекли и Юлиана и приставили к нему вооруженную охрану, глядевшую хмуро, говорившую грубо, своим обращением заставлявшую и темницу считать легким наказанием
[480]. Сюда добавлялось и то, что его не оставляли в одном каком-нибудь месте, а заставляли переезжать с одного места на другое
[481], затрудняя и без того бедственное его положение. И терпел он всё это, не имея за собой никакой вины — ни большой, ни малой. Да и в чем мог он быть повинен, живя от брата более чем в трехстах стадиях и посылая письма, и то не часто, в которых ограничивался лишь одними приветствиями? Потому и доносчика на него не находилось, а притесняли его, как я сказал, потому только, что оба брата имели одного отца. И опять-таки нельзя не подивиться тому, что ни хулою на умершего не польстил он самолюбию его убийцы, ни похвальною речью о брате не раздражил здравствующего самодержца, но одного оплакивал украдкой, а второму не давал желанного повода для убийства, ибо так умело сдерживал он язык свой, хотя притеснения, коим он подвергался, и не располагали к этому, что своим самообладанием заградил уста даже самым бесчестным людям. Однако и этого оказалось недостаточно для его спасения, так как не утихал беспричинный гнев властителя, но увидала юношу, терзаемого бурей, Ино, дочь Кадма
[482], супруга Констанция, и, проникшись к нему жалостью, смягчила гнев супруга своего
[483] и многими мольбами упросила послать сего ревнителя Эллады, а особенно Афин — зеницы ока эллинского, в излюбленную им землю.
Разве не свидетельствует о божественном происхождении его души то, что, став перед выбором места, не возжелал он ни садов, ни домов, ни дворцов, ни поместий на морских побережьях, ни всей той немалой роскоши, что была у него в Ионии
[484], но признал всё сие великолепие ничтожным в сравнении с городом самой Афины, породившим Платона и Демосфена и всяческую прочую премудрость?
[485] Итак, он явился туда, дабы приумножить свои познания и отдать себя в руки учителей, способных поведать ему нечто большее, нежели то, что он уже знал
[486]. Но, сведя с ними знакомство и дав себя испытать, он захватил их врасплох, скорее удивив собой, чем удивившись сам. И, прибыв в Афины в толпе юнцов, он был единственным, кто покидал город, научив иных большему, чем те научили его
[487]. Вот почему вокруг Юлиана всегда замечали целый рой юношей, стариков, философов, риторов. Более того, сами божества взирали на него с уверенностью, что сей муж восстановит отеческие обычаи. И речи, и застенчивость его вызывали равное восхищение: ни слова не произносил он, не залившись румянцем. Так что кротостью его наслаждались все, но доверия удостаивались лучшие из них и в первую очередь — наш соплеменник
[488], человек, пользовавшийся среди людей безупречной славой и своей добродетелью поборовший всякое злословие.
И в то время как юноша склонялся к тому, чтобы до конца дней своих остаться в Афинах, ибо это представлялось ему пределом счастья, обстоятельства вынудили властителя искать себе соправителя — с одной стороны, по причине разорения городов, расположенных вдоль Рейна, а с другой — из-за того, что посылаемые туда военачальники покушались на большее, нежели им было дозволено
[489]. Итак, он призывает на царство юношу, изучающего философию в Афинах и самою любовью к ней внушающего доверие тому, кто сам учинил больше всего несправедливостей. Ибо Констанций, хотя и был убийцей его отца и братьев
[490] — одних прежде, другого недавно, однако надеялся, что юноша останется ему верен и что нрав последнего оградит его от наветов. И надеялся не напрасно, тогда как юношу, напротив, никак нельзя было убедить в том, что оказанная ему честь не обернется для него злом, ибо пролитая кровь родных была тому прямым подтверждением. И вот, не будучи в силах сего избежать, он со слезами на глазах призвал богиню
[491] и, умоляя ее о защите, отправился в путь. Едва вступив во власть, он был отправлен властителем на дело, посильное разве что Гераклу
[492]. Ибо таковыми были обстоятельства, связанные с галлами, что живут у края Океана
[493].
Констанций, воюя с Магненцием, хотя и отнявшим чужие владения, но правившим в соответствии с законами
[494], решил пустить в ход все средства, лишь бы только до него добраться. И тут он открывает варварам доступ в римские пределы, в письмах своих дозволив им занять столько земли, сколько они смогут
[495]. Лишь только дано было сие дозволение, а все прежние договоренности этими письмами отменены, варвары в отсутствие какой бы то ни было преграды, ибо Магненций держал свои войска в Италии, хлынули потоком на нашу землю. И цветущие города сделались «добычей мисийцев»
[496], которые разоряли деревни, разрушали стены, увозили имущество, угоняли женщин и детей. За ними плелись, таща на спине свое же добро, те несчастные, что были обречены на рабство. А кто, обливаясь слезами, не в силах был выносить неволю и видеть бесчестие своих жен и дочерей, того убивали на месте. Завладев всем нашим достоянием, насильники принялись вспахивать землю: нашу — собственноручно, а свою — руками пленников.
Жители же тех городов, кои не были взяты варварами благодаря крепости их стен
[497], испытывали недостаток в земле и погибали от голода, питаясь чем придется, покуда число их не сократилось настолько, что сами эти города превратились в поля, и обезлюдевшей земли внутри городских стен стало хватать для посевов. Так что жители сами и быков запрягали, и плуг тянули, и семена бросали, и колосились у них посевы, и трудились жнецы и молотильщики — и всё это по сию сторону ворот, так что никто не назвал бы попавших в плен более несчастными, чем те, кто остался дома.
Такою ценою купив себе победу, властитель поначалу радовался и торжествовал, но когда супостат его потерпел поражение
[498] и собственное его предательство обнаружилось, а Рим чуть не кричал о том, что страна разорена врагами, Констанций, опасаясь за свою жизнь, не решился выдворить вон ликующие полчища варваров, но счел уместным послать на войну юношу, взятого на ратное дело прямо со школьной скамьи. Удивительнее же всего было то, что властитель в одно и то же время возносил молитвы богам и о торжестве его над врагами, и о поражении, первые — из желания вернуть себе землю, вторые — из зависти к Юлиану. А что послал он его туда, не менее уповая на его гибель, чем на победу
[499], обнаружилось тотчас же. Ибо хоть и было у него столько войска, сколько раньше причиталось троим правителям
[500], много было и гоплитов, и всадников, из коих самыми грозными, я полагаю, являлись те, что неуязвимы для оружия
[501], однако велел он, чтобы Юлиана сопровождали три сотни самых негодных гоплитов
[502] — мол, на месте тот найдет гарнизонные войска. Но последние привыкли к поражениям, и с давних пор не было у них иной заботы, кроме как отсиживаться в осаде. Тем не менее Юлиана сие ничуть не смутило и не испугало, но, впервые взявшись тогда за оружие и познав, что такое война, — причем предстояло ему вести оробевших воинов на всепобеждающего врага, — он носил свои доспехи так, словно издавна имел дело со щитом, а не с книгами, и действовал столь храбро, будто стоял во главе несметного числа Аяксов
[503]. Тому было две причины: первая — его мудрость и знание того, что мысль превосходит силу, вторая же — вера в то, что боги являются его союзниками в войне, ибо знал он, что и Геракл избег Стикса благосклонностью Афины
[504].
И первым явным знаком благоволения к нему богов стало то, что, двинувшись из Италии в средине зимы
[505], когда без крыши над головой недолго погибнуть от холода и снега, он всё время похода наслаждался теплыми солнечными днями, так что шедшие с ним солдаты называли стоявшее время года весною, и раньше врагов был побежден холод. Явилось и другое доказательство того, что судьба ему благоприятствовала. В то время как он проходил через первый городок той земли, которую завоевывал
[506], сложенный из ветвей венок, каких много вывешивается жителями для украшения городов на веревках, высоко протянутых от стен до колонн
[507], — один из таких венков, отвязавшись, опустился на голову цезаря и пришелся ему впору, и со всех сторон понеслись ликующие крики
[508]. Венок же, я полагаю, предвещал грядущие трофеи и то, что шествует он к победе.
И вот, если бы тот, кто послал его, разрешил ему тотчас взяться за дело и проявить свою сметливость, то и война сразу же приняла бы другой оборот. Но на самом деле Юлиан не распоряжался ничем, кроме собственной хламиды
[509], а всем заправляли военачальники, ибо такова была воля того, кто его туда послал, — чтобы они руководили, а он им подчинялся
[510]. Однако, памятуя об Одиссее и его долготерпении
[511], он всё это сносил, в то время как военачальники предпочитали прозябать в каком-то полусне. И если бы с прибытием цезаря всё оставалось по-прежнему, это укрепило бы положение противника. И вот, хотя Юлиану не давали ничего предпринимать, в тот момент, когда он обходил, обозревая, свой народ, — ибо только это ему и дозволялось, — имя и наружность цезаря возымели такое действие, что один из тех, кто долгое время просидел в осаде и успел уже исхудать, совершил вылазку и взял в плен варвара, пашущего у стены землю; затем второй пленил другого врага, третий — третьего, а небольшая кучка стариков, по старости своей не бравших в руки оружия, отразила ночной штурм многочисленного отряда молодых воинов
[512]. Последние, принеся с собой лестницы, уже приставили было их к пустым воротам, каковым способом им удалось захватить большую часть городов, но старики, заметив их, похватали вместо оружия что было под рукой и на дряхлых ногах своих поспешили к воротам с именем цезаря на устах. И старики, словно воины Миронида
[513], одержали победу над врагами — одних они убивали, другие же погибали сами, бросаясь с лестниц вниз. В другом месте вылазку против варваров совершили юноши, прежде к тому не привычные. И варвары обратились в бегство, а те в упоении крушили всё направо и налево, хотя и не видя рядом цезаря, но ободряясь его близостью. Жители же иных городов, которые уже готовились к переселению, изгнавши страх из своих душ, остались на прежнем месте.
Когда в походе на передние отряды нашего войска напали из чащи варвары, дело приняло столь счастливый оборот, что последние, рассчитывая нанести нам урон, в итоге были перебиты сами, а убившие их воины в доказательство своего подвига несли голову мертвеца, и за эту голову была им назначена награда, так что началось даже соревнование в рубке голов. Так, пробудив в людях жажду наживы, сей мудрейший муж очистил их души от робости, и стремление получить награду внушило им отвагу. Те же варвары, кои укрылись на островах, образуемых Рейном, стали добычей наших отрядов, добиравшихся туда кто вплавь, кто на судах
[514], а вражеский скот пошел на угощение городам. Цезарь же, увидав, что одному из двух крупнейших городов наших в ходе бесчисленных нападений нанесен большой урон, а другой после недавнего штурма опустошен и лежит в руинах
[515], первому протянул руку помощи для его восстановления и поставил в нем гарнизон, а второй, брошенный всеми на произвол судьбы, так что жители его принуждены были кормиться чем придется, ободрил надеждами на лучшее будущее. При виде всего этого царь одного многочисленного варварского племени явился к Юлиану с повинной, что, мол, вреда нанес немного и просит о мире, обещая быть его союзником, и цезарь заключил с ним договор
[516], на короткое время добившись от него смирения из страха того перед возмездием.
Этим и многими другими деяниями, объезжая страну, укрепил он свое положение, не имея еще свободы во всём поступать так, как ему заблагорассудится
[517].
Когда же был удален от него военачальник, который врагов боялся, а над жителями издевался
[518], и на смену ему явился муж и в остальном достойнейший, и в военном деле искушенный
[519], и когда устранено было большинство препятствий, вот тогда-то и пришло для цезаря время проявить себя в полную силу. Судите сами. Когда старший правитель отдал приказ войску переправиться через реку и двинуться на варваров — а младший уже давно о сем тосковал, как конь — о галопе, и досадовал на подневольную свою судьбу, — то, видя, что войско цезаря мало и что не под силу ему таковое дерзание, Констанций посылает вдвое большее войско — тридцать тысяч гоплитов, поставив над ним того, кто казался ему опытным военачальником
[520]. Оба эти войска должны были соединиться, но, когда уже немного оставалось им до встречи, старший
[521], опасаясь, что другой разделит с ним победу, и считая, что силы его достаточны, приказывает с войском Юлиана не соединяться, а переправляться через реку без него. Когда же солдаты стали наводить плавучий мост, варвары, порубив лес, пустили вниз по течению толстые бревна, которые, наталкиваясь на суда, одни из них оторвали друг от друга, другие порушили, а третьи потопили
[522].
Предприняв безуспешную попытку наступления, военачальник и его тридцать тысяч начали поспешно отступать, варвары же мало того, что не пострадали, так еще и решились на ответное действие и, переправившись через реку, принялись преследовать отступавших, а настигая их, убивать. С победными песнями варвары воротились обратно, и за одним делом у них последовало другое — а точнее, они перешли от угроз к действиям. А было это так. Пока те находились у себя в отечестве, цезарь, насколько это было возможно, начал с помощью войска снабжать города и крепости хлебом с возделанных варварами полей и восстанавливать разрушенные ими укрепления
[523]. Кроме того, он намеревался наладить быстрое сообщение с властителем, зимовавшим далеко от Рейна
[524], дабы от одного населенного пункта к другому передавать ему донесения, ибо раньше пустынность местности лишала Констанция возможности узнавать о кознях врагов. Когда варварам стало известно, что римляне собирают их урожай, они разгневались так, словно их лишали отеческого достояния, и, послав гонца, предъявили письма от властителя, в которых тот отдавал им землю
[525]. Они заявляли, что Юлиан-де поступает наперекор воле старшего и что ему следует либо признать и соблюдать написанное, либо, если он сего не пожелает, готовиться к сражению. Цезарь же, обвинив гонца в том, что он явился к нему в качестве соглядатая, — ибо не мог же варварский вождь решиться на подобную дерзость, — задержал прибывшего
[526], а сам, памятуя о тех увещевательных речах, кои, насколько он знал из сочинений историков, держали перед воинами древние военачальники, и хорошо понимая, что подобная речь, произнесенная накануне сражения
[527], поднимает боевой дух войска, обратился к последнему с таковой речью
[528]. Я рад бы добавить ее к моим словам, но поскольку обычай сего не дозволяет
[529], то скажу лишь, пожалуй, что «война им кровавая сладостней стала»
[530], нежели прежнее бездействие.
Цезарь решил, что оба крыла войска следует занять всадникам, центр — гоплитам, а лучшим воинам из тех и других — место рядом с ним, у правого крыла
[531]. Сие должно было остаться скрытым от врагов, но тому воспрепятствовала злонамеренность нескольких перебежчиков. Когда же варвары начали переправу, цезарь, хотя и была у него к тому возможность, не выказал желания ни помешать им, ни сразиться с ними, напав лишь на малую часть их войска, а выступил против варваров тогда, когда тех собралось уже тридцать тысяч
[532], но еще не подошли остальные, коих было во много раз больше, — ибо, как я слышал позднее, варвары предписали никому не оставаться дома из тех, кто способен был сражаться. Итак, оба обстоятельства в равной степени достойны восхищения: и то, что цезарь не ринулся навстречу первым отрядам варваров, и то, что он не стал сражаться со всеми двинувшимися против него полчищами. Ведь первое было бы делом ничтожным, второе же грозило величайшей опасностью, и одно выдавало бы человека малодушного, а второе — безрассудного. Вот почему он не препятствовал переправе варварского войска, намного превышавшего численностью его собственное, но остановил своим наступлением дальнейший приток вражеских сил. Между тем варвары, прознав обо всём заранее, построили храбрейших своих воинов напротив лучшей части римского войска, а на правом своем крыле поместили вспомогательный отряд, каковой спрятали за высоким берегом, густо поросшим камышом, — ибо местность та была болотистой
[533], — так что засевших там варваров не было видно. Однако не укрылись они от взоров римлян, стоявших с левого края, и едва те их заметили, как с боевым кличем ринулись преследовать врагов, прогнав их с места и приведя этим в беспорядок около половины варварского войска, ибо бегство передних рядов повлекло за собой бегство и остальных. Походила же сия битва на то, что произошло во время морского сражения коринфян с керкирянами
[534], поскольку каждая сторона в ней одновременно и побеждала, и терпела поражение. Ибо верх с обеих сторон одерживало левое крыло войска, так что римлян, находившихся на правом крыле вместе с цезарем, теснили варвары, то есть лучшие — лучших. Даже знаменосцы, кои более всех приучены были сохранять строй, и те не соблюли своего обычая. Но едва они подались назад, как цезарь, в своей речи к ним уподобившись сыну Теламонову, — а тот сказал, что с гибелью кораблей эллинам нет возврата
[535], — зычным голосом воскликнул, что в случае поражения города запрут перед ними ворота и не дадут им пропитания, а в заключение добавил, что, если они решатся бежать, то придется им сперва убить его, ибо, пока он жив, он этого не допустит
[536]. И при этом он указал им на римлян, находившихся на левом крыле войска, которые преследовали обратившихся в бегство варваров. Когда же те одно услыхали, а другое увидали, и словами цезаря были пристыжены, и бегством врагов обрадованы, то повернули назад и снова вступили в бой. И прекратилось сие позорище, и всякий принялся преследовать врага. Дело дошло до того, что даже охрана обоза, находившегося на вершине холма, возгорелась пылом битвы. Когда же римляне стали теснить врага и наступление их сделалось очевидным, варвары решили, что к тем прибыло подкрепление, и никто уже не думал сопротивляться.
Итак, равнина была устлана восемью тысячами мертвых тел
[537], Рейн запружен утопленниками из тех, кто не умел плавать, острова реки завалены трупами, а победители преследовали варваров, скрывающихся в лесах. Трупы же и доспехи, увлекаемые потоком реки, доносили весть об этом побоище до самых отдаленных варварских земель. Но важнее всего было то, что, устроив облаву на обитателей островов, наши воины захватили вместе с подданными и их царя
[538]. И вели они его, держа за руки и не разоблачив от доспехов, а тот был человеком весьма рослым и видным и своею фигурой и нарядом привлекавшим к себе всеобщие взоры
[539]. И вот, как только солнце, узревшее сию великую битву, зашло, цезарь, призвав этого варвара к ответу за его дерзость и слушая его полные достоинства речи, дивился. А когда благородную поначалу речь тот завершил смиренными мольбами
[540], испугавшись за свою жизнь и прося ее сохранить, цезарь едва не возненавидел его, однако не причинил ему ничего плохого и даже не заключил в оковы, уважая его недавнее могущество и думая о том, сколь многое переменилось за один день.
Какой из эллинских праздников сравнится с тем вечером после сражения, когда его участники пировали, похваляясь друг перед другом и считая, сколько врагов они сразили, когда одни смеялись, другие пели, а те, что из-за ран не могли принимать участие в угощении, находили для себя достаточно утешения в самих этих ранах? Да и во сне, должно быть, продолжали они вновь и вновь побеждать варваров, даже ночью наслаждаясь плодами дневных трудов своих. И хотя весьма поздно воздвигли они сей трофей над варварами
[541], но тем радостнее был для них этот нежданный успех. Так что же явилось тому причиной? Юлиан ли превратил жалких трусов в доблестных воинов, словно некий бог, вложив отвагу в их сердца?
[542] Но тогда что может быть прекраснее, чем обладать таковыми нечеловеческими способностями! Или же бездарность прежних военачальников разрушала свойственное этим людям от природы благородство? Но тогда что может быть похвальнее, чем заставить людей доблестных явить свою доблесть во всей ее полноте! Что за божество незримо облагородило их души?! И что может быть почетнее, нежели сражаться вместе со столь могущественными союзниками! Ведь и для афинян, я полагаю, намного почетнее было то, что они свершили свой легендарный подвиг у Марафона при помощи Геракла и Пана
[543], нежели если бы они содеяли это без помощи богов.
Иной военачальник после столь великой победы распустил бы войско, а сам, придя в город, усладил бы взоры конными ристаниями и театральными представлениями, дав отдых своим мыслям. Но не таков был цезарь. Для начала он подверг наказанию знаменосцев
[544], дабы те знали, как следует держаться в строю, однако жизни их не лишил, во имя победы даровав им пощаду
[545]. А того рослого человека, варварского царя, в качестве пленника и вестника собственных невзгод отослал к Констанцию
[546], полагая своей задачей трудиться, а подобные награды уступать властителю, как Ахилл уступил свою добычу Агамемнону
[547]. Констанций же и триумф справил, пустив перед собой этого варвара, и тщеславился, и кичился — и всё это за счет чужих опасностей
[548]. Ибо и еще одного варварского вождя, каковой вместе с первым переправился через Рейн, хотя и убеждал того не сражаться, испугавшись происходящего, Юлиан поймал и отдал в руки властителя, так что благодаря ему Констанций стал владыкою над обоими варварскими царями, из коих один сдался сам, а другой был взят в плен.
Но возвращаюсь к сказанному. С цезарем не случилось того, что часто бывает с другими военачальниками, в коих победы порождают беспечность и страсть к удовольствиям. Ибо, предав земле павших в бою, не дал он солдатам сложить оружие, как бы они того ни желали
[549], а, полагая, что, свершив сей подвиг, они помогли своему отечеству, но что доблестным мужам надлежит еще и отмстить за нанесенные варварами обиды, повел их во вражьи пределы, внушая своими речами, что им остается лишь самая малость — скорее даже забава, нежели труд, ибо варвары напоминают раненого зверя в ожидании следующего удара
[550]. И он не ошибся. Переправившись через Рейн, варвары, укрыв в лесах своих жен и детей, спасались бегством, а цезарь выжигал их деревни, вывозил из них всё, что те спрятали
[551], и леса не были ему в том помехой. И тотчас явились к нему послы от варваров с речами, полными смирения и соответствующими их нынешнему бедственному положению. А просили те остановить разорение их земли, не губить более ее жителей и впредь считать их своими друзьями. Цезарь, конечно, заключил с ними мир, но сроком на одну зиму
[552], когда и без перемирия, пожалуй, бывает у солдат отдых.
Итак, отдых Юлиан предоставил побежденным, сам же не пожелал сидеть сложа руки, но среди зимы осадил тысячу фрактов
[553] — а им равно в удовольствие и снег, и цветы, — грабивших отдельные деревни, посреди которых стояла заброшенная крепость. Заперев их в ней, он взял врагов измором и в оковах отослал к старшему правителю, что само по себе есть дело невероятное, так как у фрактов существует такой обычай — или победить, или погибнуть. И всё же они были взяты в плен
[554], подвергшись, я полагаю, тому же, что и спартанцы при Сфактерии
[555]. А властитель, получив варваров в дар и так их и именуя, присоединил тех к своим отрядам в уверенности, что они будут для последних словно сторожевые башни, ибо один фракт стоит многих воинов.
Таково первое из зимних его предприятий. Второе же было ничуть не хуже. Когда на страну неожиданно напало целое племя варваров
[556], он поспешил было им навстречу, чтобы совместно с гарнизонными войсками прогнать захватчиков, но воины, узнав о стремительном приближении цезаря, упредили его и сами изгнали врагов, потерявших немало убитыми. Так, цезарь в равной мере побеждал и своим присутствием, и одним только намерением. И это он совершал, отрываясь от книг, за коими просиживал даже тогда. Более того, отправляясь в военный поход, он и книги брал с собою. И в самом деле, в руках его всегда была либо книга, либо меч, ибо он полагал, что в учении для войны большая польза и что больше проку от государя, сильного разумением, нежели телом. Так, разве не является весьма полезным для всех остальных его решение, во-первых, поощрять усердие и сметливость хороших воинов почестями, коих он добивался для них у того, кто таковыми делами ведает, а во-вторых — оставлять за солдатами, расхищавшими имущество врагов, право владеть всем, что они захватят? И это последнее вполне согласуется с его обещанием платить золотом за отвагу всякому, кто принесет голову врага. Когда же по всей земле шла молва и о том, и о другом его решении, всякий усердный солдат становился его приверженцем. И не только солдаты, но и ценители литературы любили его не меньше, а кто обучался в Афинах и признавал за собою хоть каплю таланта, те отправлялись к нему, как некогда мудрецы — в Лидию к Крезу
[557]. Но Крез показывал Солону свои сокровища, ибо не было у него ничего дороже этого
[558], а цезарь раскрывал перед приходившими сокровища души своей и среди прочего — дар Муз, собственные сочинения, каковые он произносил перед гостями, желая доставить им удовольствие, и каковые по сей день можно еще купить и прочитать.
Так он ликовал в окружении спутников Гермеса и Зевса
[559]. Но, как только наступившее время года подало к тому знак, он тотчас двинулся в поход
[560] и, метая молнии близ реки
[561], навел на весь варварский род такой страх, что те молили его позволить им переселиться в его государство, считая приятнее для себя жить под его властью, нежели в родном краю, и просили у него земли, и получили ее. Так, против одних варваров он использовал других, полагавших, что лучше вместе с ним преследовать остальных, чем вместе с прочими убегать самим. И этого он достиг без единого сражения. Узнав же, что варвары снова переправляются через реку, цезарь в отсутствие переправы приказал, чтобы и кони, и гоплиты перебрались на другой берег вплавь, и двинулся с войском вперед, одно опустошая, другое отбирая, и никто ему в том не препятствовал
[562]. Стали несчастные молить о пощаде, да поздно — огонь уже полыхал. Цезарь же, решив, что пришло наконец время положить предел всем бедам Галлии, поначалу отправил посланцев обратно с позором, а когда те явились вновь и самих царей привели в качестве просителей, и скиптродержцы кланялись ему чуть не до земли
[563], он, припомнив варварам их частые бесчинства и многочисленные страдания, кои принесли они жителям, повелел им заплатить за мир, искоренив собственное зло, — восстанавливая города и возвращая пленных
[564]. Те согласились и не обманули, и начали привозить лес и железо для постройки домов и освобождать пленников, перед каковыми теперь заискивали, дабы они не злопамятствовали, хотя прежде сами их бичевали, а если кого из пленников не возвращали, то сообщали об их гибели, причем истинность сих слов подтверждали освободившиеся из плена. Некогда воины Кира, впервые увидевши море после нескончаемых гор и многих превратностей пути, издали крик радости и плакали от счастья, и обнимались, как товарищи по пережитым невзгодам
[565]. Так же было и с жителями этой земли, но не море увидавшими, а друг друга, ибо одни узрели близких, избежавших рабства, а другие вновь обрели и близких, и родину. Плакали, глядя на эти объятья, и все их соплеменники, но то были другие слезы — не те, кои прежде проливали они при разлуке, а каковые теперь текли из их глаз при встрече.
Так война вначале разбросала, а затем воссоединила галлов, в первом случае — из-за трусости военачальников, во втором — благодаря их храбрости. Вновь стали заполняться городские советы, росло население, умножались ремесла и доходы, выдавались замуж дочери, находили себе жен юноши, и люди, как прежде, пускались в путешествия, справляли праздники и всенародные торжества. Так что если бы кто назвал этого мужа основателем тех городов, то не ошибся бы. Ибо одни из них, подвергшиеся разрушению, он восстанавливал, население же других, почти опустевших, сохранил в целости, избавив его от страха вновь испытать те же ужасы. А с наступлением зимы никто из варваров уже не вышел на свои обычные грабежи, но, оставшись дома, питался собственными запасами — не столько из почтения к договору, сколько из страха перед войною, ибо даже те, что еще не были связаны клятвами, опасаясь грядущего, сидели тихо.
Чем же был занят цезарь в мирное время? А вот чем. Обратил он свои взоры к величайшему из островов, каковые только существуют под солнцем, — к тому, что находится посреди Океана
[566], и послал туда людей для надзора за казенными тратами, кои лишь на словах шли на солдат, а на деле составляли доход военачальников. И тех, кто вел себя недобросовестно, он призвал к порядку. Совершил он и другое деяние, гораздо более важное и спасительное для галлов. Было это так. В прежние времена хлеб с острова доставляли сначала по морю, а затем по Рейну. Однако с тех пор как варвары возымели силу, они тому препятствовали, и большинство судов за неимением надобности было вытащено на сушу и давно сгнило, а те немногие, что плавали, приходилось разгружать в гаванях, вместо реки используя для перевозки хлеба телеги, так что дело это было весьма разорительным. И вот, возобновив прежний способ доставки хлеба и рассудив, что отсутствие таковой является большим злом, цезарь вскоре построил больше судов, чем было раньше
[567], и сам наблюдал за тем, как хлеб доставлялся по реке.
Пока Юлиан не был занят этим делом, один подчиненный обвинил своего начальника в казнокрадстве, судьею же выступал Флоренций, наместник Галлии, — человек, привычный к лихоимству
[568]. Вот и на этот раз, приняв мзду, он из сочувствия к своему собрату обратил гнев свой на обвинителя. Однако несправедливость его не осталась незамеченной, и когда пошли на этот счет пересуды и недобрая молва достигла слуха наместника, он передал это дело на суд цезаря. Тот сначала уклонялся, ибо не было ему дано и этого права. Флоренций же поступал так не ради того, чтобы восторжествовала справедливость, а в надежде на то, что цезарь, даже уличив его в нечестии, признает его правоту. Но когда он увидал, что истина одержала верх над почтением к нему
[569], то оскорбился и, оклеветав в письмах к властителю сановника, с коим цезарь был весьма близок, — мол, тот дурно влияет на юношу, — добился его удаления, а тот был цезарю вместо отца
[570]. Тогда Юлиан в который раз почтил впавшего в немилость сановника речью
[571], которая еще хранила его печаль по поводу тогдашней разлуки, и в одно и то же время и друга оплакивал, и с властями должен был сообщаться.
И хотя он столько всего претерпел, душа его сохранила прежнее благородство. Не дозволил он, чтобы из-за пережитых им обид пострадало римское владычество, но дошел до самого побережья Океана и восстановил там город Гераклею — детище Геракла
[572]. Для этого он ввел свои суда в Рейн, варвары же, от коих ждали в том препятствий, хотя и задыхались от злобы, да помешать не могли. Таким образом, он шел в обход земель дружественных ему племен, дабы, наступая на врагов, не причинить ненароком какого ущерба своим союзникам
[573]. И суда плыли вдоль берега, а параллельно им двигалось вражеское войско, готовое противостоять римлянам, если те попытаются переправиться на ту сторону. Взгляните же на этого многоопытного военачальника, — ведь не было на свете таких трудностей, кои он с легкостью не преодолел бы! Так, продвигаясь вперед и осматривая противоположный берег, он заприметил одно подходящее для высадки место, каковое могло бы обеспечить безопасность захватившим его воинам
[574]. Тайком оставив несколько судов и небольшую часть войска в одном из заливов реки
[575], сам он отправился дальше, вынудив врагов идти тем же путем, а вечером, разбив лагерь, дал знак оставшимся в том месте воинам переплыть реку и захватить его. Те послушно им овладели, а остальные повернули назад и принялись строить переправу от своего берега к захваченной местности. Вообразив, что сей мост — не единственный и что им угрожает гораздо большая опасность, чем они думали, варвары стали одобрять тех, кто бежал под защиту мира, и явились к цезарю, дабы добиться того же и на тех же условиях, но он, предав их землю огню и разорению, заключил мир лишь тогда, когда удовлетворил свою жажду мести
[576]. И вновь за этим последовало освобождение пленных и среди всего прочего — слезы воссоединившихся, подобно тому, как это было в первый раз.
Когда же галлы и соседние с ними варвары поменялись местами, и к одним пришло процветание, а у других царил упадок, одни предавались веселью, а другие громко стенали, одни лишились той силы, коей мнили обладать всю жизнь, а другие вернули себе мощь, каковую уже не надеялись обрести, и когда все хором воздавали цезарю хвалу
[577] за то, что он добился сего не столько силой оружия, сколько силой своего ума, его настигла зависть человека, который был обязан ему своими победными венками
[578]. Ибо властитель вызвал и перевел к себе лучшую часть войска и всех тех, кто годился для службы
[579], а ветеранам и остальным, от кого не было никакой пользы и кто своим присутствием в войске лишь умножал его численность, позволил остаться. Предлогом для этого послужила война с персами
[580] и то, что в условиях мира с галлами в войске якобы нет надобности, — как будто вероломные варвары не способны были с легкостью попрать клятвы, а договор не должен подкрепляться силой оружия! Однако властителю, я полагаю, не требовалось для войны против персов такого большого войска, а достаточно было и части его, ибо, многократно собирая армию, он так ни разу и не вступил в сражение, предпочитая, как всегда, выжидать. На уме же у него было совсем другое. А желал он положить конец подвигам цезаря и его растущей славе, а точнее — истребить нынешнюю, сделав самого Юлиана и его малочисленных и дряхлых воинов легкой добычей молодых и крепких варваров. Он мечтал о том, чтобы повсюду разнеслась весть, противоположная нынешней, — а именно, что цезарь заперт и осажден, что враги его не знают удержу, что они вновь захватывают и срывают до основания города, пашут и засевают чужую землю. Констанций хорошо понимал, что, хотя Юлиан — и искусный военачальник, с ним произойдет подобное тому, что бывает с кормчим огромного корабля, лишившимся матросов. Ведь даже искусство опытного мореплавателя не заменит целой команды моряков. Вот как величайший из властителей завидовал покорителю варваров, коего сам же и наделил властью!
Итак, попав в западню и хорошо сознавая, что и послушание, и неповиновение в равной мере влекут за собою погибель, — ибо, лишившись войска, он предавал себя в руки противников, а оставив его при себе — в руки своих близких, — сей благородный человек предпочел лучше пострадать, проявляя покорность, нежели вызывая нарекание в неповиновении
[581], и посчитал удар, исходящий от врага, менее тяжелым, нежели тот, каковым грозил ему сородич. Таким образом, он предоставил льстецам старшего правителя делать то, что они пожелают. А те, начав с его личных телохранителей и тех, кому цезарь доверял более всего, перебирали всё войско до тех пор, пока не оставили ему воинов, способных разве что молиться.
И он это терпел — хотя и не без слез, но по собственной воле терпел. Когда же разбросанные тут и там воинские гарнизоны
стали сниматься с места, отовсюду к небу вознесся общий вопль бедняков, богачей, рабов, господ, мужчин, женщин, юношей и стариков: те считали, что враги чуть ли уже не вторглись, и ожидали того, что зло, с таким трудом искорененное, вот-вот расцветет снова. Более же всех голосили женщины, от которых у воинов родились дети: выставляя напоказ чад своих, особенно грудных младенцев, они потрясали ими, словно ветвями оливы
[582], и умоляли не предавать их. Услыхав об этом, цезарь советовал посланцам из Италии вывести солдат по другой дороге, подальше от того города, где находился его дворец и где он проводил время
[583], ибо он боялся, я полагаю, того, чтобы посланцы не поступили так, как, к счастью, они и поступили. Но когда те, не обратив внимания на его слова, ввели в город передовые отряды, за коими стало строиться остальное войско, вся толпа горожан начала молить воинов остаться и сохранить всё то, ради чего они положили столько сил, воины же жалели моливших и досадовали на предстоящий путь. Узнавши о том, цезарь, собрав своих солдат, как обычно, на возвышении за городскими воротами, произнес перед ними речь о том, что не должно обсуждать решение, принятое высшей властью
[584]. Молча выслушав его длинную речь и ничего не сказав в ответ, уже вечером, а вернее, около полуночи, они, вооружившись, окружили царский дворец и, громко выкрикивая имя цезаря, даровали ему высший титул и звание
[585]. И хотя он гневался на происходящее, но поделать ничего не мог
[586], кроме того, что запретил кому бы то ни было вторгаться во дворец. Однако с наступлением дня солдаты, взломав двери и обнажив мечи, увлекли его за собой на то же самое возвышение перед городом, и уже там продолжилась эта долгая борьба доводов разума с громкими возгласами, ибо один рассчитывал остановить воинов убеждением, а те надеялись одолеть его криком. И в то время как цезарь уклонялся от золотой диадемы
[587] и искал спасения в древнем обычае, некий человек, стоявший позади него, и ростом великий, и остальными достоинствами превосходный, возложил на его главу ожерелье, кое носил в знак своей высокой должности
[588].
Итак, уступив неизбежному и будучи не в силах сдержать пламенный порыв столь великого множества воинов, Юлиан прежде всего проявил сдержанность в отношении тех, кто дал ему эту высшую власть. Ибо вместо того, чтобы раздумывать, как их вознаградить, и задабривать великими дарами, он объявил, что его волю следует почитать законом. А распорядился он никого из противников содеянного не наказывать — ни меча на них не поднимать, ни взглядом не стращать, ни словом не укорять, но вести себя с противниками как с соучастниками свершившегося. Между тем, кто бы не поощрил нерадивость в тех, что исполняли это приказание?! Но не таков был цезарь. Не желал он осквернять царствование свое кровью и упреками в тирании, потому-то и приказал всем проявлять терпимость. И те, кто трепетал от страха, вновь повеселели, ободрились и обступили трон, благодаря цезаря за то, что он сохранил им жизнь. Однако за его благодеяние отплатили они не так, как подобает, и разве что не связали, как в пословице
[589], а захотели убить, возлагая надежды свои на евнуха, который охранял спальню государя. Когда же злодеяние было уже близко, некий воин по внушению Аполлона стал пророчествовать о грядущем и призывать на помощь толпу — народ сбежался, и заговор был раскрыт. А самое главное — даже этот пособник их не был казнен. Видя же, что сторонники Констанция злоумышляют у него за спиной, а иной раз и дерзают утверждать, что лучше бы воротить прежнюю власть, от нынешней же отложиться, государь, уповавший в этом деле на богов как на единственно верных советчиков, вопросил их и услыхал в ответ, что надлежит оставить всё, как есть. Тогда, заручившись поддержкой небес и всего войска, он разослал в города хороших начальников взамен дурных
[590], просвещенных — взамен невежественных и собрал войско из людей, доведенных нуждой до разбоя, — тех, кто некогда, поддержав Магненция в его опасных планах, потерпел неудачу и теперь бродил по дорогам, добывая себе пропитание неправедным путем. Призвав их в свое войско и обещая безопасность явившимся, государь таким образом отвратил последних от беззаконий, а путников избавил от страха. Затем, придя к Рейну и самолично представ перед варварами, он повторно скрепил договор с ними клятвами и устремился на Восток, дабы вступить в вынужденную борьбу, а точнее — безо всякого сражения воспринять скипетр от своего сородича, ибо благодаря богам ему было ведомо грядущее.
Однако я пропустил то, о чем стоило сказать. Ибо с обеих сторон отправлялись многочисленные посольства, и послы Юлиана предлагали сохранить за цезарем его нынешнее положение, обещая, что он не будет более присваивать себе ничего сверх того, чем уже обладает, а послы Констанция требовали, чтобы тот отказался от всех почестей и занял свое прежнее место
[591]. Однако сие грозило гибелью не только самому Юлиану, но и большей части войска, его близким и друзьям. И если собственной жизнью он дорожил мало, то мысль о том, что предаст он самых дорогих людей, представлялась ему ужасной. В этих-то обстоятельствах Констанций снова прибег к давней уловке, письмами призывая варваров и, как прежде, прося у них, как милости, поработить римскую землю. Одного из них он убедил нарушить клятву. И сей варвар в одно и то же время и грабил, и в полном достатке жил на полях, кои получил за это в награду
[592], и, словно какой добропорядочный человек, пировал вместе с тамошними военачальниками. Тогда государь отправился в страну дерзнувшего нарушить мир и, застав его во время пира, сурово наказал за измену
[593]. Когда же остальные варвары, оставшиеся верными своим обещаниям, в страхе сбежались и, весьма стыдясь проступка своего земляка, стали подкреплять прежние клятвы новыми, Юлиан поднялся на высокий помост посреди варваров и, взирая с его высоты на их вождей, каковые вместе с прочими стояли в толпе подданных, припомнил им прошлое, пригрозил будущим и удалился
[594]. Тем временем у него набралось уже значительное войско — если не по численности, то по своему рвению, коему мог подивиться всякий. Воины клялись друг другу сделать ради победы всё от них зависящее и во всём повиноваться государю, а бояться одного лишь позора, каковой им грозит в случае, если они преступят свои клятвы.
В то время как все клялись, некий даже и не муж, а женоподобный человек по имени Небридий, бывший наместником и назначенный на эту должность старшим правителем, стал осуждать происходящее, понося эти клятвы, уклоняясь от них и называя варварами тех, кто их приносил
[595]. Так он заискивал перед Констанцием. Вызвав гнев и жажду расправы у всего войска, этот человек наверняка бы пал от руки первого, кто нанес бы ему удар, — и поделом, но он спасся, словно облаком сокрытый
[596]. И в этом случае не всякий одобрил бы проявленное к нему милосердие, однако столь велико оно было у нашего государя.
И с этой поры понесся Юлиан, подобно бурному потоку, сметая всё на своем пути, — первым захватывая мосты, застигая врагов врасплох, отвлекая их внимание в ту сторону, а сам наступая с этой, заставляя их ждать одного, а делая совсем другое, в отсутствие рек продвигаясь посуху, в плаванье же пускаясь с немногими, предоставляя остальным военачальникам отсиживаться по возможности на границах, а сам занимая подвластные им города, действуя где убеждением, где силой, а где хитростью. Так было и в следующем случае. Обрядив своих солдат в доспехи взятых в плен врагов, он послал их на хорошо укрепленный город, а жители, приняв приближавшихся солдат за своих, раскрыли перед ними ворота и впустили противников. Но отраднее всего было то, что, заняв прекрасную Италию и присоединив к своим владениям самое воинственное племя — иллирийцев, и множество мощных городов, и земли достаточно для великого царства, нигде не испытал он надобности в борьбе и кровопролитии — всюду довольно было его рассудительности и всеобщего желания иметь достойного правителя. Величайшей же подмогой в том были ему письма этого труса и предателя
[597] к варварам, каковые государь зачитывал вслух и в плавании, и в походах, и перед городами, и перед войсками, и с этими распрекрасными посланиями сравнивал он собственные свои труды. Слушатели же становились Констанцию врагами, а Юлиану — друзьями
[598], хотя у последнего была лишь малая часть того войска, коим располагал первый.
Вскоре отложились от Констанция македоняне, отложилась и Греция, улучив момент, о котором молила богов — молча и вдали от алтарей, ибо не было у нее оных
[599]. И вновь был открыт храм Афины и остальных богов, открывал же их государь, посылая им в знак почета дары, сам принося жертвы и прочих к тому призывая
[600]. Зная о том, что у афинян даже боги привлекались к суду
[601], он сам пожелал дать отчет в своих действиях, а судьями над собой поставил Эрехтидов
[602], послав им письма с оправдательной речью
[603]. Ибо считал он, что избегать суда выгодно лишь тирану, а истинному государю подобает выносить свои деяния на всеобщий суд. А попутно своими посланиями прекратил он разлад между священными родами афинян, каковой рассорил между собой и остальных граждан, дабы в согласии и мире совершали они отеческие обряды богам.
И вот афиняне по прошествии долгого времени вновь стали приносить жертвы богам, моля их о том, что те намеревались даровать и безо всякой молитвы, а Юлиан двинулся вперед, прихватив с собой лишь треть своего войска. И хотя Фракия была захвачена противником, фракийцев он надеялся вскоре победить, а, придя на Босфор, переправу остального войска предупредить. Между тем из Киликии к нему во весь опор уже скакали гонцы, дабы сообщить о кончине при Кренах старшего правителя
[604]. Ибо в то время как последний расточал угрозы пострашнее Ксерксовых
[605] и обдумывал, как разделается со своим врагом, поскольку считал, что тот уже у него в руках, еще не схватив оного, Зевс, который, как говорит Софокл, «ненавидит надменных речей похвальбу»
[606], наслал на него недуг и лишил жизни. И в то время как остальные считали эту весть вымыслом, обманом или же хитростью, коим нельзя доверять, государь, послав за свитком, хранившимся в каком-то ларце, явил перед всеми написанное в нем пророчество, полученное им гораздо раньше и ныне этой вестью подтвержденное
[607], — так что гонцы явились теперь, словно посланцы бога, возвестившего ему победу, не запятнанную кровью, и подгоняющего его в путь, пока кто-нибудь, воспользовавшись его долгим отсутствием, не дерзнул захватить царскую власть.
Итак, прочитав сие пророчество и видя, что война получила столь удачное и многообещающее завершение, и услышав о кончине человека, чья злоба против него была подобна ярости дикого кабана, государь не дал себя увлечь ни пирам, ни пьянству, ни забавам мимов
[608], но когда пророчества исполнились — земля и море находились в его власти, и никто не оказывал ему сопротивления, и все признавали его единым владыкою надо всей вселенной, и ничто более не понуждало его действовать вопреки своей воле, и все дворцы растворились перед ним настежь, — государь возрыдал и омыл слезами пророческие сии письмена. Однако ничто в нем не могло пересилить природу, и прежде всего он стал расспрашивать о мертвом — где находится его тело и оказываются ли умершему должные почести. Так заботился он о том, кто готов был поступить с ним подобно Креонту
[609]. Но на этом государева забота об усопшем не окончилась, а пришел он в гавань великого города
[610], собрал там всех жителей и, пока судно с телом еще только приближалось, оплакивал покойного. Затем, сняв с себя все знаки царской власти, кроме хламиды, он коснулся руками гроба, полагая, что недостойно осуждать умершего за прежние его помыслы.
Оказав ему подобающие почести, Юлиан начал с жертвоприношения богам — покровителям города, на глазах у всех совершая возлияние сам, одобрительно глядя на тех, кто следовал за ним, осмеивая тех, кто сторонился, и стремясь убеждать, но не желая принуждать. Между тем людей развращенных одолевал страх
[611], и ждали они, что им будут выкалывать глаза, рубить головы, что из-за казней прольются потоки крови, что новый владыка найдет новые способы принуждения своих подданных и что ничтожными покажутся им огонь и железо, утопление в воде и зарывание в землю живьем, изувечение и четвертование. Всё это было в ходу и прежде, но теперь ожидали гораздо худшего. Однако государь осуждал творивших подобное, ибо не достигали они того, к чему стремились, и сам не видел никакой пользы в таковом принуждении. Ведь если страдающих телесными недугами можно исцелить и против их воли, то ложное мнение о богах нельзя ни вырезать ножом, ни прижечь огнем, и, пока рука будет совершать жертвоприношение, разум станет осуждать и винить во всём телесную слабость, преклоняясь перед тем же, что и прежде. И потому это лишь кажущаяся перемена, а не искоренение лжи, и бывает так, что одни позднее в том раскаиваются, а другие чтут богов лишь на пороге смерти.
Итак, осуждая казни и видя, что от них ложные верования лишь крепнут, государь их отверг; и того, кого еще можно было образумить, наставлял он на путь истинный, а кто не желал расставаться со своими заблуждениями, ни к чему такому не принуждал, хотя и не уставал восклицать: «“Куда вы же катитесь, люди?!”
[612] Неужто не стыдно вам признавать, что мрак яснее света? Неужто не чуете, что страдаете тем же недугом, что и преступные гиганты? Ведь не потому летели в них пресловутые стрелы, что телами своими отличались они от прочих созданий, а потому, что подобно вам порочили они богов, как о том говорится в предании»
[613]. Ибо было ему ведомо, что тот, кто со знанием дела берется за исцеление души, должен прежде всех остальных душевных добродетелей позаботиться о благочестии. Поскольку оно значит для человека то же, что киль — для корабля и что крепкое основание — для дома. Ведь даже если бы он сделал всех людей богаче, чем Мидас
[614], а всякий город — великолепнее, чем некогда Вавилон
[615], и вокруг каждого из городов воздвиг бы стену из чистого золота
[616], но не избавил бы людей от заблуждений в отношении богов, то он поступил бы подобно тому врачу, который, борясь со всевозможными телесными недугами, исцеляет всё, кроме зрения. Вот почему прежде всего он занялся врачеванием душ, предводительствуя теми, кто обладал истинными познаниями о небе
[617], и считая людей, искушенных в подобной науке, более близкими себе, чем собственная его родня. Иными словами, того, кто был Зевсу другом, он считал и своим другом, а кто был ему врагом — своим врагом, вернее же, другом он считал всякого, кто был другом и Зевсу, но не всякого, кто еще не успел таковым стать, считал он своим врагом. Ибо, кого он надеялся со временем обратить в истинную веру, тех от себя не отстранял, но, увлекая их своими речами, достигал того, что, поначалу отказываясь от этого, позднее они уже плясали вокруг алтарей
[618].
Итак, сперва, как я уже сказал, он, словно из изгнания, вернул людям благочестие, одни храмы воздвигая, другие восстановляя, а третьи украшая статуями богов. А кто из храмовых камней понастроил себе домов, те возмещали ущерб деньгами. И можно было видеть, как иные везли обратно похищенные у богов колонны — кто на кораблях, а кто на телегах, и повсюду стояли алтари, и пылал огонь, и текла жертвенная кровь, и сжигался тук, и струился дым, и совершались священные обряды, и без страха давались оракулы, и звучали флейты на вершинах гор, и шествовали процессии, а бык в одно и то же время служил и жертвой богам, и трапезой людям. Но поскольку нелегко было государю ежедневно ходить во храмы за ограду дворца, — а постоянное общение с богами воздействует на человека всего благотворнее, — то посреди дворцовых построек воздвиг он храм богу, приводящему с собою день
[619], и принимал участие в таинствах, и приобщал к ним остальных, будучи попеременно то посвященным, то посвящающим, и воздвиг алтари всем богам в отдельности. Ибо, поднявшись с ложа, он первым делом всегда сообщался с богами, принося им жертвы, в чем превзошел даже Никия
[620]. И столь безгранично было его рвение в этом деле, что он не только восстановил разрушенное, но к прежнему добавил новое. А подвигло его к сему дерзанию благоразумие. И тому, кто возвысился над низменными удовольствиями, дозволительно было иметь покои по соседству с храмом, ибо по ночам не происходило у него ничего не достойного такового соседства. Итак, что он обещал и богам, и людям по поводу богов до своего воцарения, то впоследствии блестяще исполнил, так что, где храмы сохранились, теми городами он любовался и считал их достойными величайших благодеяний, а где полностью или в большинстве своем подверглись разрушению, те города ругал, и хотя оказывал им помощь, как своим подданным, но безо всякого удовольствия. Поступая так, то есть препоручая богам руководство страною и примиряя ее с ними, он был подобен корабельному плотнику, каковой крепит к большому кораблю новое кормило взамен утраченного, — с той лишь разницей, что возвращал он стране прежних ее спасителей.
Решив таким образом первейшие и важнейшие государственные дела, он обратил взгляд свой на царскую обслугу и, увидав, что при дворе содержится тьма бесполезного народу: тысяча поваров, столько же цирюльников, виночерпиев и того больше, толпы рабов, прислуживающих за трапезой, евнухов — не меньше, чем мух, досаждающих пастухам весной, а уж прочего люда всякого звания и не сосчитать, ибо у ленивых да на еду ретивых нет иного пристанища, как именоваться и числиться государевой прислугой, что скоро достигается ценою золота, — итак, увидав всех этих бездельников, что попусту кормились за царский счет, он тотчас их разогнал, считая сие не помощью, а вредом для государства
[621]. С ними вместе прогнал он и большинство писцов, кои, занимаясь ремеслом рабов
[622], желали помыкать наместниками, и невозможно было людям ни жить с ними рядом, ни приветствовать их при встрече, ибо они отнимали, похищали и принуждали тех продавать свое имущество. Причем иные из этих писцов не платили за него вовсе, иные давали меньше, чем следует, третьи отсрочивали плату, а четвертые считали, что расплатились уже тем, что не причинили ограбленным большего зла. И бродили эти всеобщие враги повсюду, высматривая, кто чем владеет: кто — конем, кто — рабом, кто — деревом, кто — полем, кто — садом, ибо они стремились к тому, чтобы самим распоряжаться всем этим добром взамен его истинных владельцев. И кто отказывался от своего отцовского достояния в пользу сильных, того они называли «замечательным мужем», и он уходил, унося с собой вместо пожитков сие прозвище, а кому выносить подобное казалось ужасным, того клеймили «убийцей», «обманщиком», «преступником» и «человеком, заслуживающим кары за многочисленные злодеяния». Превращая остальных людей из зажиточных в неимущих, а себя из неимущих — в зажиточных, наживаясь на бедности прежних богачей и простирая свою ненасытность до границ вселенной, они просили у властителя чего им было угодно, и невозможно было им в том отказать.
И подвергались грабежу древние города, и вывозились по морю прекрасные творения, победившие время, — дабы придать домам сыновей валяльщиков
[623] больше блеска, чем царскому дворцу. И хотя последние и так были несносны, при каждом из них еще находилось по многу приверженцев — как говорится, собаки во всём подобны своим хозяевам
[624]. В самом деле, среди этих рабов не было ни одного, кто не глумился бы над людьми, заключая их в оковы, терзая, грабя, избивая, выталкивая, прогоняя, — и всё ради того, чтобы вспахивать чужую землю, ездить в упряжке и быть таким же важным господином, как и его собственный. Но недостаточно им было богатства — они раздражались, если не получали почестей, за коими надеялись скрыть свое рабское происхождение. Наряду с состоятельными людьми занимали они воинские должности, что заставляло трепетать перед ними и улицу, и квартал, и весь город.
И вот этих многоголовых Керберов государь разогнал, разжаловав в простых обывателей и посоветовав довольствоваться тем, что они избегли казни. Наконец, он выслал прочь из дворца тех негодных слуг, что воровали, отбирали имущество и готовы были сказать и содеять что угодно, лишь бы им завладеть. Не принося своему отечеству ни малейшей пользы, каковой от них ожидали, — уклонившись от участия в городских советах и презрев законы о повинностях, — они записались в доносчики, выкупив себе должность царских соглядатаев
[625], коя только по виду служила для охраны государя, дабы тот не оставался в неведении относительно всяческих против него злоумышлений, а на деле являлась одной лишь торговлей. Подобно тому как торговцы, отворяя с утра двери лавок, высматривают покупателей, так и эти стремились к выгоде с помощью своих осведомителей, кои приводили под их кнуты бессловесных ремесленников, будто бы хуливших царскую власть, — но не для того, чтобы их истязать, а чтобы те откупались от этой муки деньгами. И никто не мог укрыться от сей напасти — ни гражданин, ни чужеземец, ни гость, и бывало так, что один, без вины оклеветанный, ничего не платил и погибал, а другой, и в самом деле большой негодяй, откупался и оставался цел. А наибольшей прибылью было раскрыть какое-нибудь государственное преступление, ибо, вместо того чтобы отдать уличенного преступника во власть гнева потерпевших, они за мзду помогали злоумышленникам против тех, кто им доверился. Кроме того, они пугали бесчестием добропорядочных людей, подсылая к ним юношей самого нежного возраста, и обвиняли в колдовстве тех, кто был к этому вовсе не причастен. Таковые два способа приносили им чрезвычайный доход, но был еще и третий, поважнее обоих предыдущих. Они разрешали тем, кто на это отваживался, подделывать монету в пещерах, где подобным обычно промышляли, а затем роскошно жили, выдавая фальшивые деньги за подлинные. В общем одни их доходы были тайными и постоянными, а другие явными и очевидными — с виду законными, но ничем не уступавшими первым. Так что многие, упоминая эти должности, тотчас же называли и сумму, каковую можно было с них получить.
Таковы были сии «царевы очи»!
[626] А ведь они утверждали, что всех и вся вытаскивают на свет божий и превращают дурных людей в хороших, не давая им ничего утаить. Перед ними были открыты все пути к пороку, и они чуть не заявляли, что всё содеянное ими останется безнаказанным. И выходило так, что вместо того, чтобы препятствовать преступлениям, они спасали преступников, подобно псам, помогающим волкам. Потому-то получить долю в этих приисках было то же самое, что найти сокровище. Ибо кто приходил Иром, тот вскоре становился Каллием
[627]. И вот, в то время как они всё черпали и черпали из этих недр, города же всё беднели, а эти торговцы богатели, наш государь, который с давних пор этим тяготился и при первой же возможности обещал со всем покончить, получив наконец таковую возможность, разом всё и прекратил: разогнав всю эту шайку, он упразднил и их звание, и сами эти должности, прикрываясь коими те опустошали и разоряли всё вокруг, а для отсылки своих указов стал использовать собственных слуг, не давая им воли к подобным злоупотреблениям.
А это значило вернуть свободу городам, ибо раньше, когда над ними властвовали те, кто был способен творить беззакония, никто и вздохнуть-то свободно не мог: если кто избежал беды, тому она грозила, для того же, кто не пострадал, ожидание беды было ничем не лучше самой беды. Курьерские мулы были на последнем издыхании, словно бы им подрезали жилы, — и всё из-за непосильного труда и голода, каковому их подвергали упомянутые чиновники, в то время как для себя они возвели на сей почве настоящий Сибарис
[628], ибо всякий желающий мог легко заложить упряжку и скакать по своей надобности — ведь равной силой обладали в этом случае грамоты и государя, и царского соглядатая. Бедным животным не давали ни отдохнуть хотя бы самую малость в стойле, ни покормиться толком у яслей, удар же кнута не мог принудить обессилевшую скотину к бегу, поэтому приходилось запрягать в повозку по двадцать мулов и более, и многие из них падали и околевали тотчас после того, как их распрягали, а иные — даже и раньше, под ярмом. Это производило задержку в делах, требовавших срочности, а городам наносило убыток из-за необходимости новых расходов. О том, в сколь плачевном состоянии всё находилось, лучше всего свидетельствовала зима, когда запас мулов во многих местах заметно истощался, погонщики же бежали в горы и пережидали это время на их отрогах, и околевшие мулы валялись на земле, а тем, кто спешил, не оставалось ничего другого, как только кричать да размахивать руками. Из-за таковых промедлений многие дела не получали от властей своевременного разрешения. О лошадях, с коими дело обстояло точно так же, и об ослах — а с теми было еще хуже — я говорить не стану. Но для тех, кто имел какие-то дорожные поручения, сие означало погибель. И Юлиан в самом деле покончил с этим разгулом: запретив поездки без настоятельной надобности и велев людям равно остерегаться как совершать их самим, так и оказывать сии услуги другим, он потребовал от своих подчиненных либо покупать, либо нанимать упряжной скот у жителей. И тогда взору явилось невероятное зрелище — погонщики, проезжающие мулов, а конюхи — лошадей! Ибо если раньше скот принуждался к тяжелому труду, то теперь возникло опасение, как бы он не застоялся от продолжительного отдыха. А это, в свою очередь, усиливало благосостояние жителей.
Такую же заботу проявил государь и о городских советах, кои в былые времена славились своим многолюдством и богатством, а затем обратились в ничто, когда чуть ли не все заседавшие там покинули их, перейдя кто — в войско, кто — в сенат
[629], а кто и вовсе занялся чем-то иным. Эти последние проводили время в праздности, предавались плотским утехам и насмехались над теми, кто не следовал их примеру. Те же немногие, кто еще оставался, исчерпали свои силы, и несение повинностей для большинства оканчивалось полным разорением
[630]. А кто не знает, что в силе совета — душа города? Но Констанций, на словах советам покровительствуя, на деле относился к ним враждебно, ибо тем, кто их покидал, он раздавал новые должности или же вовсе вопреки закону освобождал их от службы. И вот советы стали походить на дряхлых старух, одетых в лохмотья, — ограбленные заседатели оплакивали свою судьбу, а судьи, хоть и сочувствовали их бедственному положению и рады были им помочь, да ничем не могли. Однако пришел черед и советам воротить свое былое могущество. Тот самый, достойный всяческих похвал, указ о необходимости призывать в советы всякого, а освобождать лишь самых неимущих
[631], настолько поправил дело, что в помещениях не хватало места для столь великого множества присутствующих. Это и понятно — не было теперь ни секретаря, ни евнуха, которые освобождали бы за деньги, ибо одни, как и подобало евнухам, исполняли обязанности рабов, ничуть не величаясь пышностью своих одежд, другие же занимались работой, требующей рук, чернил и пера, а в прочих делах проявляли скромность, приученные своим наставником довольствоваться праведной бедностью. Так что до сих пор еще можно встретить многих, ставших от таковой выучки лучше, чем даже философы. Да и все остальные чиновники, я думаю, в ту пору менее всего стремились к прибыли и более всего жаждали славы. Вы ведь помните: перед кем мы прежде падали ниц, словно при вспышках молнии, едва они к нам приближались, с теми мы ныне беседуем, здороваясь за руку, когда они спешиваются посреди площади, а те в свою очередь полагают, что лучше держаться с остальными запросто, чем нагонять страху.
Впрочем, законы царям устанавливать легко, ибо это под силу каждому, а вот полезные законы — трудно, ибо для этого потребно разумение. Юлиан же измыслил и установил такие законы, что люди, каковым довелось жить раньше, немало от этого потеряли, а похожим законам древних времен, упраздненным своеволием прежнего правителя, снова вернул силу, полагая, что для царя похвальнее скорее соглашаться с хорошими законами, чем попусту хулить имеющиеся.
Теперь обратимся к тем, кто понес наказание. Итак, из тех троих, что были казнены, один заполонил всю землю своими доносчиками и был повинен в смерти тысяч людей на обоих континентах, так что те, кто его знал, жалели, что однажды умершего нельзя казнить еще раз, а затем повторить эту казнь снова и снова. Другой, мало того, что поработил волю Констанция, будучи сам рабом и, что возмутительнее всего, евнухом, но и являлся главным виновником жесточайшей смерти Галла. Третий же пал жертвой солдатского гнева, поскольку, как говорили, лишил войско царских подарков
[632]. Но по своей смерти он всё же получил некоторое утешение, ибо государь отдал его дочери немалую долю отцовского имущества. Люди же, оскорбившие самого государя, — а ведь были и такие, кто прочил на царство иных, понося всех остальных последними словами, — заслуженного наказания от него не понесли, смерти избежали и лишь переселились на острова
[633], учась держать язык за зубами. Таким образом, государь прекрасно умел мстить за обиды других, но при собственных обидах проявлял великодушие.
Кроме того, он вошел в сенат и окружил себя сим почтенным собранием, долгое время лишенным таковой чести. Ибо раньше сенат призывался во дворец, где стоя выслушивал краткое обращение правителя, сам же правитель в сенат не являлся и в нем не заседал. А всё потому, что, не умея произносить речи, Констанций избегал сего места, где нужен был оратор. Юлиан же, напротив, будучи в речах искусен и, по выражению Гомера, вещая «с мужеством твердым»
[634], искал подобных собраний, давая свободно говорить любому желающему и сам говоря — то «мало, но разительно», то подобно «снежной вьюге»
[635], то подражая Гомеровым витиям, а то и превосходя их в том, чем каждый из них был знаменит. Как-то раз, когда он в своей речи одно хвалил, другое порицал, а в третьем убеждал, ему сообщили о прибытии учителя, родом ионийца, известного как «философ из Ионии»
[636], и государь, вскочив со своего места посреди старейшин, побежал к двери с теми же чувствами, что и Херефонт — навстречу Сократу
[637]. Однако то был всего лишь Херефонт и находился в палестре Таврея
[638], а этот являлся владыкой мира и пребывал в высочайшем собрании, — всем показывая и всех убеждая своим поступком в том, что мудрость почетнее царской власти и что всем, что есть в нем лучшего, государь обязан философии. Итак, обняв и поцеловав прибывшего, как принято скорее у простонародья, а если случается среди царей, то только между собою, государь привел его в сенат, — хотя тот в нем и не заседал, — полагая, что не место красит человека, но человек — место, и, в присутствии всего собрания заведя с философом беседу о том, как благодаря ему он изменился сам, государь с ним под руку удалился. Что же означали сии его действия? А то, что он не только вознаграждал своего учителя за воспитание, каковое может предположить всякий, но и призывал таким образом к учению всю молодежь, а я бы добавил, что и старость, ибо даже старики устремились тогда к знаниям. Ведь что у владык в небрежении оставляемо, тем и все пренебрегают, а что у них почитаемо, к тому и все свое усердие направляют
[639].
Юлиан же, почитая красноречие и благочестие вещами родственными и видя, что последнее полностью истреблено, а первое находится в упадке, стремился к тому, чтобы храмы возродились, а люди вновь полюбили искусство слова, для чего окружал почетом людей, в нем сведущих, и, кроме того, сам сочинял речи
[640]. Так, в ту пору он составил сразу две речи
[641] — каждую за один день, а вернее, за одну ночь. Первая была написана против лжеподражателя Антисфена, неразумно осмеливавшегося толковать учение последнего, а другая содержала много прекрасных мыслей о Матери богов
[642]. Подобный образ мыслей государя сказывался и в том, что он назначал правителями городов людей, искусных в красноречии, и отнимал кормило власти в провинциях у варваров, кои, писать умея быстро
[643], но умом не обладая, опрокидывали весь корабль
[644]. И тех, кто, по его наблюдению, был преисполнен мудрости поэтов и писателей и знал, в чем состоят достоинства правителя, но был оттеснен от власти, он даровал народам в качестве наместников. Поэтому, когда государь направился в Сирию
[645], всякий из них встречал его у границ своих провинций речью — даром, гораздо лучшим, чем кабаны, фазаны и олени, каковых прежде молча преподносили царям. А в ту пору их место заняли речи. И так в продолжение всего его пути одни правители-риторы сменялись другими. Из их числа наместник Киликии, мой ученик, а государю близкий друг, произнес в честь него похвальную речь, когда, принеся жертвы богам, тот стоял у алтаря
[646]. И каждый при этом обливался потом — и сам оратор, и тот, кто был связан с ним тесными узами дружбы.
С тех пор луг вновь запестрел цветами мудрости
[647]. Искусность в речах давала надежду на всеобщее признание, и у софистов дела пошли на лад, ибо иные сразу поступали к ним в учение, а иные, хоть и приходили поздно, уже с бородами, но тщательно всё записывали. Государь способствовал тому, чтобы искусства снова процветали и чтобы прекраснейшим все считали то, что и в самом деле является наилучшим, а делам, пригодным для рабов, не позволял возвышаться над занятиями, достойными свободных граждан.
Кто назовет деяние более благородное, чем то, посредством коего он избавил благочестие и сей величайший дар богов — красноречие — от крайнего небрежения, вернув им былой почет? В продолжение всей поездки он отдавал всего себя софистам и сворачивал с прямой дороги, дабы узреть храмовые святыни
[648], с легкостью перенося и долгое путешествие, и трудности пути, и летний зной. И здесь он стяжал великую награду за свое благочестие, узнав от тамошних божеств о злоумышлениях против него и о том, как от них спастись. По этой причине, изменив свой распорядок, он поехал быстрее, чем раньше, и тем избежал западни.
Вступив в Сирию и освободив города от уплаты долгов, посетив святилища и побеседовав вблизи тех мест с городскими начальниками, государь отправился дальше, ибо мечтал поскорее отомстить персам
[649] и не хотел упускать благоприятного времени года, сидя на одном месте. Но поскольку гоплиты и лошади были изнурены и нуждались в небольшой передышке, он, хотя и против воли, ибо в груди его бушевал гнев, всё же уступил необходимости, заметив только, что теперь всякий станет шутить над ним, будто он и впрямь сродни своему предшественнику
[650].
Поглядим же на государя в пору его вынужденного промедления и на те достохвальные деяния, кои он тогда совершил! Когда ему пришло письмо от персидского царя
[651] с просьбой принять посольство и путем переговоров разрешить спорные вопросы, мы, все остальные, повскакали со своих мест, стали рукоплескать и криками советовали ему принять сие предложение. Он же, приказав с позором выбросить письмо
[652], сказал, что нет ничего отвратительнее, чем вести переговоры, в то время как города лежат в руинах, и отправил царю ответ, что нимало не нуждается в его послах, так как вскоре сам с ним увидится. Это была победа, одержанная еще до битвы, и трофей, захваченный до сражения, каковое, как мы знаем, случается на гимнастических состязаниях, когда одного появления выдающегося борца бывает достаточно. Поэтому не стоит особенно удивляться тому, что персидский царь потерпел поражение, едва наш государь предстал перед ним, хотя действительно изумляет, что тот, кто привык наводить на всех ужас, сам трепетал от страха. Но разве не затмевает все прочие чудеса то обстоятельство, что, хотя Констанций и лишил эту местность всякой надежной защиты, ни один перс, после того как Юлиан воцарился, но еще не успел туда прибыть, не захватил в ней ни единого города, а при одном лишь упоминании о государе все сидели смирно?
Итак, по поводу посольства персов он решил, что подобные обстоятельства понуждают не к разговорам, а к войне. Что же касается войска, то тех, над кем он начальствовал прежде, он считал во всех отношениях превосходными солдатами, поскольку они и выносливостью отличались, и в бой рвались, и вооружение имели хорошее, и богов призывали в сражении. А те воины, кои присоединены были позднее, хотя и выглядели видными да рослыми и даже оружие носили золоченое, но из-за постоянного бегства от врага при виде персов испытывали то же, что, по словам Гомера, испытывает человек, встретившись в горах со змеею
[653], или, если угодно, что чувствуют олени при встрече с собаками. Итак, понимая, что дух этих воинов сокрушен не только по причине негодности военачальников, но и потому, что сражались они без помощи богов, девять месяцев государь употребил на то, чтобы внушить им надлежащее рвение, полагая, что ни численность войска, ни твердость железа, ни прочность щитов не значат ровным счетом ничего, если боги не помогают в войне. И дабы заручиться помощью последних, он, действуя убеждением, добивался того, чтобы, прежде чем взяться за копье, та же солдатская рука совершала возлияние и воскуряла фимиам, и чтобы среди сражения воины могли взывать к тем, кто способен оградить их от стрел. Когда же убеждения было недостаточно, на помощь приходили золото и серебро, и посредством малой прибыли воин получал прибыль великую, покупая себе покровительство богов, властвующих на войне. Ибо государь считал, что на помощь следует не скифов призывать
[654] и не всякий сброд собирать, каковой грозит лишь навредить своею численностью и причинить немало хлопот, а всемогущую длань божества. Богов-то он и прочил в союзники тем, кто приносил жертвы: Ареса, Эриду, Энио, Страх и Ужас, по воле которых вершится исход битвы. Так что, если бы кто сказал, что государь сразил и сокрушил персов еще на берегах Оронта
[655], это было бы истинной правдой.
Не стану отрицать, что таковое его усердие стоило казне немалых денег
[656], но уж лучше употребить их на сие благое дело, нежели растратить на зрелища, скачки и травлю изможденных животных — увеселения, кои нисколько не привлекали этого мужа
[657]. И даже когда обстоятельства вынуждали его присутствовать на ристалище, он обращался мысленным взором к иным делам, умея в одно и то же время и почтить своим присутствием дневное торжество, и не изменить собственным желаниям, оставшись верным самому себе. Ибо ни споры, ни состязания, ни крики не отвлекали его от размышлений, и даже когда, по обычаю, устраивал он пиры для разнородной толпы, то другим давал пить сколько душе угодно, а сам разбавлял вино речами, участвуя в общей трапезе лишь настолько, чтобы не казалось, будто он ее избегает. Кто из философствующих в скромных жилищах смирял так когда-либо свои телесные желания? Кто был способен так выдерживать посты за постами, почитая различных богов — Пана, Гермеса, Гекату, Исиду и остальных?
[658] Кто проводил столько дней без пищи, наслаждаясь общением с богами? И сказанное поэтом свершилось наяву: кто-то из богов, сойдя с небес на землю, коснулся его волос, что-то ему сказал и, получив ответ, удалился
[659]. О прочих сношениях его с богами долго рассказывать, однако стоит сказать о том, как однажды, взойдя в полдень на Кассий к Зевсу Кассийскому
[660], он узрел бога, а узревши, встал подле него и получил совет, благодаря которому вновь избежал западни. Так что, если бы можно было человеку жить на небесах вместе с богами, он был бы среди них, ибо они освободили бы ему место рядом с собою. Но поскольку человеческое тело сего не дозволяет, они сами к нему являлись, уча тому, что следует делать и чего не следует. Ведь даже у Агамемнона советчиком был пилосец Нестор
[661] — старец хоть и почтенный, но всё же простой смертный. У государя же не было в таковых советчиках никакой нужды, ибо он сам слыл рассудительнейшим из людей, а наставления получал от тех, кому ведомо всё.
Вот каковые спасители его блюли и находились с ним в постоянном общении. В продолжение всего времени, воздерживаясь от вина и не отягощая чрезмерно желудка, он, словно птица, успевал за один день совершить великое множество дел: отвечал бесконечным посольствам, отправлял послания городам, военачальникам, наместникам, друзьям на чужбине и друзьям дома, выслушивал письма, рассматривал просьбы и быстротой своей речи опережал медлительных писцов. Ему одному удавалось зараз сочетать три дела: слушать, говорить и писать. Читающему он отдавал в распоряжение свой слух, пишущему — голос, ждущему от него письма — свою десницу, и при этом никогда и ни в чем не ошибался. Отдых он оставлял на долю служащих, сам же от одного дела переходил к другому. Ибо едва он кончал с государственными делами, как, наскоро позавтракав, да и то лишь для того, чтобы
поддержать в себе жизнь
[662], тотчас набрасывался на кучи книг и читал их вслух, не уступая в этом цикадам
[663], до тех пор, пока вечером его вновь не призывала к себе забота о государстве, трапеза — еще более скудная, чем первая, и сон, насколько он был потребен при таковой умеренной пище. А потом — новая череда писцов, до этого весь день проведших на своих ложах. Ибо служащим требовался отдых, и они поочередно сменяли друг друга. Он же сменял лишь одно занятие на другое, один выполняя всю работу и сей переменой в трудах своих превосходя Протея
[664], сам будучи то жрецом, то сочинителем, то предсказателем, то судьею, то воином, то всеобщим спасителем.
Посейдон сотрясал великий город во Фракии
[665], и оттуда приходили вести о том, что, ежели не умилостивить бога, бедствие одолеет город. И едва государь это услыхал, как, встав посреди сада и подставив тело свое ливню, покуда прочие оставались под кровлею и глядели на него с изумлением, преисполненный божественной силы, сносил таковое ненастье до позднего вечера и тем умилостивил бога и устранил опасность. И люди, приходившие позднее, сообщали потом, что в этот день землетрясение прекратилось. А здоровью государя дождь не причинил никакого вреда. Когда же зимою ночи сделались длинными, он, помимо многих других замечательных сочинений, принялся за изучение тех книг, в коих человек из Палестины изображается богом и божьим сыном
[666], и, написав пространное опровержение
[667], силою доводов показал, что предмет сего почитания есть смех и пустословие, явив себя в том сочинении мудрее тирийского старца
[668]. Да будет милостив к нам этот тириец и да примет он сии слова благосклонно, как если бы был превзойден собственным сыном!
Вот каким наслаждениям предавался наш государь ночи напролет, в то время как другие в это время искали утех Афродиты. И настолько он был далек от розысков, есть ли у кого красивая дочь или жена, что, если бы не связала его Гера узами законного брака
[669], он так и умер бы, лишь понаслышке зная о плотском соитии. А оплакав смерть жены своей, к другим женщинам уже не приближался — ни раньше, ни позже
[670], будучи от природы склонен к воздержанию, к каковому призывали его и пророчества. Им-то он и посвящал свой досуг, и к лучшим прорицателям обращаясь, и сам никому не уступая в таковом искусстве, так что последним и обмануть его не удавалось, покуда он своими глазами рассматривал вместе с ними явленные знаки. И бывало, что государь превосходил в этом деле даже величайших знатоков — столь безграничной широтой души и проницательностью он обладал, одно осмысляя разумом, а о другом совещаясь с богами. Вот почему кого, казалось, он собирался назначить на высшие должности, тех под конец он обходил, а кого, полагали, он обойдет — тех, напротив, назначал, делая одно и не делая другого по воле богов.
О том же, что он искренне заботился о государстве и ставил его благо превыше своего собственного, свидетельствует многое, а более всего следующее. Когда родные уговаривали его вступить в брак, дабы он мог произвести на свет детей — наследников для своей державы, государь заявил, что как раз это его и останавливает, ибо боится он, как бы они, унаследовав власть по закону и имея от природы дурной нрав, не погубили государства
[671], претерпев то же, что и Фаэтон
[672]. Так, свою бездетность он почитал меньшим злом, нежели погибель городов.
Не избегал он заниматься и делами судебными
[673], словно бы душа его состояла из многих различных частей, и хотя мог он поручить сие заботе наместников — судей весьма многоопытных и исключительных в своей неподкупности, однако же предпочитал сам выступать в их числе, готовый состязаться с теми в судействе. Правда, иной, вероятно, с этим не согласится, уверяя, что судейство было для него лишь отдыхом и забавой. Уловок адвокатов он избегал с легкостью, а истину в любых словах угадывал невероятно скоро и, сличая одни показания с другими, а правду — с ложью, побеждал хитроумие законами. И не бывало такого, чтобы он действовал во вред богачам, невзирая на их честность, или же, напротив, вступался за бедняков, хотя бы те и отличались бесстыдством, как поступает всякий, кто завидует счастью первых и проникается непомерной жалостью ко вторым. Но, мысленно отвлекшись от самих тяжущихся, он судил лишь их поступки, так что нередко богач уходил от него в выигрыше, а бедняк — в проигрыше. И хотя он мог бы, пожелай он того, преступать законы, ибо ему не грозило за это судебное наказание
[674], однако же полагал, что при рассмотрении дел обязан придерживаться гражданских уложений строже самых низших судов, поэтому, когда некто, и прежде ненавидимый государем за кривду, обошел закон с помощью подложных бумаг, то, поняв это и присудив победу ответчику, ибо истец не сумел те бумаги обжаловать, государь не преминул сказать, что обман сей не остался незамеченным, но что он выносит приговор в пользу обманщика, понуждаемый бездействием потерпевшего и подчиняясь букве закона. Так что победивший удалился, печалясь больше проигравшего, ибо последний потерял землю, а первый — доброе имя. Так государь нашел способ и закона не нарушить, и обманщика наказать.
Когда же открылось государево судилище и любому дано было право прибегнуть к его защите, то все, кто посредством силы незаконно владел имуществом слабых — иные бесстыдно им завладев, а иные под видом покупки, — сами являлись к потерпевшим, дабы вернуть похищенное — кто по вызову суда, а кто и не дожидаясь такового, в страхе упреждая дознание, так что всякий притеснитель сам себе был судьею. И каковое говорят о Геракле — что когда кто-то терпел бедствие на суше или на море, то призывал его на помощь, и что, даже если того не было рядом, одного его имени бывало достаточно
[675], — таковое же, мы знаем, могло сотворить и государево имя. И города, и деревни, и площади, и дома, и материки, и острова, и юноши, и старики, и мужчины, и женщины давали отпор обидчикам одним лишь упоминанием о государе, и не раз его имя останавливало руку, готовую нанести удар. В том же судилище была рассмотрена и тяжба о первенстве городов, величайших в Сирии после нашего, причем один из них был красивее другого, ибо находился вблизи моря
[676]. Когда же послы городов произнесли пространные речи, и те, что были из приморского города, упомянули и об остальном, о чем сказать было уместно, и о мудрости их согражданина
[677], а послы того города, что расположен в глуби материка, рассказали о чужеземце и о своем земляке, из коих первый облюбовал их город для занятий философией, а второй радушно принял и его, и всюду следовавших за ним учеников
[678], то государь, оставив в стороне блестящие постройки обоих городов и сравнив сих мужей друг с другом, присудил первенство городу, сильнейшему своими гражданами. Разве государь не призывал города к добродетели, вынеся подобное решение — презрев бездушную красоту вещей как не имеющую ценности в глазах взыскательного судьи?
Итак, недавно, касаясь вопросов благочестия
[679], я поминал о простоте его общения с людьми, теперь же настал черед поговорить и о более важном, ибо сильнее всего проявлял он сие качество в судилище по отношению к риторам и их подзащитным, предоставляя тем полную свободу кричать во всё горло, размахивать руками, всячески жестикулировать, поднимать друг друга на смех — иными словами, делать всё что угодно, лишь бы одержать победу над противником
[680]. При этом он зачастую обращался к каждому из них так: «Друг мой!» А ведь сие обращение — ко всем, не только к риторам, — впервые употребленное ныне владыкою по отношению к своим подданным, способно пробудить к нему любовь не в пример магическим чарам! Ибо государь полагал, что величие царской власти проявляется не в том, что люди испытывают страх, хранят молчание, держат руки под плащом, стоят потупившись и глядя больше на собственные сапоги, нежели в лицо правителя, и не в том, что они говорят и ведут себя достойно рабов, а не свободных, но в том, что никто из приближенных к правителю не тщится выказать ему больше восхищения, чем другому. Даже пурпурную хламиду, каковую не носить государю было невозможно, он носил так, словно наряд сей ничем не отличался от прочих: не любовался собой, не проверял, хорошо ли окрашена хламида, и не думал, что ежели краска будет лучше, то и он от этого станет лучше, а если она будет самой лучшей, то и сам он станет тогда наилучшим. Ибо не измерял он силу власти чистотою окраски хламиды, но оставлял заботу о последней на долю красильщиков и ткачей, полагая возвысить свою власть плодотворностью размышлений и пользою от них городам и через это возвыситься самому. Остался на его голове и золотой венок, ибо так судили боги, — а почему так, о том лишь богам ведомо, ибо сам он не раз порывался снять с головы своей золото, но запрет был сильнее его.
Сие золото напомнило мне и о золотых венках, кои города посылали ему через послов, — один тяжелее другого: один в тысячу статиров
[681], другой в две тысячи, а третий еще больше весом. Он же, пожурив послов за размеры венков, ибо хорошо понимал, что не без труда добываются средства на таковые подарки, постановил, чтобы вес венков не превышал семидесяти статиров
[682], полагая, что почет от любого венка одинаков, а искать выгоду в величине почестей — дело корыстолюбцев. И гонцы, кои доставляли сии законы и многие другие указы, кто с не меньшим, а кто и с большим пылом так упорно отрекались от награды за свои труды, что не принимали даже и тех даров, что им приносили добровольно. Вот какую опасность сулили недобросовестные поборы, ибо всякому было ясно, что стяжатель не сможет сокрыться и неизбежно подвергнется каре. Так слава достойного государя не посрамлялась ничтожеством слуг его.
И покуда он был занят этими делами, голодающий народ, сойдясь на ристалище, поднял глас
[683], ибо неблагоприятная погода нанесла вред урожаю, а богачи — городу, не давая в общее пользование многолетние запасы и сохраняя высокие цены на хлеб. Тогда государь, собрав земледельцев, ремесленников, торговцев и всех остальных, кто определяет цены на всякие товары, посредством закона принудил их блюсти в этом меру и сам в соответствии с законом первым отправил на рынок пшеницу из своих запасов. Однако вскоре прознал он, что градоначальники, поступая вопреки закону, его хлебом пользуются, а свой укрывают. Всякий, кому неведомы тогдашние обычаи, ожидает услыхать тут о копье, мече, огне да воде — ведь подданные, воюющие с собственным царем, сего, как видно, заслуживают. Ибо что это, если не война, хотя и без оружия, когда царю нарочно оказывают неповиновение, перечат там, где возможно содействовать, а все законы, о коих он печется, любым способом стремятся обойти? Итак, всякий властитель поступил бы по справедливости, учинив и названную расправу, и обойдясь еще суровее, и обрушился бы на своих обидчиков подобно удару молнии. Государь же, и в остальных делах сдерживая свой гнев, и в этом его одолев, отказался от надлежащего наказания, ограничившись даже не тюрьмою, а одним лишь ее названием, так что никто из начальствующих лиц не переступил тюремного порога. И сие легкое и быстрое наказание завершилось еще до наступления ночи, ибо едва одни стражники приводили туда заключенных, как другие тотчас их отпускали. Те уж и отобедать успели, и отдохнуть, а государь всё не находил времени ни на то, ни на другое. И те радовались, что избежали наказания, а он скорбел о том, чему их подверг, говоря, что сильно обижен на город за то, что тот вынудил его прибегнуть к подобным мерам. И хотя наказание сие было весьма мягким, государь почитал его слишком суровым и даже чрезмерным. Ибо не дожидался он, пока кто-то из друзей осудит его за содеянное, но сам корил себя за сей поступок, и не оттого, полагаю, будто наказанные были невиновны, а оттого, что негоже, как он думал, подвергать таковому градоначальников, хотя бы те и нарушали закон.
Немного спустя, когда город позволил себе еще большую дерзость
[684], — и хотя говорю я о своем отечестве, но нет ничего почтеннее истины, — то, оставив в стороне кары, привычные у владык, он прибег к средствам риторики и, невзирая на то, что мог учинить пытки и казни, излил свой гнев в речи к этому городу
[685], поступив, полагаю, так же, как прежде по отношению к некоему римлянину
[686]. А тот вел себя с ним столь непочтительно, что мог бы поплатиться если не головой, то имуществом, однако же государь имущества его не лишил, но лишь уязвил стрелой своего письма. И такого-то государя, отнюдь не скорого на расправу, вновь сговорились убить десять воинов, дожидаясь для этого лишь военного смотра! Но, по счастью, напившись допьяна, они проговорились, и всё, что до тех пор держалось в тайне, вовремя открылось
[687].
Иной, наверное, удивляется, что, хотя государь был кроток и милосерден, а если кого и наказывал, то гораздо мягче, чем следовало бы, враги его среди подданных никогда не переводились. Однако о причине сего я скажу, помянув его скорбную для меня кончину. Ныне же о приближенных государя подобает сказать лишь то, что одни из них производили впечатление людей достойных и являлись таковыми на самом деле, а другие только казались достойными, но в действительности ими не были, и что одних ничто не могло совратить с истинного пути, а других изобличило время. Ибо, когда он получил безраздельную власть и стал распоряжаться казною и всем прочим, что составляет богатство государя, первые находились при нем бескорыстно и не умножали своего состояния, имея к нему легкий доступ, но считали достаточной выгодой для себя платить ему любовью за любовь и видеть, как их возлюбленный государь умело правит столь обширной державою. И хотя он не раз предлагал и, клянусь Зевсом, даже умолял их принять от него в дар землю, коней, дома, серебро и золото, они уклонялись от сих даров, говоря, что и без того богаты
[688]. Но так поступали лишь достойнейшие из его подданных. Другие же, кто давно жаждал наживы и только делал вид, что к ней равнодушен, выжидали удобного случая и, едва лишь он выдавался, пользовались им — и прося, и получая, и снова прося, а получив, не довольствовались этим, ибо ничто не могло насытить их алчности
[689]. Он же, хотя по великодушию своему и расточал дары, более уже не считал тех людей благородными и скорбел о заблуждении своем, однако из сочувствия к ним сие терпел, ибо ставил верность дружбе превыше желания освободиться от подобного окружения. Таким образом, он хорошо знал природу всех своих приближенных и, усердию одних радуясь, а из-за других печалясь, первых держался сам, но и вторых от себя не гнал. И случалось так, что он восхищался софистом, каковой превосходил благородством свое звание
[690], и, наоборот, порицал философа, чей нрав не соответствовал этакому облику, однако вынужден был сносить всё остальное, лишь бы не казалось, будто, заняв царский трон, он позабыл о прежней дружбе.
Однако, сдается мне, вы желаете услышать о последнем и величайшем его деянии — о том, как он сокрушил персов и их страну, отправившись против них в поход. Да и неудивительно, что вы давно и с нетерпением этого ожидаете, ибо главное — как он погиб, одолев врага, — вы уже знаете, а подробностей о том либо не слышали вовсе, либо слышали мало. Понуждают вас к тому и мысли о мощи персов — как побеждали они огромное войско Констанция и на сколь дерзкого и бесстрашного врага отважился идти государь. Ведь Констанций, не считая и прочих островов, и тех, что находятся в Океане, владел землею от самых берегов Океана до течения Евфрата, коя, помимо всего остального, изобиловала крепкими телом и храбрыми духом людьми, способными любое войско сделать несокрушимым. И тем не менее этот правитель, славный своими приготовлениями к войне
[691] и владевший великим числом превосходных городов, взимавший огромные подати с жителей и вывезший немало золота из рудников, облачивший своих всадников в доспехи получше персов, а самих коней защитивший бронею от ран
[692], — этот правитель, получивший в наследство от отца войну
[693], для коей требовался храбрый царь и хороший военачальник, словно бы поклялся быть союзником врагов: не помышлял он ни о том, чтобы завоевать их землю, ни о том, чтобы защищать от нападений свою, но, ежегодно с наступлением весны отправляясь штурмовать крепости и переправившись за Евфрат, сидел на месте, окружив себя огромным войском, готовый бежать при первом же появлении врага, а едва заслышав вопли осажденных жителей, почитал за благо в сражение не вступать и гибели своих подданных не препятствовать
[694].
К чему же привело это сидение на месте? Враг разрушал стены, срывал до основания города и возвращался домой с добычей и пленниками, а Констанций посылал людей осматривать руины и благодарил судьбу за то, что не подвергся гораздо худшему, а затем возвращался восвояси, шествуя через города среди бела дня и внимая приветственным крикам толпы, каковые причитаются победителям. И так повторялось из года в год: царь персов наступает, а наш медлит, тот штурмует города, а этот только раскачивается, тот уже близко, а этот еще допрашивает лазутчиков, тот побеждает, а этому лишь бы не сражаться, тот похваляется толпою пленников, а этот — конными ристаниями, тому города шлют венки за победу, а этот сам увенчивает возниц
[695]. Разве не прав я, назвав его союзником персов? Ведь позволить что-либо, будучи в силах этому помешать, — пожалуй, всё равно, что помочь собственными руками! Но пусть никто не думает, будто я забыл о той ночной схватке
[696], когда стороны разошлись, понеся обоюдный урон, или о том морском сражении среди суши, когда наши с трудом отстояли многострадальный город
[697]. Это-то и прискорбно, что, получив в наследство храбрых воинов, способных приводить в содрогание врага, прежний властитель приучил их самих испытывать страх и негодной выучкой растлил благородные сердца.
А о том, сколь велика сила выучки в любом деле, свидетельствуют и мудрецы, и старинные предания
[698], ибо выучка способна лучшего сделать худшим, а худшего — лучшим, если первому она вредит, а второму помогает. Благодаря ей женщины оседлали коней и превзошли мужчин в военном искусстве
[699]. Но если человека, хотя бы и доблестного от природы, заставить жить в постоянном разгуле и пьянстве, доблесть покинет его, и, усвоив сие взамен прежних добродетелей, он станет искать услады в подобных развлечениях, прежний образ жизни станет ему ненавистен, и новые привычки разрушат его природу. Подобное этому, говорю я, испытали по вине Констанция и его солдаты, которые хоть и брали в руки оружие, да в бой не вступали и, покуда их соплеменников захватывали в плен, привыкали спать по палаткам, не страшиться позора и опасаться смерти. Поначалу, как и подобает отважным людям, они негодовали, но постепенно возмущение их пошло на убыль, затем уступило место молчаливому согласию и, наконец, сменилось бурным одобрением. Вот почему поднятое вдали облако пыли, каковое обычно бывает от скачущей конницы, не понуждало их к бою, а обращало в бегство. Ибо стоило появиться отряду всадников, да и то небольшому, как они уже молили о том, чтобы земля разверзлась у них под ногами
[700], соглашаясь терпеть что угодно, лишь бы не зреть поблизости персов. Вместе с мужеством покинула их и смелость в речах, и робость их сделалась настолько для всех очевидной, что, когда на постое они требовали себе угождений, одно упоминание о персах прекращало сии домогательства. И стоило только кому-нибудь в шутку сказать, что вон-де идут персы, как они краснели и отступались. Итак, когда их вели против соплеменников
[701], они были горазды и наносить, и терпеть удары, но страх перед персами, год от года усиливаясь, укоренился в их душах так глубоко, что, можно сказать, они боялись их даже на картинах.
И этих вконец распустившихся воинов сей восхищения достойный муж
[702] повел против персов, и они за ним следовали, мало-помалу вспоминая свою былую храбрость и надеясь, по его замыслам, пройти сквозь огонь живыми. Каковы же были эти его замыслы? Зная, как важно их не обнаружить раньше времени, — ибо нет пользы в том, чтобы обо всём говорить наперед, но весьма полезно бывает многое и утаить, — Юлиан не стал сообщать другим ни о времени своего наступления, ни о пути передвижения, ни о военных хитростях, зная, что каждое его слово подслушивают лазутчики
[703]. Но повелел наместнику снарядить побольше судов на Евфрате, нагрузив их съестными припасами, и еще до окончания зимы неожиданно для всех переправился через реку. Однако не пошел он в ближайший и многолюдный город, называемый Самосатой, — самому посмотреть и себя показать, и принять полагающиеся государю почести, но, понимая, что обстоятельства требуют расторопности, направился в город, где находился большой и древний храм Зевса
[704]. Там, подивившись и помолившись богу
[705], дабы даровал он ему победу над Персидской державою, Юлиан отобрал из своего войска двадцать тысяч гоплитов
[706] и послал их к Тигру, приказав охранять те земли, если там явится какая-нибудь опасность, и явиться к нему, когда того потребуют обстоятельства. Так же надлежало поступить и армянскому царю
[707], — ведь неприятель прошел по лучшим областям его земли, как обычно, спалив всё дотла, — и соединиться с нашим государем, а затем, действуя с ним сообща, либо изгнать врагов из страны, если те обратятся в бегство, либо уничтожить на месте
[708]. Распорядившись таким образом, Юлиан двинулся в путь, держась течения Евфрата, который давал воду для питья и по которому плыли суда с провизией
[709]. Заметив множество верблюдов, привязанных один к другому и навьюченных тюками, — а было в тех тюках сладчайшее вино из разных стран и пряности, коими люди измыслили подслащать вино во время питья, — и спросив провожатых, что они везут, он, услышав их ответ, повелел им оставить сей источник удовольствий там, ибо хорошим воинам подобает пить вино, каковое добывают они своим копьем
[710], сам же он является одним из воинов и должен делить трапезу с остальными.
Так, отринув всяческую роскошь и довольствуясь только самым необходимым, он продолжал свой поход, а земля давала в корм его скоту отличную траву, ибо в той стране уже наступала весна. Продвигаясь вперед, увидали они крепость, расположенную на отмели реки
[711]. И была она первой крепостью, попавшейся им на пути и завоеванной не оружием, а тем страхом, каковой они внушали местным жителям. Ибо едва те узрели, что холмы напротив сплошь усеяны солдатами, как, не вынеся блеска их доспехов, открыли ворота и, сдавшись в плен, отправились поселенцами в нашу страну
[712]. А большого количества изъятых у персов припасов хватило всему войску на многие дни похода, так что и в пустыне еды у них было вдоволь, как если бы пребывали они в городах.
Другая крепость стояла на острове с отвесными берегами и со всех сторон была окружена стеною
[713], так что снаружи не оставалось места даже ногу поставить. Признав, сколь благоприятно для жителей сие местоположение, и рассудив, что ежели он отважится на невозможное, то лишь угодит врагам и что одинаково бессмысленно как отказываться от того, чем можно овладеть, так и биться за то, чем овладеть нельзя, государь объявил островитянам, что вскоре вернется обратно, и, вселив немалый страх в их души и смутив таковыми словами, продолжил свой путь по пустыне и достиг пределов ассирийцев. Страна же сия благоприятствует жителям не только обилием и красотою плодов при малом посеве, но и урожаем виноградников, финиковых пальм и прочими дарами возделанной земли. Воины это видели и охотно тем пользовались, ибо в каждой деревне всего было вдоволь, деревень же было немало, и все большие, так что многие из них ни в чем не уступали мелким городам, и таковых было полно понастроено по всей Ассирии. А потому, встречая их по дороге, войско не выражало недовольства трудностями похода, ибо достойной наградой за все тяготы пути являлось для них плодородие этой земли. Они вырубали пальмы, вырывали виноградные лозы, разоряли кладовые, крушили всё подряд, давая выход гневу, ели и пили, но не допьяна — из-за страха перед недавней казнью пьяного воина, а сохраняя свою воинскую силу и следя за тем, чтобы не напиваться.
А злосчастные ассирийцы, бросившись в бегство и покинув равнину, укрылись в горах и издали взирали на постигшее их несчастье, превратив враждебную доселе реку в свою союзницу. Как же река одним помогала, а другим противодействовала? А вот как. Евфрат, будучи полноводным и один стоя множества рек, никогда не мелеет, но весной выходит из берегов, — причиной же тому дожди, кои превращают в воду снег, скопившийся за зиму в Армении. Поэтому земледельцы, живущие по его берегам, проведя туда и сюда каналы, распоряжаются рекой, как египтяне — Нилом, по своему желанию делая то одно, то другое — то пуская, то не пуская воду на поля
[714]. И вот, когда нагрянуло наше войско, ассирийцы, открыв перед потоком запруды и наполнив каналы водой, затопили с их помощью всю страну. Для солдат это было тяжелейшим бедствием, ибо вода стояла повсюду, а в каналах доходила кому до груди, кому до шеи, иных же покрывала с головою, и те выбивались из сил, чтобы и самим спастись, и доспехи уберечь, и припасы, и вьючных животных. Кто умел плавать, тому помогало его искусство, а кто не умел, тому было намного хуже, и одни наводили мосты, а другие, не желая терять времени, пускались на авось. И хотя тем, кто передвигался по высокому узкому берегу, удавалось оставаться сухими, однако дорога эта была тесной и скользкой, поэтому избегавшие ее шли по воде, и нередко раб протягивал руку хозяину, а хозяин вытаскивал из воды раба. Но, подвергаясь стольким опасностям, они не вопили, слез не лили, поход не кляли, слова худого не проронили и даже про себя не помыслили, но так были рады, будто шествовали через сады Алкиноя
[715], — потому, я полагаю, что питали надежду на лучшее, и еще потому, что государь добровольно разделял с ними все тяготы пути. Ибо он не ступал по доскам, устланным над головами солдат, как, вероятно, сделал бы любой другой, — един беззаботен средь тягот сотен, — но, первым рассекая своим телом ил, грязь и воду и показывая солдатам и обозным свою промокшую хламиду, призывал к тому остальных не словами, а делами.
Устроив великую топь, ассирийцы с помощью таковой выдумки надеялись либо заставить наше войско отступить, либо его погубить, но воины избегли беды, как будто все были крылаты или как если бы Посейдон заставил воду расступиться перед ними, и изрядным числом пошли в наступление, да отнюдь не на крепостцы. А был у ассирийцев великий город, носивший имя тогдашнего царя
[716], стены коего содержали внутри себя еще одно кольцо стен
[717], так что в первом городе находился второй — меньший в большем, словно сосуды, вложенные один в другой. Едва начался штурм, как гонимые страхом жители сгрудились за внутренним кольцом стен, более крепким, чем первое. Осаждавшие же, заняв одну стену и подступая ко второй, были встречены градом стрел стоявшими сверху лучниками, и некоторые из них погибли. Но, соорудив над стеною осадный вал, они принудили сбившихся в кучу жителей сдаться. Те согласились при условии, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будут выданы персам, ибо знали, что те за такое сдирают кожу
[718]. А это значит, что хотя и были они захвачены в плен, но сражались усердно и в бою не щадили сил.
Таким образом, всё вокруг покорялось государю, и ни в чем сей муж не знал препятствий. Однако суров он был не только с врагами, но и со своими, если те не умели либо победить, либо погибнуть. Так, когда всадники, отправленные добыть корм для лошадей, плохо справились со своей задачей, ибо при этом пал их военачальник, государь предал казни тех, кто того заслуживал
[719], и отдал сей приказ, не сидя в шатре, а стоя посреди возвратившихся воинов и заставив их отступить в полном вооружении, хотя не имел при себе и троих телохранителей. Вот как приучил он солдат к дисциплине и к покорности любому решению властителя. Итак, выйдя навстречу всадникам, с криком метавшимся в поисках погибшего, и заслуженно покарав тех, кто не защитил своего военачальника, он показал всем остальным, что ждет нерадивых воинов, и вошел в шатер, вызвав еще большее восхищение. Желая как можно большего разорения вражеской земли, он совершал частые остановки, так что прочее войско оставалось в укреплениях, а легкая пехота и те, кто подюжей, рассеивались туда и сюда по стране и, находя подземные убежища ассирийцев, приводили их детей вместе с матерями, так что плененные намного превосходили числом полоняющих. Но даже и при таковых обстоятельствах ни у кого не было недостатка в пище.
И они отправились далее, чтобы вновь совершить тот же подвиг, — к каналам, однако на этот раз дело обстояло гораздо хуже, поскольку земля была изрыта сильнее и глубже прежнего. Здесь государь и явил себя поистине спасителем всего войска. Ибо, пока иные расхваливали другой путь — более длинный, но зато посуху, он сказал, что этого больше всего и опасается — жажды и любого недостатка воды, прибавив, что если первый путь грозит трудностями, то второй — гибелью, и что гораздо лучше идти, страдая от избытка воды, чем искать воду там, где ее нет. Затем, вспомнив об одном древнем римском полководце, погубившем подобной неосмотрительностью и себя, и своих солдат, государь тут же зачитал им в книге место о поголовном истреблении его войска
[720] и этими словами заставил устыдиться негодных советчиков, а остальных избавил от всяческих сомнений. И сейчас же много пальм было повалено на землю и из них сооружено множество мостов для облегчения переправы многочисленного войска
[721]. И в своем честолюбивом стремлении он опережал идущих по мосту, сам бредя по колено в воде
[722]. Так, все усилия врагов оказались тщетны, и вода, с коей те рассчитывали победить, сама была побеждена.
И другой силе вскоре предстояло явить свою слабость. Было на некоем острове мощное укрепление, стены коего совокупно с берегами доходили до самого неба
[723] — такова была высота и тех, и других. Низы крепости, кроме очень небольшого пространства, заросли камышом, скрывавшим тех, кто носил в город воду, и те по спуску, незаметному для находившихся снаружи, беспрепятственно ходили по камышу к реке. Стена же была не под силу никаким осадным орудиям, будучи, с одной стороны, воздвигнута на острове, каковой она весь охватывала кольцом, а с другой — и это при таковой-то высоте острова — сделана из обожженного кирпича, скрепленного асфальтом
[724]. Сия твердыня не внушала никакого желания на нее покушаться, но, поскольку выбежавшие оттуда персы напали на передовую часть войска и едва не ранили самого государя
[725], потерпевшие вынуждены были приступить к осаде. И они обложили крепость, а персы со стен смеялись, шутили, издевались, стреляли из луков и попадали в цель, считая, что действия наших воинов похожи на то, как если бы им вздумалось взять приступом небо. Поначалу государь сам камнями и стрелами разил стоявших на стене, так что иные, пронзенные стрелами, падали вниз, а затем мостом соединил остров с берегом, а возводили его под прикрытием кожаных лодок
[726]. Перевернув последние вверх дном и превратив дно в крышу, солдаты, укрывшись под лодками, делали свое дело, огонь же и стрелы персов были бессильны против сего прикрытия, каковое ни стрела не пронимала, ни камни не пробивали, ни огонь не жег. Однако персов сие нимало не смущало, но, зная, что враги их ведут подкоп и вовсю готовятся к штурму, они пировали день и ночь, будто наши солдаты занимались бесполезной работой. А те трудились изо всех сил и не знали устали, пролагая себе путь и продвигаясь всё выше и выше. По ширине же подкоп был рассчитан на одного человека, и вот наконец первый воин, вскарабкавшись по нему в полночь, незаметно проник внутрь одной из башен, за ним последовал второй, за вторым — третий, и всякий желал принять участие в штурме. Бывшую там старуху с ребенком, едва та их услыхала, они заставили умолкнуть
[727] и, захватив ворота башен, дали знак находившимся внизу воинам поднять боевой клич. И как только сей клич разразился во всю мощь, стражники в испуге повскакали с постелей, так что нашим воинам, представшим перед ними, оставалось лишь убивать всех подряд
[728], большинство же персов погибали сами, бросаясь со стен. И началась великая погоня за теми, кто пытался скрыться, и всякий стремился лучше убить врага, чем захватить его в плен, так что враги спрыгивали со стен, а внизу их встречали копья
[729] — живых, раненых или мертвых, ибо для смерти было достаточно одного падения. Вот какой праздник справлялся ночью божествам войны
[730], но и бог зари
[731] узрел сие торжество. Лишь в одном не послушались воины государя: тот повелел брать персов в плен и проявлять к ним милосердие, но они, памятуя о стрелах и зная о раненых, искали утешения от печалей и забот в убийствах, ибо гнев направлял их руку, и просили у государя прощения, что мстят врагам за свои страдания.
Итак, вслед за людьми пала и эта твердыня, из всех крепостей персов подвергшись наибольшему разрушению. Ибо чем больше она выделялась среди прочих своим обустройством, тем на скорейшее уничтожение была обречена. А для персов урон был и в том, и в другом одинаков — что заново крепость построить, что оставить развалины. И был сей подвиг столь славен и столь превосходил силы человеческие, что покорители твердыни надеялись отныне не ведать тягот, гордыня же врагов была сокрушена вместе со стеною, и те считали положение свое безнадежным. Даже государь, чьи деяния всегда были велики, но каковой всегда почитал их ничтожными, не мог не признать величия содеянного, сказав то, чего прежде не говорил: что вот, мол, сирийцу и повод для речи, разумея при этом меня
[732]. Повод для речи-το дивный, о друг мой любезный, но, когда тебя нет, какая мне радость в жизни?
Но возвращаюсь к тому, что молва об участи, постигшей крепость, на многие мили очистила войску путь от противника. Так что наши обозные, прибывая в деревни, забирали то, что не захватили с собой уходившие жители, а точнее, что-то забирали, а чего не могли унести, либо бросали в реку, либо предавали огню. Так случилось и с дворцом персидского царя, каковой стоял на берегу реки и изобиловал всяческими красотами в духе персов:
[733] постройками, садами, обилием деревьев, благоухающими цветами. Напротив него находился загон с дикими кабанами, в коем персидский царь упражнялся прежде в охоте, а ныне всё это послужило угощеньем для римлян
[734]. И вот был сожжен этот дворец, славившийся, как говорят, не меньше дворца в Сузах
[735], а за ним — другой, а за теми — третий, хотя и уступавший красотою двум первым, но красоты отнюдь не лишенный.
Занятые подобными делами, дошли они наконец до тех давно желанных городов, кои украшают вавилонскую землю вместо Вавилона
[736]. Между этих городов протекает река Тигр, в которую в некотором отдалении от них впадает Евфрат. И здесь трудно было решить, как надобно поступить дальше: если бы воины поплыли к тем городам на судах, то нельзя было бы к ним подойти; если бы двинулись с суши, то потеряли бы свои суда; если бы поднялись вверх по Тигру, то потеряли бы много сил, а суда оказались бы между двух этих городов. Кто же разрешил сие затруднение? Не Калхант, и не Тиресий
[737], и не иной какой-нибудь предсказатель! Но, захватив в плен соседних жителей, государь стал отыскивать судоходный канал, известный ему по книгам: был он прорыт древним царем и соединял Евфрат с Тигром выше обоих городов
[738]. И если первый из пленников по молодости лет ни о чем не ведал, то второй, уже в годах, поневоле обо всём рассказал, видя, что государь прекрасно знаком с местностью, словно один из ее уроженцев, — столь давно, даже и не бывая здесь, он изучил ее по книгам. Итак, старик сообщил, где находится канал, и как он заперт, и как раскопать засыпанное устье. И по воле государя все препоны были устранены. Из двух же потоков один оказался пересохшим, а другой понес суда мимо войска к Тигру. Прилив же Тигра, к коему прибавились еще и воды Евфрата, внушил жителям городов великий страх, как бы река не сокрушила стен. Тут явились отборные отряды персидского войска и заполонили берег сверкающими щитами, ржущими конями, искусно сработанными луками и громадными слонами
[739], коим одинаково легко топтать что людей, что нивы.
Итак, впереди были враги, с обеих сторон — река: та, что была направлена сюда силой, находилась поближе, а другая — подальше, и еще персидское войско, ну а позади — вконец разоренная земля, что делало отступление по ней невозможным. Сие положение требовало от наших воинов чрезвычайной отваги, если не хотели они погибнуть от голода, так что все в смятении взирали на единого мужа. А тот поначалу, словно был у него повод веселиться, разровнял место для ристалища и, созвав на состязание всадников, назначил награды лошадям
[740], зрителями же сего действа, помимо своих, явились и враги, причем первые расположились внизу, вокруг ристалища, а вторые глядели со стен и почитали государя счастливым, коль скоро тот веселился, словно победитель, а себя самих оплакивали, ибо не могли ему помешать. И покуда войско было занято скачками, суда по приказу государя были разгружены — якобы для того, чтобы посмотреть, не закончились ли припасы, а на самом деле, чтобы незаметно и быстро разместить на них солдат
[741]. И вот, собрав военачальников после пира, он сказал им, что остается лишь один путь к спасению — переправиться через Тигр
[742], дабы вновь обладать неразоренной страною. И пока остальные молчали, тот, кто начальствовал большею частью войска, высказался против, опасаясь крутизны берега и численного превосходства врага. Тогда государь, заявив, что природа местности останется тою же, а врагов, если они будут медлить, станет только больше, передал начальство другому и предсказал, что этот последний победит, хотя и не избежит ран, и что ранен он будет в руку, и даже сказал, куда именно, и что серьезного лечения не понадобится
[743].
Итак, солдаты уже были на судах, а он стоял, глядя в небо, и, как только получил некий знак, дал сигнал начальникам отрядов, а те — остальным, так тихо, как только было возможно. И они поплыли, а когда стали высаживаться, ближайшие из врагов их заметили и начали стрелять, однако на каковую крутизну не дерзнули бы взобраться и легковооруженные воины даже в мирное время, днем и в отсутствие обороны, на таковую взобрались гоплиты ночью, в то время как над головами у них были враги
[744]. Как им сие удалось — на этот вопрос мы и теперь не могли бы ответить! Ибо скорее это было делом не людей, а какого-то бога, своими руками возносившего наверх каждого воина. Итак, едва лишь взобравшись, они завязали бой и тех, кто попадался им на пути, разили сплеча, а прочих, представ пред ними, как в дурном сне, убивали еще спящих
[745]. И проснувшиеся имели лишь то преимущество перед спавшими, что сознавали свою жалкую участь, ибо не могли защититься от нападавших. И поскольку дело было темной ночью, удары мечей сыпались один за другим, доставаясь иные — людям, а иные — деревьям, о чем свидетельствовал стоящий повсюду треск, и со всех сторон раздавались вопли раненых, побиваемых, умирающих и молящих о пощаде. А наши воины шли вперед, сметая всё на своем пути, и вся земля была усеяна телами павших, так что было их там никак не меньше шести тысяч
[746]. И если бы не медлили они возле мертвых, томимые жаждой наживы, а, бросившись к воротам, вышибли бы их или сломали, то овладели бы прославленным Ктесифоном
[747]. Но они набросились на золото, серебро и коней погибших
[748], а с наступлением дня принуждены были вступить в бой с всадниками, и те поначалу их теснили, но затем обратились в бегство, сбитые с толку каким-то воином, выскочившим из-за ограды. И когда остальное войско переправилось через реку и все в изумлении взирали на поле битвы, то участвовавшие в избиении врага омылись в реке, и воды Тигра окрасились кровью персов.
Пусть кто-нибудь подсчитает, сколько раз персы вторгались в нашу страну и сколько зла при этом они причинили, и пусть сравнит сей один поход с теми многими набегами, и он скоро поймет, что, хотя последние и гремели славой, наш был знаменит гораздо более, ибо враги не встречали никакого препятствия, а государь отважился выступить против всего вражьего воинства! Так что, если бы кто спросил персов, предпочли бы они не совершать того, что совершили, дабы не терпеть потом того, что претерпели, то все, начиная с их царя, ответили бы, что понесенный ими урон значительно превосходит тот, что причинили они нам. Всякий может в этом убедиться: ведь Констанций при
вторжении персов ни разу не был принужден испрашивать у них мира, а персидский царь после упомянутых мною событий прислал послов просить о прекращении войны и о том, чтобы победители не шли дальше, а приняли бы его державу в свои друзья и союзники. Один из персидских сановников, посланный с этой целью их царем, явился к брату последнего
[749] — а тот вместе с нами участвовал в походе против персов — и, обнимая его колени, просил передать нашему государю сие предложение. Тот же, обрадовавшись, поспешил к государю, как если бы нес добрые вести, и с улыбкой сообщил ему эту новость, ожидая за нее награды. Но государь велел ему молчать, посланника отослать без ответа, а общение с ним выдать за встречу с сородичем, ибо не считал он достойным делом прекращать войну, да и само слово «мир», по его мнению, развращало воина. Ведь кто убежден, что можно и не сражаться, хоть заставь его — будет сражаться плохо. Вот почему он позаботился о том, чтобы сладостное слово «договор» не слетело ни с чьих уст. Кто в этом случае не стал бы похваляться перед своими тем, сколько у него войска, и не созвал бы всех на сходку для произнесения речи? Но хотя его и склоняли к миру, он пошел к городской стене и стал кликать тех, кто за нею укрылся, говоря, что они, мол, поступают как женщины, а от мужского дела бегут. Когда же осажденные ответили, что пусть-де он разыщет их царя и перед ним явит свою доблесть, государь возгорелся желанием узреть Арбелу
[750] и пройти по ней — с боем или без боя, чтобы вместе с победой Александра на том самом месте
[751] славилась и его собственная победа.
И решил он идти дальше и завоевать все земли, какие только есть во владении персов, а начать с ближайшей, хотя никто и не явился ему на подмогу — ни наши отряды, ни отряды союзников:
[752] последние — из-за измены вождя племени
[753], а первые — решив, что им важнее поквитаться с врагами, ибо те, напав на них во время купания в Тигре, перестреляли, как говорят, много народу. А кроме того, ослаблению порядка в войске способствовало и соперничество военачальников, ибо, когда один намеревался идти вперед, другой, убеждая его остаться на месте, своим угождением тому добивался своего. Однако сие не ослабило рвения государя. И хотя корил он про себя тех, кто к нему не явился, но совершить помышлял всё то же, что и в случае их прибытия, простирая свои замыслы до Гиркании и индийских рек
[754]. И когда уже войско устремилось к тем рубежам и одни уже выдвигались, а другие еще снаряжались, кто-то из богов изменил намерения государя, увещевая его, как и в стихе, помнить о возвращении
[755]. Между тем суда, как и задумывалось ранее, были преданы огню: сие было лучше, чем оставлять их врагам
[756]. Впрочем, так подобало поступить и в том случае, если бы не было принято поначалу иное решение, а сразу явилась бы мысль о возвращении. Ибо из-за сильного и быстрого течения Тигра, сносившего наши суда, требовалось большое количество рук и, чтобы тащить суда по воде, нужно было не меньше половины войска
[757]. Сие же означает, что враги бы одолели сражавшихся, а следом и остальное войско сдалось бы без боя. Более того, огонь уничтожил всякое побуждение к малодушию. Ибо всякий, кто раньше, не желая трудиться и притворяясь больным, лежал и спал на корабле, теперь, с истреблением оных, оставался в боевом строю. А что наши при всём желании не смогли бы сохранить за собою столько кораблей, о том свидетельствует вот какое обстоятельство: ведь и имевшиеся суда, а таковых для наведения мостов было оставлено пятнадцать, удержать им было не под силу:
[758] стремительное течение, с коим не могло совладать ни искусство матросов, ни труд многих рук, сносило суда вместе с бывшими на них людьми прямо в объятья врагов, так что, если кому и подобало пенять на убытки, причиненные сожжением кораблей, то единственно персидскому царю, — и, говорят, он не раз сокрушался по этому поводу.
Так, пользуясь для питья водой Тигра, находившегося от них по левую руку, шли они через область лучшую, нежели прежде
[759], смело захватывая новых пленных и прибавляя их к старым. Когда же они миновали плодородную область и очутились посреди земли, лишенной всякой растительности, хуже каковой и быть ничего не может, государь повелел войску взять с собой припасов на двадцать дней, — столь долгий путь предстоял им до славного города, находившегося на границе с нашим государством
[760]. Тут-то и показалось впервые персидское войско
[761] — не толпой, а построенное в боевом порядке и одетое в роскошные золотые доспехи. Но как только один из передних наших воинов пал и завязалась общая схватка
[762], ни конница, ни пехота врагов не устояли перед нашими гоплитами, а, уклонившись от боя, тотчас бросились в бегство, лишь этому одному военному приему и обученные. С тех пор неприятельское войско больше не появлялось, но персы устраивали засады, да кучки всадников совершали свои подлые набеги, нападая из укрытий на наши замыкающие отряды, причем в стычках этих они не столько убивали, сколько сами погибали, ибо наш гоплит, проскользнув мимо копья их всадника и распоров мечом брюхо коня, валил на землю обоих, и закованный в железо враг
[763] становился легкой добычей меча. Такова была участь тех, кто подходил близко, а те, что сильны были действовать издали, то есть лучники, язвили воинов стрелами в правый бок, не закрытый доспехами, и, приковывая к себе их взоры, вынуждали идти медленно. Однако же войско продвигалось вперед, и туча стрел ему не была помехой. Ибо государь, разъезжая на коне взад и вперед, помогал тем частям, каковые теснил враг, при необходимости приводя к ним отряды от остальных, что находились в безопасности, и посылая к замыкающим лучших военачальников.
Итак, до сих пор он шествовал как победитель, и мне сладостно было о том рассказывать, но ныне — о боги! о высшие существа! о, неверность судьбы! — к какому я приступаю рассказу! Хотите ли вы, чтобы я умолчал о прочем, прервав свою речь на более приятном месте, дабы доставить вам, слушателям, великую радость вместо рыданий? Что же лучше — плакать или говорить? Но сдается мне, что вы, хотя и поражены случившимся, всё же ждете о том рассказа. И в самом деле, стоит обо всём рассказать, дабы положить конец ложным слухам о его кончине.
Итак, когда персидский царь уже изрядно утомился, был наголову разбит и боялся, как бы наше войско, захватив его лучшие земли, не осталось там же на зимовку, назначив послов и определив дары государю, среди коих был и победный венок, на следующий же день намеревался их отправить, прося у него мира на любых условиях. Между тем наши воины, коим на ходу пришлось отражать нападение врага, случайно разомкнули строй, да и поднявшийся вдруг сильный ураган, взметая пыль и собирая тучи, пришелся на руку тем, кто желал помешать войску
[764]. И государь, дабы вновь соединить разомкнувшийся строй, поспешил туда с одним лишь своим оруженосцем. А в это время копье всадника, брошенное в него, бывшего без доспехов, — ибо, я полагаю, что из-за сильного перевеса врага он не успел надеть панцирь
[765], — пронзив его руку, попало ему в бок
[766]. И упал на землю сей благородный муж, но, истекая кровью и желая скрыть случившееся, тотчас вскочил на коня
[767], а поскольку кровь изобличала рану, он кричал всем, мимо кого проезжал, чтобы те не боялись, ибо рана его не смертельна. Так он говорил, но страдание превозмогало. Его отнесли в шатер и положили на постель — на львиную шкуру поверх голой земли, ибо таково было государево ложе. Когда же врачи сообщили, что спасения нет, и войско известили о его смерти, то все возопили, ударяя себя в грудь, и орошали землю слезами, и оружие упадало на землю, выскальзывая из рук
[768], и мнилось, что не найдется среди воинов никого, кто вернется домой вестником сего несчастья. Персидский же царь пожертвовал дары, кои намеревался послать государю, богам в благодарность за свое спасение, а сам, как и полагается, сел обедать за стол, хотя прежде довольствовался вместо стола землею, и прибрал, согласно обычаю, свои волосы, хотя в пору опасности оставлял их в небрежении, и со смертью одного этого мужа вел себя так, словно всех его недругов вдруг поглотила бездна. Так, и наши, и чужие возвестили своим криком, что дела у римлян вершились по разумению государя, — одни при этом печалясь, другие же веселясь, и одни почитая себя погибшими, а другие — уже победившими.
Но и по предсмертным словам всякий может судить о его доблести
[769]. Ибо в то время как все, обступив его, подняли плач, и даже люди, не чуждые философии, не могли сдержать слез
[770], он упрекал и остальных, и в особенности последних, что хотя прожитая жизнь сулит ему Острова блаженных, те оплакивают его так, будто он заслужил Тартар. Шатер же его поистине походил на темницу Сократа, присутствующие в нем — на тех, что находились при философе, рана — на яд, а сказанное государем — на слова самого Сократа, и как тогда один он не плакал, так теперь не плакал и этот муж
[771]. Когда же друзья попросили государя назначить преемника, тот, не видя вблизи никого себе подобного, оставил сей выбор за войском. Завещал он им также всячески себя беречь, ибо и сам немало усилий прилагал к их спасению.
Кто же был его убийцей? Всякий желает это услышать. Имени я не знаю, но убил его не враг
[772], и об этом ясно свидетельствует то, что никто из врагов не получил награды за нанесенную ему рану. А ведь персидский царь через глашатаев сулил убийце почести, и явись тот к нему, то получил бы он великую награду. Но никто из них даже ради награды не стал лгать. И за это нашим врагам великая благодарность, ибо не присвоили они славы за то, чего не совершали, но предоставили нам самим искать у себя убийцу. Ибо те, кому была выгодна его смерть, — а то были люди, живущие не по законам
[773], — и раньше злоумышляли против государя, а когда получили таковую возможность, то сделали наконец свое дело, ибо понуждали их к тому и собственные преступления, коим не находилось места в его царствование, и в особенности — его почтение к богам, каковое являл он вопреки их устремлениям.
И как Фукидид сказал о Перикле — что его смерть лучше всего доказала, сколь много полезного он сделал для государства
[774], так же можно сказать и об этом муже. И хотя многое еще оставалось как прежде, но люди, оружие, кони, начальники, войско, пленные, казна, припасы — всё это обратилось в прах от одной лишь перемены правителя. Ибо сначала наши воины не выдержали натиска тех, кого раньше гнали, а затем, прельстившись словом «мир», — ибо враги вновь применили ту же уловку — в один голос закричали, что с радостью его принимают, и первым поддался на уговоры тот, кто стал царствовать
[775]. А Мидиец
[776], соблазнив их долгожданным покоем, тянул время: медлил с вопросами, не спешил с ответами, одно принимал, другое отвергал, а его многочисленные посольства поглощали наши припасы
[777]. Когда же запасы хлеба и всего остального у войска истощились и солдаты узнали нужду и были уже на всё согласны, тогда-то царь и потребовал себе легчайшей платы — городов да земель, да племен, бывших оплотом безопасности земли римской
[778]. Новый же правитель на всё соглашался и всё отдавал, и никакая из просьб не казалась ему ужасной
[779]. Так что не раз приводил Мидиец меня в изумленье, что, имея к тому возможность, не пожелал он получить большего. Ибо кто, в самом деле, стал бы ему перечить, пожелай он простереть свою власть до Евфрата, или до Оронта, или до Кидна, или до Сангария, или до самого Босфора?
[780] Так, ближайший сосед был готов научить римлян, что довольно с них будет и оставшихся земель — для власти, роскоши, пьянства и разврата. Поэтому всякий радующийся, что сего не произошло, должен благодарить за это персов, требовавших лишь малую долю из того, чем они могли бы обладать. Вот так, бросив оружие на расхищение врагам, возвращались наши воины налегке, словно после кораблекрушения, а большинство даже побираясь по дороге. И иной такой Каллимах
[781] нес полщита, иной — треть копья, иной — один из поножей, перекинутый через плечо. И единственным оправданием всему этому безобразию была гибель того, кто обратил бы сие оружие против врагов.
Зачем же, о боги и высшие существа, не присудили вы свершиться оному? Зачем не содеяли вы счастливым народ, вас признающий, и того, кто был залогом его счастья? Какие из его мыслей вы осудили, какие из поступков не одобрили? Разве не воздвигал он вам алтарей? Разве не возводил храмов? Разве не приносил он пышные жертвы богам, героям, эфиру, небу, земле, морю, источникам и рекам? Разве не сражался он с супостатами вашими?
[782] Разве не был он целомудреннее Ипполита
[783], справедливостью своею подобен Радаманту
[784], рассудительнее Фемистокла
[785], храбрее Брасида?
[786] Разве не спас он вселенную, как бы впавшую в обморок? Разве не был он ненавистником бесчестных, заступником справедливых, врагом необузданных, другом умеренных? О, огромная мощь войска, о, великое множество поверженных городов, о, несметное число трофеев, о, величие замыслов, не заслуживающее такого конца! Думали мы, что вся персидская земля станет частью Римской державы и будет управляться нашими законами и нашими правителями, и будет платить дань, и переменит язык, и переоденет платье, и острижет волосы; и что софисты в Сузах будут обучать красноречию персидских детей, а храмы наши, украшенные добычей из Персии, донесут до грядущих поколений величие этой победы; и что свершитель сего учредит состязание среди славящих его подвиги, одним витиям дивясь, других же от себя не гоня, одним радуясь, другими же не тяготясь; и что искусство речей вознесется как никогда, и могилы уступят место храмам
[787], как только все по своей воле устремятся к алтарям, и кто раньше их опрокидывал
[788], сам же станет их водружать, а бегущие жертвенной крови — сами ее проливать, и дома всех простых граждан преисполнятся достатка и по многим иным причинам, и благодаря ничтожным податям
[789]. Ибо, говорят, даже о том молился государь богам среди опасностей, чтобы, завершив войну, вернуть подати к прежним размерам.
Этих и еще больших чаяний лишились мы по вине сонма завистливых божеств, а вместе с ними — и того, кто, будучи близок к победному венку, был привезен к нам сокрытым во гробе. Недаром пронесся плач по всей земле и морю, недаром одни вслед за ним с радостью встретили смерть, другие же скорбят, что до сих пор живы
[790], почитая непроглядным мраком время до него и время после него, а пору его царствования — поистине ярким лучом света. О, города, кои ты воздвиг бы! О, руины, кои ты восстановил бы! О, красноречие, которое ты возвел бы на достойную высоту! О, прочие добродетели, кои возымели бы силу! О, справедливость, которая, снизойдя на землю, вновь устремилась в небеса!
[791] О, молниеносная перемена! О, всеобщее счастье, пришедшее и тотчас покинувшее нас! Ибо мы испытали нечто подобное тому, как если бы у человека, терпящего сильную жажду и подносящего к устам чашу с холодной и прозрачной водой, кто-то вырвал бы ее из рук, едва он успел сделать первый глоток, и с тем ушел бы
[792]. И коли суждена нам была сия потеря, то лучше бы мы вовсе не знали его владычества, нежели вот так лишиться оного, не насытившись им вполне
[793], ибо не для того, чтобы мы наслаждались благами, а для того, чтобы стенали, сознавая, каковых благ мы лишились, дал он их нам вкусить, вновь после этого отняв, — как если бы Зевс, явив людям солнце, сокрыл его у себя и не порождал более света дневного.
И хотя солнце всё еще совершает свой обычный путь, нет от него прежней радости добрым людям, ибо печаль по этому мужу, тревожа душу и смущая разум, застит глаза каким-то туманом, делая нас подобием живущих во тьме. Что же произошло после убийства государя? Витийствующие против богов — вновь в почете, а жрецы подвергаются незаконным преследованиям
[794]. За жертвы, приносимые божеству, и за всё, что сгорает в огне, платятся штрафы — вернее, платят люди богатые, бедняки же умирают в тюрьме. Из храмов одни снесены до основания, а другие, недостроенные, оставлены на посмешище нечестивцам, философы подвергаются истязаниям
[795], и всё, что получено в дар от государя, считается долгом государству. А отсюда следует обвинение в воровстве, так что, бывает, иного, раздетого донага, мучат в зной под палящим солнцем, принуждая, помимо полученного им, отдать и то, чего он, понятно, не получал и посему отдать не может, — и не ради того мучат, чтобы отдал, ибо и отдавать-то ему нечего, а чтобы, раз нечего с него взять, повисел он на дыбе, прижигаемый огнем. Учителей красноречия, некогда водивших дружбу с властями, ныне гонят с порога, словно душегубов
[796], а толпы их прежних учеников, видя сию слабость словесного искусства, оставляют его в поисках иной силы. Городские же начальники, избегая праведного служения отечеству, стремятся к бесчестному произволу, и некому удержать их от заблуждений. Повсюду одна торговля: на материках, на островах, в деревнях, в городах, на площадях, в гаванях, на улицах, продают же — кто дом, кто раба, кто дядьку, кто няньку, а кто могилы предков. Везде царят бедность, нищета и слезы. Земледельцам, право, легче побираться, нежели обрабатывать землю, и тот, кто сегодня может подать сам, назавтра ищет того, кто подаст ему. Скифы, сарматы, кельты и прочие варвары, сколько их ни есть, раньше предпочитавшие жить с нами в мире, вновь, наточив мечи, идут войною:
[797] переправляются через реки, шлют угрозы, приводят их в исполнение, и если преследуют врагов, то тех полоняют, а если преследуются сами, то всех одолевают, — словно неверные слуги, по смерти господина восставшие на сирот его.
Кто из разумных людей, распластавшись по земле и посыпав голову пеплом, — если он юноша, то вырывая у себя первые волосы на лице, а если старик, то терзая свои седины, — не станет оплакивать среди таковых бедствий и себя самого, и всю вселенную, коли так еще подобает ее называть? Ведь и землю постигло тяжкое горе, и она почтила умершего мужа, остригши по обычаю на себе волосы: ибо стряхнула она с себя, как конь сбрасывает седока
[798], множество великих городов, из коих немало разрушено в Палестине, все до единого — в Ливии, крупнейшие — в Сицилии и все, кроме одного, — в Греции
[799]. Лежит в руинах прекрасная Никея, сотрясается и великолепнейшая столица
[800], и страшной мнится ее будущность. Вот каков был почет нашему государю от Земли или, если угодно, от Посейдона!
[801] Оры же насылают голод и мор, кои одинаково губительны и для людей, и для скота, — ведь со смертью государя нет возможности жить в благоденствии обитателям земли!
Разве удивительно, если после всего случившегося иной, подобно мне, почитает своею карой то, что он до сих пор жив?
[802] А ведь я желал, чтобы боги по достоинству наградили сего удивительного мужа, и отнюдь не смертью, а рождением детей, глубокой старостью и долгим царствованием! Ведь цари лидийцев, о Зевс, — потомки нечистого на руку Гига — правили кто до тридцати девяти лет, кто — до пятидесяти семи
[803], да и сам сей нечестивый страж двух лет не дожил до сорокалетнего царствования, а нашему государю ты дал пробыть на престоле всего три года
[804], хотя тот заслуживал большего срока, чем великий Кир
[805], или, во всяком случае, не меньшего, ибо подобно ему отечески заботился о своих подданных!
Но, памятуя об упреке государя, обращенном к тем, кто оплакивал его в шатре, я полагаю, что он и теперь осудил бы этот мой плач и, явившись сюда, если б сие только было возможно, обратился бы к нам, вероятно, с такими словами: «Оплакивая мою рану и слишком раннюю смерть, вы рассуждаете не вполне разумно, если полагаете, будто пребывать среди богов хуже, нежели среди людей. А коли вы думаете, что не нашлось мне места в их обители, то весьма на сей счет заблуждаетесь и попали впросак, ибо ничего не ведаете о том, в чем столь убеждены. Не сожалейте же о тех, кто погиб на войне и от оружия! Ибо так погибли и Леонид, и Эпаминонд, и Сарпедон с Мемноном — сыновья богов
[806]. И ежели удручает вас жизнь своею быстротечностью, да послужит вам в утешение Александр, сын Зевса!
[807]»
Так бы он сказал, а я мог бы к этому добавить, что, во-первых, — и сие есть самое главное — решение Мойр неодолимо, а Мойры так же властвуют в римской земле, как некогда властвовали в Египте. И поскольку римлянам суждены были бедствия, а государь, будучи жив и стремясь вернуть стране благополучие, мешал сему предназначению, то он уступил перед натиском зла, дабы не были счастливы те, кому предстояло страдать. А во-вторых, примем же в расчет и то, что хотя умер он молодым, однако превзошел своими подвигами любых царей, доживших до глубокой старости. Ибо припомнит ли кто царя, прожившего втрое больше, но совершившего при этом столь же многие и славные деяния?
Итак, хотя его и нет с нами, слава его живет, а посему нам подобает крепиться и не столько скорбеть из-за его смерти, сколько радоваться этой славе. Этот муж и за пределами Римской державы продолжал осуществлять руководство ею — сам пребывая во вражьей земле, но в своей сохраняя царскую власть, равно способный блюсти мир повсюду, независимо от того, где обретался. Ибо ни варвар тогда не брался за оружие вопреки договору, ни внутри страны никто не устраивал смуту, на что многие люди нередко отваживались и тогда, когда цари самолично управляли государством. Что же было этому причиной — любовь ли, страх ли? Страх, который сдерживал варваров, или любовь, которую питали к нему подданные? И разве не достойно удивления и то, и другое — что он внушал страх неприятелю и вызывал почтение у своих или, если угодно, оба этих чувства и у тех, и у этих разом? Итак, пусть сие послужит нам утешением, равно как и то, что любой из его подданных во всякое время мог бы сказать себе, что живет под властью лучшего царя в мире! Так кому же, как не ему, более всех надлежало царствовать, если во главе менее добродетельных подобает стоять мужу, который своею рассудительностью и искусностью речи, и прочими достоинствами превосходит всех остальных людей? Самого его мы более не увидим, зато сможем созерцать многочисленные и искусно составленные им речи. Большинство сочинителей, хотя и состарились за своими писаниями, однако избегли многих разновидностей речей, испытав себя лишь в некоторых из них, чем заслужили больше упреков, нежели похвал. Этот же муж, разом и на войне сражаясь, и речи слагая, оставил нам сочинения всякого рода и намного превосходящие всё то, что когда-либо было создано другими, а в писании писем превзошел самого себя
[808]. Перечитывая их, нахожу я утешение в горе, да и вам они помогут превозмочь в своем сердце печаль. Вот какое бессмертное детище оставил он после себя, и не подвластно оно безжалостному времени, стирающему даже яркие краски на картинах
[809].
Раз уж я упомянул о картинах, то скажу и о том, что во многих городах воздвигли ему статуи рядом со статуями богов и чтут их, подобно богам, а кто-то даже вознес ему молитву, прося какого-то блага, и получил его. Так он восшествовал прямо к богам и разделил с ними божественную силу. А значит, справедлив был гнев тех, кто едва не забил камнями посланца, прибывшего с известием о смерти государя
[810], как если бы он клеветал на бога. Служат мне утешением и картины персов, на которых изображается его к ним вторжение
[811]. Говорят, изобразив государя в виде молнии
[812], они приписали рядом слово «молния», дабы показать, что тот причинил им бедствия, превосходящие те, что способен причинить человек. Прах его покоится близ Тарса, в Киликии
[813], а по праву должен бы находиться в Академии — рядом с прахом Платоновым
[814], дабы почитали его так же, как испокон веков почитают Платона его последователи и их ученики! Подобает нам воспевать его в сколиях и пеанах
[815] и славить во всякого рода хвалебных речах, именуя нашим заступником перед варварами, затевающими войну. Обладая искусством провидеть грядущее, пожелал он узнать наперед, суждено ли ему нанести урон персам, но о том, воротится ли он невредимым, государь наш не заботился, на деле доказав, что стремился не к жизни, а к славе. Жить под властью царя, наделенного подобной доблестью, — величайшее счастье для подданных, а лишившись такового, подобает им искать лекарство от печали в его славе и, коснувшись священной могилы, клясться его именем наравне с именами богов, ибо к тому у нас имеется гораздо больше поводов, нежели у иных из варваров, когда те клянутся именами своих праведников.
О питомец всевышних, ученик всевышних, наперсник всевышних! О ты, столь мало земли занявший своею могилою, но столь огромную вселенную повергший в изумление! О ты, покоривший в битвах иноплеменников и без битв — единоплеменников! О ты, кто отцам дороже сыновей, сыновьям — дороже отцов, а братьям — дороже братьев! О ты, содеявший великое, коему предстояло совершить еще более великое! О защитник богов и соратник богов! Ты отринул всякое иное наслаждение, кроме единого лишь красноречия! Прими же сей скромный дар от моего словесного искусства, каковой сам же ты возвеличил!
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ» НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ
[Перикл]
[НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ В ЧЕСТЬ АФИНЯН, ПОГИБШИХ В ПЕРВЫЙ ГОД ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ]
Фрагмент «Истории» Фукидида (11.35—46)
<...> Большинство уже говоривших с этого места воздает похвалы тому, кто прибавил к погребальному обряду произнесение похвального слова
[816], так как действительно прекрасно произносить такое слово при погребении павших в войнах. Мне кажется оправданным, чтобы людям, проявившим доблесть на деле, и почести оказывались на деле, что сделано, как вы видите, и теперь настоящими похоронами, совершёнными на счет государства;
[817] но мне кажется неоправданным ставить оценку доблести многих людей в зависимость от одного человека на том основании, что ему всё равно поверят, хорошо ли он скажет или не вполне хорошо. Трудно соблюсти меру в словах там, где уверенность в истине сказанного с трудом лишь становится прочною. В самом деле, слушателю, во всё посвященному и благосклонно настроенному, оценка заслуг может показаться недостаточною сравнительно с тем, что ему желательно слышать и что ему известно; напротив, слушатель несведущий из чувства зависти может подумать, что некоторые заслуги и преувеличены, коль скоро они в том или ином отношении превосходят его собственные природные силы. Ведь похвалы, воздаваемые другим, терпимы в той только мере, в какой каждый из слушателей сознаёт себя способным сам совершить те дела, о которых он слышит; то, что в похвалах превосходит эту меру, возбуждает в слушателях зависть и недоверие
[818]. Но так как люди старого времени признали обычай этот прекрасным
[819], то и я обязан подчиниться ему и попытаться по мере возможности удовлетворить желаниям и ожиданиям каждого из вас.
Я начну прежде всего с предков
[820], потому что и справедливость, и долг приличия требуют воздавать им при таких обстоятельствах дань памяти. Ведь они всегда и неизменно обитали в этой стране
[821] и, передавая ее в наследие от поколения к поколению, сохранили ее благодаря своей доблести свободною до нашего времени. И за это они достойны похвалы, а еще достойнее ее отцы наши
[822], потому что к полученному ими наследию они не без трудов приобрели то могущество, которым мы располагаем теперь, и передали его нынешнему поколению
[823]. Дальнейшему усилению могущества содействовали, однако, мы сами, находящиеся еще теперь в цветущем зрелом возрасте. Мы сделали государство вполне и во всех отношениях самодовлеющим и в военное, и в мирное время. Что касается военных подвигов, благодаря которым достигнуты были отдельные приобретения, то среди людей, знающих это, я не хочу долго распространяться на этот счет и не буду говорить о том, с какой энергией мы или отцы наши отражали вражеские нападения варваров или эллинов
[824]. Я покажу сначала, каким образом действуя, мы достигли теперешнего могущества, при каком государственном строе и какими путями мы возвеличили нашу власть, а затем перейду к прославлению павших. По моему мнению, обо всём этом уместно сказать в настоящем случае, и всему собранию горожан и иноземцев полезно будет выслушать мою речь.
Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами, скорее, служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим потому, что он зиждется не на меньшинстве граждан, а на большинстве их. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству. Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но всё же удручающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов больше всего из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время, в особенности прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи неписаными, влекут общепризнанный позор
[825]. Повторяющимися из года в год состязаниями и жертвоприношениями мы доставляем душе возможность получить многообразное отдохновение от трудов, равно как и благопристойностью домашней обстановки, повседневное наслаждение которой прогоняет уныние. Сверх того, благодаря обширности нашего города к нам со всей земли стекается всё, так что мы наслаждаемся благами всех других народов с таким же удобством, как если бы это были плоды нашей собственной земли. В заботах о военном деле мы отличаемся от противников следующим: государство наше мы предоставляем для всех, не высылаем иноземцев, никому не препятствуем ни учиться у нас, ни осматривать наш город, так как нас нисколько не тревожит, что кто-либо из врагов, увидев что-нибудь несокрытое, воспользуется им для себя; мы полагаемся не столько на боевую подготовку и военные хитрости, сколько на присущую нам отвагу в открытых действиях.
Что касается воспитания, то противники наши еще с детства закаляются в мужестве тяжелыми упражнениями
[826], мы же ведем непринужденный образ жизни и, тем не менее, с не меньшей отвагой идем на борьбу с равносильным противником. И вот доказательство этому; лакедемоняне идут войною на нашу землю не одни, а со всеми своими союзниками, тогда как мы одни нападаем на чужие земли и там, на чужбине, без труда побеждаем большей частью тех, кто защищает свое достояние
[827]. Никто из врагов не встречался еще со всеми нашими силами во всей их совокупности, потому что в одно и то же время мы заботимся и о нашем флоте, и на суше высылаем наших граждан на многие предприятия. Когда в стычке с какою-либо частью наших войск враги одерживают победу над нею, они кичатся, будто отразили всех нас, а потерпев поражение, говорят, что побеждены нашими совокупными силами. Хотя мы и охотно отваживаемся на опасности, скорее вследствие равнодушного отношения к ним, чем из привычки к тяжелым упражнениям, скорее по храбрости, свойственной нашему характеру, нежели предписываемой законами, всё же преимущество наше состоит в том, что мы не утомляем себя преждевременно предстоящими лишениями, а, подвергшись им, оказываемся мужественными не меньше наших противников, проводящих время в постоянных трудах.
И по этой, и по другим еще причинам государство наше достойно удивления. Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности; мы пользуемся богатством как удобным средством для деятельности, а не для хвастовства на словах, и сознаваться в бедности у нас не постыдно, напротив, гораздо позорнее не выбиваться из нее трудом. Одним и тем же лицам можно у нас и заботиться о своих домашних делах, и заниматься делами государственными, да и прочим гражданам, отдавшимся другим делам, не чуждо понимание дел государственных. Только мы одни считаем не свободным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто вовсе не участвует в государственной деятельности. Мы сами обсуждаем наши действия
[828] или стараемся правильно оценить их, не считая речи чем-то вредным для дела;
[829] больше вреда, по нашему мнению, происходит от того, если приступить к исполнению необходимого дела без предварительного уяснения его речами. Превосходство наше состоит также и в том, что мы обнаруживаем и величайшую отвагу, и зрело обсуждаем задуманное предприятие; у прочих, наоборот, неведение вызывает отвагу, размышление же — нерешительность. Самыми сильными натурами должны, по справедливости, считаться те люди, которые вполне отчетливо знают и ужасы, и сладости жизни, и когда это не заставляет их отступать перед опасностями. Равным образом, в отношениях человека к человеку мы поступаем противоположно большинству: друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них услуги, но тем, что сами их оказываем. Оказавший услугу — более надежный друг, так как он своим расположением к получившему услугу сохраняет в нем чувство признательности; напротив, человек облагодетельствованный менее чувствителен: он знает, что ему предстоит возвратить услугу как лежащий на нем долг, а не из чувства благодарности. Мы одни оказываем благодеяния безбоязненно, не столько из расчета на выгоды, сколько из доверия, покоящегося на свободе. Говоря коротко, я утверждаю, что всё наше государство — центр просвещения Эллады; каждый человек может, мне кажется, приспособиться у нас к многочисленным родам деятельности и, выполняя свое дело с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться для себя самодовлеющего состояния.
Что всё сказанное — не громкие слова по поводу настоящего случая, но сущая истина, доказывает самое значение нашего государства, приобретенное нами именно благодаря этим свойствам. Действительно, из нынешних государств только одно наше выдерживает испытание выше толков о нем;
[830] только одно наше государство не будит негодования в нападающих на него неприятелях в случае поражения их такими людьми
[831], не вызывает упрека у подчиненных, что они будто бы покоряются людям, недостойным владычествовать. Создав могущество, подкрепленное ясными доказательствами и достаточно засвидетельствованное, мы послужим предметом удивления для современников и потомства, и нам нет никакой нужды ни в панегиристе Гомере, ни в ком другом, доставляющем минутное наслаждение своими песнями, в то время как истина, основанная на фактах, разрушит вызванное этими песнями представление. Мы нашей отвагой заставили все моря и все земли стать для нас доступными, мы везде соорудили вечные памятники содеянного нами добра и зла
[832]. В борьбе за такое-то государство положили свою жизнь эти воины
[833], считая долгом чести остаться ему верными, и каждому из оставшихся в живых подобает желать трудиться ради него.
Я и распространялся-то так долго о положении нашего государства с целью показать вам, что мы и враги наши, не имеющие у себя ничего подобного, ведем борьбу за неравное, и фактическими доказательствами подкрепить хвалу тем, над которыми я говорю теперь. Важнейшее уже сказано, потому что доблести этих и им подобных
[834] украсили наше государство всем тем, что я прославил здесь, и немного найдется эллинов, дела которых, как этих граждан, соответствовали бы похвале их. Мне кажется, постигший этих воинов конец впервые обнаружил и окончательно засвидетельствовал их мужество. Ведь справедливость требует, чтобы прочие недостатки людей заглаживались мужественною доблестью их в войнах за отечество: добром они стирают зло и целому государству они больше приносят пользы, нежели повредили ему своими личными недостатками. Между тем ни один из этих воинов не предпочел дальнейшего наслаждения богатством и не показал себя робким в надежде, что он мог бы еще избавиться от бедности и разбогатеть, и не уклонился от опасности. Отмстить врагу для них было желательнее этих благ, идти на опасности они признавали делом самым прекрасным и пожелали ценою этой опасности врагу отмстить, а от предстоящих им благ отказаться. На долю надежды они оставили неверность успеха, в действительной же борьбе лицом к лицу с опасностью считали долгом полагаться только на собственные силы. Они предпочли, отражая врага, пострадать, нежели уступить и тем спасти себе жизнь. Они избегли позорящей молвы, спасли дело своею смертью и в кратчайший роковой момент расстались с жизнью, преисполненные не столько страха, сколько славы.
Столь достойными государства оказались эти воины. Оставшимся в живых следует молиться о более безопасном для них исходе, но они должны решиться проявлять нисколько не меньшую отвагу по отношению к врагам. Не обращайте внимания на то, что вы слушаете теперь только речи о преимуществах мужества; иной может распространяться о них с излишнею обстоятельностью, хотя вы и сами знаете это не хуже его, и будет вычислять все блага, какие приносит с собой отражение врагов. Напротив, вы обязаны ежедневно на деле взирать на могущество государства и полюбить его, и, если оно покажется вам великим, иметь в виду, что его стяжали люди отвагою, умением принимать надлежащие меры, люди, руководившиеся в сражениях чувством чести. Если в предприятиях они и терпели в чем-нибудь неудачу, то не считали позволительным лишать государство своей доблести и вносили в общее дело прекраснейший вклад. Они отдавали ради общего дела свою жизнь, и за то для себя лично стяжали нестареющую похвалу и почетнейшую могилу — не столько эту, в которой они покоятся теперь, сколько ту, где слава их остается незабвенною, именно в каждом слове, в каждом деянии потомков. Могилою знаменитых людей служит вся земля
[835], и о них свидетельствуют не только надписи на стелах
[836] в родной стране. Не столько о самих подвигах, сколько о мужестве незаписанное воспоминание вечно живет в каждом человеке и в неродной его земле.
Соревнуйте этим воинам, считайте счастьем свободу, а свободою мужество, и потому не озирайтесь перед военными опасностями! Не тем несчастным, у которых нет надежды на счастливую долю, более справедливо не щадить своей жизни, но и тем, которым предстоит еще опасность обратной перемены в жизни
[837] и для которых в случае поражения наступят очень большие изменения
[838]. Для человека гордого тягостнее оскорбление, связанное с трусостью, нежели смерть, к которой становятся нечувствительными, когда на нее идут мужественно и вместе с тем с надеждою на общее благо.
Вот почему, присутствующие здесь родители павших ныне воинов, не горевать я буду о вас, а утешать вас. Вы ведь знаете, при каком многообразном стечении обстоятельств воспитались вы; вы понимаете, что счастье бывает уделом того, кто, подобно этим воинам, кончит дни свои благопристойнейшею смертью, того, кто, подобно вам, скорбит благороднейшею скорбью, того, наконец, кому отмерено было и жить счастливо, и столь же счастливо умереть. Я сознаю, конечно, трудность убеждать вас, потому что вы часто будете вспоминать о своих детях при виде счастья других людей, которым некогда и сами вы гордились; скорбят о лишении не тех благ, которых никто не испытал, но о том благе, к которому привыкли и которого больше нет. Однако находящиеся в том возрасте, когда еще могут быть дети, должны укреплять себя надеждою на других потомков. Будущие дети дадут некоторым возможность забыть о тех, кого уже нет, а государству они принесут двоякую пользу: не уменьшится его население и не умалится его безопасность. Ведь невозможно с равным правом обсуждать дела тем гражданам, которые в одинаковой же мере не подвергались бы опасности потерять своих детей. Не стареет только жажда славы, и в дряхлом возрасте услаждает не столько стяжание, как утверждают иные, сколько почет. Присутствующим же здесь сыновьям и братьям павших, я вижу, предстоит великое состязание (обыкновенно всякий хвалит того, кого нет более); если бы вас, при избытке вашей доблести, не то что приравняли к павшим, но поставили только немного ниже их, и то хорошо: людям при жизни завидуют соперники, а сошедшие с пути пользуются благорасположением, не нарушаемым никаким
соревнованием
[839]. Если я должен упомянуть и о доблести женщин, которые останутся теперь вдовами, то я выскажу всё в кратком увещевании: быть не слабее присущей женщинам природы — великая для вас слава, особенно если возможно менее громко говорят о ней в среде мужчин в похвалу или порицание.
В своей речи, произнесенной по требованию обычая, я сказал всё, что считал целесообразным. Что касается действительного чествования, то погребаемые частью уже почтены; кроме того, с этого дня государство будет содержать детей их до их возмужалости на государственный счет, тем самым присуждая полезный венок
[840] за участие в славной борьбе и умершим, и оставшимся в живых; в том государсгве граждане наиболее доблестны, которое назначает за доблесть высшую награду. Теперь, оплакав каждый своих родных, расходитесь. <...>
[Сократ]
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Фрагмент из «Менексена» Платона (236d—249c)
<...> Мы отдали им положенный долг, и, приняв его, они следуют теперь дорогой судьбы, сопровождаемые как всем городом, так и своими близкими. Закон и наш долг повелевают нам воздать им в слове последнюю честь. Красиво сказанная речь о прекрасных деяниях остается в памяти слушающих, к чести и славе тех, кто эти дела свершил. Необходимо сказать такое слово, кое достаточно прославило бы погибших, а живых благожелательно убеждало подражать доблести павших; к этому следует призывать их потомков и братьев, отцам же и матерям, а также живым еще родичам старшего поколения доставлять утешение.
Какой же именно представляется нам подобная речь? И с чего будет правильным начать похвалу храбрым мужам, при жизни радовавшим своей доблестью близких и избравшим кончину вместо благополучной жизни? Мне представляется, что воздавать им хвалу естественно в соответствии с их природой: они родились людьми достойными. А родились они такими потому, что произошли от достойных. Итак, восславим прежде всего благородство их по рождению, а затем их воспитание и образованность
[841]. Вслед за этим мы покажем, как выполняли они свой долг, и это явит их доблестные дела во всём их великолепии.
В основе их благородства лежит происхождение их предков: они не были чужеземцами, и потому их потомки не считались метеками в своей стране
[842], детьми пришельцев издалека, но были подлинными жителями этой земли, по праву обитающими на своей родине и вскормленными не мачехой, как другие, а родимой страной, кою они населяли; и теперь они, пав, покоятся в родимых местах той, что их произвела на свет, вскормила и приняла в свое лоно. По справедливости прежде всего надо прославить эту их мать: вместе с тем будет прославлено и благородное их рождение.
Земля наша достойна хвалы от всех людей, не только от нас самих, по многим разнообразным причинам, но прежде и больше всего потому, что ее любят боги. Свидетельство этих наших слов — раздор и решение богов, оспаривавших ее друг у друга
[843]. Разве может земля, коей воздали хвалу сами боги, не заслужить по праву хвалы всех людей? Другой справедливой похвалой будет для нее то, что во времена, когда вся земля производила и взращивала всевозможных животных — зверье и скот, наша страна явила себя девственной и чистой от диких зверей: из всех живых существ она избрала для себя и породила человека, разумением своим превосходящего остальных и чтящего лишь богов и справедливость
[844]. Самым значительным свидетельством моих слов является то, что земля наша породила предков вот этих павших, а также и наших. Любое родящее существо располагает пищей, полезной тем, кого оно порождает, что и отличает истинную мать от мнимой, подставной, коль скоро эта последняя лишена источников, кои питали бы порожденное ею. Наша мать-земля являет достаточное свидетельство того, что она произвела на свет людей: она первая и единственная в те времена приносила пшеничные и ячменные злаки
[845] — лучшую и благороднейшую пищу для людей, и это значит, что она сама породила человеческое существо.
Подобное свидетельство еще более весомо в отношении земли, чем в отношении женщины: не земля подражает женщине в том, что она беременеет и рожает, но женщина — земле. При этом земля наша не пожадничала и уделила свой плод другим, после того как она породила оливу — помощницу в трудах для своих детей. Вскормив и взрастив их до поры возмужалости, она призвала богов в качестве их наставников и учителей. Имена их не подобает здесь называть (ведь мы их знаем!); они благоустроили нашу жизнь, учредили каждодневный ее уклад, первыми обучили нас ремеслам и показали, как изготовлять оружие и пользоваться им для защиты нашей земли
[846].
Рожденные и воспитанные таким образом, предки погибших жили, устрояя свое государство, о котором надо здесь вкратце упомянуть. Ведь государство растит людей, прекрасное — хороших, противоположное — дурных. Поскольку наши предшественники воспитывались в прекрасном государстве, то с необходимостью становится ясным, что именно благодаря этому доблестны наши современники, к числу которых принадлежат и павшие. Само наше государственное устройство и тогда было, и ныне является аристократией: эта форма правления почти всегда господствовала у нас, как и теперь. Одни называют ее демократией, другие еще как-нибудь — кто во что горазд, на самом же деле это правление лучших
[847] с одобрения народа. У нас ведь всегда есть басилевсы — иногда это цари по рождению, иногда же выборные;
[848] а власть в государстве преимущественно находится в руках большинства, которое неизменно передает должности и полномочия тем, кто кажется лучшими, причем ни телесная слабость, ни бедность, ни безвестность предков не служат поводом для чьего-либо отвода, но и противоположные качества не являются предметом почитания, как в других городах, и существует только одно мерило: властью обладает и правит тот, кто слывет доблестным или мудрым. В основе такого общественного устройства лежит равенство по рождению. В других городах собраны самые различные люди, поэтому и их государственные устройства отклоняются от нормы — таковы тирании и олигархии;
[849] города эти населяют люди, считающие других либо своими господами, либо рабами. Мы же и все наши люди, будучи братьями, детьми одной матери, не признаём отношений господства и рабства между собою;
[850] равенство происхождения заставляет нас стремиться к равным правам для всех, основанным на законе, и повиноваться друг другу лишь в силу авторитета доблести и разума. Поэтому, воспитанные в условиях полной свободы, отцы погибших и наши отцы, а также и сами эти люди явили всем нам множество прекрасных дел как в частной жизни, так и на общественном поприще, ибо они считали необходимым сражаться за свободу эллинов как с эллинами, так и с варварами — в защиту всех эллинов.
Слишком мало у меня времени, чтобы достойным образом рассказать о том, как они сражались с Эвмолпом и амазонками, напавшими на нашу землю, или как еще раньше они бились на стороне аргивян против кадмейцев и на стороне Гераклидов против аргивян:
[851] поэты уже воспели в прекрасных стихах их доблесть, сделав ее достоянием всех. И если мы попытаемся восхвалить те же деяния обыкновенным слогом, то, скорее всего, займем лишь второе место. Итак, мне представляется лучшим это оставить, ибо делам этим была уже отдана достойная дань. Но то достойное славы, по поводу чего еще ни один поэт не высказался подобающим образом и что покоится пока в забвении, — о нем, думается мне, следует напомнить, почтив эти деяния хвалой, дабы побудить других изложить их в песнях и поэмах иного вида, подобающим для свершивших эти деяния образом. Я имею в виду прежде всего следующее: когда персы стали правителями Азии и вознамерились также поработить Европу, дети нашей земли — наши родители — преградили им путь;
[852] необходимо и справедливо в первую очередь вспомнить о них и восславить их доблесть. Но если кто хочет прославить ее достойно, пусть обратится мысленным взором к тем временам, когда вся Азия была рабыней третьего по счету царя: первым был Кир, который освободил персов и, обуянный гордыней, поработил как своих сограждан, так и прежних повелителей, мидян; он простер свою власть над всей Азией вплоть до Египта;
[853] сын его властвовал уже над Египтом и Ливией, насколько он мог в эти страны проникнуть;
[854] третий же царь, Дарий, расширил свои владения на суше вплоть до Скифии
[855], а корабли его были хозяевами на море и островах, так что никто не мог и помыслить выступить против него. Сознание всех людей было подавлено: ведь Персидская держава подчинила себе столько великих и искусных в войне народов.
Дарий, выдвинув против нас и эретрийцев ложное обвинение в коварных замыслах против Сард, выслал под этим предлогом корабли и грузовые суда с пятисоттысячным войском; военных кораблей было триста, под командованием Датиса
[856], и Дарий распорядился, чтобы тот, если ему дорога его голова, возвратился с пленными эретрийцами и афинянами. Датис направил свой флот к Эретрии, против воинов, более всех прославленных среди эллинов и немалых числом, в течение трех дней одолел их и обшарил всю эретрийскую землю, чтобы ни один эретриец от него не укрылся, причем сделал он это так: подступив к границам эретрийской земли, его воины, взявшись за руки, образовали цепочку от моря до моря и так прошли всю землю, дабы иметь возможность объявить царю, что никто не сумел от них убежать
[857]. Точно с таким же замыслом отправились они из Эретрии к Марафону
[858], словно не вызывало сомнений, что им удастся подобным же образом запрячь в ярмо афинян и увести их в плен вместе с эретрийцами. Когда замысел этот отчасти был приведен в исполнение, но делались еще попытки полного его осуществления, никто из эллинов не пришел на помощь ни эретрийцам, ни афинянам, кроме лакедемонян (причем эти последние явились на помощь на другой день после битвы
[859]); все остальные, устрашенные, предпочли временную безопасность и не трогались с места. Если бы кто-нибудь из нас в это время там оказался, он бы познал, сколь велика была доблесть тех, кто у Марафона встретил полчища варваров и, обуздав всеазиатскую гордыню, первыми водрузил трофеи в честь победы над ними;
[860] они стали вождями и наставниками для всех остальных, показав, что могущество персов вполне сокрушимо и что никакая людская сила и никакое богатство не могут противостоять доблести. Я утверждаю, что эти мужи не только дали нам жизнь, но и породили нашу свободу, да и не только нашу, но свободу всех жителей этого материка. Оглядываясь на их деяние, эллины проявляли отвагу и в последующих битвах за свою жизнь, став навсегда учениками сражавшихся при Марафоне.
Итак, высшая награда в нашем слове должна быть отдана этим последним, вторая же — тем, кто сражался и победил на море — при Саламине и Артемисии
[861]. И об этих людях многое можно было бы рассказать — о том, как они выстояли перед надвигавшейся с суши и с моря опасностью, и о том, как они ее отразили. Но я напомню лишь то, что мне представляется самым прекрасным их подвигом: они довершили дело, начатое бойцами при Марафоне. Марафонцы лишь показали эллинам, что их небольшое число может на суше отразить полчища варваров; что же касается морских битв, это пока оставалось неясным: персы пользовались славой непобедимых моряков благодаря своей численности, богатому снаряжению, искусству и силе. И потому в особую заслугу мужам, сражавшимся в те времена на море, надо поставить то, что они рассеяли боязнь, существовавшую тогда среди эллинов, страшившихся огромного числа судов и людей. Поэтому и те, и другие — как сражавшиеся при Марафоне, так и те, что сражались в морском бою при Саламине, — научили остальных эллинов умению и привычке не страшиться варваров как на суше, так и на море.
На третьем месте и по числу сражавшихся за благополучие Греции, и по их доблести я назову дело при Платеях:
[862] оно было общим для афинян и лакедемонян. Все они отразили величайшую и тягостнейшую опасность, и эта их доблесть прославляется нами теперь и в последующие времена будет прославляться нашими потомками. После того многие эллинские города оставались еще союзниками варвара
[863], он же объявил о своем намерении вновь пойти войною на эллинов. Справедливо поэтому будет, чтобы мы вспомнили о тех, кто завершил подвиги первых бойцов, очистив от варваров море и изгнав их оттуда всех до единого. Это те, кто сражался при Эвримедонте, кто двинулся походом на Кипр и поплыл в Египет и другие земли:
[864] память их надо чтить и быть им признательными за то, что они заставили царя дрожать за свою жизнь и помышлять о ее спасении, вместо того чтобы уготовлять гибель эллинам.
Вот сколь трудную войну вынес на своих плечах весь город, поднявшийся против варваров на защиту свою и других родственных по языку народов. Когда же наступил мир и город пребывал в расцвете славы, случилась беда, обычно выпадающая среди людей на долю тех, кто процветает, — соперничество, которое затем перешло в зависть. Таким образом, наш город был против воли втянут в войну с эллинами
[865]. В войне, вспыхнувшей вслед за тем, афиняне, защищавшие в Танагре свободу беотийцев, вступили в сражение с лакедемонянами;
[866] исход сражения остался неясен
[867], и дело решили последующие события: лакедемоняне отступили, бросив на произвол судьбы своих подопечных, наши же, победив в трехдневной битве при Энофитах, честно вернули несправедливо изгнанных беотийцев
[868]. Эти наши люди первыми после Персидской войны защищали эллинскую свободу, противостоя самим же эллинам. Они проявили себя доблестными мужами: освободив тех, кого они защищали, они первыми легли в эту усыпальницу, прославляемые своими согражданами.
После того вспыхнула великая война
[869], когда все эллины скопом двинулись на нашу землю, раздирая ее на части и проявляя недостойную неблагодарность по отношению к нашему городу. Наши победили их в морском сражении и захватили у острова Сфактерии
[870] в плен лакедемонских военачальников, которых вполне могли предать смерти, но отпустили, вернули на родину и заключили мир
[871], полагая, что против соплеменников следует сражаться лишь до победы и что городу негоже, поддавшись гневу, губить общее дело всех эллинов; против варваров же, считали они, следует биться вплоть до полного их разгрома. Нам следует восславить этих мужей: завершив то сражение, они покоятся здесь, доказав всем, кто сомневался, — не проявили ли себя некоторые другие эллины в той первой войне против варваров более доблестными, чем афиняне, — что сомневались они напрасно: ведь афиняне показали в случае, когда на них поднялась вся Эллада, что они вышли победителями из этой войны и захватили в плен предводителей остальных эллинов; в ту войну они вместе с ними одолели варваров, теперь же победили в одиночку всех эллинов.
После этого мира разгорелась третья война
[872], нежданная и опасная, и множество доблестных мужей, павших на этой войне, также покоятся здесь; многие из них водрузили большое число трофеев на побережье Сицилии, защищая свободу леонтинцев, они поплыли в те края, чтобы оказать им поддержку во исполнение данных им клятв, но из-за дальности морского пути город был не способен оказать им необходимую помощь, и они, утратив силы, познали невзгоды, — они, для кого у врагов и противников было в запасе больше похвал за их доблесть и рассудительность, чем для некоторых других — у друзей
[873]. Многие же погибли при морских сражениях в Геллеспонте;
[874] при этом они в течение одного дня захватили все вражеские суда, а множество остальных разбили.
Говоря о том, что война эта была нежданной и страшной, я имею в виду ту великую зависть, что питали к нашему городу остальные эллины: зависть эта побудила их решиться на переговоры с персидским царем
[875], которого они вместе с нами вытеснили из нашей страны; они задумали на свой страх вновь повести его на наш город — варвара на эллинов — и объединить против Афин всех эллинов и варваров. Вот тут-то и проявила себя во всём блеске мощь и доблесть нашего города. Когда они считали, что город повержен, когда суда наши были отрезаны у Митилены, наши сограждане на шестидесяти кораблях сами поспешили на помощь этим судам; проявив себя, согласно всеобщему мнению, доблестнейшими людьми, они разбили врагов
[876], освободили друзей, но по несчастной случайности не были вынесены на сушу и потому не покоятся в этой могиле. Да пребудет их память и слава вечно, ибо благодаря их доблести мы победили не только в этом морском сражении, но продолжали побеждать и в течение всей войны! Город благодаря им обрел славу непобедимого, даже если против него будет всё человечество, и славу справедливую, ибо мы победили благодаря собственному превосходству, а не с чужой помощью. И по сей день мы остаемся неодолимыми для этих наших врагов: ведь не они, но мы сами себя повергли и победили
[877].
Когда затем наступило спокойствие и был заключен мир с остальными эллинами, у нас началась гражданская война
[878], причем шла она таким образом, что каждый (если только раздор — это неизбежный удел людей) должен молить богов, чтобы его родной город лихорадило не больше, чем наш. С какой радостью и как по-родственному объединились затем граждане Пирея с жителями столицы вопреки ожиданиям прочих эллинов, с каким чувством меры положили они конец войне против тех, кто был в Элевсине!
[879] И причиной всего этого было не что иное, как истинное родство, обеспечившее крепкую родственную дружбу не на словах, но на деле. Следует вспомнить здесь и тех, кто погиб в этой междоусобице, и умиротворить их, насколько лишь в наших силах, жертвоприношениями и молитвой, положенными в таких случаях; надо помолиться теперешним их владыкам, тогда и для нас самих наступит умиротворение. Ведь не из-за своей порочности или вражды подняли они друг на друга руку, но по велению тяжкой судьбы. Мы, живые, тому свидетели: будучи людьми той же крови, что и они, мы прощаем друг другу и наши дела, и наши страдания.
После этого у нас воцарилась полная тишина и город обрел спокойствие. Простив варварам
[880] то, что, претерпев от нас, они отплатили нам за это той же монетой, город наш продолжал негодовать на эллинов, вспоминая их неблагодарность в ответ на благодеяние, их союз с варварами, захват кораблей, некогда спасших им жизнь, и разрушение стен
[881] — последнее как бы в благодарность за то, что ранее мы помешали падению их стен. Город продолжал жить, приняв решение впредь не оказывать помощи ни эллинам, пытающимся поработить других эллинов, ни варварам, лелеющим против эллинов те же замыслы. И в то время как мы находились в подобном расположении духа, лакедемоняне решили, что мы, покровители свободы, разбиты и теперь их задачей является покорение прочих эллинов. Этот свой замысел они и стали приводить в исполнение.
Но к чему здесь долго распространяться? То, что я сейчас скажу, относится к недавним временам и не к кому иному, как к нам самим: ведь мы знаем, что первые среди эллинов аргивяне, беотийцы и коринфяне, пораженные ужасом, вынуждены были обратиться за помощью к нашему городу
[882]. Однако вот величайшее чудо: сам персидский царь оказался в таком затруднении, что ему оставалось искать спасения только у нашего города
[883], против которого он столь рьяно злоумышлял. И если бы кто пожелал выдвинуть справедливое обвинение против нашего города, он был бы прав, упрекнув его в излишней чувствительности и готовности защищать более слабых. Так вот и в то время он оказался не в силах проявить твердость и соблюсти свое решение не подчиняться никому из своих обидчиков: он подчинился и оказал помощь; один он поддержал всех эллинов, освободив их от рабства, так что они стали свободными вплоть до того времени, когда снова поработили друг друга;
[884] что касается царя, то город наш не осмелился прийти ему на помощь, стыдясь трофеев Марафона, Саламина и Платей, и, лишь дав позволение перебежчикам и добровольцам помочь царю, выручил его из беды
[885]. Восстановив затем стены и построив флот, он принял вызов и, понуждаемый воевать, сразился с лакедемонянами в защиту паросцев
[886].
Царь почувствовал страх перед нашим городом, видя, что лакедемоняне отказались от войны на море. Стремясь отступить, он потребовал признать его власть над эллинами, обитавшими на материке, которых ранее ему выдали лакедемоняне, и взамен обещал сражаться на нашей стороне и на стороне остальных наших союзников;
[887] он рассчитывал, что мы откажемся и тем самым дадим ему предлог для отступления
[888]. В остальных союзниках он ошибся: они пожелали ему подчиниться; коринфяне, аргивяне, беотийцы и другие союзники договорились с ним и поклялись выдать ему всех эллинов, обитателей материка, с условием, что он заплатит им деньги. Одни лишь мы не дерзнули ни присягнуть, ни предать:
[889] настолько свойственно нашему городу свободолюбие и благородство, покоящиеся на здравой основе и природной нелюбви к варварам, ведь мы — подлинные эллины, без капли варварской крови. Среди нас нет ни Пелопов, ни Кадмов, ни Египтов, ни Данаев, ни многих других, рожденных варварами и являющихся афинскими гражданами лишь по закону, но все мы, живущие здесь, настоящие эллины, а не полукровки;
[890] отсюда городу присуща истинная ненависть к чужеземной природе. Как бы то ни было, мы снова остались в одиночестве с нашим нежеланием совершить позорное и нечестивое дело, выдав эллинов варварам. Вернувшись, таким образом, к тому самому положению, в каком прежде были побеждены, мы, тем не менее, с помощью бога завершили войну благополучнее, чем тогда
[891]. Ведь после войны у нас остались и корабли, и стены, и наши собственные поселения; сами враги не могли бы желать себе лучшего исхода. Но всё же мы потеряли достойных мужей и в этой войне: противники наши воспользовались неудобствами местности в Коринфе и предательством в Лехее
[892]. Достойными людьми показали себя и те, кто освободил царя и выгнал с моря лакедемонян:
[893] я вам о них напомню, вы же, как подобает, превознесете и прославите этих мужей.
Итак, мы сказали о многих прекрасных и славных делах покоящихся здесь мужей и о других погибших защитниках нашего города; но есть еще больше прекрасных дел, о которых мы не сказали: ведь поистине многих дней и ночей не хватило бы тому, кто пожелал бы всё это перечислить. Нам следует, помня об этих людях, передавать всем их потомкам наказ — не покидать строя своих предков, как на войне, и не отступать под влиянием малодушия. Я и сам хочу наказать вам, сыновья доблестных мужей, — и сейчас, и когда бы ни встретил вас в будущем — и буду напоминать вам, и увещевать вас стремиться ко всевозможному совершенству. В настоящий момент правильным будет сказать вам то, что отцы наши поручили объявить тем, кого они оставляли; завещали они нам это перед лицом опасности на случай, если им не повезет. Я произнесу сейчас слова, слышанные мною из их собственных уст, кои они с радостью сказали бы вам сами, если были бы в состоянии; так, по крайней мере, заключаю я на основе того, что они тогда говорили. Надо представить себе, будто это их собственная речь; говорили же они так: «Дети, свидетельством того, что вы родились от достойных отцов, является нынешнее событие. Мы могли жить бесславно, но предпочли этому славную смерть, дабы не ввергнуть вас и ваше потомство в позор, а вашим отцам и всему предыдущему поколению нашего рода не принести бесчестье: мы считали, что тем, кто приносит бесчестье своим сородичам, не стоит и жить и что подобное деяние не мило никому из богов и людей — ни тем, кто ходит еще по земле, ни тем, кто схоронен уже под землею. Вам надлежит, памятуя о наших словах, выполнять доблестно всё, что бы вы ни делали, зная, что там, где доблесть отсутствует, бесчестны и порочны любые приобретения и дела. Ведь ни богатство не красит того, кто приобрел его трусливым путем (такой человек скорее обогащает другого, чем себя), ни телесная красота и сила, если они присущи трусливому и порочному человеку, не являют собой подобающего ему украшения. Наоборот, при этом бросается в глаза несоответствие, кое еще больше подчеркивает и выявляет трусость, а любое умение в отрыве от справедливости и других добродетелей оказывается хитростью, но не мудростью
[894]. Поэтому всю свою жизнь, и в начале ее, и в конце, всячески стремитесь к тому, чтобы принести как нам, так и нашим предкам по возможности больше доброй славы; если же нет, знайте, коли мы превзойдем вас в доблести, это принесет нам бесчестье; но если мы уступим вам, то испытаем блаженство. А ваша победа и наше поражение вернее всего в том случае, если вы сумеете не умалить и не уничтожить славу ваших предков: вы должны понимать, что для уважающего себя человека нет ничего постыднее, чем пользоваться почестями не за свои заслуги, но за заслуги своих отцов. Почести, заслуженные родителями, — прекрасное и величественное сокровище их детей; расточить же сокровище (и деньги, и честь) и не передать его потомкам — позорно и немужественно; это — свидетельство недостатка собственного достояния и славы. Так вот, если вы позаботитесь обо всём этом, вы, как друзья, примкнете к нам, вашим друзьям, когда положенный вам удел приведет вас сюда; если же вы пренебрежете нашим наказом и покроете себя позором, никто не примет вас благосклонно. Таково наше слово к нашим сыновьям.
Что касается наших отцов — у кого они еще есть — и наших матерей, то надо постоянно их убеждать как можно легче перенести несчастье, если оно надвинется, и не причитать вместе с ними, ибо не надо ничего добавлять к их печали (она и так будет у них достаточно велика из-за выпавшей на их долю судьбы), а, наоборот, следует ее исцелять и смягчать, напоминая им, что боги благосклонно вняли их мольбе и даровали самое великое ее исполнение. Ведь молили они богов не о том, чтобы дети их стали бессмертными, но о том, чтобы они были доблестными и славными, и они обрели эти блага — величайшие из всех. (А чтобы у смертного мужа всё в его жизни получалось согласно его желанию — это нелегкая вещь.) Мужественно перенося несчастье, родители покажут себя истинными отцами своих мужественных сыновей, достойными их славы: если же они поддадутся горю, то возбудят подозрение в том, что либо они не наши отцы, либо наши хвалители были лжецами. Им следует избежать и того, и другого и на деле стать нашими самыми большими хвалителями, ясно показав, что они — истинные наши родители, сами мужи и отцы мужей. Древняя пословица “Ничего сверх меры”
[895] представляется прекрасной, ведь это в самом деле очень хорошо сказано. Муж, у которого всё приносящее счастье зависит полностью или почти полностью от него самого и который не перекладывает это на плечи других, удача или неудача коих делает неустойчивой и его собственную судьбу, тем самым уготавливает себе наилучший удел и оказывается мудрым, разумным и мужественным. Когда на его долю выпадают имущество или дети или когда он то и другое теряет, эта пословица в высшей степени обретает для него вес: он не радуется чрезмерно и не печалится слишком, ибо полагается на себя самого. Именно такими мы хотим видеть наших сородичей и утверждаем, что таковы они и на самом деле. Сами себя мы теперь тоже явили такими — не возмущающимися и не страшащимися чрезмерно, если ныне нам предстоит умереть. И мы умоляем наших отцов и матерей прожить остальную часть своей жизни в том же расположении духа, в уверенности, что ни слезами, ни скорбью о нас они не доставят нам ни малейшей радости, но, наоборот (если только есть у умерших какое-то чувство живых), станут нам в этом случае весьма неприятны, сами же себе нанесут вред тем, что тяжко будут переносить свое несчастье; но если они легко и умеренно к нему отнесутся, они нас весьма обрадуют. Ведь жизнь наша получила прекраснейшее, как считается среди людей, завершение, так что следует ее прославлять, а не оплакивать. Если же они обратят свои мысли на заботу о наших женах и детях и об их пропитании, то скорее забудут свое несчастье и будут жить лучше, правильнее и милее для нас. Для наших сородичей будет достаточно того, что мы им сейчас возвестили; город же наш мы просим позаботиться о наших отцах и сыновьях: пусть сыновья наши получат надлежащее воспитание, отцы же — содержание, подобающее им в старости. Впрочем, мы уверены, что и без нашей просьбы вы проявите достаточную заботу».
Вот что, сыновья и отцы погибших, поручили они нам для вас возвестить, и я выполняю это со всевозможным тщанием. В свою очередь я за них прошу: одних — брать пример с павших, других же — быть стойкими и уверенными в себе, ибо мы берем на себя и личную, и общественную заботу о вашей старости, где бы и с кем бы мы ни встретились из отцов погибших. Что же до города, то вы сами знаете, как он о вас печется: он издал законы, касающиеся заботы о детях и родителях тех, кто погиб на войне; эти граждане пользуются особенным покровительством наших законов, согласно которым охрана их поручена высшему должностному лицу, коему надлежит следить за тем, чтобы отцы и матери погибших не претерпели обиды;
[896] город следит за совместным воспитанием сыновей погибших, заботясь о том, чтобы сиротство было для них по возможности незаметным; он берет на себя роль отца, пока они еще дети, когда же они достигнут возмужалости
[897], отправляет их, снабдив полным вооружением, домой; он указывает им на образ жизни их отцов и напоминает о нем, снабжая их орудиями отцовской доблести; вместе с тем это служит добрым предзнаменованием, когда они отправляются к отцовскому очагу отлично вооруженными, дабы во всеоружии осуществлять там свое управление.
Город никогда не забывает оказывать почести тем, кто пал, и ежегодно совершает в общественном порядке обряды, какие положено совершать в честь каждого из них частным образом; кроме того, он учреждает гимнастические и конные, а также и всевозможные мусические состязания
[898], полностью заменяя павшим сыновей и наследников, сыновьям — отцов, а родителям — опекунов: все они в течение всей своей жизни пользуются неизменной заботой. Вдумываясь в это, вы должны с большей кротостью переносить ваше несчастье; таким образом, вы будете более угодны как погибшим, так и живым и облегчите себе заботу о других, а им — заботу о вас. Теперь же и вы, и все остальные, оплакав, согласно обычаю, павших, ступайте.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ЖАНРЕ НАДГРОБНОЙ РЕЧИ
Менандр Лаодикейский
ОБ ЭПИТАФИИ
Фрагмент трактата «Об эпидейктическом красноречии»
У афинян «эпитафием» называется речь, ежегодно произносимая в честь павших на войне, однако свое название она получила не от чего иного, как от обычая говорить ее над самим телом покойного:
[899] таковы три речи Аристида. Этот софист сочинил речи, якобы оглашенные военачальником, когда афиняне оказали ему такую честь
[900].
Если эпитафий произносится много времени спустя, он превращается в энкомий
[901]. Разве станет кто-либо у афинян оплакивать погибших пятьсот лет назад? Фукидид же, произнося эпитафий в честь погибших с начала Пелопоннесской войны
[902], не просто воздал хвалу мужам, но и показал их готовность к смерти. Однако до чего же умело он удержался от плача
[903] и, памятуя о необходимости войны, не стал оплакивать тех, кому еще предстояло сражаться! Включил он в свою речь и общее место, касающееся утешения
[904]. Так же и Аристид, если бы ему довелось произносить речи в честь недавно погибших, воспользовался бы основными темами эпитафия, столь ему знакомыми.
Впрочем, большой промежуток времени, отделяющий нас от события, не оставляет места ни для плачей, ни для утешений, ибо плач помогает избавиться от страдания. Ведь когда уже нет в живых ни отцов погибших мужей, ни их родных, то и утешать нам некого. А если бы кто из них и нашелся, было бы совершенно излишним и несвоевременным пытаться склонить его к плачу по прошествии стольких лет — ведь его печаль давно утихла. Таким образом, эпитафий, который произносят много времени спустя, есть чистый энкомий, подобно «Эвагору» Исократа
[905]. Но если речь говорят спустя не так много времени, а месяцев через семь или восемь, то, хотя это и должен быть энкомий, в конце его нам ничто не мешает прибегнуть к теме утешения — разумеется, если говорящий не является близким родственником покойного. Ибо воспоминания этого человека и через год не дадут ему избавиться от страданий, и его речь сохранит патетический характер.
Мы же рассмотрим здесь патетическую надгробную речь, каковая произносится в честь недавно умершего в соответствии с основными темами энкомия — когда к каждой из этих тем, исходя из имеющегося под рукой материала, всюду последовательно добавляется пафос. Например, я вместе с родственниками оплакиваю умершего. Откуда мне взять пафос, дабы присовокупить его к плачу? Прежде всего, из родословной умершего, ибо это, если хотите, — источник всего. Следовательно, мы станем говорить о том, что покойный был славным человеком и пользовался глубочайшим уважением в городе, но злое божество погасило сию жизнь, пылавшую в его роду, словно факел. Таким образом, основные темы речи не должны быть лишены элементов плача, и, даже говоря о роде — о его основании, расцвете и конце, — необходимо оплакивать умершего; и так же, если речь идет об иных вещах.
Сказав о роде покойного, начинай говорить о его рождении. Например, так: «О, эти тщетные знаки и тщетные сновидения, явившиеся тогда, когда он рождался! О, бедная женщина, выносившая его, о, родовые муки несчастнейшей, которые были ею испытаны! Ведь, когда она мучилась в родах, явились ей предзнаменования:
[906] кто-то напророчил ей счастливейшую судьбу, друзья и родные были исполнены надежд и приносили жертвы семейным богам, алтари обагрялись жертвенной кровью, и во всём доме царил великий праздник. Но злое божество, как всегда, посмеялось над происходящим! Дитя было передано кормилицам, воспитатели возлагали на него величайшие надежды. Но — о несчастье! — его вырвали из жизни!»
Подобным же образом приступай и к остальным темам энкомия, постепенно усиливая плач. Для этого необходим и обстоятельный рассказ, который покажет величие тех, о ком идет речь, а слушателя вновь склонит к плачу. И пусть почвой для плача служит содержание энкомия. Хвалить же надобно, придерживаясь всех общих мест похвалы — таких как предки, рождение, природные качества, воспитание, обучение, образ жизни. Природные качества раздели на две части: сначала скажи о красоте тела, потом о свойствах души. Подтверждай сказанное на примере трех основных тем по порядку — я имею в виду воспитание, обучение и образ жизни покойного. Ибо, составляя энкомий на основании каждой из них, о его воспитании ты скажешь, что через него проявился данный ему от природы талант, уделив ему особое внимание, а на второе место после него поставишь восприимчивость души покойного. О его образовании ты скажешь, что и в нем умерший явил превосходство над сверстниками. На примере же его образа жизни ты подтвердишь основное положение о том, что он показал себя человеком справедливым, гуманным, обходительным, учтивым.
Важнейшая тема энкомия — деяния покойного, о коих следует говорить после рассказа о жизни умершего. Не отступай и от того, чтобы, перечисляя деяния, к каждому из них присоединять плач. Вслед за деяниями добавь общее место, касающееся судьбы покойного: говори о том, что при жизни ему во всём сопутствовала удача — богатство, счастливое отцовство, привязанность друзей, почет со стороны правителей и жителей городов.
После этого в качестве частной темы ты добавишь к общему содержанию сопоставление
[907]. Необходимо употреблять его по отношению к той теме, о которой ты говоришь, не отказываясь от сопоставления ни в одном из случаев. Таким образом, говоря на основные темы речи, ты будешь пользоваться сопоставлением на протяжении всей речи. Например, если мы будем сопоставлять всё это с жизнью кого-либо из героев или ныне живущих доблестных мужей, то для второго, кого с ними сравнивают, это, пожалуй, будет наилучшим. Ведь его надобно изобразить привлекательнее любого красавца или сделать соперником известному герою — например, сравнить его жизнь с жизнью Геракла или Тесея.
Затем возобновляй плач, говоря, что всё возбуждает в тебе рыдания, и придай ему особую форму, свободную от какой-либо похвалы, изрекая жалобу и вызывая слезы у слушателей.
После этой темы переходи к другой — к утешению всех родственников умершего, говоря, что в плаче больше нет необходимости. Ибо покойный вершит общественные дела вместе с богами или же пребывает на Елисейских полях. Распределяй материал особым образом: например, отдельно — то, что касается детей, отдельно — что касается жены, перед тем возвысивши ее образ, дабы не создалось впечатления, будто ты говоришь о ком-то дурном и ничтожном. Ведь если речь по поводу мужчин, произносимая безо всякой подготовки, не вызывает осуждения, то, говоря о женщине, следует заранее подготовить слушателя к разговору о женской добродетели. К детям, если они пребывают в весьма юном возрасте, ты будешь обращаться не с утешением, а с увещеванием, ибо им неведомы страдания. А еще лучше, если ты присоединишь к утешению какой-нибудь совет или наставление жене и детям. Если же дети будут слишком малы, призывай к тому, чтобы жена подражала лучшим женщинам и героиням древности, а дети — доблестям своего отца.
Потом восхваляй род покойного, дабы люди не были невнимательны ни к его родным, ни к памяти о нем. После этого заверши речь молитвой о том, чтобы боги ниспослали им самое наилучшее.
Менандр Лаодикейский
О МОНОДИИ
Фрагмент трактата «Об эпидейктическом красноречии»
Божественный поэт Гомер и остальному нас научил, и мимо внешней формы монодии не прошел. Ибо и Андромахе, и Приаму, и Гекубе он вложил в уста монодические речи
[908], подходящие каждому лицу, как бы желая дать нам наставление, дабы не были мы неопытны в такого рода вещах. Итак, необходимо, заимствовав у поэта исходные правила, еще раз рассмотреть эти речи, составленные в соответствии с тем, что он нам поведал.
К чему же стремится монодия? К тому, чтобы оплакивать и выражать жалобы. И даже если покойный не приходится ему родственником, говорящий не только оплакивает ушедшего из жизни, но и примешивает к плачу похвалу, ни на минуту не прекращая плача, так чтобы не совсем отказываться от энкомия, но чтобы энкомий служил основанием для плача. Если же покойный состоит с говорящим в родстве, то последний тем более станет жаловаться либо на то, что остался сиротой, либо на то, что лишился прекрасного отца, и сам будет оплакивать свое одиночество. Если умер правитель города, то ты найдешь, что сказать и о самом городе, используя похвалу как основание для плача по усопшему, сказав, что город великолепен, в то время как воздвигший его мертв. Или говори так: «Кто позаботится о городе? Кто будет охранять его так же, как этот муж?» Если же умер молодой человек, развивай плач исходя из его возраста и природных свойств, говоря, что тот был одарен хорошими способностями, что подавал большие надежды, а также исходя из обстоятельств его жизни, говоря, что вскоре его ожидали брачные покои. А что касается городских дел, то надо говорить, что город надеялся на него как на будущего покровителя, публичного оратора, устроителя состязаний.
Всюду пользуясь одними и теми же средствами, нужно находить основание для плача. Так, в речах этого рода в самом начале подобает жаловаться на богов и на несправедливую судьбу, которая своими действиями установила несправедливый закон. Затем следует вести речь о неизбежности судьбы — например, сказать, что боги вырвали сего человека из жизни, что они торжествовали по поводу его смерти. Но чтобы не говорить много подобного, будет правильно, если ты воспользуешься этим руководством и распределишь речь в соответствии со следующими темами.
Разделить монодию следует на три периода времени, и первым из них будет настоящее. Ибо речь скорее тронет слушателей вследствие тех событий, кои и сейчас у всех на виду, и вызовет сочувствие, если кто-нибудь будет говорить о возрасте или нраве умершего, или о том, что его постигла тяжелая болезнь, или что его смерть глубоко переживается всеми присутствующими, поскольку они собрались не в благополучном театре и не ради всеми ожидаемого зрелища. Затем следует отталкиваться от прошлого, говоря о том, каким покойный был в прежние годы, будучи молодым, каким — в зрелую пору, став мужем, насколько он был обходительным, кротким, красноречивым, гордым среди юношей и сверстников, на охоте, в гимнасии. Что же касается будущего, то нужно говорить о том, какие надежды возлагали на него его родные, после чего надлежит сделать такое отступление: «О род, до сей поры блистательный и славный! Ты гордишься своим золотом, богатством и пресловутым благородством! Но покойный положил конец всему и разорил тебя! Какую драгоценность ты приобрел и затем
потерял!» Итак, оплакивай покойного вместе с его отцом и матерью, и ты усилишь жалобу по поводу того, каких надежд они лишились. Что же касается города, используй эту тему, снова говоря о том, как бы покойный проявил себя по отношению к нему, какой бы почет он приобрел и каким уже обладал. Если он был из тех, кто занимается государственными делами, то говори, как много он сделал в прежнее время. Если же ему только предстояло что-либо сделать, говори об этом применительно к будущему и в целом всегда соотноси со временем то, что имеет отношение к лицу.
После этих трех периодов времени описывай похороны и сошедшийся на них город, говоря так: «О, если бы эта процессия сопровождала его к брачному ложу, или в дальнюю дорогу, откуда ему предстояло бы вновь вернуться, или если бы мы сошлись все вместе, чтобы послушать его выступление!» Затем опиши наружность того, кто лишился своей красоты: румянец щек, умолкнувшую речь, первый пушок на лице, который исчез, едва появившись, кудри, более незримые, застывшие зрачки глаз, окружности век, которые уже не те, что были прежде, ибо всё это исчезло.
Очевидно, что монодии обычно произносятся в отношении молодых, а не пожилых. Ибо разве не бесполезно оплакивать в монодии стариков так же, как молодых? Однако монодия может произноситься мужем, когда тот говорит о своей жене. Достаточно вспомнить о неразумных тварях — как эти не способные мыслить существа, будь то бык, лошадь, лебедь или ласточка, не отличаясь в том друг от друга, переносят свое несчастье и, плача, выражают это голосом. Как лебедь, отдав свои крылья на волю Зефира, оплакивает супруга, как плачет ласточка и как, часто меняя свое мусическое пение на плач
[909], она садится в листву деревьев и стонет.
И пусть монодия составляет не больше ста пятидесяти слов, дабы те, кто оплакивает умершего, по вине пространных речей не сдерживались слишком долго в скорбных и не подходящих для этого обстоятельствах, ибо монодия всегда должна помогать преодолеть горе.
Теон Александрийский
О ПОХВАЛЕ И ХУЛЕ
Фрагмент трактата «Подготовительные упражнения»
Энкомий — это речь, показывающая величие доблестных деяний и прочих достоинств какого-либо определенного лица. Ныне энкомием зовется речь, обращенная отдельно к живым; речь же, обращенная к умершим, называется эпитафием, а речь, обращенная к богам, — гимном. Восхваляет ли кто живых или мертвых, героев или богов — способ произнесения речей один и тот же. Слово же «энкомий» происходит от того, что древние во время праздничной процессии в честь Диониса в шутку произносили кому-нибудь похвальные речи, относящиеся к богам
[910].
Когда восхваляются достоинства людей, и одни из этих достоинств характеризуют душу и нрав человека, другие — его тело, а третьи — внешние обстоятельства жизни, то очевидно, что у нас должно получиться три части, из которых мы будем слагать похвалу. Из внешних обстоятельств первым достоинством является благородное происхождение, причем благородство это имеет двоякую природу: с одной стороны — это благородство города, народа и государства, с другой — благородство предков и прочей родни. Затем идут детство, дружба, слава, власть, богатство, хорошее потомство и достойная смерть. К телесным достоинствам относятся здоровье, сила, красота, чувствительность. Достоинства души — это положительные черты характера и соответствующие им поступки, такие как здравомыслие, умеренность, мужество, справедливость, благочестие, свобода, великодушие и тому подобное.
Прекрасными являются дела, восхваляемые уже после смерти, ибо живым людям имеют обыкновение льстить
[911]. И опять-таки, если наши дела восхваляют, пока мы еще живы, то у большинства людей они вызывают зависть. Ибо зависть к живым, согласно Фукидиду, связана с соперничеством
[912]. Далее, прекрасны дела, которые мы совершаем ради других, а не ради самих себя; и когда мы совершаем их ради прекрасной цели, а не ради выгоды или удовольствия; и когда трудится один человек, а польза от этого общая; и если через наши дела большинство людей насладилось великими благами; и если мы совершаем их ради наших благодетелей и в особенности ради умерших. Поэтому достойна похвалы помощь друзьям и те опасности, каковые мы ради них претерпеваем. Похвальны также дела, совершённые в подходящее время, похвально, если их совершил лишь один человек, или если он преуспел в том, чего никто до него еще не делал, или если он сделал это лучше других, или вместе с немногими, или превзойдя свой возраст, или вопреки ожиданиям, или преодолев трудности, или если дела эти совершены с необычайной легкостью и быстротой.
Необходимо выбирать для энкомия образы прославленных героев, как, например, это делают те, кто восхваляет Елену, — ибо ей оказал предпочтение Тесей
[913]. Полезно также судить о будущем по прошлому — например, размышлять о том, что сделал бы Александр Македонский, сокрушивший могущество столь великого множества народов, если бы прожил еще немного, или поступать, как Феопомп, который в энкомии Филиппу говорит, что если последний пожелает сохранить верность своему прежнему образу действий, то будет царствовать надо всею Европой
[914]. Нелишним будет упомянуть и о прославившихся прежде людях, сравнивая их поступки с поступками тех, кого мы восхваляем. Прекрасно также строить похвалу, иногда основываясь на значении имен, на их совпадении или на прозвищах, — если это не будет слишком грубым и не вызовет смеха. На значении имен — это, например, сказать о Демосфене, что он был «силой народа»;
[915] на совпадении имен — когда кому-нибудь довелось носить то же имя, что и у прославившегося человека; на прозвищах — например, как в случае с Периклом Олимпийским, прозванным так за его великие достижения
[916].
Таковы общие места, с которых мы начнем речь, но использовать их будем следующим образом. Тотчас после вступления мы скажем о благородном происхождении, а также о телесных и прочих достоинствах, строя свою речь не попросту и не как придется, а всякий раз показывая, что мы воспользовались этими общими местами не бездумно, но осознанно и как подобает (ибо хуже всего поступают те, кто хвалит достоинства не по своему выбору, а руководствуясь случаем). Например, мы скажем, что умерший был человеком сдержанным, великодушным, дружелюбным, справедливым и не был привержен низменной корысти. Если же он не обладал ни одним из перечисленных достоинств, то нужно сказать, что он не был ни низкого происхождения, ни бедным, ни несправедливым, ни невежественным, что, происходя из маленького города, он стал знаменитым, как Одиссей или Демокрит
[917], и что, выросши при дурном государственном устройстве, он не сбился с истинного пути, но стал лучшим среди себе подобных, как Платон — при олигархии
[918]. Заслуживает похвалы и тот, кто, будучи низкого происхождения, возвеличился, подобно Сократу — сыну повитухи Фенареты и ваятеля Софрониска. Также достойно восхищения, если из своего низкого ремесла или трудной судьбы он смог извлечь что-то хорошее, подобно тому, как сапожник Герои и гетера Леонтион, говорят, стали заниматься философией
[919]. Ибо в несчастьях добродетель сияет особенно ярко.
Затем мы перейдем к делам и достижениям человека, но не будем перечислять их подряд, а всякий раз, говоря о каком-либо одном из них, станем присоединять к этому одно из его достоинств, рассматривая затем его деяния. Например, сказав, что усопший был рассудителен, мы тотчас добавим к этому, какой благоразумный поступок был им совершён. Точно так же и об остальных достоинствах. О клевете же либо не стоит говорить вовсе, ибо тогда человеческие заблуждения остаются в памяти, либо — в зависимости от того, насколько они утаены от окружающих, — наоборот, скрывать ничего не следует, составив вместо энкомия апологию. Ведь защищать нужно тех, кто виновен в несправедливых поступках, а хвалить — тех, кто отличился в чем-нибудь благородном.
Похвалу неодушевленным вещам, таким как мед, здоровье, доблесть и тому подобное
[920], мы будем составлять похожим образом, пользуясь, насколько возможно, указанными общими местами. Исходя из них мы будем восхвалять, а порицать — исходя из противоположного.
ПРИЛОЖЕНИЯ
С.И. Межерицкая
О ЖАНРЕ НАДГРОБНОЙ РЕЧИ В АНТИЧНОСТИ
Надгробная речь, или эпитафий (έπιτάφιος), — один из древнейших жанров торжественного древнегреческого красноречия (специально о нем см.: Pemot 1993, а также более общие работы: Kennedy 1994; Desbordes 1996; Wardy 1996). Наиболее ранние образцы эпитафиев, известные нам, — это похвальные речи в честь погибших воинов, восходящие к V—IV векам до н. э. Таких речей сохранилось немного. Это «Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа» («Έπιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοις») Лисия, написанное примерно в 391 году до н. э., «Надгробная речь» («Έπιτάφιος») Демосфена в честь погибших в Херонейском сражении (338 г. до н. э.), а также большой фрагмент надгробной речи Гиперида, посвященный памяти воинов, убитых в ходе Ламийской войны (323— 322 гг. до н. э.). Однако лишь о последней можно с уверенностью сказать, что она была произнесена самим оратором в 322 году (см.: Colin 1938), в то время как авторство Лисия и Демосфена нельзя считать окончательно доказанным
[921]. Из надгробных речей этой эпохи сохранился также незначительный фрагмент речи Горгия, написанной между 426 и 420 годами до н. э. (о ней см.: Blass 1868—1880/1: 59 сл.; Vollgraff 1952; Prinz 1997: 207). Однако неизвестно, предназначалась ли эта речь действительно для произнесения или, что вероятнее всего, была фиктивной, то есть писалась в качестве риторического упражнения.
К жанру эпитафия принадлежит и дошедшая в пересказе Фукидида знаменитая надгробная речь Перикла в честь афинян, погибших в первый год Пелопоннесской войны (см.: История. II.35—46; о ней см.: Oppenheimer 1933; Kakridis 1961; Flashar 1969; Faber 2009). Еще один образец надгробной речи в честь павших афинских воинов оставил нам Платон в диалоге «Менексен» («Μενέξενος»; ок. 386 до н. э.). Эту речь, якобы услышанную от Аспазии, супруги Перикла, Сократ пересказывает затем своим ученикам (см.:
Платон. Менексен. 236d—249c; см. о ней: Oppenheimer 1933; Löwenclau 1961; Carter 1991; Faber 2009)
[922]. Приведенным перечнем ограничивается наше знакомство с эпитафием классической эпохи, если не считать отдельных пассажей из «Панегирика» Исократа (см.: 74—81) и речи Ликурга «Против Леократа» (см.: 46—51), отчасти напоминающих надгробные речи, а также сочинения того же Исократа «Эвагор», написанного в похвалу умершему за несколько лет до того кипрскому тирану и отнесенного античной риторической традицией к жанру энкомия
[923].
Своим появлением древнегреческие надгробные речи обязаны существовавшему в Афинах обычаю хоронить граждан, погибших на войне за отчизну, в общей могиле
[924]. Церемонию торжественного погребения, сопровождавшегося такими похвальными речами, подробно описывает Фукидид в той части своего сочинения, которая охватывает первый год Пелопоннесской войны (см.: История. II.34.1—7). Произнесение эпитафия, согласно Фукидиду, поручалось обычно первому лицу в государстве, пользовавшемуся всеобщим уважением. Задачей оратора было восхваление доблести и мужества погибших и репрезентация последних как героических защитников родины. Это составляло ядро речи, вокруг которого располагались остальные топосы и темы, помогавшие раскрыть центральный тезис (см.: Burgess 1902: 146—157; Walters 1980; Ziolkowski 1981; Loraux 1986: 65-77, 88-91, 136-137, 277).
Надгробная речь начиналась с короткого вступления, в котором оратор напоминал о древнем обычае публичного произнесения речей над телами умерших и заявлял о своей задаче достойно почтить память погибших сограждан. Обязательный риторический топос этой части речи — рассуждение о трудности темы и выражение неуверенности оратора в собственных силах (см.:
Фукидид. История. II.35.2;
Лисий. Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 1—2;
Дефосфен. Надгробная речь. 1—3;
Гиперид. Надгробная речь. 1—2). Далее следовала основная, хвалебная, часть речи. Поскольку для полисного сознания классической эпохи всякий человек — это в первую очередь гражданин, член единой родовой общины, то и героизм погибших мыслился не как их личная заслуга, а как проявление коллективной морали, носителями которой они являлись. Вследствие этого главный акцент в похвале переносился с образа погибших на их отцов, дедов, прадедов и на легендарных основателей и законодателей города. В дошедших до нас надгробных речах этот топос выражен пространным экскурсом в социально-политическую, военную или культурную историю государства. Так, в речи Перикла раскрывается тема государственного устройства Афин и проистекающих из него нравственных ценностей, культурных достижений и просветительской деятельности города на благо всей Греции (см.:
Фукидид. История. II.36—42). Лисий посвящает большую часть «Надгробного слова» описанию военного прошлого Афин, начиная с мифологического сражения с амазонками и заканчивая Пелопоннесской войной (см.: Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 3—66). К подвигу же павших на поле боя афинян он возвращается лишь в последних параграфах речи. У Демосфена и Гиперида (см. соответственно: Надгробная речь. 4—11; Надгробная речь. 4—5) топос славной истории города — скорее дань традиции и лишь подготовительный этап к похвале самим погибшим. Завершалась надгробная речь обычно словами утешения и призывом свято чтить память этих воинов (подробнее об эпитафии классической эпохи см.: Prinz 1997; Frangeskou 1999; Faber 2009: 122 сл.).
Такое внимание к историческому прошлому государства в эпитафии не случайно. Традиция произнесения надгробных речей объясняется не только необходимостью оказать почет умершим, но и коренится в особом мировоззрении греков — в приоритете общественного начала над личным. Помимо коллективного характера похвалы, это находит также отражение в обычае хоронить погибших в общей могиле за счет государства (см.:
Фукидид. История. 11.34.1—7). Общественные похороны и надгробные речи должны были сплотить жителей города, напомнить им о гражданском долге и призвать к готовности по первому зову пролить кровь за отечество. Таким образом, эпитафий выражал идеи патриотизма и коллективизма афинского общества (см.: Hesk 2009: 157). Фукидид по этому поводу замечает, что в похоронной процессии могли участвовать все желающие, даже женщины и иностранцы (см.: История. II.34.4). А Гиперид, говоря о погибших в Ламийской войне, подчеркивает, что бессмысленно произносить похвалу каждому роду в отдельности, но лучше посвятить речь всем афинянам сразу, ибо они, будучи согражданами, принадлежат к одному общему роду (см.: Надгробная речь. 6—7).
В надгробных речах классической эпохи храбрость погибших не только восхвалялась, но и вписывалась ораторами в широкий исторический контекст через сравнение недавних подвигов с деяниями предков, также сражавшихся и погибавших за отечество. Создавая галерею героических образов и устанавливая преемственность поколений, ораторы воспитывали чувство патриотизма, пробуждали зависть к славе погибших и вызывали стремление подражать их подвигам. Яркие примеры того — надгробная речь Перикла у Фукидида и эпитафий Лисия, который напоминает о героических предках афинян: «<...> о них должны помнить все, прославлять их в песнях, говорить о них в похвальных речах, оказывать им почет во времена, подобные теперешним, учить живых примерами деяний усопших» (Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 3)
[925]. В надгробной речи платоновского Сократа тоже излагается политическая история Афин (см.: Менексен. 237b—246a), причем перечисление всех войн — от Грекоперсидских до Пелопоннесской — занимает, как и у Лисия, едва ли не две трети текста.
В надгробных речах затрагивается и тема культурной гегемонии Афин, являющихся, по словам Перикла, «центром просвещения Эллады»
[Фукидид. История. 11.41.1). В этом отношении показателен знаменитый пассаж из эпитафия Гиперида, где оратор сравнивает благодеяния, оказываемые Греции Афинами, с благами, которыми земля обязана солнцу (см.: Надгробная речь. 4—5). Разумеется, эта картина великого прошлого и славного настоящего Афин является риторической гиперболой. Например, в речи Перикла изображены не столько исторические Афины того времени, сколько «идеальное государство», что, разумеется, служило патриотической идеологии. Подобное встречаем мы и в «Менексене» Платона, где Сократ, по воле автора ставший свидетелем позднейшего упадка полиса, не только находит всё новые доказательства величия афинян, но даже их просчеты и неудачи трактует как успехи.
Кроме похвалы славным предкам и полису, надгробные речи классической эпохи включали в себя и другие топосы. После экскурса в прошлое Афин оратор, как правило, переходил к образу погибших воинов. Прежде всего он восхвалял их воспитание и образование, показывая, что они с детства отличались прилежанием в учебе, способностями к наукам, наилучшими чертами характера (см.:
Демосфен. Надгробная речь. 16). Однако он мог, минуя этот топос, сразу перейти к похвале мужеству и подвигам погибших, как мы видим в речах Лисия, Гиперида, у Фукидида и Платона. Гиперид, например, прямо заявляет, что не будет вспоминать о детстве воинов, ибо присутствующие на похоронах хорошо знают, как афиняне воспитывают детей. И то, что, оказавшись на войне, эти мужи явили всем свою доблесть, достаточно свидетельствует об их достойном воспитании (см.: Надгробная речь. 8).
Похвала военной доблести героев образует второе поле эмоционального напряжения в эпитафии, уравновешивая топос похвалы предкам и родине. Тема самопожертвования афинян раскрывается на том же мифолого-историческом фоне, что и тема славного прошлого города. Таким образом, изложение в надгробной речи движется как бы по спирали — делая очередной виток, оно возвращается к первоначальному тезису. Так, едва закончив экскурс в историю Афин и переходя к похвале погибшим, Лисий не забывает упомянуть, что «в новой борьбе (то есть в войне афинян и фиванцев в поддержку коринфян. — С.М.) они подражали древней доблести предков» (Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 61). Демосфен, говоря о причинах, по которым афиняне с честью приняли смерть при Херонее, наряду с их происхождением, воспитанием, образом жизни и государственным строем называет преданность погибших «обычаям своих фил» и приводит множество примеров мифологических героев, которые тоже предпочли достойную смерть позорной жизни (см.: Надгробная речь. 27—31). Прием сравнения с выдающимися личностями прошлого встречается и в эпитафиях римской эпохи
[926]. Другой характерный для классических эпитафиев прием — это гипербола, позднее превратившаяся в риторический штамп. Приведем отрывок из «Надгробной речи» Демосфена:
<...> мне кажется, не погрешил бы против истины тот, кто сказал бы, что доблесть этих мужей была душою Эллады; ибо, как только жизнь оставила их связанные родством тела, сокрушилось и величие Эллады. <...> подобно тому как, если бы кто лишил вселенную света, вся остальная жизнь оказалась бы безрадостной и мучительной, так вся прежняя гордость эллинов с гибелью этих мужей погрузилась во мрак и полное бесславие.
23-24
Особый интерес вызывает топос похвалы в эпитафии Гиперида. В отличие от других надгробных речей, где восхваляется группа воинов, а военачальники упоминаются кратко, основное внимание Гиперида сосредоточено на фигуре Леосфена — предводителя греков в Ламийской войне (см.: Надгробная речь. 9—15). После краткой похвалы Афинам, включающей в себя упомянутое сравнение города с солнцем, Гиперид, минуя похвалу воспитанию и образованию воинов, переходит непосредственно к похвале Леосфену:
Правильнее всего, мне кажется, будет рассказать об их храбрости на войне и о том, как они стали источником многочисленных благ для своего отечества и остальных эллинов. Начну же я с их военачальника, ибо сие будет справедливо.
Ведь Леосфен, видя, что вся Эллада подвергнута унижению и <...> скована страхом, что она разорена людьми, подкупленными Филиппом и Александром во вред своим родным городам, и что наш город нуждается в человеке, а вся Эллада — в городе, который сможет принять руководство, отдал себя в распоряжение отечества, а город наш — в распоряжение эллинов ради всеобщего освобождения.
9-10
Гиперид подчеркивает и ту роль, которую сыграл полководец в дальнейшей военной судьбе Эллады:
Леосфена подобает славить прежде всех остальных не только за то, что он совершил сам, но и за то сражение, каковое произошло позднее, уже после его смерти, а также за прочие успехи, достигнутые эллинами в этом походе. Ибо на основании, заложенном Леосфеном, зиждутся ныне наши дальнейшие действия.
14
Таким образом, в эпитафии Гиперида — возможно, впервые за историю существования жанра — спасение отечества приписывается одному человеку. Во всяком случае, Гиперид выводит фигуру полководца на передний план, затронув не характерную для надгробных речей тему роли личности в истории. Оратору мастерски удается соблюсти необходимый баланс между традиционной пропагандой коллективизма и желанием увековечить память отдельного человека:
Но пусть никто не подумает, будто я ничего не говорю о других, а хвалю одного Леосфена. Ведь похвала Леосфену за выигранные битвы есть в то же время похвала и его согражданам. Ибо задача военачальника — в том, чтобы принимать правильные решения, дело же тех, кто добровольно рискует жизнью, — побеждать в сражениях. Поэтому, восхваляя одержанную победу, вместе с предводительством Леосфена я восхваляю доблесть и остальных воинов.
15
Новаторство Гиперида проявляется и в другом: подчеркивая, что павшие, следуя примеру предков, не посрамили чести и спасли от позора отечество, он использует гиперболу, вследствие чего погибшие признаются самыми стойкими и отважными воинами за всю историю человечества. Подвигами и доблестью они не только подобны, но даже превосходят героев предыдущих войн:
Ибо ни один военный поход не явил большей доблести сражавшихся, чем этот, в котором им приходилось целыми днями строиться в боевом порядке и принимать участие в большем числе сражений, нежели всем остальным эллинам за все предшествующие времена. А жесточайшую непогоду и столь великие и многие лишения в том, что касается повседневных нужд, переносили они так стойко, что и словами не передать.
23
Более того, сравнивая Леосфена с героями Троянской войны, Гиперид подчеркивает, что «те, кого именуют полубогами», с помощью всей Греции захватили один только город, в то время как Леосфен с помощью одного города (Афин) ниспроверг власть Македонии, подчинившей себе всю Европу и Азию (см.: Надгробная речь. 35)
[927]. И если те вступились за поруганную честь одной женщины, то Леосфен со своими воинами отстоял честь всех женщин Греции (см.: Надгробная речь. 36). Вспоминая героев Греко-персидских войн, оратор утверждает, что Леосфен превзошел мужеством и разумом даже Мильтиада и Фемистокла: последние лишь остановили нашествие варваров, а Леосфен предотвратил его (см.: Надгробная речь. 37—38). Этот ряд сравнений завершается сопоставлением заслуг полководца перед всей Грецией с заслугами тираноубийц Гармодия и Аристогитона перед афинским народом (см.: Надгробная речь. 39). Таким образом, индивидуализация похвалы, впервые осуществленная Гиперидом, стала важнейшей инновацией в жанре классического эпитафия. Это свидетельствует о том, что уже с конца классической эпохи в нем намечаются тенденции, которые со временем приведут к появлению надгробных речей, посвященных частным лицам. Разумеется, этому способствовали и новые культурно-исторические условия, в которых оказалось греческое красноречие в эллинистическую эпоху. И хотя от означенного периода до нас не сохранилось ни одного подобного примера, мы имеем все основания полагать, что этот тип надгробной речи должен был появиться именно тогда.
В завершение анализа эпитафиев классического периода скажем еще о двух топосах, которые обычно следовали за похвалой павшим. Первый из них — слова утешения, обращенные к родственникам и согражданам, второй — побуждение к тому, чтобы стремиться прожить жизнь подобно этим воинам. Призыв к подражанию — locus communis всех надгробных речей классической эпохи, дошедших до нас в более или менее полном виде (см.:
Фукидид. История. II.43.1—5;
Платон. Менексен. 246d—247c, 248e;
Лисий. Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 69—70, 76, 81;
Демосфен. Надгробная речь. 26;
Гиперид. Надгробная речь. 40). Здесь он служит целям идеологической пропаганды, играя не менее важную роль, чем похвала предкам и городу. В его основе лежит тезис о том, что смерть на войне — завидный удел для каждого, ибо, отдавая жизнь за отечество, человек обретает, как говорит Перикл,
нестареющую похвалу и почетнейшую могилу, не столько эту, в которой они покоятся теперь, сколько ту, где слава их остается незабвенною, именно в каждом слове, в каждом деянии потомков. Могилою знаменитых людей служит вся земля, и о них свидетельствуют не только надписи на стелах в родной стране. Не столько о самих подвигах, сколько о мужестве незаписанное воспоминание вечно живет в каждом человеке и в неродной его земле.
Фукидид. История. II.43.2-3
Другой близкий к нему тезис мы находим в речи Демосфена: лучше предпочесть «прекрасную смерть позорной жизни» (Надгробная речь. 26).
С топосом призыва к подражанию связан топос утешения, который ему либо предшествует, либо из него вытекает (см.:
Фукидид. История. 11.44—45;
Платон. Менексен. 247c—248d;
Гиперид. Надгробная речь. 41—43). Слова утешения обращены оратором к родственникам погибших: он призывает их мужественно переносить несчастье и быть достойными славы своих отцов, сыновей или братьев. Основа этого топоса — философское рассуждение о скоротечности жизни и о том, что истинное благо заключается в доблести и славе среди потомков. Погибших следует считать счастливыми, ибо они «окончили жизнь в борьбе за величайшие и лучшие блага, <...> не ожидая естественной смерти, но выбрав себе самую лучшую»
(Лисий. Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 79). В связи с этим мужчинам дается совет во всём равняться на погибших, а женщинам — не забывать о своей женской природе, то есть о священной роли материнства и ее пользе для общества. Затем, погибшие счастливы еще и потому, что им больше неведомы физические и душевные страдания. Наконец, «они сидят рядом с подземными богами и на Островах блаженных пользуются почетом, одинаковым с доблестными мужами предшествующих времен»
(Демосфен. Надгробная речь. 34). Важный для топоса утешения мотив — тезис о том, что чрезмерная скорбь и страдания по умершим не доставили бы им радости, ибо тогда их самопожертвование утратило бы всякий смысл. В этом отношении показательна утешительная речь платоновского Сократа, построенная на известном философском принципе «ничего сверх меры»: не следует ничему чрезмерно радоваться и ни о чем слишком печалиться, ибо в этом состоит залог мудрой и разумной жизни (см.: Менексен. 248a). После слов утешения обычно следует завершающий церемонию призыв коротко оплакать покойников (см.:
Демосфен. Надгробная речь. 37;
Фукидид. История. II.46.2;
Платон. Менексен. 249c). Надгробной речи Лисия свойственен в заключении особый пафос:
Они окончили жизнь, как подобает окончить ее хорошим людям, — отечеству воздав за свое воспитание, а воспитателям оставив печаль. Поэтому живые должны томиться тоской по ним, оплакивать себя и сожалеть об участи их родных в течение остальной их жизни. В самом деле, какая радость им остается, когда они хоронят таких мужей, которые, ставя всё ниже доблести, себя лишили жизни, жен сделали вдовами, детей своих оставили сиротами, братьев, отцов, матерей покинули одинокими? <...>. Да, какое горе может быть сильнее, чем похоронить детей, которых ты родил и воспитал, и на старости лет остаться немощным, лишившись всяких надежд, без друзей, без средств, возбуждать жалость в тех, которые прежде считали тебя счастливым, желать смерти больше, чем жизни? Чем лучше они были, тем больше печаль у оставшихся.
Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 70-73
Такой пафос, в целом для надгробных речей нехарактерный, скорее всего, объясняется влиянием личности заказчика и других неизвестных нам обстоятельств написания речи. Еще один типичный для топоса утешения мотив — призыв к постоянной заботе, всеобщему вниманию и глубокому почтению со стороны граждан города по отношению к родителям (детям) погибших. Этим замечанием мы и завершим обзор эпитафия классической эпохи.
До нашего времени дошло также несколько надгробных речей, адресованных частным лицам. Все они, однако, являются памятниками позднего греческого красноречия и относятся к римской эпохе. Более того, от периода с IV в. до н. э. до IV в. н. э. их дошло всего три. Одна из этих речей — «Меланком» («Μελάγκομος») — принадлежит древнегреческому оратору, мыслителю и моралисту I в. н. э. Диону Хрисостому и посвящена кулачному бойцу
[928]. Две другие написаны оратором II в. н. э., крупнейшим представителем Второй софистики Элием Аристидом. «Надгробная речь Александру» («Έπι Άλεξάνδρω έπιτάφιος») составлена Аристидом на смерть его учителя Александра — выдающегося грамматика эпохи Антонинов, воспитателя Марка Аврелия и Луция Вера. «Надгробная речь Этеонею» («Εις Έτεωνέα έπικήδειος») посвящена талантливому ученику самого Аристида.
При общем сходстве надгробных речей частным лицам с эпитафиями классической эпохи и тем, и другим свойственны специфические черты, обусловленные, по всей видимости, развитием этого жанра в эллинистическое и римское время. Прежде всего, в позднейших надгробных речах подверглись переработке топосы похвалы рождению и воспитанию умершего. Если похвала предкам и воспитанию воинов — в соответствии с общей дидактической направленностью классического эпитафия — служила поводом к расширенной похвале городу, то в надгробных речах частным лицам похвала касается личных заслуг покойного. Это похвала его благородному происхождению, природной одаренности, раннему проявлению всевозможных способностей, прилежанию в учебе и т. д., которые рассматриваются как заслуги умершего вне зависимости от его социальной среды. Так, в «Надгробной речи Александру» Элий Аристид говорит, что не слава рода обеспечила Александру его собственную славу, а, наоборот, Александр принес славу своему отечеству (см.: 20—21). Кроме того, в надгробных речах классической эпохи ораторов мало интересовали какие-либо черты характера восхваляемых, кроме общественно значимых: храбрости, преданности обычаям предков, готовности к самопожертвованию. Автор же индивидуальной надгробной речи стремится охватить разные стороны характера умершего, его частную и общественную жизнь. Стандартный набор традиционно восхваляемых моральных качеств — это скромность, справедливость, благоразумие, доброта, человеколюбие, бескорыстие и т. п. Излюбленным риторическим приемом по-прежнему остается гипербола. Помимо качеств характера в эпитафиях нередко восхваляется и внешность умершего, в чем выражается важнейший эстетический принцип античности — принцип калокагатии
[929].
У Диона Хрисостома и Элия Аристида топосы похвалы происхождению, воспитанию, образованию, характеру и деяниям умершего составляют основную часть речи. После короткого проэмия в каждой из них следует похвала происхождению, однако если в «Меланкоме» и «Надгробной речи Этеонею» они выдержаны в традиционном стиле, то в «Надгробной речи Александру» Аристид проявляет новаторство. Так, упоминая о благородном происхождении Александра, оратор подчеркивает, что тот «прославил свой город и весь народ» (5), так что теперь соплеменники гордятся общим с ним происхождением. Гипербола лежит и в основе другого топоса — похвалы воспитанию и образованию умершего, когда Аристид утверждает, что, хотя у Александра «были лучшие учителя, <...> он явно превзошел их всех, словно детей» (6).
В разных эпитафиях набор топосов мог не совпадать, так как зависел прежде всего от личности самого восхваляемого. Например, восхваляя молодого атлета, оратор больше внимания уделял его красоте и внешним качествам — физической силе, выносливости и т. д. В этом случае не нужно было подробно говорить об учителях и воспитателях покойного, о его прилежании или умственных способностях. В «Меланкоме», например, ничего этого мы не находим. Зато на первое место здесь становится «совершенная красота» атлета, которая «из всех человеческих благ является, конечно, самым явным и доставляет величайшее удовольствие как богам, так и людям» (6—7). Затем восхваляются мужество, выносливость, самообладание и непобедимость Меланкома, причем эти качества иллюстрируются примерами из его жизни. Наряду с другими приемами Дион использует уже упоминавшийся прием сравнения покойного с героями древности, которым Меланком «не уступал <...> в доблести — ни тем, что сражались под Троей, ни тем, что позднее противостояли варварам в Греции» (14).
Если похвала была адресована человеку, явившему свои таланты в учебе, науке или творчестве, объектом этой похвалы становились его внутренние качества. Так, об Этеонее Аристид говорит, что ему были свойственны благовоспитанность, щедрость, рассудительность, сдержанность, человеколюбие. В подтверждение этих слов он ссылается на доверительные отношения, связывавшие Этеонея с матерью, любовь к брату, прилежание в учебе, поведение во время сеансов показательных декламаций, постоянное чтение и упражнение в ораторском искусстве (см.: Надгробная речь Этеонею. 4-10). Лишь мимоходом Аристид упоминает о внешней красоте Этеонея.
В «Надгробной речи Александру» похвала строится на основе ряда взаимосвязанных топосов (см.: 6—29). Сначала Аристид говорит о времени ученичества Александра. Сравнивая его с другими, автор подчеркивает его удивительную восприимчивость к любым знаниям, глубокое постижение всяческих наук, первенство в ораторском искусстве и риторике; затем переходит к педагогическим заслугам Александра, приводя примеры его щедрого и бескорыстного отношения к ученикам, поддержки, которую тот оказывал нуждающимся, почтения к нему со стороны собратьев по ремеслу. Далее Аристид рассматривает общественную и государственную деятельность Александра, отдельно касаясь его службы в императорском дворце в качестве воспитателя наследников — Марка Аврелия и Луция Вера. При этом говорится о неизменной скромности, доброте и человеколюбии Александра, о множестве благодеяний, оказанных им бессчетному количеству людей, а также перечисляются его заслуги перед родным городом Котиэем. Наконец, Аристид обращается к наиболее значимой и важной части похвалы — теме достижений Александра как исследователя, комментатора и издателя текстов древнейших греческих авторов. Слава, принесенная им родине, сравнивается со славой, которой жители Смирны обязаны Гомеру, паросцы — Архилоху, беотийцы — Гесиоду, кеосцы — Симониду, фиванцы — Пиндару, уроженцы Митилены — Алкею и Сапфо (см.: 24). «В самом деле, это великая честь и для города, и для народа, — говорит в заключение Аристид, — дать миру мужа, единственного в своем роде и первого во всём» (20). Благодаря научной и просветительской деятельности Александра его город стал «будто метрополией древней Эллады» (21), а сам он явился для эллинов как бы «основателем колонии» (22) — стольких своих последователей по всему миру он воспитал. Что же касается похвалы внешности, то здесь Аристид упоминает лишь о том, что «еще никто не имел в пору глубокой старости такого цветущего и прекрасного вида» (28). По традиции сравнивая Александра с величайшими личностями в истории Греции, в данном случае — с Платоном и Аристотелем, Аристид рисует его взаимоотношения с сильными мира сего в более выгодном свете, поскольку дружба Александра с римскими императорами принесла ему всеобщее уважение и почет, в то время как дружба Платона с Дионисием, а Аристотеля — с Филиппом и Александром Македонскими не сделала счастливым ни того, ни другого.
Значительное расширение топосов похвалы воспитанию, образованию, природным качествам и деяниям умерших в индивидуальных эпитафиях по сравнению с эпитафиями классической эпохи связано с новыми целями и задачами, которые стояли перед оратором. Прежде всего, оратор стремится создать образ уникальной личности, что не свойственно мировоззрению греков классической эпохи. Поэтому восхваляемое лицо у него обычно настолько же превосходит своих сограждан, а нередко и поколения прежде живших людей, насколько воины, прославляемые в классическом эпитафии, полностью вписываются в традиционное, хотя и идеализированное афинское общество. Если же последние и называются «лучшими из граждан», то это воспринимается всеми как закономерный результат общественного устройства и истории Афин, а сами погибшие признаются достойными продолжателями дел предков.
Топос утешения в индивидуальных эпитафиях менее всего подвергся изменению, в то время как призыв к подражанию умершим исчез из них почти полностью. Это связано с тем, что эпитафии классической эпохи помимо своей прямой функции — воздать должное павшим воинам — выполняли еще одну, не менее важную — поднять боевой дух граждан, в большинстве случаев всё еще продолжавших сражаться. Для достижения этой цели использовались различные приемы и топосы: идеализация образа государства, сравнение погибших с героями прошлого, восхваление их заслуг перед отечеством, обещание вечной славы среди потомков и т. п. В завершение следовал призыв к подражанию погибшим, обращенный ко всем присутствующим. В позднейших эпитафиях такого рода дидактизм был излишним. Важнейший элемент, сохранившийся в них от топоса подражания, — это призыв хранить память об умершем и заботиться о его семье. Но если в классическую эпоху эту обязанность, как и расходы по погребению погибших, несло государство и общество, то в дальнейшем, призывая сограждан к заботе о семье покойного, оратор в основном пользовался готовым риторическим штампом. Другой мотив этого топоса, характерный для эпитафиев частным лицам, — это прямое обращение оратора к жене и детям умершего: первой предписывалось брать пример с лучших женщин и мифологических героинь Греции, а последним — во всём подражать отцу.
Как у Диона Хрисостома, так и у Аристида топос утешения вполне традиционен. Это рассуждение о скоротечности жизни, о неизбежности смерти и о благе смерти своевременной, ибо по-настоящему счастливым может считаться лишь тот, кто «прожил отпущенный ему срок наилучшим образом и, подобно поэту, завершил пьесу, пока ее еще хотят слушать и смотреть зрители» (Надгробная речь Этеонею. 17). Здесь же мы встречаем обещание умершему вечной жизни в подземном царстве в окружении героев и лучших людей, а также упоминание мифологических персонажей — детей и любимцев богов, из которых никто не отличался долголетием. Призыв к подражанию в обеих речах Аристида отсутствует. Однако в «Надгробной речи Александру» сохраняется один из его главных мотивов — традиционный призыв сограждан чтить память умершего и заботиться о его семье. Здесь он принимает вид похвалы в адрес жителей города, ибо те и «оказывают Александру заслуженные почести, и о семье его не забывают, поступая в высшей степени справедливо и благоразумно» (37). В «Меланкоме» Диона ввиду более официального характера этой речи топос призыва к подражанию умершему сохраняется. Так, оратор говорит юношам, что если те будут усердно тренироваться, то со временем займут место Меланкома, старикам — что им надо стремиться к такой же славе и почету, какими пользовался Меланком, а всем гражданам вместе — усердно трудиться и быть добродетельными. Общий сдержанный тон речи проявляется и в том, что в заключение Дион в духе ораторов классической эпохи призывает граждан достойно — сохраняя самообладание и не давая волю слезам — почтить память Меланкома.
Наибольшее расхождение между классическими эпитафиями и надгробными речами частным лицам проявляется в том, что в основе последних, как правило, лежит плач по покойному. Объяснение этому найти нетрудно: ведь такие речи не преследуют какой-то специальной дидактической цели, и плач выполняет в них свою прямую функцию. Заказывая оратору надгробную речь, родственники рассчитывали на то, что постигшее их горе найдет в ней наиболее полное выражение. То, что обычно восхвалялось в энкомии, здесь служило поводом для плача. Напротив, вполне понятно отсутствие этого топоса в надгробных речах классической эпохи, где слишком сильное проявление чувств не поощрялось, поскольку могло вызвать у окружающих жалость к умершим. А это поставило бы под сомнение целесообразность принесенной ими жертвы и сделало бы бессмысленным последующее утешение, в основе которого лежал тезис о том, что жизнь погибших «получила прекраснейшее <...> завершение» и что «следует ее прославлять, а не оплакивать»
(Платон. Менексен. 248c).
В обеих надгробных речах Аристида плач следует сразу за похвалой и состоит из рада коротких риторических вопросов и восклицаний. Так, в «Надгробной речи Александру» читаем:
Кто из живущих не слышал о нем теперь или прежде? Кто населяет такие окраины земли? Кто настолько равнодушен к прекрасному? Кто не рыдает над полученной вестью? Даже если смерть его пришла в свой черед, всех эллинов постигла нежданная утрата! Ныне и поэзия, и проза обречены на гибель, ибо они лишились наставника и покровителя. Риторика же овдовела, навсегда утратив былой размах в глазах большинства людей. То, что Аристофан говорит об Эсхиле — будто, когда тот умер, всё погрузилось во мрак, — подобает теперь сказать об этом муже и его недюжинном мастерстве.
О наивысшее воплощение красоты, о почтеннейший изэллинов, чья жизнь достойна восхищения! О желанный для тех, кто был тебе близок, а у остальных вызывавший желание приблизиться к тебе!
31-33
В «Надгробной речи Этеонею» плач почти сплошь состоит из восклицаний и обращений, напоминающих ритуальное причитание по умершему:
О юноша, наилучший во всём! Еще не достигнув надлежащего возраста, ты оказался почтеннее и старше своих лет. По тебе скорбят хоры твоих сверстников, скорбят старики, скорбит город, который возлагал на тебя великие надежды и который ты совсем недавно привел в такое восхищение — в первый и последний раз. Что за ночи и дни выпали на долю твоей матери, каковая прежде слыла «прекраснодетной», а ныне стала тщетно родившей! О эти глаза, закрывшиеся навеки! О голова, прежде прекраснейшая, а ныне обратившаяся в прах! О руки, незримые более! О ноги, носившие такого хозяина, теперь вы неподвижны! О Этеоней, ты вызываешь больше жалости, чем новобрачный, охваченный погребальным огнем, ибо ты достоин победных венков, а не надгробного плача! Какое же безвременье постигло тебя в самом расцвете лет, если прежде, чем пришло время спеть тебе свадебный гимн, ты заставил нас петь погребальную песнь! О, великолепнейший образ! О, голос, прославляемый сообща всеми эллинами! Явив нам пролог своей жизни, ты ушел, вызвав тем большую печаль, чем большую радость доставил. Мне лишь остается сказать словами Пиндара, что «и звезды, и реки, и волны моря» возвещают о твоей безвременной кончине.
11-12
Отсутствие плача в «Меланкоме» свидетельствует о том, что оратор мог иногда и отклоняться от риторического канона. Когда надгробная речь составлялась в расчете на произнесение официальным лицом, она носила более строгий и сдержанный характер. Напротив, обе надгробные речи, написанные Аристидом от своего имени, несут яркий отпечаток личности автора и отличаются высокой эмоциональностью и пафосом, и плач играет в них большую роль.
Завершался такой эпитафий, как правило, обращением к богам, что не было характерно для надгробных речей классической эпохи, зато часто встречалось в энкомиях. Вместо заключительной молитвы, как в речах Аристида и Диона, могли использоваться и другие топосы — например, плач или призыв к подражанию. Особого внимания заслуживает финальная часть «Надгробной речи Александру». Не говоря уже о том, что этот эпитафий составлен в форме письма, автор отступает в конце от главного топоса речи (похвалы умершему) и возвращается к теме, заявленной еще в проэмии, — к своим взаимоотношениям с бывшим учителем. Аристид говорит, что всю жизнь Александр заботился о нем, оказывал ему всяческую поддержку и стремился продвинуть его карьеру. Таким образом, в центре внимания, против ожидания, оказывается сам оратор:
Всё это я сказал ныне для того, чтобы вспомнить об Александре и осознать его смерть как большое несчастье и чтобы, помимо прочего, доказать, что, беседуя с вами, я не вмешиваюсь не в свое дело. Хотел бы я, кроме того, обладать и более крепким здоровьем, чтобы быть вам хоть чем-то полезным, ибо, кто был дорог ему, дорог и мне.
40-41
Как определенное отступление от риторической традиции можно рассматривать и длинный начальный пассаж речи, в котором автор тоже говорит о себе — о том, сколь большую роль играл в его жизни Александр, бывший ему одновременно и наставником, и учителем, и отцом, и товарищем, и о том, что их связывала многолетняя дружба и гордость друг за друга. Аристид упоминает о своей переписке с Александром. Эти биографические факты создают эффект постоянного, даже чрезмерного присутствия образа автора в речи — в противоположность тому, что мы наблюдаем в надгробных речах классической эпохи.
Итак, трансформация риторического канона надгробных речей в процессе развития жанра связана с индивидуализацией похвалы, с одной стороны, и с усилением роли авторского начала — с другой. Наиболее значительные изменения относятся к концу классической (см. выше пассаж о «Надгробной речи» Гиперида) и к эллинистической эпохе. Однако от многовековой эпохи эллинизма не сохранилось ни одной надгробной речи, поэтому нам остается лишь гадать о тех тенденциях, которые привели в итоге к появлению индивидуальных эпитафиев. Возможное объяснение этого феномена связано с осознанием той роли, которую играли надгробные речи в повседневной жизни древних греков. Относясь к категории прагматического красноречия, служившего потребностям широких слоев общества, они входили в большую группу так называемых речей по случаю, среди которых были свадебные, поздравительные, приветственные и т. п. Эти речи либо произносились самими ораторами, либо составлялись по заказу частных лиц. По всей видимости, со временем спрос на заказные речи стал расти, что в итоге не могло не привести к переизбытку риторической продукции, как это, в частности, произошло позднее в эпоху Второй софистики
[930]. Разумеется, утилитарный характер такого рода литературы заметно сказывался на ее качестве. Неудивительно, что подобные речи должны были восприниматься как «окололитературная продукция», которая не заслуживала специального внимания, а тем более публикации.
Примерно так же обстояло дело и с другим, близким к эпитафию жанром эпидейктического красноречия — монодией
[931]. О ее существовании в классическую и эллинистическую эпохи мы не имеем определенных сведений. Однако в позднеантичный период (как и в византийскую эпоху, об этом см.: Hadzis 1964; Hunger 1978) этот риторический жанр был хорошо известен, о чем свидетельствуют, в частности, дошедшие до нас монодии Элия Аристида и Албания
[932]. По форме и содержанию риторическая монодия близка к надгробной речи и строится по сходному риторическому канону. Однако, несмотря на значительное сходство в целях и задачах, в методах и риторических средствах, между этими жанрами имеются различия, которые и обусловили их независимое существование в античной литературе. Это хорошо видно на примере речей Элия Аристида и Албания, обращавшихся в своем творчестве как к монодии, так и к эпитафию. Выбор жанра находит обоснование и в риторической теории, которая закрепляет за каждым из них определенную сферу применения. Так, в риторической монодии похвала вторична по отношению к плачу и важна только как повод для него, ибо монодия служит цели оплакивания. В эпитафии же похвала, напротив, выходит на первый план, поскольку его основная задача, как мы видели, — прославление умершего. Кроме того, эпитафию свойственен более сдержанный тон, поскольку он мог писаться некоторое время спустя после смерти адресата; монодия же больше подходила для излияния сильных чувств и произносилась у могилы покойного
[933]. Наконец, в монодии полностью отсутствует такой топос, как призыв к подражанию. Для жанра, определяемого и характеризуемого как смешение плача и похвалы, дидактизм нехарактерен, ибо монодия стремится не поучать, а оплакивать. По этой же причине в монодии нет и топоса утешения.
Самые ранние сохранившиеся памятники риторической монодии — это «Монодия Смирне» («Μονωδία επί Σμύρνη») и «Элевсинская речь» («Έλευσίνιος») Элия Аристида. Эти произведения интересны еще и тем, что посвящены не лицам, а неодушевленным предметам, а именно — городу и храму. Первая речь написана на разрушение землетрясением малоазийского города Смирны в 177 году н. э.
[934], вторая — на разрушение от огня главного храма в Элевсине при набеге сарматского племени костобоков в 171 году н. э. Столь необычное решение Аристида — придать речам форму монодии — находит следующее объяснение. С одной стороны, в творчестве Аристида это не единственный случай, когда оратор адресует сочинения городам или храмам
[935], не говоря уже о том, что он удачно приспосабливает жанр энкомия, например, для восхваления моря или целебного источника
[936]. Его речь «К Эгейскому морю» — единственный памятник позднеантичного эпидейктического красноречия, посвященный такого рода объектам
[937]. С другой стороны, нам известно новаторство Аристида в области и других риторических жанров (см.: Oliver 1953; Oliver 1968). В частности, у него мы встречаем жанр прозаического гимна богам, являющийся риторической переработкой древнейшего жанра лирической поэзии (см.: Mesk 1927; Amann 1931; Turzewitsch 1932; Herzog 1934; Höfler 1935; Voll 1948; Lenz 1962; Ürschels 1962; Lenz 1963; Niedermayr 1982). Неизвестно, кто ее впервые осуществил, но именно за Элием Аристидом в поздней античности закрепилась слава непревзойденного мастера этого жанра. Об этом свидетельствует, помимо всего прочего, хорошо известная образованность Аристида, его любовь к лирическим поэтам, в особенности к Пиндару
[938], а также богатый опыт в сочинении лирических поэм и гимнов
[939].
Монодии Аристида, в основе которых лежит плач по покойному, состоят из ряда восклицаний и риторических вопросов, обращенных к людям, предметам и явлениям окружающего мира. В «Монодии Смирне» Аристид так оплакивает разрушенный город:
О источники, театры, улицы, крытые и открытые ристалища! О блеск главной площади города! О Золотая и Священная дороги, каждая по отдельности образующие каре, а вместе выступающие наподобие агоры! О гавани, тоскующие по объятьям любезного города! О невыразимая красота гимнасиев! О прелесть храмов и их окрестностей! В какие недра земли опустились вы? О прибрежные красоты! Теперь всё это лишь сон. Разве могут потоки слез утолить такое горе? Разве довольно звучания всех флейт и пения всех хоров, чтобы оплакать город, который снискал себе славу благодаря хоровым выступлениям и трижды теперь желанен для всего человечества?! О, гибель Азии! О, все прочие города и вся земля! О, море перед Гадирами и за ними! О, звездное небо, о всевидящий Гелиос! Как вынес ты это зрелище?! Рядом с ним падение Илиона — сущий пустяк, как ничтожны и неудачи афинян в Сицилии, и разрушение Фив, и гибель войск, и опустошение городов — всё, что причинили прежде пожары, войны и землетрясения.
6-7
Если в монодии, адресованной лицу, оплакивалось благородное происхождение умершего, его прекрасное воспитание, образование и деятельность на благо города, то в монодии, посвященной городу или храму, эти топосы подверглись значительной переработке. Аристид идет здесь по новому пути, побуждающему его искать риторические аналоги в речах других жанров. По всей видимости, примером для оратора послужили классические надгробные речи V—IV веков до н. э., а также энкомии городам
[940], в которых центральную часть речи занимает исторический экскурс в прошлое. В результате Аристид вводит в монодии городам и храму элементы описания и рассказа. Таковы, например, краткое изложение легендарной и реальной истории Смирны (см.: 2) и описание ее красот и достопримечательностей до землетрясения:
Увиденное же воочию намного превосходило любое описание! Приезжих город тотчас ослеплял своей красотой, монументальностью и соразмерностью зданий и спокойной величавостью облика. Нижняя часть города прилегала к набережной, гавани и морю, средняя же располагалась настолько выше береговой линии, насколько сама она отстояла от верхней части, а южная сторона, поднимаясь ровными уступами, незаметно приводила к Акрополю, с которого открывался прекрасный вид на море и город.
3
В «Элевсинской речи» изложение мифологических преданий и исторических событий, касающихся элевсинского святилища, вместе с описанием храма занимает почти две трети текста (см.: 3—10).
В монодиях Аристида встречается еще один изначально не характерный для этого жанра топос, очевидно, также заимствованный им из других жанров эпидейктического красноречия. Это сетования на чрезмерную трудность темы и недостаток смелости и таланта у автора, чтобы должным образом ее раскрыть. «Элевсинская речь», например, начинается такими словами:
О Элевсин, лучше бы мне было воспеть тебя в прежнее время! Какому Орфею или Тамириду, какому элевсинцу Мусею под силу такое дело?! На каких лирах или кифарах оплачут они дорогие всем руины, общее сокровище земли?! С чего же, о Зевс, мне начать? Едва приступив к речи, я немею и теряюсь, принуждая себя говорить по одной лишь причине — оттого, что не могу молчать.
1
Аристид удачно применяет к монодии традиционную схему энкомия и эпитафия с их историческим экскурсом в прошлое и характерным проэмием, содержащим жалобы оратора на собственное бессилие. В остальном монодии Аристида соответствуют требованиям этого жанра, поскольку в них нет ни призыва к подражанию, ни слов утешения к родным.
Кроме рассмотренных речей Элия Аристида, от эпохи античности сохранились три риторические монодии знаменитого оратора IV в. н. э. Либания: это «Монодия Никомедии» («Μονωδία επί Νικομήδεια»), «Монодия храму Аполлона в Дафне» («Μονωδία εις τον έν τη Δάφνη νεών του Απόλλωνος») и «Монодия Юлиану» («Μονωδία επί Ίουλιάνω»), из которых первые две написаны в подражание «Монодии Смирне» и «Элевсинской речи» Аристида (см.: Раск 1947), которым Либаний открыто восхищался как в речах, так и в письмах (см., в частности: К Аристиду за плясунов. 4). Однако это нисколько не умаляет художественно-эстетического значения монодий Либания. Более того, двухсотлетний промежуток, отделяющий его от Аристида, позволяет проследить развитие жанра в позднеантичной ораторской прозе.
«Монодию Никомедии» Либаний, как в свое время Аристид — «Монодию Смирне», написал вскоре после землетрясения, разрушившего его родной город (358 г. н. э.). Ни Аристид, ни Либаний, по счастью, не были очевидцами катастрофы, однако поспешили каждый оплакать свой город в речи. Обе речи начинаются проэмием, в котором сообщается предстоящая тема, а также содержатся сетования оратора на недостаток мастерства (см.: Монодия Смирне. 1; Монодия Никомедии. 1—2). Затем следует краткий экскурс в историю городов (см.: Монодия Смирне. 2; Монодия Никомедии. 4-5) и описание утраченных достопримечательностей, причем у Либания эти описания гораздо подробнее, чем у Аристида (см.: Монодия Смирне. 3—5; Монодия Никомедии. 7—10). После описательной части Аристид возобновляет плач, который продолжается до конца монодии, у Либания же он чередуется с подробными и яркими описаниями катастрофы (см.: Монодия Никомедии. 14—15, 18). Это постоянное возвращение к теме страха и ужаса, царящего на улицах, мастерски воспроизводимые картины разрушений и гибели придают речи Либания особый драматизм и являются определенным новаторством в рамках существующего риторического канона. В остальном же «Монодия Никомедии» тесно перекликается с «Монодией Смирне» — порою вплоть до буквальных цитат, особенно там, где на первое место выходит плач (ср., в частности: [Монодия Смирне. 10; Монодия Никомедии. 20]; [Монодия Смирне. 7; Монодия Никомедии. 13, 19]). Так, оплакивая Никомедию, Либаний подражает плачу Аристида над Смирной:
Где теперь улицы? Где портики? Где дороги? Где источники? Где площади? Где школы? Где священные участки? Где то богатство? Где юность? Где старость? Где бани самих Харит и Нимф, из коих самая обширная, названная по имени построившего их царя, стоит целого города? Где теперь городской совет? Где народ? Где жены? Где дети? Где дворец? Где ипподром, крепчайший вавилонских стен?
Ничто не осталось нетронутым, ничто — неистребленным. Всё охвачено бедствием.
Монодия Никомедии. 17—18
Приведем еще несколько примеров дословных совпадений. Упоминая о последствиях землетрясения, Аристид вводит анатомическую метафору, говоря, что день, в который оно произошло, «обезглавил целый род» и «лишил его глаза» (Монодия Смирне. 8). Либаний подхватывает эту метафору, называя Никомедию «локоном вселенной» и говоря, что злое божество «ослепило другой материк, выбив славное око» и «обрезав нос на красивейшем лице» (Монодия Никомедии. 12). Далее, Аристид называет Смирну «одеянием Нимф и Харит» (Монодия Смирне. 8), Либаний провозглашает знаменитые термы Никомедии «банями самих Харит и Нимф» (Монодия Никомедии. 17). В другом месте Аристид восклицает: «<...> о всевидящий Гелиос! Как вынес ты это зрелище?!» (Монодия Смирне. 7). Либаний вторит ему: «О всевидящий Гелиос, что же с тобою стало, когда ты взирал на всё это?» (Монодия Никомедии. 16).
«Монодия храму Аполлона в Дафне» была написана Либанием в 362 году, сразу после уничтожившего святилище пожара. Помимо сходства обстоятельств, при которых создавались речь Либания и «Элевсинская речь» Аристида, в них также имеется сходство в композиции и выборе материала. После смешанного с плачем проэмия, от которого сохранилось лишь несколько строк (см.: Монодия храму Аполлона в Дафне. 1), Либаний, как Аристид в «Элевсинской речи» (см.: 6—8), сразу переходит к истории храма, выбирая лишь те моменты, которые демонстрируют неприступность и недосягаемость Дафны для врагов Антиохии (см.: 2-4). Например, говоря о захвате города царем персов, Либаний утверждает, что «тот, бросив факел, поклонился Аполлону», когда перед ним явился бог (см.: 2). Данный топос находит соответствие в речи Аристида, который, описывая вторжение персов в Элладу, сообщает, что «сам Иакх, когда началось морское сражение, явился союзником эллинов», и, «пораженный сим, Ксеркс бежал, и царство мидийцев сокрушилось» (Элевсинская речь. 6).
Вслед за кратким историческим экскурсом и у Аристида, и у Либания плач возобновляется чередой восклицаний и риторических вопросов. С плачем тесно переплетаются элементы энкомия — описание прежних красот храма и его значения для греков:
Кто не восхитился бы при виде скульптур, картин и общей красоты даже на улицах? Чего только здесь нельзя было увидеть, не говоря уж о самом главном! Однако польза от этого всеобщего праздника не только в той радости, которую он приносит, не только в избавлении и спасении от прежних тягот, но и в более светлых надеждах, питаемых людьми по поводу смерти, — что они перейдут в лучший мир, а не будут лежать во мраке и грязи, каковая участь ожидает непосвященных. Так было вплоть до этого страшного дня.
Элевсинская речь. 10
Похожую картину, воссоздавая образ храма Аполлона в Дафне, рисует Либаний:
Какого, о Зевс, лишены мы отдохновения для утомленной души! Сколь чистое от тревог место Дафна, еще чище храм — как бы гавань при гавани, устроенная самою природою; обе они защищены от волн, но вторая дарует больше покоя. Кто бы там не избавился от недуга, не стряхнул с себя страха, кто не забыл бы горе? Кто пожелал бы Островов блаженных?
Монодия храму Аполлона в Дафне. 6
Нельзя пройти мимо еще двух важнейших параллельных мест в монодиях Аристида и Либания. Это напоминание о приближении общегреческого религиозного праздника, который обычно справлялся на территории святилища. Так, Аристид восклицает:
А Мистерии близятся, о земля и боги! Месяц Боэдромион требует ныне иного клича, нежели тот, с которым Ион спешил на помощь Афинам. О, предупреждение! О череда священных дней и ночей, в какой же из этих дней ты прервалась! Кто достоин большей жалости — непосвященные или посвященные? Ведь одни лишились самого прекрасного из того, что когда-либо видели, а другие — того, что только могли бы увидеть.
Элевсинская речь. 12
В свою очередь Либаний сетует:
Недалеко Олимпии, и праздник соберет города. А те явятся, ведя быков в жертву Аполлону. Что будем делать? Куда погрузимся? Кто из богов разверзнет под нами землю? Какой вестник, какая труба не вызовет слёзы? Кто назовет Олимпии праздником, когда недавнее разрушение исторгает из груди рыдание?
Монодия храму Аполлона в Дафне. 7
Однако между этими монодиями есть и некоторые отличия. У Аристида речь четко делится на три части — проэмий, собственно плач и историко-мифологический рассказ, переходящий в описание прежнего великолепия храма, причем последние два помещены в середину плача; у Либания на протяжении всей речи элементы плача чередуются то с рассказом, то с описанием храма до пожара (см.: 6, 11), то с описанием пожара (см.: 9, 12). Более того, если в монодиях Аристида описание бедствия отсутствует, то монодия Либания помимо описания пожара содержит еще один топос, не встречающийся у Аристида. Это жалобы автора, обращенные к богам, в частности, к Аполлону, на то, что те не остановили святотатство и не погасили пламя (см.: 5, 9). То же мы видим в «Монодии Никомедии», в которой этот топос получает дальнейшее развитие (см.: 3-4, 6, 11, 14, 16). В проэмии оратор заявляет о намерении привлечь богов к «отчету в причине несчастья» (2). Появление новых топосов в монодиях Либания, по всей видимости, объясняется расширением риторического канона этого жанра в поздней античности.
Третья монодия Либания написана в 364/365 году на смерть римского императора Юлиана и представляет собой единственный образец монодии известному историческому лицу, дошедший до нас от античности
[941]. А благодаря написанной Либанием примерно в то же время «Надгробной речи Юлиану» мы можем сравнить оба сочинения и выявить специфические черты монодии, дополнив приведенную выше общую характеристику. Прежде всего, укажем на небольшой объем «Монодии Юлиану», что вполне согласуется с античными риторическими рекомендациями (об этом см. ниже). Соответствует канонам жанра и композиция монодии: она состоит из обширной биографической части (см.: 14—21) и собственно плача (см.: 22—38); в монодии отсутствуют топосы утешения и призыва к подражанию. Необходимо отметить и ряд особенностей, отличающих эту монодию Либания от других: отсутствие проэмия с обычным для него топосом жалоб оратора на трудность темы — вместо этого речь начинается с описания настоящего, то есть с политического положения в Римской империи после смерти Юлиана. Либаний живо воспроизводит картину современной ему действительности: это и пренебрежение законами, и бездействие судей, и притеснения, которым подвергаются римляне со стороны несправедливой власти (см.: 1—13). Оратор горько сетует на происходящее вокруг и даже обвиняет богов в несправедливости и неблагодарности по отношению к их верному почитателю — Юлиану (см.: 4, 6; ср.: Монодия храму Аполлона в Дафне. 5, 9; Монодия Никомедии. 3-4, 6, 11, 14, 16). Другая особенность этой монодии в том, что в плач по Юлиану Либаний включает элемент автобиографии, говоря о дружбе, которая связывала его с императором (см.: 36—38), — прием, который мы встречали в надгробных речах Элия Аристида.
В отличие от «Монодии...» «Надгробная речь Юлиану» очень большая и содержит полный набор риторических топосов, раскрывающих традиционные для эпитафия темы. Это благородное происхождение, воспитание и образование Юлиана (см.: 7—30), его подвиги на войне с германцами (см.: 31—89), противостояние императору Констанцию (см.: 90—116) и, наконец, царствование (см.: 117—203). На фоне всего этого описывается нрав и образ жизни императора, а в заключение следует рассказ о персидском походе Юлиана и его смерти (см.: 204—280). Помимо основной части, в эпитафии Либания есть вступление, содержащее традиционную жалобу оратора на трудность задачи — воздать хвалу Юлиану и достойно оплакать его кончину (см.: 1—6). В основной части эпитафия мы также находим плач по умершему (см.: 281—295) и топос утешения (см.: 296—307). Однако у Либания заметно и отклонение от канона: это отсутствие традиционного призыва к подражанию умершему, а также финальной молитвы богам. Вместо этого в конце речи возобновляется плач (см.: 308), как в «Надгробной речи Этеонею» Аристида.
Как мы видим, в целом строго следуя риторическим канонам эпитафия и монодии и одновременно творчески перерабатывая достижения предшественников, Либаний, с одной стороны, продолжает традицию греческого красноречия, ориентированного на классические образцы аттических ораторов, а с другой — завершает ее, стоя в одном ряду с Гимерием и Фемистием. В творчестве этих трех ораторов нашли воплощение последние достижения позднеантичного ораторского искусства (см.: Petit 1955; Petit 1957; Cribiore 2007; Hoof 2014).
Помимо собственно надгробных речей и монодий древнегреческих ораторов, до нашего времени дошло два риторических трактата, в которых не только упоминается об этих жанрах, но и даются подробные рекомендации по составлению речей. Это руководство Теона Александрийского под названием «Подготовительные упражнения» («Προγυμνάσματα») и трактат Менандра Лаодикейского «Об эпидейктическом красноречии» («Περί επιδεικτικών»). В основе указанных сочинений лежит классическое учение Аристотеля о трех родах красноречия, а также об этических и стилистических принципах «похвалы» и «хулы» (см.: Риторика. 1.9.1366a—1368a). Из этого видно, что позднеантичная теория ораторского искусства относила эпитафий и монодию к торжественному красноречию, рассматривая их как вариацию жанра энкомия. Таким образом, на оба жанра распространялись формальные предписания, характерные для традиционной похвалы. Это, как правило, избавляло авторов риторических руководств от необходимости отдельно излагать теорию надгробной речи. Так, Теон ограничивается лишь кратким комментарием на данную тему:
Энкомий — это речь, показывающая величие доблестных деяний и прочих достоинств какого-либо определенного лица. Ныне энкомием зовется речь, обращенная отдельно к живым, речь же, обращенная к умершим, называется эпитафием, а речь, обращенная к богам, — гимном. Восхваляет ли кто живых или мертвых, героев или богов — способ произнесения речей один и тот же.
О похвале и хуле. 226—227
Трактат Менандра Лаодикейского, в котором эпитафию и монодии уделяется гораздо больше внимания, — важнейший источник для изучения этих жанров. При изложении теории торжественного красноречия Менандр ориентируется в основном на речи Элия Аристида
[942], о котором упоминает в самом начале раздела, посвященного эпитафию (см.: Об эпитафии. 287—288). Это дает нам возможность рассмотреть одновременно и риторическую теорию, и ораторскую практику относительно эпитафия и монодии. Итак, в разделе «Об эпитафии» («Περί επιταφίου») Менандр дает эпитафию такое определение: «У афинян “эпитафием” называется речь, ежегодно произносимая в честь павших на войне, однако свое название она получила не от чего иного, как от обычая говорить ее над самим телом покойного <...>»
[943] (287). В дальнейшем это название стали относить уже к любой надгробной речи, в том числе индивидуальной, а ее произнесение у могилы покойного более не являлось обязательным. Согласно Менандру, надгробные речи могли писаться и произноситься спустя длительное время после смерти адресата (см.: 288—290).
Правила составления индивидуального эпитафия, приводимые Менандром, по большей части использовались еще с классических времен в надгробных речах в честь павших воинов. Они касаются как общей структуры речи, так и отдельных топосов — благородного происхождения, хорошего воспитания, наилучших качеств характера, достойных деяний, утешения родственников и призыва к подражанию. Новшество заключается в том, что эпитафий рассматривается Менандром как сложный жанр, состоящий из похвалы (έγκώμιον), плача (θρήνος), отсутствующего в классических надгробных речах, и утешения (παραμυθία). Автор рекомендует варьировать эти элементы в зависимости от времени, прошедшего со дня смерти лица до произнесения речи, от наличия у покойного родственников, от степени близости говорящего к умершему и т. д. Например, ни плач, ни утешение в эпитафии не уместны, если после смерти адресата прошло много времени, ибо забвение избавляет от страданий. То же самое касается случаев, когда умершие не имеют родителей или родственников, которые бы глубоко переживали утрату
[944]. При нарушении этого принципа возникает опасность ложного пафоса. Если смерть наступила недавно, то можно включить в речь утешение, но только при условии, что она произносится не близким родственником покойного, — в противном случае речь и через год сохранит патетический характер. Речь, в которой отсутствуют и плач, и утешение, Менандр характеризует уже не как эпитафий, а как «чистый энкомий», приводя в пример «Эвагора» Исократа (см.: 289).
Определив природу той разновидности надгробной речи, которую называют «патетической» (речь в честь недавно умершего), Менандр рассматривает ее структуру. Тезис о том, что эпитафий отличается от энкомия только наличием в нем плача и утешения, означает, что его основу по-прежнему составляет похвала. Таким образом, при составлении надгробной речи необходимо повторять структуру энкомия, но с одной лишь разницей: всё, что в энкомии обычно восхваляется, в эпитафии должно оплакиваться. За похвалой, смешанной с плачем, следует топос утешения, кладущий конец плачу и представляющий собой рассуждение о смертной природе человека, о том, что всё происходит по воле богов, что покойный избавлен от земных страданий и т. д. Утешив сограждан, необходимо призвать их заботиться о семье покойного и чтить его память. Завершается эпитафий, как и энкомий, молитвой.
Специальный раздел Менандр посвящает монодии («Περί μονωδίας»). Начинает он с рассуждения о назначении этого жанра:
К чему же стремится монодия? К тому, чтобы оплакивать и выражать жалобы. И даже если покойный не приходится ему родственником, говорящий не только оплакивает ушедшего из жизни, но и примешивает к плачу похвалу, ни на минуту не прекращая плача, так чтобы не совсем отказываться от энкомия, но чтобы энкомий служил основанием для плача.
О монодии. 315—316
Кратко охарактеризовав монодию, Менандр дает рекомендации о том, что и как нужно оплакивать. Основу плача составляют те же топосы, что и в эпитафии: происхождение, воспитание, образование и род занятий умершего. Затем рассматривается композиция речи, которую автор советует делить на три части: настоящее, прошлое и будущее. Начинать следует с настоящего, то есть с утраты, которая тяжело переживается окружающими. Затем нужно перейти к прошлому и описать, каким покойный был в молодости, в зрелую пору, как проявил себя в общении с людьми и т. д. После этого можно переходить к будущему, которое его ждало, и к надеждам, которые на него возлагали окружающие. При этом плач должен всё время усиливаться. В заключение трактата Менандр вновь возвращается к характеристике монодии, дополняя сказанное прежде. Во-первых, монодию обычно посвящают молодым, ибо бессмысленно оплакивать стариков наравне с юношами. Во-вторых, произносить монодию должен близкий родственник — например, муж, скорбящий по умершей жене. Это замечание Менандра важно для определения специфики жанра монодии, так как известные нам античные эпитафии в основном адресованы мужчинам, что находит объяснение в их исходном предназначении — прославлять погибших воинов. Наконец, Менандр указывает и подходящий для монодии объем — не более ста пятидесяти слов, ибо нельзя принуждать родственников умершего слишком долго сдерживать горе.
Соблюдение риторического канона при составлении эпитафиев и монодий не означало для оратора необходимости строго и неуклонно во всём ему следовать. Как показывают рассмотренные сочинения, принадлежащие разным эпохам и авторам (в особенности речи Элия Аристида), ораторы пользовались довольно большой свободой как в выборе, так и в компоновке материала. И чем выше был профессиональный уровень оратора, чем большим талантом он обладал, тем большей индивидуальности стиля и отступлений от канона можно было от него ожидать. Набор топосов мог варьироваться в зависимости от обстоятельств
[945] — личности умершего, его общественного положения, приближенности к нему оратора, времени и места написания речи и т. д. При этом автор по своему усмотрению мог исключать одни топосы, расширять другие и сокращать третьи. Если надгробная речь посвящалась официальному лицу или человеку, чей социальный статус был весьма высок, оратор, в подражание древним, мог сохранять более спокойный и сдержанный тон; уделять в похвале больше внимания моральным качествам покойного и его заслугам перед отдельным городом или всем государством; усиливать топос подражания и проч. Если речь произносилась в честь умершего юноши, она, напротив, отличалась повышенной эмоциональностью и пафосом, обязательным присутствием топосов плача и утешения. Профессия умершего, его склонности, вкусы, привычки и интересы также накладывали отпечаток на характер речи. Так, в речи, посвященной атлету, восхвалялась физическая сила, красота и связанные с этим качества характера. Безвременно почивший юноша восхвалялся за способности к наукам, прилежание в учебе, трудолюбие. Восхвалял ли автор речи старика или юношу, мужчину или женщину, он всякий раз выдвигал на передний план те природные качества, которые в наибольшей степени были свойственны адресату.
Итак, развитие жанра эпитафия, поначалу включавшего в себя только похвалу умершему и последующее утешение родных, шло по пути, с одной стороны, индивидуализации похвалы, а с другой — усиления патетического элемента. Это привело к тому, что в индивидуальной надгробной речи к вышеупомянутым топосам присоединился еще один — плач, существовавший некогда как самостоятельный жанр. Вследствие этого в позднеантичной ораторской прозе утвердился жанр монодии, в которой плач составлял главное содержание. Наконец, в позднейших эпитафиях значительно возросла роль авторского начала. Теперь оратор, произносящий или пишущий речь, не только открыто мог заявлять о себе, но и сообщать отдельные факты своей биографии. Так образ автора постепенно выходит на передний план. Особого внимания заслуживают в этом отношении произведения Элия Аристида, внесшего, как было сказано, немало новшеств в риторическую традицию своего времени.
Примечания
Ряд произведений древнегреческих авторов, вошедших в настоящее издание, а именно: «Надгробная речь Александру», «Надгробная речь Этеонею» и «Монодия Смирне» Элия Аристида, «Меланком» Диона Хрисостома, фрагмент эпитафия Горгия, а также извлечения из риторических трактатов Теона Александрийского и Менандра Лаодикейского публикуются на русском языке впервые. Переводы указанных произведений древнегреческих ораторов выполнены по следующим изданиям: Элия Аристида — по изд.: Aristides 1898; Диона Хрисостома — по изд.: Chrysostom 1950; Горгия — по изд.: Diels 1907. Переводы отрывков из сочинений Теона Александрийского и Менандра Лаодикейского выполнены по изд.: Spengel 1853—1856.
Переводы «Надгробной речи» Гиперида и «Элевсинской речи» Элия Аристида выполнены заново по следующим изданиям: МАО 1962; Aristides 1898. Осуществленный в прошлом Л.М. Глускиной перевод надгробной речи Гиперида (см.: Гиперид 1962; переизд.: Исократ 2013: 506—514), в целом довольно точно передающий содержание, не отражает, однако, некоторых существенных стилистических особенностей оригинала, включая такие риторические фигуры, как изоколоны и гомеотелевты, которые со времени Горгия прочно вошли в древнегреческую ораторскую практику и играют в речи Гиперида заметную роль. В предлагаемом вниманию читателя новом переводе предпринята попытка возможно точнее передать специфические черты языка оратора, при этом особое внимание уделено ритмической стороне его речи. Кроме того, перевод снабжен подробными историко-культурными комментариями, отсутствовавшими в предыдущих русскоязычных изданиях Гиперида. Перевод «Элевсинской речи» Аристида был впервые осуществлен М.Л. Гаспаровым (см.: Грабарь-Пассек 1960: 319—321) и в известной мере учитывался при подготовке нового перевода наряду с позднейшим англоязычным переводом и комментариями к этой речи, принадлежащими Чарлзу Бэру — крупнейшему исследователю творчества Элия Аристида, автору новейшей подробной биографии оратора (см.: Behr 1968), а также издателю и переводчику его речей (см.: Aristides 1976; Aristides 1981—1986).
Переводы речей остальных ораторов, а также переводы отрывков из сочинений Фукидида и Платона, осуществленные ранее другими специалистами, заново сверены с оригиналами, в отдельных случаях отредактированы и снабжены новым научно-критическим аппаратом. Существенной переработке подверглись переводы Либания, выполненные более ста лет назад С.П. Шестаковым и не отвечавшие современным требованиям, предъявляемым к художественным переводам. Кроме того, к указанным речам Либания были составлены новые, подробные комментарии, призванные облегчить читателю понимание отдельных культурных и исторических реалий, оставленных С.П. Шестаковым без соответствующих разъяснений, что не могло не сказаться на ясности и точности его переводов. При подготовке данного тома использовались следующие издания древнегреческих авторов на русском языке: Лисий 1994; Демосфен 1994; Либаний 1914—1916; Либаний 2014; Фукидид 1999; Платон 1990.
Составитель тома выражает глубокую признательность всем, кто участвовал в подготовке настоящего издания, в особенности профессору кафедры истории Древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета, доктору исторических наук Э.Д. Фролову, взявшему на себя нелегкий труд редактирования всех вошедших в издание материалов, и академику РАН Н.Н. Казанскому, проявлявшему внимание к данной работе на разных этапах ее подготовки, а также предоставившему ее автору возможность выступить с рядом докладов по теме настоящего издания на конференциях, посвященных памяти И.М. Тронского (ИЛИ РАН). Отдельную благодарность составитель этого тома выражает доцентам кафедры классической филологии Санкт-Петербургского государственного университета Л.Б. Поплавской и С.А. Тахтаджяну, своими советами и замечаниями оказавшим неоценимую помощь автору в ходе работы над переводами тех произведений древнегреческих ораторов, которые публикуются на русском языке впервые. Наконец, немалая заслуга в самой возможности появления на свет подобного издания принадлежит выдающимся петербургским ученым — профессорам кафедры классической филологии Санкт-Петербургского государственного университета А.И. Зайцеву (1926—2000) и Н.А. Чистяковой (1920—2008), которые в свое время горячо поддержали интерес переводчика и составителя этого тома к изучению творчества Элия Аристида.
Элий Аристид
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ АЛЕКСАНДРУ
Речь была написана на смерть грамматика Александра из Котиэя, учителя Элия Аристида, приблизительно в 150 г. н. э. (по поводу датировки см.: Behr 1968: 76). Не имея возможности лично присутствовать на похоронах из-за болезни, Аристид отправил эту речь из Смирны в виде письма городскому совету Котиэя, снабдив ее вступлением, характерным для такого рода посланий. Однако, несмотря на эту и некоторые другие особенности композиции, речь вполне соответствует основным канонам жанра эпитафия.
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ЭТЕОНЕЮ
Речь на смерть Этеонея была произнесена Элием Аристидом на похоронах своего ученика в 161 году н. э., вскоре после землетрясения, вызвавшего большие разрушения в малоазийском городе Кизике (по поводу датировки см.: Behr 1968: 92—94). Композиция и содержание речи полностью соответствуют основным канонам этого жанра.
ЭЛЕВСИНСКАЯ РЕЧЬ
Речь была произнесена Элием Аристидом в городе Смирне в июне 171 года н. э. (см.: Behr 1981: 363). Поводом для этого выступления послужило известие о грабеже и пожаре в элевсинском храме в результате случившегося незадолго перед тем вторжением в Грецию (см.: Magie 1950: 1535, примеч. 13) племени костобоков (вероятно, фракийского происхождения), обитавшего в днестро-карпатском регионе, к северо-востоку от Дакии (см. также:
Павсаний. Описание Эллады. X.34.2). Эта речь, написанная в малохарактерном для Аристида азианическом стиле (о нем см. сноску 13 на с. 184 наст, изд.), пронизана высоким пафосом и отличается крайней степенью аффектации, что создает впечатление глубоко личного переживания автора по поводу случившегося. На основании этого делается предположение о возможной причастности самого Аристида к культу элевсинских богинь. Вполне возможно, что оратор действительно прошел обряд посвящения в Мистерии во время своего пребывания в Афинах, где он изучал красноречие у Герода Аттика.
МОНОДИЯ СМИРНЕ
Судя по всему, Элий Аристид написал эту речь в своем Ланейском поместье, вскоре после января 177 года н. э., как только до него дошли вести о случившемся в Смирне землетрясении (Ч. Бэр не согласен с традиционной датировкой катастрофы — 178 год до н. э.; подробнее см.: Behr 1968: 112, примеч. 68). По поводу обстоятельств, сопутствовавших написанию речи, имеется ценное свидетельство Флавия Филострата (см.: Жизнеописания софистов. II.9.582), который сообщает, что Аристид сыграл большую роль в восстановлении города после землетрясения. Оратор написал письмо лично императору Марку Аврелию, в котором так живо обрисовал картину бедствий и разрушений, постигших Смирну, что тот, прочтя письмо, прослезился и освободил город от налогов и других платежей в государственную казну. Таким образом, помощь Смирне была оказана еще до прибытия в Рим официального посольства от города, в связи с чем Филострат называет Аристида «основателем Смирны» (II.9. 582). Речь написана в жанре монодии в малохарактерной для Аристида азианической манере.
ДОПОЛНЕНИЯ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ V В. ДО Н. Э. — IV В. Н. Э.
Горгий
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Фрагмент
Время создания этой речи относят обычно к 426-420 годам до н. э., но, вероятней всего, она была написана в 421 году до н. э., вскоре после заключения Никиева мира, положившего конец первому этапу Пелопоннесской войны (см.: Blass 1887: 59 сл.). Указанный период кажется наиболее подходящим для появления надгробной речи в честь погибших на этой войне афинян. Во-первых, сложившаяся к тому времени политическая ситуация во многом напоминала ту, что возникла в Греции после заключения Анталкидова мира, которым завершилась Коринфская война (395—387 гг. до н. э.). Последнее обстоятельство послужило тогда поводом к появлению большого количества надгробных речей (в том числе эпитафия, приписываемого Лисию, см. с. 32—43 наст. изд.). Во-вторых, предложенная датировка хорошо согласуется с нашими биографическими
сведениями о Горгии. Согласно Филострату, оратор произнес эпитафий в Афинах (см.: Жизнеописания софистов. 1.9.3), а на основании «Надгробной речи» Платона, действие которой, судя по всему, относится к 427 году до н. э., можно заключить, что к этому времени Горгий еще не успел побывать в городе вторично. Наконец, terminus ante quem
[946] для появления данной речи — это «Панегирик» Исократа, который в начале своего сочинения явно подражает эпитафию Горгия (см.: 75—84). К сожалению, мы располагаем лишь незначительным фрагментом эпитафия, дошедшим до нас в схолиях Максима Плануда к ритору Гермогену (см.: V.548 Walz), где приводится выдержка из Дионисия Галикарнасского, который, в свою очередь, цитирует Горгия. Этот фрагмент представляет собой заключительную часть речи и содержит похвалу погибшим афинским воинам, которая следовала, по всей видимости, за общей похвалой Афинам. Кроме того, от эпитафия сохранилось несколько разрозненных цитат. Две из них приводит Псевдо-Лонгин: «Ксеркс — это Зевс персов» («Ξέρξης δ των Περσών Ζεύς») и «Коршуны — это живые могилы» («Γόπες έμψυχοι τάφοι») (О возвышенном. 3.3.); третью мы знаем благодаря Плутарху: «Горгий-леонтинец говорит, что Кимон приобретал имущество, чтобы им пользоваться, а пользовался им так, чтобы заслужить почет» («Γοργίας μεν δ Λεοντινός φησι, τον Κίμωνα τά χρήματα κτασθαι μεν, ώς χρωτο, χρήσθαι δε, ώς τιμωτο») (Сравнительные жизнеописания. Кимон. 10. Пер. наш. — С.Л1.); наконец, Филострат цитирует слова Горгия о том, что «трофеи, славящие победу над варварами, достойны гимнов, славящие же победу над эллинами — надгробных плачей» («Τά μεν κατά τών βαρβάρων τρόπαια υμνους άπαιτεΐ, τά δε κατά τών Ελλήνων θρήνους») (Жизнеописания софистов. 1.9.3. Пер. наш. —
С.Μ.).
Лисий
НАДГРОБНОЕ СЛОВО В ЧЕСТЬ АФИНЯН, ПАВШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ КОРИНФА
В современной науке нет единого мнения относительно времени и обстоятельств написания данной речи; но поскольку она прославляет афинян, погибших на Коринфской войне, то и время ее создания относят приблизительно к этому периоду. Значительно большие разногласия вызывает у исследователей вопрос о ее подлинности, в связи с чем в разное время высказывались сомнения двоякого рода: во-первых, принадлежит ли она действительно Лисию, а во-вторых, была ли она на самом деле произнесена при погребении афинских воинов или же является фиктивной, то есть представляет собой обычное риторическое упражнение на заданную тему? Большинство ученых решает этот вопрос не в пользу Лисия (см.: Blass 1868—1880/1: 436 сл.; Burgess 1902: 149; Pohlenz 1948) прежде всего потому, что он не был гражданином Афин, а значит, не мог произнести ее лично. Маловероятно и то, что он написал эту речь по заказу некоего афинянина, выбранного для ее произнесения государством, поскольку, как свидетельствует Фукидид, такое ответственное задание поручалось обычно человеку талантливому, которому не требовалась помощь логографа (см.: История. II.34.6). Наконец, многие критики указывают на разные риторические украшения в духе Горгия, обильно присутствующие в данной речи и не характерные для остальных сочинений Лисия. На этом основании делается вывод, что эпитафий в честь погибших воинов — это риторическое упражнение неизвестного нам автора, выполненное в период между 380 и 340 годами до н. э. (по мнению Бласса — даже ранее битвы при Левкграх, т. е. до 371 г. до н. э.), как можно заключить по цитате из него, приводящейся Аристотелем в «Риторике»: «И как [сказано] в эпитафии: “Достойно было бы, чтобы над могилой [воинов], павших при Саламине, Греция остригла себе волосы, как похоронившая свою свободу вместе с их доблестью”» (III.10.1411a.
Пер. Н.Н. Платоновой; ср.:
Лисий. Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 60). Однако защитники авторства Лисия (см.: Walz 1936; Dover 1968 и др.) в подтверждение своей точки зрения ссылаются, в частности, на начало эпитафия, где говорится о том, что на его написание Советом Пятисот было отведено всего несколько дней. Поскольку надгробные речи отличались большим объемом, неудивительно, что даже весьма талантливый и всеми уважаемый гражданин, которому поручили произнести таковую, едва ли мог справиться с ее подготовкой в столь короткий срок (не говоря уже о том, что он мог быть незнаком с правилами, в соответствии с которыми обычно составлялись эпитафии). По всей видимости, это обстоятельство и побудило предполагаемого оратора прибегнуть к помощи мастера (в данном случае Лисия), который не раз в своей жизни обращался к жанру надгробной речи (в биографии Лисия у Псевдо-Плутарха в числе его прочего литературного наследия упоминаются и эпитафии — см.: Жизнеописания десяти ораторов. 3). Этой же краткостью срока, предоставленного для сочинения речи, можно объяснить и разные ее недостатки, на которые указывают критики. Ведь и Лисию, при всём его таланте и опыте, возможно, не так легко было сочинить столь большое произведение всего лишь за несколько дней, тем более что этот срок оказывался на деле еще короче — ведь надо было закончить речь на один или два дня раньше, чтобы дать клиенту возможность выучить ее наизусть. Что же касается обилия в эпитафии различных риторических украшений, не свойственных остальным (между прочим, судебным) речам оратора, то особенности стиля в данном случае могли быть продиктованы вкусами самого заказчика. Аристотель, например, упоминает в «Риторике» о том, что в его время также существовали поклонники горгианского стиля (см.: III.1.1404a). Кроме того, не стоит упускать из виду и очевидные различия в стиле эпидейктических и судебных речей. Учитывая эти и другие возражения сторонников принадлежности эпитафия Лисию, вопрос об авторстве данной речи не может быть решен окончательно, тем более что вопросы так называемой «высшей» критики — о принадлежности сочинения тому или другому автору — на основании подобный рассуждений решать чрезвычайно трудно, а пожалуй, даже и невозможно. Для однозначных и бесспорных выводов в таких случаях необходимо наличие в сочинении каких-либо реальных данных, не позволяющих приписать его известному автору — например, упоминания о событиях, случившихся уже после смерти последнего. Известно, что Дионисий Галикарнасский в случае сомнений относительно подлинности той или иной речи Лисия часто руководился только одним критерием (разумеется, чисто субъективным), а именно — есть ли в ней некая «прелесть», которая свойственна его настоящим речам (см.: О Лисии. 12). Однако вопрос об аутентичности произведения уже потому трудно решать таким способом, что для критиков он всегда таит в себе определенную опасность: если произведение соответствует по своим достоинствам представлению критика о таланте автора, то нет оснований усомниться в подлинности этого произведения; в противном случае всегда можно предположить, что оно либо представляет собой только черновой набросок, недостаточно отделанный, либо является юношеским творением автора. Да и едва ли про какого-нибудь сочинителя можно сказать, что он всегда писал гениально и что из-под его пера не вышло ни одного слабого произведения. Еще труднее решать вопрос о подлинности творения древнего автора, от которого до нас не дошло ни одного аналогичного произведения, с чем можно было бы сравнить рассматриваемую речь.
Демосфен
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
В своей речи «За Ктесифонта о венке» Демосфен свидетельствует о том, что афинский народ избрал его оратором для произнесения надгробного слова в честь воинов, павших в Херонейском сражении (см.: 285). Является ли надгробная речь, дошедшая до нас под авторством Демосфена, той самой речью, которую оратор произнес на общественном погребении в 338 году до н. э., с уверенностью сказать нельзя. Ее подлинность решительно отрицали Дионисий Галикарнасский и Либаний; с их мнением согласны и многие современные исследователи (см.: Blass 1868—1880/3: 404 сл.; Burgess 1902: 148 сл.). Однако существуют также аргументы в пользу аутентичности данной речи (см., например: Sykutris 1928; Pohlenz 1948).
Гиперид
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Речь была произнесена в 322 году до н. э. в честь афинян, павших в Ламийской войне (323—322 гг. до н. э.). По всей видимости, это последнее сочинение Гиперида, который вскоре после этого был схвачен и казнен македонянами по распоряжению Антипатра. Упоминания о настоящей речи есть у Диодора Сицилийского (см.: Историческая библиотека. XVIII.13) и Псевдо-Плутарха (см.: Жизнеописания десяти ораторов. 9), однако дошла она до нас в не вполне удовлетворительном состоянии: так, в рукописи отсутствует заглавие, в некоторых местах текст сильно испорчен, что позволяет восстановить смысл лишь приблизительно; наконец, эпилог речи не сохранился, а известен нам лишь в цитации Стобея (см.: Антология. CXXIV.36).
Дион Хрисостом
МЕЛАНКОМ
Согласно некоторым исследователям (см., например: Arnim 1898: 366-^07 и др.), эта речь была произнесена в Неаполе в 74 году н. э., на играх в честь Августа (Ludi Augustales), распорядителем которых стал 34-летний Тит, будущий римский император. Если принять данную гипотезу, то с неизбежностью встает вопрос: для кого была написана эта речь (иначе говоря — кто мог произнести ее на подобном празднестве)? О том, что это не мог быть Дион Хрисостом, ясно свидетельствует факт, что говорящий (как следует из самой речи) — близкий друг Меланкома, тогда как Дион, по его собственным словам (см.: Меланком (II). 5), знал об атлете лишь понаслышке. Более того, говорящий характеризует себя в речи как юношу и неопытного оратора, что едва ли может относиться к Диону, которому к моменту ее создания исполнилось уже 33 года. Если же предположить, что речь была подготовлена для Тита, трижды бывшего на играх в Неаполе агонофетом, то есть судьей на состязаниях, и один раз — гимнасиархом, или распорядителем игр (до 81 г. н. э.), то тем более невероятно, чтобы Тит в его возрасте и положении, совсем недавно вернувшийся в Рим после взятия Иерусалима, стал говорить о себе как человеке неопытном и слишком юном. Не меньшее недоумение в этой связи вызывает и высказываемое в речи мнение о том, что атлетика намного превосходит военное искусство (см.:
Дион Хрисостом. Меланком. 15). Исходя из этого, следует предположить, что данную речь не мог произнести ни Тит, ни кто-либо другой из римлян, но что, скорее всего, она была написана для некоего официального лица, вероятно, грека по происхождению, занимавшего на играх в честь Августа высокую должность. Однако наряду с приведенными выше гипотезами не лишена основания и еще одна, согласно которой надгробная речь Диона носит исключительно фиктивный характер, а ее адресат — кулачный боец Меланком — в реальности никогда не существовал (см.: Lemarchand 1926: 30 сл.). Эта точка зрения подтверждается среди прочего тем, что во всей античной литературе — если не считать одного пассажа у Фемистия (см.: О мире. X.139), который черпает свои сведения опять-таки из Диона (см. об этом: Scharold 1912), — мы не находим ни одного упоминания об атлете с таким именем. Более того, у нас нет ни единой надписи, в которой была бы засвидетельствована хоть одна победа бойца по имени Меланком, тогда как в речи Диона говорится о многочисленных наградах этого человека. Если же принять во внимание ту безупречную характеристику, которую дает атлету оратор, то легко предположить, что в образе Меланкома не столько запечатлены черты реального человека, сколько воплощен некий идеал античного спортсмена, обладающего полным набором необходимых моральных и физических качеств. Причиной, по которой мог Дион написать эту речь, скорее всего, послужил заметный рост интереса римлян к греческим спортивным состязаниям, что сопровождалось притоком в римские области большого количества атлетов — и в особенности кулачных бойцов — из Греции и Малой Азии. Такие состязания, ставшие у римлян весьма популярными, имели для греков особое значение, так как красноречиво свидетельствовали об их прежней славе и способствовали восстановлению былого значения Греции. Вполне вероятно, что Дион, будучи убежденным эллинофилом, подобно многим его современникам, с осуждением относился к римским гладиаторским боям (см.:
Дион Хрисостом. Родосская речь. 121) и желал привлечь внимание римлян к традиционным греческим атлетическим соревнованиям. С этой целью он создал в своей речи образ такого безупречного атлета, который праведной жизнью и победами в состязаниях заслужил прижизненные почести и посмертную славу. Помимо указанной речи, именуемой обычно «Меланком (I)» — в соответствии с ее местом в списках большинства рукописей, — существует и другая речь Диона, посвященная тому же персонажу и обозначаемая обычно как «Меланком (II)». Последняя написана в излюбленном оратором жанре диалога и заключает в себе скрытый энкомий атлету. Параллельное существование двух этих произведений, написанных на один и тот же сюжет, лишь подтверждает высказанную выше гипотезу. По всей видимости, стремясь донести до широкой аудитории мысль о пользе греческих атлетических состязаний, пробуждающих в людях лучшие качества и нравственно их возвышающих, — в отличие от гладиаторских игр, для которых, напротив, характерны грубость и жестокость, — Дион написал последовательно две речи, придав одной из них форму диалога, а другой — эпитафия.
Либаний
МОНОДИЯ НИКОМЕДИИ
Эта речь была написана Либанием в 358 году н. э., немного времени спустя после сильного землетрясения, охватившего сразу несколько восточных провинций Римской империи — Македонию, Азию и Понт. В письме к известному ритору того времени Деметрию из Тарса, датируемом зимой 358/359 года н. э., Либаний сообщает об обстоятельствах написания этой монодии следующее:
Я оплакал этот город, который узрел с величайшим удовольствием, покинул с неохотой, о котором тосковал и сидя дома; а вперед города — Аристенета, погибшего на его улицах вместе с ним, этого благородного человека. Думаю, что плачи эти, ни тот, ни другой, — не мои, но оба — создания печали. В то время как я был вне себя и внушал близким опасение, что не переживу удара, она, взяв мою руку, написала то, что желала. Лиц, коим я прочел их вслух, было четверо: обстоятельства не позволяли публичного исполнения. Кроме дяди, был ритор Присцион, затем отличнейший Филокл и Евсевий <...>. Вот кто из моих.
Письма. 31. Пер. С.П. Шестакова
В другом письме Либаний пишет о причинах, побудивших его оплакать это трагическое событие, следующее:
Можешь ли вообразить, что со мной стало при известии о том, что самый дорогой мне город покрыл своими развалинами самых дорогих мне людей? Я забывал о пище, забросил речи, сон бежал от меня, большей частью я лежал молчаливо, одновременно лились мои слезы о погибших и моих друзей — надо мною, пока кто-то не уговорил меня оплакать в речах и город, и тех, что не такой смерти заслуживали, о Зевс! Послушавшись этого совета и несколько отведши свою скорбь в своем сочинении, я становлюсь более умеренным в своем горе.
Письма. 391. Пер. С.П. Шестакова
Характерно, что при сочинении данной речи образцом для Либания во многом послужила «Монодия Смирне» Элия Аристида, написанная на разрушение этого крупного малоазийского города от землетрясения в 177 году н. э. Помимо очевидных параллелей с Аристидом, нельзя не отметить и то, что монодия Либания выдержана в полном соответствии с риторическим каноном данного жанра, с которым оратор был хорошо знаком.
Кроме этого сугубо риторического произведения Либания, мы располагаем еще одним свидетельством об упомянутой катастрофе, принадлежащим историку и современнику оратора — Аммиану Марцеллину. Будет не лишним привести здесь отрывок из его сочинения, чтобы дать более полное представление о масштабах оплакиваемого Либанием бедствия:
24 августа на рассвете густые клубы черных туч закрыли ясное до того времени небо, потух блеск солнца, и нельзя было ничего различить ни подле себя, ни непосредственно перед собою: взор затемнялся, и черная непроницаемая тьма покрыла землю. Затем поднялся страшный ураган, словно верховное божество метало губительные молнии и поднимало ветры из самых недр их. Слышны были стоны гор, поражаемых напором бури, грохот волн, бивших о берег; последовавшие затем молнии и смерчи со страшным сотрясением земли до основания разрушили город и предместья. И так как большинство домов было построено на склонах холмов, они сползали вниз и падали один на другой при ужасном грохоте всеобщего разрушения. Между тем на вершинах звучали возгласы людей, разыскивавших жен и детей или вообще близких. После второго часа дня, задолго до исхода третьего, атмосфера опять очистилась, и предстала скрытая до тех пор картина печального разрушения. Одни были раздавлены тяжестью падавших сверху обломков и погибли под ними; другие были засыпаны до шеи и могли бы остаться в живых, если бы оказали им помощь, но погибали из-за отсутствия таковой; некоторые висели, пронзенные выдавшимися концами брусьев. Один удар сразил множество людей, и те, кто только что были живыми людьми, теперь представали взору в виде горы трупов. Рухнувшие верхние части домов погребли некоторых невредимыми внутри зданий и обрекли их на гибель от удушья и голода. <...>. Некоторые, засыпанные страшными обвалами, лежат под ними и доселе. Другие с разбитой головой, оторванными руками или ногами, находясь между жизнью и смертью, взывали о помощи к другим, находившимся в таком же положении, но в ответ раздавались лишь громкие жалобы на то же самое. Большая часть храмов, частных жилищ и людей могла бы уцелеть, если бы не свирепствовавший повсюду в течение пяти дней и ночей огонь, который истребил всё, что только могло гореть.
Римская история. XVII.7.2—8. Пер. ЮЛ. Кулаковского
Либаний
МОНОДИЯ ХРАМУ АПОЛЛОНА В ДАФНЕ
Речь была написана Либанием сразу после пожара в храме Аполлона Дафнейского, произошедшего 22 октября 362 г. н. э. (см.: Libanii opera 1903—1927/IV: 298). Текст речи сохранился не полностью, однако ее содержание в целом нам хорошо известно, отчасти благодаря сочинению Иоанна Златоуста «О святом Вавиле против Юлиана и язычников» (ок. 382 н. э.), в котором автор, полемизируя с Либанием, приводит речь последнего почти целиком (см.: 18—20).
Либаний
МОНОДИЯ ЮЛИАНУ
Речь написана на смерть императора Юлиана, погибшего 26 июня 363 г. н. э. во время сражения с персами в местности под названием Маранта. Это известие глубоко опечалило Либания, который был лично знаком с императором и состоял с ним в дружеской переписке. О своих переживаниях, вызванных смертью Юлиана, оратор упоминает также в других речах и в письмах (см.: Жизнь, или О собственной доле. 134—135; Письма. 1071, 1128, 1194, 1351 и др.). Из последних мы, в частности, узнаём, что это трагическое событие вызвало значительный перерыв в ораторской деятельности Либания, которую он возобновил лишь в 364 г. н. э. (см.: Письма. 1294). И «Монодия Юлиану», и «Надгробная речь Юлиану» (см. с. 75—134 наст, изд.) были написаны почти два года спустя после смерти императора, т. е. в 364—365 гг. н. э. (см.: Libanii opera 1903-1927/IV: 183).
Либаний
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ЮЛИАНУ
Вероятнее всего, речь была написана Либанием в 365 году, то есть практически сразу же после «Монодии Юлиану», и так же, как и последняя, имела большой общественный резонанс (см.: Libanii opera 1903—1927/IV: 183). Об этом, наряду с прочим, свидетельствует тот факт, что почти столетие спустя Сократ Схоластик, автор «Церковной истории», посвятивший целый параграф своего труда обзору биографии Юлиана, демонстрирует прекрасное знание рассматриваемой речи Либания, с которым он полемизирует в оценке личности и деятельности императора (см.: III.1). «Надгробная речь Юлиану» составлена в соответствии с общепринятым каноном жанра эпитафия, но представляет особый интерес в том отношении, что является последним крупным нехристианским памятником этого жанра и в то же время — неким связующим звеном между классической греческой риторической традицией и позднейшим красноречием византийской эпохи. Кроме того, этот эпитафий можно рассматривать и как немаловажный источник наших сведений о Юлиане и его эпохе, дополняющий, таким образом, те разнообразные и подчас противоречивые свидетельства, которые оставили о ней многочисленные римские и византийские историки — Аммиан Марцеллин, Евтропий, Зосим, Сократ Схоластик, Созомен, Зонара и др.
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ» НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ
[Перикл]
[НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ В ЧЕСТЬ АФИНЯН, ПОГИБШИХ В ПЕРВЫЙ ГОД ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ]
Фрагмент «Истории» Фукидида (11.35—46)
Ввиду того, что так называемый «фукидидовский вопрос» по сей день не получил в науке окончательного решения, нельзя составить однозначного мнения о том, как и когда возник труд Фукидида, писавшийся на протяжении многих лет Пелопоннесской войны, в одних событиях которой автор принимал непосредственное участие, а другим был очевидцем. Не менее трудно также определить, что именно в этом незаконченном труде принадлежит самому Фукидиду, а что было добавлено в первоначальный текст позднейшими редакторами и издателями (предположительно он был опубликован в 394/393—391/390 гг. до н. э.). В свете указанных причин невозможно установить и то, к какому времени относится написание входящей в сочинение надгробной речи Перикла. С определенностью можно лишь сказать, что сам Перикл произнес эпитафий в честь погибших воинов в конце первого года Пелопоннесской войны (431 г. до н. э.), на церемонии их торжественного погребения. Однако тот факт, что Фукидид лично присутствовал при произнесении эпитафия, а также слова оратора о том, что в «речах» полководцев и политиков, фигурирующих в этом сочинении, он всегда стремился «возможно ближе придерживаться общего смысла» сказанного (хотя и осознавал при этом, что услышанное невозможно «в точности запомнить и воспроизвести»
(Фукидид. История. 1.22.1.
Пер. ГА. Стратановский)), позволяет предположить, что автор не только добросовестно передает содержание эпитафия, но и сохраняет в целом стиль самого Перикла: «смелую образность» его речи, ее «величавый ритм в соединении с прерывистостью движения и строгой ораторской логикой, покорявшей сердца и мысли слушателей» (Стратановский 1981: 360). Тем не менее в эпитафии, как и в других подобных «речах», неизбежно присутствует субъективный элемент, обусловленный стремлением Фукидида дать осмысление происходящего с точки зрения политической обстановки, психологии персонажей, симпатий или антипатий самого автора и т. д. Будучи страстным поклонником Перикла и адептом проводимой им государственной политики, Фукидид создает в рассматриваемой речи образ идеального правителя и человека, а также обнаруживает явную тенденцию оправдать действия афинян в ходе их военных столкновений со Спартой, что характерно и для всего сочинения Фукидида в целом, носящего, по общему признанию, характер скрытой апологии афинян (см.: Ullrich 1846; Schwarz 1919; Finley 1940; Romilly 1947; Andrews 1959 и др.). Таким образом, хотя подлинный текст речи Перикла и не сохранился, благодаря Фукидиду мы располагаем ее версией, весьма приближенной к оригиналу, которая к тому же является самым ранним образцом известных нам речей этого жанра.
[Сократ]
[НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ]
Фрагмент из «Менексена» Платона (236d—249c)
Приведенный отрывок является частью диалога Платона «Менексен», создание которого относится ко времени заключения так называемого Анталкидова мира с персами, весьма позорного для греков, так как согласно его условиям греческие города Малой Азии, а также остров Кипр передавались во власть персов, в то время как над городами материковой Греции (включая Афины), в целом сохранявшими свободу и независимость, устанавливалось главенство Спарты. Основу диалога составляет надгробная речь Сократа, якобы слышанная философом от Аспазии, супруги Перикла, и предназначавшаяся для произнесения на ежегодном чествовании памяти погибших за родину афинян. Речь отвечает традиционному для эпитафия канону, в соответствии с которым в ней восхваляется военная и политическая история Афин от легендарных времен до современности. Однако ввиду недавних событий, к которым приурочено написание диалога, эта речь звучит несколько саркастически. Впрочем, сарказм Платона касается здесь не столько самого города, сколько популярных среди афинян выступлений ораторов, обыкновенно расточающих излишние и не всегда заслуженные похвалы, говоря при этом «очень красиво» и «украшая свою речь великолепными оборотами»; по словам Сократа, они «чаруют <...> души», «превозносят на все лады <...> город», а также его жителей — и в результате последние сами себе начинают казаться «значительнее, благороднее и прекраснее», чем они есть на самом деле
(Платон. Менексен. 235a—b.
Пер. С.Я. Шейнман-Топштейн). Однако, несмотря на отчасти пародийный характер надгробной речи Сократа, в ней угадывается явное желание самого Платона упрочить авторитет Афин в неблагоприятно складывающихся для них обстоятельствах, напомнить грекам о славном прошлом города, о его верности идеалам свободы и равенства, о той поддержке и помощи, которую афиняне на протяжении всей истории оказывали слабым и угнетаемым полисам Греции. Картина длительной совместной борьбы греков с персами под предводительством Афин, в сжатом виде данная затем в «Законах» (см.: III.698b—700a), приобретает в этом диалоге Платона поистине риторический размах. Более того, произнося надгробную речь в честь погибших сограждан, Сократ, следуя правилам жанра, не только идеализирует роль Афин во всеобщей греческой истории, но и стремится оправдать явные просчеты и неудачи афинян, невзирая на упадок их былого могущества (свидетелем которого, между прочим, Сократ являться не мог, ибо ко времени описываемых событий (380—370-е годы до н. э.) его уже не было в живых) (см.:
Платон. Менексен. 244c—24ба). Это ясно говорит о том, что главной идеей диалога Платона является попытка реабилитации Афин в условиях глубокого социально-экономического и политического кризиса, охватившего как сам город, так и весь греческий мир после окончания Пелопоннесской войны.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ЖАНРЕ НАДГРОБНОЙ РЕЧИ
Менандр Лаодикейский
ОБ ЭПИТАФИИ
Фрагмент трактата «Об эпидейктическом красноречии»
Трактат ритора Менандра Лаодикейского «Об эпидейктическом красноречии» первоначально являлся, по всей видимости, частью обширного сочинения под названием «Риторика» («Τέχνη ρητορική»), которое пользовалось большим авторитетом в поздней античности. Настоящий трактат посвящен различным жанрам эпидейктического (торжественного) красноречия, в том числе — эпитафию и монодии, и содержит не только их общий обзор, но и детальную характеристику. Являясь по существу скорее компилятивным, он тем не менее обладает для нас особой значимостью, поскольку представляет собой единственный дошедший от античности риторический компендиум, в котором специально рассматривается теория эпитафия и примыкающего к нему жанра монодии и даются подробные рекомендации по составлению речей этого жанра.
Менандр Лаодикейский
О МОНОДИИ
Фрагмент трактата «Об эпидейктическом красноречии»
Теон Александрийский
О ПОХВАЛЕ И ХУЛЕ
Фрагмент трактата «Подготовительные упражнения»
Сочинение греческого ритора Теона Александрийского представляет собой распространенный тип школьного руководства по риторике. В нем рассматриваются важнейшие приемы и способы построения речей, даются определения основных риторических понятий, при этом автор следует традиционному риторическому учению о трех типах речи и неукоснительно соблюдает основное правило расположения материала — от простого к сложному. Трактат сохранился не полностью. Так, от главы, посвященной определению закона (νόμος), которая теперь завершает собой всё изложение, до нас дошла лишь часть, в то время как пять последующих глав утеряны целиком. Кроме того, отсутствуют или подверглись перестановке отдельные части трактата, что, по всей видимости, вызвано стремлением редактора привести текст в соответствие с пользовавшимся позднее большей популярностью учением Гермогена из Тарса, одноименное сочинение которого наряду с трактатом Афтония вскоре заменило собой руководство Теона в школьной риторической практике. Предлагаемый вниманию читателя отрывок содержит общие рекомендации по составлению энкомия, которые могли также применяться и при написании речей других жанров, относящихся к эпидейктическому роду красноречия, в частности — эпитафия.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Аристид 2006
Элий Аристид. Священные речи. Похвала Риму / Изд. подгот. С.И. Межерицкая, М.Л. Гаспаров. Μ.: Ладомир: Наука, 2006. (Литературные памятники).
Банников 2011
Банников А.В. Римская армия в IV столетии (от Константина до Феодосия). СПб.: Филологический факультет СПбГУ: Нестор-История, 2011.
Вэрри 2004
Вэрри Дж. Войны античности от Греко-персидских войн до падения Рима: Иллюстрированная история / Пер. с англ. Μ.: ЭКСМО, 2004.
Гиперид 1962
Гиперид. Речи / Пер. Л.М. Глускиной // Вестник древней истории. 1962. No 1. С. 203—242. («Греческие ораторы второй половины IV в. до н. э.»).
Головня 1955
Головня В.В. Аристофан. Μ.: Издательство АН СССР, 1955.
Грабарь-Пассек Поздняя греческая проза / Под ред. М.Е. Грабарь-Пассек. 1960 Μ.: ГИХЛ, 1960.
Демосфен 1994
Демосфен. Речи: В 3 т. / Отв. ред. Е.С. Голубцовой, Л.П. Маринович, Э.Д. Фролова. Μ.: Издательство «Памятники исторической мысли», 1994. Т. 2.
Дератани,
Дератани Н.Ф., Тимофеева НА. Хрестоматия по античной Тимофеева 1965 литературе: В 2 т. Μ.: Просвещение, 1965. T. 1. Греческая литература.
Зайцев 2004
Зайцев А.И. Греческая религия и мифология: курс лекций / Под. ред. Л.Я. Жмудь. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004.
Иоанн Златоуст Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста: В 12 т. 1896 СПб.: Издание Санкт-Петербургской духовной академии, 1896. Т. 2, кн. 2.
Исократ 2013
Исократ. Речи. Письма; Малые аттические ораторы. Речи / Пер. с др.-греч.; изд. подгот. Э.Д. Фролов. Μ.: Ладомир, 2013.
Кереньи 2000
Керенъи К. Элевсин: Архетипический образ матери и дочери/Пер. с англ. А.П. Хомика, В.И. Менжулина. Μ.: Рефл-бук, 2000.
Коннолли 2000
Коннолли П. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории: Эволюция военного искусства на протяжении 12 веков / Пер. с англ. С. Лопуховой, А. Хромовой. Μ.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
Лауенштайн 1996
Лауенштайн Д. Элевсинские мистерии / Пер. с нем. И. Фёдоровой. Μ.: Энигма, 1996.
Либаний 1914-1916
Либаний. Речи: В 2 т. / Пер. с др.-греч. С.П. Шестакова. Казань, 1914-1916.
Либаний 2014
Либаний. Речи: В 2 т. / Пер. с др.-греч. С.П. Шестакова; ред. и примеч. М.Ф. Высокого. СПб.: Квадривиум, 2014.
Лисий 1994
Лисий. Речи/Пер., ст. и коммент. С.И. Соболевского; предисл. Л.П. Мариновича, Г.А. Кошеленко. Μ.: Научноиздательский центр «Ладомир», 1994.
Лихт 1995
Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции / Пер. с англ. В.В. Федорина. Μ.: КРОН-ПРЕСС, 1995.
Менандр 1964
Менандр. Комедии. Герод. Мимиамбы / Пер. с др.-греч.; вступ. статья К. Полонской; примеч. Г. Церетели, В. Смирила; ил. Л. Кравченко. Μ.: Художественная литература, 1964. (Библиотека античной литературы. Греция).
Нильссон 1998
Нильссон Μ. Греческая народная религия / Пер. с англ, и указ. С. Клементьевой; отв. ред. А.И. Зайцев. СПб.: Алетейя, 1998.
Платон 1990
Платон. Собр. соч.: В 4 т. / Под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; примеч. А.А. Тахо-Годи. Μ.: Мысль, 1990. T. 1.
Скржинская 2010
Скржинская Μ.В. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье. СПб.: Алетейя, 2010.
Стратановский
Стратановский ГА. Фукидид и его «История» //Фукидид. 1981 История / Пер. и примеч. Г.А. Стратановского. Отв. ред. Я.М. Боровский. Μ.: Наука, 1981. (Литературные памятники). С. 543-576.
Фукидид 1999
Фукидид. История / Пер. с греч. Ф.Г. Мищенко, С.А. Жебелёва; под ред. Э.Д. Фролова. СПб.: Наука: Ювента, 1999.
Allard 1900
Allard Р. Julien L’Apostat In 3 vol. P.: V. Lecoflre, 1900. Vol. 1.
Amann 1931
Amann J. Die Zeusrede des Ailios Aristeides. Stuttgart W. Kohlhammer, 1931.
Anderson 1993
Anderson Gr. The Second Sophistic. A cultural phenomenon in the Roman Empire. L; N.Y.: Routledge, 1993.
Andrews 1959
Andrews A. Thucydides on the causes of the War // Classical Quarterly. November 1959. Vol. 9. Iss. 3—4. P. 223—239.
Aristide 1986
Aelius Aristide. Discours sacrés: rêve, religion, médecine au II
e siècle après J.-C. / Introd. et trad. AJ. Festugière. P.: Macula, 1986.
Aristides 1898 Aelii Aristidis Smyrnaei quae supersunt omnia: In 2 vol. / Ed. Br. Keil. Berolinum: Weidmann, 1898. Vol. 2. Orationes XVII-LIII.
Aristides 1976 P. Aelii Aristidis opera quae exstant omnia: In 2 vol. / Ed. C.A Behr, F.W. Lenz. Lugduni Batavorum: EJ. Brill, 1976.
Aristides
Publius Aelius Aristides. The complete works: In 2 vol. / Transl., 1981-1986 ed. C.A. Behr. Leiden: EJ. Brill, 1981-1986.
Aristides 1986
Publius Aelius Aristides. Heilige Berichte / Einleit., deutsche Übers, und Komm. H.O. Schröder. Heidelberg: Winter, 1986.
Arnim 1898
Arnim H.-F.-A von. Leben und Werke des Dio von Prusa: Sophistik, Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf um die Jugendbildung. Berlin: Weidmann, 1898.
AS 1951 Artium scriptores / Hrgb. L. Radermacher. Wien: In Kommission bei R.M. Rohrer, 1951.
Baumgart 1874
Baumgart H. Aelius Aristides als Repräsentant der sophistischen Rhetorik des zweiten Jahrhunderts der Kaiserzeit Leipzig, 1874.
Behr 1968
Behr ChA. Aelius Aristides and The Sacred Tales. Amsterdam: A. M. Hakkert, 1968.
Behr 1981
Behr ChA. Notes // Publius Aelius Aristides. The complete works: In 2 vol. / Transl., ed. C.A. Behr. Leiden: EJ. Brill, 1981-1986. Vol. 2.
Bianchi 1976
Bianchi U. The Greek mysteries. Leiden: EJ. Brill, 1976.
Bishop,
Bishop Μ.C., Coulston J.C.N. Roman military equipment: From Coulston 1993 the Punic war to the fall of Rome. L, 1993.
Blass 1868—1880
Blass F. Die attische Beredsamkeit: In 3 Abth. Leipzig: B. G. Teubner, 1868—1880.
Blass 1887
Blass F. Die attische Beredsamkeit: In 3 Abth. Leipzig: B.G. Teubner, 1887. Abth. 1: Von Gorgias bis zu Lysias.
Borg 2004 Paideia: The world of the Second Sophistic / Ed. B.E. Borg. Berlin; N.Y.: Walter de Gruyter, 2004.
Boulanger 1923
Boulanger A. Aelius Aristides et la sophistique dans la province d’Asie au IIe siècle de notre ère. P.: E. de Boccard, 1923.
Bowersock 1969
Bowersock G.W. Greek sophists in the Roman Empire. Oxford: Clarendon Press, 1969.
Bowie 1970
Bowie E.L. Greeks and their past in the Second Sophistic //Past and Present. 1970. Νθ 46 (1). P. 3-41.
Burgess 1902
Burgess Th.Ch. Epideictic literature. Chicago: University of Chicago Press, 1902.
Bürchner 1927
Bürchner L. Smyrna // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1927. Bd. III A, 1. S. 757—758.
Cadoux 1938
Cadoux C.J. Ancient Smyrna: A history of the city from the earliest times to 324 A. D. Oxford: B. Blackwell, 1938.
Carter 1991
Carter M.F. The ritual functions of epideictic rhetoric: The case of Socrates’ funeral oraition // Rhetorica. Summer 1991. Vol. 9. No 3. P. 209-232.
ChM 1892 Chronica minora: In 3 vol. / Ed. Th. Mommsen. Berlin: Wiedmann, 1892. Vol. I.
Chrysostom 1950
Dio Chrysostom. Works: In 5 vol. / Trans. J.E. Cohoon. L.: W. Heinemann; N.Y.: G.P. Putnam, 1950. Vol. 2. Discourses XII—XXX. (Loeb Classical Library).
Clark 1957
Clark D.L. Rhetoric in Greco-Roman education. N.Y.: Columbia University Press, 1957.
Clinton 1992
Clinton K. Myth and cult: The iconography of the Eleusinian Mysteries: The Martin P. Nilsson lectures on Greek religion, delivered 19—21 November 1990 at the Swedish Institute at Athens. Stockholm: Svenska Institutet i Athen, 1992.
Colin 1938
Colin G. L’oraison funèbre d’Hypéride. Ses rapports avec les autres oraisons funèbres athéniennes // Revue des Etudes Grecques. 1938. No 51. P. 209-266; 305-394.
Cribiore 2007
Cribiore R. The school of Libanius in late antique Antioch. Princeton: Princeton University Press 2007.
Cumont 1959
Cumont Fr. After life in Roman paganism: N.Y.: Dover Publications, 1959.
Desbordes 1996
Desbordes F. La rhétorique antique. P.: Hachette, 1996.
Diels 1907 Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch und deutsch: In 2 vol. / Ed. H. Diels. Berlin: Weidmännische Buchhandlung, 1907. Vol. 2.
Dover 1968
Dover KJ. Lysias and the corpus Lysiacum. Berkeley: University of California Press, 1968.
Faber 2009
Faber E. Macht der Rhetoric — Rhetoric der Macht. Zum attenischen Epitaphios // Potestas. Revista del grupo Europeo de investigasión Histórica. 2009. Νθ 2. P. 117—132.
Famell 1921
Farnell L.R. Greek hero cults and ideas of immortality. The Gifford lectures delivered in the University of St. Andrews in the year 1920. Oxford: Clarendon Press, 1921.
Festugière 1959
Festugière A.J. Antioche païenne et chrétienne. Libanius, Chrysostome et les moines de Syrie. P.: E. de Boccard, 1959.
Finley 1940
Finley J.H. The unity of Thucydides’ history. L, 1940.
Flashar 1969
Flashar H. Der Epitaphios des Perikies. Seine Funktion im Geschichtswerk des Thukydides. Heidelberg, C. Winter, 1969.
Foucart 1914
Foucart P.F. Les mistères d’Éleusis. P.: Picard, 1914.
Frangeskou 1999
Frangeskou V. Tradition and originality in some Attic funeral orations //The Classical World. 1999. Vol. 92. No 4. P. 315— 336.
Glaeson 1995
Glaeson M.W. Making men: Sophists and self-presentation in Ancient Rome. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1995.
Gomme 1956
Gomme A.W. A Historical commentary on Thucydides: In 5 vol. Oxford: Clarendon Press; Toronto: Oxford University Press, 1956. Vol. 2. The ten years’ war. Books II—III.
Hadzis 1964
Hadzis D. Was bedeutet «Monodie» in der byzantinischen Literatur // Byzantinische Beiträge. Berlin. 1964. S. 177—185.
Hauvette 1898
Hauvette A. Les «Eleusiniens» d’Eschyle et l’institution du discours funèbre a Athènes // Mélanges Henri Weil / Ed. A. Fontemoing. P, 1898. P. 159-178.
Herzog 1934
Herzog R. Ein Asklepios-Hymnus des Aristides von Smyrna // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 1934. Phil.-hist. Klasse. Bd. 23. S. 753—770.
Hesk 2009
Hesk J.P. Types of oratory // The Cambridge companion to Ancient rhetoric / Ed. E. Gunderson. Cambridge University Press, 2009. P. 145-161.
Hoof 2014 Libanius: A critical introduction / Ed. L. van Hoof. Cambridge (UK); N. Y.: Cambridge University Press, 2014.
Höfler 1935
Höfler A. Der Sarapishymnus des Ailios Aristeides. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1935.
Hubbel 1913
Hubbel H.Μ. The influence of Isocrates on Cicero, Dionysius and Aristides. New Haven: Yale University Press, 1913.
Hunger 1978
Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner: In 2 bd. München: Beck, 1978. Bd. 1. Philologie, Profandichtung, Musik, Mathematik und Astronomie, Naturwissenschaften, Medizin, Kriegswissenschaft, Rechtsliteratur.
Hyperides 1894 Hyperidis orationes sex cum ceterarum fragmentis / Ed. F. Blass. Leipzig: B.G. Teubner, 1894.
Hyperides 1906 Hyperidis orationes et ffagmenta / Ed. F.G. Kenyon. Oxford: Clarendon Press, 1906.
Kakridis 1961
Kakridis J.Th. Der thukydideische Epitaphios. Ein stilistischer Kommentar // Zetemata. 1961. Heft 26. S. 1—119.
Kennedy 1972
Kennedy GA. The art of rhetoric in Roman world (300 В. С. — A. D. 300). Princeton (NJ): Princeton University Press, 1972.
Kennedy 1994
Kennedy GA. A new history of classical rhetoric. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1994.
Kerenyi 1959
Kerenyi K. Die Heroen der Griechen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1959.
KIP 1979 Der kleine Pauly. Lexikon der Antike: In 5 Bd. München: Deutscher Tashenbuch Verlag, 1979. Bd. 3. luppiter-Nasidienus.
Korenjak 2000
Korenjak Μ. Publikum und Redner: Ihre Interaktion in der sophistischen Rhetorik der Kaiserzeit. München: C.H. Beck, 2000.
Lattimore 1962
Lattimore R. Themes in Greek and Latin epitaphs. Urbana: The University of Illinois Press, 1962.
Lazenby 1993
Lazenby J.F. The defence of Greece 490—479 BC. Warminster (UK): Aris & Phillips, 1993.
Lemarchand 1926
Lemarchand L. Dion de Pruse. Les oeuvres d’avant l’exile. P.: J. de Gigord, 1926.
Lenz 1962
Lenz F.W. Der Dionysoshymnos des Aristeides // Rivista di cultura classica e medioevale. 1962. Fase. 3. P. 153—166.
Lenz 1963
Lenz F. W. Der Athenahymnos des Aristeides // Rivista di cultura classica e medioevale. 1963. Fase. 5. S. 329—347.
Libanii opera 1903—1927 Libanii opera: In 12 vol. / Ed. R. Förster. Leipzig: B.G. Teubner, 1903—1927 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanaroum Teubneriana).
Libanius 1980
Libanius. Briefe /Ed. G. Fatouros, T. Krischer. Munich, 1980.
Loraux 1986
Loraux N. The invention of Athens: The funeral oration in the classical city/Trans. A. Sheridan. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1986.
Löwenclau 1961
Löwenclau I. von. Der platonische Menexenos // Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft. 1961. Heft 41. S. 1—159.
Lysias’ Epitaphios Lysias’ Epitaphios/Ed., introd. and notes FJ. Snell. N.Y.: An 1887 no Press; Oxford: Clarendon Press, 1887.
Macdowall 1995
Macdowall S. Late Roman infantryman 236—565 A. D. L, 1995.
Magie 1950
Magie D. Roman rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ: In 2 vol. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1950. Vol. II.
MAO 1962 Minor Attic orators: In 2 vol. / Trans. KJ. Maidment, J.O. Burtt. L.: W. Heinemann; Cambridge: Harvard University Press, 1962. Vol. II: Lycurgus. Dinarchus. Demades. Hyperides. (Loeb Classical Library).
Marcus Cornelius The correspondence of Marcus Cornelius Fronto with Marcus Fronto 1919 Aurelius Antoninus, Lucius Verus, Antoninus Pius and various friends: In 2 vol. / Ed. Ch.R. Haines. Cambridge (MA): Harvard University Press; L.: W. Heinemann, 1919. Vol. I.
Marrou 1956
Marrou H.-I. Histoire de l’éducation dans l’antiquité. L, 1956.
Mesk 1927
Mesk J. Zu den Prosa- und Vershymnen des Aelius Aristides // Raccolta di scritti in onore di Felice Ramorino. Milano, 1927. S. 660-672.
Migne 1862 Patrologiae cursus completes: In 221 vol. / Ed. J.P. Migne. P.: Lutetiae Parisorum, 1862. Vol. 50.
Monnier 1866
Monnier É. Histoire de Libanius. P.: Ch. Lahure, 1866.
Morgan 1998
Morgan T. Literate education in the Hellenistic and Roman worlds. Cambridge (UK); N.Y.: Cambridge University Press, 1998.
Mylonas 1961
Mylonas G.E. Eleusis and the Eleusinian Mysteries. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1961.
Naville 1877
Naville HA. Julien 1’Apostate et sa philosophie du polythéisme. P, 1877.
Negri 1905
Negri G. Julian The Apostate: In 2 vol. L; N.Y.: Scribner, 1905. Vol. 1.
Niedermayr 1982
Niedermayr H. Die Athenerrede des Ailios Aristeides. Innsbruck, 1982.
Nilsson 1957
Nilsson Μ.P. Griechische Feste von religiöser Bedeutung, mit Ausschluss der attischen. Leipzig, B.G. Teubner, 1906 (reprint: Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellshaft, 1957).
Oliver 1953
Oliver J.H. The ruling power. A study of the Roman Empire in the second century after Christ through the Roman oration of Aelius Aristides. Philadelphia: American Philosophical Society, 1953.
Oliver 1968
Oliver J.H. The civilizing power. A study of the Panathenaic discourse of Aelius Aristides against the background of literature and cultural conflict. Philadelphia: American Philosophical Society, 1968.
Oppenheimer 1933
Oppenheimer Kl. Zwei attische Epitaphien. Berlin: E. Ebering, 1933.
Pack 1947
Pack R. Two sophists and two emperors // Classical philology. 1947. Vol. 42. No 1. P. 17-20.
Parke 1986
Parke H.W. Festivals of the Athenians. L., 1986.
Pemot 1993
Pernot L. La rhétorique de l’éloge dans le mond gréco-romain: En 2 vol. P.: Institut d’études Augustinienne, 1993. Vol. 1. Histoire et technique.
Petit 1955
Petit P. Libanius et la vie municipale à Antioche au IVe siècle après J.-C. P.: P. Geuthner, 1955.
Petit 1957
Petit P. Les étudiants de Libanius. P.: Nouvelles Editions latines, 1957.
Pickard-Cambridge
Pickard-Cambridge A.W. The theatre of Dionysus in Athens. 1946 Oxford: The Clarendon Press, 1946.
Pohlenz 1948
Pohlenz Μ. Zu den attischen Reden auf die Gefallenen // Symbolae Osloenses. 1948. Bd. 26. S. 46—74.
Prinz 1997
Prinz K. Epitaphios logos. Struktur, Funktion und Bedeutung der Bestattungsreden im Athen des 5. und 4. Jahrhunderts. Frankfurt am Mein; N.Y.: P. Lang, 1997.
RE 1931 Pauly’s Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissen schaft: In 6 Bd. / Hrsg. W. Kroll. Stuttgart, 1931. Bd. 29.
RG 1853—1856 Rhetores Graeci / Ed. L. von Spengel: In 3 vol. Leipzig: B.G. Teubner, 1853—1856.
Rohde 1886
Rohde E. Die asianische Rhetorik und zweite Sophistik // Rheinisches Museum für Philologie. 1886. Bd. 41. S. 170—190.
Romilly 1947
Romilly de J. Thucydide et l’impérialisme athénien: La pensée de l’historien et la genèse de l’œuvre. P.: Société d’édition «Les Belles lettres», 1947.
Russel 1983
Russel DA. Greek declamation. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Scharold 1912
Scharold J. Dio Chrysostomus und Themistius. Burghausen, 1912.
Schwartz 1919
Schwartz E. Das Geschichtswerk des Thukydides. Bonn: F. Cohen, 1919.
Seeck 1906
Seeck 0. Die Briefe des Libanius zeitlich geordnet. Leipzig, 1906.
Sievers 1868
Sievers G.R. Das Leben des Libanius. Berlin: Weidmann, 1868.
Stark 1996
Stark R. The rise of Christianity: A sociologist reconsiders history. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1996.
Sykutris 1928
Sykutris J. Der demosthenische Epitaphios // Hermes. 1928. Bd. 63 (2). S. 241-258.
Too 2001 Education in Greek and Roman antiquity / Ed. Y.L. Too. Leiden; Boston: EJ. Brill, 2001.
Turzewitsch 1932
Turzewitsch I. Zur Zeusrede des Aelius Aristides // Philologische Wochenschrift. 1932. Bd. 52. S. 222—223.
Ullrich 1846
Ullrich F.W. Beiträge zur Erklärung des Thukydides. Hamburg: Bei Perthes-Besser & Mauke, 1846.
Urschels 1962
Urschels W. Der Dionysoshymnos des Ailios Aristeides. Bonn, 1962.
Van Groningen
Van Groningen BA. General literary tendencies in the second 1965 century A.D. // Mnemosyne. 1965. Vol. 18 (1). P. 41—56.
Voll 1948
Voll W. Der Dionysoshymnus des Ailios Aristeides. Tübingen, 1948.
Vollgraff 1952
Vollgraff C.W. L’oraison funèbre de Gorgias. Leiden: EJ. Brill, 1952.
Walters 1980
Walters K.R. Rhetoric as ritual: The semiotics of the Athenian funeral oration // Florilegium. 1980. No 2. P. 1—27.
Walz 1936
Walz J. Der lysianische Epitaphios // Philologus. 1936. Bd. 29. No 4. S. 1-55.
Wardy 1996
Wardy R. The birth of rhetoric. Gorgias, Plato and their successors. L; N.Y.: Routledge, 1996.
Wasson, Hoffmann,
Wasson R.G., Hofmann A., Ruck CA.P. The road to Eleusis: Ruck 1978 Unveiling the secret of the Mysteries. N.Y.: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1978.
Whitmarsh 2005 The Second Sophistic / Ed. T. Whitmarsh. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2005.
Wright 1913 The works of the emperor Julian: In 3 vol. / Ed. W.C. Wright. L; N.Y.: Macmillan, 1913. Vol. 2.
Ziolkowski 1981
Ziolkowski J.E. Thucydides and the tradition of funeral speeches at Athens. N.Y.: Amo Press, 1981.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
 Ил. 1
Ил. 1
Элий Аристид.
Гравюра со статуи. Ок. 1700 г.
Худ. не установлен
 Ил. 2
Ил. 2 Элий Аристид.
1650 г.
Худ. не установлен
 Ил. 3
Ил. 3
Элий Аристид.
XIX (?) в.
Худ. не установлен
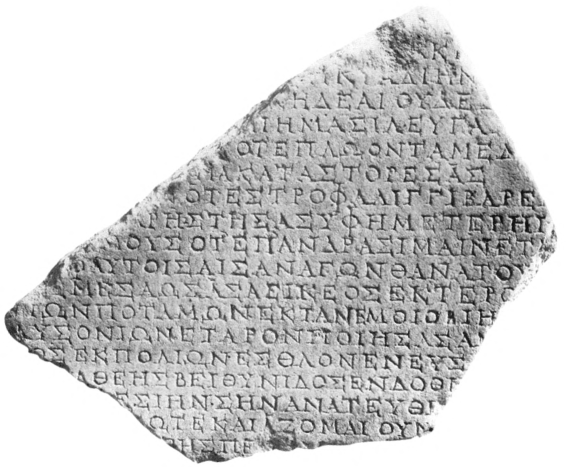 Ил. 4
Ил. 4
Фрагмент речи Элия Аристида, выбитый на камне.
II в. н. э.
 Ил. 5
Ил. 5
Фрагмент речи Элия Аристида (со схолиями).
XIII в.
Копия выполнена византийской принцессой Феодорой Палеолог
 Ил. 6
Ил. 6
Агора, г. Смирна.
Археологические раскопки под руководством Ш.-Ф. Тексье. 1843 г.
Худ. А.-М. Шенавар
 Ил.
Ил. 7
Агора, г. Смирна
Современная фотография
 Ил. 8
Ил. 8
Акведук неподалеку от г. Смирны.
XIX в.
Худ. Ф.Р. фон Хауслаб-младший
 Ил. 9
Ил. 9
Акведук неподалеку от г. Смирны.
Ок. 1890 г.
 Ил. 10
Ил. 10
Вид на г. Никомедию со стороны моря.
Реконструкция XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 11
Ил. 11
Руины г. Никомедии.
XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 12
Ил. 12
Руины дворца Диоклетиана, г. Никомедия.
Ок. 1880 г.
![]()
style='spacing 9px;' src="/i/81/636381/img_14.jpeg">
Ил. 13
Фрагмент стены г. Никомедии.
Ок. 1880 г.
 Ил. 14
Ил. 14
Археологические раскопки на территории г. Элевсина.
1850-е годы
Фотограф не установлен
 Ил. 15
Ил. 15
Археологические раскопки на территории г. Элевсина.
1860 г.
Худ. не установлен
 Ил. 16
Ил. 16
Руины храма Деметры, г. Элевсин.
Вдали — кряжи острова Саламина.
Конец XIX в.
 Ил. 17
Ил. 17
Подножие храма Деметры, г. Элевсин.
1913 г.
Худ. Дж. Пеннелл


 Ил. 18—20
Ил. 18—20
Телестерион, главный храм г. Элевсина.
Современный макет
Архитектор И. Травлос
 Ил. 21
Ил. 21
Свод предписаний, высеченный на камне.
Храм Телестерион.
Ок. IV в. до н. э.
 Ил. 22
Ил. 22
Портал храма Деметры, г. Элевсин.
XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 23
Ил. 23
Портал храма Деметры, г. Элевсин.
XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 24
Ил. 24
Жертвоприношения в честь богини Деметры.
Гравюра по барельефу IV в. до н. э.
Худ. не установлен
 Ил. 25
Ил. 25
Деметра — богиня пшеницы.
Античный барельеф
Скульптор не установлен
 Ил. 26
Ил. 26
Элевсинские мистерии.
XIX в.
Худ. Ф. Ротбарт
 Ил. 27
Ил. 27
Триптолем получает семена пшеницы от Деметры и благословения от Персефоны.
Барельеф. Ок. 440/430 г. до н. э.
Скульптор не установлен
 Ил. 28
Ил. 28
Лисий.
IV в. до н. э.
Скульптор не установлен
 Ил. 29
Ил. 29
Демосфен.
280 г. до н. э.
Скульптор не установлен
 Ил. 30
Ил. 30
Гиперид.
II в. до н. э.
Скульптор не установлен
 Ил. 31
Ил. 31
Сократ. I в. до н. э.
Копия со скульптуры Лисиппа
 Ил. 32
Ил. 32
Фукидид.
Начало IV в. до н. э.
Скульптор не установлен
 Ил. 33
Ил. 33
Перикл.
Ок. 430 г. до н. э.
Копия со скульпторы Кресила
 Ил. 34
Ил. 34
Фемистокл.
Гравюра с античного бюста.
Ок. 1823 г.
Худ. И-Я. Хорнер
 Ил. 35
Ил. 35
Мильтиад.
Гравюра с античного бюста. Ок. 1823 г.
Худ. Й. Я. Хорнер
 Ил. 36
Ил. 36
Одно из сражений Пелопоннесской войны.
1731 г.
Худ. Я.-К. Филипс
 Ил. 37
Ил. 37
Греки празднуют победу над персами в битве при Саламине.
1894 г.
Худ. не установлен
 Ил. 38
Ил. 38
Битва при Платеях.
XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 39
Ил. 39
Перикл произносит надгробную речь в честь афинян.
XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 40
Ил. 40
Император Юлиан II.
IV в. н. э.
Скульптор не установелен
 Ил. 41
Ил. 41
Юлиан и советники.
1875 г.
Худ. Э. Армитедж
 Ил. 42
Ил. 42
Разговор Юлиана с послами франков. 1882 г.
Худ. Г.-Х. Лёйтеманн
 Ил. 43
Ил. 43
Смерть Юлиана.
1882 г.
Худ. не установлен
 Ил. 44
Ил. 44
Вид на Антиохию с юго-запада.
1866 г.
Худ. Г. Уоррен
 Ил. 45
Ил. 45
Рассвет над Элевсином.
1829 г.
Худ. Х.-У. Уильямс
Примечания
1
...почтить память столь славного мужа, первого среди эллинов. — Александр из Котиэя, древнегреческий грамматик, сыграл большую роль в культурной жизни своего времени. В частности, он некоторое время являлся наставником будущих римских императоров Марка Аврелия и Луция Вера (см.: Behr 1968: 10 сл.). Так, Марк Аврелий благодарит Александра за привитое ему умение терпеливо выслушивать и вежливо отвечать собеседнику независимо от степени его образованности (см.: К самому себе. 1.10). Если не принимать в расчет это краткое упоминание, эпитафий Элия Аристида — единственный источник наших сведений об Александре из Котиэя.
(обратно)
2
Он воспитал и обучил меня... — Под руководством Александра Аристид изучал грамматику и литературу, которые составляли начальную ступень традиционного античного образования (о нем см.: Marrou 1956; Morgan 1998; Too 2001). Благодаря своему учителю Аристид приобрел широкую эрудицию и глубокие познания в классической греческой литературе, особенно в философии Платона и поэзии Пиндара.
(обратно)
3
...в общий дом его сограждан. — Имеется в виду городской совет Котиэя.
(обратно)
4
...изменилась сама природа похвальной речи... — Похвальная речь, или энкомий, — один из главных жанров эпидейктического красноречия, образцы которого дошли до нас в речах Горгия, Исократа, Демосфена и других древнегреческих ораторов. Теоретики ораторского искусства начиная с Аристотеля (см.: Риторика. 1.9.1366a—1368a) уделяли жанру энкомия большое внимание, поэтому ко II в. н. э. основные его каноны были уже хорошо разработаны. Надгробные речи составляли особую разновидность эпидейктического красноречия и строились по схожим канонам. Об этом свидетельствуют отдельные сохранившиеся от поздней античности риторические трактаты — в частности, трактат «Об эпидейктическом красноречии» («Περί επιδεικτικών») Менандра Лаодикейского и «Подготовительные упражнения» («Προγυμνάσματα») Теона Александрийского, отрывки из которых включены в настоящее издание (см. с. 154—162 наст. изд.). Под «природой» похвальной речи Аристид подразумевает набор обязательных топосов, из которых составлялся энкомий: это похвала предкам, родному городу, воспитанию, образованию, нраву и деяниям человека. Упоминая о достижениях Александра в области риторики, он стремится подчеркнуть, что громкая слава учителя была заслуженной, а не явилась следствием знатного происхождения, богатства и высокого положения в обществе.
(обратно)
5
...род ваш —разумеется, древнейший из родов... — Намек на слова Геродота о том, что фригийцы являются одним из древнейших народов мира (см.: История. II.2).
(обратно)
6
...он учился у древнейших из них... — Речь идет о классических греческих писателях.
(обратно)
7
...и в Великие мистерии нельзя быть посвященным прежде Малых. — Имеются в виду Элевсинские мистерии — древнегреческий праздник, связанный с культом Деметры и Персефоны и состоявший из нескольких этапов. Малые мистерии, которые праздновались в месяце Анфестерионе (февраль—март) в Афинах, обычно предшествовали Великим мистериям, справлявшимся в Элевсине в месяце Боэдромионе (сентябрь—октябрь). Плутарх говорит о трехступенчатом цикле посвящения в Мистерии, к третьей, созерцательной ступени которого посвященные допускались через год после Великих мистерий (см.: Сравнительные жизнеописания. Деметрий. 26). О порядке посвящения в Мистерии упоминает также Платон (см.: Горгий. 497c).
(обратно)
8
Иные ораторы изучали основы и первоначала... — Под «основами и первоначалами» здесь подразумеваются предписания и правила аттикизма — главенствующего направления в греческой риторике II в. н. э., которое было ориентировано на подражание языку и стилю аттических писателей классической эпохи, таких как Фукидид, Лисий, Исократ, Демосфен, Платон и др. В риторических школах эти навыки достигались благодаря специальным упражнениям (μελέται), заключавшимся в сочинении декламаций на заданные темы, как правило, исторические. Ученики должны были тщательно воспроизводить стилистические фигуры и приемы аттических писателей, используя при этом лишь те слова и выражения, которые были употребительны в классическую эпоху. Благодаря этому широкое распространение во II в. н. э. получают многочисленные словари (лексиконы) и сборники, которые составлялись в помощь ораторам и пользовались большой популярностью. Достаточно упомянуть некоторые из них: это «Словарь десяти ораторов» («Λεξικόν των δέκα ρητόρων») ритора и грамматика II в. н. э. Гарпократиона, которому также принадлежал не дошедший до нас «Сборник красочных выражений» (« Ανθηρών συναγωγή»); утраченный ныне труд «Софистические приготовления» («Προγυμνάσματα») Фриниха, видного аттикиста и современника Марка Аврелия, а также сохранившийся до нашего времени сборник «Ономастикой» (« Ονομαστικόν»), составленный Юлием Полидевком, одним из учителей императора Коммода.
(обратно)
9
...он не взял себе самого пышного титула... — Имеется в виду звание софиста; в Римской империи в I—III в. н. э. его удостаивались ораторы, добившиеся успеха на профессиональном поприще и игравшие заметную роль в социально-политической жизни государства. Это во многом напоминало ситуацию, сложившуюся в Греции в V—IV вв. до н. э. благодаря впервые появившимся там софистам — «учителям мудрости», которые не только создали новую систему научного знания и образования, но оказывали большое влияние на общественную жизнь. Многие из них, как Протагор, Антифонт, Горгий и др., были блестящими ораторами и пользовались большим почетом. Софисты римской эпохи занимали не менее высокое положение в обществе, принадлежа, как правило, к богатому и знатному сословию, и широко демонстрировали свое красноречие, читая лекции по риторике, участвуя в ораторских состязаниях, выступая с декламациями и проч, (см.: Bowersock 1969; Anderson 1993; Glaeson 1995; Whitmarsh 2005).
(обратно)
10
...но сохранил прежний... — Александр считал себя в первую очередь грамматиком, т. е. учителем грамматики, изучение которой являлось нижней ступенью в системе античного образования.
(обратно)
11
...избрал своим поприщем служение древним эллинам. — Под «древними эллинами» подразумеваются классические древнегреческие писатели (ср. примеч. 6). Александр читал лекции по греческой литературе и писал комментарии к произведениям Гомера, Пиндара и других поэтов, а также к сочинениям Платона.
(обратно)
12
...стал для эллинов как бы основателем колонии. — Значение просветительской деятельности Александра Аристид уподобляет той роли, которую в VIII—VI вв. до н. э. играла колонизация новых земель в деле распространения греческого языка и культуры далеко за пределы Греции.
(обратно)
13
Его роль можно сравнить с ролью метрополий... — Метрополиями назывались исконные города по отношению к вновь основанным колониям (см. также примеч. 12).
(обратно)
14
Он — единственный, кто своим примером изобличил изобличил во лжи Гесиода, сказавшего, что певец завидует певцу. — Аллюзия на место из «Трудов и дней» Гесиода: «Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник; | Нищему нищий, певцу же певец соревнует усердно» (25—26.
Пер. В.В. Вересаева).
(обратно)
15
Он один не уличал в невежестве простых людей... — Об этой же черте Александра свидетельствует Марк Аврелий (см.: К самому себе. 1.10). См. также примеч. 1.
(обратно)
16
...во дворце самого императора. — Имеется в виду император Антонин Пий, при дворе которого Александр был наставником наследников — Марка Аврелия и Луция Вера. См. также примеч. 1.
(обратно)
17
...он прибыл ко двору и удостоился чести выступить перед правителем. — По всей вероятности, это произошло в 139 г. н. э.
(обратно)
18
...перейдя в услужение от одного наследника к другому... — Эти слова находят подтверждение в письме Марка Аврелия к Марку Корнелию Фронтону, в котором будущий император сетует на недостаточное знание греческого языка и выражает желание обучиться также греческому письму (см.: Marcus Cornelius Fronto 1919: 18).
(обратно)
19
...став не просто учителем^ но наставником этих юношей... — Должность наставника предполагала более тесную духовную связь последнего со своим воспитанником.
(обратно)
20
...не запятнал себя взиманием денег за свое искусство. — Для большинства софистов профессиональная деятельность служила источником дохода, поэтому плата, которую они брали за обучение, являлась довольно высокой. Величина вознаграждения не была одинакова для всех и зависела от социального статуса софиста, степени его популярности, размеров города, в котором он преподавал, и т. п. (об этом см.: Bowersock 1969). Кроме того, некоторые софисты, как, например, Скопелиан из Клазомен, снижали плату за обучение ученикам из малосостоятельных семейств или, подобно Лоллиану из Эфеса, преподавали вовсе бесплатно (см.:
Флавий Филострат. Жизнеописания софистов. 1.21, 23). К числу таких бескорыстных учителей, судя по всему, относился и Александр из Котиэя.
(обратно)
21
...он не меньше других занимался общественными и государственными делами. — На основании декретов Адриана и Антонина Пия философы, риторы, грамматики и врачи освобождались от обязательных общественных обязанностей (см.: Дигесты Юстиниана. 27. 679). Число лиц, подлежавших освобождению от государственной службы, регулировалось в зависимости от размеров города и численности проживавшего в нем населения: так, в маленьких городах это могло быть не более 5 врачей, 3 риторов и 3 грамматиков, в средних — не более 7 врачей, 4 риторов и 4 грамматиков, в больших — не более 9 врачей, 5 риторов и 5 грамматиков (подробнее об этом см.: Bowersock 1969: 30—42). Говоря о том, что наряду с преподаванием Александр проявил себя еще и на государственном поприще, Аристид стремится подчеркнуть высокие моральные качества своего учителя, а также его заслуги перед согражданами. Последнее приобретает тем большую значимость, что сам Аристид всегда настойчиво уклонялся от каких бы то ни было должностей, на которые не раз избирался согражданами (см.:
Элий Аристид. Священные речи. IV.71—108).
(обратно)
22
...ораторское искусство было не единственным его поприщем. — Высокий социальный статус софистов, большие финансовые возможности, тесные взаимоотношения с властями, а иногда и личная дружба с императорами обязывали их к ведению широкой благотворительной деятельности в тех городах, где они жили и преподавали. Сам Элий Аристид оказал немалую помощь Смирне и ее жителям после землетрясения в 177 г. (об этой датировке см. С. 220), побудив императора Марка Аврелия выделить из казны средства на восстановление города (см.:
Флавий Филострат. Жизнеописания софистов. II.9.582).
(обратно)
23
...но если другие получили свои имена от имен отцов или по роду занятий... — У греков к личному имени человека обычно добавлялось имя отца, название профессии или место рождения. Ср., в частности: «Платон, сын Аристона», «Платон-философ» и т. д.
(обратно)
24
...книги, которые он исправлял... — Речь идет о комментариях к древним текстам, которые составлял Александр (см. примеч. 11).
(обратно)
25
...вы заслуженно украшаете гробницу Александра и почитаете его как родоначальника и основателя колонии... — У греков с древних времен был распространен культ героев, которые считались основателями городов и родоначальниками племен. Кадм, к примеру, почитался как основатель Фив, Пеласг — как родоначальник и герой-эпоним пеласгов, древнейшего населения Греции, Эллин — как родоначальник всех греческих племен (эллинов). По представлениям древних, герои и после смерти продолжали оказывать людям содействие — способствовали процветанию городов, защищали их от врагов и т. д. Поэтому греки высоко чтили героев и в благодарность за эту помощь приносили им жертвы наравне с богами, украшали их гробницы, обращались с молитвами о заступничестве (см.: Famell 1921; Nilsson 1957; Kerenyi 1959). Подобные почести посмертно оказывались и некоторым людям, чья деятельность в прошлом способствовала благополучию и благоденствию жителей отдельных городов или же всех греков — например, справедливым правителям и законодателям, основателям новых полисов, меценатам, павшим в сражениях военачальникам, выдающимся философам, поэтам и др.
(обратно)
26
...если амфиполъцы сочли Брасида достойным жертвоприношений, какие полагаются герою и основателю города, за то, что он освободил их от афинян... — Брасид, один из выдающихся спартанских военачальников времен Пелопоннесской войны, погиб в битве при Амфиполе (422 г. до н. э.) (см.:
Фукидид. История. V.11.1). Победа Спарты над Афинами в этом сражении положила конец первому этапу Пелопоннесской войны, закончившемуся позднее подписанием Никиева мира (421 г. до н. э.).
(обратно)
27
...Гомер принес славу жителям Смирны... — Город Смирна считался в античности одним из наиболее вероятных мест рождения Гомера (см.:
Павсаний. Описание Эллады. VII.5.6;
Элий Аристид. Смирнская речь. 15).
(обратно)
28
..Архилох — паросцам... — Архилох, один из архаических лирических поэтов Греции и родоначальник ямбической поэзии, родился на острове Парос.
(обратно)
29
...Гесиод — беотийцам... — Древнегреческий эпический поэт Гесиод большую часть жизни провел в Беотии.
(обратно)
30
...Симонид — кеосцам... — Симонид, древнегреческий лирический поэт, был выходцем с острова Кеос.
(обратно)
31
...Стесихор — гимерийцам... — Стесихор, древнегреческий лирический поэт, крупнейший представитель хоровой лирики, являлся уроженцем города Гимеры.
(обратно)
32
...Пиндар — фиванцам... — Пиндар, один из самых значительных поэтов Древней Греции, родился в местечке Кеноскефалы, неподалеку от Фив.
(обратно)
33
...Сапфо и Алкей — митиленцам... — Древнегреческие поэты, представители мелической (музыкально-песенной) лирики Сапфо и Алкей были уроженцами города Митилены.
(обратно)
34
...он превзошел прочих своим знанием поэтов, писателей и всего того многоцветья, каковое, говорят, приносят с собой различные времена года. — Употребительная в греческой литературе метафора из области земледелия (ср.:
Ксенофонт. Анабасис. 1.4.10;
Плутарх. Застольные беседы. III.2; Анакреонтика. Кузнечику. 6—7); под обильно плодоносящими временами года (αί ώραι φύουσιν) здесь подразумеваются представители различных жанров древнегреческой литературы.
(обратно)
35
..мне приходят на ум слова Платона о том, что написанное в книгах кажется пустяком в сравнении с беседами мудрых людей. — Отсылка к соответствующему рассуждению в «Федре» Платона (см.: 274b сл.).
(обратно)
36
...трактат о Гомере красноречиво свидетельствует об учености этого мужа. — Имеется в виду трактат Александра «Толкования» («Έξηγετικά»), не сохранившийся до нашего времени.
(обратно)
37
Его сочинение об Эзопе... — Неизвестное нам сочинение Александра.
(обратно)
38
...во второй раз ваша земля дала лучший урожай, чем в первый. — Аллюзия на древнегреческую поговорку «вторая попытка бывает удачней» (δευτέρων άμεινόνων), ср. с русской пословицей: «первый блин комом». Некоторые ученые усматривали в этих словах Аристида намек на то, что Эзоп был уроженцем города Котиэя (см.: Суда:
под словом «Эзоп»).
(обратно)
39
...сравнить ее с дружбой Аристотеля с Филиппом и Александром. — Древнегреческий философ и ученый-энциклопедист Аристотель был сподвижником Филиппа II и учителем его сына, Александра Македонского. После смерти последнего афиняне обвинили Аристотеля в промакедонских взглядах; чтобы избежать преследований, философ покинул город и остаток жизни провел в одиночестве в своем халкидском имении.
(обратно)
40
...дружба Платона с Дионисием... — Дионисий II Младший, сиракузский тиран, сын Дионисия I Старшего, впервые пригласил Платона в Сиракузы по настоянию своего дяди Диона — близкого друга Платона и приверженца его философских и политических взглядов. Дион надеялся таким образом воспитать из юного монарха просвещенного правителя. Во второй раз Дионисий вызвал к себе Платона уже по собственному желанию, вступив в борьбу со своим дядей и его сторонниками. Надеясь воплотить в государственном устройстве Сицилии свою мечту об идеальном государстве, Платон с радостью принял приглашение Дионисия, но затем, оказавшись в немилости у тирана, едва сумел избежать гибели (см.:
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Дион. 4—22).
(обратно)
41
...с тем самым Дионисием, которого позднее увидали в Коринфе! — Имеется в виду широко распространенная греческая поговорка «Дионисий в Коринфе» (Διονύσιος έν Κορίνθω), означающая переменчивость человеческой судьбы: в 344 г. до н. э. власть сиракузского тирана была низложена, а сам Дионисий удалился в изгнание в Коринф (об этом см.:
Демосфен. Против Лептина об ателии. 162).
(обратно)
42
То, что Аристофан говорит об Эсхиле — будто, когда тот умер, всё погрузилось во мрак... — Аллюзия на место из комедии Аристофана «Лягушки» (см.: Фр. 643 Kassel).
(обратно)
43
...ты вложил свою душу в книгу и окончил жизнь, как подобает человеку с твоим именем. — Данная фраза может быть понята двояко. С одной стороны, имя «Александр» ( Αλέξανδρος) означает по-гречески «защитник, помощник»; если принять эту трактовку, то слова Аристида, очевидно, указывают на заслуги Александра перед согражданами (см.: Behr 1981: 395). С другой стороны, речь здесь может идти о прозвище Александра — «грамматик» (ср. примеч. 10), тогда всю фразу следует понимать как намек на его профессиональную деятельность, которая действительно была связана с книгами (см.: Aristides 1898: 225, сноска 13).
(обратно)
44
...если правдивы слова Пиндара, Платона... — Имеются в виду строки из тренов Пиндара о радостном и беззаботном пребывании героев на Островах блаженных (см.: Отрывки. IX. 129—131), и «Апология» Платона, где Сократ говорит, что смерть для него есть благо, поскольку там, куда попадают души людей после смерти, он найдет справедливых судей в лице знаменитых героев Греции, общество которых будет для него гораздо более приятным, нежели общество людей, окружавших его при жизни (см.:
Платон. Апология Сократа. 40e—41c).
(обратно)
45
...и других сочинителей из мастерской Александра... — Под «мастерской» Александра подразумеваются здесь те древнегреческие поэты и писатели, к произведениям которых он составлял комментарии (см. примеч. 11). Аналогия с мастерской — вероятно, вазописца или скульптора — свидетельствует и о большой общественной значимости профессиональной деятельности Александра.
(обратно)
46
Логографы — ранние греческие писатели (до Геродота и Фукидида), которые стремились воссоздать в прозе легендарную историю тех или иных областей Греции на основании мифов, преданий и легенд — традиционного материала эпической и лирической поэзии.
(обратно)
47
Они украшают его голову лентой и венком... — По представлениям греков, выдающимся людям, которые при жизни стяжали славу и уважение сограждан, оказывались почести и в Аиде. Этот мотив широко распространен в древнегреческой литературе. Ср., в частности, с «Энеидой» Вергилия: «Кто средь живых о себе по заслугам память оставил, — | Всем здесь венчают чело белоснежной повязкой священной» (VI. 664—665.
Пер. С Л. Ошерова).
(обратно)
48
...не после суда над ним и состязания в мастерстве с другими риторами... — Намек на сцену из «Лягушек» Аристофана, в которой поэты, находясь в царстве мертвых, соревнуются друг с другом в своем искусстве за право занимать почетное место возле трона Аида (см.: 761 сл.).
(обратно)
49
...я сам был ему другом не меньше... — В этом месте текст оригинала испорчен, поэтому смысл предложения удается восстановить лишь приблизительно.
(обратно)
50
...когда я лежал больной в Риме. — Имеется в виду период с весны до осени 144 г. н. э.
(обратно)
51
...он просил меня наряду с прочим преподнести вам в дар и мои собственные речи... — Речь идет о передаче сочинений Аристида в библиотеку Котиэя.
(обратно)
52
...так и не составил перечня моих сочинений... — Вероятно, Александр составлял каталог рукописей, хранящихся в библиотеке города Котиэя.
(обратно)
53
Хотел бы я, кроме того, обладать и более крепким здоровьем... — Элий Аристид отличался слабым здоровьем и в поисках исцеления много времени проводил в пергамском святилище бога Асклепия, что вызывало большие перерывы в его ораторской деятельности. Подробно свои болезни и различные способы их лечения Аристид описал в автобиографическом сочинении «Священные речи» («Ιεροί λόγοι»), дающем представление как об уровне развития медицины в античности, так и о ее тесной связи с религией (об этом подробнее см.: Аристид 2006; Behr 1968; Aristides 1986; Aristide 1986).
(обратно)
54
...если бы плачи по умершим с давних пор не были в обычае у людей... — Плач, или трен (δ θρένος), — траурная песнь, исполнявшаяся обычно на погребальных церемониях, в том числе на коллективных похоронах воинов, погибших в сражениях. В «Панегирике» Исократа по этому поводу говорится, что если о гибели варваров принято слагать хвалебные песни, то о гибели эллинов — плачи, и что первые поются на торжествах и праздниках, а о вторых вспоминают в беде и горе (см.: 158). Жанр трена известен нам отчасти по хоровой лирике — в основном по произведениям Симонида и Пиндара. Кроме того, трены традиционно входили в состав песен трагедийного хора (ср.:
Еврипид. Елена. 167 сл.; Троянки. 308—340; Умоляющие 780, 857, 960 сл.).
(обратно)
55
...всё., что составляет ныне Азию? — Имеется в виду римская провинция Азия.
(обратно)
56
Какой Симонид сложит о том погребальный плач? — Из тренов Симонида Кеосского наиболее известна песнь, написанная им на смерть Скопадов, которые, по преданию, погибли под развалинами своего дома. Частью этого трена, возможно, является дошедший до нас от эллинистической эпохи стихотворный фрагмент, условно называемый «Жалобой Данаи» (см.: Дератани, Тимофеева: 1965: 104—105).
(обратно)
57
Какой Пиндар какую изобретет мелодию или слово для этого случая? — Известно, что Пиндар, помимо прочего, писал надгробные речи и трены, которые, однако, не сохранились до нашего времени.
(обратно)
58
Какой хор... — Некоторые издатели видят в слове «хор» (χορός) ошибку позднейшего переписчика, тогда как на самом деле здесь должно стоять имя лирического поэта Стесихора (Στησίχορος), в пользу чего якобы свидетельствует соседствующие с ним имена двух других древнегреческих лириков — Симонида и Пиндара. Однако данная гипотеза сомнительна, так как Стесихор, насколько известно, не сочинял тренов (во всяком случае, античная традиция ничего об этом не сообщает).
(обратно)
59
...фессалийка Дисерида... страдала по умершему Антиоху... — Речь идет о рано умершем сыне фессалийского царя Эхекратида и его супруги Дисериды, на смерть которого Симонид Кеосский написал элегию (см.: Фр. 34 Bergk).
(обратно)
60
...не будет довольно... выкрикивать его имя... — Намек на особенность исполнения тренов — частое и громкое повторение имени умершего.
(обратно)
61
...«нет в многовластии блага»... — Слова Одиссея из «Илиады» Гомера (II. 204.
Пер. Н.И. Гнедина}.
(обратно)
62
...из всех них Этеоней выбрал того, кого выбрал... — Аристид подразумевает здесь самого себя.
(обратно)
63
...за составлением речей... — Обучение в риторических школах предполагало выполнение упражнений, которые заключались в составлении и произнесении учениками речей на заданную тему по определенному образцу (см. примеч. 8 к «Надгробной речи Александру»). В частности, об этом говорится у Платона в «Пире» (см.: 214b—с). О системе риторического образования в античности см.: Clark 1957; Morgan 1998; Too 2001.
(обратно)
64
«Сам же всех превышал он». — Характеристика троянского героя Сарпедона из «Илиады» Гомера (XII.104.
Пер. Н.И. Гнедина}.
(обратно)
65
...он был воплощение Стыдливости... — Здесь и далее — аллюзия на пассаж из «Облаков» Аристофана, где оглашаются добродетели юноши, живущего в согласии с Правдой (см.: 991 сл.).
(обратно)
66
По тебе скорбят хоры твоих сверстников... — Речь идет о хоровом исполнении тренов (см. примеч. 1).
(обратно)
67
...который ты совсем недавно привел в такое восхищение — в первый и последний раз. — Имеется в виду недавний дебют юноши в качестве оратора.
(обратно)
68
...прежде слыла «прекраснодетной»... — Эпитет, относимый обычно к Ниобе, дочери мифического царя Тантала, которая, имея многочисленное и прекрасное потомство, возгордилась перед богиней Лето, произведшей на свет только двоих детей — Аполлона и Артемиду. Когда разгневанная богиня поведала детям о нанесенной обиде, те стрелами из луков поразили всё потомство Ниобы: по Гомеру, шестерых сыновей и шестерых дочерей (см.: Илиада. XXIV.602—604), по Гесиоду — десятерых сыновей и десятерых дочерей (см.: Фр. 183; ср.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.5.6). Овидий же упоминает о семи сыновьях и семи дочерях (см.: Метаморфозы. VI. 192). Согласно мифу, после смерти детей Ниоба от горя превратилась в камень (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.5.6)
(обратно)
69
...ибо ты достоин победных венков... — Наградой в различных (в том числе и риторических) состязаниях греков служили венки из лавровых листьев, ветвей оливы или сосны.
(обратно)
70
...«и звезды, и реки, и волны моря»... — Цитата из стихотворения Пиндара (Френы. 136.
Пер. Μ.Л. Гаспарова).
(обратно)
71
...разделил участь столь же прекрасного храма! — Имеется в виду храм Адриана в Кизике, разрушенный землетрясением в 161 г. н. э., вскоре после окончания его строительства.
(обратно)
72
...полные залы, выступления, состязания и радость! — Судя по всему, дебют Этеонея проходил в здании городского совета — обычном месте состязаний ораторов.
(обратно)
73
Сколь быстрым и далеким от всего этого оказался конец драмы! — Метафора из сферы театра, отсылающая к распространенному в греческой трагедии, в частности у Еврипида, приему под названием deus ex machina
(лат. — «бог из машины»). Суть его состояла в том, что в конце драмы благодаря специальному техническому приспособлению на сцене неожиданно появлялось некое божество, разрешавшее все конфликты. Это позволяло автору привести трагедию к быстрой развязке (об этом см.: Pickard-Cambridge 1946: 127 сл.).
(обратно)
74
О боги красноречия и подземного мира, вас постигло общее несчастье! — Этой фразой автор хочет сказать, что ни в земном, ни в подземном мире Этеонею нет места: в земном — потому, что он умер, в подземном — из-за преждевременной смерти (о воззрениях древних на преждевременную смерть, в частности, см.: Cumont 1959: 129—147; Lattimore 1962: 184 сл.).
(обратно)
75
Что мне ответить на государственные постановления? — Вероятно, речь идет о постановлениях городских властей в связи с состоявшимся накануне успешным дебютом Этеонея, которые, по всей видимости, официально закрепляли за ним право публичных выступлений. Последнее считалось большим достижением для того, кто собирался посвятить себя ораторской деятельности. Это было связано с тем, что социальный статус оратора в римскую эпоху был очень высок; он не только гарантировал общественное признание и безбедную жизнь, но и давал другие значимые преимущества. Например, ораторы освобождались от государственной службы и прочих общественных обязанностей (см. примеч. 21 к «Надгробной речи Александру»).
(обратно)
76
...голос некоего бога из театральной машины... — См. примеч. 20.
(обратно)
77
...ни Коцит, ни Ахеронт не забрали его... — Реки Коцит и Ахеронт служат здесь олицетворением загробного мира. По представлениям греков, через Ахеронт перевозил души умерших в подземное царство Харон. По другой версии, он перевозил их через Стикс, притоком которого был Коцит (иногда также называемый притоком Ахеронта). Аристид повторяет здесь мысль, уже высказанную им ранее (см. примеч. 21).
(обратно)
78
...будет вечно шествовать... рука об руку с Кизиком... — Кизик, герой-эпоним и легендарный основатель родного города Этеонея, был весьма почитаем местными жителями (см. также примеч. 25 к «Надгробной речи Александру»).
(обратно)
79
...со стороны Аполлона — бога своего отечества... — Аполлон также считался основателем города Кизика (ср. примеч. 25).
(обратно)
80
...подобно Амиклу, Нарциссу, Гиацинту... — По преданию, юноши Гиацинт и Нарцисс обладали необыкновенной красотой, пленившей Аполлона. Амикл же, будучи отцом Гиацинта, считался героем-эпонимом и легендарным основателем города Амиклы, где находилось святилище Аполлона, чей культ был тесно связан с древним культом Гиацинта, в честь которого в Амиклах праздновались Гиакинфии. Афиней в «Пире мудрецов» оставил подробное описание данного праздника, во время которого спартанцы приносили жертвы умершим и устраивали спортивные состязания в честь Аполлона (см.: IV. 17). Как доказывает Г. Лихт, все эти действия имели определенный эротический подтекст (см.: Лихт 1995: 80).
(обратно)
81
...иных почестей и иной процессии... — То есть не траурных.
(обратно)
82
...если вспомнить Арганфония, Тифона и пережившего три поколения Нестора... — Аристид называет здесь имена легендарных греческих долгожителей. Правитель Тартесса Арганфоний, согласно Геродоту, «царствовал <...> 80 лет, а всего жил 120» (История. 1.163); по другим источникам, дожил до 150 лет (см.:
Страбон. География. III.2.14). Тифон, сын мифического царя Лаомедонта, полюбился богине Эос; желая продлить юноше жизнь, она попросила Зевса даровать Тифону бессмертие, но забыла при этом попросить для него неувядающую молодость и тем самым обрекла его на вечную старость (см.: Гомеровы гимны. IV.218—218). Нестор, один из самых знаменитых долгожителей в греческой мифологии, участвовал в Троянской войне, будучи уже глубоким старцем (см.:
Гомер. Илиада. 1.247—252; Одиссея. III.244—246).
(обратно)
83
...ибо умерших можно хвалить сколько угодно. — Речь идет о распространенном в древности мнении, что похвала умершим не возбуждает зависти у живых. Об этом говорится, в частности, у Фукидида (см.: История. II.45), Демосфена (см.: О венке. 315) и Платона (см.: Гиппий Больший. 282a).
(обратно)
84
Прекрасно воспевать его... в застольных песнях, как Гармодия... — В 514 г. до н. э. афинянин Гармодий вместе со своим другом Аристогитоном пытался умертвить тирана Гиппия, но смог осуществить свой план лишь в отношении его брата Гиппарха. В ходе исполнения задуманного Гармодий был убит на месте, Аристогитон же схвачен и подвергнут пыткам, а затем казнен. Позднее, после свержения тирании в Афинах, Гармодий и Аристогитон почитались как герои. В их честь была установлена парная статуя на Акрополе, а также сочинен сколий (застольная песнь), дошедший до нас в цитации Афинея (см.: Пир мудрецов. XV.50.695.10—13).
(обратно)
85
Элевсин. — С глубокой древности этот греческий город являлся центром культа Деметры и Персефоны, в честь которых справлялись особые празднества — Элевсинские мистерии. Уже со второй половины VI в. до н. э. город был местом паломничества, куда для участия в торжествах прибывали жители из различных областей Греции. В классическую эпоху Мистерии стали официальным общегреческим праздником, а Элевсин, наряду с другими культовыми центрами, такими как Олимпия, Дельфы и проч., — символом единства греков. К участию в Мистериях допускались все желающие (в том числе женщины и рабы), если они были по рождению греками и не запятнали себя каким-либо преступлением. Отдельные обряды, совершаемые во время Великих мистерий, оставались скрыты от глаз большинства участников — к ним допускались лишь посвященные; тайну этих ритуалов запрещено было разглашать под страхом смерти. Подробнее об Элевсинских мистериях см.: Лауенштайн 1996; Нильссон 1998; Кереньи 2000; Зайцев 2004; Скржинская 2010, а также: Mylonas 1961; Bianchi 1976; Wasson, Hofmann, Ruck 1978; Parke 1986; Clinton 1992.
(обратно)
86
Какому Орфею или Тамириду... — Имеются в виду легендарные певцы, считавшиеся в Древней Греции основателями поэтического и музыкального искусства.
(обратно)
87
...элевсинцу Мусею... — Речь идет об ученике (по другой версии — сыне) Орфея, получившем в наследство его лиру; прозвище «элевсинец» указывает на причастность Мусея к Элевсинским мистериям, о чем свидетельствует также гимн к Деметре, который, согласно Павсанию, он сочинил в ее честь (см.: Описание Эллады. 1.22.7).
(обратно)
88
Где священнодействия внушали столь же великий трепет, а зримое глазом настолько превосходило то, что могут услышать уши?! — Аристид намекает здесь на сущность самих обрядов, состоявших, насколько нам известно, из трех этапов: (1) «совершаемое» (δρώμενα) — вероятно, сцены из мифа о Деметре и Персефоне, разыгрываемые жрецами храма; (2) «произносимое» (λεγόμενα), т. е. слова, при помощи которых иерофант (главный жрец), глашатай и служители храма комментировали свои действия; (3) «демонстрируемое» (δεικνύμενα) — манипуляции с некими священными предметами культа (подробнее см.: Foucart 1914: 356, 418).
(обратно)
89
Многим поколениям мужей и жен выпало счастье увидеть неизреченные таинства Мистерий. — Речь идет о «мистах», т. е. о тех, кто прошел обряд посвящения в Мистерии. Под «таинствами» — а точнее, под явлениями, не подлежащими огласке (άρρητα), — подразумеваются некие символические предметы, составлявшие основу ритуального действия. Среди различных точек зрения, выдвинутых на этот счет учеными, наиболее вероятным считается мнение, что одним из этих предметов был колос — символ круговорота рождения и смерти (см.: Зайцев 2004: 143).
(обратно)
90
...нашла она ее, лишь придя в Элевсин, и оттого так названо это место. — Слово «Элевсин» (Έλευσίς) по-гречески буквально означает «приход», «пришествие».
(обратно)
91
Также в этом мифе повествуется о Келее, Метанире и Триптолеме, а еще — о... крылатых колесницах, которые носились над... землей и морем. — Согласно мифу, Деметра в поисках дочери пришла в Элевсин, где нашла радушный прием в доме царя Келея и его жены Метаниры. Когда богиня вновь обрела свою дочь Персефону, то, покидая город, повелела выстроить в честь ее и себя храм, а также учредила Мистерии. Одним из первых в таинства был посвящен Триптолем, сын Келея и Метаниры, которому Деметра дала пшеничные колосья и крылатую колесницу и послала к людям, чтобы он обучил их искусству земледелия. Этот миф положен в основу псевдогомеровского гимна «К Деметре»; кроме того, некоторые сведения о нем приводит Аполлодор (см.: Мифологическая библиотека.
1.5.1—3).
(обратно)
92
Первыми из чужеземцев в Мистерии были посвящены Геракл и Диоскуры. — Согласно мифу, прежде чем совершить последний и самый трудный из своих подвигов, а именно — привести из Аида Кербера, Геракл пожелал принять посвящение в Элевсинские мистерии. Однако ввиду запрета на участие в таинствах преступников и иностранцев сначала он был усыновлен неким афинянином по имени Пилий, затем очищен от скверны убийства, лежавшей на нем после расправы с кентаврами, и только потом посвящен в Малые мистерии при участии самой Деметры (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. II.5.12;
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тесей. 30, 33;
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. IV. 14.3; 25.1). Подобно Гераклу, и Диоскуры, прибыв в Аттику в поисках Елены, выразили желание принять посвящение в Мистерии. В знак почтения к юношам эта просьба была исполнена, но лишь после того, как их усыновил афинянин Афидн (см.:
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тесей. 33). Однако уже в классическую эпоху афинское гражданство не было обязательным требованием для участия в Мистериях, и обряд посвящения мог пройти любой эллин, не запятнавший себя преступлением. Последнее условие было непреложным и сохраняло актуальность до конца античной эпохи.
(обратно)
93
Первое в Аттике гимнастическое состязание тоже состоялось в Элевсине, и наградою в нем служили новоявленные пшеничные зерна... — Элевсинские мистерии традиционно сопровождались атлетическими, конными и музыкальными состязаниями, длившимися около четырех дней. Древность данной традиции подтверждается свидетельством Паросской хроники, согласно которой эти состязания были учреждены значительно раньше Панафинейских игр. Победившие в них получали в награду пшеницу, выросшую на священном Рарийском поле, которую, по преданию, впервые посеял Триптолем.
(обратно)
94
Каждый год эллины отвозили первый отборный урожай в Афины... — Как свидетельствует в своем «Панегирике» Исократ (см.: 31), большинство греческих городов ежегодно поставляло в Элевсин часть выращенного зерна; тем же, кто от этого уклонялся, Пифия напоминала о необходимости внести свою долю урожая в общую житницу.
(обратно)
95
...Эвмолпиды и Керики, чьи предки восходят к Посейдону и Гермесу... — Речь идет о двух знатных элевсинских родах, из представителей которых выбирались верховные жрецы для проведения священных обрядов. Согласно мифу, учредив Элевсинские мистерии, Деметра посвятила в них несколько лучших граждан Элевсина, в том числе — Керика и Эвмолпа. О последнем также упоминается в псевдогомеровском «Гимне к Деметре» (см.: 154, 475); позднее греки чтили его как основателя Элевсинских мистерий и считали сыном Посейдона и Хионы, дочери бога северного ветра Борея. Керик, по преданию, был сыном Гермеса и Аглавры, дочери Кекропа — мифического основателя Афин, решившего спор Посейдона и Афины за владычество над Аттикой в пользу последней.
(обратно)
96
...когда Гераклиды вернулись на Пелопоннес... — Согласно преданиям греков, после смерти Геракла его сыновья подверглись преследованию со стороны царя Эврисфея и вынуждены были покинуть родину. Позднее старшему из Гераклидов, Гиллу, удалось при помощи Полая убить Эврисфея и вернуться на Пелопоннес вместе с дорийцами. Потомки Гилла правили в Аргосе, Мессении, Лаконике, Элиде и Коринфе (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. II.8.1—4).
(обратно)
97
...дорийцы пошли войной на Афины. — Дорийское вторжение датируется приблизительно 1100 г. до н. э. Характерно, что очевидная связь между реальным завоеванием дорийцами Пелопоннеса и мифологическим возвращением на родину Гераклидов объясняется позднейшим стремлением греков в некотором роде «узаконить» это вторжение под видом возвращения потомками Геракла их родовой собственности.
(обратно)
98
Благодаря этому походу была заселена... Иония. — Имеется в виду переселение части ахейских племен в Малую Азию — в область, названную потом Ионией. Согласно другой точке зрения, Иония была заселена значительно позднее вторжения дорийцев, в результате колонизации греками новых земель (см.:
Фукидид. История. 1.12.3).
(обратно)
99
Когда же нагрянуло мидийское войско... — Речь идет о Греко-персидских войнах (см. примеч. 20). Об этом подробно рассказывает Геродот (см.: История. VII.8 сл.).
(обратно)
100
...были сожжены многие эллинские храмы, и в довершение всего — твердыня Эллады, город афинян. — Афины были захвачены и разорены дважды: в первый раз — в 480 г. до н. э., когда персидская армия во главе с Ксерксом, прорвав оборону греков в Фермопильском ущелье, заняла среднюю Грецию, второй раз — весной 479 г. до н. э., под предводительством персидского военачальника Мардония, после того как Ксеркс с большей частью армии возвратился в Азию. Подробнее о походе Ксеркса см.:
Геродот. История. VII.8 сл.
(обратно)
101
...сам Иакх... — Первоначально Иакх (впоследствии отождествленный с Дионисом) считался одним из богов элевсинского культа. Традиционно Мистерии открывались торжественной процессией, участники которой с возгласом «О, Иакх!» несли увенчанную миртом статую этого бога, направляясь по Священной дороге из Афин к Элевсину (подробнее об этом см.:
Павсаний. Описание Эллады. 1.39).
(обратно)
102
...когда началось морское сражение... — Имеется в виду одно из главных сражений Греко-персидских войн (при острове Саламине, 480 г. до н. э.), в котором почти полностью был уничтожен персидский флот.
(обратно)
103
...с той стороны, где находился Элевсин, налетела туча и обрушилась сверху на корабли под торжественную песнь, каковую обычно исполняют участники Мистерий. — Об этом эпизоде греческой истории также упоминают Геродот (см.: История. VIIL65) и Плутарх (см.: Фемистокл. 15).
(обратно)
104
...Ксеркс бежал, и царство мидийцев сокрушилось. — После проигранного решающего сражения при Саламине (см. примеч. 18) Ксеркс со значительной частью армии и остатками флота вернулся в Азию, оставив в средней Греции отборное семидесятитысячное войско под командованием Мардония, а также резервную армию и флот у мыса Микале. Конец продолжительным Грекоперсидским войнам положила знаменитая битва при Платеях (479 г. до н. э.), в которой спартанскому полководцу Павсанию, стоявшему во главе греков, удалось нанести сокрушительный удар врагу. Остатки персидского флота и армии были разгромлены в битве при Микале.
(обратно)
105
Когда же в Элладе началась междоусобная война... — Речь идет о Пелопоннесской войне (431—404 гг. до н. э.).
(обратно)
106
Когда позднее Сфодрий двинулся из Феспий... — Имеется в виду следующий эпизод Беотийской войны (378—362 гг. до н. э.): в 378 г. до н. э. спартанский военачальник Сфодрий выступил из города Феспии в сторону Пирея, афинской гавани, в надежде ее захватить, но, дойдя до Элевсина, вынужден был повернуть назад (об этом см.:
Ксенофонт. Греческая история. V.4.21—22;
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Пелопид. 14; Агесилай. 24).
(обратно)
107
...одного лишь вида факелов... — Подразумевается факельное шествие во время празднования Мистерий. Пародийное изображение такой процессии дается в «Лягушках» Аристофана (см.: 340 сл.).
(обратно)
108
Все прочие священные перемирия были нарушены. — В соответствии с установлением о священном перемирии на время общегреческих празднеств любые военные действия прекращались, чтобы представители разных полисов могли беспрепятственно принять участие в торжествах. Самым древним и наиболее известным из них было Олимпийское перемирие, в течение которого Элида, где находилось святилище Зевса, провозглашалась неприкосновенной территорией. Кроме Олимпийского, существовали также и другие перемирия, действовавшие в период Пифийских, Истмийских и Немейских игр, а также во время Элевсинских мистерий.
(обратно)
109
...во время Пифийских игр захватили Кадмею. — Кадмеей назывался Акрополь города Фивы, основанного мифическим царем Кадмом. В 382 г. до н. э. во время празднования Фесмофорий (аттического праздника в честь богини Деметры, в котором участвовали только женщины) спартанский отряд под предводительством полководца Фебида захватил Фивы (см.:
Ксенофонт. Греческая история. V.2.25—29).
(обратно)
110
Затем аргосцы, участвовавшие в общей процессии на Истмийских играх, с оружием в руках напали на коринфян. — В 390 г. до н. э. во время Истмийских игр спартанский царь Агесилай захватил Коринф, находившийся во власти аргивян, и последним пришлось бежать, бросив приготовления к празднеству. Жители Коринфа предложили Агесилаю взять на себя распорядительство на состязаниях, но тот отказался, предоставив это дело самим гражданам. Когда же Агесилай покинул город и аргивяне вернулись, то, выказав недоверие к итогам состязаний, они провели Истмийские игры повторно (см.:
Ксенофонт. Греческая история. IV.5.1—2).
(обратно)
111
О битве при Алфее... — На правом берегу реки Алфей, протекающей в Аркадии и Элиде, находилась Олимпия — знаменитое святилище Зевса. В 365 г. до н. э. аркадяне захватили принадлежавшую элейцам Олимпию и начали подготовку к Олимпийским играм. Однако в самый разгар священного праздника элейцы напали на аркадян и, победив их, вытеснили с берегов Алфея (см.:
Ксенофонт. Греческая история. VII.4.29—31).
(обратно)
112
..мужество и победа тех, кто лишился законных прав, стали явным знаком воли Зевса. — Аллюзия на соответствующее место у Ксенофонта. Ср.: «<...> ясная погода, как передают, внезапно сменилась громом и молнией: в этом видели счастливое предзнаменование <...>» (Греческая история. VII.4.31.
Пер. С.Я. Лурье).
(обратно)
113
...и Филиппы, и Александры... — Имеются в виду Филипп и Александр Македонские.
(обратно)
114
...и Антипатры... — Македонский военачальник Антипатр после смерти Александра возглавил борьбу македонян против восставшей Греции (Ламийская война; 323—322 гг. до н. э.), закончившуюся для последней поражением.
(обратно)
115
...о галлах, ворвавшихся в... Грецию... — В 279 г. до н. э. в Грецию вторглось большое войско галлов под предводительством их вождя Бренна, который, пройдя всю Фессалию и потерпев поражение в битве при Фермопилах, направился к Дельфам, чтобы завладеть сокровищами храма. Однако небольшому греческому войску удалось отразить неприятеля, поскольку сам Аполлон, по преданию, защищал храм от варваров. Об этом событии упоминают в своих сочинениях Юстин (см.: Письма. XXIV.6—8) и Цицерон (см.: О дивинации. 1.37.81).
(обратно)
116
...для города... — Речь идет об Афинах.
(обратно)
117
Остальные всенародные праздники справляются каждый пятый или каждый третий год... — Неточность автора. Наиболее значимые из общегреческих праздников — Олимпийские и Пифийские игры — проводились раз в четыре года, Истмийские и Немейские игры — раз в два года.
(обратно)
118
...ибо число людей в городе и в Элевсинском храме было равновеликим. — Главный храм Элевсина, Телестерион, вмещал около трех тысяч человек, о чем свидетельствуют, в частности, Плутарх (см.: Сравнительные жизнеописания. Перикл. 13) и Страбон (см.: География. IX.395). Распространенное же мнение, что храм мог вмещать до тридцати тысяч человек, основано на ошибочном истолковании одного места у Геродота, где идет речь о «трех мириадах человек», будто бы участвовавших в Мистериях (История. VIII.65.
Пер. ГЛ. Стратановского). Однако это выражение следует понимать скорее не буквально (ср.: «мириада»,
др.-греч. μυριάς — букв.: «десять тысяч»), а образно, в значении «тьма народу». Таким образом, под «Элевсинским храмом» Аристид подразумевает, судя по всему, не только сам Телестерион, но и священную территорию вокруг него. Точно так же в Пергаме Асклепионом именовалась вся территория святилища Асклепия, включая храм и другие постройки (см.: Foucart 1914: 348). В свете вышесказанного становятся понятными и слова Лукиана о том, что чуть ли не все жители Афин были посвящены в Мистерии (см.: Жизнеописание Демонакта. 11), а значит — принимали участие в празднестве.
(обратно)
119
...не говоря уж о самом главном! — То есть о священных обрядах, к которым допускались лишь посвященные.
(обратно)
120
...а не будут лежать во мраке и грязи, каковая участь ожидает непосвященных. — Согласно представлениям греков, участие в Элевсинских таинствах открывало перед посвященными путь к вечной жизни. Об этом, в частности, упоминают Платон (см.: Федон. 69c), Софокл (см.: Фр. 719 Nauck) и Пиндар (см.: Фр. 115 Dindorf).
(обратно)
121
...аргивский погребальный плач... — Возникновение жанра погребального плача (трена; см. о нем примеч. 1 к «Надгробной речи Этеонею») связывалось в античной традиции с мифом о Лине, который, согласно одной из версий, в младенчестве был растерзан собаками. Печальная участь этого легендарного персонажа стала темой жалобных песен, первоначально носивших его имя (лины) и исполнявшихся женщинами во время поминальных обрядов в его честь (в жертву Лину традиционно приносили собак). Этот культ был распространен в Аргосе, где, согласно Павсанию, находилась могила Лина (см.: Описание Эллады. II.19.7).
(обратно)
122
...песни египтян и фригийцев... — По преданию, аргивские скорбные песни о Лине (см. примеч. 37) быстро распространились по всему свету. По примеру аргивян египтяне оплакивали мертвого Аписа — священного быка, отождествляемого с богом Сераписом (см. также примеч. 46 к «Монодии Никомедии»), а фригийские жрецы Кибелы — мертвого Аттиса. Последний, по одной из версий мифа (см.:
Павсаний. Описание Эллады. VII.17.5), был жрецом богини Кибелы, которого по воле Зевса умертвил кабан; по другой же — ее возлюбленным, который погиб, впав в безумие и сам себя оскопив (этот сюжет, в частности, встречается у Катулла (см. стихотворение «Аттис»), а также в «Фастах» Овидия (см.: IV.233—246)). Культ Аттиса, связанный с оргиастическим культом Великой матери богов Кибелы, был широко распространен в эллинистическом мире.
(обратно)
123
...элевсинец Эсхил... — Древнегреческий трагический поэт Эсхил был родом из Элевсина.
(обратно)
124
...«огненные ловушки Навплия»... — Цитата из трагедии Софокла (Фр. 402 Nauck). Известно, что драматург посвятил этому сюжету две трагедии — «Навплий приплывающий» и «Навплий-возжигатель», дошедшие до нас лишь во фрагментах. Миф, положенный в его основу, таков: царь Эвбеи Навплий, узнавший о гибели своего сына Паламеда (который был оклеветан Одиссеем, судим за предательство и побит камнями), решил отомстить казнившим его ахейцам и погубить их корабли, возвращающиеся из-под Трои. Для этого ночью, во время бури, он зажег на горе Каферее факел, и корабли ахейцев, принявших этот свет за сигнальные огни, разбились о прибрежные скалы. Рассказ об этом мы встречаем также у Аполлодора (см.: Мифологическая библиотека. ЭЛП.7—11).
(обратно)
125
...светоносные ночи! — См. примеч. 23.
(обратно)
126
О,
священный огонь, в одночасье превратившийся в губительное пламя! — Имеется в виду пожар, который заменил собой огни факельных шествий (см. примеч. 23).
(обратно)
127
Месяц Боэдромион требует ныне иного клича... — За месяц до наступления Боэдромиона, в котором справлялись Элевсинские мистерии, спондофоры (глашатаи священного перемирия) оповещали Грецию о предстоящем празднестве, чтобы к этому времени были прекращены все военные действия и сделаны соответствующие приготовления (см. примеч. 24).
(обратно)
128
...с которым Ион спешил на помощь Афинам. — Согласно преданию, Ион, внук легендарного Эллина, помог афинянам в борьбе с элевсинским царем Эвмолпом, и за это они избрали его на царство. По другой версии мифа, Ион был царем эгиалейцев (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. 1.7.3; III.15.4;
Павсаний. Описание Эллады. VII. 1.2).
(обратно)
129
О,
предупреждение! — Имеется в виду воззвание, с которым обращались в Элевсине к народу на пятнадцатый день месяца Боэдромиона: оно предписывало воздерживаться от участия в Мистериях тем, кто запятнал себя каким-либо преступлением.
(обратно)
130
О,
осквернители Мистерий, предавшие огласке сокровенное... — «Осквернителями Мистерий» (έξορχησάμενοι τα μυστήρια — букв.: «надсмеявшиеся над Мистериями») называются здесь не совершившие набег варвары, а сами греки. Смысл этого пассажа проясняет другая речь Аристида — «Против тех, кто оскверняет ораторское искусство» («Κατά των έξορχουμένων»), в которой оратор употребляет то же слово по отношению к недостойным софистам, подражающим в своих выступлениях грубым действиям мимических актеров. Сравнивая ораторское искусство со священными Мистериями, а оратора — с посвященным (мистом), Аристид убеждает своих слушателей в том, что лицедейство софистов оскверняет таинства риторики. В настоящей же речи под «осквернителями Мистерий» подразумеваются, по всей видимости, те из греков, кто позволял себе пародировать священные обряды и таким образом «предавал огласке сокровенное» (τα αφαντα φήναντες). В греческой истории хорошо известен подобный инцидент, на который, судя по всему, и намекает здесь Аристид, упрекая греков в беспечности и неразумии и говоря, что они «были детьми в древности и остались ими поныне» (см. примеч. 47). Инцидент этот связан с именем Алкивиада — афинского государственного деятеля и военачальника времен Пелопоннесской войны, главы Сицилийской экспедиции (см. примеч. 21 к «Монодии Смирне») и сторонника войны со Спартой. Накануне экспедиции политические противники Алкивиада, стремившиеся не допустить того, чтобы Афины пришли на помощь Сицилии (что грозило бы городу прямым столкновением со Спартой), обвинили его в святотатстве, а также в том, что будто бы на пирах с друзьями он пародирует священные ритуалы Элевсинских мистерий. Поскольку это известие вызвало бурное негодование народа, Алкивиад потребовал немедленного судебного разбирательства для своего оправдания, однако по ряду причин заседание суда тогда не состоялось (см.:
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Алкивиад. 19;
Фукидид. История. VL27—29). Позднее, стремясь восстановить свой авторитет в глазах афинян, Алкивиад не только организовал торжественную процессию в Элевсин, но и снабдил ее вооруженной охраной, что позволило афинянам, несмотря на угрозу военных действий, провести празднество в полном соответствии с древними традициями (см.:
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Алкивиад. 34).
(обратно)
131
О эллины, поистине вы были детьми в древности и остались ими поныне! — Аллюзия на соответствующее место в «Тимее» Платона, где эллины названы «вечными детьми» (22b сл.).
(обратно)
132
...какой железный характер нужно для этого иметь... — Вероятно, аллюзия на «Илиаду» Гомера. Ср.: «<...> не давайте вы бранного поля | Гордым ахейцам; их груди не камень, тела не железо» (IV.510.
Пер. Н.И. Гнедина}.
(обратно)
133
...если бы голоса всех эллинов и варваров... слились воедино... — Указание на хоровую природу плача (трена; см. о нем примеч. 1 к «Надгробной речи Этеонею») как жанра лирической поэзии, обычно исполнявшегося поочередно солистом и хором под аккомпанемент авлоса — духового инструмента наподобие флейты, но с двойной тростью.
(обратно)
134
Горе мне, столь многое видевшему и слышавшему! — Аллюзия на соответствующее место в «Персах» Эсхила. Ср.: «Слишком он долог, мой долгий век, | Если мне, старику, пришлось | Горе узнать такое» (262—264.
Пер. С.К. Апта).
(обратно)
135
В древнейшие времена куреты водили здесь хороводы... — Мифические существа куреты составляли вместе с корибантами (фригийскими жрецами) окружение Великой матери богов Реи-Кибелы и младенца Зевса на Крите. Чтобы Кронос не услышал плача новорожденного Зевса, куреты заглушали его звук ударами копий о щиты, боем в тимпаны, криками и плясками. Куретам и корибантам посвящены орфические гимны (см.: XXXI, XXXVIII, XXXIX). О том, что Смирна находится у подножия горы Сипил, где в древние времена любили отдыхать боги и где вокруг матери Зевса совершались танцы куретов, Аристид говорит в своей «Смирнской речи» (см.: 3).
(обратно)
136
...здесь рождались на свет и воспитывались боги... — В «Смирнской речи» (см.: 3) Аристид называет предшественником нынешней Смирны мифический город Танталиду, или Сипил (по имени горы, у подножия которой он был расположен), являвшийся, согласно Гомеру, излюбленным местом отдыха небожителей (см.: Илиада. XXIV.614—615). По преданию, царем Сипила был Тантал, любимец богов, принимавший участие во всех их пирах и собраниях до тех пор, пока в наказание за клятвопреступление не был низвергнут в Аид. Подробней об этом см.:
Пиндар. Олимпийские песни. 1.37.
(обратно)
137
..люди, подобные Пелопу, основавшему царство на Пелопоннесе. — О Пелопе также упоминается в «Смирнской речи» Аристида (см.: 5).
(обратно)
138
Здесь Тесей основал поселение у подножья Сипила... — Упоминание об этом также встречается в «Смирнской речи» Аристида (см.: 5).
(обратно)
139
...здесь же родился Гомер. — См. примеч. 27 к «Надгробной речи Александру».
(обратно)
140
Новейшие времена. — Хотя Б. Кайль берет данное чтение под сомнение (см.: Aristides 1898: 9, сноска 7), на наш взгляд, оно оправдано аналогией с предыдущими словами — «древнейшие времена» («τα μεν άρχαΐα») и принято здесь с целью отделить легендарную историю Смирны от реальной.
(обратно)
141
...тех, кто правит всеми народами... — Имеются в виду римляне.
(обратно)
142
...ученые описания, называющие город красивейшим из всех. — «Красивейшим из <...> ионийских городов» называет Смирну, в частности, Страбон (География. XIV.646.
Пер. ГА. Стратановского).
(обратно)
143
...эта красота не была губительной, подобно той красоте, о которой писала в стихах Сапфо. — Вероятно, имеется в виду знаменитое стихотворение Сапфо «Богу равным кажется мне по счастью...» (см.: Фр. 31 Lobel—Page.
Пер. В.В. Вересаева].
(обратно)
144
...но не как гиацинтов цвет... — Аллюзия на место из «Одиссеи» Гомера, где рассказывается о том, как Афина изменила внешность Одиссея перед встречей героя с Навсикаей, сделав его выше ростом и украсив голову кудрями гиацинтового цвета (см.: VI.231). Тем самым Аристид хочет сказать, что красота Смирны не являлась ни обманом зрения, ни следствием какого-то волшебства.
(обратно)
145
Теперь же <...>. — В этом месте текста в рукописях имеются незначительные разночтения.
(обратно)
146
...то простирающегося <..>. — В этом месте текст оригинала испорчен.
(обратно)
147
Как всё не похоже на то, что было раньше! ~ Таким он был прежде. — Данный пассаж в сжатой форме передает содержание более ранней «Смирнской речи» Аристида, написанной им до землетрясения и заключавшей в себе энкомий городу. В ней автор подробно рассказывает о древнем происхождении Смирны, ее мифическом и историческом прошлом, а также о достопримечательностях: Акрополе, храмах, палестрах, термах, портиках и т. д.
(обратно)
148
О Золотая и Священная дороги, каждая по отдельности образующие каре, а вместе выступающие наподобие агоры! — Упоминание о Золотой дороге (Χρυσή οδός) в Смирне встречается из античных источников только у Аристида, в связи с чем ее местоположение вызывает дискуссии. Возможно, названная оратором улица связывала находившийся почти у самого моря храм Зевса Акрея с храмом Немесиды на Акрополе, протянувшись, таким образом, через весь город с запада на восток. Священная дорога (Ιερά οδός), по всей видимости, проходила параллельно ей, связывая Метроон (Μητρώου) — храм Немесиды, носящей также имя Великой богини-матери, — с Восточными воротами города. Две другие улицы соединяли эти дороги между собой, образуя нечто вроде четырехугольника, или каре (πλαισίου), который Аристид сравнивает с главной площадью (агорой), но которая находится не в центре города, как обычно, а объемлет весь город целиком (см.: Behr 1981: 357). Эта гипотеза находит подтверждение в известном описании древней Смирны, составленном Л. Бюрхнером (см.: Bürchner 1927).
(обратно)
149
О прелесть храмов и их окрестностей! — Прилегающая к храму территория окружалась стенами и считалась у греков священной.
(обратно)
150
...город, который снискал себе славу благодаря хоровым выступлениям... — В «Смирнской речи» Аристид упоминает о множестве состязаний, главным образом поэтических и музыкальных, которые устраивались в Смирне круглый год во время различных праздников (см.: 5—7). Среди торжеств особое место занимали Дионисии, или Анфестерии, проходившие в начале весны. Подробное описание процессии в честь Диониса дает, в частности, Филострат (см.: Жизнеописания софистов. 1.25). См. также: Nilsson 1957: 267—271; Pickard-Cambridge 1953: 1—22; Behr 1968: 83. О хорах куретов в Смирне в древние времена см. примеч. 4.
(обратно)
151
Гадиры. — Этот римский город упомянут здесь как западная граница обитаемого мира.
(обратно)
152
...неудачи афинян в Сицилии... — Сицилийская экспедиция, предпринятая афинянами в 415—413 гг. до н. э. с целью завладеть Сиракузами, окончилась полным разгромом афинского флота и большой части сухопутных сил, что явилось переломным моментом в истории всей Пелопоннесской войны и способствовало окончательному упадку политического и экономического могущества Афин (см.:
Фукидид. История.VI—VII).
(обратно)
153
...разрушение Фив... — В 335 г. до н. э. Александр Македонский захватил и разрушил Фивы, в результате чего погибла или была продана в рабство большая часть населения города. Об этом событии упоминают многие греческие историки (см., в частности:
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. XVII.8—14;
Арриан. Поход Александра. 1.7—8).
(обратно)
154
...ныне разрушениями превзошедшая Родос! — Родос был разрушен землетрясением в 142 г. н. э.
(обратно)
155
...«вторая попытка бывает менее удачной». — Аристид перефразирует известную греческую поговорку «вторая попытка бывает удачней» (см. примеч. 38 к «Надгробной речи Александру»), которую он многократно употребляет в других речах — например, говоря о Риме, пришедшем на смену Афинам (см.: Смирнская политическая речь. 101), о восстановлении Смирны после землетрясения (см.: Смирнская приветственная речь. 23) и т. п. В данном случае под «второй попыткой» Аристид подразумевает возрождение Смирны при Александре Македонском, который построил новый город на склоне горы Пагос, к юго-западу от старого, пришедшего в упадок после завоевания лидийским царем Алиаттом, а позднее — персидским царем Киром (середина VI в. до н. э.). В эллинистический и римский периоды Смирна переживает второй расцвет, последовавший через триста с лишним лет после первого, относящегося к эолийско-ионийскому периоду (середина VII в. до н. э.), когда город был столицей Ионии — культурного центра архаической Греции.
(обратно)
156
...денъ заупокойных жертв... — «Днем заупокойных жертв» именовался третий день праздника Анфестерий, справлявшегося в Афинах в месяце Анфестерионе в честь бога Диониса. В этот день на могилах совершались очистительные возлияния и приносились жертвы подземным богам и душам умерших.
(обратно)
157
...о роковой денъ... — В так называемый роковой день (несчастный день;
др-греч. ή άποφράς ήμέρα) запрещалось устраивать народные собрания, проводить заседания суда и получать предсказания оракулов (ср.
лат. dies nefastus).
(обратно)
158
Ты обезглавил целый род... — Аллюзия на миф о Персее, отрубившем голову Медузе Горгоне (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. II.4.2).
(обратно)
159
...ты лишил его глаза! — Согласно мифу, Персей хитростью выманил у вещих старух Грай их единственный глаз и вернул его лишь тогда, когда они указали ему путь к Медузе Горгоне.
(обратно)
160
...театр Эллады... — Называя Смирну «театром Эллады» (θέατρον τής Ελλάδος), Аристид стремится подчеркнуть важную роль, которую играл этот город в общественной жизни восточной части Римской империи (см.: Bürchner 1927; Cadoux 1938) и которую можно сравнить с культурной гегемонией Афин в Греции после окончания Греко-персидских войн. С этим периодом, в частности, связан расцвет афинского театра, являвшегося средоточием общественно-политической и культурной жизни города (см.: Pickard-Cambridge 1946). Отдельно теме культурной гегемонии Афин посвящена знаменитая в позднеантичную и византийскую эпоху «Панафинейская речь» Аристида (см.: Oliver 1968).
(обратно)
161
...одеяние Нимф и Харит! — Нимфы и Хариты, богини веселья, радости и красоты, часто изображались полуобнаженными, в легких развевающихся одеждах и с венками на головах.
(обратно)
162
Где здание городского совета? — Выступления ораторов обычно происходили в здании городского совета Смирны (см. примеч. 19 к «Надгробной речи Этеонею»).
(обратно)
163
...у подножия Сипила некогда существовал город, который погрузился на дно озера. — По легенде, этот город был предшественником Смирны. Так, у подножья горы Сипил когда-то располагалась древняя столица Меонийского царства — Танталида, которая была уничтожена землетрясением (см. примеч. 5), а на ее месте образовалось озеро, фигурирующее в античных источниках как озеро Тантала. Мифологическая же подоплека этого события такова: боги, разгневавшись на Тантала за его вероломство, разрушили гору Сипил вместе с городом, после чего оставшиеся руины погрузились на дно озера. Об этом, в частности, говорится у Павсания (см.: Описание Эллады. VII.24.4; VIII. 17.3) и Плиния Старшего (см.: Естественная история. II.93).
(обратно)
164
...давно ли я воспевал тебя в гимне! — Вероятно, имеется в виду «Смирнская речь» Аристида, написанная по случаю прибытия в Смирну наместника Азии в 157 г. н. э. (см.: Rohde 1886: 188; Behr 1968: 91).
(обратно)
165
Ныне всем птицам следовало бы броситься в огонь... — У римлян были широко распространены гадания и, в частности, предсказания счастливого и несчастливого исхода событий по полету и вообще по поведению птиц (ауспиции). Этой фразой Аристид хочет сказать, что, раз птицы не предупредили людей о грозящем городу несчастье, то они сами заслуживают того, чтобы сгореть в огне его пожаров.
(обратно)
166
...всему материку — остричь волосы, ибо город лишился своих кудрей... — У греков существовал обычай состригать волосы на голове в знак траура.
(обратно)
167
...кораблям — отплывать под черными парусами! — Аллюзия на миф о Тесее, отправившемся на Крит, чтобы сразиться с Минотавром. Согласно уговору, в случае гибели героя его корабль в знак траура должен был вернуться в Афины под черными парусами (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Э.1.7-10).
(обратно)
168
О песнь лебедей и хор соловьев, настал ваш черед! — Лебедь и соловей были в греческой мифологии символами горя и печали (ср., например, миф о Tepee, Прокне и Филомеле:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.14.8). Упоминания о лебединой песни как предвестнице близкой смерти встречаются и в литературе, в частности, у Эсхила (см.: Агамемнон. 1444) и Платона (см.: Федон. 84e).
(обратно)
169
...оплакивали бы не Медузу и не свой собственный глаз, а глаз Азии. — Под «глазом Азии» подразумевается Смирна. См. также примеч. 28.
(обратно)
170
Разве не достигла твоя слава Босфора, нильских порогов или даже Тартесса... — Здесь называются самые дальние рубежи Римской империи. Город-государство Босфор Киммерийский достиг наивысшего расцвета в IV в. до н. э., а с конца I в. до н. э. стал важным форпостом Римской империи на северо-востоке, долгое время сдерживавшим натиск варваров. Под «нильскими порогами» имеются в виду Катадупы (античное название первого порога Нила), являвшиеся крайней южной точкой империи. Тартесс, река и одноименная гора в Испании, символизирует, в свою очередь, западную границу Римской империи.
(обратно)
171
...неподвластен разящим стрелам... — Имеются в виду любовные стрелы Аполлона.
(обратно)
172
...дочери Гелиоса, оплакивавшие своего брата, в конце концов превратились в тополя... — Согласно мифу, после гибели Фаэтона его сёстры Гелиады так сильно горевали, что боги из жалости превратили их в деревья (см.:
Овидий. Метаморфозы. II.340—366).
(обратно)
173
...боевые трофеи, каковые они установили... — Трофеями («τά τρόπαια») у древних греков назывались памятники в честь одержанной победы, устанавливаемые обычно на поле битвы в виде столбов с прибитыми к ним вражескими доспехами.
(обратно)
174
...государство приказывает исполнить сие поручение в такой короткий срок... — См. преамбулу к наст. речи.
(обратно)
175
Амазонки вели древний род свой от Арея; живя на берегах реки Фермодонта... — Амазонки — легендарное племя женщин-воительниц, обитавшее близ реки Фермодонт, откуда они пришли в Скифию на берега Меотийского озера и реки Танаис (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. II.5.9). По преданию, амазонки произошли от Ареса и Гармонии.
(обратно)
176
Когда Адраст и Полиник пошли войной на Фивы и потерпели поражение в битве... — Полиник и Адраст были главными зачинщиками и участниками знаменитого похода Семерых против Фив, который получил название по семи объединенным отрядам и стоявшим во главе их семи вождям (по числу ворот в Фивах). Согласно мифу, изгнанный из Фив своим братом Этеоклом, не желавшим делиться царской властью, Полиник нашел приют у Адраста и, женившись на его дочери Аргии, уговорил его напасть на Фивы, чтобы отобрать власть у Этеокла. Однако этот поход окончился неудачей для аргосцев: войско их было побеждено фиванцами, а его предводители убиты, за исключением Адраста, которого вынес с поля боя его божественный конь Арейон. Миф о походе Семерых против Фив положен в основу сюжета одноименной трагедии Эсхила.
(обратно)
177
...кадмейцы... — То есть фиванцы (см. примеч. 25 к «Элевсинской речи»).
(обратно)
178
...а между тем подземные боги не получают того., что им подобает... — Креонт, согласно мифу, ставший царем в Фивах после гибели обоих сыновей Эдипа, отказался выдать для погребения родственникам тела погибших, участвовавших в этом походе. Тем самым он лишил подземных богов «того, что им подобает», т. е. мертвецов, которые, будучи непогребенными, не могли попасть в подземный мир. Эти события положены в основу драмы Софокла «Антигона».
(обратно)
179
Ввиду того, что афиняне не могли получить этого разрешения, они пошли войной на кадмейцев... — После того как Креонт запретил хоронить погибших аргосцев (см. примеч. 5), Адраст обратился за помощью к афинянам, и те под предводительством Тесея выступили против фиванцев. Этот эпизод мифа составил основу трагедии Еврипида «Умоляющие».
(обратно)
180
...а другие — чтобы не вернулись к себе на родину лишенными отцовской чести... — Речь идет об аргосцах. Под «отцовской честью» подразумеваются почести, которые, по завету отцов, оказываются мертвым посредством обряда погребения.
(обратно)
181
...отрешенными от эллинского закона... — Имеется в виду древний обычай хоронить умерших.
(обратно)
182
...утратившими общую надежду. — То есть надежду на погребение, общую для всех людей.
(обратно)
183
...детей его, бежавших от Эврисфея... — Согласно легенде, арголидский властитель Эврисфей после смерти Геракла, совершившего по его приказанию двенадцать подвигов, преследовал детей героя, опасаясь, как бы те не отняли у него царскую власть.
(обратно)
184
...они с мольбою сели на алтарях. — В античности святость алтаря не позволяла осквернять его каким-либо насилием и тем более убийством, поэтому любой человек, спасаясь от преследования, мог рассчитывать на неприкосновенность, укрывшись в непосредственной близости от святыни.
(обратно)
185
...они поселились не в чужой земле, подобно большинству народов, сойдясь со всех сторон и изгнав других, но были исконными жителями... — Афиняне гордились тем, что были в Аттике не пришельцами, а «автохтонами» (οι αύτόχθονες), т. е. ее исконными обитателями. Об этом же свидетельствуют и древнейшие греческие историки. По словам Фукидида, Аттика вследствие скудости почвы не привлекала завоевателей, так что население ее со временем не менялось (см.: История. 1.2.5). Геродот называет афинян древнейшим народом и единственными из эллинов, кто не менял место своего поселения (см.: История. Vn.161).
(обратно)
186
...оставили повсюду вечно памятные, великие трофеи. — См. примеч. 1 к «Надгробной речи» Горгия.
(обратно)
187
Царь Азии... — Речь идет о персидском царе Дарии I, в 490 г. до н. э. вторгшемся в Грецию и положившем начало Греко-персидским войнам.
(обратно)
188
...высадились у Марафона... — В 490 г. до н. э. неподалеку от греческого поселения Марафон состоялась одна из крупнейших битв в истории Греко-персидских войн, в которой армия персов потерпела сокрушительное поражение от афинского войска под начальством Мильтиада.
(обратно)
189
...воздвигли в своей стране, у границ ее, ради всей Эллады трофей... — Марафон, где был воздвигнут памятник в честь победы над персами, находился недалеко от морского побережья Греции. См. также примеч. 1 к «Надгробной речи» Горгия.
(обратно)
190
...и пришел с флотом в 1200 кораблей... — Геродот в своем сочинении называет другое число — 1207 судов (см.: VTI.89, 184). Однако, по мнению современных исследователей, в действительности кораблей было почти вдвое меньше — от 500 до 800 (см.: Lazenby 1993; Коннолли 2000).
(обратно)
191
...и сухопутного войска он вел такое несметное число... — Согласно Геродоту, общая численность персидского войска составляла 2 млн 641,610 тыс. человек (см.: История. VII.185), однако эта цифра сильно завышена. Согласно современным исследователям, всё войско Ксеркса не превышало 200 тыс. человек.
(обратно)
192
...он проложил себе сухопутную дорогу через море и насильственно устроил плавание через сушу, построив мост на Геллеспонте и прорыв Афон. — Готовясь к походу, Ксеркс в течение нескольких лет вел широкомасштабные строительные работы, чтобы максимально безопасно и быстро переправить свое войско в Грецию, минуя плавание через бурное Эгейское море. Так, через узкий перешеек на Халкидике по его приказанию был прорыт канал длиной более двух
километров, что позволяло избежать необходимости огибать Афон, у которого в 492 г. до н. э. потерпел крушение персидский флот под командованием Мардония. Кроме того, через Геллеспонт (совр. Дарданеллы) было переброшено два понтонных моста длиной около 1,3 км каждый.
(обратно)
193
...афиняне сами сели на корабли и пошли против него к Артемисию... — При мысе Артемисии в 480 г. до н. э. афинянам благодаря успешной тактике главнокомандующего Фемистокла удалось сокрушить персидский флот, намного превосходивший своей численностью греческий (см.:
Геродот. История. VIII.б—18;
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Фемистокл. 8).
(обратно)
194
...спартанцы с некоторыми союзниками противостояли им у Фермопил... — Защиту Фермопил, узкого ущелья, через которое персидские сухопутные силы намеревались проникнуть внутрь страны, обеспечивало союзное греческое войско во главе со спартанским царем Леонидом. После того как основные греческие силы ввиду опасности возможного окружения покинули Фермопилы, на месте остался лишь небольшой отряд, состоявший в основном из спартанских воинов. Оказав жестокое сопротивление, спартанцы смогли на некоторое время задержать огромное персидское войско. Но предательство одного из беотийцев, указавшего врагам обходной путь, дало последним возможность зайти грекам в тыл и всех перебить.
(обратно)
195
Триера — военный корабль, имевший с каждой стороны по три ряда весел, расположенных один над другим.
(обратно)
196
...для блага Эллады они покинули свой город... — После поражения греков под Фермопилами для персов открылся путь на Афины и Пелопоннес. Чтобы выиграть время, афиняне решили сдать город персам, предварительно эвакуировав оттуда всё гражданское население, и стали готовиться дать отпор Ксерксу. Войдя в Афины, персы сожгли и до основания разрушили город. Понимая, что за Афинами последует и Саламин, греки оказались перед выбором — оставить также и его, бросив все силы на укрепление Коринфского перешейка, или же дать персам у Саламина генеральное морское сражение, воспользовавшись тактическими преимуществами местоположения острова. Выбрав в итоге последнее, греки под командованием афинского военачальника Фемистокла нанесли персам сокрушительное поражение.
(обратно)
197
Своей победой на море... — Имеется в виду победа в битве при Саламине (480 г. до н. э.), в которой греческий флот, насчитывавший, по разным сведениям, от 310 до 378 кораблей, полностью разгромил мощную флотилию персов, состоявшую из 1207 кораблей (см.:
Эсхил. Персы. 338—344;
Геродот. История. VII.89, 184). См. также примеч. 23.
(обратно)
198
...когда пелопоннесцы стали строить стену поперек Истма... — Для защиты полуострова жителями Пелопоннеса было принято решение возвести стену поперек Коринфского перешейка.
(обратно)
199
...спартанцы и тегеаты обратили в бегство варваров, а афиняне и платейцы победили в сражении... эллинов, которые... надели на себя иго рабства. — После того как персы потерпели поражение в битве при Саламине (см. примеч. 24), Ксеркс бежал в Азию, оставив в Греции своего военачальника Мардония с тремястами тысячами сухопутного войска. Это войско было побеждено союзной армией греков, насчитывавшей около 110 тыс. человек (из них 8 тыс. составляли афинские гоплиты), в битве при Платеях в 479 г. до н. э. Конец этому этапу Греко-персидских войн положила в том же году решающая победа греков над персами в сражении около мыса Микале, недалеко от города Приены.
(обратно)
200
В морском сражении, произошедшем между афинянами и эгинетами и их союзниками, афиняне захватили у них семьдесят триер. — Имеется в виду война между Эгиной и Афинами в 458 г. до н. э., окончившаяся победой последних. В результате этой войны афиняне захватили 70 боевых кораблей неприятеля, что положило конец морскому могуществу Эгины.
(обратно)
201
Пока афиняне в это же самое время держали в блокаде Египет... — Имеется в виду поход афинян в Египет в 460 г. до н. э. для оказания военной помощи предводителю ливийцев Инару, восставшему против персидского царя Артаксеркса I.
(обратно)
202
...коринфяне... выступили в поход поголовно и заняли Геранею. — Речь идет о войне афинян с коринфянами и их союзниками в 458 г. до н. э.
(обратно)
203
Когда таким образом у афинян одни были далеко, другие близко... — Часть афинского войска участвовала в войне в Египте (см. примеч. 28), а другая его часть вела военные действия на острове Эгине (см. примеч. 27).
(обратно)
204
Под начальством Миронида они сами вступили в мегарскую землю... — Во время войны между Афинами и Коринфом афинский полководец Миронид возглавил отряд гражданского ополчения, состоявший из юношей и ветеранов, для защиты Мегары от коринфян и его силами победил последних (459 г. до н. э.), тогда как основные силы афинян находились далеко от города, принимая участие в военных действиях на острове Эгине и в Египте (см. соответственно примеч. 27 и 28). См. также:
Фукидид. История. 1.105.4—5.
(обратно)
205
...семьдесят лет они владычествовали над морем... — Морская гегемония Афин длилась от конца Греко-персидских войн до конца Пелопоннесской войны, т. е. с 479 по 404 г. до н. э.
(обратно)
206
...великий царь... — Так греки называли царя персов.
(обратно)
207
После гибели нашего флота в Геллеспонте... — Имеется в виду морское сражение при Эгоспотамах (405 г. до н. э.), в котором спартанцы полностью истребили афинский флот, что предопределило исход Пелопоннесской войны.
(обратно)
208
Когда во главе ее стали другие... — Речь идет о спартанцах.
(обратно)
209
...те, которые прежде не осмеливались вступать в Эгейское море... — Отсылка к условиям Каллиева мира, заключенного между греками и персами в 449 г. до н. э. Согласно этому договору, получившему свое название по имени афинянина, возглавлявшего посольство к персидскому царю Артаксерксу I, греческим городам в Малой Азии предоставлялась независимость, а персы обязывались не вести военных действий против греков и не вводить свой флот в Эгейское море и проливы. В свою очередь, грекам запрещалось вмешиваться в дела Восточного Средиземноморья и Египта, где в полном объеме восстанавливалась власть персидского царя.
(обратно)
210
...они поплыли в Европу... — Персы получили возможность аннулировать условия Каллиева мирного договора (см. примеч. 36) в 394 г. до н. э., когда началась Коринфская война между Пелопоннесским союзом и коалицией четырех союзных государств — Фив, Афин, Коринфа и Аргоса, который первоначально поддержала Персия. Афинский полководец Конон, командуя персидским флотом вместе с персом Фарнабазом, разгромил спартанский флот в сражении при городе Книде, после чего направился в Афины, чтобы восстановить разрушенные спартанцами в 404 г. до н. э. стены.
(обратно)
211
...города эллинские попали в рабство... — Поддержав сперва афинян, начавших Коринфскую войну, чтобы истребить гегемонию Спарты в Малой Азии, а также в центральной и северной Греции, персы затем испугались усиления могущества Афин и заняли сторону спартанцев. В результате союзникам пришлось заключить так называемый Анталкидов мир (387 г. до н. э.), согласно которому греческие города Малой Азии, а также остров Кипр были отданы во власть персов, а остальные греческие города и острова (кроме Лемноса, Имброса и Скироса, оставшихся за Афинами) получили самостоятельность.
(обратно)
212
...в них утвердились тираны... — После поражения Афин в Пелопоннесской войне, спартанцы получили гегемонию над Элладой и начали учреждать в греческих городах олигархическое правление, ставя в них свои гарнизоны во главе с так называемым гармостом (наместником).
(обратно)
213
...одни после нашего несчастия, другие после победы варваров. — Под несчастием афинян автор подразумевает их поражение в 404 г. до н. э., а под победой варваров — упомянутую в п. 59 наст, речи победу персов над спартанцами под командованием Конона (см. примеч. 37).
(обратно)
214
Поэтому Эллада должна была тогда при этой могиле остричь себе волосы... — См. примеч. 35 к «Монодии Смирне».
(обратно)
215
...вступили со всеми во вражду и вернулись в Пирей... — Имеются в виду афинские граждане, бежавшие из родного города при установлении там спартанцами олигархического режима с Тридцатью тиранами во главе. В 404 г. до н. э. эти афиняне вторглись в Аттику под начальством Фрасибула, завладели афинской гаванью Пиреем и после победы над сторонниками тирании восстановили в Афинах демократию.
(обратно)
216
...врагами, кроме прежних, — их собственные сограждане. — Речь идет о тех афинянах, которые поддерживали у себя установленную спартанцами тиранию.
(обратно)
217
...воздвигли разрушенные стены. — См. примеч. 37.
(обратно)
218
...но надо воздать хвалу и чужестранцам... — Имеются в виду фиванцы, при помощи которых Фрасибулу удалось свергнуть в Афинах власть Тридцати тиранов (см. примеч. 42).
(обратно)
219
Погребаемые ныне помогли коринфянам, притесняемым их старыми друзьями, ставши их новыми союзниками... — Подразумеваются обстоятельства Коринфской войны, имевшей следующую предысторию. Персидский царь Артаксеркс II, раздраженный тем, что греки помогали его брату Киру Младшему в попытке свергнуть его с престола, приказал своему сатрапу Тиссаферну снова поработить греческие приморские города в Малой Азии, которые во время восстания приняли сторону Кира. Узнав о намерении Артаксеркса, жители означенных городов обратились к спартанцам (395 г. до н. э.), которые послали им в помощь войско. Когда победа стала склоняться на сторону спартанцев, персам удалось посредством подкупа настроить против них некоторые греческие города. Беотийцы, коринфяне и аргосцы, завидуя возрастающему могуществу Спарты и будучи задеты ее высокомерием, легко поддались влиянию персидского золота и заключили между собою военный союз, к которому вскоре примкнули и Афины. Спартанский полководец Лисандр двинулся было в Беотию, чтобы мгновенным ударом отразить грозящую опасность, но проиграл сражение при Галиарте и сам погиб в этой битве (395 г. до н. э.). Царь Спарты Агесилай, сражавшийся в ту пору с персами в Малой Азии, принужден был прекратить военные действия и идти в Грецию. Он выиграл битву при Коронее (394 г. до н. э.), однако плоды этой победы уничтожило поражение спартанцев близ города Книда (см. примеч. 37). Лишившись гегемонии на море, спартанцы оставались уже в пределах Пелопоннеса, где под начальством Агесилая с переменным успехом боролись за обладание Коринфом и Коринфским перешейком в 394—387 гг. до н. э. (Коринфская война). Когда же афинский стратег Ификрат истребил спартанское войско, война приняла опасный для Спарты оборот. Тогда спартанцы послали в Персию Анталкида с целью снискать дружбу «великого царя» и поддержку своей гегемонии. В результате был заключен позорный для Греции Анталкидов мир (см. примеч. 38).
(обратно)
220
...но и умереть за свободу врагов... — Под врагами подразумеваются здесь пелопоннесские союзники Спарты в Коринфской войне (см. примеч. 46), которые в случае победы афинян также получили бы свободу от тирании, но вследствие их «несчастья» (т. е. смерти в бою) последних остались под владычеством Спарты.
(обратно)
221
...в честь них устраивают состязания в силе, уме и богатстве... — Под состязаниями в силе и в уме подразумеваются спортивные и поэтические соревнования, которыми у греков обычно сопровождались церемонии погребения, под состязаниями же в богатстве — благотворительная деятельность тех зажиточных граждан, которым государство поручало устроение этих игр. Кроме того, в месяце Пианепсионе (октябрь—ноябрь) в Афинах ежегодно справлялись еще и так называемые Эпитафии — праздник в честь всех граждан, когда-либо павших в сражениях, главной частью которого было состязание вооруженных юношей в беге с факелами.
(обратно)
222
...государство постановило похоронить на общественный счет мужей, покоящихся в этой могиле... — Согласно установленному обычаю, афинских воинов, погибших за год войны, хоронили в общей могиле в районе Керамик, где находилось древнейшее кладбище Афин. Фукидид в своей «Истории» подробно описывает этот обряд погребения (см.: II.34.1—7).
(обратно)
223
...из вот этого закона, по которому выбирается оратор на общественные погребения. — Как свидетельствует Фукидид, погребение погибших воинов происходило в торжественной обстановке и традиционно сопровождалось произнесением надгробной речи специально назначаемым по этому случаю оратором (см.: История. II.34.6), кандидатура которого, согласно Платону, выдвигалась Советом Пятисот и утверждалась народным собранием (см.: Менексен. 234b).
(обратно)
224
...ибо они, по общему мнению, являются исконными его жителями. — Мотив, обычный для надгробных речей и часто использовавшийся в политических целях; ср., в частности, с эпитафием Лисия (см.: Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 17). Притязая на автохтонность, афиняне претендовали тем самым и на особое положение среди остальных греков. См. также примеч. 12 к «Надгробному слову...» Лисия.
(обратно)
225
...и плоды, коими кормятся люди, впервые появились у нас... — Согласно преданию, афиняне получили зерно в дар от Деметры при учреждении ею Элевсинских мистерий (см. примеч. 7 к «Элевсинской речи»).
(обратно)
226
Они наголову разбили вторгшееся войско амазонок... — Согласно мифу, афинский царь Тесей вместе с Гераклом совершил поход против амазонок и взял себе в жены их царицу Антиопу. Амазонки, желая вернуть царицу, осадили Афины, но были разбиты Тесеем (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Э.1.16).
(обратно)
227
...изгнали войско Эвмолпа... — Согласно легенде, фракийский герой Эвмолп участвовал в войне Элевсина с Афинами, сражаясь на стороне элевсинцев. Афинский царь Эрехтей при помощи Посейдона убил Эвмолпа, а между афинянами и элевсинцами был заключен мир, по которому последние признавали власть Афин, но сохраняли за собой главенство в проведении Элевсинских мистерий (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.15.4).
(обратно)
228
Их даже назвали спасителями детей Геракла... когда они, бежав от Эврисфея, как умоляющие пришли в эту страну. — По преданию, после гибели Геракла арголидский царь Эврисфей стал преследовать его сыновей, вторгся в Аттику, но потерпел поражение от афинского царя Тесея. Ср. примеч. 10 к «Надгробному слову...» Лисия.
(обратно)
229
...они не позволили нарушить права мертвых, когда Креонт препятствовал погребению Семерых, ходивших походом на Фивы. — См. примеч. 3, 5 и 6 к «Надгробному слову...» Лисия.
(обратно)
230
Они в одиночку дважды победили на суше и на море полчища врагов, вторгшихся из всей Азии... — Имеются в виду два знаменитых сражения времен Греко-персидских войн — Марафонское (см. примеч. 15 к «Надгробному слову...» Лисия) и Саламинское (см. примеч. 23, 24 к «Надгробному слову...» Лисия).
(обратно)
231
...последние, будучи храбрейшими во всей Элладе, за десять лет осады едва взяли одно местечко в Азии... — Речь идет об осаде и взятии Трои ахейцами под предводительством микенского царя Агамемнона, приплывшими в Малую Азию ради освобождения Елены, которую похитил троянский царевич Парис. На стороне Агамемнона сражались лучшие герои Эллады, среди которых были Ахиллес, Диомед, оба Аякса, Одиссей и др. Одному из эпизодов этой войны посвящена поэма Гомера «Илиада».
(обратно)
232
...с помощью какого-нибудь зрелища — конных или гимнастических состязаний... — О различного рода состязаниях, приуроченных к церемонии погребения погибших воинов, помимо Демосфена, упоминают в своих надгробных речах Лисий (см.: Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 80) и Платон (см.: Менексен. 249b). См. также примеч. 48 к «Надгробному слову...» Лисия.
(обратно)
233
...в то время как поведение эллинов отличалось малодушием, соединенным с неведением... — Речь идет о политической разобщенности и отсутствии единства в военных действиях греческих полисов в период захватнических войн Филиппа Македонского (353—338 гг. до н. э.), а также о создании афинянами антимакедонского союза при участии ранее недружественно настроенных к Афинам государств — Хиоса, Коса, Родоса, Фив и др.
(обратно)
234
...когда всё еще можно было предотвратить — одно, произошедшее по недосмотру, другое — вследствие притворства, — эти мужи, однако, не стали им мстить, когда те уступили и пожелали исполнить свой долг... — Имеется в виду так называемая Священная война между фокидянами и фиванцами (356—346 гг. до н. э.) за контроль над Дельфами, переросшая в итоге в борьбу за влияние в северной и средней Греции. В 353 г. до н. э. в этот затяжной военный конфликт вмешался Филипп II Македонский, выступив на стороне дельфийской коалиции и поддержав таким образом фиванцев и фессалийцев, что привело к поражению фокидян и их союзников афинян. В результате македонянам удалось подчинить себе Фессалии и утвердиться в северной Греции, создав тем самым прямую угрозу безопасности Афин и всех остальных греков.
(обратно)
235
...тогда, сойдясь в том сражении... — Речь идет о битве при Херонее (338 г. до н. э.)
(обратно)
236
Условия мирного договора... — Имеется в виду мир, заключенный с Филиппом в 338 г. до н. э. при посредничестве оратора Демада и носивший имя последнего (Демадов мир). Условия этого договора были для Афин в целом благоприятными, так как, уступив гегемонию над Херсонесом Фракийским македонскому царю, Афины сохраняли не только политическую независимость, но и свои традиционные владения: Лемнос, Имброс, Скирос и Саламин, к которым царь добавил еще и Самос. Делос также оставался под афинским протекторатом.
(обратно)
237
...никто... не будет объявлять причиной превосходства неприятельского военачальника над выставленными против него полководцами действия воинов ни с противной, ни с нашей стороны. — Причиной поражения союзных греческих войск при Херонее, по общему мнению греков, была бездарность афинских и фиванских военачальников, вследствие чего один из трех афинских стратегов — Лисикл — был даже приговорен к смертной казни.
(обратно)
238
Если же на кого из людей за это и следует возлагать вину, то на фиванцев... — Согласно одному из условий договора о военном союзе, верховное командование в Херонейском сражении осуществляли фиванцы.
(обратно)
239
...благодаря способу государственного правления. — Имеется в виду демократия.
(обратно)
240
...какой стойкостью они отличились, храня обычаи своих фил. — Традиционно всё афинское население делилось на филы, названия которых восходили к именам героев — мифических царей города, чьи статуи, согласно Павсанию, были установлены в Афинах перед зданием Совета Пятисот (см.: Описание Эллады. 1.5.1). Далее в своей речи Демосфен перечисляет все десять фил, соотнося подвиг погибших афинян с великими деяниями героев-эпонимов их общих родов.
(обратно)
241
...Эрехтей... ради спасения страны принес в жертву... своих дочерей, называемых Гиакинфидами. — Согласно легенде, дельфийский оракул предсказал Эрехтею, что тот сможет победить Эвмолпа и выиграть войну с Элевсином (см. примеч. 6), если принесет в жертву одну из своих дочерей. Узнав об этом, все четыре дочери Эрехтея добровольно отдали себя на заклание. Античная традиция именует дочерей Эрехтея Гиакинфидами — по названию холма Гиакинф, на котором они будто бы приняли жертвенную смерть.
(обратно)
242
...Тесей... первым установил равноправие в государстве. — Тесей почитался в Афинах как национальный герой, в заслугу которому ставили ограничение царской власти и установление демократии, а также ряд других важнейших государственных преобразований — объединение жителей Аттики в единый народ и единое государство, разделение граждан на три социальные группы — эвпатридов (аристократию), геоморов (земледельцев) и демиургов (ремесленников), учреждение праздника Панафиней и др.
(обратно)
243
...как Прокна и Филомела, дочери Пандиона, наказали Терея за оскорбление... — Согласно мифу, у афинского царя Пандиона было две дочери. Одну из них, Прокну, он отдал замуж за фракийского царя Терея. Но Терей, воспылавший страстью к ее сестре Филомеле, привез последнюю во Фракию и заточил в укромном месте, Прокну же заставил поверить в то, что ее сестра умерла. Опасаясь, что Филомела расскажет всем о случившемся злодеянии, Терей отрезал ей язык, однако она всё же нашла способ известить о себе сестру, выткав письмо на пеплосе (плаще). Разыскав и освободив Филомелу, Прокна жестоко за нее отомстила: она умертвила своего сына от Терея, Итиса, и накормила мужа его мясом, а затем вместе с сестрой бежала из дворца. Терей бросился за ними в погоню, но сестры взмолились о помощи к богам, и те превратили их в птиц — Прокну в соловья, а Филомелу в ласточку (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.14.8).
(обратно)
244
Слышали Леонтиды легенду о дочерях Леоя, как те принесли себя в жертву согражданам ради спасения страны. — Согласно легенде, у Леоя (Леонга), сына Орфея, было трое дочерей, обычно называемых Леокорами. Когда страну охватил великий голод, дельфийский оракул предсказал, что бедствие прекратится, если Леокоры принесут себя в жертву. Дочери Леоя приняли добровольную смерть. В их честь афиняне возвели святилище, называемое Леокорион. Согласно Диодору Сицилийскому, афинский оратор Фокион упоминал в своей речи о Леокорах, говоря об их поступке как о примере героизма (см.: Историческая библиотека. XVT1.15.2).
(обратно)
245
...стихи Гомера, где он рассказывает, как Акамант ради своей матери Эфры отправился в Трою. — Ни в «Илиаде», ни в «Одиссее» имя Акаманта не упоминается, однако оно фигурирует в киклических поэмах, приписывавшихся в древности Гомеру. Согласно мифу, после изгнания Тесея из Афин Акамант уехал на остров Эвбею, откуда позднее отправился вместе с остальными ахейцами в военный поход против Трои. После взятия Трои Акамант освободил мать Тесея Эфру, которая прежде была уведена в плен Диоскурами, захватившими Афидны, где Эфра сторожила Елену (см. примеч. 9 к «Меланкому»), а затем, согласно Гомеру, стала служанкой Елены, которая взяла ее с собой при бегстве из Спарты с Парисом (см.: Илиада. III. 143—144).
(обратно)
246
Не является тайной для потомков Энея, что Семела была дочерью Кадма и у нее был сын, чье имя не подобает произносить на этом кладбище, и от него родился Эней... — Погребение погибших происходило в Керамике — районе Афин, где находилось древнейшее городское кладбище (см. также примеч. 1). Под «потомками Энея» подразумевается одна из афинских фил, названная, как и прочие, по имени героя-эпонима. Однако здесь имеет место смешение двух мифологических персонажей. Эней, к которому возводили свой род афиняне, приходился побочным сыном афинскому царю Пандиону. Другой персонаж с тем же именем был сыном Порфаона, царя Этолии. Его имя возводилось античной традицией к греческому слову «вино» (οίνος), так как, по одной из версий мифа, сообщаемого Гитином, он первым получил в дар от бога Диониса виноградную лозу за то, что Дионис провел ночь с его женой Алфеей (см.:
Гигин. Мифы. 129). Иногда этого Энея называли сыном Диониса, который, в свою очередь, был сыном Зевса и Семелы — дочери царя Кадма, основателя Фив. Судя по всему, объединение характеристик двух различных мифологических героев в одном лице произведено Демосфеном сознательно и имеет под собой очевидную политическую подоплеку — стремление подчеркнуть историческую близость афинян и фиванцев, являвшихся союзниками в борьбе с македонской гегемонией и вместе сражавшихся в битве при Херонее.
(обратно)
247
...обоим городам... — Имеются в виду Афины и Фивы.
(обратно)
248
Знали Кекропиды о своем родоначальнике... — Мифическому царю Кекропу, имевшему облик получеловека-полузмеи и бывшему героем-эпонимом одной из афинских фил, приписывалось также возведение афинского Акрополя (называемого иногда Кекропией) и объединение всех жителей Аттики в составе двенадцати городов-государств.
(обратно)
249
Помнили потомки Гиппотоонта о браке Алопы, в результате чего родился Гиппотоонт... — Согласно легенде, Алопа, дочь элевсинского царя Керкиона, тайно родила от Посейдона сына Гиппотоонта. Новорожденного младенца Алопа подбросила пастухам, которые впоследствии вырастили и воспитали мальчика. Когда было установлено происхождение Гиппотоонта, Керкион повелел казнить свою дочь, однако ее спас Посейдон, превративший Алопу в водяной источник. Позже Тесей убил Керкиона и передал власть в Элевсине Гиппотоонту.
(обратно)
250
Хорошо известно потомкам Аякса о том, что Аякс, после того как был лишен награды за свои подвиги, посчитал свою жизнь невыносимой. — Согласно мифу, после смерти Ахилла Аякс Старший и Одиссей состязались за его доспехи. Когда же доспехи были присуждены Одиссею, Аякс впал в безумие, насланное на него Афиной. В приступе ярости он перебил стадо баранов, приняв его за ахейских вождей, а затем покончил с собой. Этому эпизоду посвящена трагедия Софокла «Аякс».
(обратно)
251
...которое <...> не знало <..> за всю вечность <...> ни более храбрых мужей, чем погибшие, ни более великих деяний. — В этом месте текст оригинала испорчен, однако общий смысл пассажа не вызывает сомнений.
(обратно)
252
...подобает воздать хвалу нашему городу за принятое им решение... — Получив в 323 г. до н. э. весть о смерти Александра Македонского, афиняне решили начать войну против Македонии, возглавив большое союзническое войско греков, в которое не вошли только спартанцы, коринфяне и беотийцы. Командование сухопутными силами взял на себя афинянин Леосфен.
(обратно)
253
...о чем припомнить в первую очередь! — Ср. похожее место у Демосфена: Надгробная речь. 15. Эпитафии классической эпохи составлялись по строго определенному плану, который предполагал последовательное раскрытие таких топосов, как похвала родословной погибших, их воспитанию и образованию, духовным и физическим качествам, деятельности и т. п.
(обратно)
254
...речь об афинянах — коренных жителях этого города... — См. примеч. 12 к «Надгробному слову...» Лисия.
(обратно)
255
...она разорена людьми, подкупленными Филиппом и Александром во вред своим родным городам... — Речь идет о Филиппе II и Александре Македонских. О том, что Филипп нередко пользовался в своей политике прямым подкупом, сообщает, в частности, Плутарх (см.: Изречения царей и полководцев. 178b).
(обратно)
256
...он победил тех. кто первым воспрепятствовал свободе эллинов — беотийцев, македонян, эвбейцев и прочих союзников их. — сразившись с теми в Беотии. — Беотийцы, будучи союзниками македонян, пытались помешать греческому войску пройти через свои земли, но потерпели поражение летом 323 г. до н. э. в битве при Платеях.
(обратно)
257
Двинувшись оттуда в Пилы... — Хронологическая неточность. На самом деле Фермопилы (Пилы) были заняты Леосфеном в самом начале военной кампании — с целью обезопасить северные рубежи Греции от вторжения македонян. Однако впоследствии, опасаясь нападения беотийцев с тыла, полководец с частью войска отправился из Фермопил в Беотию, где разгромил противника вблизи Платей (см. примеч. 6), а затем вернулся обратно. Таким образом, битва в Беотии, о которой упоминает Гиперид, произошла уже после захвата Фермопил.
(обратно)
258
...заняв проход, через который и в прежние времена варвары проникали к эллинам... — См. примеч. 21 к «Надгробному слову...» Лисия.
(обратно)
259
...он помешал вторжению Антипатра в Элладу... — Поначалу благодаря численному и стратегическому превосходству своей армии Леосфен добился значительных успехов — македонское войско во главе с Антипатром вынуждено было отступить в Фессалию.
(обратно)
260
..Антипатра... он запер в Ламии и начал осаду города. — Осенью 323 г. до н. э. в сражении при Гераклее Трахинской македоняне были наголову разбиты союзнической армией Леосфена. В ожидании помощи из Азии и Малой Фригии, где на тот момент находилась основная часть македонской армии, Антипатр укрылся в Ламии. Греки окружили его и начали планомерную осаду, продолжавшуюся около полугода. Однако неожиданная гибель Леосфена под стенами города и последовавшее за тем поражение греков в битве при Кранноне (322 г. до н. э.) решили исход войны, в результате которой Греция окончательно потеряла свою политическую независимость.
(обратно)
261
...но и за то сражение, каковое произошло позднее... — Имеется в виду битва, произошедшая в 322 г. до н. э. в Фессалии между греческим войском под командованием Антифила (который сменил погибшего при осаде Ламии Леосфена) и македонской армией во главе с Леоннатом. Благодаря успешным маневрам фессалийской конницы, сражавшейся на стороне греков, и численному превосходству греческого войска, македонская пехота, лишившаяся к тому же своего главнокомандующего (Леоннат пал в бою), вынуждена была отступить к Македонии.
(обратно)
262
...битва при Пилах... — Имеется в виду битва при Гераклее Трахинской, находившейся по соседству с Фермопилами (см. примеч. 10).
(обратно)
263
...но... и потому, что эта битва состоялась именно здесь. — В наиболее широкой части Фермопильского ущелья, близ горы Анфелы, располагался храм Деметры Амфиктионийской, а также общественные здания, где проходили собрания членов союза Амфиктионов — унии соседствующих с Дельфами греческих племен (фокейцев, фессалийцев, беотийцев, афинян и спартанцев), известной также как Дельфийская Амфиктиония. Первоначально этот союз был создан ради совместного проведения религиозных праздников, впоследствии служил для охраны дельфийского святилища Аполлона, храма Деметры и для надзора за Пифийскими играми, а вскоре приобрел еще и политическое значение, поскольку устанавливал важнейшие нормы международного права, действовавшие как в мирное, так и в военное время.
(обратно)
264
Ибо все эллины, приходящие в Пилы дважды в год... — Неточность автора. Союз Амфиктионов, действительно собиравшийся дважды в год, проходил в разных местах: весной — в Дельфах, а осенью — у подножия горы Анфелы. См. также примеч. 13.
(обратно)
265
...а славу, заслуженную подвигами, в качестве победного венка даровали отечеству. — Почетные венки, полученные в награду за победу в общегреческих состязаниях (см. примеч. 16 к «Надгробной речи Этеонею»), по возвращении победителей на родину жертвовались в местные храмы.
(обратно)
266
...так что насилие над женщинами, девушками и детьми <..> не прекращалось бы по всей земле. — Здесь текст рукописи испорчен, вследствие чего смысл пассажа можно восстановить лишь приблизительно.
(обратно)
267
...жертвоприношения совершаются в честь людей', сооружением статуй, алтарей и храмов для богов пренебрегают — зато старательно возводят их для тех, чьих слуг мы вынуждены почитать как героев. — Аллюзия на «Панегирик» Исократа, где говорится об обожествлении царя у персов — обычае, который казался грекам варварским и оскорбляющим богов (см.: 151).
(обратно)
268
Ведь без политической независимости нет и полного счастья. — Из-за порчи текста в этом месте смысл пассажа удается восстановить лишь приблизительно.
(обратно)
269
Или сверстникам! <...> — Дальнейший текст испорчен. Кеньон восстанавливает смысл данного пассажа следующим образом: «Поскольку те достойно погибли в бою, им самим выпал шанс жить дольше и в большей безопасности» (Hyperides 1906: 52).
(обратно)
270
И разве справедливо не считать их счастливыми при столь великом почете, который им оказывают! <...> — В этом месте рукопись сильно повреждена, и смысл дальнейшего пассажа, с учетом конъектур Бласса (см.: Hyperidis 1894: 90) и Кеньона (см.: Hyperidis 1906: 53), восстанавливается приблизительно так: «Кто из поэтов и философов пожалеет своих речей и песен, чтоб рассказать эллинам об их подвигах? Кто не будет славить эту победоносную экспедицию больше, чем экспедицию фригийцев? По всей Греции будет восхваляться она во всех речах и песнях. Ибо подвиг самого Леосфена и подвиги тех, кто погиб вместе с ним на войне, вдвойне заслуживают того, чтобы их воспели».
(обратно)
271
...что может быть приятней для эллинов, нежели похвала тем, кто отстоял их независимость от македонян! — Несмотря на то, что Ламийская война окончилась поражением объединенного греческого войска, Гиперид, следуя канонам жанра, не только об этом умалчивает, но и намеренно преувеличивает результаты военной деятельности Леосфена.
(обратно)
272
...те с помощью всей Эллады завоевали один-единственный город, он же с помощью одного своего родного города усмирил силу, властвовавшую над всею Европой и Азией. — Ср. параллельные места в «Панегирике» (см.: 83, 186) и «Эвагоре» (см.: 65) Исократа, а также в «Надгробной речи» Демосфена (см.: 10—11), из которых Гиперид, вероятно, и позаимствовал это сравнение.
(обратно)
273
...те полубоги отомстили за поруганную честь только одной женщины... — Такая же мысль высказывается Исократом в «Панегирике» (см.: 181—182). Однако если это и предыдущее сравнение эллинов с троянскими героями Исократ употребляет в разных местах речи, то Гиперид объединяет их в одном пассаже, что придает его рассуждению гораздо большую силу и убедительность.
(обратно)
274
...я имею в виду соратников Мильтиада, Фемистокла... — Речь идет о двух афинских государственных деятелях и военачальниках эпохи Греко-персидских войн. Под командованием Мильтиада греки разбили персов в битве при Марафоне (см. примеч. 15 к «Надгробному слову...» Лисия), а Фемистокл одержал ряд побед в морских сражениях, главной из которых была победа афинского флота при острове Саламине (см. примеч. 23 к «Надгробному слову...» Лисия).
(обратно)
275
...я говорю о Гармодии и Аристогитоне... — См. примеч. 31 к «Надгробной речи Этеонею».
(обратно)
276
...равно тяжело найти слова утешения для тех, кто переживает такое горе. Ибо его нельзя умягчить ни речью, ни законом... — Аллюзия на пассаж из «Персов» Эсхила. См. примеч. 3 к «Монодии Смирне».
(обратно)
277
Ибо если плач... — Речь идет о надгробном плаче — особом жанре народной поэзии, который был связан у греков с ритуалом погребения и некоторыми религиозными праздниками. См. также примеч. 1 к «Надгробной речи Этеонею».
(обратно)
278
...энкомия, что составлен по всем правилам... — См. примеч. 4 к «Надгробной речи Александру».
(обратно)
279
...никогда не вступил бы в ту пору, когда померкла бы его красота. — Вероятно, аллюзия на «Пир» Ксенофонта. Ср.: «Разумеется, не следует умалять достоинство красоты за то, что она скоро отцветает: как ребенок бывает красив, так равно и мальчик, и взрослый, и старец» (IV. 17.
Пер. С.И. Соболевского).
(обратно)
280
...он, бесспорно, был близок к некой божественной форме. — Учение о божественном происхождении красоты развивал, в частности, Платон (см.: Федр. 249d сл.).
(обратно)
281
Красоту же нелъзя укрытъ, ибо она является вам вместе со своим обладателем. — Рассуждение о силе красоты, по всей видимости, также восходит к Платону (ср.: Федр. 250d—е).
(обратно)
282
...при помощи... взаимного захвата... — Имеется в виду борцовский прием (совр. «клинч»), к которому атлет прибегал для сковывания атакующих действий противника.
(обратно)
283
...тем, что позднее противостояли варварам в Греции. — Имеются в виду участники Греко-персидских войн.
(обратно)
284
...исключая разве Ганимеда', ибо тот не успел совершить ничего выдающегося, поскольку еще ребенком был похищен из мира людей. — Согласно легенде, Ганимед, сын троянского царя Троса, полюбился Зевсу своей красотой и был вознесен на Олимп, где служил виночерпием на пирах богов (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.12.2).
(обратно)
285
Ни об Адонисе, ни о Фаоне... нам больше ничего не известно. — Речь идет о двух юношах, чьи имена стали олицетворением красоты. Согласно легенде, растерзанного вепрем Адониса влюбленная в него Афродита превратила в цветок анемона (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.14.4); Фаону же богиня даровала чудесное снадобье, сделавшее его прекрасным и юным и возбуждавшее к нему любовь всех женщин (см.:
Элиан. Пестрые рассказы. XII.18).
(обратно)
286
...не похитил бы силой Елену... — Среди прочих древнегреческих героев Тесей особенно выделялся бесстрашием и дерзостью. В частности, ему удалось похитить Елену, дочь спартанского царя Тиндарея и Леды, и поселить ее в доме своей матери Эфры в Афиднах (по другой версии мифа — в Трезене). Однако в отсутствие Тесея, отправившегося в Аид со своим другом Пирифоем, чтобы добыть ему в жены царицу подземного мира Персефону, братья Елены, Кастор и Полидевк, освободили девушку и вернули ее в Спарту. Позднее Елену, вышедшую замуж за Менелая, похитил царевич Приам, что стало причиной Троянской войны.
(обратно)
287
...не вступил бы под Троей в спор из-за того, по поводу чего он стал спорить. — Согласно мифу, в ходе одного из набегов ахейцев на малоазийские города во время осады Трои знаменитый герой Ахилл получил в качестве трофея прекрасную пленницу — Брисеиду. Однако царь Агамемнон, верховный предводитель греческого войска, отнял ее у Ахилла, чем вызвал яростный гнев героя, ставший причиной многих неудач ахейцев в дальнейших сражениях с троянцами. Сценой спора Ахилла и Агамемнона из-за Брисеиды открывается действие поэмы Гомера «Илиада» (см.: 1.121 сл.).
(обратно)
288
Ипполиту хоть и
была свойственна выдержка... — Согласно преданию, Ипполит, сын Тесея и Антиопы, презирал любовные утехи и увлекался охотой, почитая одну лишь богиню-охотницу Артемиду. Оскорбленная пренебрежением Ипполита к себе, Афродита внушила его мачехе Федре преступную страсть к пасынку. Когда же Ипполит отверг любовь мачехи, Федра оклеветала его перед Тесеем, обвинив в любовных домогательствах. За это Тесей проклял сына, и тот вскоре погиб, разбившись на колеснице (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Э.1.18—19). Данный миф положен в основу сюжета трагедии Еврипида «Ипполит».
(обратно)
289
...ни о ком из выдающихсямужей прошлого мы не слыхали, чтобы он прожил долгую жизнь: ни о Патрокле, ни об Антилохе, ни о Сарпедоне, ни о Мемноне, ни об Ахилле, ни об Ипполите. — Дион Хрисостом перечисляет героев Троянской войны, умерших в юном возрасте и притом трагической смертью. Патрокл, облачившись в доспехи своего соратника и друга Ахилла и управляя его колесницей, запряженной бессмертными конями, обратил в бегство троянцев, но затем был убит троянским царевичем Гектором; описанию подвигов и гибели Патрокла посвящена шестнадцатая песнь «Илиады». Антилох, согласно мифу, погиб героической смертью, спасая своего отца Нестора от натиска Мемнона; об этом эпизоде упоминается в шестой пифийской оде Пиндара (см.: 28—34). Предводитель ликийцев Сарпедон особенно отличился во время нападения на лагерь ахейцев, однако впоследствии пал от руки Патрокла (см.:
Гомер, Илиада. XVL419 сл.). Царь эфиопов Мемнон после гибели Гектора пришел на помощь троянцам, но был убит разгневанным Ахиллом (см.:
Квинт Смирнский. После Гомера. II.666—679). Ахилл же, как известно, погиб от стрелы Париса, пущенной рукой Аполлона и поразившей его в пяту — единственное уязвимое место. О гибели Ипполита см. примеч. 11.
(обратно)
290
Не были долгожителями... беотийцы От и Эфиалът... — Согласно легенде, великаны Эфиальт и От угрожали богам тем, что доберутся до самого неба, взгромоздив на Олимп горы Оссу и Пелион, однако за свою дерзость были сражены Аполлоном (см.:
Гомер. Одиссея. XI.307—320).
(обратно)
291
...коих Гомер называет самыми статными и красивыми людьми после Ориона... — Ср.: Одиссея. XI.308—310. Легендарный охотник Орион отличался красотой и огромным ростом, за который его прозвали великаном. По одной из версий мифа, он был застрелен из лука Артемидой при попытке силой овладеть девой Опидой (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. 1.4.3—4), по другой же — погиб, будучи укушен скорпионом, которого на него наслала Гея за то, что он преследовал дочерей Атланта (Плеяд). После своей смерти Орион, как скорпион и Плеяды были превращены в созвездия.
(обратно)
292
...я не стал бы хвалить Гомера, сказавшего, что и песок, и доспехи были орошены слезами ахейцев. — Имеется в виду описываемое в «Илиаде» горе ахейцев по поводу смерти Патрокла (см.: XXIII.12—16).
(обратно)
293
После того как Гомер не прошел без жалости даже мимо гибели растения, но... оплакивает его. словно своего отпрыска... — Аллюзия на эпизод из «Илиады» Гомера, где гибель троянца Эвфорба от руки Менелая сравнивается с гибелью оливкового дерева, с корнем вырываемого бурей из земли (см.: XVII.53—60).
(обратно)
294
...город Никомеда... — Имеется в виду Никомедия, главный город Вифинии, основанный в 264 г. до н. э. царем Никомедом I, в честь которого и получил свое название; до включения Вифинии в состав Римской империи (ок. 75 г. до н. э.) являлся столицей этого государства. С 286 по 324 г. н. э. Никомедия была столицей восточной части Римской империи, а с 324 по 330 г. н. э. — фактически столицей всего государства, пока Константин не провозгласил близлежащий Византий «Новым Римом» и не перенес столицу туда (см. также примеч. 19).
(обратно)
295
...где я развил то красноречие, каковым обладал, и приобрел ту славу, каковой не обладал... — Либаний пробыл в Никомедии несколько лет (с 344 по 349 г. н. э.) и вел там активную и деятельную жизнь, входя в высшие круги интеллектуальной элиты города: состязался в красноречии со знаменитыми ораторами Гимерием и Фемистием, а также приобрел большое количество учеников и почитателей своего творчества (см.:
Либаний. Жизнь, или О собственной доле. 55). За время пребывания в Никомедии слава Либания возросла настолько, что его сочинения пользовались известностью далеко за пределами города (см.: Monnier 1866: 97; Sievers 1868: 57).
(обратно)
296
...этот недавно город, а ныне прах — оплакивать молча... — Характерный для эпидейктических жанров, в том числе для эпитафия и монодии, топос сетования автора на собственное бессилие. Ср. с проэмием Аристида к «Элевсинской речи» и «Монодии Смирне».
(обратно)
297
Или городу самому придется взяться за произнесение речей, кои он взлелеял! — В годы правления Диоклетиана, а затем и Константина Великого Никомедия, являясь сначала резиденцией императора (см. примеч. 19), а затем и временной столицей государства (см. примеч. 2), превратилась в крупный культурный центр Римской империи, где в особенности процветало ораторское искусство, в связи с чем Никомедию даже называли «вифинскими Афинами».
(обратно)
298
...исполнил бы плач в виде скорбной песни. — Имеется в виду трен, древнейший жанр лирической поэзии, служивший для оплакивания покойных. См. также примеч. 1 к «Надгробной речи Этеонею».
(обратно)
299
Разве некогда ты, Посейдон... сердясь на греков за укрепление, каковое те воздвигли перед кораблями в Илионе, не винил их более всего в том, что они заложили его, пренебрегши волею богов? И потому, как только Илион был взят, ты... счел нужным... укрепление разрушить... повелев рекам... хлынуть на него. — Отсылка к двум соответствующим эпизодам «Илиады» Гомера (см.: VII.445—453; XII.17-33).
(обратно)
300
Чем же не удовольствовавшись при возведении сего города, принял ты подобное же решение? — В древности Посейдон почитался прежде всего как бог землетрясений, о чем свидетельствует постоянно употребляющийся по отношению к нему в эпосе эпитет «земли колебагель» (см.:
Гомер. Илиада. VII.445; XIII.34; Одиссея. V.282, 366; Гомеровы гимны. XXII.4;
Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. II.125).
(обратно)
301
...первый заселитель, принимаясь за основание города в ином месте, супротив ныне существующего... — Новый город был основан Никомедом I недалеко от древней мегарской колонии Астак, существовавшей с 712 г. до н. э. и разрушенной впоследствии Лисимахом. Согласно Страбону, жители Астака были переселены во вновь основанную Никомедию (см.: География. XII.4.2).
(обратно)
302
...не начал дело с вас... — Оратор обращается к упомянутым выше богам.
(обратно)
303
...огромный, каковых... взращивает Индия... — Легенда о существовании «огромных» индийских змеев была широко распространена в античности. Плиний Старший говорит, например, что в Индии водятся змеи столь огромных размеров, что целиком могут заглотить быка или оленя (см.: Естественная история. VIII. 14.36).
(обратно)
304
...вы... направили его усердие к противоположному берегу посредством орла и змея ~ а люди сопровождали их в уверенности, что следуют за богами, словно путеводителями. — Данный пассаж имеет несомненное сходство с легендой об основании Селевком Антиохии (см.:
Либаний. Похвала Антиохии. 86—98).
(обратно)
305
...город захлестывает волна войны. — Имеется в виду ряд практически непрерывных войн, которые велись царями Вифинии Никомедом III Эвергетом и особенно его сыном, Никомедом IV Филопатором, против понтийского царя Митридата VI Евпатора. В так называемой Первой Митридатовой войне (89—85 гг. до н. э.) Никомед IV выступал в качестве союзника римлян, однако в 88 г. до н. э. его войско потерпело поражение в битве при Амнии, сам же царь бежал на Родос, а затем в Рим. Дальнейшие военные действия против Митридата возглавил в 87 г. до н. э. римский полководец Луций Корнелий Сулла, сумевший в конце концов разгромить понтийскую армию в Орхоменском сражении (85 г. до н. э.). В результате между Римом и Понтом был в том же году заключен Дарданский мир, по которому Никомед IV обязывался возвратить захваченные в Греции и Малой Азии римские провинции, а также передавал Сулле часть флота.
(обратно)
306
...Коринф, коим ты владел... — Согласно мифу, Посейдон выиграл спор с Гелиосом за обладание Коринфом. Великан Бриарей, бывший судьей в этом споре, присудил Истмийский перешеек и всё, что на нем расположено, Посейдону, а вершину горы, возвышающейся над городом (Акрокоринф), — Гелиосу (см.:
Павсаний. Описание Эллады. II.1.6; 4.7).
(обратно)
307
...земля Кекропа, каковую ты возлюбил... — Согласно легенде, Кекроп выступал судьей в споре между Афиной и Посейдоном за обладание Аттикой. Состязаясь, кто поднесет жителям лучший дар, Посейдон высек трезубцем из земли источник морской воды, а Афина вырастила оливковое дерево. Кекроп присудил победу богине (см.:
Геродот. История. VIII.55;
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.14.1).
(обратно)
308
...и Коринф... и земля Кекропа... подверглись тому же. — В 87 г. до н. э. Луций Корнелий Сулла, назначенный римлянами полководцем в войне с Митридатом, высадился с пятью легионами в Греции и начал осаду Афин, бывших в то время союзником понтийского царя. После многомесячной осады войска Суллы штурмом овладели городом (86 г. до н. э.), устроив там жестокую резню и произведя большие разрушения. Значительно раньше, в ходе Коринфской войны римлянами под командованием Луция Муммия был захвачен и полностью уничтожен Коринф (146 г. до н. э.), а Греция навсегда утратила независимость и превратилась в римскую провинцию.
(обратно)
309
Является второй заселитель, более всех властителей признававший богов вождями... — По всей видимости, речь идет об императоре Диоклетиане, известном своей особой приверженностью к язычеству и суровыми гонениями на христиан. См. также примеч. 19.
(обратно)
310
...превзошедши Креза величиною жертвы... — Имеется в виду последний царь Лидии, чье имя еще в древности вошло в многочисленные пословицы и поговорки. В частности, Крез славился своими несметными богатствами и щедрыми пожертвованиями в греческие храмы, особенно в святилище Аполлона в Дельфах, куда он среди прочего послал однажды статую льва, отлитую из чистого золота (см.:
Геродот. История. 1.50).
(обратно)
311
...он с вашего соизволения восстановил город. — После того как император Диоклетиан установил тетрархию, разделив власть в государстве между четырьмя соправителями (двумя августами и двумя цезарями), Никомедия стала столицей восточной части Римской империи, где находилась резиденция императора. По свидетельству Лактанция, в этот период в Никомедии были развернуты широкомасштабные работы по строительству всевозможных частных и общественных зданий (см.: О смерти гонителей. VII.8—10).
(обратно)
312
...наказание, подобное Энееву... для Этолии? — Речь идет о следующем мифе. Эней, царь этолийского города Калидона, принося ежегодные благодарственные жертвы богам, забыл об Артемиде; за это разгневанная богиня наслала на город страшного вепря, уничтожавшего посевы и губившего людей (см.:
Гомер. Илиада. IX.529—546). В охоте на вепря, получившей по этому месту название Калидонской, принимали участие храбрейшие воины Греции — Кастор и Полидевк, Тесей, Нестор, Ясон и др., однако сразить зверя удалось лишь сыну Энея Мелеагру.
(обратно)
313
...ты вступил в спор с родственницей... — Речь идет об Афине (см. также примеч. 15).
(обратно)
314
...в Акрополе, столь далеком от моря, поднял морской шум... — Намек на источник морской воды, который Посейдон высек из земли в дар афинянам (см. примеч. 15).
(обратно)
315
...великий и прекрасный город не только не возлюбил, но даже пошатнул его основание! — См. примеч. 8.
(обратно)
316
Размерами он уступал лишь четырем... — Самыми крупными городами Римской империи по количеству проживавшего в них населения являлись Рим, Константинополь, Антиохия и Александрия (см.: Stark 1996).
(обратно)
317
...перерезаемый двумя парами портиков, проходящими через весь город... — Похожее описание Антиохии Либаний дает и в другой своей речи (см.: Похвала Антиохии. 196—202).
(обратно)
318
Курия — провинциальный сенат, а также здание, в котором собирались его члены — куриалы или декурионы.
(обратно)
319
...направляясь туда из Никеи... — В Никее (куда он прибыл по приглашению городского совета) Либаний провел какое-то время, исполняя обязанности учителя риторики, после чего по распоряжению наместника Вифинии, удовлетворившего просьбу никомедийского городского совета, был переведен на должность софиста в Никомедию (см.:
Либаний. Жизнь, или О собственной доле. 48; о звании софиста подробней см. примеч. 9 к «Надгробной речи Александру»).
(обратно)
320
Стадий — мера длины у греков, равная примерно 178 м.
(обратно)
321
...ни хребты пажитей... — Переосмысленная у Либания гомеровская метафора моря. О «хребтах моря» у Гомера см.: Илиада. II.159; XX.228; Одиссея. III.142 и т. д.
(обратно)
322
...дворец, сверкающий в заливе... — Имеется в виду дворец Диоклетиана (см. примеч. 19).
(обратно)
323
...театр, сияющий надо всем городом... — Вероятно, речь идет о театре, возведенном либо во времена Диоклетиана, либо при Константине I, когда Никомедия усиленно застраивалась.
(обратно)
324
О божество, какой локон вселенной ты унесло! Как ты ослепило другой материк, выбив славное око! — Ср.:
Элий Аристид. Монодия Смирне. 8.
(обратно)
325
Кто обладает столь каменным, столь стальным сердцем... — Аллюзия на эпизод в «Илиаде» Гомера, где Аполлон, ободряя троянцев и стремясь разуверить их в неуязвимости ахейцев, говорит, что «их груди не камень, тела не железо» (IV.510.
Пер. Н.И. Гнедича). Ср. с другим местом у Либания, в котором приводится эта же цитата Гомера: «<...> ведь не камень у них тело и не железо» (Хвалебное слово царям, в честь Констанция и Константа. 145.
Пер. С.П. Шестакова). Ср. также:
Элий Аристид. Монодия Смирне. 1.
(обратно)
326
О несчастный луч, на какой город упал ты на восходе и какой покинул на закате! — Исходя из этой фразы Либания, можно заключить, что землетрясение произошло в течение одного дня; согласно Константинопольским консуляриям (римским консульским спискам), это было 25 августа 358 г. н. э. (см.: ChM 1892: 239; Libanii opera 1903—1927/IV: 322). По свидетельству Аммиана Марцеллина, катастрофа началась на рассвете и завершилась «после второго часа дня, задолго до исхода третьего» (Римская история. XVTI.7.5), т. е. между 8 и 9 часами утра.
(обратно)
327
Недолго оставалось до времени, когда площадь заполняется народом... — Имеется в виду промежуток с 9 часов утра до полудня.
(обратно)
328
...и он был подобен брошенному кораблю. — Сравнение находящегося в бедственном положении города (государства) с тонущим кораблем — устойчивый мотив в греческой литературе, восходящий еще к архаической поэзии (ср., например:
Алкей. Фр. 18 Bergk).
(обратно)
329
...вокруг правителя. — Имеется в виду Аристенет, близкий друг Либания, смерть которого оратор тяжело переживал (см.:
Либаний. Жизнь, или О собственной доле. 118; Письма. 25, 31). Об ужасных обстоятельствах кончины Аристенета сообщает и Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XVTL7.6).
(обратно)
330
И корни города уже не держались крепко ~ обширный прежде город ныне являет собой обширный холм. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVII.7. 1-8.
(обратно)
331
О всевидящий Гелиос, что же с тобою стало, когда ты взирал на всё это? — Ср.:
Элий Аристид. Монодия Смирне. 7.
(обратно)
332
Ведь из-за быков, на коих покусились изголодавшиеся моряки, ты пустил в ход все средства и даже грозил небожителям предаться Плутону... — Аллюзия на эпизод из «Одиссеи» Гомера, в котором рассказывается о том, как на острове Тринакрии спутники Одиссея, не послушавшись предостережений последнего, убили и съели священных быков Гелиоса, за что разгневанный бог потребовал от Зевса наказать святотатцев. В противном случае Гелиос грозился навсегда покинуть землю и скрыться в Аиде (см.: XII.260—388).
(обратно)
333
...который уподобился лукавому коню, сбросивши со своего хребта прекрасного седока). — Ту же метафору Либаний использует в «Надгробной речи Юлиану» (см.: 292).
(обратно)
334
Где теперь улицы? Где портики? Где дороги? Где источники? Где площади? Где школы? Где священные участки? Где то богатство? Где юность? Где старость? — Ср.:
Элий Аристид. Монодия Смирне. 6.
(обратно)
335
...бани самих Харит и Нимф, из коих самая обширная, названная по имени построившего их царя, стоит целого города? — Помимо своего основного, гигиенического, назначения бани (термы) являлись в античности местом сосредоточения городской жизни, служа для отдыха, спортивных упражнений, делового и культурного общения. Многие такие бани были оборудованы гимнастическими залами, библиотеками, помещениями для литературных и музыкальных выступлений, комнатами отдыха и местами для прогулок на открытом воздухе. Либаний в автобиографии сообщает, что во время пребывания в Никомедии ему не раз приходилось читать лекции и вести занятия со своими учениками в общественных банях (см.: Жизнь, или О собственной доле. 55). Имя императора, при котором создавались упоминаемые Либанием бани, с точностью установить невозможно, однако предположительно это мог быть Диоклетиан, известный не только возведением самых больших общественных бань в Риме (вмещавших до 3200 человек), но и широкомасштабными строительными работами в самой Никомедии, которую он стремился сделать во всём подобной Риму (см.:
Лактанций. О смерти гонителей. VTI.8—10).
(обратно)
336
Вошли в пословицу «лемносские беды»... — Появление этой пословицы, согласно Геродоту (см.: История. VL138), связано с древним аттическим преданием, отражающим период борьбы пришедших в Аттику ионийцев с пеласгами, ее коренными жителями, и вытеснение последних с их исконной земли, откуда пеласги переселились сначала в Фессалию, а затем, вероятно, на Лемнос. Согласно этому преданию, первоначально пеласги получили от афинян разрешение остаться в Аттике (им была выделена земля у подножия горы Гиметт) в благодарность за то, что они возвели стену вокруг афинского Акрополя, но затем были все-таки изгнаны. Осевши в конце концов на острове Лемносе, пеласги решили отомстить афинянам, похитив афинских женщин, справлявших в Бравроне праздник в честь Артемиды. Привезя их на Лемнос, пеласги сделали афинянок своими наложницами. Многочисленные дети, родившиеся от этих союзов и воспитанные матерями в соответствии с аттическими обычаями, стали держаться обособленно и открыто презирали детей пеласгов. Тогда, испугавшись того, что, возмужав, дети афинянок захватят власть на Лемносе, пеласги перебили их вместе с матерями. Это чудовищное злодеяние пеласгов доставило им печальную известность среди греков. Кроме того, существовало предание и о другом преступлении, также совершившемся на Лемносе. Так, однажды лемносские женщины забыли принести жертву Афродите, чем прогневали богиню, и та в наказание наслала на них ужасное зловоние. Когда же мужья лемниянок стали изменять тем с фракиянками, лемниянки, желая отомстить, перебили всех мужчин на острове. С тех пор, как поясняет Геродот, все самые страшные преступления в Элладе стали называть «лемносскими».
(обратно)
337
...«Илиада бедствий»... — Имеются в виду всевозможные тяготы и лишения, испытанные ахейцами и троянцами во время Троянской войны и описанные Гомером в поэме «Илиада».
(обратно)
338
...и пусть охватит вселенную тот вопль, что раздавался в Египте при смерти Аписа! — В древнеегипетской религии священный бык Апис считался земным воплощением верховного бога Птаха, а позднее — одной из ипостасей вечно умирающего и вновь воскресающего бога Осириса, иногда отождествляемого с самим Аписом. Центром его культа был Мемфис, резиденция египетских фараонов; там же находился и храм этого божества (см.:
Геродот. История. II.153;
Страбон. География. XVIII. 1.31). В честь Аписа египтяне каждый год справляли праздник — в ознаменование ежегодного обновления воды в Ниле. Когда священный бык умирал, его бальзамировали и хоронили по особому обряду в Серапеуме — храме, посвященном богу Серапису, — неподалеку от Мемфиса. После этого жрецами из большого числа животных выбирался новый Апис: бык обязательно должен был быть черный, с белыми отметинами на лбу (в виде четырехугольника) и на спине (в виде орла) (см.:
Геродот. История. III.28).
(обратно)
339
Ныне подобало бы, чтобы слезы даны были скалам и разум птицам для сообщества в плаче! — Ср.:
Элий Аристид. Монодия Смирне. 9.
(обратно)
340
...будучи гораздо страшнее для торговцев, нежели жилище Скиллы. — Описанию Скиллы, не пощадившей и спутников Одиссея, посвящен один из эпизодов поэмы Гомера (см.: XII.85—100).
(обратно)
341
...которые не идут более по лунообразному и тенистому пути, что привлекательно вился по краю залива... — О подковообразной панораме города см. п. 7 наст. речи.
(обратно)
342
Харибда. — Описание этого чудовища имеется в «Одиссее» Гомера (см.: XII. 101—106). Как известно, Одиссей со своими спутниками, последовав совету Кирки, сумел избежать двойной опасности, грозившей ему со стороны Харибды и Скиллы (см.: XII.222—259).
(обратно)
343
Но есть для любящего некоторое утешение и в том, чтобы обнять лежащий мертвым предмет любви своей. — Либаний обращается к приему олицетворения, уподобляя город живому существу, что придает финальной части речи особый пафос.
(обратно)
344
...ни красивым, ни великим не назовем, мы более этот город... — Имеется в виду Антиохия.
(обратно)
345
<...>. — Основываясь на свидетельстве Иоанна Златоуста (см.: О святом Вавиле против Юлиана и язычников. 18), можно заключить, что содержание этого несохранившегося пассажа (вплоть до п. 2) было посвящено легенде об основании святилища и связанному с ней мифу о Дафне и Аполлоне (см. примеч. 6).
(обратно)
346
Когда царъ персов... — Речь идет о шахиншахе Персии Шапуре I, ведшем успешные войны против римлян.
(обратно)
347
...того, кто воюет ныне... — Имеется в виду Шапур II Великий, шахиншах Персии из династии Сасанидов, который на протяжении своего царствования вел практически непрерывные войны с Римом, завершившиеся присоединением к государству Сасанидов множества территорий, включая северную Месопотамию. Кроме того, в правление Шапура II персы активно воевали на Востоке, и в состав их империи вошли некоторые области Средней Азии.
(обратно)
348
...взяв город изменою и сжегши его... — В 255 г. н. э. персидская армия, возглавляемая Шапуром I, вторглась в Сирию и разорила множество римских городов, в том числе Антиохию. Как сообщает Аммиан Марцеллин, персы перебили немало жителей, а сам город разграбили и подожгли. В случившемся был обвинен член городского совета Антиохии Мариад, которого в наказание приговорили к сожжению заживо (см.: Римская история. XXIII.5.3).
(обратно)
349
...двинулся на Дафну... — Речь идет о предместье Антиохии, в котором находилась священная роща со знаменитым храмом Аполлона, построенным Селевком I Никатором. Согласно преданию, во время охоты Селевк оказался в тех местах, где некогда прекрасная нимфа Дафна, преследуемая влюбленным в нее Аполлоном, была превращена богами в лавровое дерево (см.:
Овидий. Метаморфозы. 1.452—567). Когда лошадь принесла Селевка к тому самому дереву, он увидел чудесное знаменье — сначала его лошадь, ударив копытом, выбила из-под земли золотой наконечник стрелы, на котором было написано «Феба» (Феб — одно из имен Аполлона), а затем появился шипящий змей с поднятою вверх головой, который кротко взглянул на царя и исчез. Повелев построить на том месте храм и насадить вокруг деревья, Селевк посвятил этот храм Аполлону, а участок окрестной земли назвал Дафной (см.:
Либаний. Похвала Антиохии. 94—99). В древности это место считалось неприкосновенным — в частности, там запрещалось рубить деревья (см.:
Либаний. Жизнь, или О собственной доле. 262). Подробное описание Дафны встречаем у Флавия Филострата (см.: Жизнь Аполлония Тианского. 1.16).
(обратно)
350
...бог переменил его образ мыслей, и тот, бросив факел, поклонился Аполлону. — Ср. с похожим описанием безуспешного военного похода Сфодрия на Элевсин:
Элий Аристид. Элевсинская речь. 7.
(обратно)
351
...красота статуи... — В правление царя Антиоха IV Эпифана на месте старого храма Аполлона был сооружен новый, более величественный и монументальный. Внутри него помещалась огромная деревянная статуя самого божества, видом и размерами подобная знаменитой статуе Зевса в Олимпии (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.13.1).
(обратно)
352
...кто и откуда этот враг, который, не имея нужды ни в гоплитах, ни во всадниках, ни в легковооруженных воинах, всё истребил малой искрой... — По какой причине в храме начался пожар, доподлинно не известно. Согласно одной из версий, получившей официальный характер, храм подожгли христиане, недовольные возведением вокруг него нового великолепного портика; по другой версии, в случившемся был повинен некий философ Асклепиад, якобы оставивший на ночь в храме зажженный светильник, искры от котрого, попав на деревянную поверхность статуи, и вызвали пожар (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII. 13.2—3).
(обратно)
353
Храм наш даже... великий потоп не разрушил, а... когда прошла уже туча, он низвергнут... — Иоанн Златоуст, комментируя это место, поясняет, что под «тучей» и «потопом» подразумевается время царствования персидского царя Шапура I (см.: О святом Вавиле против Юлиана и язычников. 18).
(обратно)
354
...будучи и оскорбляем, и лишаем наружного украшения, ты это терпел. — Намек на запрет языческой религии и культов, действовавший со времен Константина Великого (см. примеч. 15 к «Монодии Юлиану»).
(обратно)
355
Ныне же, после множества мелкого скота, множества быков... — Как свидетельствует Иоанн Златоуст, император Юлиан устраивал в честь Аполлона Дафнейского пышные жертвоприношения (см.: О святом Вавиле против Юлиана и язычников. 19).
(обратно)
356
...приняв государев поцелуй в ногу... — О ревностном поклонении Юлиана богу Аполлону см.:
Иоанн Златоуст. О святом Вавиле против Юлиана и язычников. 15.
(обратно)
357
...узрев того, кого ты предвещал, после того как возвещенный тобою узрел тебя... — Речь идет о святом мученике Вавиле, гробница которого располагалась неподалеку от храма. См. также примеч. 15.
(обратно)
358
...после того как ты избавлен от негодного соседства некоего мертвеца докучавшего тебе своею близостью... — Гробница святого Вавилы была перенесена со своего места по распоряжению Юлиана: согласно свидетельству Иоанна Златоуста, император получил оракул от Аполлона, в котором бог жаловался на близкое соседство могилы святого мученика, якобы мешающего ему, Аполлону, делать свои пророчества (см.: О святом Вавиле против Юлиана и язычников. 15-16, 18-19).
(обратно)
359
Олимпии. — Имеются в виду олимпийские игры, учрежденные во II в. н. э. при императоре Коммоде, которые с тех пор проводились в Антиохии и пользовались популярностью у народа и поддержкой римских властей (так, в 305 г. н. э. должность олимпийского алитарха (т. е. распорядителя игр) отправлял лично император Диоклетиан) в противоположность потерявшим общегреческий масштаб и прежнее значение аналогичным играм в Олимпии. Очередные игры в Антиохии, о которых говорит Либаний, должны были состояться в 364 г. н. э.
(обратно)
360
«Подай мне лук из рога»... — Слова Ореста из одноименной трагедии Еврипида, с которыми юноша обращается к своей сестре Электре, вспомнив об оружии, данном ему Аполлоном для защиты от Эриний (268.
Пер. И.Ф. Анненского). Последние гнались за Орестом из-за совершённого им преступления матереубийства: так он отомстил Клитемнестре за смерть своего отца Агамемнона, убитого ею по возвращении с Троянской войны.
(обратно)
361
Это какой-то новый Титий... — Согласно легенде, великан Титий пытался овладеть богиней Лето и был в наказание застрелен из лука ее детьми, Аполлоном и Артемидой (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. 1.4.1).
(обратно)
362
...или Идас. брат Линкея... — Либаний намекает на следующий эпизод. Мессенский царевич Идас, брат аргонавта Линкея, хотел жениться на нимфе Марпессе, к которой воспылал страстью Аполлон; он похитил девушку и увез на крылатой колеснице, подаренной ему Посейдоном. Бросившись за ними в погоню, Аполлон настиг беглецов, однако Идас, взяв лук, не побоялся вступить с богом в поединок (см.:
Гомер. Илиада. IX.557—564). Спор прекратил Зевс, предоставив Марпессе самой выбрать себе мужа, которым и стал в итоге Идас (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. 1.7.9).
(обратно)
363
Сыновей Алоэя. в то время как они еще строили козни против богов, ты. Аполлон, остановил смертью. — См. примеч. 13 к «Меланкому».
(обратно)
364
...этого, издали несшего огонь... — Речь идет о безвестном поджигателе храма (см. также примеч. 9).
(обратно)
365
О. десница Тельхина... — В греческой мифологии подземным божествам Тельхинам приписывалось изобретение различных искусств и ремесел, в том числе таких предметов и орудий, что несли вред и погибель — например, серпа, которым Кронос оскопил своего отца Урана, трезубца Посейдона и др. Кроме того, Тельхины могли по собственному желанию насылать тучи, дождь, град и вызывать снегопады (см.:
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. V.55.3).
(обратно)
366
...хотя должен был воздать благодарность богу за древнее извещение! — Имеется в виду услуга, которую оказал Гефесту Аполлон, сообщив богу-кузнецу о неверности его жены Афродиты, изменявшей мужу с Аресом (см.:
Гомер. Одиссея. VII.267—362).
(обратно)
367
И даже Зевс... не послал воды на пламя, хотя некогда он погасил костер для несчастного лидийского царя! — Речь идет о знаменитом эпизоде из жизни царя Креза, описанном в «Истории» Геродота: захваченный в плен персидским царем Киром, Крез должен был подвергнуться смерти через сожжение. Уже стоя на костре, своим глубокомысленным рассуждением об изменчивости судьбы он вынудил Кира переменить решение, однако все попытки персов потушить разгоревшийся огонь были безуспешны. Тогда Крез воззвал к Аполлону, и тот наслал бурю с сильным ливнем, который и потушил костер (см.: 1.86—£7).
(обратно)
368
Песнь же эта была хвалою Земле ~ за то, что та скрыла деву, разверзшись и снова сомкнувшись. — Речь идет о менее известном варианте легенды о Дафне (ср. примеч. 6), согласно которому убегающую от Аполлона нимфу поглотила земля (т. е. ее мать — Гея). По всей вероятности, на данную версию косвенно ссылается и Павсаний, не высказывая, однако, этого напрямую (см.: Описание Эллады. VIII.20.2).
(обратно)
369
<...>. — В этом утраченном пассаже, согласно Иоанну Златоусту, Либаний давал описание самого пожара (см.: О святом Вавиле против Юлиана и язычников. 20).
(обратно)
370
Правителя... — Речь идет об императоре Юлиане.
(обратно)
371
...он сам приступил к разысканию причины беды, пылая изнутри не меньше, чем храм. — По свидетельству современников, Юлиан, узнав о пожаре в храме, пришел в страшное негодование и велел произвести по этому поводу тщательнейшее расследование (см.:
Иоанн Златоуст. О святом Вавиле против Юлиана и язычников. 17). Подозревая в поджоге христиан (ср. примеч. 9), он также приказал закрыть самую большую христианскую церковь в Антиохии (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.13.2).
(обратно)
372
...затем остальные красоты', изваяния обитавших там Муз, сверканье камня, прелесть колонн. — С.П. Шестаков следует здесь чтению Фёрстера, который ставит запятую после «τα άλλα» и «κάλλη Μουσών»: «επειτα δέ τά άλλα, κάλλη Μουσών, οικιστών εικόνας, λίθων άστραπάς, κιόνων ώραν» (см.: Libanti opera 1903— 1927/IV: 320). Ср.: «<...> затем прочее, красоту Муз, статуи основателей города, сверканье камня, красоту колонн» (Либаний 1914—1916/II: 487). Однако при этом не только рушится весь синтаксический строй предложения, основанный на явном параллелизме его частей («Μουσών οικιστών εικόνας, λίθων άστραπάς, κιόνων ώραν»), но и возникает необходимость предположить, что в храме Аполлона, наряду со статуями Аполлона и Муз, находились еще какие-то «статуи основателей» (εικόνας οικιστών), — вероятно, Селевка I и др. Но последнее не находит подтверждения в других античных источниках. Издатель Иоанна Златоуста, например, не разделяет запятой слова «τά άλλα» и «κάλλη», а форму «οικιστών», совершенно справедливо, на наш взгляд, относит к Музам, так что смысл всей фразы не вызывает вопросов: «επειτα δε τά αλλα κάλλη, Μουσών οικιστών εικόνας» (см.: Migne 1862: 565). Ср. русский синодальный перевод «<...> а потом и прочие украшения, статуи бывших там Муз <...>» (Иоанн Златоуст 1896: 611).
(обратно)
373
...восседавший где-то поблизости Зевс... — Зевс Касийский считался главным покровителем Антиохии, отвечавшим за благополучие города в целом.
(обратно)
374
...Каллиопа посреди города... — Культ Каллиопы был в Антиохии одним из наиболее почитаемых — наравне с культами Зевса Касийского (см. примеч. 30), Аполлона Дафнейского и некоторых других богов. Каллиопа покровительствовала наукам и искусствам, что было особенно значимым для города — крупнейшего культурного центра на римском Востоке. По свидетельству Либания, статуя Каллиопы находилась в храме Муз, располагавшемся в центре города (см.: Жизнь, или О собственной доле. 102).
(обратно)
375
Стань же ныне, о Аполлон, таким, каким тебя сделал Хрис, проклиная ахейцев, — исполненным гнева и подобным ночи... — Аллюзия на соответствующее место из «Илиады» Гомера. Ср.: «Громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали I В шествии гневного бога: он шествовал, ночи подобный» (1.46—47.
Пер. Н.И. Гнедича). Весь пассаж у Либания отсылает к начальному эпизоду «Илиады», повествующему о том, как предводитель ахейского войска Агамемнон оскорбил Хриса, жреца Аполлона, пленив и отказавшись возвращать его дочь, Хрисеиду. Взмолившись Аполлону, Хрис попросил его отмстить ахейцам, и тот наслал на их войско жестокий мор.
(обратно)
376
Увы, великая скорбь постигла не только ахейскую землю... — Аллюзия на фразу из «Илиады» Гомера, которую произносит ахейский герой Нестор по поводу ссоры Агамемнона и Ахилла, грозящей ахейцам великими бедствиями (см.: 1.254).
(обратно)
377
А ту, которую населяют греки... — Имеются в виду Греция и Малая Азия, входившие в восточную часть Римской империи, где проживало в основном грекоязычное население.
(обратно)
378
...напав, они грабят. убивают, бесчестят схваченных женщин и детей. — Ср.:
Гиперид. Надгробная речь. 20.
(обратно)
379
...отверсты широкие врата... — Образ распахнутых ворот как метафоры пути, ни в чем не встречающего преграды, — устойчивый топос в греческой литературе, восходящий еще к Геродоту (см.: История. IX.9).
(обратно)
380
...Гектора из Трои кто-то уже назвал «незыблемым столпом»... — Имеется в виду Пиндар (Олимпийские песни. II.81—82.
Пер. Μ.Л. Гаспарова).
(обратно)
381
...города вблизи Геллеспонта... — Имеется в виду Троя.
(обратно)
382
...и не одного племени... — Речь идет о троянцах (ср. примеч. 6).
(обратно)
383
...вся держава потомков Энея... — Имеется в виду Римская империя. Римляне считали себя потомками Энея, который признавался самым отважным троянским героем после Гектора. Согласно преданию, после захвата греками Трои Эней, повинуясь предсказанию оракула, отправился к берегам Италии, где, женившись на дочери царя Лациума Лавинии, унаследовал власть и положил начало новой династии италийских правителей, из которой впоследствии вышли Ромул и Рем, легендарные братья — основатели Рима (см.:
Тит Ливий. История Рима от основания города. 1.1—7). Данный миф, заимствованный римлянами у этрусков ок. 500 г. до н. э., прочно вошел в римскую историографическую традицию, вследствие чего римляне называли себя также энеадами, т. е. потомками Энея. Однако особое распространение и популярность это предание получило в эпоху правления императоров Юлия Цезаря и Октавиана Августа, которые использовали его для укрепления собственной власти, поскольку считалось, что род Юлиев происходит от сына Энея — божественного Юла. Прославлению легендарного прошлого римлян и императорского рода посвящена знаменитая поэма Вергилия «Энеида».
(обратно)
384
...охрану, каковую подобало им предоставить главе рода за бесчисленные жертвы, многократные молитвы, нескончаемые благовония, обилие жертвенной крови, лившейся и ночью и днем? — Став императором, Юлиан как убежденный сторонник и почитатель отмирающей языческой религии начал планомерную борьбу с утвердившимся к тому времени по всей империи христианством, стремясь восстановить веру в традиционных античных богов и вернуть их прежние культы. В частности, в изданном в 362 г. н. э. «Эдикте о терпимости» он разрешил воссоздание языческих храмов и предписал возвратить конфискованную у них собственность. Сам Юлиан активно поддерживал культы многих греческих богов, в том числе — культ Аполлона Дафнейского, святилище которого он неоднократно посещал, совершая многочисленные и обильные жертвоприношения (см. примеч. 12 и 13 к «Монодии храму Аполлона в Дафне»).
(обратно)
385
...как поступил тот этолиец по отношению к Артемиде при сборе урожая... — См. примеч. 20 к «Монодии Никомедии».
(обратно)
386
...он убедит их разоружиться. — Либаний имеет в виду мастерство Юлиана как оратора (см. об этом также п. 18 и 26 наст. речи). Император вообще обладал незаурядным литературным талантом, о чем свидетельствуют многочисленные сочинения различных жанров, написанные им в разное время и по различным поводам: панегирики, полемические и политические речи, послания, гимны, эпиграммы, трактаты военного и философского содержания, мемуары о войне с германцами (см. примеч. 24), а также обширное эпистолярное наследие. Из всего этого лишь часть сохранилась до нашего времени.
(обратно)
387
...насладившись обильным чадом... — По античному обычаю, тушу принесенного в жертву животного разделывали, отсекая мясо, которое затем употреблялось в пищу, а внутренности, кости и жир сжигали на костре. Считалось, что боги питаются их ароматом.
(обратно)
388
...с помощью побежденных ассирийцев... — Речь идет о первоначальных успехах Юлиана и его войска в Месопотамии (см. п. 20—21 наст. речи).
(обратно)
389
...подвергавшийся доселе осмеянию образ мыслей... — Имеется в виду христианство.
(обратно)
390
...погасил священный огонь, унял радость жертвоприношений, позволил попирать ногамии опрокидывать алтари, одни святилища и храмы запер, другие — срыл до основания, а в третьих, лишив их святости, разрешил селиться распутникам... — В период, предшествующий правлению Юлиана, языческие культы по всей империи были запрещены, многие языческие храмы закрыты или разрушены, а предметы почитания, в частности, алтари и статуи богов, подвергнуты осквернению (см.:
Евсевий Кесарийский. Жизнь Константина. II.45; III.26,53,55, 58; IV.25 и т. д.;
Созомен. Церковная история. II.5). Ср. также:
Либаний. Монодия храму Аполлона в Дафне. 5.
(обратно)
391
...оставил вам в наследство гробницу какого-то мертвеца. — Речь идет о гробнице святого Вавилы, находившейся в предместье Антиохии, вблизи святилища Аполлона Дафнейского, и перенесенной оттуда по приказу императора Юлиана, что вызвало возмущение христиан (подробнее об этом см.:
Иоанн Златоуст. О святом Вавиле против Юлиана и язычников. 15—16; ср. примеч. 14 и 15 к «Монодии на храм Аполлона в Дафне»).
(обратно)
392
...Салмоней или Ликург и Мелитид в придачу... — Первые два имени принадлежат греческим легендарным царям, печально прославившимся как безумцы и святотатцы. Салмоней был, по преданию, царем города Салмонии. Возомнив себя Зевсом, он пытался подражать величию и мощи бога, издавая гром при помощи медных котлов и изображая молнии посредством зажженных факелов. За эту дерзость Зевс низверг его в Тартар, а город уничтожил вместе со всеми жителями (см.:
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. VI. Фр. 6—7;
Гигин. Мифы. 1.61; IV.250). Ликург, согласно легенде, оскорбил и выгнал из своей страны Диониса. По одной из версий мифа, за это он был наказан безумием, в припадке которого лишил себя жизни (см.:
Гигин. Мифы. IV.242). Имя «Мелитид» встречается у Аристофана, где оно употреблено как нарицательное и означает, по всей видимости, «дурак», «простофиля» (см.: Лягушки. 989; см. также: RE 1931: 549—550).
(обратно)
393
...был он ничуть не лучше изображений на картинах или глиняных изваяний... — Вероятно, имеются в виду персонажи древнегреческой комедии и мима (см. примеч. 162 к «Надгробной речи Юлиану»), которые часто изображались на картинах и воспроизводились в скульптуре, особенно в мелкой пластике. Такие статуэтки в большом количестве сохранились от античности до нашего времени.
(обратно)
394
...сорок лет продержал в своей власти землю, которую позорил, пока не умер наконец от болезни. — Либаний намекает здесь на императора Констанция II, который с момента получения им титула цезаря (324 г. н. э.), а затем и августа (337 г. н. э.) находился у власти в общей сложности 37 лет (8 из которых, с 353 по 361 г. н. э., он был единовластным правителем империи). При Констанции языческие культы подвергались жестокому преследованию, жертвоприношения были запрещены, а имущество храмов конфисковано. См. также примеч. 15.
(обратно)
395
А этот муж... — Имеется в виду Юлиан.
(обратно)
396
...на короткое время облеченный меньшей властью, а на еще более короткое — большей... — Юлиан был назначен цезарем Галлии в 355 г. н. э. и оставался им вплоть до смерти Констанция II в ноябре 361 г. н. э., после чего официально получил титул августа и фактически стал единоличным правителем Римской империи.
(обратно)
397
С нами... произошло нечто подобное тому, как если бы птице Фениксу предстояло пролететь надо всею землей, нигде не останавливаясь — ни в деревнях, ни в городах. — В Римской империи Феникс считался символом незыблемой власти августа. Сравнение Юлиана с Фениксом, употребленное здесь Либанием, аналогично тому, что оратор использует в «Надгробной речи Юлиану», уподобляя императора чаше со свежей и прозрачной водой (см.: 284).
(обратно)
398
Сей луг, едва зацветши, вдруг осыпался. — См. примеч. 201 к «Надгробной речи Юлиану».
(обратно)
399
...возвещая о битвах, трофеях, плавании по Рейну, избиении кельтов, захвате пленников, возвращении плененных прежде римлян, дани от врагов, восстановлении поверженных городов, подвигах и доблести некоего божества! — Речь идет о победоносных действиях Юлиана в ходе Римско-германской войны 356—360 гг. н. э. В качестве консула Галлии и Британии Юлиан был послан Констанцием II на запад империи для борьбы с германцами, которые, перейдя через Рейн, захватили римские территории и разоряли страну, разрушая города и убивая жителей. В 356 г. н. э., вступив в Галлию с небольшим войском, Юлиан проявил себя как талантливый полководец: часть германцев его отряды сразу же отбросили за Рейн, а прочих разбили в сражении при Аргенторате (357 г. н. э.). Переправившись через Рейн, Юлиан продолжил преследование германцев уже на их земле; по его собственным словам, он разрушил немногим менее 40 варварских городов и смог отбить у противника 20 тыс. плененных римлян (см.: Wright 1913: 272). В ходе этих военных действий также была полностью восстановлена система римских оборонительных укреплений вдоль Рейна.
(обратно)
400
...о том пути через границы, о незаметном быстром передвижении, о шести гоплитах, наводящих ужас на двадцать тысяч, обо всех, вооружившихся против него, и о войне, улаженной без боя. — Речь идет о назревавшей гражданской войне, вызванной противостоянием между Констанцием II, опасавшимся усиления авторитета и власти Юлиана на западе империи, и самим Юлианом, которого в 360 г. н. э. объявили августом его собственные солдаты. Поначалу Юлиан пытался вступить с Констанцием в переговоры (см. примеч. 145 к «Надгробной речи Юлиану»), но, не добившись желаемого, решился идти на Константинополь. Переправившись через Альпы и очень быстро продвигаясь со своей армией на восток, он захватил Иллирик, Паннонию и Италию. Однако внезапная смерть Констанция положила конец противостоянию, и 11 ноября 361 г. н. э. Юлиан вступил в Константинополь единовластным правителем империи.
(обратно)
401
...государь уязвил своим сочинением человека... — Имеется в виду сочинение Юлиана «Против киника Гераклия», написанное в ответ на речь, произнесенную последним в Константинополе. В этой речи упомянутый философ публично высмеивал древнегреческие мифы и действующих в них богов. Сочинение Юлиана дошло до нашего времени. В нем император доказывает разумность и целесообразность существования мифов, которые рассматривает с точки зрения, во-первых, их символического значения, а во-вторых — практической пользы в вопросах нравственного воспитания. Об этом произведении Либаний упоминает и в «Надгробной речи Юлиану» (см.: 157).
(обратно)
402
...утверждавшего, что он подражает Диогену из Синопы... — Философ Диоген Синопский проповедовал аскетизм, отвергая традиционные культурные ценности, в том числе религию и мораль, которым он противопоставлял внутреннюю и внешнюю свободу человека от условностей и общепринятых законов.
(обратно)
403
...к
Матери богов во Фригию. — Имеется в виду располагавшийся во Фригии храм Кибелы, который Юлиан посетил в 362 г. н. э. По свидетельству Аммиана Марцеллина, совершая путь из Константинополя в Антиохию, император, находясь в Галатии, решил предпринять поездку в Пессинунт, чтобы совершить там жертвоприношения богине и принести священные обеты (см.: Римская история. XXII.9.5—8). Во время посещения этого храма Юлианом и была написана речь «К Матери богов» (ср. упоминание об этом: Надгробная речь Юлиану. 157).
(обратно)
404
...услышав... там нечто... — То есть оракул богини.
(обратно)
405
Прибывает в великий город Антиоха или, если угодно, любезного ему Александра... — Речь идет об Антиохии, в которую Юлиан прибыл 18 июля 362 г. н. э. Антиохия была основана в 300 г. до н. э. диадохом и сподвижником Александра Македонского — Селевком I Никатором, который назвал этот город в честь своего отца (см.:
Либаний. Похвала Антиохии. 93). О роли Александра в основании Антиохии Либаний подробно говорит в одной из своих речей (см.: Похвала Антиохии. 72—77).
(обратно)
406
...не позволявшего ему лениться, подобно тому как один афинский полководец — другому афинскому полководцу. — Либаний имеет в виду большое влияние, которое оказал на Юлиана пример Александра Македонского (см. также: Надгробная речь Юлиану. 260). Это дает оратору повод сравнить Юлиана с афинским полководцем Фемистоклом, который, еще будучи юношей, стремился стать во всём подобным Мильтиаду — победителю персов в Марафонском сражении (см. примеч. 24 к «Надгробной речи» Гиперида). Согласно Плутарху, Фемистокл так вдохновился примером афинского полководца, что, забросив прежние развлечения, начал вести деятельную жизнь и в конце концов одержал морскую победу над персами при Саламине (см.: Сравнительные жизнеописания. Фемистокл. 3). О подражании Юлиана образу жизни Александра Македонского упоминает также Сократ Схоластик (см.: Церковная история. III.21).
(обратно)
407
...пишет книги в защиту богов... — По всей видимости, речь идет о трактате в трех книгах «Против христиан» и о сатирическом памфлете под названием «Антиохийцам, или Брадоненавистник», которые были написаны Юлианом в течение восьми месяцев, проведенных им в Антиохии (с июля 362 г. н. э. по февраль 363 г. н. э.). В первом, не сохранившемся до нашего времени, Юлиан критиковал некоторые положения христианской религии, а во втором иронизировал над жителями Антиохии, в большинстве своем христианами, осуждая их образ жизни.
(обратно)
408
...отклонять персидское посольство, просившее мира и готовое согласиться на любые условия, какие бы ты ни выдвинул. — В «Надгробной речи Юлиану» Либаний подробно описывает поведение императора при получении им письма от персидского царя (см.: 164).
(обратно)
409
Но тебя принудили к обратному страдания страны, находящейся вблизи Тигра, которая была разделена на части, опустошена и много раз подвергалась вторжениям... — Речь идет о продолжавшихся несколько десятилетий подряд нападениях персов, которые грабили и разоряли восточные римские провинции, истребляя не только жителей, но и целые римские гарнизоны. Согласно Аммиану Марцеллину, Юлиан был одержим желанием отомстить персам за все прошлые обиды, причиненные Риму (см.: Римская история. XXII.12.1).
(обратно)
410
...оттуда... — В этом месте рукописи имеются разночтения (см.: Libanii opera 1903—1927/IV: 214). Фёрстер, к примеру, принимает вариант «έκεισε» («туда»).
(обратно)
411
Напав на персов, государь наводнил их страну солдатами и, со смехом отдав на разграбление... опустошил... — Имеется в виду персидский поход Юлиана в 363 г. н. э.
(обратно)
412
И невероятный побьем на крутой берег, и ночное сражение, уничтожившее великое множество персов... — Речь идет о переправе римского войска через Тигр и битве у стен Ктесифона — столицы Персидского государства. Подробно об этих событиях повествуется в «Надгробной речи Юлиану» (см.: 252—255).
(обратно)
413
Возврати же нам, о наивысший из богов, соименного тебе... — Игра слов: определение «ύπατος» («наивысший»), служащее здесь эпитетом Зевса, имеет также второе значение — «консул», которое и подразумевает Либаний, называя Юлиана «соименным» верховному божеству. См. также примеч. 39.
(обратно)
414
Год сотоварища его... — Имеется в виду консульский год, т. е. период, на который в Риме избирались (или назначались) два консула, осуществлявшие высшую гражданскую и военную власть в государстве. Во времена, когда вся фактическая власть находилась в руках императора, консульство превратилось скорее в почетную должность, исключая те случаи, когда ее исполнял сам правитель. Так, в 363 г. н. э. Юлиан в четвертый раз был объявлен консулом, а его товарищем по должности стал Сатурний Секунд Саллюстий.
(обратно)
415
...ты завершил... — Конъектура Фёрстера (см.: Libanii opera 1903—1927/IV: 215).
(обратно)
416
...а мы в это время ублажали Нимф в Дафне... — Речь идет о празднике в честь Аполлона и Муз, святилище которых находилось в Дафне (см. примеч. б к «Монодии храму Аполлона...»).
(обратно)
417
Кто же выковал то копье, коему предстояло явить такую силу! — Как свидетельствуют историки, Юлиан был смертельно ранен брошенным в него копьем (в частности, см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.3.6—9).
(обратно)
418
...когда одна спасла Менелая, а другая — Париса... — Имеются в виду эпизоды из «Илиады» Гомера, в одном из которых Афина спасает Менелая от стрелы троянца Пиндара (см.: IV. 127—140), а в другом Афродита приходит на помощь Парису, атакуемому Менелаем (см.: III.369—382).
(обратно)
419
Кто поднялся в качестве обвинителя Ареса, как некогда — Посейдон... — Согласно мифу, Посейдон обвинил Ареса в убийстве своего сына Галиррофия и потребовал от богов вынесения обвинительного приговора. Суд состоялся на холме Ареса (место, где в Афинах традиционно происходили тяжбы), а судьями выступили двенадцать олимпийских богов. Однако Аресу удалось оправдаться, в свою очередь обвинив Галиррофия в том, что тот пытался совершить насилие над его дочерью Алкиппой (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.14.2). Реинтерпретируя этот известный миф, Либаний выставляет виновником смерти Юлиана самого Ареса — бога войны и раздора в греческой мифологии, который является здесь аллегорией зла.
(обратно)
420
...когда оружие выскальзывало из рук воинов, как в Сицилийском проливе вёсла —у товарищей Одиссея! — Имеется в виду знаменитый эпизод из «Одиссеи» Гомера, когда корабль героя и его спутников приближается к Харибде, создающей на море страшное волнение и шум (см.: XII.202—205).
(обратно)
421
Подняли тогда плач Музы... — Одним из центров поклонения Музам с древних времен была Беотия с расположенной там горой Геликоном, где, по преданию, эти богини обитали вместе с Аполлоном. Во Фракии культ Аполлона и Муз был тесно связан с именем Орфея, который, согласно мифу, получил от Аполлона в дар лиру и достиг в игре на ней такого мастерства, что мог передвигать с места деревья и скалы и усмирять диких животных. Однако, будучи жрецом Аполлона, Орфей препятствовал распространению культа Диониса и за это был растерзан Менадами, бросившими голову убитого юноши в реку. Поющая голова Орфея приплыла к острову Лесбос, после чего, по просьбе Аполлона и Муз, была перенесена богами на небо. Согласно преданию, Орфей также являлся учредителем мистерий Аполлона во Фракии. В Антиохии культ Муз был тоже весьма распространен и связан с культом Аполлона Дафнейского, святилище которого находилось недалеко от города. Император Юлиан был ревностным почитателем культа Аполлона и, по его собственному признанию, много раз бывал в храме бога в Дафне (см.: Антиохийцам, или Брадоненавистник. 346b). См. также примеч. 12 и 13 к «Монодии храму Аполлона в Дафне».
(обратно)
422
...философы — того, кто вместе с ними исследовал Платона... — См. примеч. 25 к «Надгробной речи Юлиану».
(обратно)
423
..лучшего судью, чем Радамант. — Критянин Радамант прославился при жизни как справедливый судья и первый законодатель Крита, а после смерти стал одним из трех судей в Аиде (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.1.2;
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. IV.60.3).
(обратно)
424
О правители городов, от связанных с вашим титулом дел не останется и следа... — Греческое слово «δ αρχών» («правитель») происходит от глагола «αρχομαι» («управлять», «править»). Либаний имеет в виду угрозу для всякой власти (το αρχον) и порядка, возникшую в государстве со смертью Юлиана.
(обратно)
425
...как это бывает во время процессий... — Речь идет о праздничных днях, когда, в соответствии с религиозными установлениями, римские магистраты не могли созывать собрания, устраивать судебные заседания и выносить приговоры.
(обратно)
426
О,
попираемые законы, каковые... могли бы считаться Аполлоновыми! — Намек на законодательство Спарты, которое считалось в древности образцовым. По преданию, спартанский царь Ликург, желая дать своему городу наилучшее государственное устройство, отправился в Дельфы, чтобы заручиться советом Аполлона. Получив от бога оракул, он в точности ему последовал и действительно создал прекрасные и справедливые законы, обеспечившие Спарте славу и процветание (см.:
Геродот. История. 1.65).
(обратно)
427
О, речи царя, обретшие столь великую силу и мощь... — См. примеч. 11.
(обратно)
428
О, гибель всей вселенной! — Явное подражание Элию Аристиду (ср.: Монодия Смирне. 6).
(обратно)
429
Это какой-то второй потоп среди лета... — О великом потопе Либаний упоминает также в «Монодии на храм Аполлона в Дафне» (см.: 4).
(обратно)
430
...пожар, каковой, как гласит предание, занялся во время езды Фаэтона! — В мифе о Фаэтоне рассказывается, что однажды сын Гелиоса вопреки желанию отца стал править его колесницей, но не смог сдержать огнедышащих коней, те сошли со своего обычного пути, и повсюду начался страшный пожар. Огонь грозил уничтожить всё живое, поэтому Зевс сразил Фаэтона молнией.
(обратно)
431
Пеан — хоровая песнь, исполняемая обычно под аккомпанемент кифары; древнейший жанр греческой лирической поэзии. Первоначально пеан исполнялся в честь Аполлона (а позднее — также и в честь других богов) в качестве искупительной молитвы, во время сражений или при праздновании победы. В данном же случае этот термин означает просто благодарственную песнь.
(обратно)
432
Ярмо ваше сокрушено и выи ваши свободны! — Имеются в виду события лета 364 г. н. э., когда множество соседних варварских племен — среди них кельты, алеманны, сарматы, готы и проч., — воспользовавшись ситуацией, одновременно с разных сторон выступили против римлян, вторгшись в провинции Британия, Галлия, Реция, Верхняя и Нижняя Паннония, Фракия и некоторые другие (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXVI.4.5—6;
Зосим. Новая история. IV.3.4). Об этих же событиях Либаний упоминает в «Надгробной речи Юлиану» (см.: 290).
(обратно)
433
Вот что означал храм Аполлона, истребляемый огнем... — Имеется в виду пожар в храме Аполлона в Дафне, случившийся 22 октября 362 г. н. э. (по поводу чего Либанием была написана соответствующая монодия). Многие современники, включая самого Юлиана (см.: Антиохийцам, или Брадоненавистник. 36lb), истолковывали это бедствие мистически — как знак грядущего несчастья.
(обратно)
434
...землетрясения, поколебавшие всю землю... — Речь идет о двух крупнейших землетрясениях — 358 и 362 гг. н. э. В результате первого, более значительного, пострадало несколько римских провинций, но особенно сильное разрушение постигло Никомедию (Либаний оплакал его в монодии, посвященной этому городу). Второе землетрясение, снова затронувшее Никомедию, а также большую часть Никеи, произошло в Вифинии.
(обратно)
435
Ты, о наилучший из государей, свершая великое, ожидал от меня похвал и речей... а я изощрял ум, дабы в своем слове не отстать от этих подвигов... — Вероятно, имеются в виду две речи, написанные Либанием по личной просьбе Юлиана. Первая из них — «Приветственная Юлиану» — была заказана императором Либанию при их первом знакомстве, в июле 362 г. н. э., когда Юлиан прибыл в Антиохию (см.:
Либаний. Письма. 64В). Вторая — «На консульство Юлиана» — написана полгода спустя по случаю вступления императора в четвертое консульство (1 января 363 г. н. э.). Эта речь, подробные рекомендации по составлению которой были даны Либанию самим Юлианом (см.:
Либаний. Письма. 785), принесла оратору большой успех (см.:
Либаний. Жизнь, или О собственной доле. 127-129).
(обратно)
436
...при вести о том, что явится сильный соперник. — Намек на ораторскую славу Юлиана (см. примеч. 11).
(обратно)
437
Погиб Агамемнон ~ дав при этом повод для упреков других людей. — В данном пассаже Либаний перечисляет различных мифологических героев и исторических лиц — царей или воинов, которые так же, как и Юлиан, погибли насильственной смертью или же ушли из жизни добровольно. И хотя оратор считает, что в каждом из упомянутых случаев смерть была либо заслуженной, либо неизбежной, он убежден, что ни та, ни другая причина не годится для объяснения гибели Юлиана. Агамемнон по возвращении в Микены был убит своей женой Клитемнестрой и узурпатором Эгисфом; этот миф положен в основу трагедии Эсхила «Агамемнон», входящей в его трилогию «Орестея». Кресфонт, один из представителей рода Гераклидов, захватил вместе с братьями Пелопоннес и после его раздела стал правителем Мессении, женился на Меропе, а затем был убит двумя ее сыновьями от Полифонта (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. II.8.4—5). Кодр, последний царь Афин, узнав, что дорийцы получили оракул, предвещавший им победу над Аттикой, если они не убьют афинского властителя, решил пожертвовать собой ради спасения города: переодевшись нищим и выйдя за городские ворота, он затеял ссору с врагами, в ходе которой был убит (см.:
Юстин. Эпитома Помпея Трога. II.6.17—21). Эант, или Аякс Младший, при взятии Трои оскорбил богиню Афину, обесчестив в ее храме прорицательницу Кассандру; за это Афина и Посейдон жестоко наказали Аякса: ахейские суда, возвращавшиеся из-под Трои, погибли в кораблекрушении, а сам герой утонул (см.:
Гомер. Одиссея IV.499—511;
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Э.VI.б). О гибели Ахилла см. примеч. 12 к «Меланкому». Персидский царь Кир II Великий пал в сражении со скифским племенем массагетов (см.:
Геродот. История. 1.201—214) и оставил после себя двух сыновей, один из которых, Камбис, унаследовал царский престол и продолжил дело отца (см. примеч. 14 к «Надгробной речи Сократа»), а впоследствии умер от раны, которую по неосторожности сам нанес себе мечом, садясь на коня. О «безумии» Камбиса говорит Геродот, описывая действия персидского царя в Египте, когда тот узнал о вспыхнувшем против него восстании, якобы поднятом его братом Смердисом, которого он до этого тайно приказал умертвить (см.: История. III.61—бб). Александр Македонский умер в Вавилоне от внезапной болезни; согласно некоторым античным историкам, он был отравлен своими же приближенными — возможно, Антипатром, которого он намеревался сместить с должности начальника Македонии (см.:
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. XVII. 117.5).
(обратно)
438
...повержен каким-то ахеменидом! — Либаний употребляет здесь династическое имя в нарицательном смысле, имея в виду перса вообще. При этом в «Надгробной речи Юлиану» оратор выражает убеждение, что императора убил вовсе не перс, а кто-то из соотечественников (см.: 274—275).
(обратно)
439
...ожидая росы, смешанной с кровью, какую ниспослал Зевс на Сарпедона... — Аллюзия на эпизод из «Илиады» Гомера, в котором троянский герой Сарпедон погибает от руки Патрокла. Не имея возможности спасти Сарпедона от предстоящей гибели, Зевс в знак своей скорби посылает на землю кровавый дождь (см.: XVI.419—507).
(обратно)
440
...не «день», согласно стиху поэмы... — Имеется в виду стих из «Илиады» Гомера, где говорится о необходимости оплакивать покойного в течение одного дня (см.: ΧΙΧ.229).
(обратно)
441
...«воды доколе текут и пышно древа расцветают»! — Цитата из эпитафии на могиле царя Мидаса, принадлежащая либо поэту Клеобулу из Линда, либо Гомеру (см.: Палатинская антология. VIL153 Beckby). Полностью данную эпитафию приводит Платон в диалоге «Федр» (ср.: 264d.
Пер. А.Н. Егунова}.
(обратно)
442
Кто-то, возвестивший о твоей кончине, уже был засыпан камнями на месте... — Этот случай произошел в городе Карры, негодующие жители которого, узнав о смерти Юлиана, убили сообщившего о ней вестника и завалили его тело грудой камней (см.:
Зосим. Новая история. III.34.2).
(обратно)
443
Ты торопился мне помочь, давая права наследства моему побочному сыну... — Речь идет о незаконном сыне Либания по имени Кимон (или Арабий), которому оратор намеревался после смерти оставить всё свое имущество. Этому, однако, препятствовали римские законы, и потому Либанию пришлось обратиться за содействием сначала к Юлиану, а затем к императорам Иовиану (см.: Письма. 1221) и Феодосию (см.: Письма. 878; Никоклу о Фрасидее. 7).
(обратно)
444
...я сочинял речь — снадобье для примирения твоего с городом... — Имеется в виду «Посольское слово к Юлиану», сочиненное Либанием в марте 363 г. н. э., после отъезда Юлиана из Антиохии на войну с персами. Это произведение было написано Либанием по просьбе членов городского совета Антиохии с целью уладить конфликт между жителями города и императором, возникший на почве религии. Христиане, составлявшие большую часть населения Антиохии, враждебно отнеслись к ряду предпринятых Юлианом мер по восстановлению культов и храмов языческих богов (см.: Festugière 1959). В свою очередь, Юлиан был недоволен оказанным ему сопротивлением. Ситуация осложнилась еще больше после пожара в храме Аполлона в Дафне в октябре 362 г. н. э., в котором император обвинил христиан (см. примеч. 9 к «Монодии храму Аполлона в Дафне»). Вслед за тщательным расследованием этого дела, не давшим особых результатов, по приказу Юлиана была закрыта главная христианская церковь Антиохии (см. примеч. 28 к «Монодии храму Аполлона в Дафне»). Через несколько месяцев император покинул город в связи с началом военных действий в Месопотамии, однако взаимоотношения между ним и антиохийцами оставались по-прежнему напряженными. Гнев Юлиана не смягчили даже пышные проводы, устроенные членами городского совета по случаю его отъезда (см.:
Либаний. Жизнь, или О собственной доле. 132;
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIII.2.4). «Посольское слово к Юлиану», написанное Либанием, содержало в себе просьбу к императору о прощении жителей города и обещание раскаяния с их стороны, для пробуждения которого оратор тогда же сочинил вторую речь — «К антиохийцам о гневе царя». В ней он упрекал сограждан в непочтительности, проявленной в отношении правителя, и убеждал всеми способами заслужить его прощение. Судя по всему, Юлиан умер, так и не успев прочесть эту речь Либания.
(обратно)
445
Лишась рассудка, я не без труда снова пришел в сознание. — Либаний глубоко переживал смерть Юлиана, повлекшую за собой крах всей государственной политики (взошедший на престол император Иовиан первым делом поспешил отменить эдикты, направленные на восстановление язычества), и даже подумывал о самоубийстве (см.: Жизнь, или О собственной доле. 135; Письма. 1128, 1194). Это обстоятельство, а также преследования, которым подвергся Либаний после смерти Юлиана, вызвали значительный перерыв в его ораторской деятельности (см.: Жизнь, или О собственной доле. 136—138, 176 сл.).
(обратно)
446
...раз никто из божеств уже не превращает горюющего человека в камень, в дерево, в птицу. — Во многих древнегреческих мифах боги, сжалившись над страданиями людей, превращали их в различные предметы или существ. Так, в камень была обращена Ниоба, потерявшая своих детей (см. примеч. 15 к «Надгробной речи Этеонею»), в деревья — дочери Гелиоса, горько оплакивавшие своего брата Фаэтона (см. примеч. 41 к «Монодии Смирне»), в птиц — дочери царя Пандиона, Прокна и Филомела, спасавшиеся от жестокого преследования Терея (см. примеч. 22 к «Надгробной речи» Демосфена).
(обратно)
447
...достойным того обилия жертв, которое он принес. — См. об этом примеч. 9 к «Монодии Юлиану».
(обратно)
448
...завистливое божество... — Согласно античным представлениям, боги завистливы к счастью людей и часто карают тех, кого слишком превозносит судьба, ибо люди смертны и рождены для страданий, безмятежно счастливыми же могут быть лишь бессмертные боги.
(обратно)
449
...и мертвым был принесен от Вавилона... — Под Вавилоном в данном случае подразумевается вся Месопотамия, где римская армия во главе с императором Юлианом вела военные действия против персов.
(обратно)
450
...не раз собираясь произнести похвальное слово этому мужу... — Либаний написал несколько речей в честь Юлиана (см. примеч. 60 к «Монодии Юлиану»).
(обратно)
451
...подвиги его у берегов Океана... — Имеется в виду успешная военная и административная деятельность Юлиана в Галлии в качестве цезаря с 355 по 360 г. н. э. (см. примеч. 24 к «Монодии Юлиану»).
(обратно)
452
Дед его был государем... — Речь идет о Констанции I Хлоре, в 293 г. н. э. получившем от Диоклетиана титул цезаря и назначенном его соправителем. После того как в 305 г. н. э. Диоклетиан и август Максимиан удалились от власти, Констанций Хлор правил Римской империей совместно с Галерием.
(обратно)
453
Отец же его, государев сын и брат... — Отцом Юлиана был Флавий Юлий Констанций — младший сын Констанция Хлора и сводный брат Константина Великого.
(обратно)
454
...имевший больше прав на власть, чем тот, кому она досталась... — Речь идет о Константине I Великом, старшем сыне Констанция Хлора, рожденном от наложницы Елены, женщины низкого происхождения, в то время как Юлий Констанций являлся младшим сыном Констанция от законной супруги, Феодоры.
(обратно)
455
Женившись на дочери наместника... — Мать Юлиана, Василина, происходила из старинного знатного рода (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.3.23) и была дочерью Юлия Юлиана, видного государственного деятеля — префекта Египта (314 г. н. э.), префекта претория (315—324 гг. н. э.) и консула (325 г. н. э.).
(обратно)
456
...к каковому даже победивший недруг его проникся уважением... — Юлий Юлиан, будучи префектом претория, поддерживал Лициния — августа восточных провинций Римской империи и многолетнего соперника Константина I в борьбе за власть. После поражения Лициния в 325 г. н. э. Константин I, став единоличным правителем Рима, назначил Юлия Юлиана консулом.
(обратно)
457
...Константин умер от недуга, а чуть не весь род его — и отцов, и детей в равной мере — сразил меч. — Вскоре после смерти Константина Великого в 337 г. н. э. стоявшие в Константинополе римские войска, подстрекаемые заговорщиками, подняли бунт, отказавшись признавать прочих наследников Константина, кроме его сыновей — Константина II, Констанция II и Константа. В ходе этого бунта были убиты оба младших сводных брата императора — Юлий Констанций (отец Юлиана) и Далмаций Старший, а также сыновья последнего — Далмаций Младший, к тому времени уже успевший стать цезарем, и Ганнибалиан, бывший зятем императора Константина I. Шестилетнему Юлиану и его старшему брату Галлу, страдавшему тяжелой болезнью, удалось избежать смерти только потому, что на тот момент они не представляли явной угрозы для воцарения их дяди Констанция, которого многие считали непосредственным участником заговора. Упоминания об этих событиях встречаются у римских историков Зосима (см.: Новая история. II.40.1—2) и Сократа Схоластика (см.: Церковная история. III.1; возраст Юлиана указан ошибочно — 8 лет).
(обратно)
458
...причем одного из них спас недуг, представлявшийся достаточно опасным, дабы завершиться смертоубийством... — Эти слова Либания о Галле повторяет Сократ Схоластик в своей «Церковной истории» (см.: III.1).
(обратно)
459
...ибо он лишь недавно был отлучен от груди. — Неточность Либания. На тот момент Юлиану было около шести лет (см.: Negri 1905: 22). Ср. примеч. 11.
(обратно)
460
...в городе, величайшем после Рима... — Речь идет о Константинополе.
(обратно)
461
А был при нем только евнух — надежнейший страж целомудрия — да еще один воспитатель, не чуждый учености. — Речь идет соответственно о Евсевии, епископе арианского толка, и Мардонии — эллинизированном скифе, привившем Юлиану любовь к греческой языческой культуре. О последнем также известно, что он был воспитателем матери Юлиана и обучал ее греческой словесности (см. об этом у самого Юлиана: Антиохийцам, или Брадоненавистник. 270—271). О нем упоминает также Сократ Схоластик (см.: Церковная история. III.1).
(обратно)
462
...находился в обучении у одного негодного софиста... — Либаний имеет в виду софиста Гекеболия, христианина, которому было поручено обучение Юлиана, поскольку император Констанций опасался вредного влияния на юношу как языческих суеверий, так и многочисленных христианских ересей (см.:
Сократ Схоластик. Церковная история. III.1). О том, что опасения Констанция были не напрасны, свидетельствуют письма самого Юлиана этого времени, в одном из которых он осуждает вражду между адептами ортодоксального христианства, пользовавшегося поддержкой императора и его двора, и представителями различных других христианских течений (см.: Письма. 43). См. об этом же: Allard 1900: 294; Negri 1905: 32.
(обратно)
463
...властитель... посылает юношу в город Никомеда... — Имеется в виду Никомедия (см. примеч. 9 к «Монодии Никомедии»).
(обратно)
464
...там уже преподавал и я, предпочитая этот город, суливший мне покой, другому, изобиловавшему всяческими опасностями. — Либаний покинул Константинополь в 342 г. н. э., на пике ораторской славы, переселившись сначала в Никею, а затем в Никомедию. Среди различных гипотез о причинах, вынудивших Либания уехать из столицы, наиболее вероятной является гипотеза Сократа Схоластика, согласно которой оратор подвергся преследованию по наущению его конкурентов-софистов (см.: Церковная история. III.1). Данная точка зрения подтверждается и словами самого Либания, который подробно рассказывает об этом инциденте в автобиографии, называя и конкретных виновников своего выдворения из города, в частности — проконсула Константинополя Лимения (см.: Жизнь, или О собственной доле. 45—48). О пребывании Либания в Никомедии см. примеч. 3 к «Монодии Никомедии».
(обратно)
465
...наняв за большую плату того, кто ежедневно приносил ему записи моих уроков. — Об этом же пишет Сократ Схоластик (см.: Церковная история. III.1).
(обратно)
466
...он преуспел в подражании мне... — О принципах обучения красноречию в античных риторических школах см. примеч. 10 к «Надгробной речи Этеонею».
(обратно)
467
...брату его выпало разделить высокое звание с властителем, заняв при нем второе место. — В 350 г. н. э. Констанций, озабоченный отсутствием преемника, решил приблизить к себе Галла, приходившегося ему двоюродным братом. Вызвав его к себе из Кесарии Каппадокийской, где тот жил вместе со своим младшим братом Юлианом практически на положении узника, Констанций дал ему титул цезаря и назначил наместником Антиохии (см.:
Зосим. Новая история. II.45.1).
(обратно)
468
Когда Констанций вступил в двойную войну — сначала с персами, а затем с самозванцем... — После смерти Константина Великого в 337 г. н. э. Констанций, получив в управление большую часть восточных провинций империи, был вынужден вести практически непрерывную войну с персами, постоянно вторгавшимися на пограничные римские территории. Так продолжалось до 350 г. н. э., когда его брат Констант, задолго до того устранивший другого своего брата и соправителя, Константина II, и безраздельно правивший всей западной частью империи, был неожиданно убит заговорщиками во время военного бунта, в ходе которого римская армия, находившаяся в Галлии, провозгласила новым императором галльского полководца Магненция. Последнему удалось собрать огромные силы, намного превосходившие численностью войско Констанция, однако в 352 г. н. э. в кровопролитном сражении при Мурсе его армия потерпела поражение, а сам он бежал сначала в Италию, а затем в Галлию. Через год вновь потерпев поражение в битве при горе Селевк, Магненций покончил с собой.
(обратно)
469
...Галл был призван из Италии охранять наши восточные земли... — Ср. примеч. 21. В качестве цезаря Востока Галл должен был прежде всего держать оборону от персов (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXI. 13.11).
(обратно)
470
...братья свиделись... — По всей вероятности, это произошло в Никомедии (см.:
Сократ Схоластик. Церковная история. III.1).
(обратно)
471
...сблизившись с людьми, преисполненными Платоновой мудрости... — В Пергаме и Эфесе, крупнейших культурных центрах римского Востока (куда юноша отправился с согласия императора Констанция), Юлиан познакомился с главными представителями неоплатонизма того времени — философами Эдесием, учеником Ямвлиха, и Максимом Эфесским (см.:
Евнапий. Жизни философов и софистов. 473), учеником самого Эдесия, что привело его к полному разрыву с христианством. Этот переворот в мировоззрении Юлиана относится к 351 г. н. э., в чем он сам открыто признаётся в своей речи «Против киника Гераклия» (см.: 235a сл.). См. также: Negri 1905: 175.
(обратно)
472
...он смыл чистою речью соленую горечь слуха... — Метафора очищения души от скверны слуха заимствована Либанием из «Федра» Платона (см.: 243d).
(обратно)
473
Эзоп в этом случае сочинил бы басню, где не осел прикрывается львиной шкурой, а лев — шкурой осла. — Ср.:
Эзоп. Басни. 188.
(обратно)
474
...он понимал, что хотя в знании — польза великая, зато казаться прежним — безопаснее. — Об этом же пишет и сам Юлиан (см.: Письма. 42). См. также: Naville 1877: 46.
(обратно)
475
...и не в малой степени — другим. — На самом деле латинским авторам Юлиан уделял значительно меньше внимания, явно предпочитая им греческих, которых знал намного лучше (см.: Allard 1900: 273).
(обратно)
476
...более всего ранило его сердце зрелище поверженных храмов, упраздненных священнодейств, перевернутых алтарей, отринутых жертвоприношений, подвергаемых гонениям жрецов и храмовых богатств, расхищенных бессовестными святотатцами. — Сходным образом, но в аллегорической форме Юлиан описывает времена царствования Константина и Констанция в речи «Против киника Гераклия» (232a сл.).
(обратно)
477
...Галл пал жертвой клеветы. — Имеются в виду донесения, приходившие Констанцию от префекта Домициана, который, по мнению историка Аммиана Марцеллина, намеренно компрометировал Галла (см.: Римская история. XIV. 7.10), а также от префекта претория Востока Талассия, питавшего к Галлу ненависть (см.: Римская история. XIV.7.9), и комита Барбациона, возводившего на цезаря ложные обвинения (см.: Римская история. XIV. 11.24). Однако Зосим в «Новой истории» сообщает, что Галла оговорили в намерении присвоить себе императорскую власть придворные евнухи (см.: II.55.1—2).
(обратно)
478
И хотя нашел он письмо, свидетельствовавшее о преступном сговоре, и доносчики понесли от него заслуженное наказание... — Имеется в виду смерть префекта Домициана и квестора Монция, которые были отданы Галлом на растерзание армии (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XIV.7.15—16).
(обратно)
479
...и умер он безгласным, ибо меч упредил его оправдания. — Галл, вызванный Констанцием в Медиолан для оправдания в своих действиях, по дороге был арестован и вскоре убит согласно приказу императора (в 354 г. н. э.). Подробно об обстоятельствах гибели Галла см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XIV. 11.1—23.
(обратно)
480
...и приставили к нему вооруженную охрану, глядевшую хмуро, говорившую грубо, своимобращением заставлявшую и темницу считать легким наказанием. — О своем семимесячном содержании под стражей Юлиан свидетельствует в «Послании к сенату и народу афинскому» (см.: 277a—с).
(обратно)
481
...его не оставляли в одном каком-нибудь месте, а заставляли переезжать с одного места на другое... — Согласно Сократу Схоластику, Юлиан сам переезжал с места на место, стремясь уйти от слежки, которая была за ним установлена по распоряжению Констанция (см.: Церковная история. III.1).
(обратно)
482
...но увидала юношу, терзаемого бурей, Ино, дочь Кадма... — В древнегреческой мифологии Ино, дочь фиванского царя Кадма (ставшая затем морской богиней Левкотеей), считалась спасительницей моряков, терпящих бедствие (см.:
Гомер. Одиссея. V.333—336).
(обратно)
483
...супруга Констанция... проникшись к нему жалостью, смягчила гнев супруга своего... — Речь идет об императрице Евсевии, второй супруге Констанция, известной своим влиянием на императора. Именно ее вмешательству Юлиан был обязан тем, что ему удалось избежать преследований со стороны Констанция по ложным обвинениям и получить разрешение императора на отъезд в Грецию (см.:
Юлиан. Послание к сенату и народу афинскому. 273a; Похвальное слово царице Евсевии 118b—с; 121a сл.;
Аммиан Марцеллин. Римская история. XV.2.8;
Зосим. III. 1—2;
Сократ Схоластик. Церковная история. III.1).
(обратно)
484
...не возжелал он ни садов, ни домов, ни дворцов, ни поместий на морских побережьях, ни всей той немалой роскоши, что была у него в Ионии... — Семья Юлиана владела поместьем в Эфесе (см.:
Сократ Схоластик. Церковная история. ΙΠ.1), однако, согласно самому Юлиану, после смерти его отца оно было конфисковано Констанцием (см.: Послание к сенату и народу афинскому. 273b).
(обратно)
485
...но признал всё сие великолепие ничтожным в сравнении с городом самой Афины, породившим Платона и Демосфена и всяческую прочую премудрость! — Ср. с признанием Юлиана в его любви к греческой культуре в «Похвальном слове царице Евсевии» (см.: 118d— 119a). См. также: Allard 1900: 322.
(обратно)
486
...отдать себя в руки учителей, способных поведать ему нечто большее, нежели то, что он уже знал. — Речь идет о преподававших в то время в Афинах философе-неоплатонике Приске и риторах Гимерии и Проэресии.
(обратно)
487
...научив иных большему, чем те научили его. — Имеются в виду афинские философы и учителя риторики, о которых Либаний был не слишком высокого мнения (об этом см., в частности:
Либаний. Письма. 627).
(обратно)
488
...и в первую очередь — наш соплеменник... — По поводу того, кто мог быть этим лицом, не называемым Юлианом прямо, высказывались различные предположения: Цельс, впоследствии правитель Киликии (см.: Sievers 1868: 90; Allard 1900: 327), философ Максим Эфесский (см.: Seeck 1906: 208) или же Сатурний Секунд Саллюстий, префект претория в 361—365 гг. н. э. и близкий друг Юлиана (см.:
Юлиан. Письма. 16).
(обратно)
489
...посылаемые туда военачальники покушались на большее, нежели им было дозволено. — Имеется в виду восстание 355 г. н. э. в Галлии, поднятое начальником пехоты Клавдием Сильваном незадолго до прибытия туда Юлиана. Сильван, франк по происхождению и опытный полководец, первоначально отправился в Галлию по распоряжению императора Констанция с целью защиты западных границ от нападений варваров, однако вскоре был ложно обвинен перед императором в измене. Тогда, опасаясь расправы, он заручился поддержкой верных ему войск и провозгласил себя августом. Узнав об этом, Констанций спешно послал против предателя войска во главе с магистром конницы Урзицином; последний, сумев усыпить бдительность Сильвана, организовал на него покушение, в ходе которого военачальник и был убит (подробно об этом см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XV.5.2—31).
(обратно)
490
Ибо Констанций, хотя и был убийцей его отца и братьев... — См. соответственно примеч. 11 и 33.
(обратно)
491
...призвал богиню... — Речь идет об Афине (см.:
Юлиан. Послание к сенату и народу афинскому. 275a—b).
(обратно)
492
Едва вступив во власть, он был отправлен властителем на дело, посильное разве что Гераклу. — Имеется в виду война с германцами на западе империи (см. примеч. 24 к «Монодии Юлиану»). Об этом же подробно пишет Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XVI—XVII).
(обратно)
493
...связанные с галлами, что живут у края Океана. — Речь идет о части Галлии, примыкающей к совр. Ла-Маншу и Атлантическому океану. Океаном греки называли величайшую на свете реку, которая, по их представлениям, омывала землю и давала начало всем остальным рекам, морям и водным источникам.
(обратно)
494
...хотя и отнявшим чужие владения, но правившим в соответствии с законами... — Речь идет о владениях Константа, брата императора Констанция (см. примеч. 22). Известно, что, несмотря на узурпацию власти, Магненций за время своего недолгого правления проявил себя как разумный и справедливый политик (см.:
Зосим. Новая история. II.54.2).
(обратно)
495
И тут он открывает варварам доступ в римские пределы, в письмах своих дозволив им занять столько земли, сколько они смогут. — Чтобы лишить Магненция возможности искать военной помощи по ту сторону Альп, у враждебно настроенных к Констанцию германцев, император отправил последним большие дары, заручившись также поддержкой галлов, предводители которых благоволили к нему. Римские же войска в Италии незадолго до этого уже перешли на сторону императора (см.:
Зосим. Новая история. II.53.2—3).
(обратно)
496
...сделались «добычей мисийцев»... — То есть легкой добычей (древнегреческая поговорка).
(обратно)
497
Жители же тех городов, кои не были взяты варварами благодаря крепости их стен... — Речь идет о городах на Рейне — Аргенторате, Бротомаге, Табернах, Салисоне, Немкетах и некоторых других, на которые германцы не отважились напасть (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI.2.12).
(обратно)
498
...но когда супостат его потерпел поражение... — См. примеч. 22.
(обратно)
499
...послал он его туда, не менее уповая на его гибель, нежели на победу... — Согласно Аммиану Марцеллину, многие считали, что Констанций отправил Юлиана в Галлию не потому, что действительно рассчитывал на его успех в войне с германцами, а потому, что там юноша мог быстрее погибнуть в силу своей неопытности в ратном деле (см.: Римская история. XVI.11.13). Ср. об этом у Сократа Схоластика: Церковная история. III.1.
(обратно)
500
...троим правителям... — Имеются в виду Констанций, Константин II и Констант — трое сыновей Константина Великого, наследовавшие его власть.
(обратно)
501
..много было и гоплитов, и всадников, из коих самыми грозными... являлись те, что неуязвимы для оружия... — Имеются в виду катафрактарии, тяжеловооруженные конные воины, облаченные в доспехи, закрывавшие их с головы до ног: в шлем с металлической маской спереди, панцирь, наручи и поножи. Доспехи защищали не только всадников, но и лошадей и в этом случае состояли из маски, надевавшейся на голову животного, и металлической пластинчатой или чешуйчатой попоны. О наличии в армии Констанция таких закованных в броню всадников Либаний упоминает далее в настоящей речи (см.: 206). Однако, согласно Аммиану Марцеллину, такая же конница сражалась и на стороне Юлиана в Галлии (см.: Римская история. XVI.2.5).
(обратно)
502
...три сотни самых негодных гоплитов... — В другой своей речи Либаний говорит, что гоплитов было «менее четырехсот» (см.: На консульство императора Юлиана. 44). Сам же Юлиан в «Послании к сенату и народу афинскому» называет число «триста шестьдесят» (см.: 277d; ср.:
Зосим. Новая история. III.3.2).
(обратно)
503
...будто стоял во главе несметного числа Аяксов. — Имеется в виду Аякс Теламонид — один из храбрейших ахейских героев, сражавшихся под стенами Трои.
(обратно)
504
...и Геракл избег Стикса благосклонностью Афины. — Отсылка к двенадцатому подвигу Геракла, в ходе которого герой спустился в Аид и привел оттуда Кербера (Цербера). Переправиться через Стикс Гераклу помогла богиня Афина (см.:
Гомер. Илиада. VIII.362—369; Одиссея. XI.620—626).
(обратно)
505
...двинувшись из Италии в средине зимы... — Юлиан выступил в поход зимой 355 г. н. э.; его собственные воспоминания о галльском периоде нашли отражение в «Послании к сенату и народу афинскому» (см.: 277d сл.).
(обратно)
506
В то время как он проходил через первый городок той земли, которую завоевывал... — Здесь и далее описывается торжественный въезд Юлиана в Виенну-на-Роне. Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XV.8.21.
(обратно)
507
...на веревках, высоко протянутых от стен до колонн... — Имеются в виду портики, которые тянулись вдоль улиц всего города.
(обратно)
508
...один из таких венков, отвязавшись, опустился на голову цезаря и пришелся ему впору, и со всех сторон понеслись ликующие крики. — Об этом же случае пишет Сократ Схоластик (см.: Церковная история. III.1).
(обратно)
509
...Юлиан не распоряжался ничем, кроме собственной хламиды... — Хламидой у греков именовался короткий плащ из шерстяной ткани. Либаний цитирует здесь слова Юлиана из его «Послания к сенату и народу афинскому» (ср.: 278d).
(обратно)
510
...ибо такова была воля того, кто его туда послал, — чтобы они руководили, а он им подчинялся. — По причине неопытности Юлиана в военном деле и, вероятно, из-за недоверия к нему командование римской армией в Галлии император Констанций поручил магистру конницы Марцеллу и Сатурнию Секунду Саллюстию (см.:
Зосим. Новая история. III.2.2).
(обратно)
511
...памятуя об Одиссее и его долготерпении... — Имеются в виду многочисленные и разнообразные препятствия, возникавшие перед Одиссеем на пути домой. О терпении как отличительном качестве героя упоминает Гомер (см., в частности: Одиссея. XX.22—24).
(обратно)
512
...небольшая кучка стариков, по старости своей не бравших в руки оружия, отразила ночной штурм многочисленного отряда молодых воинов. — Имеется в виду нападение германцев в 356 г. н. э. на город Августодун, гарнизон которого оказался неспособен держать оборону. В итоге атаку варваров отразил собравшийся в городе отряд ветеранов (об этом см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI.2.1).
(обратно)
513
...словно воины Миронида... — См. примеч. 31 к «Надгробному слову...» Лисия.
(обратно)
514
...стали добычей наших отрядов, добиравшихся туда кто вплавь, кто на судах... — Речь идет о трибуне корнутов Байнобавде и его отряде, переправившемся через Рейн частью вброд, а частью на щитах и челноках (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI. 11.9). Римские щиты состояли из деревянной основы, обтянутой бычьей кожей, а по краям были окованы железом (подробнее о римском вооружении см.: Bishop, Coulston 1993; Macdowall 1995; Вэрри 2004).
(обратно)
515
...увидав, что одному из двух крупнейших городов наших в ходе бесчисленных нападений нанесен большой урон, а другой после недавнего штурма опустошен и лежит в руинах... — Первый из упомянутых городов — Бротомаг, освобожденный войском Юлиана (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI.2.12—13), второй — Агриппина-на-Рейне, о возврате которого под римскую власть сам Юлиан говорит в «Послании к сенату и народу афинскому» (см.: 279b; ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVL3.1).
(обратно)
516
...цезарь заключил с ним договор... — Имеется в виду договор Юлиана с франками (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI.3.2).
(обратно)
517
...не имея еще свободы во всём поступать так, как ему заблагорассудится. — См. примеч. 63 и 64.
(обратно)
518
Когда же был удален от него военачальник, который врагов боялся, а над жителями издевался... — Речь идет о магистре конницы Марцелле (см. примеч. 64), который не оказал помощь Юлиану, когда тот с небольшим войском был осажден германцами в Сенонах. Об этом эпизоде упоминает Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XVI.4.2—3), а также, вскользь, — сам Юлиан в «Послании к сенату и народу афинскому» (см.: 278b).
(обратно)
519
...на смену ему явился муж и в остальном достойнейший, и в военном деле искушенный... — Имеется в виду опытный и уже пожилой полководец Север (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI.10.21).
(обратно)
520
...поставив над ним того, кто казался ему опытным военачальником. — Речь идет о комите Барбационе, который после гибели Клавдия Сильвана (см. примеч. 43) был назначен магистром пехоты и, согласно Аммиану Марцеллину, прибыл из Италии с армией в 25 тыс. солдат (см.: Римская история. XVI. 11.2).
(обратно)
521
...старший... — Согласно одной точке зрения, здесь подразумевается сам Констанций, согласно другой — Барбацион, под началом которого находился Юлиан (см.: Allard 1900: 420; Seeck 1906: 258).
(обратно)
522
Когда же солдаты стали наводить плавучий мост, варвары... пустили вниз по течению толстые бревна, которые, наталкиваясь на суда, одни из них оторвали друг от друга, другие порушили, а третьи потопили. — Рассказ о данных событиях имеется лишь у Либания и не встречается больше ни в одном античном источнике (см.: Allard 1900: 421).
(обратно)
523
...цезарь, насколько это было возможно, начал с помощью войска снабжать города и крепости хлебом с возделанных варварами полей и восстанавливать разрушенные ими укрепления. — Речь идет о доставке провианта в укрепление Таберны (см. также:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI. 11.11).
(обратно)
524
...сообщение с властителем, зимовавшим далеко от Рейна... — Резиденцией Констанция в описываемое время был город Сирмий.
(обратно)
525
...предъявили письма от властителя, в которых тот отдавал им землю. — О посольстве германцев с их дерзким требованием см. также:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI. 12.3;
Сократ Схоластик. Церковная история. ΙΠ.1.
(обратно)
526
...задержал прибывшего... — Юлиан задержал посольство германцев у себя до окончания работ по укреплению лагеря (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI. 12.3;
Сократ Схоластик. Церковная история. III.1).
(обратно)
527
...произнесенная накануне сражения... — Имеется в виду битва под Аргенторатом в 357 г. н. э., подробно описанная Аммианом Марцеллином в «Римской истории» (см.: XVI.12.7—63).
(обратно)
528
...обратился к последнему с таковой речью. — Содержание ее известно нам благодаря Аммиану Марцеллину (см.: Римская история. XVI. 12.9—12), хотя приведенная в его сочинении речь не является подлинной, а, согласно античной традиции, сочинена самим историком.
(обратно)
529
...но поскольку обычай сего не дозволяет... — Имеется в виду риторический канон жанра эпитафия с определенным набором характерных для него топосов и тем (см. примеч. 4 к «Надгробной речи Александру»).
(обратно)
530
...«война им кровавая сладостней стала»... — Цитата из «Илиады» Гомера (II.453.
Пер. Н.И. Гнедича].
(обратно)
531
Цезарь решил, что оба крыла войска следует занять всадникам, центр — гоплитам, а лучшим воинам из тех и других — место рядом с ним, у правого крыла. — Сведения о расположении войск Юлиана дает также Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XVI. 12.7, 21).
(обратно)
532
...когда тех собралось уже тридцать тысяч... — Согласно Аммиану Марцеллину, войско противников Юлиана насчитывало 35 тыс. человек (см.: Римская история. XVI. 12.26).
(обратно)
533
...а на правом... крыле поместили вспомогательный отряд, каковой спрятали за высоким берегом, густо поросшим камышом, — ибо местность та была болотистой... — Об этой засаде упоминает и Аммиан Марцеллин, не давая, однако, ее подробного описания (см.: Римская история. XVI. 12.23, 27).
(обратно)
534
Походила же сия битва на то, что произошло во время морского сражения коринфян с керкирянами... — Имеется в виду морское сражение при Сиботских островах в 433 г. до н. э., в котором жители Керкиры одержали победу над коринфским флотом на левом фланге, однако потерпели поражение на правом и в беспорядке отступили. В результате ни коринфяне, ни керкиряне не сочли себя побежденными и установили военные трофеи — каждые в честь своей победы (подробно об этом см.:
Фукидид. История. 1.49 сл.).
(обратно)
535
...в своей речи к ним уподобившись сыну Теламонову, — a mom сказал, что с гибелью кораблей эллинам нет возврата... — Имеется в виду речь Аякса Теламонида перед ахейцами, побуждающая последних к защите кораблей от троян (см.:
Гомер. Илиада. XV.501—514).
(обратно)
536
...зычным голосом воскликнул, что в случае поражения городй запрут перед ними ворота и не дадут им пропитания, а в заключение добавил, что, если они решатся бежать, то придется им сперва убить его, ибо, пока он жив, он этого не допустит. — Ободряющая речь Юлиана к войску (также фиктивная; ср. примеч. 82) приводится у Аммиана Марцеллина, однако по своему содержанию она отличается от того, что сообщает Либаний (см.: Римская история. XVI. 12.40).
(обратно)
537
...равнина была устлана восемью тысячами мертвых тел... — Согласно Аммиану Марцеллину, германцы потеряли убитыми на поле боя б тыс. воинов (в то время как со стороны римлян погибло только 247 человек, см.: Римская история. XVI. 12.63), согласно же Зосиму — 60 тыс. (см.: Новая история. III.3.3).
(обратно)
538
...наши воины захватили вместе с подданными и их царя. — Речь идет о вожде германского племени по имени Хонодомарий, о захвате которого сам Юлиан говорит в «Послании к сенату и народу афинскому», именуя его Хнодомаром (см.: 279c). Согласно Аммиану Марцеллину, Хонодомарий был окружен римской когортой при попытке переправиться через Рейн обратно и добровольно сдался в плен вместе со всем своим отрядом в двести человек (см.: Римская история. XVI. 12.58—60).
(обратно)
539
...а тот был человеком весьма рослым и видным и своею фигурой и нарядом привлекавшим к себе всеобщие взоры. — Более подробное описание внешности и костюма Хонодомария приводит Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XVI.12.24).
(обратно)
540
А когда благородную поначалу речь тот завершил смиренными мольбами... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI.12.65.
(обратно)
541
...воздвигли они сей трофей над варварами... — См. примеч. 1 к «Надгробной речи» Горгия.
(обратно)
542
...словно некий бог, вложив отвагу в их сердца! — Либаний использует здесь метафору, часто встречающуюся у Гомера (см., в частности: Илиада. XVI.529; Одиссея. ΙΠ.76; VI. 139—140 и т. д.).
(обратно)
543
Ведь и для афинян... почетнее было то, что они свершили свой легендарный подвигу Марафона при помощи Геракла и Пана... — Согласно Геродоту, афиняне перед Марафонским сражением отправили за помощью в Спарту Фидиппида, которому по дороге явился бог Пан и велел передать афинянам, что и впредь станет им помогать, если они не будут пренебрегать им (см.: История. VI. 105). Называя среди божественных помощников афинян наряду с Паном и Геракла, Либаний намекает на то, что недалеко от Марафона находилось святилище этого героя.
(обратно)
544
Для начала он подверг наказанию знаменосцев... — По свидетельству Зосима, всадников, виновных в отступлении, Юлиан наказал, водя их по лагерю одетыми в женское платье, потому как считал, что для воина такое наказание окажется хуже смерти (см.: Новая история. III.3.5).
(обратно)
545
...однако жизни их не лишил, во имя победы даровав им пощаду. — Ср.:
Зосим. Новая история. III.3.5.
(обратно)
546
А того рослого человека, варварского царя, в качестве пленника и вестника собственных невзгод отослал к Констанцию... — Об этом факте свидетельствует и сам Юлиан (см.: Послание к сенату и народу афинскому. 279c—d). Согласно Аммиану Марцеллину, после своего пленения Хонодомарий жил в Риме в лагере иноземных солдат, где вскоре и умер (см.: Римская история. XVI. 12.66).
(обратно)
547
...как Ахилл уступил, свою добычу Агамемнону. — См. примеч. 10 к «Меланкому».
(обратно)
548
Констанций же и триумф справил, пустив перед собой этого варвара, и тщеславился, и кичился, — и всё это за счет чужих опасностей. — В эдиктах Констанция эта победа приписывалась ему одному, имя же Юлиана там не упоминалось вовсе (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVI. 12.70;
Юлиан. Послание к сенату и народу афинскому. 279d).
(обратно)
549
...не дал он солдатам сложить оружие, как бы они того ни желали... — Ср. со свидетельством Аммиана Марцеллина о решении Юлиана продолжать наступление за Рейном, несмотря на сопротивление армии: Римская история. XVII.1.2.
(обратно)
550
...ибо варвары напоминают раненого зверя в ожидании следующего удара. — Сравнение бегущего с поля боя воина с раненым зверем в ожидании смерти — распространенный топос в античной литературе (ср., например:
Дион Хрисостом. Меланком. 13).
(обратно)
551
...цезарь выжигал их деревни, вывозил из них всё, что те спрятали... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVII.1.7.
(обратно)
552
Цезарь, конечно, заключил с ними мир, но сроком на одну зиму... — Согласно Аммиану Марцеллину, перемирие было заключено сроком на десять месяцев (см.: Римская история. XVII.1.12).
(обратно)
553
...осадил... фрактов... — Имеются в виду франки (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVII.8.1—4).
(обратно)
554
...они были взяты в плен... — Согласно Аммиану Марцеллину, варвары, голодовкой и караулами доведенные до крайности, сдались сами, после чего были немедленно отправлены в ставку императора Констанция (см.: Римская история. XVII.2.3).
(обратно)
555
...подвергшись, я полагаю, тому же, что и спартанцы при Сфактерии. — Речь идет об эпизоде Пелопоннесской войны, имевшем место в 425 г. до н. э., когда лакедемонский гарнизон острова Сфактерии, окруженный союзными войсками афинян и мессенцев, был вынужден сдаться (редкий случай капитуляции спартанцев), после чего пленных переправили в Афины (см.:
Фукидид. История. IV.38.3).
(обратно)
556
...на страну... напало целое племя варваров... — Речь идет об алеманнском племени хамавов (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVII.8.5).
(обратно)
557
...как некогда мудрецы — в Лидию к Крезу. — Согласно Геродоту, после того как лидийский царь Крез покорил многочисленные соседние народы и существенно расширил таким образом границы своих владений, в столицу его государства, богатые и могущественные Сарды, стали съезжаться все греческие мудрецы, среди которых был и Солон (см.: История. 1.29).
(обратно)
558
Но Крез показывал Солону свои сокровища, ибо не было у него ничего дороже этого... — Крез считал себя счастливейшим человеком на свете, ибо он был сказочно богат и о его богатстве ходили легенды. Когда в Сарды прибыл Солон, царь показал гостю свои многочисленные кладовые и спросил, кого тот считает самым счастливым человеком на свете. Солон же, вопреки ожиданию Креза, назвал троих безвестных афинян, которые не только не были богаты, но к тому времени давно умерли. Недоумение и гнев царя, вызванные ответом мудреца, утихли, после того как Солон пояснил, что судьба переменчива и ни одного человека нельзя считать счастливым, пока его жизнь не окончена (см.:
Геродот. История. 1.30 сл.).
(обратно)
559
...в окружении спутников Гермеса и Зевса. — Вероятно, аллюзия на диалог Платона «Федр» (см.: 252c—d). Здесь Либаний проводит параллель между беседами Сократа и его учеников, с одной стороны, и интеллектуальным кружком Юлиана — с другой. Под спутниками Зевса подразумеваются в данном случае поклонники философии, а под спутниками Гермеса, традиционно считавшегося покровителем красноречия, — ценители словесного искусства.
(обратно)
560
...он тотчас двинулся в поход... — Речь идет о походе против салических франков, захвативших римскую территорию вблизи Токсандрии (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVTL8.3 сл.).
(обратно)
561
...близ реки... — Имеется в виду Рейн.
(обратно)
562
...и двинулся с войском вперед, одно опустошая, другое отбирая, и никто ему в том не препятствовал. — Речь идет о походе Юлиана против племени германского вождя Гортария (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVII. 10.5 сл.).
(обратно)
563
...и скиптродержцы кланялись ему чуть не до земли... — Имеются в виду вожди германских племен Суомарий и Гортарий (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVII. 10.10 сл.).
(обратно)
564
...он, припомнив варварам их частые бесчинства... повелел им заплатить за мир, искоренив собственное зло, — восстанавливая города и возвращая плененных жителей. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVII. 10.9.
(обратно)
565
Некогда воины Кира, впервые увидевши море после нескончаемых гор и многих превратностей пути, издали крик радости и плакали от счастья, и обнимались, как товарищи по пережитым невзгодам. — Отсылка к известному эпизоду из «Анабасиса» Ксенофонта (см.: IV.7.21—25).
(обратно)
566
...к величайшему из островов, каковые только существуют под солнцем, — к тому, что находится посреди Океана... — Имеется в виду Британия.
(обратно)
567
...цезарь вскоре построил больше судов, чем было раньше... — Согласно Зосиму, судов было 800 (см.: Новая история. III.5.2). Сам же Юлиан называет другое число — 600 кораблей (см.: Послание к сенату и народу афинскому. 280a).
(обратно)
568
...судьею же выступал Флоренций, наместник Галлии, — человек, привычный к лихоимству. — Об этой же черте Флоренция пишет Аммиан Марцеллин и свидетельствует сам Юлиан (подробнее см. примеч. 123).
(обратно)
569
Но когда он увидал, что истина одержала верх над почтением к нему... — О своем расхождении с Флоренцием упоминает и сам Юлиан, упрекая его в жадности (см.: Послание к сенату и народу афинскому. 282c). Аммиан Марцеллин же весьма подробно останавливается на конфликте цезаря с Флоренцием, вызванном их разногласиями по вопросу о сборе податей в Галлии: Флоренций настаивал на необходимости покрыть недоимки поземельного налога путем экстренных денежных взысканий с населения, Юлиан же выступал против введения таких мер, пагубно сказывающихся на благосостоянии провинций (см.: Римская история. XVII.3.2 сл.).
(обратно)
570
...оклеветав в письмах к властителю сановника, с коим цезарь был весьма близок... добился его удаления, а тот был цезарю вместо отца. — Речь идет о Сатурнии Секунде Саллюстии (см. примеч. 42 и 64). Однако сам Юлиан виновником удаления Саллюстия считал не Флоренция, а некоего Пентадия (см.: Послание к сенату и народу афинскому. 282b—с). Согласно Зосиму, отозвав Саллюстия из Галлии и назначив его затем префектом Востока, Констанций стремился таким образом лишить Юлиана опытного и преданного ему советника (см.: Новая история. III.5.3).
(обратно)
571
...почтил впавшего в немилость сановника речью... — Эта речь Юлиана под названием «Утешение, обращенное к себе в связи с отъездом Саллюстия» сохранилась до наших дней.
(обратно)
572
...и восстановил там город Гераклею — детище Геракла. — Речь идет о римском укреплении под названием «Лагерь Геркулеса» (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVIII.2.4).
(обратно)
573
...он шел в обход земель дружественных ему племен, дабы, наступая на врагов, не причинить ненароком какого ущерба своим союзникам. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVIII.2.7.
(обратно)
574
Так, продвигаясь вперед и осматривая противоположный берег, он заприметил одно подходящее для высадки место, каковое могло бы обеспечить безопасность захватившим его воинам. — Подробнее об этом предприятии Юлиана см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVIII.2.8—14.
(обратно)
575
Тайком оставив несколько судов и небольшую часть войска в одном из заливов реки... — Несколько иначе об этом рассказывает Аммиан Марцеллин; согласно его версии, небольшой отряд воинов был отправлен вниз по реке на легких судах с места стоянки всего войска (см.: Римская история. XVIII.2.11).
(обратно)
576
...заключил мир лишь тогда, когда удовлетворил свою жажду мести. — Подробнее об этом см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVIIL2.15—19.
(обратно)
577
...когда все хором воздавали цезарю хвалу... — О большой популярности Юлиана у римского народа свидетельствует также Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XX.4.1).
(обратно)
578
...его настигла зависть человека, который был обязан ему своими победными венками. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XX.4.1—2;
Зосим. Новая история. III.8.3.
(обратно)
579
Ибо властитель вызвал и перевел к себе лучшую часть войска и всех тех, кто годился для службы... — Согласно Аммиану Марцеллину, Констанций распорядился забрать из армии Юлиана вспомогательные отряды эрулов, баталов, кельтов и петулантов, а также по триста человек из всех остальных легионов (см.: Римская история. XX.4.2—3). Зосим называет более точную цифру — два легиона, т. е. около 12 тыс. солдат (см.: Новая история. IIL8.3).
(обратно)
580
...война с персами... — Имеется в виду Римско-персидская война 338— 361 гг. н. э., которую Констанций II вел с Шапуром II за римские укрепления в Месопотамии.
(обратно)
581
...сей благородный человек предпочел лучше пострадать, проявляя покорность, нежели вызывая нарекание в неповиновении... — Как сообщает Аммиан Марцеллин, Юлиан беспрекословно подчинился решению императора (см.: Римская история. XX.4.4).
(обратно)
582
...они потрясали ими, словно ветвями оливы... — Ветвь оливы считалась в античности символом мира и была атрибутом умоляющих.
(обратно)
583
...подальше от того города, где находился его дворец и где он проводил время... — Имеется в виду крупнейший город Галлии — Лютеция, где с 355 г. н. э. находилась резиденция Юлиана.
(обратно)
584
...произнес перед ними речь о том, что не должно обсуждать решение, принятое высшей властью. — Аммиан Марцеллин также приводит речь Юлиана к войску, но она существенно отличается по содержанию от того, что говорит Либаний (ср.: Римская история. XX.4.1 б).
(обратно)
585
...они, вооружившись, окружили царский дворец и, громко выкрикивая имя цезаря, даровали ему высший титул и звание. — Речь идет о титуле августа (верховного правителя в Римской империи). См. также описание военного бунта у Аммиана Марцеллина (см.: Римская история. XX.4.14 сл.) и самого Юлиана (см.: Послание к сенату и народу афинскому. 284c—d).
(обратно)
586
И хотя он гневался на происходящее, но поделать ничего не мог... — Согласно собственному свидетельству Юлиана, он воспринял произошедшее как знак божественного Провидения (см.: Послание к сенату и народу афинскому. 284d). По Аммиану Марцеллину, накануне бунта Юлиану было видение Гения римского народа (его изображали обычно в виде молодого мужчины с непокрытой головой, одетого в тогу и держащего в левой руке рог изобилия, а в правой — чашу для жертвоприношений), который сообщил будущему императору о предстоящих событиях и о том, что его правление предопределено свыше (см.: Римская история. XX.5.10). Однако историк Евнапий (со ссылками на другой источник) дает иную версию этого события, сообщая, что военный бунт в поддержку Юлиана был подготовлен Орибасием из Пергама, врачом и другом Юлиана, и неким Эвгемером, уроженцем Ливии (см.: Жизни философов и софистов. 99—100). Византийский же историк Иоанн Зонара и вовсе указывает на непосредственное участие во всех этих событиях самого Юлиана, будто бы заранее склонившего на свою сторону нескольких трибунов (см.: Сокращение историй. XIII.10).
(обратно)
587
И в то время как цезарь уклонялся от золотой диадемы... — Аммиан Марцеллин иначе излагает причину этого отказа: поскольку диадемы на тот момент не нашлось, Юлиану предлагали надеть вместо нее золотое украшение его жены, однако цезарь отказался от этого, сочтя такую замену плохой приметой для царствования (см.: Римская история. XX.4.17—18).
(обратно)
588
...некий человек, стоявший позади него, и ростом великий, и остальными достоинствами превосходный, возложил на его главу ожерелье, кое носил в знак своей высокой должности. — Речь идет о некоем Мавре, который был гасгатом петулантов и находился в числе охраны дворца Юлиана (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XX.4.18). Сам же Юлиан не называет его имени, говоря лишь, что «кельтское ожерелье» (μανιακής) возложил ему на голову один из солдат (см.: Послание к сенату и народу афинскому. 284d). См. об этом также:
Сократ Схоластик. Церковная история. III.1.
(обратно)
589
...и разве что не связали, как в пословице... — Эта древнегреческая пословица, в которой говорится об ахейцах, связывающих Агамемнона вместо того, чтобы явить ему свою благодарность, еще дважды упоминается в письмах Либания (см.: 194, 1063).
(обратно)
590
...он разослал в города хороших начальников взамен дурных... — См. об этом также:
Сократ Схоластик. Церковная история. ΙΠ.1.
(обратно)
591
...послы Юлиана предлагали сохранить за цезарем его нынешнее положение, обещая, что он не будет более присваивать себе ничего сверх того, чем уже обладает, а послы Констанция требовали, чтобы тот отказался от всех почестей и занял свое прежнее место. — Эта версия переговоров, изложенная Либанием, вполне согласуется со свидетельством Аммиана Марцеллина, который сообщает, что Юлиан обещал Констанцию полное подчинение со своей стороны, если тот признает за ним титул августа и сохранит в его управлении Галлию (см.: Римская история. XX.4.8). Однако Зосим приводит иные данные, согласно которым Юлиан выражал готовность сохранить за собой только титул цезаря при условии полного прощения со стороны властителя, но Констанций потребовал, чтобы он сложил с себя все полномочия и жил на положении частного лица, вверив себя милости императора (см.: Новая история. III.8.3—4).
(обратно)
592
И сей варвар в одно и то же время и грабил, и в полном достатке жил на полях, кои получил за это в награду... — Речь идет о царе германского племенного союза алеманнов Вадомарии (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXI. 3.4-5).
(обратно)
593
...застав его во время пира, сурово наказал за измену. — О захвате Вадомария на пиру у нотария Филагрия, который сам доставил алеманнского царя к Юлиану, сославшему затем пленника в Испанию, см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXI.4.3—6).
(обратно)
594
...Юлиан поднялся на высокий помост посреди варваров... припомнил им прошлое, пригрозил будущим и удалился. — Данную речь Юлиана также приводит Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXI.5.2—8).
(обратно)
595
...Небридий, бывший наместником и назначенный на эту должность старшим правителем, стал осуждать происходящее, понося эти клятвы, уклоняясь от них и называя варварами тех, кто их приносил. — Небридий, служивший при Юлиане квестором, был назначен префектом претория самим Констанцием; чувство благодарности к императору помешало ему поддержать бунт (об этом см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXI.5.11).
(обратно)
596
...но он спасся, словно облаком сокрытый. — Аллюзия на «Илиаду» Гомера, где подобным образом боги часто спасают героев (см., напр.: III.381; V.345; XXI. 597 и т. п.). Согласно Аммиану Марцеллину, Юлиан, к коленям которого, ища спасения от солдатского гнева, припал Небридий, прикрыл его своим военным плащом (см.: Римская история. XXI.5.12).
(обратно)
597
...письма этого труса и предателя... — Речь идет о Констанции (см. п. 107 наст. речи).
(обратно)
598
Слушатели же становились Констанцию врагами, а Юлиану — друзьями... — Подобным же образом описываются события у Сократа Схоластика (см.: Церковная история. III.1).
(обратно)
599
...о котором молила богов — молча и вдали от алтарей, ибо не было у нее оных. — Намек на запрет языческих культов и ритуалов в период правления Константина Великого и его сына Констанция (см. примеч. 15 к «Монодии Юлиану»).
(обратно)
600
...посылая им в знак почета дары, сам принося жертвы и прочих к тому призывая. — См. примеч. 9 к «Монодии Юлиану».
(обратно)
601
Зная о том, что у афинян даже боги привлекались к суду... — Имеется в виду миф о суде над Аресом, учиненном в Афинах олимпийскими богами по просьбе Посейдона (см. примеч. 44 к «Монодии Юлиану»).
(обратно)
602
...а судьями над собой поставил Эрехтидов... — То есть афинян (см. п. 27 к «Надгробной речи» Демосфена).
(обратно)
603
...послав им письма с оправдательной речью. — Имеется в виду «Послание к сенату и народу афинскому», в котором Юлиан дает подробный отчет о своих действиях. Известно также, что существовало еще две подобные речи; одну из них Юлиан направил в Коринф (второй по значимости греческий город после Афин), а другую — в Рим. Оба послания не сохранились до наших дней. О первом мы знаем благодаря Либанию, который цитирует его в одной из своих речей (см.: К Юлиану за Аристофана. 29—30); содержание второго пересказывает Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXI. 10.7—8).
(обратно)
604
...к нему во весь опор уже скакали гонцы, дабы сообщить о кончине при Кренах старшего правителя. — Известие о смерти Констанция в Мопсукрене, а также о назначении им Юлиана своим преемником доставили в Наисс, где тогда находился Юлиан, послы Теолайф и Алигильд (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXI.15.4; XXII.2.1).
(обратно)
605
...последний расточал угрозыпострашнее Ксерксовых... — Имеется в виду гнев царя Ксеркса, велевшего кнутами высечь море за то, что буря разрушила возведенный им мост через Геллеспонт. Геродот сообщает, что палачи, секшие море, называли его при этом оскорбительными словами и грозили тем, что отныне никто не станет приносить ему жертвы. Помимо этого наказания Ксеркс велел также заклеймить море позорной печатью и погрузить в него оковы, а надзиравшим за сооружением моста — отрубить головы (см.: История. VIL35).
(обратно)
606
.„«ненавидит надменных речей похвальбу»... — Цитата из «Антигоны» Софокла (127.
Пер. Ф.Ф. Зелинского).
(обратно)
607
...государь, послав за свитком... явил перед всеми написанное в нем пророчество, полученное им гораздо раньше и ныне этой вестью подтвержденное... — Согласно Аммиану Марцеллину, Юлиану в бытность его еще цезарем было видение, предрекавшее смерть Констанция и его собственное грядущее царствование (см.: Римская история. XXI.2.2). Об этом видении упоминают и другие авторы (см.:
Зосим. Новая история. III.9.6;
Иоанн Зонара. Сокращение историй. XIII.10).
(обратно)
608
Мим — небольшое театрализованное представление в исполнении одного или нескольких актеров, основу которого составляли танец, жестикуляция и диалог (или монолог). Мимические актеры играли без масок, что позволяло также задействовать мимику для достижения наибольшего эффекта. В отличие от древнегреческой классической драмы в мимах допускались сцены жестокости, насилия, убийств и всякого рода непристойности. Расцвет этого жанра, пользовавшегося большой популярностью в народе, приходится на первые века Римской империи и отчасти связан с начавшимся в эллинистическую эпоху упадком греческого классического театра.
(обратно)
609
...кто готов был поступить с ним подобно Креонту. — См. примеч.
5 к «Надгробному слову...» Лисия.
(обратно)
610
...а пришел он в гавань великого города... — Имеется в виду Константинополь.
(обратно)
611
Между тем людей развращенных одолевал страх... — Речь идет о христианах, которые опасались возобновления жестоких гонений, имевших место при императоре Диоклетиане (после его эдиктов 303 и 304 гг. н. э.).
(обратно)
612
«“Куда вы же катитесь, люди?!”» — Цитата из псевдоплатоновского диалога «Клитофонт» (407a).
Пер. С.П. Шестакова.
(обратно)
613
«...Ведь не потому летели в них... стрелы, что телами своими отличались они от прочих созданий, а потому, что... порочили они богов, как о том говорится в предании». — В древнегреческой мифологии гиганты, порожденные Геей, по наущению своей матери восстали из Тартара, куда их прежде заточил Кронос, и начали забрасывать небо скалами и горящими дубами, дабы истребить олимпийских богов. Тогда боги, бессильные справиться с гигантами в одиночку, призвали Геракла, который при помощи стрел с отравленными наконечниками, пропитанными ядом сраженной им Гидры, убил Алкионея — самого сильного из гигантов. В битве с гигантами («гигантомахии») наряду с Гераклом особенно отличились Зевс, Афина, Дионис, Гефест, Посейдон, Артемида и Apec (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. 1.6.1—2).
(обратно)
614
...если бы он сделал всех людей богаче, чем Мидас... — По легенде, фригийский царь Мидас в награду за свою помощь попросил у Диониса, чтобы тот даровал ему способность обращать в золото всё, к чему он прикоснется. Позднее, поняв весь ужас своего положения, Мидас смог избавиться от этого тягостного дара, искупавшись в реке Пактол.
(обратно)
615
...великолепнее, чем некогда Вавилон... — Геродот, давая подробное описание Вавилона, называет его самым знаменитым, самым большим, самым могущественным и самым красивым городом ассирийцев (см.: История. 1.178 сл.). «Висячие сады» Вавилона считались в античности одним из семи чудес света.
(обратно)
616
...и вокруг каждого из городов воздвиг бы стену из чистого золота... — Возможно, аллюзия на пассаж из диалога Платона «Критий», где описываются стены Акрополя легендарной Атлантиды, некогда погрузившейся на дно моря, которые были покрыты «орихалком, испускавшим огнистое блистание» (116b.
Пер. С.С. Аверинцева).
(обратно)
617
...он занялся врачеванием душ, предводительствуя теми, кто обладал истинными познаниями о небе... — Имеются в виду философы, которыми окружил себя Юлиан.
(обратно)
618
...увлекая их своими речами, достигал того, что, поначалу отказываясь от этого, позднее они уже плясали вокруг алтарей. — Об одном из таких случаев обращения в языческую веру, произошедшем с неким Феликсом, комитом частных дел и хранителем государственной казны, Либаний упоминает в своей речи «К Юлиану за Аристофана» (см.: 36).
(обратно)
619
...богу, приводящему с собою день... — Имеется в виду Гелиос.
(обратно)
620
...он первым делом всегда сообщался с богами, принося им жертвы, в чем превзошел даже Никоя. — О чрезмерной набожности Никия, стратега, командовавшего флотом афинян во время Сицилийской экспедиции (см. примеч. 21 к «Монодии Смирне»), упоминает Фукидид, рассказывая о том, как этот полководец приказал задержать на несколько дней отплытие афинского флота из-под Сиракуз, поскольку счел неблагоприятным знаком лунное затмение, случившееся накануне (см.: История. VII.50.4). В тексте Либания очевидна игра слов: «νικήσαι <...> τόν Νικίαν» — букв.: «победил <...> Победителя» (имя «Никий» означает по-гречески «победитель»).
(обратно)
621
...он тотчас их разогнал, считая сие не помощью, а вредом для государства. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.4.10;
Сократ Схоластик. Церковная история. III.1.
(обратно)
622
...писцов, кои, занимаясь ремеслом рабов... — В античности книги издавались путем многократного переписывания рукописей под диктовку, чем занимались в скрипториях специально обученные письму рабы (в Риме они назывались либрариями). Нам известны имена некоторых античных книгоиздателей, содержавших на свои средства такие скриптории: например, Тит Помпоний Аттик, близкий друг Цицерона и издатель его сочинений, о чьей деятельности мы хорошо знаем из писем к нему последнего (см., в частности: Титу Помпонию Аттику, в Рим. 1.10.3; 14.2 и т. д.), а также Каллин, упоминаемый Лукианом (см.: Неучу, который покупал много книг. 2.24).
(обратно)
623
...дабы придать домам сыновей валяльщиков... — Сыном валяльщика из Фригии был Элий Клавдий Дульциций, проконсул Азии при Констанции и Юлиане (см.:
Либаний. За Фалассия. 24;
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXVII. 8.10).
(обратно)
624
...собаки во всём подобны своим хозяевам. — Древнегреческая пословица, упоминаемая, в частности, в «Государстве» Платона (см.: 563c).
(обратно)
625
...уклонившись от участия в городских советах и презрев законы о повинностях, — они записались в доносчики, выкупив себе должность царских соглядатаев... — Уклонение декурионов от куриальных (общественных) повинностей посредством перехода на императорскую службу в качестве agens in rebus (сыскного агента
(лат).) или curiosus (соглядатая
(лат).) (греческий аналог — μανδάτωρ) было весьма распространенным явлением в поздней Римской империи. Уменьшение состава провинциальных курий по причине общего обеднения населения — предмет постоянных жалоб Либания (см.: Против Икария. 2-я речь. 21; О патронатах. 10).
(обратно)
626
...«царевы очи»! — Цитата из комедии Аристофана «Ахарняне» (92.
Пер. А.И. Пиотровского}.
(обратно)
627
Ибо кто приходил Иром, тот вскоре становился Каллием. — Имеются в виду соответственно персонаж поэмы Гомера «Одиссея» (см.: XVIII. 1 сл.), нищий по имени Ир, и афинянин, знаменитый своим несметным богатством, которое вошло в поговорку. О Каллии упоминают, в частности, Платон (см.: Протагор. 31 le; Кратил. 391c) и Аристофан (см.: Женщины в народном собрании. 810). Также в одном из своих писем Либаний употребляет обратную поговорку: «делать из Каллиев Иров» в значении «разорять кого-либо» (см.: 143).
(обратно)
628
...возвели на сей почве настоящий Сибарис... — Имеется в виду ахейская колония на берегу Тарентского залива (основана в 709 г. до н. э.), славившаяся своим богатством; ее жители (сибариты), привыкшие к роскоши и беззаботной жизни, стали в античности символом изнеженных людей, любителей наслаждений.
(обратно)
629
...чуть ли не все заседавшие там покинули их, перейдя кто — в войско, кто — в сенат... — Речь идет о переходе с местной службы, не приносившей никакого дохода, на императорскую, осуществлявшуюся на государственный счет. Набор в сенат Константинополя также происходил за счет членов провинциальных курий, что соответственно приводило к уменьшению состава последних и в целом — к снижению эффективности работы муниципальной власти в городах (об этом см.:
Либаний. Письма. 40, 70, 80).
(обратно)
630
Те же немногие, кто еще оставался, исчерпали свои силы, и несение повинностей для большинства оканчивалось полным разорением. — Основная повинность декурионов — крупных городских землевладельцев, входивших в городские советы, — заключалась в сборе налогов с населения городов и приписанных к последним сельских жителей. Однако ввиду малочисленности этого сословия при Констанции и Юлиане подобные повинности нередко ложились на куриалов тяжким бременем. Либаний неоднократно поднимает этот вопрос в своих речах (см., в частности: О Патронатах. 9—10).
(обратно)
631
Тот самый, достойный всяческих похвал, указ о необходимости призывать в советы всякого, а освобождать лишь самых неимущих... — Судя по всему, имеется в виду принятый Юлианом 13 марта 362 г. н. э. закон, предписывавший декурионам, уклонявшимся от своих обязанностей, возвращаться на прежние места (см.: Кодекс Феодосия. ХЛ. 1.50—56). В целом в результате ряда предпринятых мер Юлиану удалось в несколько раз увеличить количество декурионов в различных городах империи, о чем сам он неоднократно упоминает в своих письмах (см.: 54, 696 и др.).
(обратно)
632
...из тех троих, что были казнены ~ лишил войско царских подарков. — Первым из троих казненных, о которых упоминает Либаний, был нотарий Павел Катена, при императоре Констанции занимавшийся расследованием дел о заговорах против власти и проявлявший при этом крайнюю жестокость (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XIV.5.6—9; XIX. 12.5; XXII.3.10); вторым — Евсевий, начальник опочивальни Констанция, известный своими вымогательствами и жестокостями (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.3.11) и, судя по всему, причастный к казни цезаря Галла, брата Юлиана (см.:
Сократ Схоластик. Церковная история. III.1); третьим же — комит государственного казначейства Урсул, неосторожными высказываниями возбудивший против себя негодование солдат (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.3.7).
(обратно)
633
...заслуженного наказания от него не понесли, смерти избежали и лишь переселились на острова... — Имеются в виду магистры оффиций Палладий, сосланный Юлианом в Британию (он подозревался в том, что настраивал императора Констанция против Галла), и Флавий Флоренций, отправленный в ссылку в Далмацию на остров Буа (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.3.3, б). Кроме этих двоих, в изгнание отправились еще только четыре человека (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII. 4—5, 7).
(обратно)
634
...по выражению Гомера, вещая «с мужеством твердым»... — Цитата из «Одиссеи» Гомера (VIII. 171.
Пер. В А. Жуковского). Имеется в виду эпизод, в котором дается характеристика мужа, обладающего ораторским даром и являющегося в связи с этим украшением любого собрания, что делает его в глазах людей богоподобным.
(обратно)
635
...то «мало, но разительно», то подобно «снежной вьюге»... — Цитаты из «Илиады» Гомера (III.214, 222.
Пер. Н.П. Гнедича), характеризующие соответственно простые и краткие речи Менелая и, напротив, многословные и витиеватые речи Одиссея.
(обратно)
636
...ему сообщили о прибытии учителя, родом ионийца, известного как «философ из Ионии»... — Речь идет о Максиме Эфесском, прежнем учителе философии Юлиана (см. примеч. 25). См. об этом также:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.7.3;
Евнапий. Жизни философов и софистов. 98 сл.
(обратно)
637
...с теми же чувствами, что и Херефонт — навстречу Сократу. — Аллюзия на начало диалога Платона «Хармид», где Херефонт горячо приветствует своего учителя Сократа, неожиданно появившегося в палестре (см. примеч. 192) после длительного отсутствия из-за участия в войне (см.: 153b). Инцидент в сенате, описываемый Либанием, вызвал противоречивые оценки у современников Юлиана. Так, Аммиан Марцеллин подвергает императора критике за неподобающее его сану поведение (см.: Римская история. XXII.7.3), Либаний же, напротив, хвалит его за просвещенный ум и преданность философии (ср. подобное суждение этого оратора: Жизнь, или О собственной доле. 129).
(обратно)
638
...находился в палестре Таврея... — Палестрами назывались в Древней Греции частные школы для мальчиков, где ученики занимались борьбой, метанием копья и диска, бегом, прыжками, гимнастическими упражнениями и плаванием. Одна из таких палестр в Афинах носила имя ее владельца, Таврея, и находилась вблизи храма Зевса Спасителя (Σωτηρος, или Ελευθερίου), напротив царского храма (см.:
Платон. Хармид. 153a;
Лукиан. Парасит. 43).
(обратно)
639
...что у владык в небрежении оставляемо, тем и все пренебрегают, а что у них почитаемо, к тому и все свое усердие направляют. — Аллюзия на соответствующее место в «Государстве» Платона (см.: VIII.551a).
(обратно)
640
...для чего окружал почетом людей, в нем сведущих, и, кроме того, сам сочинял речи. — Ср.:
Сократ Схоластик. Церковная история. III.1.
(обратно)
641
...в
ту пору он составил сразу две речи... — Имеются в виду речи «Против киника Гераклия» (упоминается также в «Монодии Юлиану», см.: 16) и «К Матери богов». Оба этих сочинения сохранились до нашего времени (см. соответственно примеч. 26 и 28 к «Монодии Юлиану»).
(обратно)
642
...Матери богов. — Речь идет о Кибеле.
(обратно)
643
...отнимал кормило власти в провинциях у варваров, кои, писать умея быстро... — Под умением быстро писать подразумевается владение грамотой (в данном случае — латинским и греческим языками). Вместе с римским гражданством жители завоеванных римских провинций получали и право занимать государственные должности на местах.
(обратно)
644
...опрокидывали весь корабль. — См. примеч. 36 к «Монодии Никомедии».
(обратно)
645
...когда государь направился в Сирию... — Юлиан совершил поездку из Константинополя в Антиохию летом 362 г. н. э.
(обратно)
646
...наместник Киликии, мой ученик, а государю близкий друг, произнес в честь него похвальную речь, когда, принеся жертвы богам, тот стоял у алтаря. — Имеется в виду Цельс, с которым Юлиан был знаком еще со времени своего ученичества в Афинах (см. примеч. 42). См. об этом также:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.9.13;
Либаний. Письма. 648.
(обратно)
647
С тех пор луг вновь запестрел цветами мудрости. — Под «лугом» здесь подразумевается философия (см. также п. 12 наст. речи). Аллюзия на знаменитую метафору Платона из диалога «Федр», где говорится о «луге» (λειμών) истины (см.: 248c).
(обратно)
648
...сворачивал с прямой дороги, дабы узреть храмовые святыни... — См. примеч. 28 к «Монодии Юлиану».
(обратно)
649
..мечтал поскорее отомстить персам... — Об этом желании императора Либаний упоминает и в «Монодии Юлиану» (см.: 19; см. также примеч. 34 к названной речи).
(обратно)
650
...заметив только, что теперь всякий станет шутить над ним, будто он и впрямь сродни своему предшественнику. — Намек на медлительность и нерешительность Констанция в военных действиях (см. п. 91 наст. речи).
(обратно)
651
...от персидского царя... — Имеется в виду Шапур II.
(обратно)
652
Он же, приказав с позором выбросить письмо... — Ср.:
Либаний. На консульство императора Юлиана. 77.
(обратно)
653
...что, по словам Гомера, испытывает человек, встретившись в горах со змеею... — Речь идет о сильнейшем страхе, заставляющем человека обращаться в бегство (см.: Илиада. III.33—35).
(обратно)
654
...государь считал, что на помощь следует не скифов призывать... — Намек на Констанция, в чьих вспомогательных войсках во время войны с персами (360 г. н. э.) состояли на службе готы, которых Либаний по греческой традиции называет скифами — как обитателей Северного Причерноморья (см. также:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XX.8.1).
(обратно)
655
...если бы кто сказал, что государь сразил и сокрушил персов еще на берегах Оронта... — То есть сидя на месте, не вступая в войну. На реке Оронт находилась Антиохия, где император провел восемь месяцев (с июля 362 г. по февраль 363 г. н. э.) перед походом на персов (см. также п. 17—18 к «Монодии Юлиану»).
(обратно)
656
...таковое его усердие стоило казне немалых денег... — О том, что религиозные церемонии часто проводились с большим размахом и требовали значительных расходов, свидетельствует Аммиан Марцеллин, сообщая, в частности, как иногда зараз в жертву богам приносилось по сто быков, не считая множества мелкого скота и птицы (см.: Римская история. XXII. 12.6—7).
(обратно)
657
...зрелища, скачки и травлю изможденных животных —увеселения, кои нисколько не привлекали этого мужа. — О своей нелюбви к скачкам Юлиан сам признаётся в речи «Антиохийцам, или Брадоненавистник» (см.: 340a).
(обратно)
658
Кто был способен так выдерживать посты за постами, почитая различных богов — Пана, Гермеса, Гекату, Исиду и остальных? — Строгое соблюдение постов входило в обряд очищения, являвшийся неотъемлемой частью многих мистериальных культов, особенно заимствованных греками и римлянами у восточных народов. Таковы, например, культы египетских богов Исиды, Осириса и Сераписа, культ фригийской богини Кибелы и др. (см.:
Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел XI.30;
Марин. Прокл, или О счастье. 19). Практика воздержания от пищи существовала и в рамках некоторых исконно греческих религиозных праздников — в частности, Элевсинских мистерий и Фесмофорий, оба из которых были посвящены культу Деметры и Персефоны (см.:
Плутарх. Об Исиде и Осирисе. 69;
Климент Александрийский. Увещевание к язычникам. II.21).
(обратно)
659
...сказанное поэтом свершилось наяву', кто-то из богов, сойдя с небес на землю... что-то ему сказал и, получив ответ, удалился. — Отсылка к эпизоду гомеровской «Илиады», в котором Афина является к Ахиллу и беседует с ним, предостерегая от совершения опрометчивого поступка (см.: 1.193—221).
(обратно)
660
...как однажды, взойдя в полдень на Кассий к Зевсу Кассийскому... — О посещении Юлианом указанного святилища и принесении им там жертвы Зевсу упоминает и Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXII.14.4). См. также:
Либаний. Письма. 651.
(обратно)
661
Ведь даже у Агамемнона советчиком был пилосец Нестор... — Нестор, старейший из героев, сражавшихся под Троей, считался мудрейшим мужем и наилучшим советчиком среди ахейцев (см.:
Гомер. Илиада. 1.247 сл.; II.21, 404— 405; IX.93—94; X.17-20 и др.).
(обратно)
662
...наскоро позавтракав, да и то лишь для того, чтобы поддержать в себе жизнь... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.4.4.
(обратно)
663
...и читал их вслух, не уступая в этом цикадам... — Сравнение искусного произнесения речи с пением цикад, особенно применительно к красоте слога, широко распространено в греческой литературе начиная с Гомера (см.: Илиада. III.151—152;
Аристофан. Тучи. 984 и т. д.).
(обратно)
664
...сей переменой в трудах своих превосходя Протея... — Согласно мифу, вещий морской старец Протей обладал способностью принимать любое обличье (см.:
Вергилий. Георгики. IV.387—414).
(обратно)
665
Посейдон сотрясал великий город во Фракии... — Либаний имеет в виду землетрясение 2 декабря 362 г. н. э., которое, помимо прочих городов, затронуло также и Константинополь (см. примеч. 59 к «Монодии Юлиану»). Об этом же катаклизме упоминает Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXII.13.5). О Посейдоне как боге землетрясений см. примеч. 8 к «Монодии Никомедии».
(обратно)
666
...человек из Палестины изображается богом и божьим сыном... — Имеется в виду Иисус Христос. См. об этом:
Сократ Схоластик. Церковная история. III.23.
(обратно)
667
...написав пространное опровержение... — Подразумевается трактат Юлиана «Против христиан», дошедший до нашего времени лишь частично, в цитации св. Кирилла Александрийского — в сочинении под названием «О святой христианской религии против безбожного Юлиана». Об этом трактате Юлиана Либаний упоминает также в «Монодии Юлиану» (см.: 18; см. также примеч. 32 к названной речи).
(обратно)
668
...явив себя в том сочинении мудрее тирийского старца. — Имеется в виду философ-неоплатоник Порфирий из Тира, ученик Плотина и издатель его сочинений. Непримиримый враг христианства, Порфирий написал трактат «Против христиан», который известен лишь по немногим цитатам, сохранившимся у церковных авторов — у Евсевия Кесарийского, Иеронима и Августина.
(обратно)
669
...связала его Гера узами законного брака... — В древнегреческой мифологии богиня Гера считалась покровительницей браков и деторождения.
(обратно)
670
А оплакав смерть жены своей, к другим женщинам уже не приближался — ни раньше, ни позже... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.4.2.
(обратно)
671
...ибо боится он, как бы они, унаследовав власть по закону и имея от природы дурной нрав, не погубили государства... — Подобную точку зрения, высказанную Аристотелем в «Политике» (см.: III.15.1286b), Юлиан приводит в своем «Послании к Фемистию-философу» (см.: 260d—26la).
(обратно)
672
...претерпев то же, что и Фаэтон. — См. примеч. 55 к «Монодии Юлиану».
(обратно)
673
Не избегал он заниматься и делами судебными... — Аммиан Марцеллин отмечает, что Юлиан лично вникал в подробности каждого рассматриваемого дела (см.: Римская история. XXII.9.9 сл.).
(обратно)
674
И хотя он мог бы... преступать законы, ибо ему не грозило за это судебное наказание... — Примерно ко времени правления императора Диоклетиана прежняя форма власти (принципат), которая установилась в Риме начиная с эпохи Августа и при которой император не обладал всей полнотой власти, а мыслился лишь как первое лицо в государстве
(лат. princeps inter pares — «первый среди равных»), переродилась в так называемый доминат (от
лат. dominus — «господин, хозяин»), иными словами — в абсолютную монархию, что предполагало неограниченную власть императора. При этом старые республиканские магистратуры — претура и консулат, — хотя и не были отменены, однако продолжали существовать лишь номинально, превратившись, по сути, в почетные должности.
(обратно)
675
И каковое говорят о Геракле — что когда кто-то терпел бедствие на суше или на море, то призывал его на помощь, и что, даже если того не было рядом, одного его имени бывало достаточно... — Об обычае в тяжких обстоятельствах призывать на помощь Геракла свидетельствует и Элий Аристид в гимне, посвященном этому герою (см.: Геракл. 15). Ср., в частности:
Аристофан. Лягушки. 298, схолии Гесихия и «Суды» к этому месту).
(обратно)
676
...городов, величайших в Сирии... причем один из них был красивее другого, ибо находился вблизи моря. — Имеются в виду города Лаодикея Приморская и Апамея.
(обратно)
677
...послы... что были из приморского города, упомянули... о мудрости их согражданина... — Речь идет об Аполлинарии Лаодикейском, ученике Либания и одном из крупнейших христианских авторов своего времени. Став впоследствии епископом Лаодикеи Приморской, он состоял в переписке с видными деятелями Церкви, такими как Афанасий Александрийский, Василий Великий и Григорий Богослов.
(обратно)
678
...послы того города, что расположен в глуби материка, рассказали о чужеземце и о своем земляке, из коих первый облюбовал их город для занятий философией, а второй радушно принял и его, и всюду следовавших за ним учеников... — Речь идет о главе сирийской школы неоплатонизма Ямвлихе и его ученике Сопатре из Апамеи.
(обратно)
679
...недавно, касаясь вопросов благочестия... — См. п. 167—169 наст. речи.
(обратно)
680
...предоставляя тем полную свободу кричать во всё горло, размахивать руками, всячески жестикулировать, поднимать друг друга на смех — иными словами, делать всё что угодно, лишь бы одержать победу над противником. — Обычная манера выступления софистов, которые часто подвергались за это критике (например, в речи Элия Аристида «Против тех, кто оскверняет ораторское искусство»; см. примеч. 46 к «Элевсинской речи»).
(обратно)
681
Статир — мера веса, составлявшая примерно 8,5 г.
(обратно)
682
...постановил, чтобы вес венков не превышал семидесяти статиров... — Имеется в виду закон Юлиана от 29 апреля 362 г. н. э. (см.: Кодекс Феодосия. XII. 13.1).
(обратно)
683
...голодающий народ, сойдясь на ристалище, поднял глас... — Речь идет о народном возмущении, вызванном голодом в Антиохии (362 г. н. э). Согласно Аммиану Марцеллину, Юлиан требовал от антиохийского сената установления низких цен на продукты, но сенат по ряду причин не исполнял его требований (см.: Римская история. XXII.14.1 сл.; ср.:
Либаний. Жизнь, или О собственной доле. 126;
Юлиан. Антиохийцам, или Брадоненавистник. 350a, 368c сл.).
(обратно)
684
Немного спустя, когда город позволил себе еще большую дерзость... — Речь идет о насмешках антиохийцев над внешностью и образом жизни Юлиана (об этом см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII. 14.2—3).
(обратно)
685
...излил свой гнев в речи к этому городу... — Имеется в виду сатирическое сочинение Юлиана «Антиохийцам, или Брадоненавистник» (см. примеч. 32 к «Монодии Юлиану»). О нем также упоминают Аммиан Марцеллин и Зосим (см.: Римская история. XXII.14.2; Новая история. III.11.5).
(обратно)
686
...как прежде по отношению к некоему римлянину. — По всей видимости, речь идет о безвестном римском сенаторе, которому адресовано письмо Юлиана под названием «Против Нила», хотя в тексте послания император называет его также Дионисием (см.: Письма. 59). Об этом лице Либаний упоминает еще раз в своем письме к Юлиану (см.: Письма. 670).
(обратно)
687
...напившись допьяна, они проговорились, и всё, что до тех пор держалось в тайне, вовремя открылось. — Речь, по всей видимости, идет о следующем инциденте. Находясь в Антиохии, император Юлиан повелел своим солдатам окропить жертвенной кровью животных все продукты на рынках и воду в колодцах, чтобы выявить тайных христиан и вернуть их в лоно языческой веры. Большинство солдат повиновалось этому приказу, но двое воинов — Ювентин и Максимин — отказались его исполнить и открыто осудили поступок императора. Об этом эпизоде упоминает также Григорий Назианзин (см.: Слово 4. 84). В последствии оба они были казнены. Церковь причислила их к лику святых мучеников, а Иоанн Златоуст написал «Похвальную беседу о святых мучениках Ювентине и Максимине».
(обратно)
688
...они уклонялись от сих даров, говоря, что и без того богаты. — Либаний намекает здесь, в частности, на самого себя. См. об этом также:
Либаний. Жизнь, или О собственной доле. 125; Письма. 1158).
(обратно)
689
...пользовались им — и прося, и получая, и снова прося, а получив, не довольствовались этим, ибо ничто не могло насытить их алчности. — Возможно, намек на Максима Эфесского (см. примеч. 25), который и сам жил в роскоши, и помогал многим другим, кто через него обращался с различными просьбами к императору (об этом см.:
Либаний. Жизнь, или О собственной доле. 125 сл.;
Евнапий. Жизни философов и софистов. 101).
(обратно)
690
И случалось так, что он восхищался софистом, каковой превосходил благородством свое звание... — Негативное отношение к софистам и риторике в целом, ставшее общим местом в античной литературе, восходит еще к диалогам Платона, в которых философ критикует взгляды софистов на риторику как на искусство, нацеленное лишь на то, чтобы доставить удовольствие слушателям, но отнюдь не способствующее постижению истины (см., в частности: Горгий. 462b—482e).
(обратно)
691
...славный своими приготовлениями к войне... — См. примеч. 204.
(обратно)
692
...облачивший своих всадников в доспехи получше персов, а самих коней защитивший бронею от ран... — Речь идет об отрядах катафрактариев (см. примеч. 55).
(обратно)
693
...этот правитель, получивший в наследство от отца войну... — См. примеч. 22.
(обратно)
694
...почитал за благо в сражение не вступать и гибели своих подданных не препятствовать. — Так произошло при осаде городов Амиды и Сингары, которые были захвачены и разрушены, а их жители уведены в плен (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XIX. 1—8; XX.6.1—8).
(обратно)
695
...увенчивает возниц. — Речь идет о награждении венками победителей в конных состязаниях.
(обратно)
696
...будто я забыл о той ночной схватке... — Имеется в виду сражение при Сингаре, произошедшее в 348 г. н. э. (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XVIII.5.7;
Юлиан. Похвальная речь самодержцу Констанцию. 23b сл.). См. также примеч. 248.
(обратно)
697
...о том морском сражении среди суши, когда наши с трудом отстояли многострадальный город. — Речь идет об осаде Нисибиса в 350 г. н. э. Во время этой осады разлив реки, неподалеку от которой находился город, дал возможность врагам задействовать суда, одновременно осуществляя штурм с суши, с осадного вала (об этом см.:
Юлиан. Похвальная речь самодержцу Констанцию. 27b сл.; О деяниях самодержца и о царстве. 62b сл.;
Иоанн Зонара. Сокращение историй. XIII.7.3 сл.).
(обратно)
698
...о том, сколь велика сила выучки в любом деле, свидетельствуют и мудрецы, и старинные предания... — Намек на учения древних философов и мудрецов — друидов, халдеев и проч. См. о них, в частности:
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 1.6—7.
(обратно)
699
Благодаря ей женщины оседлали коней и превзошли мужчин в военном искусстве. — Имеются в виду амазонки (см. примеч. 2 к «Надгробному слову...» Лисия).
(обратно)
700
...как они уже молили о том, чтобы земля разверзлась у них под ногами... — Обычная молитва греков в случае опасности (см., например:
Гомер. Илиада. XVTL416—417).
(обратно)
701
...когда их вели против соплеменников... — Имеются в виду гражданские войны, в которых Констанций был более удачлив, чем во внешних (см. примеч. 22 и 43). Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. ΧΧΙ.16.15.
(обратно)
702
...сей восхищения достойный муж... — Имеется в виду Юлиан.
(обратно)
703
...Юлиан не стал сообщать другим ни о времени своего наступления, ни о пути передвижения, ни о военных хитростях, зная, что каждое его слово подслушивают лазутчики. — Из письма Юлиана к Либанию видно, что он придавал особое значение охране границ, дабы никто не мог донести врагам о его сборах (см.: Письма. 519 сл.). Согласно Аммиану Марцеллину, император еще до начала своего похода приказал отдельным отрядам переправиться через Евфрат, чтобы вступить на территорию персов раньше, чем последним станет о том известно (см.: Римская история. XXIII.2.2).
(обратно)
704
...направился в город, где находился большой и древний храм Зевса. — Имеются в виду Карры; в этом городе путь, ведущий в Персию, раздваивался, так что одна дорога уходила налево и, пересекая Тигр, шла через область Адиабену, а другая — направо, через реку Евфрат в Ассирию (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIII.3.1;
Зосим. Новая история. III.12.2—3).
(обратно)
705
Там, подивившись и помолившись богу... — Согласно Аммиану Марцеллину, Юлиан молился в храме Луны (см.: Римская история. XXIII.3.2), однако христианский историк Созомен подтверждает слова Либания (см.: Церковная история. VI. 1).
(обратно)
706
...отобрал из своего войска двадцать тысяч гоплитов... — Согласно Зосиму, на Тигре было оставлено восемнадцать тысяч гоплитов (см.: Новая история. III.12.5), а согласно Аммиану Марцеллину — тридцать тысяч (см.: Римская история. XXIII.3.5).
(обратно)
707
Так же надлежало поступить и армянскому царю... — Имеется в виду Аршак II, с которым накануне похода Юлиан заключил союзный договор (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская исгория. XXI.6.8; XXIII.2.2).
(обратно)
708
...соединиться с нашим государем, а затем, действуя с ним сообща, либо изгнать врагов из страны, если те обратятся в бегство, либо уничтожить на месте. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIII.3.5.
(обратно)
709
Распорядившись таким образом, Юлиан двинулся в путь, держась течения Евфрата, который давал воду для питья и по которому плыли суда с провизией. — Согласно каррскому летописцу и спутнику Юлиана Магнусу, всего было снаряжено 1250 судов (см.: Фрагменты греческих историков. LV.4).
(обратно)
710
...хорошим воинам подобает пить вино, каковое добывают они своим копьем... — Аллюзия на известное стихотворение Архилоха. Ср.: «В остром копье у меня замешан мой хлеб. И в копье же — | Из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье» (Фр. 2 Bergck.
Пер. В.В. Вересаева).
(обратно)
711
Продвигаясь вперед, увидали они крепость, расположенную на отмели реки. — Имеется в виду крепость Аната.
(обратно)
712
...и, сдавшись в плен, отправились поселенцами в нашу страну. — Опасаясь больших потерь, Юлиан отказался от штурма крепости, но сумел убедить жителей и гарнизон сдаться. После того как пленники были отправлены в Сирию, саму крепость по приказу императора сожгли (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV. 1.6 сл.;
Зосим. Новая история. III. 14.3-4).
(обратно)
713
Другая крепость стояла на острове с отвесными берегами и со всех сторон была окружена стеною... — Имеется в виду крепость Тилута (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.2.1;
Зосим. Новая история. III.15.1).
(обратно)
714
...земледельцы, живущие по его берегам, проведя туда и сюда каналы, распоряжаются рекой, как египтяне — Нилом, по своему желанию... то пуская, то не пуская воду на поля. — Также об этом см.:
Геродот. История. 1.193.
(обратно)
715
...будто шествовали через сады Алкиноя... — Согласно Гомеру, мифический царь Алкиной жил на острове Схерии в прекрасном дворце, окруженном круглый год плодоносящим садом (см.: Одиссея. VILI 12 сл.).
(обратно)
716
А был у ассирийцев великий город, носивший имя тогдашнего царя... — Имеется в виду Пирисабора, названная так в честь персидского царя Сабора (Шапура II).
(обратно)
717
...стены коего содержали внутри себя еще одно кольцо стен... — Описание этой крепости также приводят Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXIV.2.12) и Зосим (см.: Новая история. III.17.3). Ср. также данный пассаж с описанием стен Вавилона у Геродота (см.: История. 1.181).
(обратно)
718
...ибо знали, что те за такое сдирают кожу. — Об этом жестоком виде казни также упоминает Геродот (см.: История. V.25).
(обратно)
719
...государь предал казни тех, кто того заслуживал... — Наказывая предателей, Юлиан обратился к древнему обычаю децимации, который предполагал умерщвление каждого десятого из общего числа преступников. Таким образом были казнены десять солдат из числа бежавших (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.3.1—2).
(обратно)
720
...вспомнив об одном древнем римском полководце, погубившем подобной неосмотрительностью и себя, и своих солдат, государь тут же зачитал им в книге место о поголовном истреблении его войска... — Речь идет о гибели римского войска под командованием Марка Лициния Красса в битве с парфянами при Каррах в 53 г. до н. э. Данный эпизод отражен у Плутарха (см.: Сравнительные жизнеописания. Красс. 20—31).
(обратно)
721
И сейчас же много пальм было повалено на землю и из них сооружено множество мостов для облегчения переправы многочисленного войска. — По свидетельству Аммиана Марцеллина и Зосима, кроме деревьев для сооружения мостов использовались также мехи и кожаные лодки (см.: Римская история. XXIV.3.11; Новая история. III.19.4).
(обратно)
722
И в своем честолюбивом стремлении он опережал идущих по мосту, сам бредя по колено в воде. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.3.11;
Зосим. Новая история. III.19.4.
(обратно)
723
Было на некоем острове мощное укрепление, стены коего совокупно с берегами доходили до самого неба... — Имеется в виду крепость Маозамалха (см. также п. 219 наст. речи); ее описание также приводят Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXIV.4.10) и Зосим (см.: Новая история. III.21.3 сл.).
(обратно)
724
...сделана из обожженного кирпича, скрепленного асфальтом. — Речь идет о твердой, смолоподобной породе, образующейся на основе нефти и углеводорода (общее название — битум). Этим же материалом были скреплены стены упоминавшейся выше Пирисаборы (см.:
Зосим. Новая история. III.17.5), а также стены древнего Вавилона (см.:
Геродот. История. 1.179). Согласно Страбону, залежи «сухого асфальта» находились поблизости от Евфрата; во время разлива реки при таянии снегов это место наполнялось водой, в результате чего образовывались большие асфальтовые глыбы. Местное население использовало их при строительстве домов для увеличения прочности стен, сооружаемых из обожженного кирпича. Кроме того, по свидетельству Страбона, «жидким асфальтом» (т. е. нефтью) ассирийцы обмазывали сплетенные из камыша лодки, чтобы сделать их
водонепроницаемыми (см.: География. XVI. 1.15).
(обратно)
725
...выбежавшие оттуда персы напали на передовую часть войска и едва не ранили самого государя... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.4.4;
Зосим. Новая история. III.20.2—3.
(обратно)
726
...а затем мостом соединил остров с берегом, а возводили его под прикрытием кожаных лодок. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.4.6. Как сообщает Геродот, кожаные лодки с давних пор были в ходу у ассирийцев (см.: История. 1.194).
(обратно)
727
Бывшую там старуху с ребенком, едва та их услыхала, они заставили умолкнуть... — Зосим подтверждает слова Либания, сообщая, что выскочившие из-под земли в доме воины застали за работой старуху мололыцицу и, чтобы она не подняла шум, умертвили ее (см.: Новая история. III.22.4). Согласно же Аммиану Марцеллину, в доме находились и другие люди, так что солдаты перебили кинжалами всех, кого там обнаружили (см.: Римская история. XXIV.4.23).
(обратно)
728
...так что нашим воинам, представшим перед ними, оставалось лишь убивать всех подряд... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.4.23.
(обратно)
729
И началась великая погоня за теми, кто пытался скрыться, и всякий стремился лучше убить врага, чем захватить его в плен, так что враги спрыгивали со стен, а внизу их встречали копья... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.4.25;
Зосим. Новая история. III.22.6.
(обратно)
730
Вот какой праздник справлялся ночью божествам войны... — Имеются в виду божества Apec, Эрида, Энио, Страх и Ужас (см. п. 169).
(обратно)
731
...бог зари... — Речь идет о Гелиосе.
(обратно)
732
...вот, мол, сирийцу и повод для речи, разумея при этом меня. — Либаний был родом из Антиохии, главного города Сирии.
(обратно)
733
...каковой стоял на берегу реки и изобиловал всяческими красотами в духе персов... — Согласно римским историкам, дворец был выстроен не в персидском, а в римском стиле (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.5.1;
Зосим. Новая история. III.23.2).
(обратно)
734
...а ныне всё это послужило угощеньем для римлян. — По этому поводу Аммиан Марцеллин сообщает лишь то, что солдаты дротиками и стрелами перебили всех содержавшихся в загоне диких животных (см.: Римская история. XXIV.5.2). Это подтверждается и свидетельствами Зосима, согласно которому Юлиан только приказал разрушить стену загона (см.: Новая история. III.23. 1-2).
(обратно)
735
И вот был сожжен этот дворец, славившийся, как говорят, не меньше дворца в Сузах... — Город Сузы являлся второй столицей Персидского царства и зимней резиденцией персидских царей (первой столицей и, соответственно, летней резиденцией был Ктесифон, см. примеч. 290). Согласно Аммиану Марцеллину и Зосиму, дворец остался нетронут римлянами (см.: Римская история. XXIV.5.1; Новая история III.23.2).
(обратно)
736
...дошли они наконец до тех давно желанных городов, кои украшают вавилонскую землю вместо Вавилона. — Речь идет о Кохе (бывш. Селевкии) и столице Персии Ктесифоне, расположенных соответственно на западном и восточном берегах Тигра (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.5.3, б). Страбон сообщает, что после Вавилона столицей Ассирии была «Селевкия на Тигре». Упоминает он и о находившемся поблизости от Селевкии Ктесифоне, который благодаря парфянам вырос из небольшого селения в мощный город, т. к. использовался парфянскими царями в качестве зимней резиденции (см.: География. XVL1.16). Однако ко времени Юлиана Селевкия уже представляла собой заброшенные руины, в которые она превратилась после того, как была захвачена императором Каром во время его похода на Восток (282—283 гг. н. э.).
(обратно)
737
...Калхант и... Тирресий... — Речь идет о провидцах, упоминаемых в поэмах Гомера; первый из них открыл ахейцам причину гнева Аполлона (см.: Илиада. 1.69 сл.) и предсказал им, как долго будет длиться Троянская война (см.: Илиада. II.322 сл.), второй же предрек Одиссею его судьбу и предостерег от убийства быков Гелиоса (см.: Одиссея. XI.90 сл.).
(обратно)
738
...был он прорыт древним царем и соединял Евфрат с Тигром выше обоих городов. — Имеется в виду канал Наармальха
(др.-перс. — букв.: «Царская река»). О нем упоминают многие античные авторы; см., в частности:
Геродот. История. 1.193;
Полибий. Всеобщая история. V.51;
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.6.1;
Зосим. Новая история. III.24.2. Последний к тому же сообщает, что этот соединительный канал был раскопан императором Траяном во время его походов против Парфии (см.: Новая история. III.24.2). По всей видимости, Юлиану было об этом хорошо известно, и он, следуя примеру Траяна, приказал расчистить древнее русло.
(обратно)
739
...заполонили берег... громадными слонами... — Об использовании персидской армией слонов в качестве тяжелой боевой единицы было известно в античности еще со времен сражения при Гавгамелах (331 г. до н. э.), когда Александр Македонский, несмотря на участие в битве более десятка боевых слонов противника, нанес персам сокрушительное поражение. Позднее этот опыт применения слонов при ведении военных действий был использован царем Пирром в битве при Гераклее (280 г. до н. э.). В целом использование слонов в античности было вызвано не столько их боевой эффективностью, сколько известным психологическим эффектом, поскольку один только вид этих животных серьезно деморализовал противника.
(обратно)
740
...разровнял место для ристалища и, созвав на состязание всадников, назначил награды лошадям... — Об этом решении Юлиана, призванном поднять боевой дух войска, говорит также Созомен (см.: Церковная история. VI. 1).
(обратно)
741
...суда по приказу государя были разгружены... чтобы незаметно и быстро разместить на них солдат. — По приказу Юлиана из транспортных кораблей, на каждом из которых находилось по восемьдесят человек, была сформирована десантная эскадра для высадки солдат на противоположный, вражеский, берег (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.6.4;
Зосим. Новая история. III.25.2).
(обратно)
742
...собрав военачальников после пира, он сказал им, что остается лишь один путь к спасению — переправиться через Тигр... — Ср.:
Зосим. Новая история. III.25.5;
Созомен. Церковная история. VI. 1.
(обратно)
743
...передал начальство другому и предсказал, что этот последний победит... и что ранен он будет в руку, и даже сказал, куда именно, и что серьезного лечения не понадобится. — Речь идет о комите Викторе, командовавшем римским войском в сражении у Ктесифона и раненном в бою стрелой (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.6.13).
(обратно)
744
...на... крутизну... взобрались гоплиты ночью, в то время как над головами у них были враги. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.6.6.
(обратно)
745
...а прочих, представ пред ними, как в дурном сне, убивали еще спящих. — Ср.:
Созомен. Церковная история. VI. 1.
(обратно)
746
...и вся земля была усеяна телами павших, так что было их там никак не меньше шести тысяч. — Согласно Зосиму, погибших со стороны персов было 2500 человек (см.: Новая история. III.25.7).
(обратно)
747
И если бы не медлили они возле мертвых... а, бросившись к воротам, вышибли бы их или сломали, то овладели бы прославленным Ктесифоном. — Как сообщает Аммиан Марцеллин, от штурма города римских солдат удержал главнокомандующий Виктор (см. примеч. 297), опасаясь, что, оказавшись отрезанными от остальной армии, они станут легкой добычей персов (см.: Римская история. XXIV.6.13).
(обратно)
748
...они набросились на золото, серебро и коней погибших... — Ср.:
Зосим. Новая история. III.25.6.
(обратно)
749
...явился к брату последнего... — Имеется в виду Гормизд, брат Шапура II, в 324 г. н. э. бежавший к римлянам и находившийся сначала при дворе императора Константина, затем Констанция и, наконец, Юлиана; вместе с последним он и отправился в поход против персов.
(обратно)
750
...государь возгорелся желанием узреть Арбелу... — О решении Юлиана двинуться дальше вглубь Персии и дойти до города Арбелы сообщают также Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXIV.7.3) и Зосим (см.: Новая история. III.26.1—2).
(обратно)
751
...чтобы вместе с победой Александра на том самом месте... — Арбела находилась примерно в ста километрах от Гавгамел, где в 331 г. до н. э. Александр Македонский нанес сокрушительное поражение персидскому царю Дарию III.
(обратно)
752
...хотя никто и не явился ему на подмогу — ни наши отряды, ни отряды союзников... — См. п. 214—215 наст. речи. Ср. также:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIII.3.5; XXIV.7.8.
(обратно)
753
...из-за измены вождя племени... — Имеется в виду армянский царь Аршак II (см. примеч. 261).
(обратно)
754
...простирая свои замыслы до Гиркании и индийских рек. — Либаний обозначает соответственно крайнюю северную и восточную границы государства персов. Под «индийскими реками» подразумеваются Инд и Ганг с их притоками.
(обратно)
755
...кто-то из богов изменил намерения государя, увещевая его, как и в стихе, помнить о возвращении. — Аллюзия на эпизод из «Илиады» Гомера, в котором Афина увещевает Диомеда, слишком близко подошедшего к войску троянцев, возвратиться в лагерь ахейцев (см.: X.507 сл.).
(обратно)
756
Между тем суда... были преданы огню: сие было лучше, чем оставлять их врагам. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.7.4;
Зосим. Новая история. III.26.2—3.
(обратно)
757
...чтобы тащить суда по воде, нужно было не меньше половины войска. — По свидетельству Аммиана Марцеллина, для этого бы потребовалось 20 тыс. человек (см.: Римская история. XXIV.7.4).
(обратно)
758
...ведь и имевшиеся суда, а таковых для наведения мостов было оставлено пятнадцать, удержать им было не под силу... — По Аммиану Марцеллину, Юлиан сохранил 12 судов (см.: Римская история. XXIV.7.4), а по Зосиму — 18 римских и 4 персидских (см.: Новая история. III.26.3). Согласно последнему, эти корабли были в конечном счете захвачены персами, т. к. находились в арьергарде римского войска (см.: Новая история. III.28.2).
(обратно)
759
...шли они через область лучшую, нежели прежде... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.7.6.
(обратно)
760
...столь долгий путь предстоял им до славного города, находившегося на границе с нашим государством. — Имеется в виду город Безабд на границе с Кордуеной, куда направлялся Юлиан.
(обратно)
761
Тут-то и показалось впервые персидское войско... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.8.5 сл.; XXV. 1.1.
(обратно)
762
...как только один из передних наших воинов пал и завязалась общая схватка... — Согласно Аммиану Марцеллину, сражение было не всеобщим, а произошло лишь между передними отрядами обоих войск (см.: Римская история. XXV. 1.2). Ср. также:
Зосим. Новая история. III.26.5.
(обратно)
763
...и закованный в железо враг... — Более подробное описание доспехов и вооружения персов приводит Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXV.1.12).
(обратно)
764
Между тем наши воины... случайно разомкнули строй, да и поднявшийся вдруг сильный ураган, взметая пыль и собирая тучи, пришелся на руку тем, кто желал помешать войску. — Согласно Аммиану Марцеллину, Юлиан получил известие о нападении отряда персов на арьергард войска и бросился туда сам; об урагане историк ничего не пишет (см.: Римская история. XXV.3.2); Созомен же, напротив, упоминает лишь о сильном ветре, тучах, закрывших солнце и небо, а также о взметнувшемся облаке пыли и «великом возмущении природы», которым якобы и воспользовались персы для нападения на Юлиана (см.: Церковная история. VI. 1).
(обратно)
765
...из-за сильного перевеса врага он не успел надеть панцирь... — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.3.3.
(обратно)
766
А в это время копье всадника, брошенное в него... пронзив его руку, попало ему в бок. — Подробнее об обстоятельствах смерти Юлиана см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.3.6.
(обратно)
767
И упал на землю сей благородный муж, но, истекая кровью и желая скрыть случившееся, тотчас вскочил на коня... — Аммиан Марцеллин сообщает по этому поводу лишь то, что Юлиан требовал оружие и коня, но из-за сильного кровотечения остался лежать на месте (см.: Римская история. XXV.3.8—9).
(обратно)
768
...все возопили, ударяя себя в грудь, и орошали землю слезами, и оружие упадало на землю, выскальзывая из рук... — Аллюзия на эпизод из «Илиады» Гомера, в котором ахейцы оплакивают смерть Патрокла (см.: XXIII.12—16).
(обратно)
769
Но и по предсмертным словам всякий может судить о его доблести. — Последние слова умирающего Юлиана приводит Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXV.3.15—20).
(обратно)
770
...и даже люди, не чуждые философии, не могли сдержать слез... — Имеются в виду философы Максим Эфесский и Приск (см. соответственно примеч. 25 и 40), которые сопровождали Юлиана в походе.
(обратно)
771
Шатер же его поистине походил на темницу Сократа, присутствующие в нем — на тех, что находились при философе, рана — на яд, а сказанное государем — на слова самого Сократа, и как тогда один он не плакал, так теперь не плакал и этот муж. — Имеется в виду место из диалога Платона «Федон», где описываются последние минуты жизни Сократа (см.: 117c—d). Похоже описывает данную сцену и Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXV.3.22).
(обратно)
772
Имени я не знаю, но убил его не враг... — О том, что Юлиан пал от руки римлянина, говорится и в других исторических источниках (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.6.6;
Созомен. Церковная история. VI. 1).
(обратно)
773
Ибо те, кому была выгодна его смерть,— а то были люди, живущие не по законам... — Речь идет о христианах. Версию о том, что убийство Юлиана могло быть спланировано христианами, приводит также Созомен (см.: Церковная история. VI.2).
(обратно)
774
И как Фукидид сказал о Перикле — что его смерть лучше всего доказала, сколь много полезного он сделал для государства... — См.: История. II.65.6 сл.
(обратно)
775
...наши воины... прельстившись словом «мир»... закричали, что с радостью его принимают, и первым поддался на уговоры тот, кто стал царствовать. — Ср.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.7.10—11;
Созомен. Церковная история. VI. 1. После смерти Юлиана императором был избран начальник его личной охраны Иовиан.
(обратно)
776
...Мидиец... — Имеется в виду персидский царь.
(обратно)
777
...медлил с вопросами, не спешил с ответами, одно принимал, другое отвергал, а его многочисленные посольства поглощали наши припасы. — Об обмене посольствами между персами и потерявшими из-за этого много времени римлянами, см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.7.5 сл.
(обратно)
778
...тогда-то царь и потребовал себе легчайшей платы — городов да земель, да племен, бывших оплотом безопасности земли римской. — Условия мира, предложенные Иовиану персидским царем Шапуром II, оказались весьма тяжелыми: римлянам предписывалось отдать во владение персов пять областей за Тигром: Арзакену, Моксоену, Забдицену, Регимену и Кордуену, а также города Нисибис, Лагерь Мавров (Castra Mavrorum) и Сингару (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.7.9;
Зосим. Новая история. III.31.1—2).
(обратно)
779
Новый же правитель на всё соглашался и всё отдавал, и никакая из просьб не казалась ему ужасной. — Уступчивость Иовиана объясняется, с одной стороны, бедственным положением римской армии (солдаты, изможденные трудностями пути и скудным питанием, требовали немедленной переправы через Тигр), а с другой — непрочностью положения самого императора и его опасениями по поводу возможности появления узурпатора в западной части империи — в Галлии или Иллирике. Тем не менее заключение Иовианом мирного договора с персами на заведомо невыгодных для римлян условиях вызвало резкую критику со стороны современников (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.7.10, 13;
Евтропий. Краткая история от основания Города. X.17.1—2).
(обратно)
780
...до Оронта, или до Кидна, или до Сангария, или до самого Босфора! — Либаний перечисляет здесь водные акватории, находящиеся на исконно римских территориях, иронизируя над амбициями персидского царя.
(обратно)
781
И иной такой Каллимах... — Греческое имя «Каллимах» по отношению к побежденным солдатам употреблено Либанием иронически: с одной стороны, здесь имеет место отсылка к реальному историческому лицу — афинскому военачальнику и храброму воину, павшему в Марафонском сражении (см.:
Геродот. История. VI. 109 сл.;
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 1.2;
Плутарх. О славе афинян. 3; Застольные беседы. 1.10.3), с другой — намек на этимологию слова
(др.-греч. Καλλίμαχος — «прекрасно сражающийся»).
(обратно)
782
Разве не сражался он с супостатами вашими! — Имеются в виду христиане.
(обратно)
783
...целомудреннее Ипполита... — См. примеч. 11 к «Меланкому».
(обратно)
784
...справедливостью своею подобен Радаманту... — См. примеч. 48 к «Монодии Юлиану».
(обратно)
785
...рассудительнее Фемистокла... — См. примеч. 20 к «Надгробному слову...» Лисия. См. также примеч. 31 к «Монодии Юлиану».
(обратно)
786
...храбрее Брасида! — См. примеч. 26 к «Надгробной речи Александру».
(обратно)
787
...и могилы уступят место храмам... — Под «могилами» здесь подразумеваются места погребения христианских святых. Одна из таких усыпальниц, гробница святого Вавилы, находилась в Антиохии, неподалеку от храма Аполлона Дафнейского; о ней Либаний упоминает в «Монодии храму Аполлона в Дафне» (см.: 5; см. также примеч. 15 к названной речи).
(обратно)
788
...кто раньше их опрокидывал... — Имеются в виду христиане (см. об этом также:
Либаний. Монодия Юлиану. 7).
(обратно)
789
...благодаря ничтожным податям. — Об этом и других нововведениях Юлиана в финансово-экономической сфере пишет Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXV.4.15).
(обратно)
790
...другие же скорбят, что до сих пор живы... — Намек Либания на самого себя. Смерть Юлиана так потрясла оратора, что, по его собственному признанию, поначалу к нему даже приходили мысли о самоубийстве (см. примеч. 70 к «Монодии Юлиану»). Письма Либания свидетельствуют о том, что он глубоко переживал гибель императора, с которым был близко знаком и состоял в дружеской переписке, и поэтому в течение нескольких последующих месяцев вовсе не сочинял речей (см.: 1071, 1128, 1194, 1351, 1294 и др.). Отчасти этим объясняется тот факт, что оба сочинения Либания, посвященные памяти императора, — «Монодия Юлиану» и «Надгробная речь Юлиану» — появились почти два года спустя после этого трагического события.
(обратно)
791
О,
справедливость, которая, снизойдя на землю, вновь устремилась в небеса). — Либаний перефразирует здесь слова Юлиана о том, что «богиня справедливости, которая, по словам поэта Арата, поднялась на небо, будучи оскорблена людскими пороками, в его правление опять вернулась на землю» (цит. по:
Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.4.19.
Пер. ЮА. Куликовского). Согласно мифу, излагаемому Аратом из Сол в поэме «О небесных явлениях», с наступлением медного века богиня справедливости Дика покинула землю, превратившись в созвездие Девы (см.: 133—139).
(обратно)
792
Ибо мы испытали нечто подобное тому, как если бы у человека, терпящего сильную жажду и подносящего кустам чашу с холодной и прозрачной водой, кто-то вырвал бы ее из рук, едва он успел сделать первый глоток, и с тем ушел бы. — Подобное сравнение, своего рода риторический топос, встречается и в «Монодии Юлиану» (см.: 12).
(обратно)
793
И коли суждена нам была сия потеря, то лучше бы мы вовсе не знали его владычества, нежели вот так лишиться оного, не насытившись им вполне... — Ср.:
Либаний. Монодия Юлиану. 11.
(обратно)
794
Витийствующие против богов — вновь в почете, а жрецы подвергаются незаконным преследованиям. — Судя по всему, речь идет об антиязыческой реакции в правление императора Валента.
(обратно)
795
...философы подвергаются истязаниям... — Намек на судьбу Максима Эфесского и Приска (см. соответственно примеч. 25 и 40). При императорах Валенте и Валентиниане I они были арестованы по обвинению в растратах, причем Приск вскоре был оправдан и отпущен в Грецию, а Максим приговорен к уплате огромного штрафа, лишен имущества и отослан в Азию, где неоднократно подвергался преследованиям и пыткам (см.:
Евнапий. Жизни философов и софистов. 111—113).
(обратно)
796
Учителей красноречия, некогда водивших дружбу с властями, ныне гонят с порога, словно душегубов... — Либаний намекает здесь на свой собственный конфликт с консуляром провинции Сирия Фестом в 365 г. н. э. (см.: Жизнь, или О собственной доле. 156 сл.). В автобиографии оратор рассказывает, что после смерти Юлиана он подвергся преследованиям со стороны своих врагов и недоброжелателей — прежде всего, конечно, как убежденный эллинофил и приверженец языческой веры (см.: Жизнь, или О собственной доле. 136—138).
(обратно)
797
Скифы, сарматы, кельты и прочие варвары, сколько их ни есть, раньше предпочитавшие жить с нами в мире, вновь, наточив мечи, идут войною... — См. примеч. 57 к «Монодии Юлиану».
(обратно)
798
...стряхнула она с себя, как конь сбрасывает седока... — Сравнение землетрясения с конем, сбрасывающим всадника, Либаний использует и в «Монодии Никомедии» (см.: 17).
(обратно)
799
...множество великих городов, из коих немало разрушено в Палестине, все до единого — в Ливии, крупнейшие — в Сицилии и все, кроме одного, — в Греции. — Намек на землетрясение 365 г. н. э. Аммиан Марцеллин в «Римской истории» дает обширное описание этого землетрясения и масштаба причиненных им бедствий (см.: XXVI.10.15 сл.; см. также:
Зосим. Новая история. IV.18).
(обратно)
800
...сотрясается и великолепнейшая столица... — Имеется в виду Константинополь.
(обратно)
801
Вот каков был почет нашему государю от Земли или, если угодно, от Посейдона). — См. примеч. 8 к «Монодии Никомедии».
(обратно)
802
Разве удивительно, если после всего случившегося иной, подобно мне, почитает своею карой то, что он до сих пор жив! — Повторение мысли, уже высказывавшейся Либанием выше (см. п. 283 наст. речи; см. также примеч. 344).
(обратно)
803
...потомки нечистого на руку Гига — правили кто до тридцати девяти лет, кто — до пятидесяти семи... — Согласно Геродоту, Гиг, телохранитель царя Кандавла, вступив в сговор с Нисой, женой правителя, убил последнего и захватил трон (см.: История. 1.8—14). Под потомками Гига подразумеваются его сын Ардис и правнук Алиатт, отец знаменитого Креза (по Геродоту, первый из них царствовал сорок девять лет, а второй — пятьдесят семь лет; см.: История. 1.16, 18-25).
(обратно)
804
...нашему государю ты дал пробыть на престоле всего три года... — Правление Юлиана в действительности длилось чуть больше полутора лет (с декабря 361 г. по июнь 363 г. н. э.).
(обратно)
805
...хотя тот заслуживал большего срока, чем великий Кир... — Имеется в виду Кир II Великий. Подробнее о нем см.:
Геродот. История. 1.108 сл.
(обратно)
806
Ибо так погибли и Леонид, и Эпаминонд, и Сарпедон с Мемноном — сыновья богов. — Либаний перечисляет здесь знаменитых древнегреческих полководцев (первые двое), павших в сражениях — соответственно под Фермопилами (см. примеч. 21 к «Надгробному слову...» Лисия) и при Мантинее, а также известных мифологических героев (последние двое), погибших в ходе Троянской войны.
(обратно)
807
...да послужит вам в утешение Александр, сын Зевса!» — Имеется в виду Александр Македонский, умерший молодым (в возрасте 33 лет) в Вавилоне (а не в Александрии, в Египте, как ошибочно полагает, по всей видимости, Либаний — см. далее п. 298). Известно, что Александр требовал от своих подданных, чтобы его признавали сыном египетского бога Аммона (которого греки отождествляли с Зевсом), на что и намекает Либаний.
(обратно)
808
...а в писании писем превзошел самого себя. — Юлиан вел обширную частную и деловую переписку, которая заслуженно признаётся памятником позднеантичной эписголографии. Сохранилось около ста его писем, адресованных друзьям, приближенным, ученым, риторам и проч., среди которых ораторы Либаний и Фемистий, философы Ямвлих и Максим Эфесский, врачи Орибасий и Зенон.
(обратно)
809
...не подвластно оно безжалостному времени, стирающему даже яркие краски на картинах. — Об античных картинах, писавшихся минеральными красками на деревянных досках, см.:
Плиний Старший. Естественная история. XXXV.12—31).
(обратно)
810
А значит, справедлив был гнев тех, кто едва не забил камнями посланца, прибывшего с известием о смерти государя... — Согласно Зосиму, за эту весть посланец был убит жителями Карры (см. примеч. 67 к «Монодии Юлиану»).
(обратно)
811
Служат мне утешением и картины персов, на которых изображается его к ним вторжение. — Также о картинах персов и характерных для них сюжетах — сценах охоты и войны — упоминает Аммиан Марцеллин (см.: Римская история. XXIV.6.3).
(обратно)
812
...изобразив государя в виде молнии... — Не известно, существовала ли такая картина на самом деле, однако в этом пассаже легко усмотреть скрытую аналогию Юлиана с Александром Македонским, который, как известно, был действительно изображен Апеллесом с молнией в руках на знаменитой картине в храме Артемиды Эфесской (см.:
Плиний Старший. Естественная история. XXXV.36).
(обратно)
813
Прах его покоится близ Тарса, в Киликии... — Юлиана похоронили в Тарсе, памятуя о том, что по окончании своего похода он собирался отправиться туда с армией на зимовку. Таким образом решено было исполнить последнюю волю императора (см.:
Аммиан Марцеллин. Римская история. ΧΧΙΠ.2.5; XXV.9.12).
(обратно)
814
...в Академии — рядом с прахом Платоновым... — Академия — философская школа Платона, получившая свое название по местности в Афинах, где располагался гимнасий и священная роща героя Академа; там Платон имел обыкновение встречаться со своими учениками. О могиле Платона, находившейся близ Академии, упоминает Павсаний (см.: Описание Эллады. 1.30.3).
(обратно)
815
Подобает нам воспевать его в сколиях и пеанах... — Сколий и пеан — жанры лирической поэзии. Сколием называлась застольная песнь; о пеане см. примеч. 56 к «Монодии на Юлиана».
(обратно)
816
...воздает похвалы тому, кто прибавил к погребальному обряду произнесение похвального слова... — Сами греки приписывали введение этого обычая Солону. Однако скорее всего такая традиция возникла значительно позднее, уже в эпоху Греко-персидских войн, вероятно, при Кимоне, и затем приобрела силу закона.
(обратно)
817
...что сделано... и теперь настоящими похоронами, совершёнными на счет государства... — См. примеч. 1 к «Надгробной речи» Демосфена.
(обратно)
818
...то, что в похвалах превосходит эту меру, возбуждает в слушателях зависть и недоверие. — Данная мысль, повторяющаяся далее в п. 45, является общим местом для большинства древнегреческих надгробных речей (см.:
Горгий. Надгробная речь;
Гиперид. Надгробная речь. 30;
Элий Аристид. Надгробная речь Этеонею. 18;
Дион Хрисостом. Меланком. 7). Согласно распространенному в античности мнению, похвала живым вызывает у многих зависть, рожденную чувством соперничества с ними (ср., в частности:
Фукидид. История. II.45.1;
Исократ. Эвагор. 6—7), в то время как похвала мертвым зависти за собой не влечет, ибо воспринимается как воздаяние последнего долга их памяти и заслугам.
(обратно)
819
...признали обычай этот прекрасным... — Имеется в виду обычай произнесения похвального слова.
(обратно)
820
Я начну прежде всего с предков... — Обычный зачин всякого эпитафия, строившегося по схожим с энкомием канонам (см. примеч. 4 к «Надгробной речи Александру»).
(обратно)
821
Ведь они всегда и неизменно обитали в этой стране... — Общее место в надгробных и похвальных речах афинских ораторов, указывающее на автохтонность населения Аттики, в отличие от других племен и народов остальных областей Греции (ср. примеч. 3 к «Надгробной речи» Демосфена).
(обратно)
822
...а еще достойнее ее отцы наши... — Имеется в виду поколение эпохи Грекоперсидских войн.
(обратно)
823
...нынешнему поколению. — Речь идет о поколении самого Перикла (465— 440 гг. до н. э.). На момент произнесения этой речи оратору было уже за 60 лет.
(обратно)
824
...отражали вражеские нападения варваров или эллинов. — Имеются в виду Греко-персидские и Пелопоннесская войны.
(обратно)
825
...которые, будучи неписаными, влекут общепризнанный позор. — Речь идет о позоре, которому будет подвергнут всякий, кто нарушит эти «неписаные» законы — то есть старинные греческие обычаи.
(обратно)
826
...противники наши еще с детства закаляются в мужестве тяжелыми упражнениями... — Намек на спартанцев и образ их воспитания.
(обратно)
827
..лакедемоняне идут войною на нашу землю не одни, а со всеми своими союзниками, тогда как мы одни нападаем на чужие земли и... побеждаем... тех, кто защищает свое достояние. — Речь идет о первом этапе Пелопоннесской войны (до 421 г. до н. э.) — так называемой Архидамовой войне, в ходе которой спартанцы регулярно вторгались в Аттику, а афиняне при помощи своего флота совершали регулярные рейды на Пелопоннес.
(обратно)
828
Мы сами обсуждаем наши действия... — Имеется в виду выступление афинских ораторов в народном собрании в защиту или против принятия тех или иных решений.
(обратно)
829
...не считая речи чем-то вредным для дела... — Намек на спартанцев, славившихся немногословием и нелюбовью к ораторским речам.
(обратно)
830
...выдерживает испытание выше толков о нем... — То есть выше похвалы или порицания.
(обратно)
831
...в случае поражения их такими людьми... — Речь идет об афинянах.
(обратно)
832
...содеянного нами добра и зла. — Имеются в виду победа, а затем поражение афинян в ходе второго этапа Греко-персидских войн: первая была одержана ими в битве при Эвримедонте (466 г. до н. э.), вторым завершилась битва при Мемфисе (456 г. до н. э.). После победы над персами в битвах при Платеях и Микале (479 г. до н. э.) греками был создан Делосский союз, куда вошло множество городов-государств Эгеиды во главе с Афинами. Целью этого союза было продолжение войны с Персией за свободу греческих городов Малой Азии. В последующее десятилетие союзники захватили ряд малоазийских городов, находившихся под властью Персии, что вынудило Ксеркса начать планомерную подготовку к новой войне с греками. Сбор персидской армии и флота происходил возле реки Эвримедонт. Узнав о приготовлениях персов, афинский военачальник Кимон собрал 200 триер и отплыл в Фаселиду, откуда организовал наступление на персидское войско. В результате битвы при Эвримедонте сначала на море, а затем на суше персидская армия и флот потерпели сокрушительное поражение, и Ксеркс был вынужден заключить мир с Афинами (точное время и детали подписания этого договора неизвестны). Еще десятилетие спустя в подвластном Персии Египте началось восстание, поднятое ливийским царем Инаром — сыном того царя Псамметиха, при котором в 525 г. до н. э. Египет попал под власть персов. Афиняне поддержали Инара, выслав ему на помощь часть своего флота. Поначалу афинянам удалось овладеть всем Египтом, однако персидский царь Артаксеркс I отправил в Египет большую армию во главе с Мегабизом, который в битве при Мемфисе разгромил египтян и их союзников — ливийцев и греков. В результате этой военной экспедиции афиняне лишились значительной части флота, однако вскоре им удалось изменить ситуацию в свою пользу благодаря ряду блестящих морских побед, одержанных ими под предводительством Кимона близ Кипра, что в итоге привело к заключению так называемого Каллиева мира с персами (см. примеч. 36 к «Надгробному слову...» Лисия) и к окончанию Греко-персидских войн.
(обратно)
833
В борьбе за такое-то государство положили свою жизнь эти воины... — Обычные слова эпитафий на могилах и памятниках, устанавливаемых в честь погибших в бою.
(обратно)
834
...доблести этих и им подобных... — Имеются в виду афинские воины.
(обратно)
835
Могилою знаменитых людей служит вся земля... — Вероятно, подлинная фраза Перикла, сохраненная Фукидидом (см.: Gomme 1956: 138).
(обратно)
836
...надписи на стелах... — То есть эпитафии на могильных плитах.
(обратно)
837
...опасность обратной перемены в жизни... — Речь идет о переходе от счастливой жизни к несчастной.
(обратно)
838
...для которых в случае поражения наступят очень большие изменения. — Имеются в виду изменения к худшему.
(обратно)
839
..людям при жизни завидуют соперники, а сошедшие с пути пользуются благорасположением, не нарушаемым никаким соревнованием. — См. примеч. 3.
(обратно)
840
...присуждая полезный венок... — Венок вручался победителям различных состязаний как высшая почетная награда (см. примеч. 16 к «Надгробной речи Этеонею»).
(обратно)
841
...восславим прежде всего благородство их по рождению, а затем их воспитание и образованность. — Здесь перечисляются топосы, традиционные для жанра энкомия и эпитафия (см. примеч. 4 к «Надгробной речи Александру»).
(обратно)
842
...они не были чужеземцами, и потому их потомки не считались метеками в своей стране... — Метеками назывались чужестранцы, которые жили в Афинах, однако не являлись их гражданами и не имели равных с последними прав (ср. примеч. 3 к «Надгробной речи» Демосфена).
(обратно)
843
...раздор и решение богов, оспаривавших ее другу друга. — Имеется в виду миф о споре Афины и Посейдона за владычество над Аттикой (см. примеч. 15 к «Монодии Никомедии»).
(обратно)
844
...из всех живых существ она избрала для себя и породила человека, разумением своим превосходящего остальных и чтящего лишь богов и справедливость. — Намек на первых царей Аттики, которые, по преданию, были порождены самой богиней Землей (Геей) (см. примеч. 50).
(обратно)
845
...первая и единственная в те времена приносила пшеничные и ячменные злаки... — См. примеч. 4 к «Надгробной речи» Демосфена.
(обратно)
846
Имена их не подобает здесь называть (ведьмы их знаем!); они благоустроили нашу жизнь... первыми обучили нас ремеслам и показали, как изготовлять оружие и пользоваться им для защиты нашей земли. — Речь идет о покровительнице города — богине Афине и боге огня и кузнечного дела Гефесте, которым афиняне поклонялись как богам ремесел, а также о боге войны Аресе, почитавшемся наряду с Афиной как покровитель афинских воинов (см.:
Павсаний. Описание Эллады. 1.14.5;
Платон. Критий. 109c—d, 112b; Законы. XI.920d—e).
(обратно)
847
...правление лучших... — Буквальное значение греческого слова «аристократия» (άριστοκρατία). Однако под «лучшими» Сократ подразумевает здесь не столько представителей знатных семей, сколько всё афинское общество, состоящее, по его мнению, из людей превосходнейших, каковыми они являются благодаря своему происхождению (ибо родились они на афинской земле и были ее коренными жителями) и воспитанию. Таким образом, эти слова Сократа никак не противоречат общепринятому пониманию афинской формы государственного правления как демократии, т. е. власти народа.
(обратно)
848
У нас ведь всегда есть басилевсы — иногда это цари по рождению, иногда же выборные... — Басилевс (βασιλεύς) по-гречески означает «царь». Говоря о царях «по рождению», Сократ имеет в виду далекое прошлое Афин, когда городом правили действительные цари (последний из них, Кодр, жил, по преданию, в XI в. до н. э.). Под «выборными» же царями в современных Платону демократических Афинах подразумеваются особые должностные лица — архонты, один из которых (так называемый второй архонт) также именовался басилевсом — очевидно, в память о тех временах, когда царская и жреческая власть в городе были сосредоточены в руках одного правителя. Архонты (их было девять) занимались только административными делами, в то время как политические вопросы решал Совет Пятисот (государственный совет, состоявший в Афинах из 500 членов) вкупе с народным собранием. Так, первый архонт, или архонт-эпоним (по которому у афинян именовался год), имел в своем вёдении государственные празднества и всё, что касалось семейного права, в частности, опеку над сиротами; второй архонт, т. е. архонт-басилевс, наблюдал за мистериями и соблюдением религиозных законов, а также управлял судебными делами; третий, полемарх, ведал культом богов войны и торжественными ритуалами общественных погребений; остальные же шесть, так называемые фесмофеты, председательствовали в судах.
(обратно)
849
...их государственные устройства отклоняются от нормы — таковы тирании и олигархии... — О существовании четырех основных типов власти и ее промежуточных формах Платон подробно говорит в «Государстве» (см.: VIII. 544a—е).
(обратно)
850
...не признаём отношений господства и рабства между собою... — Речь идет о равенстве
лишь между свободными гражданами. Вопрос о правомерности рабовладения хотя и поднимался в античности, однако решался в пользу традиционного осмысления рабства как естественного и необходимого условия жизни общества. Так, Аристотель, давший этой проблеме научное освещение, приводит на данный счет различные точки зрения, существовавшие в античности:
<...> по мнению одних, власть господина над рабом есть своего рода наука <...>. Наоборот, по мнению других, самая власть господина над рабом противоестественна; лишь по закону один — раб, другой — свободный, по природе же никакого различия нет. Поэтому и власть господина над рабом, как основанная на насилии, несправедлива.
Политика. I.2.1253b.3. Пер. С А. Жебелёва
Впрочем, сам философ всё же склоняется к мысли о необходимости и оправданности существования рабства как социального института. По его мнению, раб является «одушевленной собственностью» господина и его «орудием», подобно тому как ткацкий челнок, например, является орудием ремесленника (см.: Политика. L2.1253b.4-7.
Пер. СЛ. Жебелёва). Но, признавая законность и справедливость такого порядка вещей, Аристотель призывает к разумному использованию господином своей власти и к гуманному отношению к рабам:
С одной стороны, одни не являются по природе рабами, а другие — свободными, а с другой стороны, у некоторых это различие существует и для них полезно и справедливо одному быть в рабстве, другому — господствовать, и следует, чтобы один подчинялся, а другой властвовал и осуществлял вложенную в него природой власть, так чтобы быть господином. Но дурное применение власти не приносит пользы ни тому, ни другому: ведь что полезно для части, то полезно и для целого, что полезно для тела, то полезно и для души, раб же является некой частью господина, как бы одушевленной, хотя и отделенной, частью его тела.
Поэтому полезно рабу и господину взаимное дружеское отношение, раз их взаимоотношения покоятся на естественных началах; а у тех, у кого это не так, но отношения основываются на законе и насилии, происходит обратное.
Политика. L2.1255b.20—21. Пер. С А. Жебелёва
(обратно)
851
...как они сражались с Эвмолпом и амазонками... или как еще раньше они бились на стороне аргивян против кадмейцев и на стороне Гераклидов против аргивян... — Речь идет о важнейших событиях легендарной истории Афин, которые упоминаются и в «Надгробной речи» Демосфена (см.: 8; см. также примеч. 5, б, 7 и 8 к указанной речи).
(обратно)
852
...когда персы стали правителями Азии и вознамерились также поработить Европу, дети нашей земли — наши родители — преградили им путь... — Речь идет о Греко-персидских войнах, окончившихся победой греков.
(обратно)
853
...первым был Кир, который... простер свою власть над всей Азией вплоть до Египта... — Имеется в виду Кир II Великий, который в 550 г. до н. э. восстал против своего дяди, мидийского правителя Астиага, и захватил царский престол; сделавшись властителем над персами и мидийцами, он сумел покорить древнейшие и крупнейшие соседние малоазийские государства — Лидию (546 г. до н. э.) и Вавилон (539 г. до н. э.), издавна соперничавшие с Мидией, и основал Персидское царство. История жизни и завоеваний Кира Великого подробно описана Геродотом (см.: История. 1.107—130), а также Ксенофонтом, который посвятил этому царю специальное сочинение — «Киропедию».
(обратно)
854
...сын его властвовал уже над Египтом и Ливией, насколько он мог в эти страны проникнуть... — Сын Кира, Камбис, в 525 г. до н. э., на пятый год своего царствования, завоевал Египет, после чего вознамерился покорить остальную (известную в древности) часть Африки — Карфаген, оазисы и Эфиопию. Однако от надежды завоевать Карфаген Камбису вскоре пришлось отказаться — из-за отсутствия поддержки со стороны финикийцев, не пожелавших идти против соплеменников. Тогда, выступив с войском из Фив, Камбис предпринял военную экспедицию вглубь Африки (524/523 г. до н. э.), в ходе которой ему удалось достичь Великого оазиса и покорить его. Однако дальнейшее продвижение персов вдоль Нила к Оазису Амона, а также попытка Камбиса завоевать Эфиопию окончились неудачей — почти всё его войско погибло в пустыне, а сам он едва избежал смерти (см.:
Геродот. История. III.17—26). Результатом этого военного похода явилось установление персидского протектората лишь над частью Эфиопии, граничившей с Египтом.
(обратно)
855
...третий же царь, Дарий, расширил свои владения на суше вплоть до Скифии... — Принадлежа к роду Кира, но не будучи его прямым потомком, Дарий I после смерти Камбиса вступил в заговор с шестью знатными персами и, убив своего соперника (самозванца по имени Смердис, провозгласившего себя погибшим братом Камбиса), занял престол (см.:
Геродот. История. III.70—80). В дальнейшем, чтобы укрепить свою власть, он женился на дочери Кира Великого, Атоссе. Около 512 г. до н. э. Дарий совершил военный поход на Скифию, в ходе которого персы проникли далеко вглубь земель Северного Причерноморья. Однако этот поход окончился для него неудачей, и Дарий вернулся, лишившись по пути значительной части армии (см.:
Геродот. История. IV.98— 142;
Юстин. Эпитома Помпея Трога. II.3.2; V.8.11);
Ктесий Книдский. Персика. XII-XIII.21).
(обратно)
856
Дарий, выдвинув против нас и эретрийцев ложное обвинение в коварных замыслах против Сард, выслал под этим предлогом корабли... с пятисоттысячным войском’, военных кораблей было триста, под командованием Датиса... — Речь идет о военном походе персов под командованием Датиса и Артаферна против афинян и эретрийцев, которые в 494 г. до н. э. оказали помощь ионийским грекам, восставшим против персидского владычества на острове Эвбее. Согласно Геродоту, под началом Датиса находилось в тот момент 600 триер (см.: История. VI.94 сл.).
(обратно)
857
...воины, взявшись за руки, образовали цепочку от моря до моря и так прошли всю землю, дабы... объявить царю, что никто не сумел от них убежать. — Об этом известном факте упоминают также Геродот (см.: История. VI. 101, 119) и Платон (см.: Законы. 698c—d).
(обратно)
858
Точно с таким же замыслом отправились они из Эретрии к Марафону... — Данный эпизод из истории Греко-персидских войн подробно описан у Лисия (см.: Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 21—26; см. также примеч. 15 к указанной речи).
(обратно)
859
...причем эти последние явились на помощь на другой день после битвы... — По сообщению Геродота, лакедемоняне отказались выступить вовремя, так как ожидали полнолуния — согласно верованиям греков, наиболее благоприятного времени.
(обратно)
860
...первыми водрузил трофеи в честь победы над ними... — См. примеч. 1 к «Надгробной речи» Горгия.
(обратно)
861
...тем, кто сражался и победил на море — при Саламине и Артемисии. — О данных событиях Греко-персидской войны, произошедших десятилетие спустя, уже при персидском царе Ксерксе, упоминается и в «Надгробном слове...» Лисия (см.: 27—43; см. также примеч. 20 и 24 к указанной речи).
(обратно)
862
...дело при Платеях... — Об этом же сражении упоминает и Лисий (см.: Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 46—47; см. также примеч. 26 к указанной речи).
(обратно)
863
...оставались еще союзниками варвара... — Имеется в виду персидский царь Ксеркс.
(обратно)
864
...те, кто сражался при Эвримедонте, кто двинулся походом на Кипр и поплыл в Египет и другие земли... — О победе греков в сражении при Эвримедонте и неудачной военной кампании в Египте упоминает и Фукидид в «Надгробной речи Перикла...» (см.: История. II.41.4; см. также примеч. 17 к указанной речи). Поход на Кипр, предпринятый афинянами под командованием Кимона в 449 г. до н. э., в отличие от египетского, увенчался успехом: грекам удалось нанести поражение мощному персидскому флоту неподалеку от города Саламина и захватить ряд других кипрских городов. Однако во время осады одного из них Кимон внезапно скончался, и афинская эскадра была отозвана обратно в Афины. Результатом этой военной экспедиции стал мирный договор между афинянами и персами, положивший конец Греко-персидским войнам (см. примеч. 37 к «Надгробному слову...» Лисия).
(обратно)
865
...наш город был против воли втянут в войну с эллинами. — Имеются в виду распри между Афинами и Спартой, в 460 г. до н. э. вылившиеся в так называемую Малую Пелопоннесскую войну (460—445 гг. до н. э.), официальной причиной которой стало усиление могущества Афин, создававшее непосредственную угрозу для Спарты и Коринфа. В этой связи в 457 г. до н. э. спартанцы вторглись в среднюю Грецию — якобы для защиты Дориды от фокейцев, союзников афинян. Справившись со своей миссией, спартанцы направились домой, но по пути столкнулись с препятствием — афинскими гарнизонами, занявшими Мегару, и кораблями, вошедшими в Коринфский залив, — и были вынуждены отступить в дружественную им Беотию. Вслед за ними туда же выдвинулось войско афинян, которые решили нанести спартанцам удар, не дожидаясь, пока те вторгнутся в Аттику.
(обратно)
866
...афиняне, защищавшие в Танагре свободу беотийцев, вступили в сражение с лакедемонянами... — Вблизи Танагры, древнейшего города Беотии, в 457 г. до н. э. произошло сражение между спартанским войском (которое стояло там лагерем) и прибывшей в эту область афинской армией. Битва окончилась поражением афинян.
(обратно)
867
...исход сражения остался неясен... — Несмотря на победу (ср. примеч. 26), спартанское войско ослабело после тяжелой битвы и, не решившись вторгнуться в Аттику, вернулось домой.
(обратно)
868
...наши же, победив в трехдневной битве при Энофитах, честно вернули несправедливо изгнанных беотийцев. — Спустя 62 дня после сражения при Танагре афинское войско во главе с Миронидом вторглось в Беотию, где в битве при Энофитах победило беотийцев, союзников Спарты (см.:
Фукидид. История. 1.108. 2). Вследствие этой победы в Беотии и средней Греции была установлена афинская гегемония, продолжавшаяся целое десятилетие, вплоть до битвы при Коронее (394 г. до н. э.). В этот период к власти в Беотии при поддержке афинян пришли наиболее демократически настроенные граждане, олигархия же, прежде активно поддерживаемая Спартой, напротив, утратила влияние.
(обратно)
869
После того вспыхнула великая война... — Имеется в виду Пелопоннесская война за гегемонию в Греции, которую вели Афины и Спарта вместе со своими союзниками. Война ослабила все греческие полисы и привела к их упадку, что в дальнейшем способствовало быстрому завоеванию Греции Македонией.
(обратно)
870
Наши победили их в морском сражении и захватили у острова Сфактерии... — В 425 г. до н. э. афинские войска осадили спартанский гарнизон на острове Сфактерии. Спартанцы направили к афинянам послов, но тем были предъявлены такие позорные условия, что осажденные не сочли возможным на них согласиться. Афиняне продолжили осаду, и в результате блестящей военной операции под начальством демагога Клеона и стратега Демосфена остров был взят, а сдавшиеся в плен спартанцы отправлены в Афины.
(обратно)
871
...но отпустили, вернули на родину и заключили мир... — Оратор имеет в виду не тот договор, что был заключен сразу после победы афинян у острова Сфактерии (см. примеч. 30), а так называемый Никиев мир, ставший итогом сражения при Амфиполе (см. примеч. 26 к «Надгробной речи Александру»).
(обратно)
872
После этого мира разгорелась третья война... — Имеется в виду неудачный военный поход афинян в Сицилию (см. примеч. 21 к «Монодии Смирне»).
(обратно)
873
...они, для кого у врагов и противников было в запасе больше похвал за их доблесть и рассудительность, чем для некоторых других —у друзей. — Сократ преувеличивает здесь мужество афинян, утверждая, будто бы они удостоились похвал от врагов, т. е. от персов. На самом же деле в данном случае можно говорить лишь о том, что Сицилийская экспедиция афинян вызвала гораздо большую ненависть к ним со стороны сицилийских греков, нежели со стороны их врагов персов.
(обратно)
874
Многие же погибли при морских сражениях в Геллеспонте... — По всей видимости, речь идет о победе афинян над спартанским флотом, помогавшим жителям Хиоса и Лесбоса, которые хотели отложиться от Афин (см.:
Фукидид. История. VIII.9—14).
(обратно)
875
...зависть эта побудила их решиться на переговоры с персидским царем... — Имеется в виду царь Дарий II Нот. К сговору с персами спартанцев склонял Алкивиад, афинский стратег и инициатор Сицилийской экспедиции, заочно осужденный в Афинах и перешедший после этого на сторону Спарты.
(обратно)
876
...наши сограждане на шестидесяти кораблях сами...разбили врагов... — Речь идет о сражении при Аргинусских островах в 406 г. до н. э., когда афинский флот во главе с Кононом одержал победу над спартанским флотом, воевавшим под командованием Калликратида.
(обратно)
877
...ведь не они, но мы сами себя повергли и победили. — Судя по всему, Сократ здесь имеет в виду поражение афинского флота в морском сражении при Эгоспотамах в 405 г. до н. э., когда спартанский военачальник Лисандр захватил в плен и казнил 3 тыс. афинян (об этом см.:
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Лисандр. 12—14).
(обратно)
878
Когда затем наступило спокойствие и был заключен мир с остальными эллинами, у нас началась гражданская война... — Мир со Спартой был заключен после победы Лисандра (см. примеч. 37). Для афинян этот договор оказался постыдным: согласно его условиям, они должны были разрушить свою гавань — Пирей, срыть так называемые Афинские, или Длинные, стены (которые соединяли Афины с Пиреем и составляли в длину 7 км), а также лишались права иметь флот больше чем в двенадцать кораблей и отказывались ото всех своих заморских владений. Со стороны афинян в качестве полномочного посла переговоры вел Ферамен. Он согласился также на изменение государственного строя: устранение демократии (изгнанным аристократам при этом разрешалось вернуться в город) и установление олигархии, или власти Тридцати тиранов. В дальнейшем это обстоятельство стало причиной гражданской войны — борьбы демократов против нового правительства, которую возглавил афинянин Фрасибул.
(обратно)
879
...с каким чувствам меры положили они конец войне против тех, кто был в Элевсине! — После того как Фрасибул занял Филу и разбил военные силы Тридцати тиранов при Ахарнах (403 г. до н. э.), олигархи бежали в Элевсин, находившийся недалеко от Афин. Там они поначалу упорно сопротивлялись, но затем вступили в переговоры, во время которых и были убиты. Фрасибул захватил гавань Пирей, после чего состоялось последнее сражение, в котором погиб Критий, один из самых жестоких олигархов.
(обратно)
880
Простив варварам... — Имеются в виду персы.
(обратно)
881
...захват кораблей, некогда спасших им жизнь, и разрушение стен... — Речь идет о повелении Лисандра уничтожить афинские корабли и срыть стены города (см. примеч. 38).
(обратно)
882
...первые среди эллинов аргивяне, беотийцы и коринфяне, пораженные ужасам, вынуждены были обратиться за помощью к нашему городу. — Речь идет о союзе, который Коринф, Фивы и Аргос заключили с Афинами против Лакедемона.
(обратно)
883
...сам персидский царь оказался в таком затруднении, что ему оставалось искать спасения только у нашего города... — Союз греческих городов (см. примеч. 42) содержался на деньги персидского царя Артаксеркса II, которые тот давал, преследуя собственные интересы.
(обратно)
884
...вплоть до того времени, когда снова поработили друг друга... — Имеется в виду дальнейшее противостояние греков, в ходе которого во главе их оказывались поочередно то Афины, то Спарта, то Фивы, преследуя при этом лишь собственные интересы и навязывая остальным городам невыгодные условия существования (см. об этом также:
Элий Аристид. Похвала Риму. 43-57).
(обратно)
885
...дав позволение перебежчикам и добровольцам помочь царю, выручил его из беды. — Здесь Сократ несколько искажает реальную историческую ситуацию, стремясь выставить Афины в наиболее благоприятном свете. На самом деле события развивались следующим образом. После того как в 404 г. до н. э. умер Дарий II и персидский престол перешел к его старшему сыну Артаксерксу II, второй сын Дария, Кир Младший, подстрекаемый своей матерью Парисатидой, начал войну против брата, собрав большое войско из греческих наемников. Среди последних был и Ксенофонт, ставший впоследствии известным историком и описавший эти события в своем сочинении «Анабасис». В 401 г. до н. э. в битве при Кунаксе Кир Младший погиб, а все его военачальники были вероломно убиты. Оставшиеся 10 тыс. греческих наемников во главе с Ксенофонтом отступили и, проделав нелегкий путь, вернулись на родину. В это же время спартанцы под командованием своего царя и прославленного полководца Агесилая вели военные действия против сатрапа Тиссаферна, помогая греческим городам в Малой Азии. Тогда Артаксеркс прибег к хитроумной уловке — подкупил греческие города во главе с Афинами, чтобы те выступили против Спарты и тем самым отвлекли ее внимание от персидских дел. В результате спартанцам не оставалось ничего, кроме как вернуть Агесилая с войском на родину (об этом см.:
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Агесилай. 6—15). Таким образом, персидского царя спасли не греческие «перебежчики» и «добровольцы», а очередная междоусобная война (394—392 гг. до н. э.), инспирированная персами. Следует отметить, что среди перебежчиков, помогавших персам в войне со спартанцами, были ранее изгнанные из Афин видные военные деятели — в том числе и Конон, один из главных полководцев Пелопоннесской войны. В 394 г. до н. э. в битве при Книде он, сражаясь на стороне персов, разбил флот спартанцев, которым командовал военачальник Писандр (см.:
Ксенофонт. Греческая история. IV.3.10—12;
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Агесилай. 17).
(обратно)
886
Восстановив затем стены и построив флот, он принял вызов и, понуждаемый воевать, сразился с лакедемонянами в защиту паросцев. — Афинские стены, разрушенные по повелению спартанского военачальника Лисандра (см. примеч. 38), были заново воздвигнуты Кононом на деньги персидского царя (см.:
Ксенофонт. Греческая история. IV.8.9). Также в 396 г. до н. э. персы предоставили Конону флот. Однако, какие именно военные действия вели Афины «в защиту паросцев», остается неясным, в связи с чем это место берется учеными под сомнение; предлагается чтение «в защиту персов» (Μ. Поленц), «в защиту всех» (Э. Шонборн) и др.
(обратно)
887
Царь почувствовал страх ~ и взамен обещал сражаться на нашей стороне и на стороне... наших союзников... — Согласно логике излагаемых в речи событий, Артаксеркс II, опасаясь возвышения Афин вследствие победы их флота над спартанским, выдвинул в качестве условия сохранения прежнего союза с афинянами возвращение под власть персов древнегреческих городов на побережье Малой Азии (здесь: «на материке»). Однако в действительности это условие стало результатом многолетних дипломатических интриг спартанского военачальника Анталкида, который любой ценой пытался сохранить ведущее положение Спарты в Греции, заручившись поддержкой персидского царя в войне спартанцев с афинянами (см. примеч. 46 к «Надгробному слову...» Лисия).
(обратно)
888
...тем самым дадим ему предлог для отступления. — Имеется в виду отступление персидского царя от союза с афинянами (см. примеч. 46), которое автоматически означало бы последующее укрепление взаимоотношений персов со Спартой.
(обратно)
889
Одни лишь мы не дерзнули ни присягнуть, ни предать... — В 387 г. до н. э., согласно Анталкидову миру, малоазийские древнегреческие города были отданы под власть персов (см. примеч. 46 к «Надгробному слову...» Лисия). Практически все греки согласились с этим условием Артаксеркса II, так что у царя не было формального предлога отступиться от них и не давать им денежных субсидий. В результате создалась ситуация, при которой всякий полис, не согласный с условием передачи персам малоазийских городов, немедленно восстанавливал против себя остальные (см.:
Ксенофонт. Греческая история. V.I. 30—31). Лишившись таким образом помощи всех союзников, Афины не могли больше вести военные действия, и гегемония над греческими полисами закрепилась за Спартой.
(обратно)
890
Среди нас нет ни Пелопов, ни Кадмов, ни Египтов, ни Данаев, ни многих других, рожденных варварами и являющихся афинскими гражданами лишь по закону, но все мы, живущие здесь, настоящие эллины, а не полукровки... — Первые аттические цари — Кекроп, Кранай и Эрихтоний — были автохтонами (т. е. рождены аттической землей), поэтому афиняне, считавшие себя их потомками, гордились тем, что являются коренными жителями Аттики (об этом также упоминает Лисий, см.: Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Коринфа. 17). Им противопоставлены здесь герои и основатели других греческих городов, имевших чужеземное и даже восточное происхождение: так, например, Пелоп, герой-эпоним Пелопоннеса, был сыном фригийского царя Тантала; Кадм, основатель Фив, происходил из Финикии; Данай, ставший впоследствии царем Аргоса, был братом Египта, царя Ливии, и сыном египетского царя Бела.
(обратно)
891
..мы, тем не менее, с помощью бога завершили войну благополучнее, чем тогда. — Речь идет о неблагоприятном для афинян исходе Пелопоннесской войны (см. примеч. 37 и 38). Под «богом» здесь подразумевается Apec (см. примеч. 6).
(обратно)
892
...противники наши воспользовались... предательством в Лехее. — Коринфская гавань Лехей находилась в 12 стадиях к северу от города, с которым она была соединена двойными стенами. Именно туда были тайно введены лакедемонские войска; им оказали помощь те коринфяне, которые хотели отомстить своим союзникам (Аргосу, Фивам и Афинам), жестоко наказавшим Коринф за его нежелание воевать со Спартой. Несмотря на активные военные действия союзников, победа досталась лакедемонянам.
(обратно)
893
Достойными людьми показали себя и те, кто освободил царя и выгнал с моря лакедемонян... — Морскую победу над лакедемонянами, во главе которых стоял Писандр, одержал полководец Конон (см. примеч. 45). Кроме Конона, видными афинскими военачальниками в войне со Спартой были также Хабрий, Тимофей, Ификрат и Каллистрат. Хабрий в 376 г. до н. э. разбил спартанский флот при острове Наксосе. В 375 г. до н. э. тяжелое поражение Лакедемону нанес Тимофей, захвативший остров Керкиру. В 372 г. до н. э. Ификрат совместно с Каллисгратом и Хабрием и с семьюдесятью кораблями снял осаду с острова Керкиры и, разгромив сиракузскую эскадру, вынудил Кефаллению присоединиться к союзу с Афинами.
(обратно)
894
..любое умение в отрыве от справедливости и других добродетелей оказывается хитростью, но не мудростью. — Эта мысль Сократа, приобретшая в античности популярность, в несколько перефразированном виде встречается, в частности, в трактате Цицерона «Об обязанностях», где она названа «превосходной» (см.: 1.63).
(обратно)
895
Древняя пословица “Ничего сверх меры”... — Данное изречение в древности приписывалось Солону.
(обратно)
896
...охрана их поручена высшему должностному лицу, коему надлежит следить за тем, чтобы отцы и матери погибших не претерпели обиды... — Забота о семьях погибших возлагалась в Афинах на одного из архонтов (см. примеч. 8).
(обратно)
897
...когда же они достигнут возмужалости... — То есть восемнадцатилетнего возраста, когда мальчики вносились в списки эфебов
(др.-греч. έφηβος — «юноша»), начинали подготовку к военной службе, знакомились с общественными делами, приносили гражданскую присягу и участвовали в охране границ. В 20 лет эфебы получали полное вооружение и становились полноправными воинами и гражданами, т. к. зачислялись в перечень лиц, имеющих право участвовать в народном собрании.
(обратно)
898
...учреждает гимнастические и конные, а также и всевозможные мусические состязания... — В Древней Греции на общегреческих празднествах в честь богов наряду со спортивными соревнованиями проводились также состязания в различных видах поэтического и музыкального искусства, включавшие в себя выступления флейтистов и кифаредов. Так, мусические состязания входили в обязательную программу Пифийских, Истмийских и Немейских игр.
(обратно)
899
У афинян «эпитафием» называется речь, ежегодно произносимая в честь павших на войне, однако свое название она получила.... от обычая говорить ее над... телом покойного... — Слово «эпитафий» (έπιτάφιος) буквально означает «надгробная речь» и происходит от выражения «έπι ταφίω» — «над могилой».
(обратно)
900
...сочинил речи, якобы оглашенные военачальником, когда афиняне оказали ему такую честь. — Речь идет о так называемых «школьных» речах (μελέται), которые сочинялись ораторами в качестве риторических образцов для своих учеников. До нас дошло несколько таких фиктивных речей Элия Аристида, связанных с различными эпизодами греческой истории и мифологии: «О необходимости послать помощь жителям Сицилии» («Περί, του πέμπειν βοήθειαν τοίς Σικελία»), «В защиту мира с лакедемонянами» («Υπέρ τής προς Λακεδαιμονίους ειρήνης»), «В защиту мира с афинянами» («Υπέρ τής προς ’Αθηναίους ειρήνης»), «Левктрийская речь» («Λευκτρικός»), «Союзническая речь» («Συμμαχικός») и др., однако упомянутые здесь эпитафии до нашего времени не сохранились.
(обратно)
901
...эпитафий... превращается в энкомий. — То есть в похвальную речь (το έγκώμιον), см. примеч. 4 к «Надгробной речи Александру».
(обратно)
902
Фукидид же, произнося эпитафий в честь погибших с начала Пелопоннесской войны... — Имеется в виду надгробная речь Перикла, приведенная Фукидидом в его «Истории» (см.: II.35—46).
(обратно)
903
...он удержался от плача... — В данном случае под плачем (см. примеч. 1 к «Надгробной речи Этеонею») понимается не самостоятельный жанр лирической поэзии, а один из элементов в структуре эпитафия, употребляемый наряду с энкомием (похвалой) и утешением.
(обратно)
904
...общее место, касающееся утешения. — Утешение являлось обязательным топосом надгробной речи (ср. примеч. 5).
(обратно)
905
...подобно «Эвагору» Исократа. — Эта речь, названная так по имени царя кипрского города Саламина, к которому она и обращена, написана в жанре энкомия и представляет собой яркий образец эпидейктического красноречия классической эпохи.
(обратно)
906
...когда она мучилась в родах, явились ей предзнаменования... — Согласно представлениям древних греков, рождение выдающегося человека обычно сопровождалось особыми знаками — пророчествами, сновидениями и т. д. (ср., в частности:
Исократ. Эвагор. 21).
(обратно)
907
...в качестве частной темы ты добавишь к общему содержанию сопоставление. — Под сопоставлением (σύγκρισις) в греческой риторической теории понимается прием аналогии, применяемый в речи при описании сходных качеств или поступков различных лиц. Так, чтобы отметить храбрость и бесстрашие какого-то лица, достаточно сравнить его с Ахиллом, чтобы указать на его хитрость и ловкость — с Одиссеем, и т. п. Этому приему посвящена, в частности, специальная глава в трактате Теона Александрийского «Подготовительные упражнения».
(обратно)
908
...и Андромахе, и Приаму, и Гекубе он вложил в уста монадические речи...— Отсылка к соответствующим эпизодам «Илиады» Гомера (см.: XXII.477—514, 416—428, 431-436).
(обратно)
909
...часто меняя свое мусическое пение на плач... — См. примеч. 1 к «Надгробной речи Этеонею». Под мусическим пением подразумевается исполнение лирических произведений под аккомпанемент флейты или кифары (см. примеч. 58 к «Надгробной речи Сократа»).
(обратно)
910
Слово же «энкомий» происходит от того, что древние во время праздничной процессии в честь Диониса в шутку произносили кому-нибудь похвальные речи, относящиеся к богам. — Понятие «энкомий» (το έγκώμιον) возникло из греческого выражения «έν κώμω» — букв.: «во время процессии». Такие веселые шествия, сопровождающиеся обычно музыкой, пением и плясками, являлись важнейшей частью празднеств в честь бога Диониса.
(обратно)
911
Прекрасными являются дела, восхваляемые уже после смерти, ибо живым людям имеют обыкновение льстить. — Это и последующие положения, выдвигаемые Теоном, представляют собой пересказ классического учения Арисготеля об этических и эстетических основаниях похвалы и хулы, изложенного им в «Риторике» (см.: 1.9.1366a—1368a).
(обратно)
912
...зависть к живым, согласно Фукидиду, связана с соперничеством. — См.: История. II.45.1.
(обратно)
913
...те, кто восхваляет Елену, — ибо ей оказал предпочтение Тесей. — Речь идет об одном из самых дерзких деяний Тесея — похищении прославленной Елены, красота которой послужила позднее причиной Троянской войны. Увидев девушку в храме Артемиды в Спарте, герой, восхищенный ее красотой, увез Елену к себе домой и оставил на попечение своей матери Эфры в Афиднах. Позднее, в отсутствие Тесея, братья Елены Кастор и Полидевк захватили Афидны и вернули девушку обратно в Спарту (см.:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. III.10.7).
(обратно)
914
...Феопомп... в энкомии Филиппу говорит, что если последний пожелает сохранить верность своему прежнему образу действий, то будет царствовать надо всею Европой. — Эта речь Феопомпа (как и большинство его сочинений) не сохранилась до наших дней. Однако из контекста очевидно, что она была посвящена Филиппу II, отцу Александра Македонского.
(обратно)
915
...например, сказать о Демосфене, что он был «силой народа»... — Имя «Демосфен» (Δημοσθένης) происходит от греческих слов «δήμος» — «народ» и «σθένος» — «сила». В данном случае речь идет об ораторе, а не об одноименном полководце.
(обратно)
916
...как в случае с Периклом Олимпийским, прозванным так за его великие достижения. — Имеется в виду совпадение прозвищ Перикла и Зевса Олимпийского, центр поклонения которому находился в древней Олимпии.
(обратно)
917
...происходя из маленького города, он стал знаменитым, как Одиссей или Демокрит... — Одиссей, герой поэмы Гомера «Одиссея», был царем небольшого острова Итаки. Древнегреческий философ Демокрит происходил из фракийского города Абдеры.
(обратно)
918
...выросши при дурном государственном устройстве, он не сбился с истинного пути, но стал лучшим среди себе подобных, как Платон — при олигархии. — В основе этической философии Платона лежало учение об истине и высшем благе как основе мудрости и справедливости в обществе. При этом, согласно созданной им политической теории, идеальное государство предполагает строгую иерархию сословий, что вызвано изначальным природным неравенством людей. Так, управлять государством есть задача мудрецов и философов; охранять его должны воины, обладающие для этого крепкой физической силой и необходимыми моральными качествами; на долю же третьего сословия — земледельцев, ремесленников и торговцев — выпадает ручной труд, призванный обеспечивать материальное благосостояние государства.
(обратно)
919
...как сапожник Герон и гетера Леонтион, говорят, стали занижаться философией. — По свидетельству древних, афинская гетера Леонтион, став ученицей Эпикура, прославилась, в частности, тем, что написала сочинение против Феофраста, снискавшее всеобщую похвалу. О сапожнике Героне ничего не известно.
(обратно)
920
Похвалу неодушевленным вещам, таким как мед, здоровье, доблесть и тому подобное... — В эпоху расцвета Второй софистики (I—II вв. н. э.), когда жанр энкомия достиг невероятной популярности, на вошедших в моду сеансах показательных декламаций софисты соревновались в своем мастерстве произносить похвальные речи. Однако главное внимание в их речах уделялось не столько содержанию, сколько форме — стилистическим украшениям и пафосу, которые производили на слушателей особенно сильное впечатление. Предметом похвалы у софистов часто становились самые ничтожные и банальные предметы. Элий Аристид в своей речи «Против тех, кто уподобляется плясунам» подвергает софистов резкой критике — в частности, за то, что те не брезгуют даже такими тривиальными темами, как похвала принятию ванн. Хотя от обильной софистической литературы до наших дней почти ничего не дошло, мы можем судить о ней по отдельным пародиям на подобные речи, каковыми являются, например, «Похвала мухе» Лукиана и «Похвала плеши» Синесия, написанная в подражание двум несохранившимся шуточным речам Диона Хрисосгома — «Похвала попугаю» и «Похвала кудрям».
(обратно)
921
Сомнения в авторстве Лисия высказывались неоднократно (см.: Blass 1868—1880/1: 436 сл.; Burgess 1902: 149; Pohlenz 1948), но существует и противоположная точка зрения (см.: Walz 1936; Dover 1968). Что же касается надгробной речи Демосфена, то вопрос о ее аутентичности поднимался еще в древности — в частности, Дионисием Галикарнасским и Либанием. Мнение о том, что подлинная речь Демосфена, произнесенная им в 338 г. до н. э., не сохранилась до наших дней, высказывалось и современными учеными (см.: Blass 1868—1880/3: 404 сл.; Burgess 1902: 148 сл.), несмотря на ряд аргументов в защиту ее подлинности (см.: Pohlenz 1948; Sykutris 1928).
(обратно)
922
Хотя эта речь — скорее пародия на современное Платону софистическое красноречие в целом и на жанр эпитафия в частности, она дает отчетливое представление о риторическом каноне надгробных речей классической эпохи.
(обратно)
923
Такой же точки зрения придерживается и современная наука (см., напр.: Pernot 1993: 20—21), признавая при этом за Исократом новаторство двоякого рода. Во-первых, рассматриваемая речь является похвалой одному лицу, в отличие от эпитафиев классической эпохи, которым свойственен коллективный характер. Во-вторых, это похвала современнику, а не мифологическому персонажу — энкомии на мифологические темы начиная с Горгия (см. «Похвалу Елене») пользовались большой популярностью у ораторов. Наиболее известные из них — «Похвала Елене» и «Бусирис» Исократа, «Похвала Клитемнестре», принадлежащая, вероятно, Поликрату (подробнее об этом см.:
Квинтилиан. Речь II. 17.4), а также «Похвала Полифему» Зоила, упоминаемая в схолиях к диалогу Платона «Гиппарх» (см.: AS 1951: 200) и др. О том, что уже древние испытывали трудности при попытке определить жанр «Эвагора», свидетельствует краткое содержание этой речи, составленное неизвестным грамматиком (см.: Исократ 2013: 181—182). С одной стороны, грамматик и автор схолий к «Эвагору» характеризует данную речь как надгробную, поскольку она была написана с целью почтить память умершего тирана. С другой — он признаёт, что на этот счет нет единого мнения, т. к. с формальной точки зрения «надгробное слово требует, наряду с похвалою, еще разделов с оплакиванием в начале и с утешением в конце, ибо только этим и отличается надгробное слово от похвального» (Там же: 181.
Пер. Э.Д. Фролова). Пытаясь объяснить отсутствие этих разделов в речи Исократа, схолиаст обращает внимание на то, что, во-первых, она была написана много времени спустя после смерти Эвагора, и Исократ «считал неуместным помещать в ней раздел с оплакиванием и упоминать о скорби, которую следовало выразить раньше, в самый момент смерти» (Там же). А во-вторых, «если бы он присовокупил этот раздел без предваряющих его оплакиваний, то он поступил бы, по общему мнению, еще более нелепо. Ибо, где есть оплакивания, там должно следовать и утешение; а если мы никого не оплакивали в своей речи, то по ком тогда мы будем высказывать утешения близким родственникам?» (Там же). В заключение схолиаст приходит к выводу, что эта речь «может называться и надгробной, и похвальной: надгробной — потому что Исократ написал ее в память об умершем Эвагоре, похвальной же — потому что он опустил два раздела, входящие в надгробную речь», но при этом добавляет: «Больше, однако, упрочилось мнение называть эту речь похвальной» (Там же: 182). К похвальным речам относит «Эвагора» и Менандр Лаодикейский, лицо весьма авторитетное в позднеантичной риторике. Так, в посвященном эпитафию разделе трактата «Об эпидейктическом красноречии» он характеризует «Эвагора» как «чистый энкомий» (см.: 279). Что же касается самого Исократа, то и он, по всей видимости, не склонен был рассматривать эту речь как надгробную, о чем свидетельствует, во-первых, тот факт, что оратор не дал ей обычного в таком случае заглавия (эпитафий), а во-вторых — то, что в одном из пассажей он прямо называет ее «похвальной» (см.: Эвагор. 73).
(обратно)
924
Установление этого обычая в древности приписывали главным образом Солону (см.:
Фукидид. История. II.35.1), что, однако, опровергается современной критикой (см., например: Gomme 1956: 103). С другой стороны, еще Дионисий Галикарнасский (см.: Римские древности. V. 17.1—4) и Диодор Сицилийский (см.: Историческая библиотека. XI.33.1—3) относили данный обычай к более позднему времени — к эпохе Греко-персидских войн, что представляется вполне правдоподобным. Появление такого обычая действительно могло быть связано с глубокими социально-политическими и культурными изменениями, которые произошли в греческом обществе после победы над Персией (см.: Lysias’ Epitaphios 1887: 9). По мнению некоторых современных ученых (см.: Hauvette 1898), ежегодный ритуал произнесения надгробной речи (эпитафия), скорее всего, был введен афинянами по случаю состоявшегося в Элевсине перезахоронения «костей Тесея» под руководством Кимона, который и мог учредить соответствующий закон. Сам же жанр эпитафия возник, скорее всего, в результате трансформации трена — одного из древнейших жанров лирической поэзии, связанного с ритуалом погребения (см.: Burgess 1902: 146 сл.).
(обратно)
925
Здесь и далее все переводы, воспроизведенные в данном томе, цитируются по наст. изд.
(обратно)
926
Философское и психологическое обоснование этого приема дал Аристотель в «Риторике»:
Преувеличение по справедливости употребляется при похвалах, потому что похвала имеет дело с понятием превосходства, а превосходство принадлежит к числу вещей прекрасных, поэтому, если нельзя сравнивать человека со знаменитыми людьми, следует сопоставлять его вообще с другими людьми, потому что превосходство служит признаком добродетели. Вообще из приемов, одинаково принадлежащих всем [трем] родам речей, преувеличение всего более подходит к речам эпидейкгическим, потому что здесь оратор имеет дело с деяниями, признанными за неоспоримый факт; ему остается только облечь их величием и красотой.
1.9.1368a. Пер. Н.Н. Платоновой
(обратно)
927
Это сопоставление до Гиперида встречается уже у Исократа в «Эвагоре» (см.: 65) и у Демосфена в эпитафии (см.: Надгробная речь. 10—11).
(обратно)
928
По мнению некоторых исследователей, «Меланком» был написан Дионом по заказу некоего официального лица, имевшего отношение к организации и проведению игр в честь Августа (Ludi Augustales) в Неаполе в 74 г. н. э. (см., напр.: Arnim 1898). Другие полагают, что эта речь является фиктивной и представляет собой скрытую пропаганду гуманности и благородства традиционной греческой атлетики в противоположность жестокости и грубости римских гладиаторских
игр (см.: Lemarchand 1926: 30 сл.).
(обратно)
929
От греческого выражения «καλός και αγαθός» — «прекрасный внешне и внутренне, хороший во всех отношениях».
(обратно)
930
Второй софистикой называется эпоха расцвета греческой литературы, главным образом ораторского искусства и риторики, продолжавшаяся с конца I в. до начала III в. н. э. в восточной части Римской империи (подробнее см.: Van Groningen 1965; Bowersock 1969; Bowie 1970; Russel 1983; Anderson 1993; Glaeson 1995; Korenjak 2000; Borg 2004; Whitmarsh 2005). Обилие риторических школ, появление большого количества странствующих ораторов и риторов, называемых софистами, и творчество крупнейших представителей позднего греческого красноречия, таких как Герод Аттик, Антоний Полемон, Элий Аристид, Дион Хрисостом и др., способствовали подъему интереса античного общества к риторике и образованию (см.: Clark 1957; Marrou 1956; Kennedy 1972; Morgan 1998; Too 2001).
(обратно)
931
Первоначально термин «монодия» (μονωδία) относился к лирике и обозначал одноголосое (монодическое) пение в противоположность хоровому. Согласно античным свидетельствам, такое сольное пение могло сопровождаться игрой на музыкальном инструменте — кифаре, авлосе или лире (см.:
Платон. Законы. 764d—765b). В ранней и классической греческой литературе монодиями назывались жалобные песни, служащие для выражения печали и скорби. Судя по всему, этот жанр лирической поэзии возник под влиянием ранних форм дифирамба (см.: К1Р 1979: 1413), так как в развитом виде мы застаем его уже в качестве элемента классической драмы, преимущественно в трагедии. Здесь монодии представляли собой сольные вокальные партии, исполняемые актерами в кульминационных и особо значимых сценах для выражения сильных душевных переживаний персонажей; состояли они, как правило, из обращений и воззваний к богам, людям, различным предметам и явлениям природы, а также из восклицаний и риторических вопросов. Нередко в этих лирических ариях оплакивалась гибель трагических героев или их родственников, что сближало монодии с тренами. Прекрасными образцами таких монодий являются, в частности, лирическая ария Электры в одноименной драме Софокла (см.: 86—120) и сольная партия Креусы в «Ионе» Еврипида (см.: 859—880). Встречались монодии и в комедиях (например, у Аристофана), однако там они играли роль пародий на аналогичные партии в трагедиях. Дальнейшая судьба монодии как жанра лирической поэзии известна мало. С одной стороны, не вызывает сомнения, что ее неразрывная связь с греческой драмой и инструментальной музыкой сохранялась в Греции до тех пор, пока существовали эти литературные и музыкальные жанры. С другой же — известно, что в эллинистическую эпоху монодия выделилась из драмы в самостоятельный жанр, о чем свидетельствует, например, частое исполнение на сцене отдельных монодий из трагедий Еврипида, пользовавшихся особенной популярностью у публики (см.: Головня 1955: 132). Ярким примером эллинистической монодии является дошедший до нас на куске папируса фрагмент анонимного произведения под названием «Жалоба девушки» (см.: Менандр 1964: 255—257).
(обратно)
932
Насколько можно судить по обширной переписке Албания (см.: Libanius 1980), сочинение монодий, составлявшихся по определенному риторическому канону, считалось в его время обыденным занятием ритора. Потребность в такого рода речах была тем выше, что она служила цели не только почтить память умершего, но и «ослабить собственную печаль»
(Либаний. Письма. 344. Пер. наш. —
С.Μ.). Либаний часто говорит в письмах о необходимости обращаться к риторике как к наилучшему лекарству от скорби. Подобные советы он дает, в частности, своему другу Деметрию, потерявшему брата (см.: Письма. 29, 31, 344), и Аристенету, лишившемуся жены (см.: Письма. 407).
(обратно)
933
В связи с этим для монодии больше подходит азианический стиль, для которого характерно внимание к чисто внешним риторическим эффектам, за счет чего достигается наибольшее воздействие на слушателей. Излюбленными фигурами у риторов-азианистов были параллелизмы, повторы, антитезы, внутренние рифмы (гомеотелевты), игра слов, ритмизация речи и т. п.
(обратно)
934
Новая датировка землетрясения (традиционно его относили к 178 г. н. э.) предложена Чарлзом Бэром (см.: Behr 1968: 112).
(обратно)
935
Среди этих сочинений — «Смирнская речь» («Σμυρναικος πολιτικός»), «Панегирик храму в Кизике» («Πανηγυρικός έν Κυζίκω περί του ναού»), «Похвала Риму» («Ρώμης έγκώμιον») и «Панафинейская речь» («Παναθηναϊκός»). Две последние речи принесли Аристиду славу непревзойденного панегириста и пользовались большим успехом как в последующие века античности, так и в византийскую эпоху (см.: Baumgart 1874; Boulanger 1923).
(обратно)
936
Речь «К Эгейскому морю» («Εις το Αΐγαιον πέλαγος») была написана Аристидом во исполнение обета, данного им во время плавания по этому морю в 144 г. н. э. По форме она — нечто среднее между энкомием и гимном (см.: Behr 1968: 87). Речи «К источнику в храме Асклепия» («Εις το φρέαρ του ’Ασκληπιού») и «Панегирик воде в Пергаме» («Πανηγυρικός έπι τω ΰδατι έν Περγάμω») представляют собой «чистые» энкомии, посвященные чудодейственным источникам вблизи храма Асклепия в Пергаме.
(обратно)
937
Что же касается несохранившихся речей Диона Хрисостома, посвященных предметам не менее экзотическим, — «Похвалы попугаю» и «Похвалы кудрям» (о них упоминает Синесий в «Похвале плеши», написанной им в подражание Диону), а также «Похвалы мухе» Лукиана, то их не следует рассматривать в одном ряду с упомянутой речью Аристида, поскольку они являются скорее пародиями на жанр энкомия. Так, оба риторических памфлета Диона направлены философом-киником против конкурирующих философских учений, а сочинение начинающего философа Лукиана — против риторики и софистики в целом.
(обратно)
938
В юности Аристид изучал литературу под руководством Александра из Котиэя, известного, в частности, своими комментариями к Гомеру, Пиндару, некоторым другим лирическим поэтам и Платону. Свои глубокие познания в греческой литературе Аристид, по его собственному признанию (см.: Надгробная речь Александру. 2), получил от него.
(обратно)
939
В «Священных речах» («Ιεροί λόγοι») Элия Аристида имеются не только многочисленные упоминания о его собственном поэтическом творчестве (см.: 1.35, 73; II.8; IV.4, 38-44), но и отдельные образцы такового — в основном небольшие отрывки из гимнов к различным богам (см.: 1.30; II.71; III.4, 12; IV.31, 39, 42, 45-46).
(обратно)
940
В частности, «Панегирик» Исократа (см.: Hubbel 1913).
(обратно)
941
Это не единственная речь Либания в жанре монодии — в разное время им были созданы и другие, не дошедшие до нас речи, посвященные его умершим друзьям и знакомым. Так, в послании к Аристенету (см.: Письма. 407) оратор говорит о своей речи, сочиненной на смерть учителя Зиновия; в другом письме он упоминает о монодии, которой почтил память самого скончавшегося Аристенета (см.: Письма. 29, 344). Наконец, в автобиографии Либаний сообщает о монодии, которую он посвятил своему умершему ученику Евсевию, и даже приводит из нее отдельные места (см.: Жизнь, или О собственной доле. 188—189).
(обратно)
942
Менандру принадлежат также комментарии к речам Аристида.
(обратно)
943
Термин «έπιτάφιος» происходит от греческого выражения «έπι ταφίω» — «у могилы».
(обратно)
944
О том, что индивидуальные надгробные речи произносились обычно близкими родственниками или друзьями умерших, свидетельствует, в частности, проэмий к «Меланкому» Диона Хрисостома: «Кроме того, мне кажется нелепым существующий у нас обычай, согласно которому произнесение речей в честь покойных принято возлагать на тех, кто более всех скорбит. Ибо тот, кто переживает великое горе, как раз не годится для произнесения речей» (1).
(обратно)
945
Этот принцип полностью соответствует классическому тезису Аристотеля о том, что, составляя речь, «нужно обращать внимание и на то, среди кого произносится похвала, потому что, по выражению Сократа, нетрудно восхвалять афинян среди афинян же. Следует усвоить [восхваляемому лицу] то свойство, которое ценится у данного класса людей, например у скифов, или у лаконцев, или у философов» (Риторика. 1.9.1367b.
Пер. Н.Н. Платоновой).
(обратно)
946
самое позднее время
(лат.).
(обратно)
Оглавление
НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ. МОНОДИИ
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ АЛЕКСАНДРУ
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ЭТЕОНЕЮ
ЭЛЕВСИНСКАЯ РЕЧЬ
МОНОДИЯ СМИРНЕ
ДОПОЛНЕНИЯ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ
V В. ДО Н. Э. — IV В. Н. Э.
Горгий
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Фрагмент
Лисий
НАДГРОБНОЕ СЛОВО В ЧЕСТЬ АФИНЯН, ПАВШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ КОРИНФА
Демосфен
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Гиперид
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Дион Хрисостом
МЕЛАНКОМ
Либаний
МОНОДИЯ НИКОМЕДИИ
Либаний
МОНОДИЯ ХРАМУ АПОЛЛОНА В ДАФНЕ
Либаний
МОНОДИЯ ЮЛИАНУ
Либаний
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ЮЛИАНУ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ» НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ
[Перикл]
[НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ В ЧЕСТЬ АФИНЯН, ПОГИБШИХ В ПЕРВЫЙ ГОД ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ]
Фрагмент «Истории» Фукидида (11.35—46)
[Сократ]
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Фрагмент из «Менексена» Платона (236d—249c)
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ЖАНРЕ НАДГРОБНОЙ РЕЧИ
Менандр Лаодикейский
ОБ ЭПИТАФИИ
Фрагмент трактата «Об эпидейктическом красноречии»
Менандр Лаодикейский
О МОНОДИИ
Фрагмент трактата «Об эпидейктическом красноречии»
Теон Александрийский
О ПОХВАЛЕ И ХУЛЕ
Фрагмент трактата «Подготовительные упражнения»
ПРИЛОЖЕНИЯ
С.И. Межерицкая
О ЖАНРЕ НАДГРОБНОЙ РЕЧИ В АНТИЧНОСТИ
Примечания
Элий Аристид
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ АЛЕКСАНДРУ
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ЭТЕОНЕЮ
ЭЛЕВСИНСКАЯ РЕЧЬ
МОНОДИЯ СМИРНЕ
ДОПОЛНЕНИЯ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ V В. ДО Н. Э. — IV В. Н. Э.
Горгий
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Фрагмент
Лисий
НАДГРОБНОЕ СЛОВО В ЧЕСТЬ АФИНЯН, ПАВШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ КОРИНФА
Демосфен
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Гиперид
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ
Дион Хрисостом
МЕЛАНКОМ
Либаний
МОНОДИЯ НИКОМЕДИИ
Либаний
МОНОДИЯ ХРАМУ АПОЛЛОНА В ДАФНЕ
Либаний
МОНОДИЯ ЮЛИАНУ
Либаний
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ЮЛИАНУ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ» НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ
[Перикл]
[НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ В ЧЕСТЬ АФИНЯН, ПОГИБШИХ В ПЕРВЫЙ ГОД ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ]
Фрагмент «Истории» Фукидида (11.35—46)
[Сократ]
[НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ]
Фрагмент из «Менексена» Платона (236d—249c)
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ЖАНРЕ НАДГРОБНОЙ РЕЧИ
Менандр Лаодикейский
ОБ ЭПИТАФИИ
Фрагмент трактата «Об эпидейктическом красноречии»
Менандр Лаодикейский
О МОНОДИИ
Фрагмент трактата «Об эпидейктическом красноречии»
Теон Александрийский
О ПОХВАЛЕ И ХУЛЕ
Фрагмент трактата «Подготовительные упражнения»
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
*** Примечания ***

 Элий Аристид.
Сидячая статуя.
Ок. 200 н. э.
Скульптор не установлен.
Элий Аристид.
Сидячая статуя.
Ок. 200 н. э.
Скульптор не установлен.
 Ил. 1
Элий Аристид.
Гравюра со статуи. Ок. 1700 г.
Худ. не установлен
Ил. 1
Элий Аристид.
Гравюра со статуи. Ок. 1700 г.
Худ. не установлен
 Ил. 2 Элий Аристид.
1650 г.
Худ. не установлен
Ил. 2 Элий Аристид.
1650 г.
Худ. не установлен
 Ил. 3
Элий Аристид.
XIX (?) в.
Худ. не установлен
Ил. 3
Элий Аристид.
XIX (?) в.
Худ. не установлен
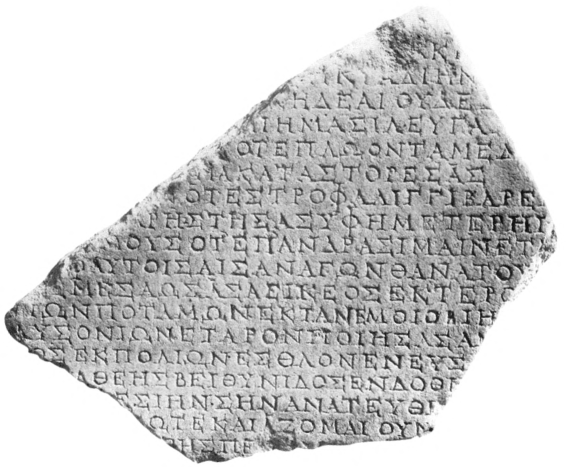 Ил. 4
Фрагмент речи Элия Аристида, выбитый на камне.
II в. н. э.
Ил. 4
Фрагмент речи Элия Аристида, выбитый на камне.
II в. н. э.
 Ил. 5
Фрагмент речи Элия Аристида (со схолиями).
XIII в.
Копия выполнена византийской принцессой Феодорой Палеолог
Ил. 5
Фрагмент речи Элия Аристида (со схолиями).
XIII в.
Копия выполнена византийской принцессой Феодорой Палеолог


 Ил. 8
Акведук неподалеку от г. Смирны.
XIX в.
Худ. Ф.Р. фон Хауслаб-младший
Ил. 8
Акведук неподалеку от г. Смирны.
XIX в.
Худ. Ф.Р. фон Хауслаб-младший










 Ил. 18—20
Телестерион, главный храм г. Элевсина.
Современный макет
Архитектор И. Травлос
Ил. 18—20
Телестерион, главный храм г. Элевсина.
Современный макет
Архитектор И. Травлос
 Ил. 21
Свод предписаний, высеченный на камне.
Храм Телестерион.
Ок. IV в. до н. э.
Ил. 21
Свод предписаний, высеченный на камне.
Храм Телестерион.
Ок. IV в. до н. э.
 Ил. 22
Портал храма Деметры, г. Элевсин.
XIX в.
Худ. не установлен
Ил. 22
Портал храма Деметры, г. Элевсин.
XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 23
Портал храма Деметры, г. Элевсин.
XIX в.
Худ. не установлен
Ил. 23
Портал храма Деметры, г. Элевсин.
XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 24
Жертвоприношения в честь богини Деметры.
Гравюра по барельефу IV в. до н. э.
Худ. не установлен
Ил. 24
Жертвоприношения в честь богини Деметры.
Гравюра по барельефу IV в. до н. э.
Худ. не установлен

 Ил. 26
Элевсинские мистерии.
XIX в.
Худ. Ф. Ротбарт
Ил. 26
Элевсинские мистерии.
XIX в.
Худ. Ф. Ротбарт

 Ил. 28
Лисий.
IV в. до н. э.
Скульптор не установлен
Ил. 28
Лисий.
IV в. до н. э.
Скульптор не установлен
 Ил. 29
Демосфен.
280 г. до н. э.
Скульптор не установлен
Ил. 29
Демосфен.
280 г. до н. э.
Скульптор не установлен
 Ил. 30
Гиперид.
II в. до н. э.
Скульптор не установлен
Ил. 30
Гиперид.
II в. до н. э.
Скульптор не установлен
 Ил. 31
Сократ. I в. до н. э.
Копия со скульптуры Лисиппа
Ил. 31
Сократ. I в. до н. э.
Копия со скульптуры Лисиппа
 Ил. 32
Фукидид.
Начало IV в. до н. э.
Скульптор не установлен
Ил. 32
Фукидид.
Начало IV в. до н. э.
Скульптор не установлен
 Ил. 33
Перикл.
Ок. 430 г. до н. э.
Копия со скульпторы Кресила
Ил. 33
Перикл.
Ок. 430 г. до н. э.
Копия со скульпторы Кресила
 Ил. 34
Фемистокл.
Гравюра с античного бюста.
Ок. 1823 г.
Худ. И-Я. Хорнер
Ил. 34
Фемистокл.
Гравюра с античного бюста.
Ок. 1823 г.
Худ. И-Я. Хорнер
 Ил. 35
Мильтиад.
Гравюра с античного бюста. Ок. 1823 г.
Худ. Й. Я. Хорнер
Ил. 35
Мильтиад.
Гравюра с античного бюста. Ок. 1823 г.
Худ. Й. Я. Хорнер
 Ил. 36
Одно из сражений Пелопоннесской войны.
1731 г.
Худ. Я.-К. Филипс
Ил. 36
Одно из сражений Пелопоннесской войны.
1731 г.
Худ. Я.-К. Филипс
 Ил. 37
Греки празднуют победу над персами в битве при Саламине.
1894 г.
Худ. не установлен
Ил. 37
Греки празднуют победу над персами в битве при Саламине.
1894 г.
Худ. не установлен
 Ил. 38
Битва при Платеях.
XIX в.
Худ. не установлен
Ил. 38
Битва при Платеях.
XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 39
Перикл произносит надгробную речь в честь афинян.
XIX в.
Худ. не установлен
Ил. 39
Перикл произносит надгробную речь в честь афинян.
XIX в.
Худ. не установлен
 Ил. 40
Император Юлиан II.
IV в. н. э.
Скульптор не установелен
Ил. 40
Император Юлиан II.
IV в. н. э.
Скульптор не установелен
 Ил. 41
Юлиан и советники.
1875 г.
Худ. Э. Армитедж
Ил. 41
Юлиан и советники.
1875 г.
Худ. Э. Армитедж
 Ил. 42
Разговор Юлиана с послами франков. 1882 г.
Худ. Г.-Х. Лёйтеманн
Ил. 42
Разговор Юлиана с послами франков. 1882 г.
Худ. Г.-Х. Лёйтеманн
 Ил. 43
Смерть Юлиана.
1882 г.
Худ. не установлен
Ил. 43
Смерть Юлиана.
1882 г.
Худ. не установлен
 Ил. 44
Вид на Антиохию с юго-запада.
1866 г.
Худ. Г. Уоррен
Ил. 44
Вид на Антиохию с юго-запада.
1866 г.
Худ. Г. Уоррен
 Ил. 45
Рассвет над Элевсином.
1829 г.
Худ. Х.-У. Уильямс
Ил. 45
Рассвет над Элевсином.
1829 г.
Худ. Х.-У. Уильямс