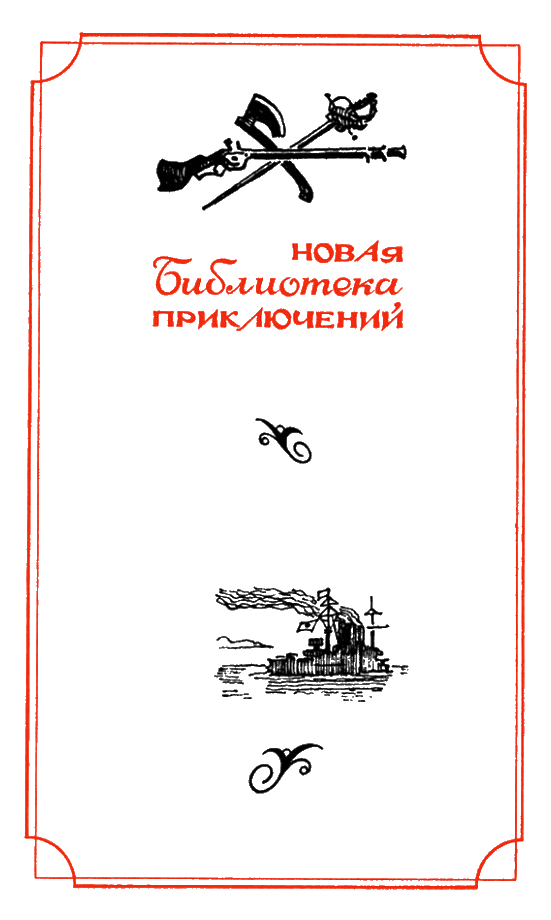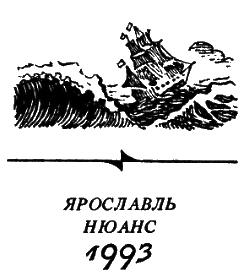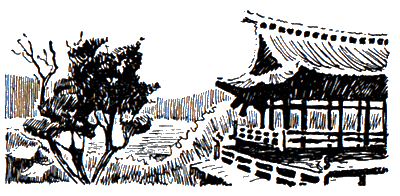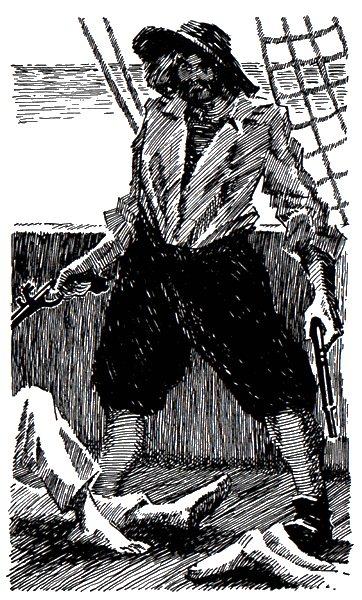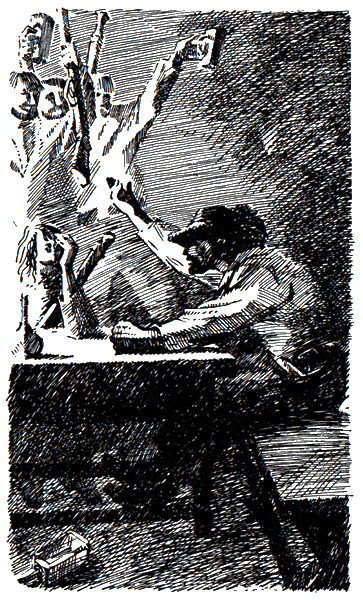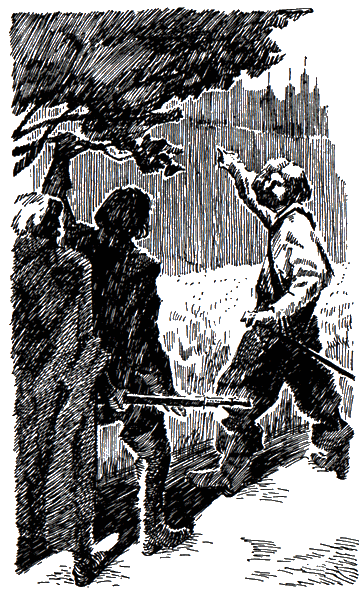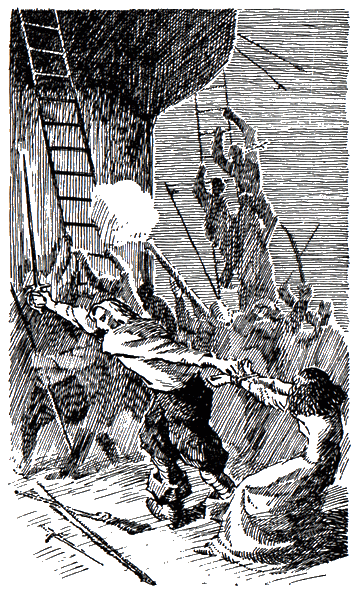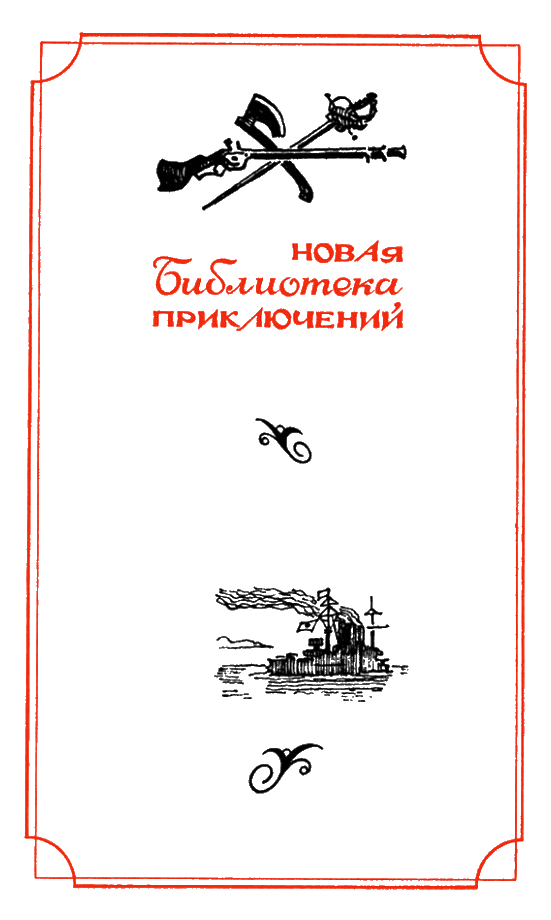
Клод Фаррер
КОРСАР
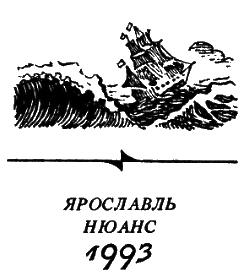
*
Редакционный совет:
Китайнер М, Г., Максимов A, В.,
Рышков А, Г., Сергеев А, А.
Перевод с французского
© Серия «Новая библиотека приключений»,
составление, оформление. Нюанс, 1993.
© Иллюстрации. И. А. Сакуров, 1993.
БИТВА

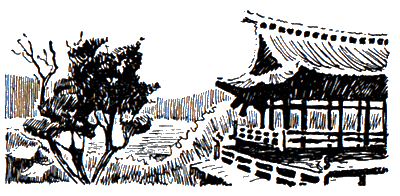
I
У высокой бамбуковой ограды, тянувшейся по левой стороне дороги, курума остановилась, и курумайя — человек, представляющий из себя одновременно и коня, и кучера, — опустил легкие носилки на землю. Фельз — Жан-Франсуа Фельз, из Французского Института, — сошел с курумы».
— Иорисака кошаку? — спросил он, не совсем уверенный, что был правильно понят, когда, садясь в экипаж, пробормотал на своем ломаном японском языке заученный наизусть адрес: «К маркизу Иорисака, в виллу, что на холме Аистов, близ большого храма О’Сувы, над Нагасаки».
Но курумайя склонился перед ним с необычайным подобострастием:
— Сайо дегосаймас! — подтвердил он.
И Фельз, услышав изысканно вежливый оборот, которым не всегда пользуются в разговорах с варварами, вспомнил о том непоколебимом благоговении, с которым в современной Японии относятся к своей старинной аристократии. Больше не существует даймио, но их сыновья — принцы, маркизы и графы — вызывают такое же почтение.
Жан-Франсуа Фельз постучал в двери виллы. Японская прислужница, в нарядной одежде с широким поясом, открыла ему и, соблюдая правила приличия, упала перед гостем на колени.
— Иорисака кошаку фуджин? — спросил Фельз, на этот раз уже не маркиза, а маркизу.
Служанка ответила фразой, которую Фельз не понял, но смысл ее, очевидно, соответствовал европейской формуле: «барыня принимает». Жан-Франсуа протянул свою визитную карточку и последовал через двор за мелко семенившей японкой.
Двор был почти квадратный. Идти приходилось по гравию, мелким-мелким черным камешкам, чистым и блестящим, как мраморные шарики. Фельз наклонился и с удивлением поднял один из них.
— Честное слово! — пробормотал он себе в усы, бросая обратно камешек. — Можно подумать, что их каждое утро моют мылом и горячей водой!..
Веранду широкого, низкого деревянного дома поддерживали простые отполированные стволы деревьев. Между двух таких колонн, над небольшим крыльцом, отворилась входная дверь: от самого порога расстилалась незапятнанная белизна циновок.
Фельз, знакомый с обычаями, хотел снять обувь. Но служанка, опять уже распростершаяся перед ним ниц, касаясь лбом пола, почтительно помешала этому.
— Ого, вот как! — промолвил про себя удивленный Фельз. — У японской маркизы можно оставаться в башмаках?..
Слегка разочарованный — любил экзотику — он решился снять только шляпу из светлого фетра с огромными полями, прикрывавшую, по-Ван-Диковски, его характерную голову — голову нераскаявшегося старого грешника, настоящего художника, ставшего знаменитостью.
И Жан-Франсуа Фельз с непокрытой головой и в башмаках вошел в салон маркизы Иорисака.
…Будуар парижанки, очень элегантный, очень современный, который был бы необычайно банален везде, только не здесь, за три тысячи миль от парка Монсо. Ничто здесь не походило на Японию. Даже циновки — национальные татами, гуще и мягче которых нет ковров во всем мире, уступили место обыкновенному бобрику. Стены были оклеены обоями, а окна (со стеклами!) задрапированы шелковыми портьерами. Стулья, кресла, диван заменяли классические подушки из рисовой соломы или из темного бархата. Большой эраровский рояль загромождал целый угол, а как раз напротив входной двери огромное зеркало в стиле Людовика XV удивлялось, наверное, что ему приходится отражать вместо личиков французских девушек желтые мордочки мусме.
В третий раз маленькая служанка проделала свой реверанс и исчезла, оставив Фельза в одиночестве.
Фельз сделал два шага, посмотрел направо, посмотрел налево — и сердито выбранился:
— Черт знает что! Стоило быть детьми Хок’саи и Утамаро, — внуками великого Сесшу! Раса, породившая Никко и Киото, — гениальная раса, покрывшая дворцами и храмами пустынные земли Аиносов, создавшая новую архитектуру, скульптуру, живопись… Стоило прожить десять веков в самом великолепном одиночестве, вне всяких деспотических веяний, кастрировавших нашу западную самобытность, свободными от египетского ярма, от эллинского ярма… Стоило иметь непроницаемый Китай защитной стеной от Европы, а Конфуция — сторожевым псом, защищающим от Платона… Да, стоило ли?! Для того, чтобы, в конце концов
г впасть в обезьянничанье?
Он внезапно остановился. Какая-то мысль блеснула у него в голове. Он подошел к окну и приоткрыл драпировку.
За окном он увидал у своих ног японский садик. Настоящий японский садик, длиной в десять метров и шириной в пятнадцать, окруженный тремя высокими стенами, примыкавшими к дому. Здесь были горы и долины, леса и водопад, поток, пещеры и озеро — все это, разумеется, в миниатюре. Карликовые кедры, не выше колоса, которые одна Япония умеет выводить, крошечные вишневые деревья, стоявшие в цвету, как того требовало время года — было 15 апреля. Горы — маленькие насыпи, искусно загримированные под обрывистые скалы, а озеро — бокал с золотыми рыбками, для правдоподобности окруженный живописными берегами.
Фельз от изумления вытаращил глаза. Прежде всего в нем заговорил живописец:
— Неудивительно, что с такими садиками эти люди — настоящие мастера рисунка и красок — всегда склонны к чистой фантазии!
Он рассматривал сверху причудливые силуэты крошечных скал и крохотных деревьев. Но потом пожал плечами. Этот садик, разве он может идти в счет? Он даже казался совсем нереальным, ненастоящим — этот слишком маленький садик, отгороженный от внешнего мира, отгороженный от мира настоящего, живого, расцветавшего вокруг. Он был призраком, тенью былой Японии, уничтоженной, изгнанной по воле современных японцев…
А все-таки, если смотреть туда — за ограду, за окружающие поля, если окинуть взглядом склоны холма Аистов в их великолепном наряде зеленых камфарных деревьев и белоснежных вишневых со всеми храмами на вершинах холмов, всеми деревнями по их склонам и городом на берегу залива, городом темным и голубоватым, бесчисленные дома которого убегают вдоль берега вплоть до мягких очертаний последнего мыса, о! Тогда больше не подумаешь, что былая Япония уничтожена или изгнана… И город, и деревни, и храмы, и холмы — несут на себе несмываемую печать древности и остаются вечно до мельчайших подробностей похожими на какую-нибудь старинную картинку времен старых Шогунов, на какой-нибудь тщательно выписанный какемоно, где кисть давно умершего художника увековечила чудеса столицы Хойо или Ашикагов…
Фельз молча долго смотрел из окна, потом обернулся и взглянул на будуар. Контраст резал глаза. По ту и по эту сторону стояли лицом к лицу Азия, еще не побежденная, и Европа, завладевающая ею все больше и больше.
— Гм! — подумал Фельз. — Может быть, по-настоящему-то японской цивилизации грозят не солдаты Линевича и не флот Рождественского… А вот это… мирное нашествие… белая опасность…
Вдруг слабый голосок, певучий и странный, но нежный, на чистейшем французском языке без малейшего акцента прервал его размышления:
— О! Дорогой маэстро! Как мне совестно, что я так долго заставила вас дожидаться!..
Маркиза Иорисака вошла и протянула ему ручку для поцелуя.
II
Жан-Франсуа считал себя философом. Может быть, он и действительно был таковым, по крайней мере, постольку, поскольку может быть философом человек Запада. Так, например, во время своих скитаний по свету он без малейшего усилия перенимал обычаи, нравы и даже костюм той нации, среди которой находился. Сейчас, у дверей дома, он хотел снять обувь — согласно правилам японской вежливости. Но тут — в этом французском салоне, где звучала французская речь, — экзотика, по-видимому, была не в моде.
Поэтому Жан-Франсуа Фельз склонился к протянутой ручке совершенно так, как он сделал бы это в Париже, и поцеловал ее.
Потом своим быстрым и проницательным взглядом художника он окинул хозяйку дома.
На маркизе Иорисака было платье от Дусе, Калло или Ворта. Это сразу бросалось в глаза, потому что это платье, хотя и было хорошо сшито и шло маркизе, но было задумано, изобретено, выполнено европейцем, для европейской женщины и становилось на этой хрупкой, тоненькой японке чем-то вроде огромной золоченой рамы, в которую вставили крошечную акварель. Для довершения впечатления маркиза Иорисака была причесана вопреки всем традициям: ни глянцевитых пышных коков, ни широких прядей, обрамляющих все лицо, — только низкая прическа, волосы, уложенные на затылке. Так что головка, не увенчанная классическим эбеновым тюрбаном, казалась миниатюрной и круглой, точно кукольная.
Хорошенькая она?.. Фельз, художник, влюбленный в женскую красоту, задал себе этот вопрос не без страха. Хорошенькая, маркиза Иорисака?.. Европеец скорее нашел бы ее некрасивой: слишком узкие глаза, наискось подтянутые к вискам так, что напоминали две длинные косые щелки; слишком тоненькая шейка; слишком широкие скулы и бело-розовые щеки, напудренные и нарумяненные до невозможности. Но японцу маркиза Иорисака должна была казаться красавицей. Но и в Европе, и в Азии нельзя было не поддаться странному очарованию, которое исходило от нее.
Фельз поцеловал ручку, словно безделушку из слоновой кости, и, отказываясь сесть первым, возразил:
— Умоляю вас, не извиняйтесь. У меня даже не хватило времени как следует полюбоваться вашим салоном и садом…
Маркиза Иорисака подняла ручку, словно отстраняя комплимент:
— О! Дорогой маэстро! Вы насмехаетесь, вы насмехаетесь. Наши злополучные садики так смешны… и мы отлично знаем это. Что касается моей комнаты — ваша похвала относится к моему мужу: это он меблировал весь дом еще до моего приезда. Потому что ведь мы здесь не дома: наш дом в Токио. Но Токио так далеко от Сасебо, что морякам невозможно ездить туда в отпуск. Вот и…
— А, — сказал Фельз, — так маркиз Иорисака служит в Сасебо?
— Ну, да… Разве он не сказал вам этого вчера, когда был у вас с визитом на борту «Изольды»? Его броненосец ремонтируется… По крайней мере, я что-то слышала… Об этих вещах с женщинами ведь не говорят. Кстати, я еще не поблагодарила вас, дорогой маэстро… Вы так любезны, что согласились писать мой портрет! Мы чувствовали, что совершаем что-то неприличное — ловим вас на яхте, где вы даже не совсем у себя… Мой муж не решался сперва. Подумайте… портрет такой маленькой ничтожности, как я, — и такой художник, как вы. Я буду до отвращения горда. Вы, наверно, никогда еще не писали японки? Не правда ли, до сих пор не случалось? Так, значит, я буду первой женщиной в империи, чей портрет будет подписан Жан-Франсуа Фельзом!..
Она, как ребенок, захлопала в ладошки. Потом вдруг стала серьезной:
— Я особенно радуюсь мысли, что благодаря вам я, до некоторой степени, буду теперь всегда с мужем… В его офицерской каюте, на его корабле… Портрет — ведь это почти что двойник человека, правда? И вот мой двойник отправится в море и, может быть, даже будет присутствовать во время битвы… потому что сообщают, что русский флот прошлую субботу прошел мимо Сингапура.
— Боже мой! — засмеялся Фельз. — Значит, ваш портрет придется писать в героическом стиле!.. Но я и не знал, что маркиз так скоро возвращается на театр военных действий. Теперь я еще лучше понимаю его желание увезти с собою, как вы говорите, вашего двойника…
Маленькие губки, еще уменьшенные ярким темным кармином, приоткрылись для неожиданного, очень японского смеха:
— О! Я знаю, что это очень необыкновенное желание: в Японии не принято казаться влюбленным в собственную жену. Но мы с маркизом так долго жили в Европе, что переняли все западные привычки…
— Правда, — сказал Фельз, — я хорошо помню: маркиз Иорисака был причислен к морскому министерству в Париже…
— Целых четыре года. Первые четыре года нашего брака… Мы вернулись только в конце прошлой осени, как раз к объявлению войны… Я еще застала в Париже «Салон» 1903 года… и как я восхищалась там вашей «Азиядэ»!
Фельз поклонился с чуть заметной насмешливостью:
— Значит, увидя «Азиядэ», вы и пожелали иметь свой портрет моей кисти?
Смешок опять появился на накрашенных губках, но на этот раз он закончился чисто парижской гримаской:
— О, дорогой маэстро! Вы опять насмехаетесь… Конечно, нет: я вовсе не хочу быть похожей на эту хорошенькую дикарку, которую вы изобразили в ее необыкновенном костюме и всю заплаканную, с такими глазами, будто она смотрит неведомо куда…
— Она смотрит на двери, в которые только что кто-то ушел навсегда.
— А, вот как. Но ведь это не портрет. Я видела и ваши портреты: Мэри Гардэн, герцогини Версальской… и особенно красивой м-сс Гоклей…
— А, особенно этот?
— Да… О, я и предвидеть тогда не могла, что в один прекрасный день вы приедете в Нагасаки на яхте этой самой красивой дамы… Но портрет ее был так хорош! Он мне понравился больше всех остальных — из-за ее изумительного платья. Вы помните, дорогой маэстро? Платье фасона «princesse», черное, бархатное, и только вставка из старинных кружев на атласе цвета слоновой кости… Вот! Думая о платье м-сс Гоклей, я и заказала себе вот это платье — и выбрала его, чтобы позировать вам…
Фельз поднял брови:
— Чтобы позировать? Вы хотите позировать в этом платье?
— Ну да… Разве оно не идет мне?
— Очень идет… Но я представлял себе, что для интимного портрета вы не выберете такой парадный туалет… Особенно, когда дело идет не столько о портрете, сколько о наброске… Ведь у нас всего каких-нибудь две недели… А не хотели бы вы позировать в очаровательном костюме ваших прабабушек, в кимоно, расшитом вашими гербами: эти кимоно теперь наши парижанки начинают заимствовать у вас?..
Странный взгляд скользнул из-под узкого разреза полузакрытых век:
— О, дорогой маэстро! Вы слишком снисходительны к нашим старинным модам. Но я в очень редких случаях надеваю костюм наших прабабушек, как вы говорите… в очень редких! И потом… вы понимаете… моему мужу было бы неприятно видеть мое изображение в наряде, которого он не знает… не знает и не любит… Мы ведь совершенно, совершенно европейцы… и маркиз, и я…
— Хорошо! — согласился покорно Фельз.
Но про себя подумал:
— Пусть европейцы — раз это ей нравится… Но это будет гнусно: портрет, представляющий смешение Европы с Азией. Гнусно, и, черт возьми, мучительно писать.
Маркиза Иорисака позвонила. Две служанки — эти в японских платьях! — внесли на большом подносе чай, сервированный по-английски: спиртовая лампочка, серебряные чайник и сахарница, чашки с ручками, блюдечки, салфеточки, сливочник…
— Хотите немножко кекса… или сухарик… надо дать чаю настояться. Это цейлонский, разумеется.
— Разумеется, — послушно повторил Фельз.
Он вспомнил тот легкий, деликатный, зеленый чай, что пьют — без сахара и без молока — в деревенских «чайя», грызя при этом кусок никогда не черствеющего пряника, называемого «кастера».
Однако он выпил британское питье — темное, крепкое, вяжущее — и съел венское печенье.
— А теперь, — сказала маркиза Иорисака, — раз уж вы были так любезны, что еще вчера прислали сюда ваши краски, мольберт и холст, — мы можем начать, когда вам будет угодно, дорогой маэстро. Хотите, выберем позу? Как здесь освещение — хорошо?
Фельз хотел ответить, но ему помешала отворившаяся дверь.
— О! — воскликнула маркиза. — Я забыла предупредить вас… Вы ничего не будете иметь против?.. Сейчас вы увидите нашего лучшего друга, капитана Фергана — из английского флота. Нашего интимного друга. Он должен был прийти сегодня к чаю, и вот как раз мой муж с ним приехал…
III
— Митсуко, не представите ли вы капитана г-ну Фельзу? Маркиз Иорисака на пороге гостиной посторонился, чтобы пропустить гостя. Его голос, слегка горловой, но ровный и внятный, звучал скорее как приказание, чем просьба.
Маркиза Иорисака чуть-чуть наклонила головку, перед тем как исполнить его желание:
— Дорогой маэстро, позвольте вам представить капитана Герберта Фергана, адъютанта его величества короля английского!.. Капитан — г-н Жан-Франсуа Фельз, из Французского Института!.. Но садитесь же все, умоляю вас!..
Она обратилась к мужу:
— Вы хорошо погуляли — такая прекрасная погода?
— Да, очень хорошо, благодарю вас.
Он сел рядом с английским моряком.
— Пожалуйста, Митсуко!.. Чаю, — сказал он.
Она захлопотала.
Жан-Франсуа Фельз наблюдал.
В европейской декорации сцена казалась совершенно европейской. Двое мужчин, англичанин и японец: один в черном мундире с золотыми пуговицами, срисованными со всех западных морских мундиров, другой — в штатском, в таком костюме, какой был бы на нем в Лондоне или в Портсмауте, за чаем у какой-нибудь леди… Молодая женщина, грациозная и ловкая в роли хозяйки дома, изящно нагибавшаяся, чтобы передать налитую чашку чая… Фельз не замечал больше азиатского лица, он видел только линии тела под парижским платьем, похожего на тело очень маленькой француженки или испанки… Нет, поистине, ничто здесь не выдавало Азии, даже плоское и желтое лицо маркиза Иорисака. Европа наложила свою ретушь на это японское лицо, приподняла щеточкой обстриженные коротко волосы, удлинила жесткие усы, расширила шею крахмальным воротником. Маркиз Иорисака, бывший воспитанник Французской Морской Школы, лейтенант корабля очень современной эскадры, только что победившей Макарова и Витгефта и собирающейся разбить Рождественского, так старался походить на своих недавних учителей и даже на своих сегодняшних противников, что казался почти неотличимым от капитана английского корабля, который сидел рядом с ним…
И сам этот англичанин всем своим видом, всем обращением, любезным и вместе с тем интимным, светского человека в гостях у своих друзей подчеркивал, что этот дом вовсе не странное и экзотическое жилище, но самый нормальный и банальный дом, принадлежащий самым обыкновенным людям, каких миллионы на трех континентах, — космополитической чете цивилизованных людей.
— Мсье Фельз, — сразу начал капитан Ферган, — я имел честь неоднократно восхищаться вашими прекрасными картинами, так как вам, должно быть, известно, что в Лондоне вы еще более знамениты, чем в Париже. И, кроме того, я долго жил во Франции — служил там в морском министерстве в одно время с маркизом. Но разрешите мне поздравить вас с той возможностью, которая вам предоставляется благодаря вашему заходу в Нагасакскую гавань… Я искренно думаю, что в настоящий момент японской истории японские дамы являются наиболее интересными и привлекательными из всех женщин мира… И я завидую вам, мсье Фельз, что вам, с вашим чудесным талантом, выпало на долю воплотить на полотне взгляд и улыбку одной из этих женщин, превосходящих своих старших сестер в Европе или Америке… Не протестуйте, маркиза! Или вы меня заставите все сказать мсье Фельзу и, главное, поздравить его с самой большой удачей: ему будет служить моделью не та или другая из ваших очаровательных ком-патриоток, но вы сами, самая очаровательная из всех.
Он улыбался, стараясь шутливым тоном смягчить серьезность своей хвалебной речи. Это был безупречно вежливый и корректный человек, всем своим видом как бы подтверждавший свое звание королевского адъютанта. В нем чувствовалась та безукоризненная мужская элегантность, которая присуща англичанам хорошего происхождения. Английская школа оставила такие портреты баронетов и лордов, сыновей джентльменов, ториев XVIII века, соперников наших французских графов и герцогов.
Британские моряки гораздо моложе наших. Этот, несмотря на его чин и вероятную важность его миссии в Японии, казался совсем еще молодым. Маркиз Иорисака, простой лейтенант корабля, был не моложе его. Фельз инстинктивно начал их сравнивать и подумал, что, может быть, и маркиза тоже сравнивала их…
— Митсуко, — спросил маркиз, — как мсье Фельз находит ваш туалет? Как вы будете позировать?
Фельз вовремя вспомнил, что маркиз Иорисака не любит старинных японских нарядов.
— Я очень доволен туалетом, — подтвердил он с незаметной насмешливостью, — вполне доволен. И надеюсь, что портрет выйдет не банальный. Что касается позы — мы о ней еще не будем говорить. У меня привычка — даже когда дело идет о такой спешной работе — сперва зарисовывать мою модель во всех поворотах и во всевозможных позах. Таким образом получаются двенадцать-пятнадцать эскизов, среди которых всегда и безошибочно я нахожу самую правдивую и лучшую позу. Так что вы совершенно не заботьтесь о вашем художнике, маркиза. Садитесь, разговаривайте, вставайте — и никакого внимания не обращайте, если я, время от времени, буду что-то пачкать в моем альбоме.
Он раскрыл тетрадь в сером холщовом переплете и во время разговора уже начал что-то рисовать, держа тетрадь на коленях.
— Митсуко, — улыбаясь, заметил маркиз Иорисака, — я уверен, что такой способ позировать вам очень по душе.
Фельз приостановился, подняв свой карандаш:
— Митсуко? — спросил он. — Простите невежду, который не знает и трех слов по-японски. «Митсуко» — это ваше имя, маркиза?
Она ответила, как будто прося прощения:
— Да!.. Несколько странное имя, не правда ли?
— Не страннее всякого другого… Хорошенькое имя и, главное, — очень женственное… Митсуко — это звучит очень нежно.
Капитан Ферган согласился:
— Я совершенно с вами согласен, мсье Фельз. Митсуко… Митсу… Звук очень нежен, и значение тоже нежно… потому что «митсу» по-японски значит — «медовые соты».
Маркиз Иорисака поставил на поднос пустую чашку.
— Ну, да! — сказал он. — «Медовые соты», а если написать иными китайскими знаками, то «митсу» означает «тайна».
Жан-Франсуа Фельз поднял на него глаза. Маркиз Иорисака очень любезно улыбался, и, без всякого сомнения, под этой улыбкой не таилось ни малейшей задней мысли.
— Меня зовут Садао, — прибавил он, — а это ничего не значит.
Фельз подумал: «Садао… Но жена ни разу не назвала его так: не смеет обращаться к нему фамильярно и, несомненно, даже в интимном общении употребляет особенное обращение… Это, может быть, кое-что и значит».
Он не мог удержаться и небрежно заметил:
— «Садао»? Мне так и послышалось, когда маркиза называла вас…
Ответу предшествовал легкий смешок:
— О! Нет! Вы этого слышать не могли: хорошая японка никогда не называет своего мужа по имени… Она побоялась бы быть невежливой. Остатки старинных нравов… Мы ведь в прежнее время не были феминистами… В древней Японии до великих реформ 1868 года наши жены были почти рабынями. И их уста этого не забыли… Но только их уста.
Он опять засмеялся и очень галантно поцеловал жене руку. Но Фельз не мог не заметить некоторой неловкости этого жеста. Очевидно, маркиз Иорисака не каждый день целовал ручку Митсуко.
Поймав, может быть, слишком проницательный взгляд своего гостя, маркиз вдруг очень пространно начал объяснять:
— Жизнь у нас так преобразилась за эти сорок лет!.. Вы, европейцы, конечно, знаете из книг о происшедших переменах. Но книги все объясняют, а показать ничего не могут. Вы можете себе представить, дорогой маэстро, каково было существование супруги даймио во времена моего дедушки? Несчастная жила пленницей в тайниках феодального замка… И не только пленницей — хуже: служанкой своих собственных слуг, господ самураев, самый ничтожный из которых покраснел бы, если бы ему пришлось склонить свои два меча перед зеркалом
[1]. Подумайте только: «Буши-до» — наш древний кодекс чести — ставит женщину ниже земли, а мужчину — выше неба. Супруга даймио в своем замке, в сущности в своей тюрьме, могла на досуге обдумывать справедливость этой неоспоримой аксиомы. Принц целый день отсутствовал. Изредка он входил ночью в супружескую опочивальню… Принцесса-рабыня, постоянно оставляемая им в одиночестве, повиновалась матери своего мужа, причем та обыкновенно злоупотребляла властью, дарованной ей китайскими обычаями — властью безграничной и безапелляционной… Вот на какую жизнь была осуждена сорок лет тому назад супруга даймио Иорисака Садао… Эта судьба уже не грозит жене простого морского офицера и вашего покорного слуги, который нисколько не жалеет о прошлых варварских временах… Гораздо приятнее наслаждаться обществом высокообразованных и снисходительных гостей, хотя бы и в такой лачуге, чем одинокому и невежественному прозябать в каком-нибудь родовом замке Тоза или Шошу… — Он с презрением ронял древние знаменитые имена. — И гораздо почетнее служить офицером на броненосце его величества императора, чем предводительствовать в какой-нибудь банде грабителей, наемников Шогуна или какого-нибудь грубого вождя племени…
Он прервал свою речь, и взяв со стола ящичек с турецкими папиросами и раскрыв его, протянул европейцам.
— И, между прочим, это вам мы обязаны всем этим прогрессом, которым мы пользуемся теперь. Мы никогда не сможем забыть этого. Мы не забудем и того, сколько терпения и доброй воли вы вложили в свою учительскую работу. Ученик у вас был отсталый… его разум, оцепеневший от стольких веков рутины, отказывался воспринимать западные уроки. И, однако, эти уроки принесли свои плоды. И, может быть, настанет день, когда новая Япония, по-настоящему цивилизованная, наконец отблагодарит своих учителей…
Он подошел к маркизе Иорисака и предложил и ей турецкий ящичек. Она на секунду словно заколебалась, потом очень быстро схватила папироску и зажгла ее сама, не дожидаясь, чтобы он предложил ей огня. Он и не подумал сделать это, а продолжал свою тираду, устремив на Жан-Франсуа Фельза живой взгляд, блеск которого внезапно прикрылся опустившимися желтыми веками.
— Хоть мы еще и очень несовершенны, но вы уже благосклонно приветствуете наши победы над русскими войсками… Вы, прежде всего, сделали нас способными бороться за нашу независимость.
Он закончил с поклоном, немного чересчур низким для европейца:
— Кто говорит «русский», тот говорит «азиат»… А мы, японцы, рассчитываем скоро стать европейцами. Таким образом, наша победа столько же принадлежит вам, как и нам самим, ибо это победа Европы над Азией. Примите же ее в дар и разрешите нам быть вам искренно и почтительно благодарными…
IV
— Мсье Фельз, — предложил Фельзу капитан Герберт Ферган, когда художник, закончив свой первый сеанс, прощался с четой Иорисака, — вы, вероятно, возвращаетесь на американскую яхту? Я еду в ту же сторону. Отправимся вместе в плавание?
И они вышли вместе. Пошли пешком.
Дорога вилась змеей по склону холма. Впереди, далеко внизу, деревенские домишки предместья толпились под своими крышами цвета мертвых листьев. Налево сады О’Сувы скрывали в густой зелени сосен и кедров, в лиловом и розовом снегу персиковых и вишневых деревьев в весенних платьях огромный храм; направо же, за голубым заливом, переливающимся, как шелковый муар от ветерка, за лесистыми горами противоположного берега, медленно спускалось к западному горизонту заходящее солнце — красное, как на пылающих знаменах империи.
— Нам придется пройтись немного, — сказал Ферган, — мы не найдем курумы, пока не дойдем до улиц, ведущих к лестнице храма.
— Тем лучше! — ответил Фельз. — В этот чудесный апрельский вечер очень приятно гулять.
В воздухе чувствовался пряный запах герани.
— Ну, что вы скажете? — вдруг спросил английский офицер. — Вы видели японского маркиза с супругой… Зрелище довольно редкое для глаз «бака тоджин», для презренных иностранцев, как мы с вами. Редкое, да и в достаточной мере любопытное!.. Каковы ваши впечатления, мсье Фельз?

Фельз улыбнулся:
— Мои впечатления — самые превосходные. Японский маркиз — изысканно вежливый человек, даже по отношению к «бака тоджин», если судить по его сегодняшним разговорам; а его жена — прехорошенькая женщина.
Глаза англичанина заблестели от удовольствия:
— Да, вы находите? Она очень хорошенькая женщина… Неизмеримо лучше, правду сказать, трех четвертей своих компатриоток! И так молода, и так свежа! Это трудно разглядеть из-за бело-розового грима, который теперь в такой моде: помилуйте, надо же иметь цвет лица, как у европейских женщин… А это очень жаль, потому что под белилами и румянами кожа не желтее слоновой кости и так нежна — нежнее всякого атласа. Маркизе Иорисака едва минуло двадцать четыре года!
— Вы ее отлично знаете, — заметил Фельз с легкой насмешкой.
— Да!.. То есть… я довольно интимно знаю маркиза… — Бритое лицо покраснело. — Довольно интимно… Мы вместе были на войне. Вы ведь, вероятно, знаете? Моя миссия в Японии вынуждает меня следить за военными действиями, и я нахожусь в качестве зрителя на том же броненосце, что и маркиз Иорисака…
— Вот как? — воскликнул с удивлением Фельз. — На японском броненосце? И правительство микадо разрешает это?
— О! В виде особого исключения. Я послан королем со специальной и официальной миссией. Англия и Япония — союзницы, а союз допускает много такого, что… Я притом в восторге от всего этого: вы понимаете, что интереснее этой войны ничего быть не может…
Я был у Порт-Артура и видел всю битву с башенки корабля маркиза. Вот почему, как я и сказал вам, мы с ним интимно сошлись… товарищи по оружию, братья… два пальца на одной руке!.. Понимаете?
Он смеялся лукаво и добродушно. Продолжал тоном дружеской откровенности:
— О, он далеко не глуп, этот Иорисака Садао… Так вот, он хотел заставить меня разболтаться… Японцы на море, конечно, лучше, чем русские. Но все же это еще не совершенство. Им было бы чему поучиться у нашего флота. Так вот, наш общий друг хотел кое-чему поучиться у меня… Он не поучился. По крайней мере, не научился многому… Вы помните вашу французскую поговорку: «На нормандца — нужно полтора нормандца». Ну, так вот! Японец стоит нормандца… Но я разыграл полтора нормандца. Так было нужно. Желая сохранить корректность, я могу только оставаться нейтральным: мы ведь в мире с Россией… А! Вот и курумы.
Показались два бегуна, они медленно тащили свои пустые экипажики. Завидев европейцев, они поспешно бросились к ним.
— На таможенную набережную, не так ли, мсье Фельз? — спросил Ферган.
— Нет! — ответил художник. — Нет! Я не вернусь на борт «Изольды», то есть не сейчас вернусь. Я намерен пообедать сегодня по-японски, в гостинице…
Англичанин погрозил пальцем:
— Ого-го, мсье Фельз! Гостиница… обед по-японски… Это все можно найти в стороне Иошивары, знаете ли?
Жан-Франсуа Фельз улыбнулся и указал на свои седые волосы:
— Вы не обратили внимания на этот снег, сударь мой?
— Какой снег? Вы — молодой человек, мсье Фельз… Чтобы дать вам ваши сорок лет, необходимо припомнить вашу славу!..
— Мои сорок лет? Увы, они давно уже превратились в пятьдесят!.. А в лишке я уже не признаюсь…
— И не признавайтесь — я вам все равно не поверю. Но вы решительно не едете в гавань?.. Тогда я вас покидаю… Не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен? Может быть, перевести ваши приказания курумайе?
— Пожалуйста! Вы очень любезны. Так вот, я хотел бы пообедать где-нибудь — как я вам говорил — а потом…
— Потом?
— Потом, чтобы он отвез меня в квартал, который называется Диу Джен Джи.
— All right!
Последовало несколько японских фраз, прерываемых утвердительными
«хэ» курумайи.
— Вот и готово. Ваш курумайя не ошибется, будьте спокойны. Вы пообедаете в «чайе» на улице Манзаи-маши… Оттуда он отвезет вас в ваш квартал Диу Джен Джи, который гнездится на холме Больших Кладбищ. Чтобы туда добраться, нужно проехать через Иошивару. В японской стране все пути ведут туда… избавиться от этого невозможно. До свидания, мсье Фельз, — и да будут к вам милостивы хорошенькие «ойран» за своими бамбуковыми решетками!
V
Лестница — со стертыми ступенями, замшелая, шаткая — взбиралась почти отвесно по холму между двумя японскими оградами, там и сям прерываемыми деревянными домишками, темными и молчаливыми. Весь сонный квартал с пустыми садиками и немыми хижинами казался словно предместьем огромного города мертвых — заросшего беспорядочного кладбища, чьи бесчисленные могилы спускаются тесными рядами со всех окрестных вершин и осаждают менее обширный город живых.
Жан-Франсуа Фельз, дойдя до верха лестницы, огляделся.
Он оставил свою куруму внизу у лестницы: к Диу Джен Джи нет проезжей дороги. Теперь, один посреди горных тропинок, он не знал, какую из них выбрать.
— Три фонаря, — бормотал он про себя, — три фиолетовых фонаря у дверей низенького дома…
Ничего подобного не было видно. Но отвесная тропинка служила продолжением лестницы и зигзагом прорезала тень, бегущую к чему-то вроде площадки — откуда, наверно, можно было рассмотреть все переулки: Фельз решился взобраться по ней.
Ночь была ясная, но темная. Красноватый полумесяц только что спрятался за западными горами. Вдали слышался слабый звук гонга в каком-то храме.
— Три фиолетовых фонаря, — повторил Фельз.
Он остановился и нажал пружинку часов с репетитором.
Обед в чайе Манзаи-маши продолжался недолго. Но Фельз не мог отказать себе в удовольствии пошататься по ночному Нагасаки, освещенному, блистающему, шумному, по-праздничному полному толпой пешеходов, болтливых мусме и несущихся одна за другой курум. А теперь было уже поздно: часики прозвонили десять раз.
— Черт!.. — пробормотал Фельз. — Поздновато для церемонного визита.
Он смотрел на предместье, раскинувшееся у его ног, на город, лежащий еще ниже — на берегу залива. Вдруг он невольно воскликнул от удивления: три фиолетовых фонаря были тут, совсем близко, в двух шагах, у основания того самого холмика, на который он с трудом только что взобрался. Они точно вынырнули в эту самую минуту из-за купы деревьев, раньше скрывавшей их.
Фельз спустился с холмика и обогнул деревья. Низкий дом вырисовывался на фоне звездного неба. Он был в чисто японском вкусе: из простого коричневого дерева, без всяких украшений. Но под навесом крыльца вынесенные балки образовали фронтон, и этот фронтон — резной работы, сквозной, кружевной, узорный, ажурный, вызолоченный, как орнамент пагоды, — представлял резкую противоположность строгой простоте японского сруба, в который он был вкраплен. И фонари также — три фиолетовых фонаря — странно отделялись от гладкого, простого фасада, который они освещали: это были три чудовищные маски из промасленной бумаги, три маски, зловещая усмешка которых пугала, как гримаса скелета, а цвет казался цветом разлагающегося трупа. Жан-Франсуа Фельз внимательно рассмотрел три мертвенных фонаря и фронтон, похожий на художественно вычеканенную драгоценность из литого золота. Потом он постучал — и дверь открылась.
VI
Слуга, очень высокого роста, одетый в синий шелк, в черной шелковой обуви, показался на пороге и с головы до ног смерил гостя взглядом.
— Чеу Пе-и? — вопросительно произнес Фельз и протянул слуге длинную полоску красной бумаги, исписанную черными иероглифами.
Слуга приветствовал его по-китайски: низко наклонил голову, и сложив вместе оба кулака, потряс ими над своим лбом. Потом почтительно взял протянутую бумагу и опять закрыл дверь.
Фельз, оставленный на улице, улыбнулся.
— Этикет не изменился… — подумал он.
И стал терпеливо дожидаться.
В доме ударили в гонг. Послышались чьи-то шаги, зашуршала циновка, которую протащили по полу. И снова воцарилась тишина. Но двери все еще не отворялись. Медленно протянулись пять минут.
Было довольно свежо. Весне от роду было всего недели четыре. Фельз вспомнил об этом, когда ветер начал забираться к нему под пальто.
— Этикет не изменился, — повторил он, рассуждая сам с собой. — Но, тем не менее… в такую ночь, чреватую насморками, бронхитами и плевритами, довольно-таки неприятно мерзнуть на крыльце из-за того, что хозяин, заботясь о благоприличиях, готовит вам достойный прием… По правде говоря, окружающая прохлада заставляет меня находить, что в данных условиях Чеу Пе-и мне оказывает уже слишком много чести!
В конце концов, дверь открылась.
Жан-Франсуа сделал два шага и поклонился точно так, как перед этим ему кланялся слуга — по-китайски. Хозяин дома, стоявший перед ним, таким же образом кланялся ему.
Это был человек огромного роста, роскошно одетый в парчевую одежду. На голове у него была шапочка с гладким коралловым шариком — признак самого высшего чина китайских мандаринов. Двое слуг поддерживали его под руки, потому что он был очень стар — не менее семидесяти лет от роду, а его колоссальное тело весило слишком много для его старческих сил. Кроме того, его звание и титулы осуждали его на пользование лошадьми и паланкинами, так что пешком он, вероятно, не ходил уже лет пятьдесят.
Чеу Пе-и, бывший посол и вице-король, заслуженный наставник сыновей первой императорской наложницы, член высшего совета Нэи-Ко, член верховного совета Киун-Ке-Чу, был одним из двенадцати главных сановников китайского двора. И Жан-Франсуа Фельз, знававший его в дни былые и даже связанный с ним тесной дружбой, был очень удивлен, получив утром этого дня приглашение, в котором Чеу Пе-и просил его прийти «в жалкий домишко, чтобы распить с ним, как бывало, — со всей снисходительностью, — кубок плохого горячего вина»… Чеу Пе-и здесь, а не в Пекине?.. Совершенно невероятная вещь!
Однако это был Чеу Пе-и собственной персоной: Фельз с первого взгляда узнал его впалые щеки, рот, точно совсем без губ, жидкую бороденку оловянного цвета и, главное, глаза: глаза без формы и без цвета, глаза словно утонувшие в глубине вспухших век, глаза, почти невидимые, но в которых сверкали такие два острых огня, что тот, кого они пронзили хоть раз, уже никогда не мог позабыть их.
Чеу Пе-и, поклонившись, оперся о плечи своих слуг и сделал четыре шага вперед, чтобы выйти на улицу навстречу своему гостю. Тут он снова поклонился и, указав на левую сторону двери, заговорил по ритуалу:
— Благоволите войти первым.
— Как бы я осмелился это сделать?.. — возразил Фельз.
И поклонился еще ниже, потому что он когда-то изучал «Книгу церемоний и внешних демонстраций», являющихся, по словам Кунг-Фу-Тзы, «нарядами сердечных чувств»: наука, необходимая для того, кто желает заслужить настоящую дружбу китайского ученого.
Чеу Пе-и, услыхав приличествующий ответ, улыбнулся от удовольствия и поклонился в третий раз.
— Удостойте войти первым, — повторил он.
— Как бы я осмелился это сделать?
Наконец, после окончательного настойчивого приглашения, он вошел, как его просили.
В конце прихожей четыре ступени вели в первую залу. Чеу Пе-и прошел к ней по косой линии в сторону востока и указал посетителю на западную сторону, как того требует вежливость:
— Удостойте милостиво пройти.
— Как бы я осмелился это сделать?.. — опять возразил Фельз.
И прибавил на этот раз:
— Разве вы не старший брат мой, весьма мудрый и весьма престарелый?
Чеу Пе-и запротестовал:
— Вы слишком превозносите меня.
Но Фельз воскликнул, как подобало по этикету:
— Нет, нисколько! Возможна ли была бы подобная вещь? Что касается старости, то я повсюду слыхал, что ваши славные годы достигают числом семидесяти трех, тогда как я, ваш самый младший брат, прожил весьма бесполезно всего пятьдесят два года.
Чеу Пе-и постучал по украшениям на своем поясе.
— Вот, — сказал он, — яшмовая дощечка: она совсем новая. А когда-то у меня была алебастровая дощечка. Но некогда философ княжества Лу
[2], в беседе с Тзы-Конгом, пояснил, почему яшма уважается мудрецами, а алебастр — нет. Не ясно ли, что эта новая дощечка — драгоценна, а старая была дешева?.. Я справедливо сравниваю вас с яшмовой дощечкой, себя же — с алебастровой.
— Я не достоин!.. — упорствовал Фельз.
Но после троекратного отказа он «милостиво» взошел по ступеням.
Прошли через первую залу, пустую и лишенную всяких украшений. В конце ее плотный занавес закрывал вход во вторую залу.
Чеу Пе-и приподнял слегка занавес.
— Идите очень медленно, — сказал он.
— Я пойду как можно скорее
[3].
Но, переступив порог, он сделал только один шаг и остановился. Вторая зала, великолепно убранная, отделанная, обитая — в китайском вкусе, — совершенно не давала возможности ходить по ней: все татами (циновки) скрывались под роскошными грудами бархата, парчи, шелков, муара, серебряных и золотых тканей. Вся зала, в сущности, была не чем иным, как одним огромным диваном, — необъятное царственное ложе.
Стены были обтянуты желтым атласом, по которому с потолка до пола черными шелковыми буквами были вышиты философские изречения. Девять фиолетовых фонарей свешивались с потолка, разливали свет, как сквозь цветные витражи в храме. В северном углу бронзовый Будда, больше человеческого роста, улыбался посреди благовонных курительных палочек над ослепительной гробницей, сиявшей драгоценными металлами и цветными каменьями. На трех низких столиках — из черного дерева, слоновой кости и красного лакированного дерева — стояли курительница, ваза с горячим вином и удивительный тигр из древнего фаянса. А посреди раскиданных на полу шелков, на цоколе из чеканного серебра, поддерживавшем перламутровый поднос, возвышалась лампада для опиума, пламя которой, затененное ширмой из зеленой эмали, сверкало изумрудом. Трубки, иглы, головки для трубок, роговые и фарфоровые коробочки расставлены были кругом. И везде царил запах опиума.
Чеу Пе-и протянул руку:
— Удостойте, — сказал он, — избрать место, где развернуть вашу циновку
[4].
— Все места слишком почетны для меня, — ответил фельз.
Два мальчика, стоявшие на коленях около лампады для опиума, тотчас же разостлали одна на другую три циновки, тоненькие, как льняная ткань. Фельз сделал жест, будто снимает одну из них, как бы находя, что это слишком много чести, но Чеу Пе-и поспешил помешать ему.
Параллельно циновкам гостя мальчики разостлали циновки хозяина. Потом положили к
изголовью — ближе к лампаде — по нескольку маленьких кожаных подушечек. После этого они отодвинулись — все стоя на коленях — и взяли каждый в левую руку по трубке, а в правую по игле и почтительно замерли.
Но раньше, чем расположиться на циновках, Чеу Пе-и сделал знак, и один из служителей — этот более благородного звания, как о том свидетельствовала его шапочка с бирюзовым шариком
[5], взял со столика из слоновой кости вазу с горячим вином и наполнил кубок.
— Удостойте выпить, — сказал Чеу Пе-и.
Кубок был из нефрита: не из зеленого, иао, а из белого, прозрачного нефрита — ию, который этикет предназначает для принцев, вице-королей и министров.
— Я буду пить, — сказал Фельз — из простого деревянного кубка без украшений.
Однако он осушил нефритовый кубок — после троекратного приглашения хозяина дома. Когда Чеу Пе-и после своего гостя тоже осушил свой кубок, оба они легли один против другого; между ними стоял перламутровый поднос.
Теперь церемониал был закончен. Чеу Пе-и заговорил.
— Фенн-Ta-Дженн
[6], — сказал он, — сейчас, когда мне подали вашу достоуважаемую карточку, сердце мое исполнилось великой радостью. Вот уже тридцать лет, как я впервые встретился с вами в вашей Римской Школе, которую я, скромный путешественник, решил посетить, ибо мне любопытно было в вашей великолепной Европе увидеть что-нибудь, кроме солдат и военных машин… Пятнадцать лет тому назад я вторично встретил вас — в Пекине, где вы имели честь сделать длительную остановку во время ваших научных странствий, на которые подвигла вас ваша мудрость, посоветовавшая вам узнать все страны, где только живет человек… Первая встреча познакомила меня с юношей учтивым, знающим и мыслящим, как редко мыслят старцы. Вторая встреча познакомила меня с философом, достойным сравнения с учителями античных веков. Прошло еще пятнадцать лет… Я вновь вижу вас. И радуюсь, зная, что буду вкушать в вашем обществе то несказанное счастье, которое испытывал смиренный ученик Тсенг-Си, когда робкими звуками своей кифары он сопровождал поучения великого Кунг-Тзы.
Он говорил по-французски довольно чисто, но его глухой и сиплый голос надолго замолкал между каждой фразой, потому что он думал по-китайки и постепенно переводил свои мысли. Он продолжал:
— Итак, я слушаю и жду ваших слов, как земледелец ждет жатвы хлеба в первый месяц лета и сбора сочного проса в первый месяц осени. Однако сначала закурим, чтобы опиум прогнал все облака, затмевающие наш разум, очистил бы наши суждения, сделал бы слух наш более музыкальным и лишил бы нас тиранического ощущения жары и холода — источника многих грубых ошибок. Я знаю, что люди этой страны, в своем странном деспотизме, строгим законом запрещают употребление опиума. Но этот дом — хотя и очень скромный — никаким законам не повинуется. Закурим же. Вот эта трубка сделана из орлиного дерева — «ки-нам». Его смягчающие свойства делают ее драгоценной для курильщиков с вашего благородного запада — более нервных, чем сыновья темного Центрального народа
[7].
Молча Жан-Франсуа Фельз принял трубку, которую ему протягивал один из коленопреклоненных мальчиков. Он сильно затянулся сероватым дымом, в то время как мальчик держал над огнем лампады маленький коричневый цилиндр, прилепленный к головке трубки. Опиум затрещал, растаял, испарился. И Фельз, одним вдохом втянувший всю трубку, лег навзничь на циновки, чтобы как можно больше расширить грудную клетку и как можно дольше сохранить действие благодетельного и философического снадобья…
Но через минуту, когда Чеу Пе-и закурил, в свою очередь, Фельз заговорил — как хозяин просил его.
— Пе-и-Та-Дженн
[8], — сказал он, — ваши слишком снисходительные уста произнесли слова благозвучные и согласные с разумом. Действительно, разумно приписывать безумие молодости, а здравый смысл пожилым людям, даже если они жили, как я, бесполезно. Однако я хорошо помню все те эпохи, о которых вы заговорили сейчас… Я помню и Римскую Школу, и ваш город Пекин, славнейший из всех городов. И что же я теперь вижу?.. Мое безумие человека пожилого, которое хуже, чем безумие моей молодости, чем безумие моего детства…
Он прервал себя, чтобы выкурить вторую трубку, которую протягивал ему коленопреклоненный слуга.
— Пе-и-Та-Дженн, — продолжал он, — в Риме я был глупым учеником. Но я с уважением изучал традиции древних мастеров. В Пекине я был малоразумным путешественником. Но я старался открыть глаза свои на все чудеса неба, земли и десяти тысяч созданных вещей. Теперь я больше ничего не изучаю, глаза мои не умеют больше видеть, и я живу, как живут волк и заяц, предоставляя управлять моими шагами случаю и нечистым страстям. Ученые и сановники моей родины совершают ошибку, воздавая мне слишком много наград и почестей, незаслуженных мною. За какие-то несколько картин, написанных грубо и неискусно, эти безрассудные люди обратили на меня внимание народа и восхищение невежд. Голова у меня была слабая. Горячее вино славы опьянило ее… И тогда пришли и предложили мне себя все нечистые удовольствия, все позорные наслаждения… Я не сумел оттолкнуть их. И стал их рабом. Из уважения к непорочному дому моего хозяина я не стану об этом распространяться. Да будет лишь мне позволено сравнить скромный корабль моих былых скитаний со счастливой джонкой рыбака или купца, с радостью пускающихся в море в надежде на будущие богатства, а великолепное судно, на этот раз доставившее меня в Срединную Империю, — с одной из тех разукрашенных, раззолоченных барок, которые встречаются на реке Куанг-Тонг и внутри которых развратники окончательно губят себя.
— Для меня совершенно немыслимо, — промолвил Чеу Пе-и, — согласиться с вашей строгостью к самому себе.
Он подал знак, и коленопреклоненный около него слуга заменил трубку из орлиного дерева черепаховой.
— Для меня немыслимо, — повторил Чеу Пе-и, — согласиться с вашей строгостью: ни один человек не свободен от грехов, и только очень добродетельные люди имеют смелость обвинять себя без ограничений… Кроме того, осторожность ваша отвечает ритуалу, ибо написано в Ли-Ки: «Что говорится в покоях — не должно говориться вне покоев.»
[9]
Он выкурил свою трубку из темной черепахи и выпустил из ноздрей более густой и более пахучий дым, чем раньше.
Фельз покачал головой.
— Мой старший брат, весьма мудрый и весьма престарелый, не погрязал в том болоте, где без чести барахтается его самый маленький брат. Мой старший брат не видел своими глазами и не знает.
— Я знаю, — сказал Чеу Пе-и.
Фельз приподнялся на локте, чтобы хорошенько вглядеться в своего собеседника. Китайские глаза, чуть видные из-за вспухших век, блестели ироническим и проницательным светом.
— Я все знаю, — сказал Чеу Пе-и. — Ведь я здесь по высочайшему приказу Сына Неба. И обязанность моя — его самого низшего подданного — в этом королевстве несовершенной цивилизации все видеть, все знать и обо всем составить точнейший доклад. Таким образом, выполняя мою задачу без рассуждений, но усердно, узнал я и о том, что вы прибыли в Нагасаки вчера утром, на белом корабле с тремя медными трубами. Я знаю, что вы уже давно путешествуете на этом белом корабле, приятном для взгляда, я знаю, что на корабле этом — цветущее знамя
[10] американской нации и что он принадлежит женщине. Мне все известно.
Фельз слегка покраснел, положил голову на одну из кожаных подушечек и стал смотреть на лампаду для опиума. Мальчики поспешно готовили и разминали в трубочных головках большие шарики опиума горохового цвета, принимавшие под влиянием пламени оттенки золота и янтаря.
— Удостойте закурить, — посоветовал Чеу Пе-и.
Тем временем, ступая беззвучно, вошли другие слуги, несшие простой глиняный коричневый чайник и две восхитительные чашки из старинного розового фарфора.
— Этот чай, — сказал Чеу Пе-и, — я вынужден был принять от Августейшей Высоты
[11] в день моего отъезда из Пекина.
Это была прозрачная вода, чуть окрашенная в зеленый цвет, в которой плавали крохотные узкие и длинные листочки. От напитка струился аромат сильный и свежий, как запах только что распустившегося цветка.
Чеу Пе-и выпил свою чашку.
— Императорский чай, — сказал он, — должен быть настоен на воде из горного источника, после того как ее вскипятят на сильном огне. Чайник следует употреблять подобный чайникам простых земледельцев — в подражание императорам древности, которые настаивали чай на ключевой воде, когда еще искусство эмалировки не было известно.
Он закрыл глаза. Его желтое пергаментное лицо казалось бесстрастным, равнодушным и сонным.
Однако коленопреклоненный рядом с ним мальчик, повинуясь незаметному жесту, заменил черепаховую трубку серебряной.
Курительная комната медленно наполнилась ароматной дымкой. Уже все предметы утратили ясные очертания, и блестящие ткани на стенах и на полу сверкали смягченным блеском. Только девять фиолетовых фонарей с потолка разливали все тот же свет, потому что дым опиума тяжел и плавает низко над землей, никогда не поднимаясь кверху…
Фельз в четвертый раз закуривал серебряную трубку… В четвертый или в пятый?.. Он не был уверен. А сколько раз он выкурил черепаховую трубку?.. А сколько раз до этого трубку из орлиного дерева?.. Он совершенно не помнил. Легкое головокружение начинало охватывать его…
Когда-то в Пекине, потом в Париже он постоянно курил опиум. От этого времени — у него его лучшие картины. Но когда приближаешься к пятидесяти годам, даже и сильный человек должен выбирать между опиумом и любовью. Фельз не выбрал опиум.
И вот опиум, которому он изменил, принимался тихонько мстить за себя. О, это было не опьянение в том грубом смысле, как его понимают злоупотребляющие спиртными напитками. Это было странное состояние мозга и мускулов. В то время, как мускулы точно ослабели и как-то растаяли, мозг жил деятельной, усиленной, умноженной во много раз жизнью. Фельз, неподвижный, с закрытыми глазами, не ощущал веса своего тела, покоившегося на циновках. Быстрые мысли пронизывали его мозг, и какие-то покровы, спеленывающие разум человеческий, спадали с него… Медленный и хриплый голос Чеу Пе-и внезапно прервал тишину.
— Фенн-Та-Дженн, этикет воспрещает гостю расспрашивать хозяина, и ваша мудрая учтивость соблюдает этикет, но хозяину надлежит, открыв гостю двери своего жилища, открыть ему и двери души своей. Только женщин следует слушать, не давая им ответа. Фенн-Та-Дженн, когда мне передали вашу достоуважаемую карточку, мое сердце забилось великой радостью. И радость эта была не только эгоистичной радостью увидать после пятнадцати лет разлуки моего почтенного брата, но еще более — надеждой оказаться ему смиренно полезным в этой стране, возмущенной греховным безумием и представляющей глазам философа зрелище смущающее и плачевное.
Фельз медленно поднял левую руку и, растопырив пальцы, стал разглядывать один из девяти фиолетовых фонарей.
— Пе-и-Та-Дженн, — сказал он. — Не знаю, как благодарить вас. Но поистине, вы своим светом чудесно озарите тот мрак, в котором я нахожусь. Это всего вторая моя ночь в Японии. И, однако, Япония уже показала мне много такого, чего я понять не мог, и что вы объясните мне, если ваша проницательность удостоит заняться этим для меня.
Безгубый рот Чеу Пе-и растянулся в полуулыбку:
— Япония, — сказал он, — уже показала вам мужчину, забывающего сыновнее почтение, и женщину, пренебрегающую женской скромностью.
Фельз, удивленный, испытующе поглядел на хозяина.
— Япония, — продолжал Чеу Пе-и, — показала вам семейный очаг, откуда изгнаны духи предков, кровлю, под которой десять тысяч безумных нововведений заняли место священных обычаев и губят будущее и семьи, и расы.
— Так вы знаете, — спросил Фельз, — что я был сегодня у маркиза Иорисака Садао?..
— Я все знаю, — ответил Чеу Пе-и.
Он также поднял руку к фонарю, и лиловые лучи заиграли на его необычайной длины ногтях.
— Я все знаю. Не сказал ли я вам, что нахожусь здесь, повинуясь приказу Августейшей Высоты?..
Он продолжал:
— В доме Иорисака Садао вы встретили сидящим с западной стороны
[12] чужестранца, принадлежащего народу с красными волосами. Этот иностранец был послан сюда своим государем, который желает знать, с помощью какого оружия и какой стратегии маленькая страна Восходящего Солнца усиливается, чтобы победить необъятную империю оросов (русских). Тайна эта, в сущности, малоинтересна, и мудрецы древности не стали бы стараться разгадать ее. Небо внушило более важные мысли Августейшему повелителю, и он послал меня, своего подданного, чтобы я исследовал: насколько это новое оружие и эта новая стратегия способны разрушить цивилизацию Срединной Нации. На это исследование и направлены мои неловкие усилия. Чтобы дополнить мое недостаточное умение, мне необходимы многочисленные сведения… Много верных соглядатаев служат мне глазами и ушами и отдают безустанно сердца свои, чтобы помогать мне в моей задаче. Так что тайны этого города и всей этой страны раскрываются передо мною здесь, на этих самых циновках. Таким образом, я знаю все.
Фельз прислонился щекой к кожаной подушке.
— Пе-и-Та-Дженн, — сказал он, — в ваших словах кроется тайный смысл. В чем Иорисака Садао грешит против сыновнего почтения?
Опять закрылись сверкающие щелки, и хриплый голос торжественно произнес:
— Написано в Та-Хио
[13]: «Человек должен прежде всего изучать природу вещей, затем развивать свои познания, затем совершенствовать свою волю, затем управлять движениями своего сердца, затем строжайше исправлять себя, затем устанавливать порядок в своей семье. Тогда государство будет хорошо управляться. Тогда империя будет наслаждаться миром». Тсенг-Тзы, поясняя эти восемь положений, учит нас, что они неразделимы. Человек, его семья, его государство и империя составляют одно целое. Сыновнее почтение простирается на всех его предков, на всю общину, на всю родину. Иорисака, отвергая память предков и оскорбляя этим свою родину, грешит против сыновнего почтения.
Мальчик, коленопреклоненный около Фельза, протягивал ему готовую трубку. Фельз взял в руку тяжелую трубку из темной черепахи и приложил губы к наконечнику из пожелтевшей слоновой кости. Опиум закипел над огнем, и серый дым начал стелиться по циновкам тяжелыми облаками.
Тогда Фельз, которому кинулся в голову придающий смелость опиум, решился возразить философу:
— Пе-и-Та-Дженн, но когда нашествие варваров угрожает империи, не следует ли прежде, чем соблюдать ритуальные обряды, отразить это нашествие?.. Безусловно, сокровище древних верований неоценимо. Но разве империя не есть ваза, хранящая это сокровище?.. Если империя будет покорена, если разбитая ваза разлетится на куски, разве древнее сокровище не рассыплется тоже навсегда?.. Сыновнее почтение распространяется на всех предков, на всю общину, на всю родину, так грешит ли, действительно, Иорисака Садао против сыновнего почтения, если он — весьма возможно, для вида только — отвергает память предков и изменяет правила общества с высшей целью — спасти независимость своей родины?..
Чеу Пе-и молча курил.
Жан-Франсуа Фельз заключил:
— Пе-и-Та-Дженн, а если необходимость заставляет мужа свернуть с прямого пути, нарушает ли его жена женскую скромность, если она тоже вступает на обходную дорогу, чтобы идти по следам того, кому она дала обет следовать за ним повсюду до самой смерти?
Чеу Пе-и отложил серебряную трубку. Но лишь затем, чтобы протянуть указательный палец по направлению к трубке из черного бамбука с нефритовой головкой. И продолжал молчать.

Жан-Франсуа Фельз приподнялся с циновок и облокотился, глядя в лицо хозяину дома.
— Пе-и-Та-Дженн, — вдруг сказал он, — я сегодня выкурил больше трубок, чем мог сосчитать. Может быть, опиум возвысил мой слабый разум до понимания некоторых вещей, в обычной жизни непонятных для меня… Да, я видел сегодня семейный очаг, откуда изгнаны все священные обычаи. Но не написано ли, что людей будут судить не по делам их, а по намерениям?.. Тот, кто унижает себя и даже позорит для того, чтобы служить империи и возвысить ее, не должен ли быть прощен?
Трубка из черного бамбука была готова. Чеу Пе-и вдохнул весь дым одним глубоким дыханием, и густое, душистое облако скрыло его.
Потом он важно вымолвил:
— Предпочтительнее вообще не судить людей. Поэтому мы не станем ни обвинять, ни оправдывать маркиза Иорисака Садао. Мы не станем ни обвинять, ни оправдывать маркизу Иорисака Митсуко. Но философ Менг-Тзы как-то раз, отвечая на вопросы Ван-Чанга, сказал, что он никогда еще не слыхал, чтобы кто-либо преобразовал империю, искажая самого себя, и еще менее, чтобы кто-либо преобразовал империю, обесчестив самого себя.
— Так вы находите, — спросил Фельз, — что усилия японцев напрасны и что Восходящее Солнце должно неминуемо погибнуть в своей борьбе с оросами?
— Я этого не знаю, — ответил Чеу Пе-и, — и кроме того, это совершенно неважно.
Он вдруг странно и громко рассмеялся.
— Совершенно неважно. Мы об этих пустяках еще успеем поболтать, когда придет время.
Мальчик Фельза приклеивал маленький шарик опиума к головке бамбуковой трубки.
— Удостойте закурить, — закончил Чеу Пе-и. — Этот черный бамбук когда-то был белым, и только благое снадобье его окрасило так после того, как из него курили тысячу и десять тысяч раз… Никакое орлиное дерево, никакая слоновая кость, никакая черепаха, никакой драгоценный металл не могут сравниться с этим бамбуком…
Долго оба они курили.
Над туманом из опиума, становившимся все гуще и гуще, девять фиолетовых фонарей блестели теперь, как звезды в ноябрьской ночи. Потрескивание темных капель, испарявшихся над лампадой, подчеркивало полную тишину. Предрассветный холодок уже ложился на поля, вдалеке запел петух.
Фельз проговорил как во сне:
— Весь мир… весь действительный мир здесь… в этих стенах из желтого атласа. А там… за ними… только какие-то иллюзии… И я больше не верю, что существует белая яхта с медными трубами и что на ней живет женщина, которая делает меня своей игрушкой…
VII
— Мисс Вэн, вы звонили, чтобы подавали завтрак?..
— Нет…
— О, какая ленивица!
И м-сс Гоклей протянула руку к электрическому звонку. Столовая на яхте была огромная и отделанная с такой грубой и вызывающей роскошью, что сразу кидалось в глаза намерение этой роскошью ослепить, подавить и поразить. Совершенно нельзя было представить себе, что это столовая на борту корабля. Излишек кариатид и карнизов, нагромождение картин, скульптур и позолоты заставляли вспоминать разные оперные фойе в королевских или императорских театрах или даже игорные залы какого-нибудь Монте-Карло.
М-сс Гоклей, владелица яхты, была миллиардершей и желала, чтобы никто в мире не мог в этом усомниться.
Метрдотель, в адмиральском мундире, принес на вызолоченном подносе «ранний завтрак» по-американски: имбирное варенье, бисквиты, тосты и черный чай.
— Отчего только две чашки?
— Мсье Фельз еще не возвращался на борт…
— Это вас не касается. Немедленно третью чашку.
М-сс Гоклей отдавала свои приказания совершенно спокойным, небрежным тоном. Но ее деньги, очевидно, ставили ее на недосягаемую высоту по отношению к служащему ей человечеству.
Она, однако, удостоила передать сахар и сливки молодой девушке, которую она назвала мисс Вэн и которая официально была только ее лектрисой.
Они завтракали, сидя друг против друга. Они пили много чая, съедали большое количество тостов и намазывали имбирным вареньем дюжины соленых печений. Этот англосаксонский аппетит забавно шел вразрез с деликатной грацией м-сс Гоклей и особенно с почти эфирным очарованием мисс Вэн. Мисс Вэн была настоящая лилия, белая и необыкновенно стройная, гибкая лилия на длинном, хрупком и грациозно клонящемся стебле. Точеные ноги, узкие бедра, тонкая талия были этим стеблем; над ним открытая шея и грудь казались венчиком едва распустившегося цветка. На мисс Вэн было странное одеяние: то ли бальное платье, то ли рубашка, очень открытая и развевающаяся; шелк цвета зеленоватой морской воды выгодно оттенял глаза цвета водорослей и черные, как агат, волосы.
М-сс Гоклей была менее цветком, но больше женщиной. Ее ни с чем нельзя было сравнить, кроме того, чем она была на самом деле: тридцатилетней американкой, изумительно и безупречно красивой. Эта безупречная красота являлась первым и самым важным отличительным свойством м-сс Гоклей из трех, окружавших ее своеобразным ореолом, вторым было огромное состояние, а третьим — ее шумные приключения, из которых известнее других были ее развод и самоубийство ее бывшего мужа. Многие из принцесс Нью-Йорка или Филадельфии прославились бы благодаря одному только обладанию самой роскошной яхтой в мире и путешествию на этой яхте со знаменитым Жан-Франсуа Фельзом в качестве раба. Но стоило увидать м-сс Гоклей? чтобы забыть и ее богатство, и то, что она, после десяти других известных или знаменитых поклонников, обратила в рабство самого, может быть, благородного из артистов нашего века. Забыть все — для того, чтобы любоваться телом, лицом, каждая линия которых была совершенством. М-сс Гоклей была высока ростом, белокура, очень стройна, хотя и с хорошими мускулами. Глаза у нее были черные, кожа золотистая и светлая. Но ни одна из ее черт не определяла общего впечатления: его нельзя было разобрать подробно, оно удивляло гармонией и ровностью. М-сс Гоклей была просто красавица, к этому слову нельзя было бы прибавить никакого прилагательного. Фельз, для того чтобы написать ее и передать на холсте эту властную соблазнительность, исходившую одновременно от рта, от лба, от талии, от бедер, от щиколоток, — должен был делать портрет со всего без исключения, даже с платья.
Мисс Вэн, покончив с тринадцатой тартинкой, откинулась в своем вертящемся кресле.
— Уже очень поздно… — прошелестела она лениво. М-сс Гоклей взглянула на свой браслет с часами.
— Да!.. Четверть десятого…
— Маэстро не торопится.
М-сс Гоклей не ответила ничего, но позвонила немного нервным движением. Лакей появился из-за портьеры пунцового бархата.
— Принесите Ромео.
— О, — сказала мисс Вэн, — как вы можете дотрагиваться до этого ужасного животного?..
Портьера пропустила животное с кривыми ногами, острой мордой и пушистым хвостом: рысь. М-сс Гоклей не решилась бы иметь просто собаку или кошку, таких обыкновенных животных.
— Come here!.. — приказала м-сс Гоклей.
В эту минуту портьера опять приподнялась, на этот раз, чтобы пропустить человека — Жан-Франсуа Фельза.
— Доброе утро! — сказал он.
Он подошел и склонился перед м-сс Гоклей, чтобы поцеловать ей руку.
Но эта рука ласкала грубую шкуру рыси, и Жан-Франсуа Фельз, согнув спину и низко наклонив голову, должен был дожидаться, пока она освободится.
Фельз сел и одним глотком опорожнил чашку простывшего чая.
— Вы забыли о времени, милый… — заметила м-сс Гоклей.
— Да, — сказал он. — И очень прошу извинить меня. Но если бы вы знали, где я был, — я думаю, вы бы не беспокоились и не сердились…
Она очень внимательно разглядывала его.
— Вы действительно курили опиум?..
— Да. Всю ночь.
— Это совсем незаметно. Не правда ли, мисс Вэн?
Мисс Вэн молча ответила утвердительным кивком головы. М-сс Гоклей продолжала изучать лицо Фельза, как натуралист изучает какой-нибудь зоологический феномен.
— Нет, впрочем, немножко заметно. По глазам… они больше блестят, и взгляд пристальнее, чем обыкновенно… И потом цвет лица… бледность почти трупная… сказала бы я…
— Очень благодарен.
— Почему?.. Неужели это вас обидело?.. Я просто констатирую факт… любопытный факт. Я хотела бы понять, почему у вас такой мертвенный цвет лица. Разве опиум действует на кровообращение?.. Он ведь, кажется, исключительно влияет на нервную систему и парализует рефлексы… Поэтому я не совсем понимаю… Вы не можете мне объяснить этого?
— Нет, — сказал Фельз.
— И даже не предполагаете причины?..
— Даже не предполагаю.
— Но вы сами хотели бы это знать?
— Нисколько.
— Как это необыкновенно… Вы удивительно типичный француз. Французы совсем не любят ни в чем отдавать себе отчет. Скажите мне, какого рода наслаждение получается от курения опиума?
Фельз с раздражением встал с места:
— Я совершенно не в состоянии объяснить вам этого, — сказал он.
— Почему?
— Потому, что это наслаждение — если употреблять ваше выражение — совершенно недоступно американке. А вы удивительно типичная американка.
— Да, это правда. Но как это вы так внезапно вдруг сделали это открытие?..
— Благодаря вашим вопросам. Вы полная противоположность француженке: вы именно любите отдавать себе во всем отчет… нет, пытаться отдавать себе отчет.
— Но разве это не естественный инстинкт всякого существа, которое обладает способностью мыслить?..
— Нет, скорее мания существа, которое не обладает способностью чувствовать!
М-сс Гоклей не рассердилась. Ее чуть сдвинутые брови указывали на то, что она серьезно размышляет. Мисс Вэн, все еще полулежавшая в своем кресле, вдруг рассмеялась.
— Что с вами? — спросила м-сс Гоклей, обращаясь к своей лектрисе.
Мисс Вэн ответила, продолжая смеяться:
— Это так комично, что именно вас, которая так легко возбуждается, упрекают в недостатке способности чувствовать.
— Прошу вас, — сказала м-сс Гоклей, — не прерывайте шутками нашего серьезного разговора.
Она опять обернулась к Фельзу:
— Скажите мне еще вот что, милый: ваш китаец… этот мандарин, с которым вы раньше были знакомы и которого теперь нашли здесь так романтически, он — совсем дикарь?.. Я хочу сказать, первобытный, отсталый человек?..
Фельз наклонил голову и посмотрел прямо в глаза м-сс Гоклей:
— Совсем, — подтвердил он. — Будьте уверены, что у вас не нашлось бы с этим китайцем ни одной общей идеи.
— Правда? Однако ведь он, кажется, много путешествовал?
— Как же…
— Он путешествовал, а теперь он в Японии, в стране, которая как раз сбрасывает вековое свое варварство… Мыслимо ли, чтобы этот китаец был таким отсталым, как вы говорите, таким чуждым цивилизации. Ну, например, неужели у него здесь, в Нагасаки, даже нет телефона?..
— У него нет телефона.
— Непонятно! Но как же вы можете находить удовольствие в обществе подобного человека?
— Как видите, я с ним не заметил, как пролетело время.
— Да…
Она опять задумалась, сдвинув брови.
— Французы, — вмешалась резко и рассудительно мисс Вэн, — сами люди необычайно невежественные во всем, что касается современного прогресса.
— Да, — согласилась м-сс Гоклей, удовлетворенная этим объяснением. — Да… они невежественны и пренебрежительны ко всему… Вы правы, Эльза.
Она поднялась с места и, подойдя к мисс Вэн, крепко потрясла ей обе руки, словно в порыве искреннего чувства.
Фельз, отвернувшись, стал глядеть в один из просветов, заменявших иллюминаторы, прижавшись лбом к стеклу.
Лакей внес два снопа орхидей. М-сс Гоклей взяла их и занялась размещением цветов в больших бронзовых вазах, украшавших монументальный камин.
— Японские?.. — спросила мисс Вэн, указывая на цветы.
— Нет, это все еще запас из Фриско… Они великолепно сохраняются на льду.
Фельз поднял с пола упавший цветок и растирал лепестки между пальцами.
— Без запаха!.. — сказал он.
Ему вдруг припомнился холм Аистов.
— В это время года все вишневые деревья Нагасаки в цвету. Неужели вы не предпочли бы цветущие, прелестные, живые розовые ветки этим орхидеям, которые похожи на искусственные цветы?
М-сс Гоклей не удостоила его возражением. Она только сказала:
— Это прямо удивительно и даже неприлично, что у такого изящного художника, как вы, могут быть такие простонародные вкусы!
Жан-Франсуа Фельз раскрыл рот, чтобы ответить, но м-сс Гоклей в это время подняла к бронзовым вазам обе руки с орхидеями.
Длинные, стройные ноги, широкие бедра, узкая талия, округленные плечи, над которыми горделиво поднимался сильный и тонкий затылок под тяжелой массой золотых волос — между двух вытянутых и напряженных рук, — все это женское тело было столь красиво и гармонично, что Жан-Франсуа Фельз так и не ответил ничего.
Тем временем м-сс Гоклей расставила свои орхидеи.
— Но, милый, — внезапно сказала она, — вы так и не рассказали нам об этой японской маркизе, портрет которой вы пишете… Как ее зовут, я позабыла?
— Иорисака…
— А, да… Что же, это настоящая маркиза?
— Самая настоящая.
— Древнего рода?
— Иорисака были когда-то даймио племени Шошу, с острова Гондо. И, кажется, их род никогда не вступал в браки ниже себя.
— Даймио, это значит феодальные владельцы?
— Да.
— Феодальные владельцы… ах, как это увлекательно!.. Но я думаю, что если вам нравится писать эту маркизу, то она, вероятно, тоже совсем дикарка, вроде вашего китайского мандарина?
Фельз улыбнулся:
— Не совсем.
— О! У нее есть и телефон, может быть?
— Я не знаю, но готов пари держать, что есть.
Мисс Вэн вступилась:
— В Японии у очень многих телефоны.
— Я знаю, — ответила м-сс Гоклей, — но меня удивляет, что маэстро согласился писать портрет такой японки, у которой есть телефон.
Она засмеялась, потом стала серьезной.
— Действительно, эта маркиза Иорисака — современная женщина?
— Довольно современная, да.
— Она не приняла вас коленопреклоненной на циновках в маленькой комнатке без окон, между четырех бумажных ширм?
— Нет, она принимала меня, сидя в большом кресле, в гостиной в стиле Людовика XV, между фортепиано и зеркалом в золотой раме.
— О!..
— Да. И кроме того, я имею все основания думать, что маркиза Иорисака одевается у того же портного, что и вы.
— Вы смеетесь надо мной?
— Ничуть.
— Маркиза Иорисака была одета не в кимоно и в оби?..
— Она была одета в очень элегантное платье.
— Я поражена!.. Что же она вам говорила, эта маркиза Иорисака?
— Совершенно то же самое, что вы говорите, когда принимаете чужого человека…
— Она говорит по-французски?..
— Так же хорошо, как вы.
— Но это, должно быть, обаятельная женщина!.. Франсуа…
— Жан-Франсуа, пожалуйста…
— Нет, ни за что! Вот опять ваши простонародные вкусы! Франсуа гораздо благороднее. Франсуа, дорогой мой, прошу вас, познакомьте меня с маркизой Иорисака!
Фельз, раньше улыбавшийся, незаметно вздрогнул.
— О… — сказал он каким-то изменившимся голосом, резким и почти горьким тоном. — Бетси… неужели вам не довольно этого попугайчика в вашей клетке?..
Он с презрением кивнул в сторону мисс Вэн.
Мисс Вэн не шелохнулась.
Но м-сс Гоклей рассмеялась.
— Попугайчик… какое смешное слово!.. Но что за ревность!.. Неужели вы так забавны, милый, что даже женщин не терпите около меня?..
Она прямо смотрела на него своими великолепными ясными глазами, из-за полуоткрытых губ сверкали ослепительные зубы. Веселость ее походила на аппетит красивого хищного животного.
Он вдруг почувствовал прилив гнева и шагнул к ней. Она презрительно наклонила голову набок и с каким-то вызовом погладила волосы мисс Вэн.
Он остановился и побледнел. В свою очередь она медленно сделала шаг по направлению к нему. Рука ее продолжала лежать на головке молодой девушки. И вдруг она протянула левую руку замершему на месте Фельзу.
Он колебался. Но она перестала смеяться. Лицо ее стало суровым. Она быстрым движением, жестоким и вместе чувственным, провела языком по губам.
Он еще сильнее побледнел и покорно склонился, чтобы поцеловать протянутую руку.
VIII
«Изольда» стояла на якоре носом к югу. Из иллюминатора своей каюты, помещавшейся на левом борту, Фельз мог видеть все Нагасаки, от большого храма Бронзового Коня на холме О’Сувы до дымных фабрик, тянущихся вдоль города.
Было утро. Прошел дождь. Серое небо еще развешивало лохмотья туч по вершинам всех холмов. Разнообразная зелень сосен, кедров, камфарных деревьев и кленов казалась свежее под этим покровом из влажной ваты. Розовый снег вишен так и сиял, еще нежнее, чем обыкновенно. И на границе с низкими облаками, на кладбищах, высящихся над городом, еще более четко вырисовывались надгробные памятники в виде столбов, омытые дождем. Только крыши домов, коричневые и синие — сейчас, без игры света и теней, — сливались в одну вереницу вдоль берега.
— У пейзажистов, — размышлял Фельз, — в сущности, те же радости, что и у нас. Одинаковое удовольствие: писать вот эту влажную весну или заплаканное личико шестнадцатилетней девочки, переживающей первое маленькое любовное горе…
Он отошел от иллюминатора и присел к рисовальному столу. На столе лежало несколько набросков карандашом. Он перелистал их.
— Фу!.. — пробормотал он.
Отбросил наброски в сторону:
— А когда-то у меня был талант… Теперь его еще немного осталось… Но очень немного.
Он взглянул на стены, отделанные драгоценным деревом. Каюта была роскошная и искусно приспособленная к тому, чтобы на малом пространстве расположиться с самым изысканным комфортом.
— Тюрьма!.. — сказал Фельз.
Не вставая с места, он опять посмотрел по направлению иллюминатора.
— Вот я в экзотическом, очаровательном городе… Посреди народа, который борется за свою независимость. Его свойства — смелость, изящество и вежливость — все увеличиваются и возвышаются в экзальтации сражений… Представился случай близко увидеть аристократию этого народа, вблизи наблюдать за увлекательным зрелищем, как борются древние инстинкты с новым образованием… Другой случай привел меня к Чеу Пе-и, который готов мне показывать волшебный фонарь Азии… И этой тройной удачей, от которой в былое время я совсем бы опьянел, я не воспользуюсь! Ничуть.
Он опустил голову.
— Я ничем не буду наслаждаться из этого: перед моими глазами всегда стоит, как наваждение, образ женщины и отделяет меня от внешнего, действительного мира.
Он оперся лбом на ладонь.
— Образ женщины… неумной, педантичной, порочной… но прекрасной… и сумевшей умно то давать мне свои поцелуи, то отказывать в них… И теперь я попался, как идиот, я — конченый человек.
Он встал и развернул только что принесенную лакеем «Нагасакскую прессу». Во главе сегодняшних телеграмм он прочел:
«Токио, 25 апреля 1905.
Подтверждается прохождение сорока четырех русских судов мимо Сингапура 8-го с.м. Командует эскадрой вице-адмирал Рождественский
[14]. Дивизия контр-адмирала Небогатова еще не замечена. По слухам, вице-адмирал Рождественский направляется к французскому берегу Индо-Китая.
Инструкции адмирала Того остаются секретными».
Смятая газета выпала из его рук. Фельз опять прислонился к иллюминатору.
Ветер переменился, как это часто бывает в Нагасаки в дождливые дни. Теперь яхта стояла носом к северу. Фельз увидел перед собой западную часть залива, противоположную городу. На этом берегу совсем нет домов. Зеленый наряд гор небрежно расстилается там до самого моря. И эти горы — более кружевные, более странные, более японские, чем на другом берегу, — вызывают более совершенное воспоминание о тех пейзажах, что рисовали старинные фантастические художники на рисовой бумаге древних макемоно.
Но на этом западном берегу, между двух холмов, находится долина, черная и зловещая, из которой день и ночь поднимается густой дым кузниц и грохот молотов о наковальни. Там — арсенал.
В этом месте Нагасаки изготовляет корабли, военное снаряжение. Город деятельно способствует защите империи.
Фельз смотрел на цветущие горы и на арсенал у их подножия. И подумал:
— Может быть, это спасет то…
И меланхолически улыбнулся:
— А все ж таки, какая жалость… В те времена, когда этого не существовало, я бы написал маркизу Иорисака Митсуко в тройной одежде из китайского крепа, расшитой серебряными гербами, с пурпурным кушаком…
IX
Придерживая палитру большим пальцем, Жан-Франсуа Фельз отступил шага на два. На коричневом фоне холста портрет выделялся мощно и ненавязчиво. Несмотря на слишком низкую прическу, лицо — с его узкими глазами и ротиком, по-японски характерно маленьким, — улыбалось улыбкой крайней Азии, улыбкой таинственной и тревожащей.
— О… дорогой маэстро… как это прекрасно!.. И как это вы можете так скоро, и точно играя, творить такие великолепные вещи?..
Маркиза Иорисака в экстазе сложила свои крохотные точеные ручки.
Фельз сделал презрительную мину.
— Великолепные вещи!.. Вы слишком снисходительны, маркиза…
— Разве вы не удовлетворены этим?..
— Нет.
Он поочередно рассматривал то модель, то портрет.
— Вы гораздо красивее, чем я вас написал… Это… боже мой, это не совсем плохо, и когда маркиз Иорисака вернется на свой корабль и вечером запрется в каюте наедине с этим портретом, — хоть я и сделал вас хуже, — он все же сможет узнать любимые черты. Но я мечтал о лучшем воплощении действительности.
— Вы слишком взыскательны к себе… Во всяком случае, ведь вы еще не совсем кончили: вы можете поправить…
— В жизни моей никогда не поправлял этюда без того, чтобы его окончательно не испортить…
— Так поверьте же мне, дорогой маэстро, этот этюд очарователен.
— Нет!
Он положил палитру и, опершись подбородком на руку, разглядывал с необыкновенным, упорным, почти ожесточенным вниманием стоявшую перед ним молодую женщину.
Это был их пятый сеанс. Между художником и моделью начала устанавливаться некоторая близость. Не то, чтобы светскую болтовню заменили настоящие беседы, а тем более откровенности, но маркиза Иорисака привыкла обращаться с Жан-Франсуа Фельзом скорее как с другом, чем как с посторонним.
Фельз быстрым движением опять схватил кисть.
— Маркиза, — внезапно сказал он, — мне очень хочется задать вам самый нескромный вопрос.
— Самый нескромный?..
— Да… и если я не получу от вас поощрения, то даже не осмелюсь его задать…
Она, удивленная, молчала.
— Нет… и все-таки осмелюсь. Но заранее прошу простить меня. Послушайте, чтобы закончить этот этюд, мне нужно еще четыре, пять сеансов. Когда я окончу, не будете ли вы так добры, чтобы подарить мне еще несколько сеансов?.. Я хотел бы сделать для себя еще один этюд… Да… другой портрет с вас, нет, в сущности, не портрет: это — портрет. Тут я старался заставить ожить на полотне ту женщину, какая вы есть… женщину очень современную, очень западную, настолько же парижанку, насколько и японку… Но меня преследует мысль, та мысль, что если бы вы родились на полвека раньше, то, хоть бы вы были тогда исключительно японкой, чистой японкой, ваше лицо и ваша улыбка были бы точно такие же. И вот это лицо, эту улыбку, которые у вас от вашей матери и от ваших прабабушек, от Японии, от неизменной Японии, мне страстно хочется написать второй раз, но в другой обстановке. У вас, наверно, ведь есть в каком-нибудь старинном сундуке, в комнате, где хранятся драгоценные реликвии, наряды былого времени, прекрасные пышные одежды с откидными рукавами, благородные одежды, расшитые семейными гербами… Вы надели бы самую роскошную из них, и я воображал бы, что передо мной не маркиза 1905 года, а супруга даймио до эпохи великих преобразований.
Он беспокойно взглянул ей в глаза. Она казалась смущенной и сперва не нашлась, что ответить. Раздался только смешок, который возникал всякий раз, когда она не успевала приготовить свой европейский голос, не такой детский, каким он был естественно:
— О, дорогой маэстро!.. Какая необыкновенная идея… Право…
Она задумалась:
— Но, конечно, и мой муж, и я, мы будем рады доставить вам удовольствие… Что касается старинного костюма, я не думаю, чтобы у нас… но, конечно, мы можем…
Он не стал сразу дальше настаивать:
— Кстати, о вашем муже: я буду иметь удовольствие видеть его сегодня?
— Нет… он на прогулке с нашим другом, капитаном Ферганом. Они часто выезжают вместе, а сегодня они не возвратятся к чаю.
— Я читал вчера в «Нагасакской прессе»…
Он остановился. «Нагасакская пресса», в дополнение к своим сообщениям о русском флоте, объявляла о немедленном отплытии адмирала Того на юг. Может быть, маркиза Иорисака еще не знала этого. И следует ли без подготовки говорить молодой женщине, что ее муж скоро отправляется на войну?
Но маркиза Иорисака совершенно спокойно докончила его прерванную фразу:
— В «Нагасакской прессе» — ах, да, знаю, о предстоящей отправке наших броненосцев?.. Я тоже читала. Это, конечно, не сейчас… но скоро надо этого ожидать.
Она спокойно улыбалась.
Фельз, удивленный, спросил:
— Но разве маркиз не отправится вместе со своим броненосцем?
Она шире приоткрыла свои узкие глаза:
— Как не отправится? Все офицеры пойдут, разумеется.
Он еще спросил:
— Вы думаете, что до битвы не дойдет?
Она безмятежно приглаживала кончиками пальцев свои волосы.
— Мы надеемся, что битва будет — великая битва!..
Фельз писал — ловкими и точными мазками.
— Вы останетесь в полном одиночестве, маркиза, после отъезда вашего мужа?..
— О, он не в первый раз так оставляет меня. И столько японских женщин на этот раз делят со мною мою участь…
— Вы вернетесь в Токио?
— Нет, я хочу быть как можно ближе к Сасебо, пока не кончится война.
— Но в Нагасаки у вас нет никого близких, кажется, никого, кто мог бы вас окружить заботами, спасти от одиночества?..
— Никого. Мы видимся только с вами и с Гербертом Ферганом. Но он уйдет в плавание с моим мужем.
Фельз подумал, прежде чем ответить:
— Я не уеду… Но, несмотря на мои седые волосы, я не посмею вас утруждать своими посещениями в отсутствие вашего мужа. Обычаи, если я не ошибаюсь, безусловно запрещают это?
— Не безусловно… Но, во всяком случае, в таких обстоятельствах японки вынуждены немножко удаляться от света… Во время войны с Китаем одну принцессу крови за то, что она слишком часто показывалась публично с одной посланницей, ее подругой, приговорили к изгнанию…
— К изгнанию?..
— Да.
— Но ведь теперь нравы не так строги?..
— Пожалуй, немного менее.
Наступило молчание. Фельз продолжал писать,
несколько рассеянно. Маркиза Иорисака сидела совершенно неподвижно, сохраняя позу. Однако через несколько минут она шевельнулась и ударила в ладоши. За дверью послышалось «э?» японской служанки.
— Вы выпьете чашку чая, не правда ли, дорогой маэстро?.. О ча во мотто кида кудасаи!.. (благоволите принести чай).
Говоря по-японски, она невольно перешла на очень высокое и легкое сопрано.
— Я выпью чаю, — сказал Фельз. — Но, говоря откровенно, я признаюсь вам, милая маркиза, что ваш английский чай, черный, сладкий и горький, гораздо меньше нравится мне, чем те чашечки ароматной воды, что мне подают во всех деревенских чайных домиках, куда я захожу, чтобы утолить жажду, во время моих прогулок.
— О!.. Что вы говорите?..
Она так удивилась, что даже забыла засмеяться. От сильного любопытства у нее даже косые бровки приподнялись кверху.
— Правда, вы любите японский чай?
— Очень.
— Но на вашей яхте вы его, наверно, не пьете?.. М-сс Гоклей, наверно, предпочитает чай своей страны.
— Да. Но у нее одни вкусы, а у меня — другие.
Маркиза Иорисака оперлась о маленький кулачок:
— Нравится м-сс Гоклей в Нагасаки?..
— Конечно. М-сс Гоклей очень любит экскурсии, а в Киошу много чудесных мест.
— Так что вы еще не думаете уезжать?.. А куда вы поедете после Японии?
— На Яву, вероятно. Вы знаете, что м-сс Гоклей хочет совершить кругосветное путешествие?
— Я слышала… Это удивительная женщина… Такая смелая, такая решительная… и такая красавица!

Фельз улыбнулся:
— А знаете ли, что ей страшно хочется познакомиться с вами?
Он вымолвил эту фразу после некоторого колебания, пробормотал последние слова, как будто жалея, что сказал их. Но маркиза Иорисака расслышала их.
— О, я сама была бы в восторге… По правде, мы с мужем даже хотели пригласить ее, но боялись показаться навязчивыми…
Двери скользнули в свои выемки, и вошли две служанки, неся английский поднос, слишком большой для их маленьких ручек.
— Ну, дорогой маэстро, все-таки вам придется выпить чашку черного чая!.. Раз м-сс Гоклей начнет бывать здесь, нам надо приучаться к ее любимому напитку…
Маркиза Иорисака, как истинная парижанка, протягивала гостю в одной ручке сахарницу, в другой — сливочник. И, конечно, в ее словах не могло быть никакой иронии, а в ее головке — никакой задней мысли.
X
Над большим храмом О’Сувы поднимается уступами к самой вершине холма Ниши небольшой парк…
Совсем небольшой, но настоящий парк: густой, глубокий, чудесно таинственный. Японцы умеют до невероятности уменьшать свои карликовые кедры и миниатюрные сливовые деревья, но они не меньше любят огромные фруктовые деревья и гигантские кедры. Миниатюрные садики — это их любимые безделушки, которые у них играют роль наших зимних садов или оранжерей, но настоящую радость и гордость империи составляют высокие леса.
В маленьком парке на холме Ниши, между столетних камфарных деревьев, кленов и криптомерий, с которых свешивались великолепные глицинии, прогуливались и беседовали маркиз Иорисака Садао и его друг капитан Герберт Ферган. Извилистая аллея терялась в чаще. Иногда на поворотах в просвете зелени и деревьев, как в рамке, вдруг открывался неожиданный вид — голубел весь город с раскиданными предместьями, серой сталью сверкал залив или открывались у подножия садов дворы и лестницы большого храма.
Гуляющие остановились на одной из таких площадок.
— Прекрасная погода, — сказал Герберт Ферган. — Замечательный конец апреля. Можно ожидать, что в мае это изменится.
— Да… — пробормотал Иорисака Садао.
Он едва взглянул на восхитительный вид. Его темный и живой взгляд, сверкающий страстным, скрытым любопытством, не отрывался от спокойного лица англичанина.
— Скажите, — вдруг спросил он, — получили вы со вчерашним курьером какие-нибудь известия от вашего друга, капитана Перси Скотта?
— Адмирал!.. — поправил его Ферган. — Перси Скотт был произведен шесть недель тому назад, в феврале.
— Вот как?.. Но я думаю, он продолжает, тем не менее, свои труды — революционизирует морскую артиллерию в Англии?
— О!.. — сказал Ферган, — будто бы уж это революция!..
Он принял слегка скептический вид. Но маркиз Иорисака настаивал:
— Если не революция, то во всяком случае коренное преобразование. Конечно, ваше адмиралтейство за последние двенадцать лет сложа руки не сидело… Я следил за усовершенствованиями вашей материальной части… Ваши орудия уже нельзя сделать лучше… Не говорю о снарядах…
— Да, — спокойно сказал Ферган. — Вам пришлось принять их, после неудачного опыта со снарядами меньшей взрывчатой силы, в прошлом году 12 августа.
— Верно… Поэтому я о них и не говорю. Да… снаряды ваши превосходны, и вся заслуга в этом принадлежит вашему адмиралтейству. Но на войне снаряды ничего не значат, а личный состав — это все. Разве не правда?.. И если теперь у вас личный состав флота, может быть, первый в Европе, то вся заслуга в этом принадлежит адмиралу Перси Скотту.
Ферган утвердительным кивком головы согласился с ним.
— Хорошие орудия, хорошие снаряды, — продолжал маркиз Иорисака, — это, конечно, хорошо. Но хорошие наводчики, хорошие дальномерщики, хорошие артиллерийские офицеры — это лучше. А этот-то подарок и делает Англии Перси Скотт. Правда, что Англия сумела его вознаградить? Я слышал, что парламент вотировал ему восемьдесят тысяч иен наградных.
— Совершенно верно, восемь тысяч фунтов. И это справедливо. Если бы Перси Скотт продал свои патенты промышленникам, он получил бы много больше.
— Понятно. Разве можно оценить гений такого человека в восемь тысяч фунтов? Наш император, вероятно, дал бы много больше за то, чтобы иметь японского Перси Скотта.
— Зачем это ему?.. — спросил Ферган слегка иронически. — У вас есть английский Перси Скотт!.. Англия и Япония — союзницы. Вы могли — и можете — пользоваться всеми нашими изобретениями вполне свободно.
Маркиз Иорисака на секунду взглянул на зеленые глубины леса.
— Вполне свободно…
Он вдруг чуть-чуть охрип. Откашлялся.
— Вполне свободно, вы правы. О!., мы многим обязаны вам… Но ведь пока мы воспользовались только работами вашего адмиралтейства: у нас ваши башни, ваши казематы, снаряды, броня… Но у нас нет ваших людей и их изумительных секретов — секретов, изобретенных адмиралом Перси Скоттом.
— Секретов никаких нет… — возразил Ферган. — И разве вы не оказались победителями в битвах 10 и 14 августа?..
— Мы оказались победителями… Но…
Узкие губы сжались в презрительную гримасу под щетинистыми усами:
— Но… Это были жалкие победы. Вы это знаете! Вы были рядом со мною на борту «Никко» 10 августа…
Англичанин любезно поклонился:
— Был… — сказал он. — И могу засвидетельствовать, что 10 августа был славный день, by love (клянусь Юпитером)!
— Нет!.. — воскликнул японец. О, Ферган, кими
[15], припомните-ка получше!.. Вспомните всю медлительность, нерешительность, общий беспорядок… Вспомните о русском снаряде, который попал в «Никко» ниже верхней рубки и разбил бронированную трубу в центральный пост! Как тогда остановилась вся жизнь броненосца — точно жизнь человека, которому перерезали артерию… Наши орудия перестали стрелять. Наши комендоры бесплодно ждали приказа, которого не могло быть. А в это время «Цесаревич», уже подбитый нашими выстрелами, ушел от нас из-за этой единственной аварии, сделавшей нас совершенно беспомощными. Вот каков был день 10 августа! И я с отчаянием думаю, что ближайший день битвы будет таков же… потому, что мы не владеем английскими секретами.
— Английских секретов нет, — повторил Ферган.
Последовало молчание. Они дошли до вершины холма и спускались по другой, западной аллее, ведущей прямо к садам большого храма.
— Когда Перси Скотт командовал «Грозным», — внезапно начал Иорисака Садао, — он на учебной стрельбе получил 80 % попадания в щит. Восемьдесят процентов!.. Какая броня выдержит такой железный дождь?!..
— А почему бы «Никко» не стрелять так же удачно, как «Грозному»? Перси Скотт обучал своих наводчиков при помощи приборов, которые вы хорошо знаете. Разве у вас нет «dotters», «loading-machines», «deflection-tearchers», разве у вас нет дальномеров Барра и Строуда?..
[16]
— У нас все это есть… И вы научили нас, как с этим обращаться… О, мы очень многим вам обязаны!.. Но все это хорошо, главным образом, для маневров в мирное время. На войне большую роль играет непредвиденное. Вспомните о снарядах 10 августа!..
Он пронизывал взглядом англичанина, всматриваясь в него, как охотник в чащу кустов, из которых должен показаться зверь.
— Британский флот сражался столько раз, в течение стольких веков… И везде, и всегда он оставался победителем. Как?.. Каким чудом?.. Каким волшебством?.. Вот что мы хотели бы знать. Что делали Родней, Кеппель, Джервис, Нельсон для того, чтобы никогда, никогда, никогда не быть побежденными?..
— Откуда мне это знать?.. — сказал Ферган с улыбкой.
Они дошли до садов. Парк внезапно заканчивался длинной и узкой террасой, усаженной десятком вишневых деревьев, расположенных косыми рядами. С одной ее стороны находилась «чайя», рядом с тиром для стрельбы из лука.
— Смотрите-ка, — сказал Ферган, довольный возможностью переменить тему разговора. — Смотрите-ка, мсье Жан-Франсуа Фельз!
Художник сидел перед чайным домиком за чашкой чая. Он вежливо поднялся им навстречу.
— Как поживаете? — спросил Ферган.
Маркиз Иорисака раскланялся по-французски, приподняв свою фуражку с золотым галуном:
— Вот вы где, дорогой маэстро, а я думал, что вы у нас на вилле! Мы как раз возвращались с капитаном Ферганом и надеялись вас еще застать там. Маркиза не сумела вас удержать?..
— Она была очень любезна и удерживала меня. Но у нас был такой долгий сеанс сегодня… Маркиза нуждалась в отдыхе, а мне хотелось на воздух.
— В таком случае, до свидания… До завтра, не правда ли?
— До завтра, обязательно.
Он опять сел на свое место, простившись с ними любезным жестом. Неподвижный и молчаливый, он смотрел на город и залив, открывавшиеся с террасы. Вечернее солнце косыми лучами начинало румянить голубую дымку далей, а море было точно окровавлено мириадами красных бликов, похожих на яркие ранки…
Ферган и Иорисака ушли.
— Пойдем пешком? — спросил англичанин.
Он был хороший ходок. И кроме того, холм Аистов находится недалеко от О’Сувы.
— Пешком, если хотите.
Они вышли из сада в ворота, противоположные городу. До маленького мостика в виде арки, перекинутого через северный ручей, они шли молча. Там дорога расходится. На перекрестке Иорисака Садао, о чем-то раздумывавший, резко остановился.
— Э… — воскликнул он. — Я совсем и забыл, что у меня свидание с губернатором.
— Свидание?..
— Да, он назначил мне как раз этот час. Что мне делать?.. Вы извините меня?
— Вы шутите!.. Ступайте сейчас же: вы найдете куруму в нескольких шагах отсюда — в улицах возле храма. Я провожу вас…
— Ни за что на свете. Я съезжу и сейчас же вернусь. Дело идет о пустячной военной формальности… Это займет какой-нибудь час, не больше… Кими, сделайте мне удовольствие и отправляйтесь к нам. Митсуко, может быть, ждет нас к чаю… Я скоро вернусь, и мы пообедаем вместе.
— All right (отлично)!
XI
Идя быстрым шагом, Герберт Ферган в какие-нибудь десять минут очутился уже на холме Аистов.
У дверей виллы он быстро постучал три раза.
— Э!..
Прислуживающая мусме открыла дверь и распростерлась ниц перед другом хозяина. Герберт, как завсегдатай, потрепал свежую круглую щечку ее и прошел.
В салон вливалась во все открытые окна ласка заходящего солнца. На портьерах краснели косые лучи.
— Good evening! (добрый вечер…), — сказал Ферган.
Маркиза Иорисака, полулежавшая в своем глубоком кресле, вскочила, как от электрического толчка.
— Good evening! — ответила она. — Вы одни?.. Маркиз бросил вас?..
Она говорила по-английски так же хорошо, как по-французски.
— Маркизу пришлось поспешить к губернатору по какому-то делу. Он вернется не раньше чем через час.
— А!..
Она улыбалась немного искусственной улыбкой. Он подошел к ней и совсем просто, привычным жестом, обнял ее и поцеловал в губы.
— Митсу, моя любимая крошка!..
Она поддавалась его ласке скорей послушно, чем влюбленно. Вернула ему поцелуй, стараясь отдать такой же, как получила, как целуют европейцы, приоткрыв губы и как бы вдыхая его.
Ферган приподнял ее и сел, усадив ее к себе на колени.
— Что вы сегодня поделывали весь день?..
— Ничего… ждала вас… Я не надеялась видеться с вами наедине сегодня вечером…
Он наклонился и опять поцеловал ее.
— Вы моя обворожительная крошка!.. Кто у вас сегодня был?..
— Никого… Художник…
— Художник, я уверен, что он ухаживает за вами.
— Нисколько.
— Нисколько?.. Весьма неправдоподобно. Все французы всегда ухаживают за всеми женщинами.
— Но он слишком стар!..
— Это он так говорит из кокетства.
— Слишком стар, и к тому же влюблен в другую… Вы же знаете?.. В эту американку… м-сс Гоклей.
— Я знаю. Нет, он не влюблен в нее, он ее гораздо больше ненавидит, чем любит… Но она завладела им и держит его: он — француз, а она очень красива… и очень развратна.
— Очень развратна?..
— Да. Ого!.. Это вас интересует?..
Он почувствовал, что маленькая ручка дрогнула в его руке. Но может быть, это ему показалось?.. Нежный голосок был совершенно спокоен:
— Нет, это меня не интересует. А вы знаете эту м-сс Гоклей?
— По репутации, да. Ее все знают по репутации.
— Я хочу сказать: вы ей были представлены?
— Нет.
— Так вы будете ей представлены!..
— Каким образом?..
— Она будет здесь. Я обещала пригласить ее.
— Она просила об этом?
— Нет… Я предложила сама.
— Боже милостивый!.. Зачем?
Она подумала, прежде чем ответить:
— Чтобы доставить удовольствие художнику. И еще потому, что маркиз желает, чтобы я принимала побольше европейских дам.
Он засмеялся и опять поцеловал ее.
— Какая послушная маленькая женка!..
Он ласкал прекрасные черные волосы, которые мягко поддавались его нежным прикосновениям.
— Если бы вы сохранили неудобную прическу, мусме, я бы не имел наслаждения так вот ласкать ваши волосы. Эта прическа гораздо удобнее.
Она посмотрела на него из-под своих полузакрытых век:
— Это нарочно я так причесываюсь.
Он становился смелее. Его губы жадно прижимались к ее послушным губкам; руки торопливо расстегивали ее лиф, ища обнаженной теплоты груди.
— Митсу, Митсу!.. Мои душистые медовые соты!..
Она не сопротивлялась. Но ее руки неподвижно упали вдоль тела и не обвились вокруг любовника в ответном объятии.
— Теперь оставьте меня… Герберт, прошу вас!.. Довольно: садитесь сюда и будьте умником… Да, да, умником. Я вам поиграю.
Она открыла рояль, поискала на этажерке:
— Я хочу вам спеть романс… Совсем новый французский романс. Вслушайтесь хорошенько в слова.
Она сыграла прелюдию. Руки ее с необыкновенной ловкостью бегали по клавишам. Потом она запела, аккомпанируя сама себе верно и выразительно. Ее легкое сопрано придавало странной мелодии какое-то таинственное и нереальное очарование.
«Он сказал мне: этой ночью мне снился сон. Твои черные волосы обвились вокруг моей шеи. Как черное ожерелье, обвились они вокруг моей шеи и моей груди.
Я ласкал их, они были моими: твоими волосами мы были связаны навсегда, уста к устам, как два лавра, сплетшиеся корнями.
И понемногу стало казаться мне — так сливались мы с тобою, — что я и ты стали одним, что ты вошла в меня, как мой сон.
И когда он кончил, он тихо положил руки мне на плечи и посмотрел мне в глаза таким нежным взглядом, что я задрожала и опустила глаза…»
Он слушал очень внимательно.
— Это очень мило, — из вежливости сказал он. Как все англичане, он мало понимал в музыке.
— Очень мило, — повторил он. — А главное, вы превосходно играете.
Она молчала, еще не отнимая рук от клавиш. Он счел необходимым выказать любознательность.
— Чье это?
Она назвала поэта и музыканта.
Он повторил знаменитые имена:
— Мсье Луис и мсье Дебюсси!.. О, это, действительно, значительная вещь.
Он встал.
Подошел к ней сзади и наклонился, чтобы поцеловать затылок чистейшего янтаря:
— Вы прекрасная артистка.
Она засмеялась недоверчиво и скромно:
— Только посредственная ученица. Я не верю, чтобы мое пение доставило вам хоть какое-нибудь удовольствие…
Он запротестовал:
— Огромное удовольствие!.. Я прошу вас спеть мне еще…
Она заставила себя просить.
Он настаивал:
— Да… и на этот раз — спойте мне японскую песню.
Она слегка вздрогнула. После короткого молчания ответила:
— У меня нет японской музыки в моих нотах: да ведь ее и нет для рояля.
— Возьмите ваш кото…
Она вскинула на него широко открытые глаза:
— Здесь нет кото…
Он перестал улыбаться. Он был англичанин, мало склонный к мечтательности и сентиментальности. Но многие века цивилизации все же утончили его расу. И он не мог в жизни пройти мимо ее необыкновенных минут, не заметив их величия или тайны.
Она сказала: «Здесь нет кото». Кото — это нечто вроде старинной, почтенной арфы, играть на которой в древние времена разрешалось только благородным японским дамам и куртизанкам высшего разряда. Рожденная в такой семье, какой была ее семья, маркиза Иорисака, разумеется, училась играть на кото с самого детства. И, конечно, в ранней юности она усидчиво занималась тем, что перебирала звучные струны крючочком из слоновой кости. Но пришли новые времена… И — «здесь нет кото».
Герберт Ферган, отогнав задумчивость, еще раз поцеловал нежный затылок своей любовницы:
— Митсу, мое любимое маленькое существо, все-таки спойте мне!
Она согласилась.
— Ну хорошо… Я спою. Хотите очень старинную танку? Вы знаете, что такое — танка? Это древнее стихотворение в пять строк, которыми обменивались когда-то между собою принцы и принцессы при дворе Микадо или Шогуна… Этой песенке — тысяча лет. Я ее выучила еще ребенком… И, забавляясь, перевела ее на английский язык…
Пальчики ее забегали по клавишам, импровизируя какую-то странную и печальную мелодию. Но она не пела. Точно колебалась. Чтобы заставить ее победить свою нерешительность, Ферган опять поцеловал теплую бархатистую шейку.
Нежный голосок медленно и тихо запел:
«Время вишневых деревьев в цвету
Еще не прошло…
А теперь уж пора лепесткам опадать:
Любовь же тех, кто на них смотрит,
Достигла расцвета страсти…»
Она замолчала и сидела не шевелясь.
Герберт Ферган, стоявший рядом, хотел ее опять поблагодарить поцелуем.
В эту минуту кто-то заговорил в глубине гостиной:
— Митсуко, зачем вы поете эти нелепые песенки?..
Герберт быстро выпрямился. На висках у него выступил холодный пот. Маркиз Иорисака вошел бесшумно. Видел ли он?.. Что он видел?..
Он, очевидно, не видел ничего. Потому что он заговорил совершенно спокойно:
— Митсуко, вы сегодня не будете обедать с нами?..
Она встала. Ответила, опустив глаза в землю:
— Да, я немножко устала. Если вы ничего не имеете против, то я бы хотела пообедать у себя.
Она вышла. Дверь бесшумно скользнула в свою выемку. Герберт Ферган с трудом перевел дух и провел рукой по лбу. Дружелюбно и вкрадчиво Иорисака Садао сделал несколько шагов и облокотился о рояль.
— Вот, кими, мы пообедаем вдвоем и поговорим!..
Он приостановился, потом устремил свой взгляд в самую глубину глаз англичанина:
— Мы поговорим… Мне нужно получить от вас много сведений, много советов… Нельзя, нельзя, чтобы мы повторили битву 10 августа. Вы не можете отказать союзнику!..
Герберт Ферган опустил голову. Его бритые щеки покраснели. И он покорно начал говорить:
— 10 августа… 10 августа вы были слишком робки. Слишком робки! Вы не знали, вы не чувствовали, что вы — сильнейшие. Вы не верили этому сами. И вы сражались, как люди, которые боятся поражения: слишком предусмотрительно, слишком разумно, слишком издали… Единственный английский секрет — это смелость. Чтобы побеждать на море, надо сперва приготовляться, осторожно и методически, но потом кидаться в бой с ожесточением, безумно… Вот как поступали Родней, Нельсон и француз Сюффрен. Следовательно, в вопросе открытия огня…
XII
Дверь бесшумно скользнула в свою выемку, и маркиза Иорисака вышла.
За дверями гостиной она остановилась. И внимательно прислушалась.
Голоса Герберта Фергана и маркиза Иорисака чередовались в спокойных фразах. Через тонкую стенку до нее долетали исторические имена: Родней, Нельсон, Сюффрен…
Маркиза Иорисака медленно подняла руки к голове и кончиками пальцев дотронулась до висков. Потом неслышными шагами отошла от дверей.
Комната, примыкающая к салону, была совершенно пустая, без мебели. Маркиза Иорисака прошла ее, потом еще одну комнату и очутилась в конце дома.
Там между двух стенок из гладкой бумаги, украшенных ажурным фризом, тянулся почти темный коридор, и в глубине его были две двери на шарнирах. Маркиза Иорисака сдвинула левую дверь.
За этой дверью находилось нечто вроде алькова из простого белого дерева, тонкой работы, но абсолютно без всяких украшений. На очень низком потолке были видны балки, на полу разостланы циновки цвета свежей соломы. Три оконные рамы, затянутые зернистой бумагой, заменяли окна со стеклами. В углу, почти вровень с полом, помещался крошечный детский туалетик, на котором стояло зеркало в лакированной рамке, а перед ним прямо на полу лежала черная бархатная подушка — единственное место, где в комнате можно было сесть, и то не иначе как на коленях, по-японски.
Стоя на коленях, маркиза Иорисака два раза ударила в ладоши, и немедленно прибежали ее служанки.
Слов никаких не было произнесено. С плотно сжатыми губами обе мусме сперва распростерлись перед своей хозяйкой, потом сняли с нее обувь. Затем проворно раздели ее, сняли кружевной лиф, быстро соскользнувший с напудренных рук, потом муаровую юбку, нижнюю шелковую, корсет, рубашку, европейские чулки — без пальцев — не такие, как японские.
Совершенно обнаженная, маркиза Иорисака завернулась в пестрое кимоно с крупными узорами, всунула ножки в сандалии с завязками и, выйдя из белого алькова, — ее собственной интимной комнаты — прошла окунуться в ванную с горячей водой, как делают все японские женщины каждый вечер, незадолго до того, как зайдет солнце.
Потом она возвратилась. Сбросила кимоно, отшвырнула ножкой сандалии. И служанки протянули ей три одежды из легкого шелкового крепа, три японские одежды с большими рукавами, все три — цвета синей ночи, все расшитые одним и тем же повторяющимся узором в виде странной, гиератической розетки — ее гербом — «мон».
Одевшись, маркиза Иорисака опустилась на колени перед своим зеркалом. Одежды разлетались, как полагалось. «Оби» широко опоясывал их своим великолепным бантом. Обеими руками она распустила волосы, разделила, пригладила в широкие бандо, обрамлявшие бесстрастное лицо. Маркиза Иорисака встала, прошла по комнате, вышла в полутемный коридор. И, опять хлопнув в ладоши, открыла правую дверь.
Комната за этой дверью была совершенно такая же, как за левой: те же панели белого дерева, те же оконные рамы, затянутые прозрачной бумагой, те же балки и те же циновки. Но вместо туалета с зеркалом там стоял алтарь из полированного кедра с двумя крохотными скиниями по обеим сторонам, и на нем лежали таблицы предков.
Молча маркиза Иорисака сперва распростерлась ниц перед алтарем, как того требовал обычай, и некоторое время оставалась так, прижимаясь лбом к циновкам и касаясь ладонями пола.
Потом она опустилась на подушку перед инструментом вроде горизонтально положенной широкой арфы, который почтительно только что внесла служанка.
И полилась музыка, мрачная и медленная, ритм и гармония которой ничем не напоминала ритма и гармонии европейской музыки. Таинственные звуки следовали один за другим и смешивались, музыкальные фразы без конца и без начала намечались, мечты, печали, скорбные жалобы трепетали посреди странных зловещих скрежетов, напоминавших завывание зимних вьюг и крики ночных птиц. И надо всем этим веяла безнадежная тоска…
Коленопреклоненная, по древнему обычаю, в зале своих предков, маркиза Иорисака играла на кото…
XIII
На следующей неделе Жан-Франсуа Фельз закончил портрет маркизы Иорисака, и она не преминула, согласно своему обещанию, пригласить м-сс Гоклей «пожаловать совершенно запросто на чашку чая в виллу на холме Аистов, чтобы полюбоваться прекрасным произведением маэстро, прежде чем маркиз Иорисака увезет его на своем броненосце».
М-сс Гоклей, в свою очередь, не преминула воспользоваться этим приглашением. Она решила отправиться на виллу в обществе самого маэстро и пожелала, чтобы мисс Эльза Вэн, ее лектриса, сопровождала их.
— Вы не берете рысь Ромео? — спросил Фельз, когда их караван пускался в путь с яхты.
— Вы забавны!.. — ответила м-сс Гоклей.
Было 1-е мая. Несмотря на тревожные новости, которые каждый день печатала «Нагасакская пресса», японские офицеры, находившиеся в отпуску, еще не получали приказа вернуться в Сасебо.
У ворот сада маркиз Иорисака встретил своих гостей. На нем был, как всегда, его черный мундир с золотыми галунами. М-сс Гоклей, на которую это произвело приятное впечатление, заметила, что между этим мундиром и мундирами американского флота не было никакой разницы. Маркиз Иорисака заявил, что он смущен, но гордится этим.
На вилле салон в стиле Людовика XV имел праздничный вид. Севрские вазы были переполнены цветами, а мольберт, на котором находился портрет, был элегантно задрапирован атласом либерти. Маркиза Митсуко, в туалете из мягкого гипюра, сделала реверанс своей посетительнице и, чтобы выказать ей свое уважение, не говорила иначе, как по-английски.
— Маэстро простит мне, если я сегодня изменю его прекрасному французскому языку?.. Впрочем, я уверена, что на борту «Изольды» он сам говорит на вашем языке — он так любезен!..
М-сс Гоклей, очарованная, не скупилась ни на похвалы, ни на откровенные комплименты… Положительно, маркиза Иорисака — волшебница… И как грациозна, как очаровательна, как образована… Народы старой Европы осуждают своих женщин или на легкомыслие, или на возню с хозяйством. Но у новых народов — новые идеи и новые стремления. М-сс Гоклей ценила превосходство своих компатриоток над европейскими женщинами и от всего сердца радовалась, видя, что японки так блистательно идут по следам американок.
— Вы знаете английский, французский, может быть, и немецкий?
— Всего несколько слов…
— Конечно, японский! А китайский?
Маркиз Иорисака на этот раз ответил за жену, что китайского она не знает…
— Вы получили совершенно западное образование! А в Нью-Йорке вы были?..
Маркиза Иорисака не была там, но сожалела об этом до глубины души…
— Как вам идет этот парижский туалет!.. А ваша ручка — это прямо драгоценность.
Фельз, очевидно, не в духе, не говорил ни слова. Мисс Вэн, с презрительным выражением, тоже хранила молчание. Несмотря на все радушие хозяев, несмотря на экспансивную сердечность м-сс Гоклей, визит, может быть, оказался бы не особенно удачным, если бы не появился весьма кстати капитан Герберт Ферган. Маркиз Иорисака встретил его чрезвычайно радушно. Пришлось и Фельзу несколько разгладить морщины, чтобы не быть невежливым, потому что англичанин был очень в ударе.
— Мсье Фельз, — сразу обратился он к художнику, — вы не помните одного места у Фукидида, по-моему, это наиболее глубокое, что только есть в психологической литературе всех народов и всех веков… Извините меня, что я вдаюсь в ученость — мы, англичане, очень сильны в греческом языке: настолько, что эта сила даже составляет причину нашей слабости в практических делах по сравнению с компатриотами м-сс Гоклей… Так вот, в III году 37-й Олимпиады, в самый разгар чумы, которая тогда опустошала Афины, Фукидид заверяет нас, что городом овладело настоящее безумие, какая-то погоня за наслаждениями — посреди агоний и траура… При этом он нисколько этому не удивляется, а считает это совершенно естественной вещью, соответствующей человеческим инстинктам. Да! Так вот, мсье Фельз… Фукидид прав! Потому что сегодня утром я, чувствующий себя здесь, в Нагасаки, совершенно так, как тогдашние афиняне в Афинах, т. е. под угрозой неожиданной и внезапной смерти, я проснулся с желанием как можно усиленнее наслаждаться жизнью!
Жан-Франсуа Фельз поднял брови.
— Разве вы под угрозой смерти?..
— Во всяком случае под угрозой русского снаряда. Ведь я тоже скоро должен вернуться на броненосец маркиза Иорисака. И буду присутствовать при предстоящей битве. Великолепное зрелище, мсье Фельз, но довольно рискованное. Видели вы когда-нибудь бой гладиаторов? Мне это предстоит. Нет ничего увлекательнее. Но — одно маленькое неудобство: в цирке этом нет амфитеатра, так что мне придется самому спуститься на арену!
Он смеялся. И маркиз Иорисака, добродушный гладиатор, искренно смеялся вместе с ним…
Затем Герберт Ферган начал очень ловко расхваливать яхту м-сс Гоклей. Американка гордилась ею и с удовольствием слушала в тысячный раз, что у нее бесспорно самая лучшая яхта в мире. Однако, несмотря на всю ценность похвалы, исходящей от командира судна и адъютанта английского короля, м-сс Гоклей отнеслась к его словам довольно рассеянно: она не могла оторвать своего внимания от маркизы Иорисака, всецело занимавшей ее.
Сидя рядом на диване, американка и японка были похожи на двух задушевных подруг. М-сс Гоклей взяла ручки своей новой приятельницы в свои и, разговаривая с ней конфиденциальным тоном, без устали расспрашивала об ее детстве, юности, замужестве, об ее вкусах, развлечениях, чтении, религиозных идеях и философских воззрениях. Она выказывала при этом любопытство женщин ее расы, которые с детства привыкают упражняться в бесчисленных и бесполезных вопросах, неинтересных, бесцельных, — и на всю жизнь сохраняют в тайниках своего мозга тысячи и тысячи сведений, документов, добытых с трудом, добросовестно распределенных, убранных, снабженных ярлычками, но не понятных и не усвоенных никогда.
Маркиза Иорисака, не привыкшая к этому, охотно поддавалась нескромному приступу своей гостьи. Она добросовестно отвечала на все вопросы, и, казалось, они совсем не утомляли ее. Она давала м-сс Гоклей, совершенно неспособной отдать себе в этом отчет, хорошее доказательство покорности, свойственной дочерям Ниппона. И не без еле заметного кокетства предоставляла свои крошечные пальчики ласке белых западных рук, — тоже красивых, но таких больших по сравнению с ее.
Мисс Вэн своим поведением обескураживала Герберта Фергана и даже самого маркиза Иорисака, пытающихся выказать ей внимание.
Неподвижная и небрежная, из глубины большого кресла, она только время от времени кидала короткие взгляды по направлению дивана. Фельз улыбался с легкой иронией и с легкой горечью.

Подали чай. Все окна были открыты, и в них были видны, под облачным небом, зубцы окаймлявших оба берега гор, а под горами — зеленеющие кладбища, окружающие голубой с коричневым город. Было тепло: солнце стояло еще высоко и смягчало свежесть влажной весны.
— Маркиз, — сказала, наконец, м-сс Гоклей, — я почувствовала такую внезапную симпатию к вашей жене, что мне непременно хочется по-настоящему подружиться с ней. Я, кроме того, боюсь, что после вашего отъезда на войну она будет слишком скучать в одиночестве. И я надеюсь, что мои частые посещения ее развлекут немного. Если нужно, я продолжу стоянку моей яхты здесь — я не потерплю, чтобы такая прелестная и интересная женщина ожидала бы в тоске возвращения своего славного героя… А потом Франсуа Фельз, кажется, намерен написать с маркизы еще один портрет — в каком-то костюме, кажется… Я буду сопровождать его на сеансы, чтобы не оскорблять здешних обычаев. И только тогда покину Нагасаки, когда вы разобьете этих русских дикарей.
Маркиз Иорисака поклонился очень низко и хотел ответить, как вдруг дверь отворилась и впустила неожиданного посетителя. Это был японский морской офицер, в мундире, с ног до головы во всем сходный с маркизом Иорисака: тот же возраст, тот же чин, та же фигура. Разница была в подробности: маркиз Иорисака носил усы — по-европейски, вновь прибывший же был гладко выбрит.
Он вошел и прежде всего поклонился по-старинному: согнувшись вдвое и прикасаясь руками к коленям. Потом подошел к маркизу Иорисака и, отдав ему особенный поклон, произнес по-японски церемонное приветствие, на которое маркиз ответил с большим уважением.
Капитан Ферган приблизился к Жан-Франсуа Фельзу:
— Смотрите хорошенько, маэстро. Вот вам древняя Япония приносит свой привет…
Маркиз Иорисака взял своего гостя за руку и обратился к присутствующим:
— Имею честь представить вам моего благородного товарища, виконта Хирата Такамори, лейтенанта с «Никко«…Будьте добры извинить его: он ни по-французски, ни по-английски не говорит…
Все поклонились. Виконт Хирата еще раз согнул свою негибкую спину. Затем, сказав несколько любезных, но кратких слов маркизе Иорисака, которая выслушала их с большим почтением, он отвел маркиза в сторону, и у них завязался долгий и оживленный разговор.
— Я познакомился с виконтом Хирата во время последнего сражения, — объяснил Ферган Фельзу. — Это очень любопытный тип: он лет на сорок отстал от своего века. А, как вам известно, в Японии сорок лет стоят добрых четырехсот, как только зайдешь за революцию 1868 года. Виконт Хирата тоже сын даймио, как и наш хозяин. Но, в то время как Иорисака принадлежит к племени Шошу, родом с острова Гондо, Хирата принадлежит к племени Сатсума, с острова Киу-Шу. Это колоссальная разница. Шошу были некогда ученые, поэты и художники, тогда как Сатсума были только воины. Когда произошла эта знаменитая революция, которую японцы зовут Великая Перемена, Сатсума и Шошу взяли сторону Микадо против Шогуна. Победа привела их к собственному поражению в смысле своих феодальных прав, потому что Микадо, как только избавился от Шогуна, поторопился поскорее уничтожить кланы, даймио и их самураев. Шошу немедленно примирились с новым порядком вещей. Сатсума не хотели примиряться с ним. Родители маркиза Иорисака модернизировались в одно мгновение, а родители виконта Хирата на девять лет заперлись в своих берлогах в Кагошиме и только в феврале 1877 года вышли из них, чтобы броситься с мечами в руках против императорских войск, вслед за старым мятежником Саиго. Они были побеждены. И вся его родня перебита. Да, мсье Фельз, собственный отец вот этого офицера был убит в бою против ныне царствующего императора. И я полагаю, что виконт Хирата хранит в душе своей прежние чувства своих предков… Забавно то, что при этом — он превосходный офицер, хорошо знающий самые современные сооружения. На борту «Никко» он заведует электрическими машинами. И мало найдется европейских инженеров, равных ему…
В эту минуту маркиз Иорисака, который молча выслушивал японскую речь виконта Хирата Такамори, обернулся к своим гостям:
— Мой благородный товарищ сообщает мне, что нас обоих… — он поправился, взглянув на Фергана, — нас троих завтра вызывают в Сасебо.
Воцарилось внезапное молчание. Жан-Франсуа Фельз невольно поглядел на сидевших на диване. Маркиза Иорисака, вероятно, вздрогнула — потому что она отняла свои ручки у м-сс Гоклей.
Потом Герберт Ферган заговорил первым:
— Что я сейчас говорил вам по поводу Фукидида, мсье Фельз? Что бы со мной ни случилось в этом плавании, я, во всяком случае, буду очень рад разделить на «Никко» судьбу вот этого прекрасного произведения…
Он указал на портрет, о котором до сих пор м-сс Гоклей даже и не подумала. Когда ей таким образом напомнили действительный предлог ее визита, американка встала и подошла, чтобы рассмотреть изображение своей японской приятельницы.
Виконт Хирата, стоявший в нескольких шагах от картины, заметил ее. Его глаза быстро сравнили азиатское личико на полотне с лицом западной женщины, приблизившейся к нему. И он вполголоса произнес несколько японских слов, которые расслышал один капитан Ферган.
— Он высказал какое-нибудь артистическое суждение?.. — полюбопытствовал Фельз.
— Нет… Хороший Сатсума редко высказывает артистические суждения. Виконт Сатсума высказал скорей этнологическое суждение, впрочем, довольно пикантное: «У нас кожа желтая, у них — белая; золото ценится выше серебра».
[17]
XIV
Каюта м-сс Гоклей на яхте «Изольда» была точной копией с каюты ее величества русской императрицы на яхте «Штандарт». Меблировка в ней была английская: светлое дерево, лакированная зеленого цвета мебель, маркетри в мягких тонах. У медной кровати был тюлевый полог, затканный большими ирисами. Ковер — однотонный бобрик — был натянут и прикреплен медными гвоздиками. Вместо всяких драгоценных безделушек — фотографии. М-сс Гоклей в этом точном подражании государыне, известной строгостью своих вкусов, находила двоякое удовлетворение: и своему демократическому тщеславию, и своей любви к удобствам жизни. Настоящая роскошь — роскошь позолоты, мрамора, картин знаменитых мастеров, античных статуй — щедро расточалась в салонах и холлах. Но для интимных апартаментов лучше подходила уютная, мягкая простота британской меблировки.
Только что пробило полночь.
Лежа на постели, облокотившись на подушки и опершись подбородком на ладонь, м-сс Гоклей, на которой не было ничего, кроме перстней и рубашки из черного шелка, прозрачностью тоньше кружева, слушала, как мисс Вэн вслух читала ей — обычное вечернее чтение.
Мисс Вэн, корректная лектриса, сидела на стуле с прямой спинкой, не сняв еще своего вечернего туалета, по правде сказать, еще более неприличного, чем рубашка м-сс Гоклей, но все-таки это было платье. И так как, по известной поговорке, «монаха делает ряса», то мисс Вэн своим туалетом и своей позой возмещала то, что могло показаться слишком смелым в туалете и позе м-сс Гоклей.
Таков был, между прочим, ежевечерний церемониал. М-сс Гоклей не меняла его, не терпя никакого нарушения раз навсегда установленных привычек.
Так что в этот вечер мисс Вэн читала ей главу одиннадцатую книги, из которой накануне она прочла главу десятую.
Голос у нее был приятного тембра и очень низкий для молодой девушки. Она кончала главу, отчеканивая слова:
«И однако, — странное противоречие тем, кто верит во временное, — история геологии показывает нам, что жизнь есть не что иное, как короткий эпизод между двумя вечностями небытия и что в самом этом эпизоде сознательная мысль не продолжалась и не будет продолжаться дольше мгновения. Мысль — молния в долгой ночи.
Но эта молния — все».
— Мсье Пуанкаре, — изрекла м-сс Гоклей, — оригинальный писатель.
Утомленная мисс Вэн пила традиционный лимонад — lemons quash, — приготовленный заранее.
— Оригинальный, — повторила м-сс Гоклей. — Несомненно с философским умонаклонением. Но немного поверхностный — не находите ли вы? Слишком француз… лишенный немецкой глубины.
— Да, — согласилась мисс Вэн. — Немцы имеют для каждой темы ей одной присущий язык: его приятно узнавать и понимать, потому что он устанавливает наши мысли. А мсье Пуанкаре говорит так, как все. И в его книге легкомысленная тенденция.
М-сс Гоклей небрежно развалилась на спину и охватила поднятую коленку обеими руками.
— Легкомысленная? А вы правы, Эльза! И кроме того, этот всем доступный язык таит в себе опасность атеизма. Неприлично, чтобы люди необразованные могли читать и понимать такие книги, которые могут им показаться идущими против религии.
— Вы думаете, что они только кажутся такими?
— Да. Я так думаю. Ясно — это все только парадоксальные размышления: они не могут поколебать ничьей веры.
Ее руки соскользнули с колена и охватили тонкую щиколотку, причем рубашка слегка приподнялась. В этой новой позе м-сс Гоклей вознамерилась подкрепить свою мысль:
— Святая Библия…
Два легких стука в дверь прервали ее речь.
— Кто это — Франсуа?
— Это я, — сказал Фельз.
Он вошел и поглядел на обеих женщин: на мисс Вэн, сидящую с книгой в руках, и на м-сс Гоклей — лежащую на спине, охватив руками свою голую ножку.
— Вы беседуете на теологические темы, если я правильно расслышал?
Он произнес слово «теологические» с должным почтением.
— Не столько на теологические, сколько на философские — по поводу этой книги…
Чтобы указать пальцем на книгу, м-сс Гоклей выпустила из рук свою ножку — и освобожденная, она скользнула по постели и вытянулась во всю длину, ослепительно белая рядом с черной рубашкой. Фельз с минуту смотрел на эту ножку, потом отвел глаза по направлению к открытой книге.
— Однако… — сказал он, — у вас возвышенное чтение!..
Он наклонился и прочел вполголоса:
«Мысль — это только молния в долгой ночи. Но эта молния — все». Идея: я повторю эту фразу одному моему знакомому китайцу, и он, наверно, согласится с ней. Но, кстати: это против этого страшного Пуанкаре вы собирались призывать Святую Библию на помощь?
М-сс Гоклей пренебрежительно помахала сверкающей бриллиантами рукой:
— Это было бы лишним. Ваш Пуанкаре совсем не так страшен. Мисс Вэн только что очень правильно назвала его легкомысленным.
Фельз вытаращил глаза… но вовремя припомнил слова, слышанные им недавно при философском свете девяти фиолетовых фонарей: «Следует слушать женщин, но не отвечать им». И Фельз не ответил.
М-сс Гоклей уже принялась за свои вопросы:
— Вы были на вокзале?
— Да. Я передал ваш привет маркизу Иорисака.
— Так он уехал?.. Английский капитан тоже уехал?..
— Да. И виконт Хирата с ними.
— Этот виконт не интересует меня: он, кажется, совсем нецивилизованный человек… Но скажите мне, вы видели маркизу?
— Нет.
— Значит, ее не было на вокзале? Мне кажется, что она нисколько не влюблена в своего мужа. Как вы находите?
— Я не так наблюдателен, как вы.
— Впрочем, я узнаю ее истинные чувства сама… Когда вы начнете писать ее
портрет в костюме?..
— Завтра… илй позже… Спешить некуда. Но скажите, вам не кажется, что это выражение «в костюме» не особенно любезно по отношению к маркизе Иорисака, раз дело идет о национальной одежде японских женщин?..
— Почему нелюбезно?.. Ведь маркиза не носит национальной одежды… Да, но скажите мне, что это за фантазия — не возвращаться на яхту к обеду?.. Вы, конечно, абсолютно свободны, но я что-то очень поздно получила вашу записку!
— Что за фантазия?.. Не знаю, — ответил Фельз. — Вокзал очень далеко. Когда поезд отошел, уже солнце заходило. Я прошел пешком полгорода… Небо было лиловое, и улицы под ним так и сияли — словно их аметистами вымостили. У меня не хватило духа идти дальше — захотелось остановиться и хорошенько полюбоваться. А когда исчез последний отблеск, я вдруг почувствовал себя таким печальным, таким усталым, что не решился вам навязывать свое присутствие.
М-сс Гоклей внимательно слушала его и даже приподняла белокурую голову с ажурных подушек.
— О… — сказала она с изумлением, — вы говорите необыкновенно поэтично…
Она замолчала, быть может, стараясь вообразить себе эти улицы, окрашенные сумерками, и, вероятно, не достигнув этого, снова откинулась на подушки.
— А что же вы делали потом?
— Я зашел навестить моего китайского друга Чеу Пе-и.
— Как странно, что вы находите удовольствие в обществе этого смешного человека!.. Вы опять курили опиум?
— Нет.
— Почему?
— Потому что… потому что мне сегодня хотелось рано вернуться сюда.
Он пристально и настойчиво глядел на нее.
Она вдруг засмеялась.
— Мисс Вэн, в этот иллюминатор проникает необыкновенно японский запах… Я знаю, что вы его не любите… Возьмите, пожалуйста, вапоризатор и побрызгайте… Да, везде, хорошенько… И на постель, и на меня…
Мисс Вэн, покорная и молчаливая, нажала пружинку золотого флакона. Под свежею ласкою духов м-сс Гоклей выпрямила и выгнула свое гибкое тело: кончики груди у нее встали под прозрачным шелком рубашки.
Фельз провел рукой по лбу и закрыл глаза.
Снова прозвучал звонкий смех м-сс Гоклей.
— Довольно… поставьте на место!.. Мне теперь совсем хорошо… Который час?..
— Половина первого.
— Я думаю, что вам обоим хочется спать…
Ответа не было. Мисс Вэн медленно убирала флакон. Неподвижный Фельз так и не открыл глаз.
— Да… — резко сказала вдруг м-сс Гоклей. — Вы, наверно, устали. Спокойной ночи!
Они оба покорно подошли к постели. М-сс Гоклей протянула правую руку. Мисс Вэн неожиданным жестом вдруг поцеловала ее в открытую ладонь. Фельз едва прикоснулся к кончикам пальцев.
— Спокойной ночи… — повторила м-сс Гоклей.
У дверей Фельз посторонился, чтобы пропустить молодую девушку.
— Франсуа!.. — внезапно окликнула его м-сс Гоклей. — Останьтесь на минуту… Вы мне нужны.
Мисс Вэн была уже за дверью. Она, верно, очень неловко захлопнула ее, потому что щеколда громко стукнула…
Фельз приблизился шага на три. Розовый свет электрических ламп упал на его побледневшее лицо.
М-сс Гоклей улыбалась.
— В сущности, мне прямо совестно удерживать вас, когда вы так устали… Может быть, вам лучше лечь спать, как мисс Вэн?
Он был совсем близко у постели. Он вдруг стал на колени перед постелью, взял небрежно лежавшую руку в свои и страстно прильнул губами к теплому телу ниже плеча:
— О, Бетси! Может быть, вы сегодня, в виде исключения, не заставите меня слишком страдать?..
Она наклонила к нему голову:
— А вы уверены, что вам не приятнее будет вернуться в свою каюту и делать там наброски этих улиц, похожих на аметисты, нет?..
XV
На другой же день м-сс Гоклей поехала с Фельзом к маркизе Иорисака, вернее, она повезла его туда.
По обыкновению, маркиза Иорисака встретила своих гостей как нельзя более любезно. Но официальный предлог посещения не удался: не было и речи о том, чтобы начинать портрет «в костюме». Маркиза — хотя и заранее предупрежденная — была одета в свое самое изящное парижское платье. А когда Фельз упрекнул ее и напомнил об обещании надеть японскую одежду, она ему ответила, что в последнюю минуту не хватило решимости надевать старые лохмотья…
— Я, впрочем, очень довольна, что у вас не хватило решимости, — заявила м-сс Гоклей, — потому что вы, наверно, гораздо обаятельнее в этом туалете.
Два часа пролетели в милой болтовне. М-сс Гоклей доставляло необыкновенное удовольствие слушать английские слова из узких и накрашенных губок азиатской дамы, а маркиза Иорисака поддавалась излияниям своей новой подруги со странной смесью покорности и кокетства.
Фельз был угрюм и кроме односложных междометий не вносил в разговор ничего. Но когда наступило время уходить, он начал настаивать на том, чтобы опять увидаться, но с тем, чтобы это уже был настоящий сеанс.
Это было в среду, 3 мая. Сеанс назначили на пятницу, 5 мая. Но и тут произошло то же самое. Маркиза в это утро получила с французским пароходом посылку от своего портного и, конечно, не могла отказать себе в удовольствии показать м-сс Гоклей «последнюю модель с Рю де-ла Пэ».
— Я думаю, — сказала м-сс Гоклей, — что ни одна женщина ни в Париже, ни в Нью-Йорке не была бы так очаровательна в этой модели, как вы.
Фельз, разочарованный во второй раз, не вымолвил ни слова. Но вид у него был такой мрачный, что в последнюю минуту маркиза отвела его в сторону:
— Дорогой маэстро, — сказала она по-французски, — мне стыдно, что я не сдержала своего обещания… Я вижу, что вы сердитесь на меня… Да, да, я вижу… и вы правы. Но я искуплю свою вину. Послушайте: приходите один — как для того портрета — приходите завтра… И я клянусь вам, что на этот раз я буду позировать, как вы хотите…
М-сс Гоклей подошла:
— Вы секретничаете?
— О, нет… Я только извинялась перед маэстро, потому что я чувствую, что никогда не посмею показаться вам на глаза в простой японской одежде — такой некрасивой… Вам, наверное, не понравится… И чтобы он простил меня, я предложила попозировать ему как он хочет, но когда-нибудь, когда вас не будет…
— Завтра, — сказал Фельз.
И в глубине души почувствовал восхищение маленькой японской дипломаткой. М-сс Гоклей, польщенная, улыбалась:
— Да… Это очень хорошо… Я тоже предпочитаю видеть вас в изящных туалетах… Так пусть маэстро придет к вам завтра один — я не приеду. Но послезавтра я приеду одна, а он не приедет… Так мы будем квиты.
Она задумалась на минутку:
— Я, между прочим, убеждена, что, несмотря на варварский костюм, портрет будет превосходным: настоящий талант Франсуа Фельза именно направлен на странности…
Она опять призадумалась:
— Но скажите, будет ли прилично и дозволено обычаями этой страны, чтобы у вас в доме бывал мужчина в отсутствие вашего мужа?..
— О!.. — беспечно воскликнула маркиза Иорисака.
XVI
— Хотите, — предложила маркиза Иорисака, внезапно покраснев под своими румянами, — хотите, чтобы я вам позировала, совсем как настоящая аристократка былых времен? Я это сделаю, чтобы доставить вам удовольствие, и еще потому, что вы обещали мне спрятать этот портрет в тайниках вашей парижской мастерской и никому его не показывать… Да, я вспомнила, что здесь есть кото, и я буду делать вид, что играю на нем, пока вы будете писать. На старинных какемоно жены даймио часто так изображались — за своим кото, потому что кото считался исключительно благородным инструментом…
С прической из гладких широких бандо, в одежде из темно-синего китайского крепа, на котором выделялись гиерати-ческие белые розетки «мои», маркиза Иорисака, в своей парижской гостиной, между роялем и зеркалом в стиле помпадур, казалась ожившей драгоценной архаической статуэткой, какими украшали легендарные императоры свои дворцы из чистого золота, и какие теперь печально стареют в банальных галереях европейских музеев между занавеской из красного репса и тремя оштукатуренными стенами.
Фельз писал молча, с энтузиазмом… Его натурщица приняла позу и сохраняла ее с азиатской неподвижностью. Она сидела на коленях, на черной бархатной подушке; распахнутое спереди платье, разлетаясь, ложилось кругом нее, и высвобожденная из рукава, широкого, как юбка, маленькая ручка, вооруженная крючком из слоновой кости, дотрагивалась до струн кото.
— Вы не устали?.. — спросил Фельз после доброго получаса.
— Нет. Когда-то у нас была привычка вот так на коленях просиживать бесконечно долго…
Он продолжал писать, и его усердие не ослабевало. В эти полчаса на полотне появился прелестный набросок.
— Вы бы должны были играть по-настоящему, а не только делать вид, что играете… Мне нужно, чтобы вы играли… для выражения лица.
Она вся задрожала:
— Я не умею играть на кото…
Но он поглядел на нее:
— Поистине — когда умеют так склонять колени на подушку из Осаки, трудно поверить, чтобы не умели играть на кото…
Она опять покраснела и потупила глаза. Потом, уступая магнетической власти его воли, которой она поддавалась, тихо начала перебирать звучные струны.
Полилась странная мелодия.
Фельз с нахмуренными бровями, с пересохшими губами, с каким-то ожесточением водил кистью по яркому полотну. И под этой волшебной кистью набросок точно оживал.
Теперь кото звучал громче. Осмелевшая рука невольно вызывала из него все с большей страстностью таинственный ритм, так отличающийся от всех ритмов, известных Европе. А склоненное личико постепенно озарялось беспокоящей улыбкой тех созерцательных идолов, которых древняя Япония выделывала из нефрита или слоновой кости.
— Пойте!.. — почти резко приказал художник.
Узкие накрашенные уста послушно запели. Песня была странная: скорее какая-то неясная мелодия, начинавшаяся и кончавшаяся шепотом. Кото продолжал ее заглушенные звуки, подчеркивая иногда более резким аккордом непонятные слова. Несколько минут длилась эта необычная музыка. Потом певица замолкла — и казалось, что она в изнеможении.
Фельз, не поднимая головы, спросил почти шепотом:
— Где вы этому научились?..
Ответ был словно во сне:
— Там… когда я была совсем, совсем маленькая… В старом замке Хоки, где я родилась… Каждым зимним утром, перед зарей, как только служанки открывали «шоджи»
[18] и ледяной ветер с гор прогонял мой сон и заставлял меня вскочить с тоненького тюфяка, который мне служил вместо кровати, мне приносили кото для занятий. И я играла до восхода солнца. А потом я выбегала босиком в большой двор — даже когда был снег — и смотрела, как мои братья упражнялись в фехтовании на мечах… и сама упражнялась в фехтовании на алебардах, потому что такое было правило. Длинные бамбуковые лезвия стучали, скрещиваясь… Надо было молча выносить жгучие удары по рукам… и снег, и холод… А после урока прислужницы надевали на меня парадные одежды, и я шла упасть ниц перед моим отцом. Я его всегда находила на женской половине… Потом он брал меня с собой, чтобы я принимала приветствия самураев, оруженосцев и другой челяди… Переливались складки красивых шелковых одежд, лакированные ножны мечей сталкивались с лакированными ножнами кинжалов… О… я желала в сердце моем, чтобы все осталось таким на тысячу веков…
Кисть замерла, и художник закрыл глаза, чтобы лучше слушать.
— И я желала в сердце моем лучше тысячу раз умереть, чем жить чуждой, другой жизнью… Но скорее, чем Фудзияма меняет цвет в сумерках, переменилась вся поверхность земли!.. А я не умерла…
Пальцы опять начали задумчиво перебирать струны кото.
Проснулись тоскливые звуки. Тихий голосок повторял припев песни:
— А я не умерла… не умерла… не умерла… И новая жизнь захватила меня… как сети птицелова захватывают пойманных фазанов. Фазаны, которых поймали в западню и слишком долго держали в тесных клетках, не умеют больше развертывать крыльев — и отвыкают от прежней свободы…
Кото тихо плакал.
— В моей клетке, куда меня заперли искусные и мудрые птицеловы, я тоже боюсь, что забуду былую жизнь… Вот я уже больше не помню тех поучений, что когда-то учила в классических и священных книгах
[19]… И порой… порой я даже не хочу вспоминать их…
Кото бросил три звука — точно три вскрика.
— Я больше не хочу… И потом… я не знаю, не знаю… Может быть, я должна их забыть… Теперь меня учат другому. А как сохранить вкус горячего риса на языке, когда во рту сырая рыба?.. Я думаю, что я должна забыть…
— В Хоки моим босым ногам было так холодно от снега на большом дворе, а моим нежным рукам так больно от ударов бамбука… Теперь нет ни снега, ни бамбука, и прислужницы не открывают шоджи, пока меня не разбудит горячее солнце…
Раздался неожиданный взрыв смеха, звенящего, как звон разбитого хрусталя.
— …Конечно, лучше все забыть, все забыть!.. И я забуду, о!..
Кото, нечаянно задетый ногой, зазвучал, как удар гонга.
Маркиза Иорисака не сразу отодвинула ножку. Ее блуждающие глаза смотрели куда-то в пространство, словно не видя ничего. И она оставалась недвижной, как коленопреклоненная статуя. Наконец, она поднесла руки к вискам, как будто от мигрени. И снова засмеялась, на этот раз тихонько:
— Э! — сказала она… — Я, кажется, надоела вам своей глупой болтовней?..
Жан-Франсуа Фельз продолжал писать. Он ничего не ответил.
— Да, — продолжала маркиза Иорисака, — я говорила, сама не слушая своих слов… Женщины иногда бывают очень неразумны.
Она дотронулась до кото.
— А все — это старая-старая музыка мне затуманила голову… Не надо никому об этом говорить — никому, правда?.. Потому что ведь это стыдно — болтать такие глупости…
Фельз продолжал молча писать.
— Вы никому не расскажете, я знаю… Вашему другу — м-сс Гоклей — это не понравилось бы… Я думаю, что она стала бы меня презирать. А она такая очаровательная… Я в восторге от нее… И так хотела бы быть похожей на нее!..
Фельз отступил на два шага — и торжествующе кистью указал на холст. Портрет — еще неоконченный — уже жил, жил своей собственной, мощной жизнью. И глаза портрета — глаза крайней Азии, глубокие, таинственные, темные, — устремляли на маркизу Иорисака, восторгавшуюся американкой, свой взгляд, полный странной иронии.
XVII
— Скажите, будет действительно неприлично, если вы приедете на «garden party», которую я хочу дать на моей яхте? — спросила м-сс Гоклей.
— О… чуть-чуть!.. Но мне так хочется на ней быть… — ответила маркиза Иорисака.
И приехала.
Везде — где бы ни останавливалась м-сс Гоклей во время своих скитаний по морям — у нее было в обычае задавать на яхте сенсационное празднество. На борт «Изольды» приглашались, соответственно обстоятельствам, дипломатические корпуса или посольства, иностранные колонии, как европейские, так и американские, и местное высшее общество, если таковое имелось. В Нагасаки японской аристократии мало. Это старинный шогунский город. В нем никогда не было местной аристократии. Это город маленьких людей: лавочников, ремесленников, незначительных горожан. Живущие там европейцы и американцы не знаются с туземной чернью, от которой они отличаются не только расой, но и образованием. Таким образом, на «гарден-парти», устроенной м-сс Гоклей, так как губернатор и комендант арсенала не могли прибыть по причине войны, Японию представляла маркиза Иорисака.
От этого, естественно, на нее было обращено особое внимание.
Верхняя палуба «Изольды», простиравшаяся от фок-мачты до задней мачты и расположенная террасой над салонами, была превращена в настоящий сад, с клумбами, лужайкой и большой беседкой из вишневых деревьев в цвету. Сотня рабочих — тех японских рабочих, из которых каждый стоит полдюжины наших по умению и искусству в работе, трудились целую ночь над этим произведением, созданным, казалось, руками волшебника. Тут была даже зеркальная гладь миниатюрного озера с мрамором, туфом и лотосами по берегам, с плавающими в нем чудовищными азиатскими карпами — рогатыми, бородатыми, косматыми… У кормы яхты на эстраде из газона помещался оркестр и балет: двенадцать гейш в темных платьях, игравших на тамбуринах или на японских гудках — так называемых шамисенах, — и восемь майко, блестящих, как радуги, танцевавших — поодиночке или группами — живописные и очаровательные пляски старой Японии.
На фоне этой изящной выставки национальной грации и элегантности выделялась маркиза Иорисака, в туалете из атласа либерти, отделанного венецианским гипюром, и в огромной шляпе из итальянской соломки, с четырьмя страусовыми перьями.
Приглашенные м-сс Гоклей скоро заполнили этот волшебный сад восторженной и шумной толпой. Толпа была преимущественно американская. А даже в Японии — на родине вежливости и утонченности — американец остается тем же, что и везде: довольно-таки грубым варваром. Гости на «Изольде» ходили по клумбам и в виде развлечения ломали низкие ветки цветущих деревьев. Потом, кинув беглый взгляд на танцовщиц, похожих на своем зеленом газоне на больших пестрых бабочек, они спешили спуститься в салоны яхты и начинали осаждать столовую, где помещался буфет.
Несколько групп не так торопились, может быть, не так были голодны, и задержались в розовой тени вишневых деревьев, напротив эстрады гейш и майко. Это были или европейцы, или сливки американского общества: янки из Бостона или Нью-Орлеана. Хотя и балет, и оркестр были для них не новинкой, как и для всех живущих на Дальнем Востоке, но все же эти люди оказывали предложенным развлечениям должное внимание, а хозяйке — должную любезность. М-сс Гоклей сидела на траве и каждому указывала на странный, феерический контраст этого висячего над волнами сада и окружавшего его морского пейзажа. Это была идея Фельза.
— Я подумала, что это будет очень любопытно… — говорила м-сс Гоклей. — Надо смотреть отсюда — и тогда между двумя купами зелени открывается горизонт.
Маркиза Иорисака, чтобы лучше видеть, наклонилась к плечу своей приятельницы. Несколько смущенная шумом и толпой, она инстинктивно искала убежища около единственной женщины, не чужой для нее здесь. М-сс Гоклей, между тем, была очень довольна, что может показать своим гостям японскую маркизу, одетую парижанкой. И она представляла ей всех, кого только успевала. Но для многих бывших там приглашенных туристов, негоциантов, промышленников не было почти никакой разницы между словами «японка» и «дикарка». Многие американцы и даже немцы, которых м-сс Гоклей не без гордости подводила к наследнице древних даймио из Хоки, обращались с ней скорее как с невиданным зверьком, чем как со светской женщиной.
Были, впрочем, и исключения.
Одним из них маркиза Иорисака была как будто польщена.
Три дня тому назад на «Изольде» появился посетитель, попросивший чести быть представленным маэстро Жан-Франсуа Фельзу. Такие случаи бывали очень часто. Множество иностранцев жаждали познакомиться со знаменитым другом м-сс Гоклей, великим художником. Это удовлетворяло и честолюбие м-сс Гоклей. Она заставляла Фельза принимать посетителей и получала свою долю восхищения, когда Фельз, всегда старавшийся как можно скорее отделаться от непрошеных гостей, предлагал своим поклонникам представить их владелице яхты, от чего они никак не могли отказаться. Среди таких посетителей попадались люди всякого сорта, но главным образом любопытствующие. На этот же раз поклонник оказался личностью значительной. Это был не кто иной, как итальянец очень знатного рода, принц Федериго Альгеро, из генуэзских Альгеро. А м-сс Гоклей, очень усердно изучавшая Готский календарь, хорошо знала, что у принцев Альгеро в роду насчитывается три дожа среди предков. Она как следует оценила такого высокорожденного сеньора, тем более, что принц Федериго оказался человеком очень красивым и безупречно изящным.

Получив приглашение на «гарден-парти», он не преминул явиться. Когда его представили маркизе Иорисака, он почтительно склонился перед ней, как сделал бы это перед самой знатной дамой в Италии, и очень церемонно поцеловал ей руку.
— Я только что из Токио, — сказал он. — И там я имел честь слышать о вас, маркиза, две недели тому назад, на празднике вишневых деревьев, у ее величества императрицы.
Он говорил на очень чистом английском языке, но скоро, убедившись, что маркиза знала по-французски, перешел на французский:
— Я уверен, маркиза, что вы предпочитаете французский язык английскому, но вы должны бы были предпочитать итальянский язык.
— Почему?..
— Потому что каждый народ предпочитает говорить на своем родном языке, то есть на том, который создался по образу и подобию его характера и его гения. Между английской нацией и японской такая огромная разница, что вам, наверно, приходится делать усилие, чтобы переводить на английский язык вашу японскую мысль. Для французского перевода вам уже нужно меньше усилий… а для итальянского вам почти не понадобилось бы их — Италия и Япония очень схожи между собой.
— Схожи?.
— Да. Вы, как и мы, обладаете смелостью, рыцарственностью, учтивостью и утонченностью. Кроме того, и наши, и ваши поэты воспевали одинаковую любовь: героическую и нежную.
Маркиза Иорисака слушала молча и улыбалась.
— О!.. — сказал принц Альгеро, — я знаю, о чем вы думаете, — и вы правы… Это верно, что наши поэты главным образом воспевали страсть влюбленного к возлюбленной, а ваши — по привычке Азии — страсть влюбленной к возлюбленному. Но что из этого?.. Это только доказывает, что у нас и у вас не на одни и те же плечи легла бесполезная ноша стыдливости…
Он посмотрел прямо в глаза ласковым и жгучим взглядом.
— Поэтому было бы особенно интересно, если бы японка позволила полюбить себя итальянцу.
И он начал довольно искусный флирт.
Большинство приглашенных теперь рассыпалось по всей яхте, осматривая все, включая каюты, с бесцеремонностью людей, не бывших моряками и неспособных понять, что судно — частное жилище, некоторые помещения в котором так же интимны, как уборная или спальня.
Фельз, ненавидевший подобные вторжения, сразу затворился у себя. И там, запершись на все замки, он открыл таинственный картон, скрывавший от непосвященных глаз уже законченный портрет маркизы Иорисака в костюме японской принцессы былых времен. Смотря на эту маркизу, он утешался тем, что не видит другой — маркизы, переряженной в европейскую женщину.
В одном из салонов были расставлены карточные столы. Бридж и покер соединили своих поклонников. В европейском квартале Нагасаки очень много играют, как и в европейском квартале Шанхая, или Кобе, или вообще везде на Дальнем Востоке, где европейцы наживаются и скучают. Игра велась довольно серьезная. Женщины и даже молодые женщины, смешавшись с мужчинами, придавали ей азарт, играя без всякой умеренности или осторожности. Золото и банковые билеты сыпались на зеленое поле.
М-сс Гоклей тем временем покинула свою лужайку и повела к буфету тех из приглашенных, которые не пожелали расстаться с ней. Маркиза Иорисака приняла предложенную ей принцем Альгеро руку.
— Право, мне нет прощения… — говорил принц. — Вы, наверное, умираете от жажды, но в разговоре с вами я совершенно не заметил, как пролетело время!..
И он чуть заметно прижал к себе маленькую ручку, лежавшую на его локте.
Совсем прирученная, маркиза Иорисака смеялась не без кокетства.
Приблизился метрдотель.
— Бокал шампанского… — предложил принц.
— Пожалуйста… только с водой… побольше воды… и льда…
Он сам приготовил ей смесь. Она попробовала:
— О!., но вы совсем не прибавили воды?..
— Прибавил… только немного… м-сс Гоклей не позволила мне больше. И потом, маркиза, такая европейская женщина, как вы, не станет же здесь разыгрывать японку и требовать воды или чая?
Она засмеялась и выпила. Принц тайком подбавил виски в шампанское.
М-сс Гоклей подошла к ним.
— Митсуко, моя милочка, как я счастлива, что вы здесь!.. Не правда ли, — м-сс Гоклей обратилась к принцу, как бы беря его в свидетели, — как она хорошо сделала, что отбросила в сторону нелепые старые правила и приехала на мою «гарден-парти», как если бы маркиз был здесь и привез ее сам?
Принц согласился. При этом спросил:
— А маркиз Иорисака на войне?
— Да. В Сасебо. Он скоро вернется со славой, и я уверена, что он будет только доволен, когда узнает, что в его отсутствие жена вела такую же свободную и приятную жизнь, как любая женщина в Америке или в Европе. Да, он будет доволен, потому что он вполне цивилизованный человек. И я хочу сейчас же выпить за его победу над этими русскими варварами…
Разносили коктейли с имбирем. Маркизе пришлось взять бокал из рук самой м-сс Гоклей.
Принц Альгеро опять взял под руку маркизу.
— Конечно, — сказал он, — офицер, имеющий счастье быть на поле действия, не потерпит, чтобы его жена тосковала, пока он выигрывает битвы…
— Прекрасно сказано! — одобрила м-сс Гоклей.
И приказала подать еще коктейлей.
Немного позже маркиза Иорисака, которой окончательно завладел принц Альгеро, вошла в игорный салон.
С некоторого времени она чувствовала какое-то головокружение. Ей было очень жарко, как в лихорадке. Ею овладела странная веселость, иногда вырывавшаяся на волю неожиданными взрывами смеха. И теперь, когда она ощущала на своей обнаженной руке ласковое пожатие мужской руки, на которую она опиралась, она отвечала на него.
Японские дамы иногда отведывают национальный напиток — саке. Но саке — такая сладкая жидкость, что ее пьют, как мы пьем глинтвейн — в горячем виде, чашками. Мужчина за вечер может свободно выпить две-три дюжины таких чашек. Американские коктейли далеко не так безобидны… да и французское шампанское тоже, когда в него добавят немножко спирта…
Между столиками, за которыми играли в бридж и в покер, несколько космополитических игроков организовали баккара. Баккара без банкира — так себе, маленькую «железную дорогу», которая приятно катилась по зеленому полю и по пути опустошала руки неосторожных игроков, доставляя справедливую прибыль игрокам опытным. В ту минуту, когда вошла маркиза Иорисака, картежный азарт притягивал к столику с баккара общее любопытство. Партия как раз подошла к тому моменту, когда игра перестает быть развлечением и становится борьбой. Две молодые женщины — немка и англичанка, одна, сидя с картами в руках, другая, стоя и понтируя, нападали друг на друга над большой кучкой банковых билетов, лежавших на столе. Англичанка проиграла пять раз подряд. Ее пять удвоенных ставок и составляли эту толстую пачку, которая, по правилам игры, в шестой раз вся должна была стать обязательной ставкой, если игра продолжалась.
Иронически и слегка задорно немка считала:
— Пятьдесят, сто, двести… Здесь четыреста иен.
Англичанка упрямо бросила вызов:
— Банко!
Глаза их враждебно впивались друг в друга. Когда их пальцы соприкоснулись, беря карту, казалось, что им хочется оцарапать друг дружку.
— Карта!..
— Восемь.
Пробежал ропот: немка опять выиграла.
Нет ничего более чуждого японке, чем игра в том смысле, как это слово понимается в игре в баккара. Япония из карточных игр знает только нечто вроде тарока, в который играют изящно разрисованными цветами и птицами картами даже молоденькие девушки меж собой, как наши девочки в горелки или прятки.
Маркиза Иорисака, хоть и прожила четыре года в Париже, тем не менее только изредка мельком видела в дипломатических салонах два-три стола, за которыми молчаливо и важно играли в вист.
— Восемьсот иен… — заявила не без наглости немка.
И так как ее побежденная соперница молчала, прибавила:
— На этот раз вы не идете банко?..
Задетая англичанка покраснела. Но восемьсот иен — восемьдесят фунтов стерлингов — сумма кругленькая, особенно для того, кто уже столько же проиграл… У англичанки, очевидно, больше уже не было восьмидесяти фунтов стерлингов, потому что она обернулась к зрителям, по очереди предлагая вступить в пай:
— Кто идет со мной в половину?..
— Вас это интересует?.. Хотите?.. — спросил принц Альгеро у маркизы.
— Да… — ответила она вдруг.
— Маркиза идет в половину, — объявил принц, кладя на стол свой собственный бумажник. Все обернулись к вновь прибывшим: англичанка благодарно взглянула на маркизу, немка — с недружелюбной миной.
Карты уже были сданы.
Маркиза Иорисака взяла карты и протянула их своему спутнику:
— Что теперь нужно делать?
Альгеро взглянул и засмеялся:
— Нужно крикнуть: «девять». Вы выиграли!
И он сам показал карту.
Торжествующая англичанка быстро притянула к себе ставку и отделила четыре билета по сто иен:
— Вот ваша часть, маркиза.
Маркиза Иорисака взяла банковые билеты, шире открыв свои продолговатые косые глаза:
— Четыреста иен, — сказала она увлекавшему ее прочь принцу, — но значит, если бы я проиграла, я должна бы была отдать четыреста иен?
— Конечно.
— Как же?.. У меня с собой столько не было!
— Что ж такого? У меня было… и вы мне разрешили бы одолжить вам? Разве мы с вами не друзья?..
Они были одни в вестибюле, заставленном высокими растениями и отделявшем игорную залу от библиотеки. Принц вдруг наклонился:
— Друзья… и даже… немного больше?
Он прикоснулся губами к маленькому накрашенному рту.
Маркиза Иорисака не рассердилась и не отпрянула от него… Ей становилось все жарче и жарче, и голова у нее делалась то тяжелой, как свинец, то легкой, как пробка. В этом упоительном головокружении после шампанского, коктейлей и баккара — что значил поцелуй?.. Не так уж страшно… К тому же итальянские усы были такие шелковистые… душистые… надушенные какими-то неизвестными, опьяняющими, жгучими духами…
Вдруг оркестр — уже не японский — заиграл вальс. М-сс Гоклей, заботясь о том, чтобы те из ее приглашенных, которые любили танцы, могли бы потанцевать, не забыла струнного оркестра. И последний салон на «Изольде» — нарочно для танцев устроенный — быстро наполнился кружащимися парами.
— Вы должны провальсировать со мной… — потребовал принц Альгеро.
— Но я не умею!..
Наши танцы еще непонятнее для японок, чем наши карточные игры: непонятны и неприличны для них. Япония вовсе не страна, где царит чопорность, но ни мужчина, ни женщина в Японии не отважились бы довести неприличие до того, чтобы обниматься публично, прижимаясь грудью к груди и представляя для чужих глаз бесстыдное зрелище чего-то вроде любовного соединения.
Но тут маркиза Иорисака, которую схватил в объятия принц Альгеро, отбросила еще несколько принципов и без особого сопротивления дала себя увлечь в разнузданный вихрь танца.
— Как обворожительна!.. — подумала м-сс Гоклей, наблюдая с порога бальной залы за тем, как маркиза Иорисака Митсуко вальсировала до потери сознания, растрепавшаяся, пунцовая в объятиях итальянского принца, как маленький фазан из Ямато в когтях большой заморской хищной птицы.
XVIII
Последние лучи солнца, ложившиеся на западные горы над старинной деревушкой Инаса, ударили прямо в лицо Жан-Франсуа Фельзу из иллюминатора.
Он поднялся с кресла, закрыл свой картон с этюдами и осторожно отпер дверь. Вот уже с четверть часа, как звуки оркестра затихли.
— Может быть, эта приятная вакханалия уже кончилась… — выразил надежду Фельз.
И отважился выйти из своего заточения.
Большая часть гостей разъехалась. Несколько избранных, оставленных м-сс Гоклей обедать, оставались и беседовали под вишневыми деревьями, неподалеку от газона, служившего эстрадой для гейш и майко. Фельз сразу заметил — в отдалении от центральной группы — какую-то усиленно занятую флиртом парочку, при виде которой он вытаращил глаза.
Как раз мимо него проходила м-сс Гоклей, только что отдававшая какие-то распоряжения прислуге. Фельз остановил ее:
— Простите — у меня, кажется, помрачение зрения, — сказал он. — Ведь это не может быть маркиза Иорисака — там, облокотилась на перила?..
М-сс Гоклей подняла лорнетку:
— Никакого помрачения зрения… Это маркиза.
Фельз притворился, что чрезвычайно изумлен:
— Как, — сказал он, — разве маркиз возвратился из Сасебо?
— Нет, насколько мне известно.
— Вот как. Так это не он там целует ей ручки?..
— Какой вы смешной! Разве вы не видите, что это принц Альгеро, которого вы сами мне представили?
Фельз отступил назад и скрестил руки.
— Так значит, — сказал он, — вам мало, что вы затащили эту бедную крошку на ваш праздник, что вы ее серьезно и, может быть, даже опасно скомпрометировали, — вам мало, что вы ей, наверно, показали десять тысяч неприличных в ее глазах и возмутительных вещей… Вы еще довершили все, толкая ее в объятия этого итальянца, чтобы он поступил с маркизой Иорисака так же, как с любой кокеткой в Риме, Флоренции или Нью-Йорке?..
М-сс Гоклей, внимательно выслушавшая его, расхохоталась.
— Какое сумасбродство! Я думаю, что вам вредно так долго сидеть взаперти у себя в каюте: вы потом говорите чистейший вздор. Никаких неприличных или возмутительных вещей ей никто не показывал — прошу вас верить этому. А маркиза сама сказала мне, что ничего некорректного в ее присутствии на моей «гарден-парти» не будет. Она приехала по доброй воле… и по доброй воле флиртует. Я нахожу ваше негодование смешным, потому что маркиза вполне цивилизованная женщина, а всякая цивилизованная женщина флиртовала бы совершенно так же на ее месте… Это совершенно невинный флирт.
— Вы правы, — перебил ее Фельз.
Он подчеркнул слово «правы». И повторил:
— Вы правы. Но скажите… уверены ли вы, что маркиза Иорисака «вполне цивилизованная женщина», похожая на всякую цивилизованную женщину? Похожая на вас, например?..
— Почему бы нет?..
— Почему?.. Не знаю. Только она не такова. Не будем допытываться почему, если угодно, это будет короче. Я просто говорю вам, без бесплодных споров или туманных философствований: вы не знаете маркизы Иорисака. И вы страшно обманываетесь на ее счет. Вы воображаете, что она создана по подобию вашему… или этой вашей дурочки мисс Вэн… Нет, это не так. Маркиза Иорисака не носит вагнеровского имени и не пишет своих писем на машинке. Она не надевает черной шелковой рубашки, когда говорит о математической физике. Она не имеет ручной рыси и не разговаривает так, будто читает доклад или реферат… Однако она, правда, — цивилизованная женщина. Может быть, гораздо более цивилизованная, чем вы, но не так цивилизованна, как вы. У вас обеих похожие платья. Но под этими платьями — ваши тела и ваши души совсем не похожи. Вы улыбаетесь?.. Напрасно! Я уверяю вас, что между вами и маркизой — пропасть больше, гораздо больше вот этого Тихого океана, отделяющего Нагасаки от Сан-Франциско. Не добивайтесь же невозможного сближения. И оставьте в покое эту бедную крошку: ей, как японке, нечего делать с вашими американскими… слишком американскими… примерами.
Он говорил несколько нервно. М-сс Гоклей ответила ему сухо — академические прения были ее коньком.
— Я этого не думаю. Я не думаю, что японка так отличается от американки, если они обе получили одно воспитание и образование. Кроме того, я утверждаю, что я знаю маркизу Иорисака, потому что я часто виделась с нею, и мы вели откровенные и увлекательные беседы. Я говорю вам еще, что пропасть между мной и маркизой в настоящий век заполнена благодаря пароходам, железным дорогам, телефонам и прочим замечательным открытиям, которые уменьшили весь мир и сократили расстояние между разными народами. Вот все ваши аргументы и опровергнуты. Да и как вам понимать лучше меня все, что касается маркизы Иорисака?. Она — женщина, а вы — мужчина. А все психологи утверждают, что женщины и мужчины никогда не могут вполне разгадать взаимной психологии…
Фельз опять перебил ее:
— Умоляю вас, не будем заниматься психологией. В этом-деле не при чем большие движения сердца человеческого… Не будем уклоняться. Речь идет о маркизе Иорисака, которая в десяти шагах отсюда позволяет себя не без приятности пачкать человеку, два часа тому назад ей совершенно незнакомому, и с которым она познакомилась у вас. Ну, а с вышеупомянутой маркизой познакомил вас — я. Я, и в доме ее мужа — маркиза Иорисака Садао. Таким образом, я считаю себя, до некоторой степени, ответственным перед вышеупомянутым маркизом за те неприятности, которые могут произойти благодаря вышеупомянутой пачкотне… И несмотря на мои седые волосы, я достаточно молод, чтобы не оправдывать плохого поведения женщины, у которой муж на войне. Вот почему я прошу вас избавить меня от этого подозрительного занятия… да, кстати, и себя самое. Извольте, как только приличие вам позволит, выставить за дверь ваших последних гостей и, главным образом, этого принца Альгеро — лучше бы мне с ним никогда не встречаться… А после этого вы поручите мне проводить домой маркизу Иорисака — как надлежит вечером проводить даму, когда она одна и боится неприятных встреч. Так решено — не правда ли?..
— Так не может быть решено, — сказала м-сс Гоклей.
Она безмятежно начала объяснять:
— Ваши тревоги совершенно нелепы. Это правда, что я вам обязана моим знакомством с маркизой. Поэтому мне хотелось бы исполнить ваше желание, чтобы доказать вам мою благодарность. Но это невозможно. Я удержала принца и маркизу, и еще нескольких человек, чтобы всем вместе пообедать на яхте и приятно закончить вечер. И я даже определенно обещала принцу посадить его за столом рядом с маркизой. Так что я должна сдержать слово… Но чтобы утешить вас, я посажу вас тоже рядом с маркизой — по другую руку.
— Нет, благодарю вас, — сказал Фельз.
Он быстро выпрямился.
— Нет. Я слишком хорошо вас знаю, чтобы настаивать дальше, Но если так, то я сегодня не буду обедать на яхте.
— О, — сказала она с иронией, — я догадываюсь, в чем дело: вы ревнуете! Такова ваша привычка, я не удивляюсь поэтому. Но позвольте вас спросить: к кому вы ревнуете?.. Кого?.. Маркизу к принцу — или меня к маркизе?.. Потому что в вас есть эта специфически французская странность — вы постоянно сердитесь на мою тесную дружбу с мисс Вэн…
Фельз побледнел:
— Разрешите мне, — медленно произнес он, — не отвечать на оскорбительные вопросы. Прощайте.
Она, обеспокоенная, взглянула на него:
— «Прощайте»? Как? Вы действительно не будете обедать?
— Я вам сказал.
— Где же вы будете обедать?
— Не все ли равно где? В городе. За столом, не соединяющим под вашим любезным покровительством маркизу Иорисака и принца Альгеро.
Он поклонился и повернулся к выходу. Она с минуту подумала. Потом быстрым жестом протянула руку и остановила его за рукав.
— Франсуа… прошу вас!.. Не дуйтесь!..
Очень редко м-сс Гоклей позволяла показать, что небезразлично даже для американки, красавицы и миллиардерши иметь возможность держать при себе в клетке и демонстрировать всем желающим прямого наследника Тицианов и Ван-Дейков — Жан-Франсуа Фельза. Но на этот раз она забылась… И правда, этот фантазер Фельз для своей вспышки выбрал удивительно неудачный час: как раз время обеда, которому его присутствие придало бы больший блеск…
— Франсуа… прошу вас… будьте благоразумны! Выслушайте: не могу же я из-за вашего каприза выгнать все многочисленное общество, которое я только что так усиленно приглашала?.. Но мне очень жаль, что я вас рассердила, хотя, право, я не понимаю чем?.. И я вам обещаю сделать все, что вы хотите, чтобы вы меня простили… да, все, что вы ни захотите… завтра же… даже сегодня вечером…
Она пристально смотрела на Фельза, и губы ее полуоткрылись, как бы для сладострастного поцелуя.
Но ее инстинкт настоящей «янки» на этот раз подал ей плохой совет. Фельз был французом. А самый ухищренный из всех искусных развратителей — Вальполь — уже триста лет тому назад отмечал, какую деликатность надо проявлять, чтобы подкупить французскую совесть.
Фельз — только что побледневший — теперь покраснел, как западное небо, и резко вскинулся:
— Черт побери! — сказал он. Не хватает только, чтобы вы предложили мне чек. Но для этого чека… боюсь, вы недостаточно богаты.
Она в замешательстве замолчала. Он продолжал спокойнее:
— Кончим эту сцену. И так она слишком долго длилась. Итак, я в отчаянии, что мне приходится в последнюю минуту извиниться перед вами. Я вернусь завтра — как только я буду уверен, что не встречу больше на яхте эту пару, которую вы соединили, и сочетание которой мне не нравится.
Он говорил серьезно. Она в свою очередь рассердилась:
— Отлично… ступайте!.. Но я должна вас предупредить: вы и завтра не будете уверены… не больше, чем сегодня… очень возможно, что я опять приглашу эту пару… которая так не нравится вам… и очень нравится мне!
— А, — саркастически сказал он, — так «Изольда» становится домом свиданий? Благодарю за предупреждение: в таком случае, я и завтра не вернусь.
— Пожалуйста!.. Если вам так больше нравится. Гораздо лучше вам избыть ваше дурное настроение духа где-нибудь в другом месте. Вы свободны… Если бы вы даже пожелали никогда не вернуться!
Она бравировала, зная, что ее силой была его слабость. И, действительно, он опустил глаза и ответил тихо:
— Я пожелаю вернуться, как только не буду рисковать увидеть то, что я вижу в данную минуту… — он указал движением головы в сторону двух силуэтов, облокотившихся на перила слишком близко друг от друга. — Вы у себя дома. Поступайте, как вам угодно. Но позвольте мне, по крайней мере, не видеть того, чему я не могу помешать.
Он быстро ушел, не глядя на нее и оставив ее раздосадованной и взбешенной.
Солнце село. Темная туча спускалась над морем.
XIX
Сампан, увезший Фельза, причалил к лестнице Таможни. Фельз сошел на землю и, идя на авось, попал на улицу Мото-Каго маши, неизбежный квартал всех туристов и торговцев редкостями. В нее нельзя не попасть сразу, как только отходишь от набережной в глубь города. Проводники и курумайи никогда не забывают заставить вас полюбоваться единственными магазинами со стеклянными витринами на этой улице, появившимися благодаря увлечению новой Японии западными образцами.
Сумерки оставили только узкую алую полоску на небе под другой, чуть пошире, полосой, зеленой, как чудесный изумрудный пояс. Весь остальной небосклон, по-ночному синий, уже переливался звездами. Нагасаки, шумный, беспорядочный, наводненный праздношатающимися, испещренный цветными фонарями, начинал жить своей ночной жизнью. Курумы бежали одна за другой долгими быстрыми
вереницами. Рои мусме прогуливались, смеясь и болтая, заполняя всю улицу странным концертом — звук их высоких голосов и стук их деревянных сандалий смешивались, точно флейты с кастаньетами. Японцы, одни — в европейских костюмах, другие, более многочисленные, — в национальных кимоно, ходили взад и вперед, встречались, раскланивались без давки и толкотни, потому что японская толпа бесконечно учтивее нашей. Лавки и базары переполнены были покупателями, обменивавшимися с купцами тысячью реверансов на четвереньках. Открытые лавчонки выставляли разные странные съестные припасы, и продавцы во все горло распевали похвалу своим товарам. Несколько иностранцев, рассеянных в этой гуще, казались затерянными в ней, как лодки в открытом море. Фельз, задумавшись, медленно шел вперед. Он прошел почти две трети Мото-Каго маши, не зная, в сущности, куда он идет. Но у дверей торговца изделиями из черепахи ему пришлось посторониться, чтобы дать дорогу шести английским матросам, медленно, важно, друг за другом входившим в магазин, вероятно, затем, чтобы купить там японские сувениры — ручки в виде сампаном или чернильницы в виде курум. Фельз окинул взглядом этих людей. Они все были высокие, розовые, белокурые и вносили в японскую толпу такое же настроение экзотики, как, вероятно, внесли бы шесть японских моряков, появившись на Реджент-Стрит. И Фельз вдруг припомнил, что он сбежал с «Изольды», чтобы нескоро туда вернуться, и что он был в Нагасаки и без обеда.
— Однако, — сказал он вслух, — надо же, по крайней мере, организовать это бегство… и поужинать, и лечь спать.
Он посмотрел на примыкающие переулки, взбирающиеся на первый уступ гор. Там, наверху, было предместье Диу Джен Джи и гостеприимный дом с тремя фиолетовыми фонарями, с его курильной, обитой желтым шелком и благоухающей добрым снадобьем… Фельз вспомнил индусскую пословицу, известную во всей Азии: «Кто курит опиум — избавляется от голода, от страха и от сна».
Но тут же он покачал головой.
— Если я постучусь к Чеу Пе-и, я там останусь на всю ночь, и к рассвету трубки меня так основательно утешат, что жизнь будет мне представляться в розовом свете, и я вернусь в мою клетку в настроении все принять и со всем согласиться. Нет!.. Только не это.
Он обернулся и поглядел на кишевшую народом улицу.
— Поужинать… лечь спать… Очень просто. Отелей сколько угодно. Но со мной нет ничего, а мне совсем не хочется посылать на яхту за ночной рубашкой. Нет, мне нужно какую-нибудь чистенькую деревенскую гостиницу, со служанками-прачками, где путешественникам дают на ночь кимоно. Такие есть.
Он вспоминал разные сельские «чайя» и «йядойя»
[20], куда его приводили по разным случайным дорогам и тропинкам скитания предшествующих недель. Весь остров Киу-Сиу не что иное, как огромный сад, самый очаровательный, самый цветущий, самый гармоничный на всей земле. Три лучезарных пейзажа в три мгновения прошли перед глазами Фельза: ущелье Хими, переливающееся всеми красками, роскошнее любой швейцарской долины, водопад Куаннон, с его черными кедрами и рыжими кленами, и восхитительная терраса Моги, возвышающаяся над совершенно средиземноморским заливом посреди двух совершенно шотландских гор.
Жан-Франсуа внезапно сделал знак проезжавшей мимо порожней куруме.
Человек-лошадь поспешно подвез свой экипаж к тротуару.
— Моги!.. — сказал Фельз.
— Моги?.. — повторил изумленный курумайя.
Действительно, туристы редко выбирают темную ночь для своих экскурсий в окрестности. А в Моги особенно: дорога туда очень трудная, и расстояние, по крайней мере, в два «ри», т. е. от восьми до девяти наших километров.
— Моги!.. — стоял на своем Фельз.
Философ по профессии, курумайя, раз он удостоверился, что правильно расслышал, — больше не спрашивал.
Но когда легкая повозочка покачнулась и двинулась, Фельз, припомнив, что ему нужно было написать письмо и что, кроме того, он еще не обедал, велел остановиться у ближайшего европейского ресторана.
Он пообедал, написал письмо и, опять садясь в куруму, повторил свое первоначальное приказание:
— Моги!
Второй курумайя присоединился к первому, как обыкновенно для далеких и утомительных поездок. Ночь была свежая. Фельз закутал ноги в шерстяное коричневое одеяло, углубился в подушки поуютнее и смотрел на звезды. Повозочка, которую быстрой рысью везли четыре голые желтые и мускулистые ноги, уже миновала линию предместий и катилась по пустынной дороге.
Луна — почти в зените — сияла на ночном небе, светлая, как полумесяц из белого нефрита в темных волосах мусме. А кругом нее жемчужные облака, гонимые ветром, плыли, беспрестанно меняясь и преображаясь. Фельз следил глазами за их фантастическим полетом, как за волшебной картиной, нарисованной ветром, раскрашенной луной. На звездной декорации неба медленно двигались бледные и нежные образы, и их смутные очертания, их движения казались таинственными отражениями других очертаний, других движений — настоящих и живых, которые совершали несомненно в эту минуту какие-нибудь живые существа где-нибудь под непогрешимым зеркалом небес…
Три большие птицы — аисты или журавли — вдруг прорезали Млечный путь, перелетая на широко развернутых крылах с восточных гор на западные. Но Жан-Франсуа Фельз не видел их.
Жан-Франсуа Фельз закрыл глаза, им овладело странное наваждение: ему чудилось, что большое белое продолговатое облако перед ним похоже на полуобнаженную женщину, раскинувшуюся на кровати. Два других облака — совсем близко к ней — вырисовывались, как будто еще две женщины, сидящие слишком близко к первой.
XX
Чеу Пе-и, возлежавший на трех циновках в своей благоуханной курильной комнате, докуривал шестидесятую трубку, когда прислужник в шапочке с алебастровым шариком
[21] приподнял дверную завесу и, кланяясь, согласно правилу, низко опустив голову и потрясши сложенными кулаками на высоте лба, обратил к господину мольбу — удостоить принять послание, только что принесенное чужестранцем.
Чеу Пе-и держал левой рукой бамбуковую трубку, головку которой коленопреклоненный около него ребенок поддерживал над лампадой. Чеу Пе-и не прервал своего занятия и не пошевельнулся. Но безмолвно закрыл глаза в знак согласия.
Через минуту дверная завеса опять приоткрылась, и вошел личный секретарь, очень старый человек в шапочке с шариком из точеного коралла
[22].
Верный приличиям, он сперва сделал движение, как будто хотел упасть ниц. Но Чеу Пе-и любезно остановил его.
Стоя личный секретарь передал послание. Это было европейское письмо в запечатанном конверте. Чеу Пе-и бросил на него беглый взгляд.
— Распечатай, — вежливо попросил он, — и разреши мне утрудить тебя и побеспокоить: одолжи мне твой свет.
Присутствующие слуги немедленно удалились, согласно предписываемой скромности. Остался один ребенок, приставленный к трубкам, ибо опиум — превыше всех ритуалов.
Секретарь, почтительный и проворный, уже рылся в своем кушаке и, вынув стилет, вскрыл конверт.
— Я покорно повинуюсь, — прошептал он, — приказу Та-Дженн.
Он развернул письмо. Его косые глазки еще сузились.
— Благородные буквы, — заявил он, — принадлежат к тому языку, на котором говорят фу-ланг-сэ (французы).
— Прочти их согласно твоей науке, — сказал Чеу Пе-и.
Личный секретарь когда-то сопровождал в Европу чрезвычайного посла. И его французский язык не уступал языку Чеу Пе-и.
— Я покорно повинуюсь, — повторил он, — благородному приказу.
И начал своим сиплым голосом, непривычным к западным звукам:
«Письмо неразумного Фенна к его старшему брату, Чеу Пе-и, весьма мудрому и весьма престарелому, великому ученому, академику, вице-королю и члену государственного совета.
Совсем маленький до земли кланяется своему старшему брату. Он спрашивает у него, с десятью тысячами поч-тений, о состоянии его здоровья и берет на себя смелость послать ему это незначительное письмо.
Совсем маленький решается вслед за этим сообщить своему старшему брату о своем решении, хотя внезапном, но строго обдуманном. Написано в «Лиун Иу»: «Если Империя хорошо управляется, то Император лично устанавливает обряды и музыку.»[23] Совсем маленький, именно сегодня, с горечью испытал, какое бесчестие жить в государстве, где обряды позабыты, музыка негармонична, а увещевания напрасны. Написано в книге Менг-Тзы: «Взявший на себя какую-либо обязанность, если не может выполнить ее, должен удалиться.»[24] Совсем маленький в той стране, где он жил до сей поры, силился уберечь еще целомудренную женщину от слишком опасных примеров, а супруга ее — от незаслуженного позора. Но усилия тщетны. И совсем маленький, не в силах выполнить взятую им на себя обязанность, принял решение — удалиться. В некотором расстоянии от этого города — в пятнадцати «ли» по измерению Срединной Империи — находится местечко Моги. Совсем маленький решил удалиться туда и провести там несколько дней. Совсем маленький умоляет своего старшего брата, весьма мудрого и весьма престарелого, извинить его, если в течение этого времени он не будет стучаться в гостеприимную дверь, над которой висят три фиолетовых фонаря.
Человек слабый, но искренний и поступающий по велениям своего сердца иногда удостаивается высокой милости — не считаться презренным созданием. В этой надежде совсем маленький взялся за свою неумелую кисточку и позволил себе направить к своему престарелому и знаменитому брату неизящные и лишенные мудрости слова. За что и молит смиренно простить его.
Совсем маленький мог бы много еще сказать. Но не осмеливается, уверенный, что и так слишком уже утомил своего весьма старого брата. И потому совсем маленький замыкает свое сердце и лишает себя возможности выразить все чувства, переполняющие это сердце».
Личный секретарь кончил читать.
Чеу Пе-и докурил свою трубку, отложил в сторону бамбук, прислонился затылком к кожаной подушечке и, подняв к фонарям потолка правую руку, смотрел, как лиловый свет переливается на его неимоверно длинных ногтях.
— Хо… — сказал он задумчиво.
Взглянул на ребенка, который растапливал каплю опиума над горячим стеклом лампадки, и стал думать вслух, короткими китайскими фразами:
— Гуэй, из Лиу-Хиа, недостаточно оберегал свое достоинство
[25]. И вождь колесницы Ванг-Лянг не взял его за образец. Следует одобрить Ванг-Лянга. Однако даже самые незначительные народы знают, что красивые дороги далеко не ведут…
[26] Нужно мне подумать об этом. Нужно мне подумать и направо, и налево…
[27]
Мальчик приклеивал к головке трубки разогретый достаточно опиум. Чеу Пе-и взял бамбук в левую руку и закурил. Когда последняя темная частичка испарилась, он очень серьезно произнес:
— Человек, отправляющийся в тягостное путешествие, часто забывает свое сердце за дверью…
Он без перехода вдруг разразился смехом. Китайские начертания «син» (сердце) и «менн» (дверь), если их известным образом расположить одно под другим, составляют третье слово, значение которого — «меланхолия, грусть». Чеу Пе-и, утонченный ученый, радовался своему ученому каламбуру. Но посмеявшись, он опять перешел на поучительный тон:
— Потому человек, остающийся, должен по-братски оберегать это забытое сердце и заботиться о нем.
XXI
Прислуживающая мусме — нэ-сан — в красивой одежде, опоясанной лиловым атласным кушаком, с изысканной прической, точно из полированного черного дерева, мелкими шажками прокралась в закрытую комнату и с шумом спустила шоджи с бумажными оконницами.
Жан-Франсуа Фельз, спавший на полу на циновках между двумя шелковыми стеганными на вате ф'тонами, вскочил и выпрямился, закутанный в огромное белое кимоно с синими разводами.
Уже в открытое окно виднелось море, еще по-ночному темневшее под небом, на котором бледнели звезды. Но на горизонте начинали вырисовываться дальние горы Амакуза и Шимабара. Рождалась заря.
— Рановато… — пробормотал Фельз.
Он просил, чтобы его разбудили как раз к восходу солнца. Но в гостинице, наверно, не было часов. Кроме того, нэ-сан, спустив последний шоджи — причем старалась изо всех своих слабых сил и прищемила себе пальчики — опустилась перед путешественником на колени с улыбкой такой невинной и такой вежливой, что Фельз счел бы малейший упрек со своей стороны непростительной грубостью. И так как она, очевидно, ожидала его приказаний, он собрал все свои познания в японском языке, чтобы спросить, чисто из вежливости:
— Фуро га декимашита ка?.. (Готова ли ванна?..)
Вполне уверенный, что в такой ранний час он услышит в ответ:
— Мада декимасен!.. (Еще не готова.)
Что и случилось.
Тем временем очень быстро волнистый хребет восточных гор начал все чернее выделяться на светлевшем все больше небе. Заря, странно внезапная и властная, прогоняла рассвет. Показались облака — сперва голубоватые, а потом сразу точно окровавленные, как будто какой-то воздушный меч рассек их. И вдруг все цвета: и алый, и серый, и голубой, — растаяли в чистом золоте. Море засверкало, играя блестками розовой меди и голубой стали. И, внезапно появившись над берегом и над морем, восходящее солнце засияло над всей империей — и казалось, что вся империя затрепетала от радости. Фельз отвернулся, ослепленный. По-прежнему стоя на коленях перед ним, маленькая служаночка жадно смотрела на лучезарное зрелище. Фельз видел в косых глазах быстрые отблески эмблематического светила… И это казалось отблеском таинственной гордости в смиренных японских глазах…
— Ванна высокородного путешественника готова!..
Это вошла вторая нэ-сан и упала ниц у дверей. Третья, за нею, просунула приветливую мордочку. И все вместе торжественной процессией повели Фельза к традиционной ванне всех деревенских «йядойя» — огромной деревянной лохани, наполненной почти кипятком.
Под очень внимательными, но совершенно невинными взглядами трех мусме высокородный путешественник сбросил свое белое с синим кимоно, перешагнул через обитый железом край лохани и уселся в ней на корточки. Его крупное тело белого человека на три четверти заполняло бак, сделанный по мерке японских тел вполовину меньшего объема. Его светлая и прозрачная кожа краснела под горячей водой. Обнаженный, он благодаря своей стройной и сильной фигуре казался совсем молодым, несмотря на серебряные кудри и бородку.
Любопытные три нэ-сан приближались к нему, вытягивали пальчики и осторожно прикасались к этой необыкновенной белой коже, чтобы увериться, что она такая на самом деле, а не накрашенная. И из трех крашеных ротиков сыпался милый детский смех.
Стены гладкого дерева сверкали такой чистотой, что можно было подумать, что их только вчера отстругали. Балки потолка казались совсем новыми. Синее кимоно — как только было сброшено на землю — было сейчас же заботливыми лапками поспешно поднято и унесено в стоявшее всегда наготове корыто для стирки. Другое кимоно, лиловое на этот раз, свежевымытое и благоухающее, ожидало, чтобы высокородный путешественник накупался как следует в горячей воде. Мусме уже развернули прекрасную мягкую креповую ткань и поднимались на цыпочки, чтобы дотянуться до надлежащей высоты…
Когда Жан-Франсуа Фельз вышел из ванны и завернулся в свежевымытое и благоухающее лиловое кимоно, ему показалось, что он ощущает на своих плечах реальное и осязаемое приветливое объятие старой Японии — учтивой, простой и здоровой…
XXII
Вокруг Моги все дороги похожи на аллеи парка. Фельз, пройдя куда глаза глядят с полчаса, повернув спину морю, очутился в конце густо заросшего, извилистого ущелья у опушки бамбуковой рощи.
Небо было ярко голубое, и солнце припекало. Фельз увидел срубленный ствол на краю дороги и присел.
Место было подходящее для усталого путника. Фельз, любуясь расстилавшимся у его ног видом, не мог припомнить, чтобы где-нибудь еще ему встречалась более гармоничная и улыбающаяся картина. Перед ним было небольшое ущелье между двух холмов. Но вся японская грация и изящество, казалось, соединились на этих лужайках и в этих рощицах, для того чтобы создать сад, несравненный сад, какого бы не смог нарисовать или распланировать никакой французский или английский художник. Лужайки свежего дерна поднимались террасами одна над другой, отделенные живыми изгородями или оградами из туфа. Цветущие кусты чередовались с пурпурными буками, коричневыми камфарными деревьями и гигантскими кедрами, с которых гирляндами сбегали вниз целые каскады глициний. Вершина холма округлялась в форме женской груди и увенчивалась античным портиком из двух древних колонн и каменной балки. Под ним спускалась лестница — таинственные пропилеи исчезнувшего храма.
— Чудесно то, — пробормотал про себя Фельз, — что ведь это вовсе не сад, а просто-напросто хорошо обработанная и доходная земля. Эти лужайки — рисовые поля. Эти цветники — огороды. Рощи служат для защиты от августовского солнца и октябрьских ветров. А водопад питает канал орошения.
Он оперся локтями о колени и положил подбородок на руки.
— В Европе такие поля были бы совсем некрасивы… Но земледельцы этой феерической страны непохожи на наших. Я думаю, что они просто не в состоянии были бы водить свой плуг, если бы раньше все вокруг них не было бы приготовлено, расположено, рассчитано так, чтобы радовать их артистический глаз…
Он прислушался. Над его головой бамбуки пели на ветру… Это были бамбуки в виде деревьев, какие растут только в Японии: гуще лип и выше наших тополей, но с такой тонкой и подвижной листвой, что наши ивы или березы даже не могут идти с ними в сравнение.
В бамбуковом лесу солнце проникает сквозь листву почти свободно, несмотря на густую плотность стволов и сплетения ветвей. И сама их тень нежна, легка и ясно прозрачна…
Фельз, не шевелясь, упивался несказанной нежностью этого места и этого часа. Перед ним по дороге проезжала курума шагом. В ней развалилась небрежно хорошенькая мусме. На ней была серая одежда, а ее оби был пунцового цвета на фиолетовой подкладке. Зонтик со множеством ребрышек, который вертела хорошенькая янтарного цвета рука, веер, большая ветка цветущего дерева, сорванная по дороге, дополняли грациозную картинку экипажика, скрывшегося между бамбуков, как большая пестрая бабочка среди высокой травы.
— Право же, право, — подумал Фельз, — было бы слишком жаль, чтобы все эти японские безделушки, такие изящные, такие драгоценные, были растоптаны московскими сапогами!..
XХIII
Вот уже пять дней как Жан-Франсуа Фельз жил по-японски в японской гостинице в Моги. И ему не нужно было больше времени, чтобы стать самому совсем японцем.
Та деревенская, хотя по-своему очень изящная жизнь, которую он вел в этой старинного образца «йядойе», была для него очаровательной переменой после полной всяких сложностей жизни на американской яхте. С другой стороны, он покинул «Изольду» под влиянием вспышки гнева и негодования, для успокоения которых был как нельзя более полезен пасторальный покой, окружавший его теперь.
Жан-Франсуа Фельз не принадлежал к числу любовников, пришитых к юбке своей возлюбленной. И, прежде всего, он совсем не любил Бетси Гоклей. Он желал ее, он подчинялся ей, он не мог освободиться от своего рабства. И иногда ему нужны были ее поцелуи — как глоток воды жаждущему. Перешагнув за пятьдесят, мужчины, когда им хочется пить, обыкновенно привыкают утолять свою жажду из одного и того же источника… Но в этой чувственной потребности — во всех отношениях похожей на аппетит — не было места для нежности, а только для презрения. Каждый вечер, после долгих прогулок, чайных домиков, легких обедов из риса и сушеной рыбы, изысканной болтовни с окрестными мусме, когда Фельз, за своими спущенными шоджи, укладывался между двумя ф’тонами из стеганного на вате шелка, — он чувствовал, и может быть довольно болезненно, острый укус желания во всем своем вдруг охваченном страстью теле… Но здоровая усталость после целого дня на свежем воздухе, после ходьбы заменяла ему наркотические средства. Воздержание в течение пяти суток еще не очень невыносимо.
Итак, за пять дней Фельз в достаточной мере стал японцем. На шестой он окончательно ояпонился…
Этот шестой день начался с довольно сильной грозы, с порывами урагана, ливнем и раскатами грома. Потом пошел дождь, и задул ветер, так, как они умеют это делать в мае месяце на острове Киу-Сиу, служащем любимым местом свиданий для весенних тайфунов. Сразу стало холодно, и в хибаши пришлось разжечь уголья, так как после вчерашнего горячего солнца казался особенно сырым и холодным влажный воздух. Над заливом стоял серый туман, и лиловые горы Шимабара и Амакуза совсем исчезли из глаз. Горизонт приблизился, низкое небо и потускневшее море слились в одно — разделявшая их линия пропала.
Фельз, глядя на залитые дождем поля и уже мокрые дороги, предвкушал неизбежную скуку долгого одиночества в своей пустой комнате, плохо согреваемой хибаши. Но он забыл об японской учтивости. Три нэ-сан, как только высокородный путешественник вылез из своей ванны-лохани, торжественной процессией проводили его в комнату. И так как высокородный путешественник не выразил желания немедленно сменить на европейский костюм утреннего кимоно, в которое его облекли, три мусме вежливо уселись на корточки на циновках и наперебой начали стараться развлечь его беседой одновременно и шутливой, и изысканной…
С японскими девчурками нетрудно болтать и даже флиртовать: высокородный путешественник довольно посредственно объяснялся по-японски, но его собеседницы соперничали между собой — кто его лучше поймет. Самые большие трудности были преодолены, и разговор шел об отсутствии солнца, о несносном дожде, о холоде, о бурях, об облетевших вишневых деревьях, лишенных своего розового наряда, —
со всеми пристойными случаю оттенками сожаления, негодования, беспокойства, страха и грусти.
Фельз слушал, отвечал, соглашался, а главным образом рассматривал довольно близко самую хорошенькую из трех мусме — очень миленькую, хоть и полненькую, куколку, круглые и свежие щечки которой представляли забавный контраст с задумчивыми глазами и скромной улыбкой. Такие глаза, такая улыбка на личике гостиничной горничной в Европе могли бы удивить. Но в Японии часто маленькие работницы и смиренные крестьянки похожи на переодетых принцесс…
— Конечно, — размышлял Фельз, — когда маркиза Иорисака играла на кото, у нее были другие глаза… Но маркиза Иорисака редко играла на кото.
Он закрыл глаза. Потом, стряхнув с себя воспоминания, принялся решительно ухаживать за мусме: расспрашивал об ее имени, возрасте, обращая к ней все известные ему японские комплименты. Заметив это, две другие нэ-сан под искусными предлогами поспешили скромно стушеваться. Ибо на Дальнем Востоке, как и на Дальнем Западе, служанка гостиницы по профессии обязана оказывать много таинственных услуг высокородному путешественнику, удостоившему отметить ее среди товарок…

Оставшись наедине с О-Сетсу-Сан — она называлась О-Сетсу-Сан (весьма целомудренная девица), Фельз, боясь показаться невежливым, должен был воспользоваться случаем и прибегнуть к обычной манере обращения…
Как подобает благовоспитанной молодой особе, О-Сет-су-Сан сопротивлялась ровно столько времени, сколько полагалось: не слишком мало, не слишком много. И приключение закончилось, как кончаются тысячи приключений, декорацией которым служит запертая на ключ комната, а актерами — мужчина и женщина, искренно намеренные избавить друг друга от всякого лишнего неудовольствия и унижения…
Полулежа на циновках, Фельз, облокотившись о пол локтем, молча разглядывал свою минутную любовницу, молчаливо, как и он, стоявшую перед ним.
Она, даже отдаваясь, сохраняла редкий такт и умеренность. А приводя себя в порядок, она приняла очаровательную позу, полную истинной стыдливости и милой простоты.
— Она называется О-Сетсу-Сан… — думал Фельз. — И, в сущности, она просто маленькая проститутка. Но мне кажется, что японки всех классов — не исключая и этого — заслуживают названия «О-Сетсу-Сан».
Он продолжал разглядывать ее, безмолвный и неподвижный. Она призадумалась — желая угодить ему: чего он хотел? Надо ли ей смеяться или оставаться серьезной?.. Она решилась на полузадорную, полунежную гримаску и на робкую ласку протянутых к нему маленьких ручек…
Теперь они разговаривали. Осмелев, она возобновила прерванную болтовню; она предлагала ему один за другим те неизменные вопросы, которые задают своим любовникам, приехавшим из-за морей, все желтенькие, смуглые или черные девушки, которые — все равно где на земном шаре — отдают приезжим улыбку своих уст и объятия своих обнаженных рук.
— Откуда вы родом?.. Как называется ваша родина?.. Отчего вы покинули ваш далекий дом?.. Женщины, которых вы любили там, наверно, гораздо красивее и умнее, чем я…
Фельз в свою очередь расспрашивал ее. Где она родилась? Кто были ее родители? Было ли у нее много любовников? Много друзей? Много подруг? Была ли она счастлива? На каждый вопрос она отвечала сперва поклоном, потом длинной фразой, цветистой и большей частью уклончивой. А иногда замолкала после первого слова и смеялась, покачивая головкой, как бы говоря, что все это неважно и что радости и горести простой нэ-сан не стоят того, чтобы заниматься ими.
— Распахнутая одежда — замкнутая душа! — промолвил Фельз. — Вот бы что перевернуло мораль наших порядочных женщин, всегда готовых открывать свои самые интимные отношения. В Европе стыдливость служит только для внешнего употребления, тогда как здесь…
Он улыбнулся, припомнив цитату из Че-Кинга
[28], которую приводил Чеу Пе-и: «На свою одежду из вышитого шелка она надевает простую тунику».
— Да!.. Такова была старинная китайская мода. Эти нэ-сан еще следуют ей. В других местах шелк носят сверху.
Но все же самые замкнутые души иногда приоткрываются — когда случайно нажмут на их потайную пружинку. Фельз в течение беседы вдруг упомянул город Осаку, где шесть недель тому назад стояла «Изольда». И умненькая и осмотрительная маленькая девочка забылась до того, что вся вздрогнула:
— Э?.. Осака?..
Фельз вопросительно поглядел на нее.
Она объяснила, несколько сконфуженная:
— Я была в школе в Осаке…
Потом, помолчав, прибавила:
— Когда моя мать меня продала, я очень горевала.
Ее личико незаметно изменилось. Печаль затуманила узкие глаза, косая морщинка легла от уголка рта к крылышкам ноздрей. Но в ту же минуту удивительным усилием воли она прогнала скорбную гримаску, ее твердо и решительно заменила улыбка.
Фельз взял ее детскую, еще хорошенькую руку и не без почтения поцеловал.
— Видел я, — думал он про себя, — древние китайские лаки, работа над которыми стоила художнику десять лет жизни. И я восхищался этими лаками. Но вот эта улыбка на личике маленькой служанки — сколько прячется за ней веков цивилизации древнего народа.
Чеу Пе-и — чуть не сказал он вслух, — вероятно, думает, что эту цивилизацию необходимо спасти — любой ценой…
Конверт был продолговатый, очень узкий и запечатанный воском. Фельз, сломав печать, вынул листок шелковистой бумаги, сложенный в десять или двенадцать раз» Он разворачивался, как папирус, и письмо, продиктованное по-французски, было не столько написано, сколько нарисовано китайской тушью и кисточкой, рукой, очевидно, более привычной выводить знаки Конфуция, чем западный алфавит. Таким образом, развернутый во всю длину свиток этого странного послания походил на коленкоровые полоски, на которых у нас печатают под ярко раскрашенной картинкой какие-нибудь народные песенки, куплеты и припев.
Фельз прочел:
«Письмо невежественного Чеу Пе-и к Фенн-Та-Дженну, великому ученому, высокому сановнику знаменитой Академии государства Фу-Ланг-Сэ.
Ваш младший брат, Чеу, кланяется вам до земли. Он с десятью тысячами почтений осведомляется о вашем здоровье и берет на себя крайнюю смелость — отправить вам это письмо.
Ученик Тсенг-Си, отвечая Тзы[29], выразил пожелание: «В конце весны, когда наряды лета будут уже вытканы и сшиты, хотел бы я с моими мечтами отправиться омыть руки и ноги в теплых струях реки И, вдохнуть свежего воздуха под деревьями У-ию, спеть там стихи и вернуться — вот чего хотел бы я.» И Тзы ответил со вздохом: «Понимаю чувства Тиена».[30]
В этот год Ша[31], в третий месяц весны[32], мой старший брат, Фенн-Та-Дженн, исполнив обряды, отправился с мечтами своими омыть руки и ноги в теплых струях, вдохнуть свежего воздуха под деревьями и спеть стихи. Теперь надлежит ему вернуться, чтобы последовать осторожному слову ученика Тсенг-Си.
Не следует в первый месяц лета соблюдать правила, приличествующие третьему месяцу весны.
И полезно перечитать поучение, написанное в Ли-Ки: «В первый месяц лета не отправляют на войну великое множество людей: тогда владычествует Иен-Ти — император Огня».
Подумайте об этом, подумайте направо и подумайте налево. В презренном домишке, дверь которого освещается тремя фиолетовыми фонарями, появились послы, принесшие вести с моря. И ожидаются еще послы.
Я много бы вам еще мог сказать[33], но решаюсь окончить это письмо, не выразив всех моих чувств. И совсем маленький ожидает с нетерпением вашего приезда».
Шоджи были открыты, и ветер свободно проникал в комнату. Залив казался бурным и мрачным. С силою разбивались пенившиеся волны. Фельз в раздумье два раза перечитал письмо.
— Скверная погода, — подумал он. — Это хвост тайфуна… Что бы там ни говорил календарь Чеу Пе-и, до лета еще далеко: у нас всего 28 мая.
Он сосчитал по пальцам;
— Да, 28 мая… И это 28 мая очень смахивает на 28 марта… Все равно: надо опять снаряжаться в путь… Все это требует пояснений…
Он хлопнул в ладоши. Немедленно дверь скользнула в своей выемке, и маленькая О-Сетсу-Сан распростерлась на пороге:
— Э?..
Хотя в течение последних трех суток нэ-сан каждую ночь приходила к Фельзу с постоянством нежной супруги и дозволяла тогда себе все самые супружеские вольности, вне его постели она сохраняла тщательно свою роль прислужницы. И первый его зов находил ее всегда наготове, проворную, улыбающуюся и покорную.
— Мне нужно… — сказал Фельз.
Он остановился: ему интересно было проследить за выражением ее лица. Огорчится ли эта крошка, так внезапно и неожиданно узнав, что ее любовник уезжает? «Ойран» из Иошивары, даже совершенно равнодушные, всегда цепляются и удерживают за рукав ночного гостя: это составляет часть кодекса благоприличий.
— Мне нужно, — повторил Фельз, — куруму и двух человек. Сию же минуту, потому что я немедленно хочу ехать в Нагасаки.
— Э!..
Нэ-сан все еще стояла на четвереньках. Она так быстро наклонила головку, чтобы поклониться ему до земли, что Фельз не успел ничего прочесть в черных глазах. А когда она встала, чтобы мелкими шажками побежать к двери и исполнить приказание господина, ее личико уже приняло то выражение, которого требовала вежливость: она улыбалась покорно, как раз с достаточным оттенком грусти — не больше и не меньше, чем полагалось.
Нэ-сан вышла. Фельз в ожидании ее возвращения занялся приготовлениями к отъезду, состоявшими в том, что он снял кимоно из мягкого крепа и надел вместо него крахмальную рубашку, брюки из грубого сукна и пиджак с узкими рукавами.
Одевшись, он поглядел в окно. Дождь перестал, но ветер продолжал гнать по небу тяжелые тучи, готовые вот-вот пролиться на поля. Несмотря- на это, несколько девочек храбро бегали и играли на воздухе, и их деревянные сандалии оставляли углубления в мокром песке. Старшая из них во весь голос распевала старую детскую песенку:
Сузмэ, сузмэ, доко итта?..
(Птичка, птичка, куда летишь?..)
Сенгэ яма э сакэ номини.
(Лечу на гору Сенгэ, чтобы выпить там сакэ.)
Но му тча ван, но му статс…
(Выпью чашку, выпью две…)
— Их отцы или братья, может быть, бьются сегодня против Рождественского или против Линевича, — подумал Фельз. — Но когда японцы сражаются, японки умеют петь… Так поступала героиня Сидзуко, когда герой Иошитс’нэ, изгнанный, блуждал в опасном уединении фиолетовых гор, «там, где бродят одни дикие кабаны…»
[34]
О-Сетсу-Сан, возвратившаяся уже, опять распростерлась на пороге.
— Курума высокородного путешественника готова!
— Прощай, — сказал Фельз.
Он нагнулся к маленькой склоненной фигурке, приподнял ее с земли и почти с нежностью прикоснулся губами к ее свежему ротику.
Ободренная малютка спросила:
— Куда вы едете?
— Фельзу хотелось испытать:
— На войну!
— Э!.. На войну!..
Нежные черные глазки блеснули.
— На войну с русскими?
— Да.
Мусме гордо выпрямилась. Фельз, наблюдавший за ней, вдруг спросил:
— Ты хотела бы поехать со мной?..
Ответ вылетел с быстротой пули:
— Да!.. Хотела бы!.. Я хотела бы умереть… и семь раз снова родиться… и семь раз отдать мою жизнь за империю!
[35]
XXV
Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг.
Нельсон и Бронт.
На адмиральском корабле пробили четыре склянки — десять часов, согласно морскому международному правилу. И на всех судах, по всей линии, с первого до последнего, откликнулись и перезвонились такие же склянки. Эскадра — вице-адмирал, контр-адмирал, две дивизии, шесть броненосцев — медленно шла на восток. Небо было низкое, задувал свежий ветер, бурное море и горизонт затянуты были туманом. С правого борта остров Цусима вырисовывался серой громадой. Большая волна разбилась о ветер, и соленые брызги долетели на ют «Никко»
[36].
Маркиз Иорисака, ходивший взад и вперед, остановился, чтобы вытереть глаза: ему прямо в лицо попала соленая влага. Потом возобновил свою молчаливую прогулку.
Ют, в форме закругленного треугольника, был широкий, длинный, ровный, с убранными поручнями.
Это, собственно, была платформа и цоколь большой башни. Два орудия, одинаковые, как близнецы, показывали из двойной амбразуры свои горизонтально лежащие дула, похожие на две упавшие Трояновы колонны.
Проходя под одним из орудий, маркиз Иорисака поднял руку, чтобы ласково дотронуться до звучного металла, отозвавшегося на его прикосновение, как бронзовый гонг, если его чуть тронуть пальцем.
В эту минуту кто-то коснулся плеча маркиза совершенно так же, как он дотронулся до металла орудия.
— Ну что, дорогой мой, какие новости?
Маркиз обернулся и отдал честь по-английски.
— А! Это вы, кими! Как поживаете!
Капитан Герберт Ферган был в своем английском мундире и курил оксфордскую трубку. Он только сменил свою фуражку с золотым галуном на ту зюйдвестку, которая в ходу в дурную погоду у всех моряков мира.
— Очень хорошо, благодарю вас, — сказал он. — Что, видно что-нибудь?
Он указал по направлению к южному горизонту. Маркиз Иорисака сделал отрицательный жест:
— Слишком далеко. Они еще к югу больше, чем за шестьдесят миль от Мамесеки… Но подвигаются. Мы сосредоточиваем флот… Там Камимура и Уриу… — он указал на юго-восток. — Все будет готово к двенадцати часам. Нам ждать еще час.
— Вы вошли в контакт с противником этой ночью?
— Да, перехватили его беспроволочные телеграммы. Кроме того, с «Шинано-Мару» его видели. Он был в квадрате 203 на параллели Сасебо, в восьмидесяти милях к западу. Носом к проливу. О!.. Он двигается… В эту самую минуту его должна обстреливать эскадра Катаоки… Но отсюда не слышно. Да и потом… бомбардировка с крейсеров — это не в счет.
Он опять погладил рукой огромное орудие броненосца, под которым стоял, калибром в 305 миллиметров.
— Эти скорее в счет? — спросил Ферган.
— Э! Я тоже так думаю.
Маркиз Иорисака говорил совершенно спокойно. Он даже не нервничал, как нервничал бы самый храбрый европеец накануне решительной битвы.
— Ну, — сказал Ферган, — я уверен, что все пройдет отлично. Конечно, первые минуты будут не из приятных… Русские — люди храбрые. Но вы большего стоите — особенно теперь. Без лести: вы за последние недели добились огромных успехов.
— Благодаря вам… — сказал Иорисака и поглядел на своего собеседника с безупречным выражением благодарности.
Ферган слегка покраснел:
— Нет! Уверяю вас, вы преувеличиваете. Истина в том, что вы вели свою игру прямо великолепно. Вы сумели заполучить всех тузов и всех козырей… и по справедливости должны выиграть роббер. Хороший роббер: эта победа решит всю игру. Если Рождественский проиграет здесь, то завтра у нас будет большой шлем с Линевичем в Маньчжурии.
— Э! Хотел бы я, чтобы это оказалось верно…
Оба прошли несколько шагов, раздвигая ноги и сгибая колени, чтобы противостоять качке. Броненосцы продолжали идти на восток.
Цусима теперь был виден во всю длину, в профиль, на восемь или девять миль позади них. Он казался только железно-серым туманным пятном под свинцово-серыми облаками.
— Не похоже что-то это все на Трафальгарское солнце… — заметил с улыбкой маркиз Иорисака.
— Нет, — сказал Ферган. — Но при Трафальгаре солнце спряталось, как только битва была выиграна, и вечером была буря. Может быть, эта битва уже заранее выиграна?
— Вы слишком хорошего мнения о нас, — возразил маркиз.
Высокие трубы время от времени выпускали густые клубы черного дыма, которые ветер спешил растерзать в клочья. Море, уже потемневшее, длинными зловещими полосами отражало дым.
Английский капитан прислонился к башне.
— Вы сейчас запретесь в этот ящик, Иорисака? — спросил он. — Это ваш пост во время боевой тревоги?
— Да. Я командую башней.
— Я приду к вам туда в гости, если разрешите.
— Вы мне окажете большую честь. Рассчитываю на вас. А! Вот и Камимура.
Он указал на показавшиеся на горизонте другие трубы, появляющиеся из морской дали по две и по три, еще едв*> различимые. Но вскоре стали видны мачты и корпуса. Две эскадры, идя навстречу одна другой, склонялись на юг, чтобы соединиться и выполнить тактическое развертывание перед боем.
— Мы будем в голове, разумеется? — спросил Ферган.
— Разумеется. Вы читали приказ? В одну линию, броненосцы впереди, бронированные крейсера сзади. Стрелять будут по всем двенадцати судам одновременно. И будьте спокойны! На этот раз мы не повторим 10 августа…
Он потупил глаза. Улыбка его стала напряженнее, в уголках губ точно затаилась какая-то горделивая горечь. Он медленно продолжал:
— Мы больше не будем робки… Мы будем сражаться на самой близкой дистанции к неприятелю. Так близко, как только возможно. Урок выучен.
Он вдруг поднял глаза и пристально взглянул на Фергана:
— Мы теперь знаем, что для того, чтобы побеждать на море, надо сперва приготовляться осторожно и методически, но потом кидаться в бой с ожесточением, безумно… Так поступали Родней, Нельсон и француз Сюффрен. Так поступим и мы.
Герберт Ферган отвернулся. Он не отвечал и, казалось, следил с необыкновенным вниманием за ходом бронированных крейсеров, вступающих в строй.
Тяжело проползла минута молчания…
— Вы извините меня? — вдруг спросил маркиз Иорисака. — Я вижу, что наш друг виконт Хирата делает мне знаки. Некоторые технические вопросы…
Герберт Ферган немедленно перестал наблюдать за эволюцией судов, которая, однако, далеко еще не была закончена:
— Но прошу вас!.. Конечно, идите… Да и мне надо вниз. Пора завтракать. Обедать, может быть, придется поздно. Кто знает?..
XXVI
— Значит, башни будут приводиться в действие посредством электричества?
— Да, до тех пор, пока моторы могут двигаться. В случае аварии мы перейдем на гидравлическое управление и в крайнем случае — на ручное. Таков приказ.
— Будем почтительно повиноваться.
И виконт Хирата Такамори, отдав честь сначала по военной дисциплине, приложив пальцы к козырьку фуражки, поклонился затем по обряду самураев и даймио, согнув туловище под прямым углом и приложив ладони к коленям.
— Теперь разрешите мне удалиться.
Он направился к выходу. Маркиз Иорисака Садао задержал его:
— Хирата, вы не очень торопитесь? Еще нет двенадцати часов. Побеседуем немного?
Хирата развернул веер, который он носил в рукаве:
— Иорисака, вы оказываете мне большую честь. Поистине, я не смел злоупотреблять вашим временем: такова была причина моей скромности. Но я польщен вашим снисхождением. Скажите же мне, что вы думаете об этом мелком дожде, похожем на расстаявший туман? Не думаете ли вы, что он может повредить нам во время сражения?
Маркиз Иорисака рассеянно поглядел на туманное и бурное море:
— Возможно… — промолвил он.
Потом внезапно круто повернулся лицом к собеседнику:
— Хирата, простите мою невежливость: я хотел бы задать вам один вопрос.
— Удостойте сделать это;.. — отвечал Хирата.
Он закрыл свой веер и наклонил голову вперед, как бы для того, чтобы лучше прислушаться к словам маркиза. Маркиз Иорисака заговорил медленно, очень серьезным и откровенным тоном:
— Позвольте мне сперва напомнить вам: наши семьи хоть и неоднократно враждовали в древние века, но еще чаще сражались бок о бок во время гражданских или внешних войн. Еще недавно — я говорю об эпохе Великой Перемены — отцы наши вместе взялись за оружие, чтобы восстановить во всем его блеске могущество империи. И хотя потом это воинское братство нарушилось, во время событий при Кумамото
[37], все же кровь, пролитая в эти славные дни, не помешала нам двенадцать лет спустя подружиться, с того самого дня, как мы одновременно поступили на службу к императору.
— Пролитая кровь, Иорисака, если только она не взывает к отмщению, всегда скрепляет союз двух домов, свято соблюдающих «Бушидо».
— Это так. И мы были с вами, Хирата, подобны двум пальцам на одной руке. Но теперь, мне кажется, что это больше не так. Ошибаюсь я или
нет?.. Я заклинаю вас открыть мне ваши чувства без стеснения.
Виконт Хирата поднял голову.
— Это так, — просто сказал он.
— Ваша искренность драгоценна для меня, — невозмутимо продолжал маркиз Иорисака. — Простите же мне, если я на нее отвечу вам подобной же искренностью. Хотя при всех обстоятельствах вы продолжали выказывать мне внимание, которого я недостоин, хотя никто не мог бы заподозрить ни в ваших словах, ни в вашем поведении этого охлаждения нашей дружбы, мне невозможно выносить дальше даже тайного унижения. Поэтому я решил сегодня же с этим покончить. И я прошу вас почтительно объяснить мне, в чем я провинился перед вами. Вот мой вопрос.
Они пристально смотрели друг другу в глаза, оба неподвижные, стоя одни посреди юта, заливаемого дождем и брызгами.
Над головами их два орудия простирали свои огромные дула. А вокруг стонало и ревело море, жестоко бичуемое ветром, и вздымало валы свои.
Виконт Хирата ответил еще медленнее, чем говорил маркиз Иорисака:
— Иорисака, у нас — общие воспоминания. Будьте уверены, что они не изгладились из моей памяти… Но разрешите мне в свою очередь кое о чем напомнить вам… Вы упомянули о Великой Перемене. Точно, в эту славную эпоху, начало эры Меджи, ваш клан и мой вместе обнажили мечи за Микадо против Шогуна. Но не забыли ли вы первой причины этой борьбы?.. Дело шло не о верности династии. Ни один Шогун никогда не узурпировал существенных прав божественных императоров, сынов богини Солнца
[38]. А в течение семисот лет слабую волю Микадо подчиняли своей сильной воле принцы Фудживара, Таира, Минамото, Ходжо, Ашикага, Токугава. Что же такое произошло, что вдруг столько благородных людей решили разрушить семивековые установления?.. А вот что было, Иорисака: за пять лет до этого черные корабли, пришедшие из Европы, бомбардировали Кагошиму, и Шогун вместо того, чтобы сражаться, заключил позорный мир. Такова была истинная причина. Япония съела оскорбление, но не запила его местью, и тогда она, как один человек, поднялась против Шогуна, десять тысяч раз повторяя крик: «Смерть иностранцам!.. Смерть иностранцам!» Так кричали наши предки, Иорисака. Это кричали они на поле битвы, пока Микадо не был восстановлен во всем своем первоначальном могуществе. Это кричали и мои предки. Это кричали они еще в красный день Кумамото, когда, в негодовании на новую власть, такую же ничтожную, как и старая, они пошли за Сайго, обещавшим им смыть общий позор победой или смертью. И этот клич повторяю я еще и теперь. Потому что я — законный наследник этих трупов. Их погребальные таблички никогда не расстаются со мной, они зашиты в моем кушаке. Вот уже тридцать лет, что я живу на свете, я живу одной надеждой: воздать этим табличкам должное возлиянием крови. И вот час настал! Иорисака, простите мне эту длинную речь. Я не сомневаюсь, однако, что она вполне удовлетворила вас. Вы ни в чем передо мной не провинились… Да и что в сущности может для вас значить мнение какого-то ничтожного даймио, лишенного всякого разума?.. Но я открыл вам мое сердце, и вы читали в нем, как в книге, напечатанной прекрасными, очень четкими китайскими знаками. Я ненавижу иностранца всеми силами души. Вы раньше также ненавидели его, теперь вы его полюбили. Разве вы не переняли постепенно всех его нравов, вкусов, идей, самого языка, наконец, на котором вы без конца разговариваете с этим английским шпионом, нашим так называемым союзником?..
Я далек от дерзости, порицать вас. Все, что вы делаете, несомненно, так и следует делать… Но наши противоположные чувства вырыли между нами пропасть, и заполнить эту пропасть не смогло бы ничто.
Виконт Хирата умолк. Маркиз Иорисака не сразу ответил ему. Он выслушал до конца, не моргнув глазом, не отведя ни на минуту взгляда. В конце концов, после долгой паузы он быстрым движением руки обвел весь горизонт к югу, утопавший в тумане и дыме, и небрежным тоном спросил:
— Хирата, вы ничего там не видите?.. Если я не ошибаюсь, уже звонили 12 склянок… Да. В таком случае эти вертикальные облака не что иное, как дым из русских труб… Вот и иностранец, Хирата, иностранец, которого, по-вашему, вы так сильно ненавидите.
Он улыбался. Его полузакрытые веки суживали его глаза и превращали их в две черные косые щелки.
— Иностранец, которого, по-вашему, вы так сильно ненавидите… Кстати, Хирата… вы ознакомились с секретными приказами?.. Тактика странно изменилась — не находите ли вы?.. Особенно во всем, что касается артиллерии…
— Да.
— Да… странно изменилась… Не будет такого распределения огня, как раньше, огонь будет сосредоточен на головном корабле неприятельской колонны… Кроме того, чтобы застраховать себя от разных несчастных случаев с передачей, отдельным группам предоставлена широкая автономия. Попытка очень рискованна. Может быть, мы и не пошли бы на нее, если бы не сведения из европейских источников — именно английских — не убедили адмирала, что наш риск почти, наверное, обеспечит нам победу. А знаете, кто добыл все эти сведения, Хирата? Кто добился или украл их, силой или хитростью, смело, терпеливо, с большим трудом?.. Я, Хирата! Может быть, вы и ненавидите иностранца так сильно, как вы говорите… Может быть, также, что я люблю его так, как вы думаете. Но может быть также и то, что подобный вам враг для него менее опасен, чем такой друг, как я.
Виконт Хирата нахмурил брови.
— Иорисака, — сказал он, — глупость моя так велика, что, очевидно, я не сумел заставить вас понять истинный смысл моих слов. Конечно, для русского флота вы противник гораздо более опасный, чем я. И никогда мне и в голову не приходило, что вы не исполняете своего долга и не служите с великой пользой намерениям императора. Но вы похожи на искусного фехтмейстера, который убивает, хотя без промаха, но и без гнева… Я буду сегодня убивать хуже вас… Но я буду убивать с опьянением… И моя ярость не может подружиться с вашим равнодушием.
Маркиз Иорисака скрестил руки на груди.
— Неужели же вы думаете, — сказал он почти шепотом, — неужели же вы думаете, что мое равнодушие — не маска, под которой бушует ненависть, может быть, яростнее вашей?.. Хирата, я думал, что ваши глаза умеют лучше видеть…
На этот раз обычное спокойствие покинуло маркиза Иорисака.
— Я думал, что ваши глаза умеют читать в моей душе. Мое ненастоящее лицо было только для европейцев.
Но оно обмануло вас, вас, благородного японца!.. Виконт Хирата, ваши предки пали под Кумамото, и вы помните их и благоговейно храните их погребальные таблички. Но неужели вы не поняли урока, который они вам дали своим поражением и своей смертью?.. Урока терпения и осторожности?.. Урока хитрости?.. Прошли времена, когда битвы выигрывались просто ударами мечей… Чтобы победить иностранца, мы с вами начали ходить в школу. Но наука, которой мы там учились, немногого стоила… Кроме того, мы плохо учились… Наши японские мозги не усваивали европейского способа обучения. И я быстро понял необходимость приобрести сперва европейские мозги — чего бы это нам ни стоило. Я взялся за это… и, может быть, мне это и удалось… не без труда, не без страдания… Но это было нужно для освобождения, для величия империи. Говорю вам, Хирата, десять тысяч раз приходилось мне краснеть от стыда, что для лучшего подражания западной душе мне надо было забывать самые основные правила воспитания даймио. Но я вспоминал тогда больных, которых врачи посылают в грязевые ванны и которые выходят из них излеченными и сильными. Я выхожу сегодня из моей грязи. Я выхожу излеченным от моей былой слабости и достаточно сильным для предстоящей битвы. И я ни о чем не жалею. Но я не ожидал, что, когда исполню свою задачу, мне придется выносить презрение моего прежнего друга.
Глаза виконта Хирата блеснули, и голос зазвучал суше:
— Я уже сказал вам, Иорисака, что о презрении и речи быть не может. Беру на себя чрезвычайную смелость повторить вам это. Я высоко ценю патриотические чувства, руководившие вами. Но вы сами только что сказали, что ваш мозг перестал быть японским, чтобы сделаться европейским. Мой мозг — это грубый мозг, — никогда не сможет сравниться с вашим. Таким образом, чтобы понять друг друга, нам нужно будет делать усилие, которое ни к чему не приведет… А теперь — так как все сказано — не кажется ли вам, что излишне дальше говорить об этом…
— Еще одно слово, — сказал Иорисака Садао. — Осмелюсь вам задать второй и последний вопрос. Хирата, сейчас, здесь, в Цусимском проливе, мы одержим великую победу. Что бы вы предпочли: чтобы эта победа стала поражением, но зато сегодняшние японцы остались бы совершенно такими же, как во времена Кумамото?
— Я слишком невежествен, чтобы ответить вам как подобает, — сказал Хирата Такамори. — Но позвольте смиренно мне в свою очередь спросить вас: убеждены ли вы в том, что мы одержим победу? А если мы будем разбиты… представляете ли вы себе, какими именами нас будет называть тогда Европа, та самая Европа, которую мы бесцельно и смешно обокрали?..
— Да! — произнес маркиз Иорисака. — Европа нас назовет обезьянами. Но мы не будем разбиты.
— Даже сам Иошитс’нэ был побежден. Что если и мы…
— Мы не будем побеждены.
— Верю вам на слово. Мы победим. Но потом?
— Потом?..
— После битвы… После подписания мира… Вы возвратитесь, Иорисака, в ваш дом в Токио. Вы принесете туда свой европейский мозг и идеи, и нравы, и вкусы — европейские. И так как вы вернетесь прославленным героем, то японский народ, соблазненный вашим славным примером, начнет подражать вашим вкусам, нравам и идеям…
— Нет, — ответил Иорисака.
XXVII
По всему судну, от спардека до низов, раздавались звуки японских горнов, резкие и пронзительные. Тревога. Иорисака Садао, подняв трап, вошел в башню.
— Смирно…
Старшина, вытянувшись в струнку, отдал честь, сдвинув каблуки, приложив руку к козырьку. Двенадцать человек прислуги повернули к начальнику двенадцать почтительно улыбавшихся лиц.
— Вольно, — скомандовал Иорисака.
И приступил к краткому, но тщательному осмотру башни.
Это было низкое помещение без окон и дверей, шестиугольной формы, длиною в 10 метров, шириною в 8, все бронированное крепкой сталью. На три четверти его заполняли два орудия, остававшееся небольшое пространство занимали приборы для зарядки и подъемные механизмы, всевозможные гидравлические приборы, трубки от приборов со сжатым воздухом, электрические приборы, вообще вся сложная путаница из железа, меди и стали, необходимая для управления двумя морскими орудиями наибольшего калибра, какой только существует. Шесть сильных ламп накаливания освещали и пронизывали каждый механизм ослепительным резким светом без теней. К нему дневной свет, едва проникавший в кольцеобразную щель двойной амбразуры между броней и орудиями, прибавлял только смутную голубоватую дымку.
Иорисака Садао обошел оба орудия, осматривая все мелочи одну за другой и заглядывая в лицо каждому из людей. Потом, дойдя до средней лесенки, взобрался по трем ступеням и сел на пост управления. Голова его просовывалась в прорез башни, над его броневой крышкой, которая была защищена круглым бронированным колпаком в виде каски. Иорисака Садао, которого этот колпак предохранял от неприятельских выстрелов, тем не менее, мог видеть все поле сражения через три довольно широкие амбразуры, проделанные в колпаке. В то же время ему было удобно сообщаться с комендорами и следить, как действуют орудия.
Усевшись, он наклонился вниз и взглянул на всю башню, неподвижную и словно насторожившуюся.
Необыкновенное ощущение мощи шло от этой огромной машины и от тринадцати людей, составлявших ее живое мясо и нервы. Человек, управляющий этим, поистине держал в своих руках грозу страшнее небесной… Иорисака в приливе гордости крепко сжал кулаки… Потом, быстро овладев собой, спокойный, поднял голову и поглядел в три отверстия колпака, методически, в одно за другим справа налево.
Море все еще бушевало, прозрачное, взрытое, зловещее под плотным саваном тяжелых туч. Ют отсюда казался плотом, который заливали и осаждали волны. Эскадра изменила курс. Теперь она шла к Цусиме — на запад, каждое судно старалось держаться на своем месте и сохранять требуемое расстояние — четыреста метров между судами. Линия тянулась почти на три морских мили, от «Миказы», головного корабля, до «Ивате», последнего судна. «Никко» следовал за «Миказой», «Шикишима» за «Никко», и за этой первой дивизией, которою командовал сам старый Того, в превосходном порядке двигались все остальные — дивизия Камимуры, дивизия Симамуры, все броненосцы, все крейсера, вся живая сила империи. Иорисака Садао наблюдал, как, оставляя за собой пенистую борозду, приближались высокие серые силуэты, унизанные вздымавшимися боевыми орудиями. И флаг Восходящего Солнца, развевавшийся с каждой мачты, словно стряхивал на корабли и на море первые капли славной крови, готовой пролиться.
— Башня влево… Стоп! Башня вправо…
Наводчик, сидевший между двух орудий, не отрывая глаз от своего прицела, нажал на кнопку… Послышалось тихое жужжание электрического мотора, и послушная, как игрушка, гигантская башня повернулась справа налево, потом слева направо и плавно поплыла, унося без шума и тряски в своем движении, как соломинки в потоке, людей, машины, орудия, броню…
Перед глазами Иорисака Садао поплыл горизонт, как бесконечная движущаяся декорация. С правого борта видно было, как приближалась увенчанная своими дымными сутанами еще эскадра крейсеров, очевидно, торопившаяся к своему пункту сражения: наверное, Дэва и за ним Уриу. С левого борта видна была только завеса тумана; неприятеля не было заметно, хотя он должен был уже находиться близко.
Пробили склянки: двойной удар, потом одинарный — половина второго. Трубы пропели три длинных звука, потом кинули два коротких — сигнал: «Приготовиться открыть огонь с левого борта!»
Иорисака быстро передал знаком приказ наводчику. Башня повернулась передней частью к предполагаемому неприятелю.
— Зарядить орудия!
Только бряцанье цепей Галля позволяло заметить, что производится зарядка. Прислуга делала свое дело в полном молчании, движениями на удивление точными и быстрыми. Открылись два жерла — два снаряда исчезли в черном маслянистом отверстии, скользнули два пробойника. Отчетливые звуки отмечали время работы: металлический звон снарядов, толкнувшихся о стенки канала, шелест шелковых картузов один о другой, звонкий стук закрывающихся замков. Иорисака Садао, с хронометром в руке, улыбнулся: 24 секунды — почти рекорд.
— Пусть-ка русские сделают лучше, если смогут!
С этой минуты воцарилось полное молчание. В отверстия бронированного колпака по-прежнему ничего не было видно, кроме моря и тумана. Иорисака Садао перестал поглядывать в них. Он снял свой дальномер и тщательно проверил его. Зеркала стояли не совсем параллельно: он поправил их. Дальномер в башне — это еще неважно… Но что, если дальномеры боевой рубки испортятся, вот как тогда, 10 августа?.. Когда у героя Иошитс’нэ не было меча, он выхватил веер…
Иорисака Садао оставил дальномер и опять поднял голову. Неужели этот туман не рассеется?.. А!.. Вот и новости: на фалах поднялся сигнал, и «Миказа» внезапно взял влево…
Зазвонил электрический звонок. На сигнальной доске зажглись две лампочки. Стрелки повернулись на циферблате. Трубы всей эскадры сразу затрубили, резко и пронзительно.
Иорисака Садао, выпрямившийся на своем посту, скомандовал:
— Готовьтесь сражаться с левого борта! Башня влево… Четвертая скорость.
Башня уже послушно поворачивалась.
— Расстояние — семь тысяч триста метров… Целик: пять делений вправо. Стоп!
Два длинные дула встали, высоко подняв свои железные пасти. Иорисака Садао наклонился, щупая глазами смутную линию, где небо сливалось с морем. Да!.. Там, направо к югу… среди густых туч, застилавших горизонт, показались черноватые силуэты… три, четыре, пять… на правильном расстоянии… семь, восемь… еще… двенадцать, пятнадцать, двадцать, тридцать…
Спокойный голос маркиза не дрожал нисколько.
Зазвонил телефон. Иорисака Садао снял трубку:
— Алло!.. Да?.. Адмирал?.. Передает по радио?..
Он наклонился лицом к канонирам и повторил без комментариев:
— Адмирал передает по радио: «Спасение империи зависит от исхода битвы. Все исполняйте свой долг».
На этот раз спокойный голос чуть дрогнул. Но сейчас же опять зазвучал холодно и сухо:
— Восемьдесят градусов… Цельте в голову линии… Да, влево, в судно с двумя трубами… Внимание…
Иорисака Садао схватил свой дальномер и проверял дистанции, записываемые на сигнальной доске:
— Семь тысяч сто… Шесть тысяч восемьсот… Шесть тысяч четыреста… — Он приостановился на секунду. Там, вдали, на неприятельских судах засверкали молнии: русские открыли огонь — может быть, слишком издали…
Меньше чем в ста метрах от «Никко» взвился кверху огромный столб воды и медленными брызгами падал обратно. Первый снаряд, ударивший море, первый снаряд, который в этот решительный день выпустил Запад против Востока. Иорисака Садао с презрением метнул взгляд в высокий белый призрак, расплывавшийся в воздухе. Немного соленых брызг… и больше ничего. Они плохо стреляют.
— Пять тысяч девятьсот…
Другие снаряды взрывались тут и там посреди волн — все недолеты… Да, русские стреляли очень плохо. Прошла бесконечная минута… Наконец, звук, похожий на жужжание гигантской пчелы, возвестил о перелете… И как будто этот слишком долгий звук был сигналом для ответа: раздался близкий взрыв — первый японский удар…
— Пять тысяч семьсот метров…
Голос безупречно твердый отчеканил каждый слог команды:
— Открыть огонь.
Голубоватая дымка, проникавшая сквозь двойную амбразуру между броней и орудиями, вдруг окрасилась ослепительно красным заревом: из двух напряженно вытянутых пастей сверкнули два чудовищных огня длиною в двадцать метров и красные, как кровь. Страшный толчок потряс башню до основания, как ураган потрясает тростник. Невероятный гром, о котором не мог бы дать понятия никакой другой грохот на земле, словно разорвал воздух, оглушил всех вокруг: люди в течение нескольких секунд были глухи и ошеломлены, точно пьяны. Огромные дула, тяжелые, каждое как несколько сухопутных орудий вместе, откатились назад на три фута и стали на места скорей, чем в руках опытного стрелка барабан револьвера.
Уже голос Иорисака Садао, холодный и ясный, водворял спокойствие и хладнокровие среди прислуги:
— Пять тысяч шестьсот метров… Беглый огонь!
XXVIII
Герберт Ферган сложил ладони коробочкой и зажег папироску. Он вышел из блокгауза, чтобы не загромождать узкую бронированную келью, в которой волновались капитан, офицеры и матросы. Он стоял на мостике без всякого прикрытия, и флегматически наблюдал, как кругом взрывались русские снаряды. Он был храбрый человек. Когда его папироска раскурилась как следует, он взялся снова за свой бинокль и начал изучать два схватившиеся в битве флота. Он наблюдал долго, тщательно. Замечал с профессиональным любопытством каждый признак усталости или отчаяния, проявлявшийся в ком-нибудь из сражавшихся. Тут — пробоина, рухнувшая мачта, разбитые вдребезги надстройки. Там — свалившаяся труба, взорванная башня, снесенная рубка. Очертания кораблей, сначала такие ясные и геометрически правильные, искажались, изменялись, перечеркивались, обрастали обломками и обезображивались… Время от времени Герберт Ферган опускал бинокль, вынимал записную книжку и отмечал в ней какой-нибудь эпизод битвы. Орудия грохотали без перерыва и так сильно, что оглушенные уши уже больше даже не страдали от этого. И только замечая ровные и яркие вспышки огня, которыми «Никко» озарялся как ореолом, Ферган отдавал себе отчет, сколько еще сил в японских орудиях. Наоборот, русские суда пылали уже менее часто — как наполовину сгоревшие дрова уже не в силах давать яркие искры. Герберт Ферган повернулся кругом и окинул взглядом весь горизонт. Две параллельные линии направлялись к востоку: одна — правильная и хорошо маневрирующая, другая — в беспорядке и готовая распасться на части… Так события подтвердили предсказание: Рождественский не «объявил игры» адмиралу Того… Карандаш быстро записал на книжке стенографическими знаками: «2 ч. 35 м., битва выиграна. «Ослябя» с перебитым рангоутом выбывает из строя, «Суворов» приведен в негодность. На «Никко» значительных повреждений нет».
Герберт Ферган, добрый пророк, улыбнулся. Не то, чтобы он так страстно желал японской победы. Самое большее, что он немного менее симпатизировал этим московским мужикам, чем японцам, деликатным гостеприимством которых он пользовался не без приятности… Но, если подумать немного, — ведь флот Того был в сущности английским флотом — флотом, построенным в Англии, вооруженным в Англии, обученным согласно английским методам и принципам. И британское самолюбие было удовлетворено.
— All right… Через час все будет кончено. Но… до тех пор надо дожить.
В эту минуту в двух шагах от него внизу на спардеке взорвался снаряд — шестой или седьмой — разбросав в стороны несколько трупов… Ферган бесстрастно наклонился взглянуть: палуба, только что сиявшая чистотой и полированная, как паркет какой-нибудь залы, представляла из себя хаос бесформенных предметов: смешанных, перепутанных, раздавленных, залитых кровью. Кровь текла всюду. И огонь пожирал человеческие останки. Но вода из пожарных насосов побеждала пламя, и надо всем этим продолжала грохотать торжествующая канонада. Раненый, разбитый, растерзанный броненосец тем не менее победно извергал смерть. И Ферган, бегло окинув взглядом все эти зияющие, но поверхностные раны, повторил фразу, только что вписанную им в свою записную книжку: — «Никко» — значительных повреждений нет!
Когда он произносил последнее слово, мимо него пробежал офицер, выскочивший из рубки, и вежливо, невзирая на отчаянную минуту, извинился, что нечаянно толкнул его.
— Э, Хирата, любезный друг, куда это вы так стремитесь?..
Виконт Хирата уже спускался по лесенке вниз, но приостановился, чтобы удовлетворить любопытство английского гостя:
— Исправить сообщение рубки с баш…
Герберт Ферган не услышал последних слов. Разорвался еще снаряд большого калибра — на этот раз о самую рубку.
Ферган услышал оглушительный шум, увидел туман цвета самой яркой охры, более блестящей, чем солнце… Он тяжело, со страшным усилием поднялся на ноги, ничего не понимая…
Не было ни мостика, ни рубки… На их месте был металл — всюду металл: железо, медь, бронза, смешанные, сплавленные, слитые, металл в виде корпии, клубков, тончайшего кружева… Все это было еще раскаленным от огня, а местами — черным от пепла. Ферган, отдавая себе отчет в том, что снарядом все снесло, уничтожило, обратило в прах; и убиты были все: капитан, артиллерийский офицер, штурманский офицер, их помощники… все… кроме него — Фергана, который был только отброшен сюда, на спардек, в двадцати метрах от взрыва. Он приподнялся, осмотрелся… Рядом с ним лежала в темной луже голова, срезанная чисто, точно острой косой… Она улыбалась, скошенная так мгновенно, что внезапно парализованные мускулы не успели стереть улыбки…
Ферган заговорил, удивляясь, что у его голоса еще был звук:
— Все… да, все убиты… А — нет — еще не все!
Наверху еще раскаленной груды развалин, посреди огня и угля, фантастическим видением встал человек. Держась неизвестно за что, непонятно как, он наклонялся над слуховой трубкой, ведшей в самую глубь судна, туда, где сходятся в одну точку все рупоры артиллерии, рулевого, машинного отделения — ив это зияющее отверстие выкрикивал команду, руководил маневрами, которые выполняли люди внизу, хорошо защищенные и не подозревавшие об ужасном положении того, кто служил им глазами, слухом и разумом — и, под угрозой страшной гибели в раскаленной печи огненной, бесстрастно вел к победе все еще сражающийся броненосец.
— Хирата Такамори!..
Герберт Ферган, еще нетвердо держась на ногах, с изумлением вглядывался в японского офицера, стоявшего на своем ужасающем пьедестале… Взрыв снаряда, очевидно, и его отбросил с разлетевшегося вдребезги мостика. И на его черном мундире виднелись не только отражения пламени, но и пятна крови. Но не успел он упасть — как немедленно нашел в своей чудесной энергии, в гордости расы даймио сверхчеловеческую силу в одно мановение ока стряхнуть оцепенение и инстинктивно кинуться к ближайшему и опаснейшему месту битвы…
Ферган, пристыженный, почувствовал, как ему кровь бросилась в лицо: японец это сделал, тогда как он, англичанин, валялся на полу, ошеломленный, в обмороке… Герберт Ферган внезапно повернулся и пошел, очень медленно и выпячивая грудь, чтобы, в честь Англии, не уступить самообладанию виконта Хирата Такамори.
XXIX
Вы думаете, что он обманут вами: если он притворяется обманутым — кто более обманут — он или вы?..
— Четыре тысячи четыреста метров.
Маркиз Иорисака, пристально всматривавшийся в дальномер, даже не обернулся на стук входного трапа. Герберт Ферган вошел и, чтобы не мешать орудийной прислуге, стоял на самом трапе, не шевелясь и молча.
— Четыре тысячи двести…
Одновременно загремели оба гигантских орудия. Ферган, застигнутый врасплох, зашатался, точно раненый, и ухватился за стенку…
— Четыре тысячи…
После получасовой битвы ничто не изменилось здесь, ничто, если не считать одного из людей — только что еще жившего и теперь уже мертвого. Его труп лежал на стальном полу с размозженной головой. Заводной ключ, сорвавшийся со своего крюка от сотрясения, вызванного попаданием снаряда, размозжил ему голову… Привычные к виду крови, товарищи его только вылили ведро воды на красные останки, чтобы не скользить. И сражение продолжалось, как будто бы ничего не произошло — холодно, безмолвно, упорно.
— Четыре тысячи триста…
Однако сигнальная доска больше не функционировала, и башня — изолированная и автономная — должна была биться наобум, втемную… Иорисака Садао считал себя еще крайне счастливым, имея, как последнюю тетиву на луке свой дальномер, позволявший ему хоть как-то различать сквозь дым и туман изменения дистанции и перемены целика…
— Четыре тысячи пять…
Опять раздался двойной взрыв… Уже не застигнутый врасплох на этот раз, Герберт Ферган наклонился вперед и заглянул в кольцеобразное отверстие амбразуры. Вдали, очень далеко, вырисовываясь как китайские тени на сияющем горизонте, виднелся силуэт русского броненосца — уже изрешеченный щит… Перед ним поднимались то и дело столбы воды, от недолетов. Ферган различил два таких столба выше других и сообразил, что это были снаряды с их башни, которые тоже не долетели.
— Отлично!.. — пробормотал он. — Русские удирают — с них довольно!
И тут же подумал, что установка прицела теперь становится трудной: боевой рубки больше нет, офицера дальномерщика больше не существует — скверные условия, чтобы получить хороший «процент» в момент, выбранный неприятелем для того, чтобы быстро покинуть поле сражения. А неприятель удалялся — это было вне всякого сомнения. В отверстие амбразуры Ферган ясно видел, как головной броненосец изменял курс. Он держал в тыл японцам, надеясь, несомненно, обойти его и скрыться беспрепятственно благодаря туману, все еще державшемуся на море. Но уже Того, мешая маневру противника, сам сворачивал влево. И «Никко», подчиняясь приказу адмирала, вошел в кильватер «Миказы».
— Отбой… Башня влево!
Русские броненосцы находились по обеим сторонам арьергарда. Приходилось сражаться с левого борта. Все условия стрельбы стали совершенно другими.
— Э!..
Двое людей, бросив орудия, кинулись вперед к посту командующего офицера. Ферган инстинктивно кинулся за ними.
Маркиз Иорисака Садао соскользнул на землю — тихо, без крика, без стона.
Но из его страшной раны — в плечо — лились такие потоки крови, что его желтое лицо сразу стало принимать зеленоватый оттенок. Осколок снаряда, очевидно, залетел в одно из отверстий колпака — причем в башне никто ничего не слыхал из-за адского грохота, царившего кругом.
Матросы с помощью Фергана, положили своего командира на пол между двумя орудиями. Он был еще жив. Сделал знак, потом сказал очень тихо, но повелительно:
— На посты…
Матросы повиновались. Ферган остался лицом к лицу с умирающим.
И тут произошла странная вещь.
Немедленно подбежал старшина башни: ему выпадала честь занять освободившийся пост. Он переступил через лежащее на полу тело, наклонился, чтобы поднять выпавший из окровавленной руки дальномер, и, еще не занимая поста, повертел инструмент в руках с видом человека, признающегося в своей неопытности… Ферган, невзирая на свою искреннюю грусть, не мог не улыбнуться.
— Бог знает, как он с ним обращается!..
Вдруг маркиз Иорисака со страшным напряжением приподнял правую руку и дотронулся до старшины. Тот обернулся.
Агонизирующий покачал головой справа налево.
— Нет… не вы…
И уже тускнеющие глаза обратились на удивленного английского офицера:
— Вы!
Герберт Ферган вздрогнул от изумления:
— Как!.. Я?..
Он на секунду задумался, потом опустился около Иорисака Садао на колени и заговорил осторожно, как говорят с больным, когда он бредит:
— Кими, я англичанин… я нейтрален…
Он два раза повторил, отчетливо выговаривая слова:
— Я нейтрален… нейтрален!..

Но вдруг он замолчал, потому что посиневшие губы зашевелились, и из них послышались сперва тихо, как вздох, потом, как хриплый шепот, но потом яснее, тверже — слоги, слова, пение:
«Время вишневых деревьев в цвету
Еще не прошло…
А теперь уж пора лепесткам опадать…
Любовь же тех, кто на них смотрит,
Достигла расцвета страсти!..»
Герберт Ферган слушал, и внезапный холод разлился по его жилам.
Почти уже мертвые глаза не отрывались от него, в них точно сиял отблеск какого-то былого видения…
Голос, ставший тверже от сверхъестественного усилия воли, продолжал:
«Он сказал мне. Этой ночью мне снился сон. Твои черные волосы обвились кругом моей шеи. Как черное ожерелье, обвились они кругом моей шеи и моей груди. Я ласкал их…»
Бледнее самого Иорисака, Герберт Ферган отшатнулся и отвернул голову, чтобы избежать грозного взгляда. Но он не мог не слышать голоса — голоса, который был еще ужаснее, чем взгляд:
«Я ласкал их, они были моими, твоими волосами мы были связаны навсегда, уста к устам, как два лавра, сплетшиеся корнями…»
Голос звучал, как разбивающийся хрусталь. Мало-помалу кровь начала опять приливать к щекам Фергана и понемногу заливала все его лицо румянцем стыда, позора, унижения — той краской, которая бывает от полученной пощечины…
Голос закончил — торопливо, подобно голосу нетерпеливого кредитора, внезапно повелительно требующего уплаты долга:
«И понемногу стало казаться мне — так сливались мы с тобою — что я и ты стали одним, что ты вошла в меня, как мой сон…»
И голос, исчерпав весь запас жизни, умолк. Но взгляд еще упорно преследовал его, в последней вспышке устремляя к нему настоящее приказание — ясное и непреодолимое…
Тогда Герберт Ферган, склонив голову и потупив глаза, повиновался… Из рук старшины он взял дальномер. Взошел по ступенькам и сел на место командующего…
С левого борта показывались один за другим русские броненосцы. Они быстро уходили…
— Джентльмен должен платить долги!.. — пробормотал Ферган.
Он повернул винт дальномера. В окуляр ему стала видна его цель — точная, увеличенная… Флаг святого Андрея показывал свой синий крест на белом фоне флаг* дука. Герберт Ферган, адъютант английского короля, увидел этот флаг — флаг русского царя. Царь и король не были врагами…
— Джентльмен должен платить свои долги, — мрачно повторил Ферган.
Он откашлялся. Его голос прозвучал хрипло, но отчетливо и решительно:
— Шесть тысяч двести метров… Восемь делений налево… Открыть огонь…
В молчании, предшествовавшем двойному взрыву, под лесенкой послышалось чуть заметное движение. Маркиз Иорисака кончил свою борьбу со смертью — скромно, прилично, по всем правилам благопристойности. Впрочем, перед тем, как замолкнуть навсегда, его уста произнесли два японских слога — два первых слога имени, которого он так и не договорил.
— Митсу…
XXX
С вершины той груды обломков и развалин, что оставалась от мостика и рубки, снесенных одним и тем же снарядом, виконт Хирата Такамори в последний раз нагнулся к отверстию, ведущему к центральному посту, и выкрикнул последний приказ — приказ, оканчивавший день и окончательно превращавший сражение в победу:
— Прекратить огонь!
— На главной мачте «Миказы» флаг Того веял и сверкал, подобно сияющей радуге в конце грозы. На небе — среди еще темных туч — открывался голубой просвет в форме летящей крылатой богини…
Оглушительный крик перелетал с корабля на корабль скорее, чем северо-восточный шквал, когда его гонят осенние муссоны: торжествующий крик победившей Японии, крик восторга и торжества древней Азии, навсегда освобожденной от европейского ярма:
— Тейкок банзай!..
— Вечная жизнь империи!..
Хирата Такамори стоя трижды повторил этот крик. Потом, сухим ударом развернув веер, который так все время и оставался у него за рукавом, окинул все кругом — с севера на юг и с востока на запад — взором невыразимой гордости. Час для этого был действительно подходящий и опьянял больше, чем десять тысяч чашек саке… Тридцать три года — с тех пор, как его мать разрешилась им — он, Хирата Такамори, сознательно, бессознательно ли, жил только в ожидании этого часа. Но для того высшего опьянения, которое теперь заставляло его задыхаться и топило его точно в море чистого алкоголя, тридцать три года ожидания не были слишком долгим сроком:
— Тейкок банзай!..
Крик смолкал на минуту и снова усиливался и разрастался. Мимо броненосцев прошло посылочное судно «Тат-сута» — на мостике офицер, стоя с рупором, повторял каждому дневной приказ:
«Великие добродетели императора и невидимое покровительство императорских предков даровали нам полную и решительную победу. Всем, исполнившим свой долг, — поздравление».
В эту самую минуту солнце, разорвав тучи и туман, появилось на западном горизонте, почти касаясь его.
Оно появилось красное, похожее на чудовищный шар цвета огня и крови, который катит Небесный Дракон по лазурным долинам, — подобное ослепительному диску, царящему в центре императорского знамени, — и величаво стало погружаться в море.
Хирата Такамори провожал его взглядом. Оно было как бы эмблемой японской родины, посылавшей свой последний луч, свою последнюю ласку на поле сражения, где только что пролито было столько крови во имя величия этой японской родины… И вдруг аллегория стала еще яснее, еще значительнее: русский корабль — побежденный, разбитый, охваченный пожаром… далеко на западе — умирал в агонии. Внезапно солнце озарило этот разоренный остов, эту тень, готовую исчезнуть, — и набросило на него саван из пурпура и золота… Сломанные мачты, покосившиеся трубы, разбитый, обезображенный корпус — зловеще вырисовались на лучезарном фоне светила. Хирата Такамори узнал этот умирающий корабль. Это было «Бородино», одно из ближайших к «Никко» судов, с которыми шло сражение…
Солнце окончательно погрузилось и исчезло в море. И в то же время исчез и корабль…
Хирата Такамори повернулся, чтобы идти. «Татсута» приблизился к «Никко» и офицер окликнул его:
— Ночью — действовать по усмотрению. Встреча завтра утром в Матсусиме.
— Есть, — ответил Хирата.
— Адмирал желает знать имя офицера, который принял командование после разрушения рубки.
— Это я… виконт Хирата — Хирата шишаку!..
Он не сказал своего имени и только повторил фамилию и титул, чтобы все его предки имели справедливую долю в почести, оказанной их потомку.
Оба судна уже отдалялись друг от друга.
— Виконт Хирата, — крикнул офицер с «Татсуты», — имею удовольствие передать вам особую благодарность адмирала и его намерение отметить вас в своем донесении божественному императору.
Виконт Хирата, не отвечая, склонился до земли. Когда он поднялся, «Татсута» был уже вне досягаемости.
Горнист проходил по палубе. Хирата Такамори позвал его и отдал приказ играть вечернюю зарю.
— Перенести мертвых на ют… со всем почетом.
Ночь быстро надвигалась. Зажгли огни. Хирата Такамори, на время сложив с себя обязанности командира, ушел с мостика и обошел опустошенные проходы «Никко». Электрические провода были попорчены, но удалось установить временную проводку, и почти везде освещение действовало нормально.
В конце своего обхода Хирата Такамори дошел до юта и, сделав два поклона по древнему обычаю, осмотрел убитых…
Их было тридцать девять. Их положили в два ряда, одного около другого, под двойным дулом гигантских орудий-близнецов. Они спали там — их растерзанные тела были собраны и останки зашиты в мешки из серого холста: их спокойные лица улыбались под лунным светом. Два квартирмейстера с фонарями в руках освещали каждого покойника в лицо. Молодой мичман почтительным тоном делал перекличку. Сперва он прошел мимо трех пустых мешков: останки капитана и двух старших офицеров так и не были найдены.
Перед четвертым мешком мичман назвал:
— Капитан Герберт В. Ферган.
Хирата Такамори наклонился. Английский офицер был ранен осколком снаряда ниже подбородка — в горло. Сонные артерии были перерезаны и совершенно разрушен спинной мозг.
— Где он был убит? — спросил Хирата.
— В 12-дюймовой башне.
— Э!.. Умереть везде можно.
Это было единственное надгробное слово над Гербертом Ферганом.
Перед пятым мешком мичман произнес:
— Лейтенант Иорисака Садао.
Хирата Такамори остановился как вкопанный, открыл рот, чтобы что-то сказать — и замолчал.
У мертвого маркиза Иорисака Садао были широко открыты глаза. И казалось, что они еще смотрят… прямо перед собой — прямо через жизнь — смотрят презрительно, гордо, торжествующе…
Быстро, неровными шагами виконт Хирата прошел один за другим оба рада спокойно спавших мертвецов…
Мичман, отдав честь, хотел удалиться. Виконт удержал его, назвав по имени:
— Наримаза, не сделаете ли вы мне честь зайти в мою каюту?..
— Почтительно готов сделать это, — ответил поспешно мичман.
Они спустились вместе. По знаку виконта мичман присел на колени. Циновок не было — современные правила не разрешали их на военных кораблях: они слишком легко воспламенялись. Но Хирата бросил на пол два бархатных четырехугольника.
— Простите мою невежливость, — сказал он, — я позволю себе при вас отдать распоряжения на ночь прежде всего…
— Умоляю вас, — ответил мичман.
Вошли старшины, которым виконт передал приказы. Когда все удалились, Хирата Такамори взял кисточку и начертил на двух страницах своего блокнота несколько сот красиво выведенных знаков.
— Простите мне, — опять сказал он, — но все это было необходимо.
Он вырвал исписанные страницы и протянул их мичману.
— К тому же, это — для вас… если вы удостоите оказать мне милость быть исполнителем моей последней воли.
Пораженный, мичман взглянул на своего начальника.
— Да, — сказал Хирата Такамори. — Я, Наримаза, сейчас покончу с собой. И буду вам крайне обязан, если вы, принадлежащий к очень благородному дому хороших самураев, будете любезны оказать мне помощь при харакири.
Молодой офицер больше не удивлялся и остерегся задать какой-нибудь нескромный вопрос.
— Вы оказываете мне и моим предкам несказанную честь, — просто ответил он. — Я очень счастлив, что могу служить вам.
— Вот мой меч… — сказал Хирата.
Он вынул из лакированных ножен великолепный древний меч, рукоять которого была из кованого железа в форме дубовых листьев. Он обернул клинок в шелковую бумагу и протянул меч мичману Наримазе.
— Я в вашем распоряжении, — почтительно сказал мичман, принимая меч.
Хирата Такамори опустился на колени напротив своего гостя и заговорил по правилам учтивости.
— Наримаза, так как вы удостаиваетесь служить мне секундантом в этой церемонии, то надлежит, чтобы вы узнали ее причину. Сегодня утром, во время беседы, которой почтил меня маркиз Иорисака, мой слабый рассудок побудил меня произнести некоторые слова, неприличие которых я понял сегодня вечером. Я думаю, что предпочтительно будет смыть эти слова кровью.
— Я не буду противоречить вам, если таково ваше мнение.
— Так значит вы будете добры подождать, пока я приготовлю все, что надо?
— Со всем почтением.
Нечто вроде маленькой уборной примыкало к каюте. Виконт Хирата удалился туда, чтобы облечься в установленную обрядом одежду.
Он возвратился.
— Поистине, — сказал он, — я смущен: вы слишком далеко простираете вашу любезность.
— Я только совершаю свой долг, — сказал Наримаза.
Виконт Хирата опять опустился на колени рядом со своим гостем. Теперь он держал в руках кинжал, обернутый, как и меч, в шелковую бумагу.
Он улыбнулся.
— Для меня большая радость, что я могу сегодня умереть по своей доброй воле, — сказал он. — Победа наша так окончательна, что империя может легко обойтись без одного из своих подданных — а тем более без такого бесполезного.
— Я поздравляю вас, — сказал мичман. — Но позвольте мне не согласиться с вашей скромностью. Я, напротив, думаю, что ничем нельзя было бы вознаградить ту потерю, которую понесет империя, если бы вы только не завещали нам безупречного примера — он останется и будет жить среди нас.
— Я весьма обязан вам, — сказал Хирата.
Он отвернулся и очень медленно вытащил лезвие кинжала из ножен.
— Пример маркиза Иорисака гораздо более велик, чем мой.
Он дотронулся пальцем до отточенного лезвия. Бесшумно мичман поднялся с бархатного четырехугольника и, став позади виконта, двумя руками взялся за рукоять меча, обнаженного, как и кинжал…
— Гораздо более велик… — повторил виконт Хирата.
Он сделал чуть заметное движение. Наримаза, склонившийся к нему, больше не видел лезвия кинжала… Живот был распорот по всем правилам искусства… Уже вытекало немного крови.
— Поистине, гораздо более велик… — еще раз
повторил виконт Хирата Такамори.
Он говорил все так же ясно, хотя много тише. У него слегка дернулся угол рта — первый признак жестокого, но стоически сдерживаемого страдания.
Отставив назад правую ногу, согнув левую в колене, Наримаза вдруг быстро выпрямился с напряжением всего торса, бедер и обеих рук — отрубленная одним ударом голова виконта Хирата Такамори скатилась на белый пол…
Через секунду меч поднялся: лезвие порозовело от крови.
XXXI
У каменной лестницы, взбиравшейся по холму к предместью Диу Джен Джи, Жан-Франсуа Фельз отослал свою куруму и начал подниматься по знакомым ступеням.
Шел дождь. От самого Моги до Нагасаки он шел не переставая. В продолжение четырех часов два носильщика — курумайи — бежали по грязи и по лужам, не замедляя свой бег и не прерывая путешествия, за исключением небольших остановок у чайных домиков, чтобы напиться чаю, и у лавчонок башмачников, где надо было менять сандалии. И хорошим ходом они въехали в город, забрызгивая грязью оба тротуара Фуна-Дайку маши. Обычная толпа наполняла торговый квартал. Улицы кудрявились зонтами.

Но лестница Диу Джен Джи была как всегда пустынна. И Фельз, спеша под проливным дождем, добежал до дома с тремя фиолетовыми фонарями, не попавшись на глаза никакому прохожему, который бы подивился, что «кэ тоджин» (глупый варвар) стучится в дверь знаменитого китайского мандарина, не впускавшую, обычно, и самих японцев.
— 12 часов… — посмотрел на часы Фельз, раньше чем постучаться.
Он боялся быть некстати. Курильщики опиума обыкновенно засыпают много позже рассвета и не любят, чтобы их будили раньше захода солнца. Правда, для путешественников обычаи делают иногда исключение.
— Кроме того, — подумал Фельз, — прежде всего, по правилам, следует повиноваться воле старцев… А престарелый Чеу Пе-и ясно и определенно вызывает меня к себе: в этом, по крайней мере, его письмо не оставляет никаких сомнений.
Как всегда — дверь открылась, появился слуга, одетый в синий шелк. Затем она опять заперлась и вновь открылась по истечении времени, требуемого законами вежливости, и Фельз, обождав ровно столько времени, сколько следовало — ни больше ни меньше — удостоверился, что он прибыл в надлежащий час.
Действительно, Чеу Пе-и, получивший накануне огромное количество важных донесений и известий, решил отказаться от сна на время, что будут продолжаться эти события. Он курил, вместо того чтобы спать и таким образом боролся без труда с усталостью; его бодрствование продолжалось уже тридцать шесть часов.
Он вышел навстречу посетителю и принял его со всем надлежащим церемониалом, причем Фельзу не удалось подметить никаких следов утомления или бессонницы на пергаментно-желтом лице со впалыми щеками и безгубым улыбающимся ртом.
Потом, в курильной комнате, обтянутой желтым атласом и вышитой с потолка до пола благородными философскими изречениями, написанными красивыми буквами из черного шелка, выпив горячего вина, принесенного, по правилам учтивости, ученым прислужником в шапочке с бирюзовым шариком, Жан-Франсуа Фельз и Чеу Пе-и легли посреди груды подушек и шелковых тканей на три одна на другую положенные циновки, тоньше льняной ткани.
И начали беседовать друг с другом, разделенные курильницей с опиумом. Они беседовали, соблюдая благопристойность и традиционные правила, в то время как два мальчика, коленопреклоненные у них в изголовьи, разогревали над зеленой лампадой тяжелые капли, свисавшие с кончика иголок, и клали готовое тесто на головки трубок из серебра, слоновой кости, черепахи или бамбука.
— Фенн-Та-Дженн, — начал Чеу Пе-и, — когда в этом самом месте и на моих глазах было запечатано грубое и плохо написанное письмо, которое я посмел продиктовать для вас наименее невежественному из моих секретарей, я произнес обычные слова: «И лу фу синг… — Да сопровождает вас в пути Звезда Счастья». Ибо я знал, что сердце повелит вам немедленно исполнить мою смиренную мольбу и, не теряя ни часа, завязать шнурки дорожного плаща. Вы явились с точностью солнца. И я со стыдом вижу, что я был чрезвычайно неделикатен. Я не сумею вас достаточно отблагодарить.
— Пе-и-Та-Дженн, — возразил Жан-Франсуа Фельз, — великолепное письмо, которое я от вас получил, вовремя заставило меня вспомнить чуть было не позабытые мною поучения философии и вернуло меня в ту Справедливую и Неизменную Середину
[39], откуда я чуть было не вышел совсем… Разрешите мне с благодарностью принять ваше благодеяние.
Они курили. В курильной было совсем темно. Плотные занавеси защищали комнату от дневного света. Можно было подумать, что на дворе глубокая ночь. С потолка девять фиолетовых фонарей разливали свой странный свет. Казалось, грубая действительность была изгнана из этого мирного царства, куда был доступ лишь сверхчеловеческой жизни — смягченной, умудренной, освобожденной от жестоких и тщетных страстей, освобожденной от негармоничных движений…
— Теперь, — продолжал Чеу Пе-и, — приличествует мне осветить вам все темные места моего письма, темнота коих является результатом несовершенства моего разума, как вы, вероятно, догадались.
— Мне невозможно, — возразил Фельз, — подписаться под вашими словами. Я в том, что вы называете темными местами, увидел лишь мудрое искусство очень старой кисти, которая не желает доверять даже верному посланному голую и неосторожную истину.
Чеу Пе-и улыбнулся и сложил руки в знак благодарности:
— Фенн-Та-Дженн, мне усладительно слушать музыку вашей учтивости. Позвольте мне ответствовать вам, соблюдая правило: «Тот, кому поручено доставить весть или обнародовать новость, не позволяет этой вести или этой новости провести ни одной ночи в доме своем: он доставляет или обнародовывает их в тот же день». Фенн-Та-Дженн, сегодня утром, когда запели вторые петухи, прибыла в эту гавань джонка из Срединной Империи, и многие джонки последовали за ней. Владельцы их — люди, состоящие у меня на службе и отдающие сердца свои, чтобы исполнять волю Великой Высоты, сообщили мне — мне первому — то, чего еще не знали власти этого государства. Сообщаю это вам: вчера недалеко от острова, называемого японцами Цусима, тысяча и десять тысяч кораблей сошлись на море. В сражении погиб весь огромный флот оросов (русских). От него остались одни обломки. И я вспомнил поучения Ли-Ки и взял на себя смелость напомнить их и вам в моем письме: «В первый месяц лета не следует отправлять на войну великое множество людей. Потому что тогда властвует Иен Ти, император Огня, который предаст их гибели».
Жан-Франсуа Фельз быстро поднялся. Он облокотился на циновки и совершенно позабыл правила благоприличия:
— Что вы говорите, Пе-и-Та-Дженн?.. Русский флот побежден!.. Уничтожен!.. Но неужели?..
Он вовремя удержался от дальнейших расспросов, вдруг сообразив, что он чуть было не совершил неслыханной грубости, перебив и задав вопрос хозяину. Снисходительно Чеу Пе-и поспешил продолжить свою речь, словно не заметив неосторожность гостя:
— Я об этом получил множество донесений. Теперь все главное мне известно. Угодно ли вам выслушать точный рассказ о событиях?
Фельз успел оправиться от смущения.
— Яс радостью, — сказал он, — опять становясь приличным, — яс радостью выслушаю все, что вы найдете удобным сообщить мне.
— Закурим же, — сказал Чеу Пе-и, — и разрешит моему личному секретарю, которому знаком благородный язык Фу-Ланг-Сэ, прийти сюда одолжить нам своего света и прочесть, и перевести всю полезную сущность происшедших с этого утра событий.
Он взял трубку из рук коленопреклоненного рядом с ним ребенка, в то время как Жан-Франсуа Фельз взял другую из рук другого мальчика. Завитки серого дыма слились и смешались над лампадой, затененной эмалевыми мушками и бабочками.
У ног курильщиков сел на корточки личный секретарь, очень старый человек в шапочке с коралловым шариком, и читал своим хриплым голосом, непривычным к западным звукам…
— Фенн-Та-Дженн, — сказал Чеу Пе-и, когда длительное чтение окончилось, — помните ли вы один разговор, который мы вели с вами в этом самом месте на другой день после вашего прибытия в этот город?.. Вы тогда задали мне вопрос: нахожу ли я, что Восходящее Солнце должно неминуемо погибнуть в борьбе с оросами? Я ответил вам, что не знаю и что, кроме того, это совершенно неважно.
— Очень хорошо помню, — ответил Фельз. — Вы даже обещали, что мы возобновим разговор об этих пустяках, когда настанет время.
— Память ваша безупречна, — сказал Чеу Пе-и. — Так вот… Разве сейчас не настало для этого самое подходящее время?.. Восходящее Солнце, вместо того чтобы погибнуть, торжествует. Следует нам рассмотреть на досуге истинную цену его победы. И если наше исследование убедит нас, что эта победа, в сущности, не имеет никакой цены, то мы будем иметь право утверждать, что настоящая война — пустяки и что исход ее совершенно неважен.
Фельз, окончивший курить, молча отодвинул еще горячую трубку и, прижавшись левой щекой к кожаной подушке, устремил взгляд в глаза своему собеседнику. Чеу Пе-и докурил сам и начал:
— В книге Менг-Тзы написано: «Вы предпринимаете войны. Вы подвергаете опасности жизнь военачальников и воинов. Вы навлекаете на себя вражду государей. Находит ли ваше сердце радость в этом?.. Нет. Вы поступаете так, только преследуя свои великие цели: вы желаете расширить границы государства вашего и предписывать законы ваши даже и иностранцам. Но преследовать такую цель подобными средствами все равно, что влезать на дерево, чтобы ловить рыбу. Сила, противодействующая силе, никогда не производила ничего, кроме разрушения и варварства. В управлении следует стараться применять только благость. Тогда все чиновники, не исключая и чужестранных, пожелают служить во дворце вашем. Тогда все земледельцы, не исключая и чужестранных, пожелают возделывать землю полей ваших. Все торговцы, как оседлые, так и странствующие, не исключая и чужестранных, пожелают приносить свои товары на рынки ваши. Если они этого пожелают, — кто сможет остановить их?.. Я знаю принца, некогда владевшего только пространством в семьдесят лисов, а потом правившего всей империей».
Чеу Пе-и торжественно подкрепил цитату восклицанием из самой глубины горла.
— Написано в книге Кунг-Тзы: «Государство Лу клонится к своему закату и делится на несколько частей. Вы не умеете сохранить его целость и надеетесь поднять восстание в его лоне. Боюсь, что вы встретите великие трудности не у границы, а внутри дома своего».
[40]
Чеу Пе-и повторил свое благоговейное восклицание, потом закрыл глаза:
— Мне кажется, что слова эти можно с одинаковой справедливостью отнести к империи побежденных оросов и к победившему государству Восходящего Солнца. Всякий народ, начинающий бесполезную и кровопролитную войну, отрекается от своей древней мудрости и отвергает цивилизацию. Вот почему совершенно неважно, победит ли новая, варварская Япония новую, варварскую Россию. Было бы совершенно также неважно, если бы новая Россия победила новую Японию. Это только борьба полосатого тигра с дымчатым… Исход этой борьбы человечеству неинтересен.
Он прижал свой безгубый рот к нефритовой трубке, протянутой ему коленопреклоненным мальчиком, и одним вздохом втянул весь серый дым.
— Неинтересен, — повторил он.
Его полуоткрытые глаза рассылали направо и налево свой проницательный свет…
— Моя память, — продолжал он после некоторого молчания, — неверна и недостаточна. Но во время разговора, который у нас с вами был на другой день по вашем прибытии в этот город, вы произнесли такие достопамятные слова, что я не мог при всей моей слабости позабыть их. Вы очень остроумно сравнили империю с вазой, заключающей в себе драгоценный напиток древних верований. И не без основательной причины вы опасались за этот бесценный напиток. Действительно, если империя будет покорена, что станется с древними верованиями? На этот весьма философский вопрос бедность моего разума не позволила мне отвечать немедленно. Я отвечаю, после десяти тысяч размышлений и обдумываний, отвечаю вам сегодня, наученный событиями. Бессмертие древнего учения не связано с тленной жизнью империи. Пусть империя будет покорена: лишь бы только Сын Неба выполнял свой долг до конца, лишь бы он соблюдал обряд, хранил бы пять нравственных законов и поступал бы согласно трем главным добродетелям: человечности, осторожности и силе души; лишь бы каждый принц, каждый министр, каждый начальник, каждый гражданин одинаково выполняли свой долг, соблюдали обряды, хранили пять законов и поступали согласно трем добродетелям, и тогда безразлично — будет ли империя победительницей или побежденной. Тогда безразлично, живы ли ее народы или умерли. Когда они умирают — их переживает их безупречный пример, и даже враги вынуждены восхищаться им и следовать ему. Так бессмертие древнего учения беспрестанно возобновляется и молодеет. Народы, отдаляющиеся от Неизменной Середины ввиду временной выгоды, минутного успеха, кажущейся славы или ложной пользы, тяжко пятнают и репутацию, и честь свою и могут оставить в истории лишь позорное воспоминание, способное заразить соприкосновением все будущие народы вплоть до тридцатого и до шестидесятого поколения.
Он прекратил свою речь, чтобы внимательно взглянуть на очень большую порцию опиума, которую коленопреклоненный над перламутровым подносом ребенок вкладывал в свежевычищенную трубку. Потом заключил.
— Какой вес имеет материальная судьба одного народа в сравнении с нравственной эволюцией всего человечества?..
Высказав это суждение, он выкурил сразу две трубки. И так как снадобье разлило снисходительность в душе его, он улыбнулся:
— Страна Восходящего Солнца, слишком юная еще, не знает всего этого. Она бы знала> если бы прожила, подобно Срединной Империи, десять тысяч лет и из года в год становилась бы все мудрее.
Фельз слушал, ничего не говоря. Но когда Чеу Пе-и замолк, то вежливость приказывала собеседнику нарушить молчание. И собеседник вспомнил об этом.
— Пе-и-Та-Дженн, — сказал он, — вы мой старший брат, весьма мудрый и весьма престарелый. И разумеется, я не стану возражать ни против единого слова из всего, что вы сказали. Как и вы, я думаю, что страна Восходящего Солнца — юная страна. Юные страны подобны юным людям: они любят жизнь преувеличенной любовью. Страна Восходящего Солнца отдалилась от Неизменной Середины, чтобы не умереть. Извинение ее — в красоте жизни и в безобразии смерти. Пе-и-Та-Дженн, любовь к жизни есть добродетель.
— Да, — согласился курильщик. — Но никакая добродетель не должна удалять людей от Неизменной Середины, от Первоначального Закона, поддержки и основания общества и мира.
Он откинулся на спину и лег на кожаную подушечку навзничь. Его рука с неумеренной длины ногтями поднялась по направлению к фонарям потолка.
— Во дни династии Ган, — сказал он, — царствовал император по имени Као. У него, согласно установлениям, была супруга-императрица по имени Лю и наложница-принцесса по имени Теи. И от первой был у него сын, принц первого ранга, которого назвали Хоеи, а от второй был у него сын, принц второго ранга, которого звали Жуй. Вот, когда император насытился днями, он созвал своих министров и высших начальников и вопросил их, разрешают ли древние мудрецы властителям Срединного народа изменять порядок престолонаследия, и следовательно, может ли он, Као, повиноваться желанию своего сердца и завещать власть принцу второго ранга, Жуй, вместо принца первого ранга, Хоеи? На что министры и высшие начальники ответили, что нет. Тогда, покорный мудрецам, император Као передал правление принцу первого ранга, Хоеи, затем величественно рухнул (в смерть), подобно вершине высокой горы
[41]. В то время принц первого ранга, Хоеи, не был еще способен сам выполнять обряды в честь духов, блюдущих землю и посевы. Он сделался императором, когда носил еще очень короткую одежду
[42]. Так что в качестве регентши правила супруга-императрица, Лю. Это была женщина с суровым сердцем. Она, прежде всего, заключила в темницу принцессу-наложницу Теи, намереваясь предать ее пыткам. Затем повелела отравить принца второго ранга, Жуй, и послала яд наставнику этого принца. Но наставник — человек праведный, — перечитав все священные книги и все древние книги, не нашел в них соизволения убить ученика, вверенного ему покойным Сыном Неба. Вот почему, вместо того чтобы повиноваться ей, он сам выпил яд. Весть об этом дошла до ушей ребенка-императора. Хоеи, исполненный жалости и восхищения, взял под свое покровительство маленького принца Жуй и мать его, принцессу Теи. Так что императрица-мать, Лю, не посмела сейчас же привести в исполнение свои черные замыслы. Она выжидала, как выжидает тигрица ухода пастуха, чтобы растерзать его стадо. И когда пришел третий месяц лета, и император отправился, как то предписано, на ловлю больших черепах, она воспользовалась его отсутствием. Сперва она собственными руками убила принца второго ранга, Жуй, проколов его мозг длинными иглами. Затем она извлекла из темницы мать его, принцессу Теи, и отрезала ей нос, губы и все четыре конечности на сочленениях, в локтях и в коленях. Затем с помощью каленого железа придала ее ушам форму свиных ушей, дала ей испить питья, отнимающего разум, и приговорила ее жить на навозных кучах, недалеко к югу от дворца, и носить имя «человеческой свиньи». Все это, очевидно, было ей внушено духом мести и крайне жестоко. Тем временем император Хоеи возвратился с ловли больших морских черепах. Подъезжая ко дворцу с юга, он увидал человеческую свинью. Объятый ужасом при виде этого, он вскричал, подумав: «Это противно законам человечности! Мать моя нехорошо поступила!..» Предание это находится во всех летописях империи, все философы и великие ученые приводят его. И что же?.. Все летописи и мудрецы, и великие ученые сходятся в том, что не порицают императрицу-регентшу, Лю; хотя она и преступила против добродетели человечности, но не превысила своих прав императрицы-регентши, полновластной повелительницы в отсутствие ребенка-императора. И все летописи и мудрецы, и великие ученые сходятся в том, что порицают ребенка-императора, Хоеи, поступившего согласно добродетели человечности, но отступившего от Первоначального Закона, повелевающего сыновьям никогда не судить своих матерей. Ибо написано в Нэи-Тзе (десятая книга Ли-Ки): «В присутствии родителей своих сыновья повинуются и молчат».
Чеу Пе-и опустил руку и замолчал. На этот раз Жан-Франсуа Фельз ничего не ответил.
Серый дым наполнял курильню душистым туманом. Над этим туманом блестели девять фиолетовых фонарей, подобно звездам в туманной ноябрьской ночи. Протекло несколько часов, бархатисто-тягучих, словно молоко…
И Жан-Франсуа Фельз, мало-помалу побеждаемый властным снадобьем, начинал забывать весь внешний мир и сомневаться: существует ли вне этих атласных стен какой-то другой мир, где люди как-то живут и не курят…
Но Чеу Пе-и вдруг два раза откашлялся, и его сиплый голос опять зазвучал, отгоняя почти выкристаллизовавшуюся грезу своего гостя:
— Фенн-Та-Дженн, когда философ поднимется до высших парений мысли, ему трудно бывает спуститься с этих высот к обыденным свершениям жизни. Однако Кунг-Тзы был весьма искусен в этом. И нам следует смиренно подражать ему. Так знайте же, в довершение ко всему, что вы уже узнали, что вчера погибли в сражении трое людей, с которыми вы были знакомы в этой стране: маркиз Иорисака Садао, и его друг виконт Хирата Такамори, и его другой друг — из страны народа с Красными Волосами. Все погибли славной смертью по понятиям воинов.
Слишком много выкуренных одна за другой трубок влили в душу Жан-Франсуа Фельза свой целебный покой. Жан-Франсуа Фельз, узнав таким образом о полном трауре и разрушении единственного японского семейного дома, где он был принят как свой, не взволновался.
— Эта смерть очень печальна, — просто сказал он, — теперь маркиза Иорисака Митсуко будет жить в грустном одиночестве, потеряв сразу и мужа, и лучших друзей своих.
— Да, — сказал Чеу Пе-и.
Он заговорил серьезным тоном:
— Прежде чем преступное безумие развратило эту страну, правила траура строго выполнялись здесь… Женщина, лишившаяся мужа, надевала простую одежду из некрашеного полотна без швов, кушак и повязку из простой веревки и носила это в течение трех лет. Она воздерживалась от изящных выражений. Лишала себя пищи, затем чтобы лицо ее стало подобающе бледным. Часто она поступала в монастырь и там ожидала своей смерти.
— В нынешних женщинах меньше добродетели, — признал Фельз.
— Да, — подтвердил Чеу Пе-и.
Его зоркие глаза проницательно вглядывались в гостя.
— Фенн-Та-Дженн, — продолжал он спустя некоторое время, — и я знаю, и вы знаете правило установлений: «Мужчинам не надлежит говорить о том, что касается женщин, а что сказано и сделано на женской половине, не должно выходить оттуда. Я не нарушу этого правила. Но я полагаю, что теперь, несмотря на то, что маркиза Иорисака Митсуко часто грешила против женской скромности и, таким образом, против Первоначального Закона, вам следует самому выполнить требование добродетели, человечности и осторожно сообщить ей о постигшем ее несчастье, о котором она завтра утром узнает от других без всякой подготовки. Вот почему я скажу вам то, что вам надлежит знать: вы как-то спросили у меня, не считаю ли я, что женщина, муж которой уклонился с правого пути, только исполняет свой долг, также покидая этот прямой путь, чтобы идти по следам того, за кем обещала следовать шаг за шагом до самой смерти. Я воздержался тогда от ответа, молча из-за своего незнания. Теперь я могу ответить вам, наученный временем: возможно, что женщина, о которой мы говорим, уклонилась с прямого пути затем, чтобы идти не по следам своего супруга, но по следам другого человека. И может быть, что маркиза Иорисака, узнав о смерти маркиза Иорисака, не его будет оплакивать…
— Герберта Фергана… — в раздумье пробормотал Фельз.
— Теперь вы знаете все, что вам надо было знать, — прервал его Чеу Пе-и. — Удостойте теперь закурить, как подобает, трубку из черного бамбука.
Когда они выкурили, он прибавил:
— Пламя в лампаде тухнет…
Прислужник заторопился, принес сосуд с маслом и зажженный факел.
Тогда Фельз вспомнил, что написано в «Киу-Ли»
[43]: «Вставайте, когда приносят факелы».
И с обычным церемониалом начал прощаться.
XXXII
Дождь перестал. Зловещая окраска туч исчезла: там и сям их пронизывали стрелы солнца. Поля, еще зеленые под свежей влагой и уже золотые от света, опять надели свой весенний наряд.
Жан Франсуа Фельз шел медленно, всеми легкими вдыхая живительный запах земли и насыщая глаза чистым сиянием дня.
Спустившись с лестницы Диу Джен Джи, он спохватился, взглянув на часы:
— Уже половина четвертого!.. Э, только-только время отправиться на холм Аистов — или я никого дома не застану…
Он поспешил выйти на людные улицы, где можно, иногда, найти случайные курумы.
— Пренеприятная обязанность!.. — думал он. — Бедная крошка… Все равно, мне ее жаль от всей души. И кого бы она ни оплакивала — Герберта Фергана или Иорисака Садао — я всецело ей сочувствую…
Он опустил голову. Он вдруг припомнил «гарден-парти» на яхте и м-сс Гоклей, и принца Альгеро…
— Увы!.. — подумал он. — Быстро кидается европейское вино в голову мусме, даже если эта мусме — маркиза…
На улице Мегасаки курумы не было. Не было и на улице Хиробаба. Фельз вышел на неизбежную Мото-Каго маши… Огромная толпа теснилась и толкалась на улице, и не надо было особенно знать привычки японской толпы, чтобы сразу заметить: она была вне себя и потрясена чем-то необычайным. Весть о громадной победе, одержанной вчера, распространилась только что в Нагасаки. Уже каждая лавка, каждое жилище, каждое окно поспешно расцвечивались флагами и знаменами. Безумно возбужденная, опьяненная гордостью и торжеством, толпа забыла национальную умеренность и благоприличие и выражала свою радость почти так же несдержанно, как наша западная чернь. Крики, пение, процессии… Схватки и почти что драки… Исступленные и даже, может быть, пьяные — все тут было налицо. Фельз, пробираясь через улицу, чтобы попасть на набережную, чуть было не упал: две мусме, бежавшие со смехом, с растрепавшимися в беспорядочные космы обычно красивыми прическами, едва не сбили его с ног.
— Увы!.. — опять подумал Фельз. — Поистине неважно, победит ли новая Япония старую или новую Россию…
Одни курумайи на набережной не утратили своей обычной учтивости, и когда Фельз произнес магические слова: «Иорисака кошаку», началось большое соревнование между рысистым народом — кто будет иметь честь отвезти высокородного иностранца к благородному маркизу.
ХХХIII
В будуаре помпадур, между эраровским роялем и зеркалом в золоченой раме, ничто не изменилось. В открытые окна вливался солнечный свет, придавая всему какой-то праздничный вид и усеивая драгоценными камнями цветы в вазах. Фельз заметил, что это были не ветки цветущих вишен, как прежде, а американские орхидеи.
— Как знать?.. — с внезапной горечью подумал он. — Здесь побывала Америка… И, может быть, даже на долю Герберта Фергана не достанется ни одной слезинки?.. Тем лучше… и тем хуже.
Он подошел к окну и рассматривал миниатюрный садик, с его скалами, каскадами и лесами для лилипутов. Вдруг позади него голосок, которого он не позабыл, певучий и нежный, слабый, как птичье щебетание, повторил фразу, встретившую его здесь — в этой самой комнате — полтора месяца тому назад:
— О!.. Дорогой маэстро!.. Как мне совестно, что я заставила вас так долго дожидаться!..
И, опять-таки как тогда, к его поцелую протянулась крохотная ручка из слоновой кости.
Но на этот раз Фельз, прикоснувшись губами к шелковистым пальчикам, ничего не ответил на приветственные слова.
Не обратив внимания на его молчание, маркиза весело болтала:
— О, мы с м-сс Гоклей так и знали, что скоро вам надоедят ваши скитания. Далеко вы были?.. Очень вас поливал дождь?.. Привезли вы хорошие этюды?.. Я завтра же отправлюсь на «Изольду», чтобы вы мне все, все показали!..
Она говорила бойче, чем прежде.
На ней было платье стиля Людовика XV — из вышитого муслина розовым на розовом. Шляпа из тюля с широкими бантами, завязанными у подбородка. В руках — зонтик с оборками под цвет платью. В этом наряде, рассчитанном на рост женщин, встречающихся в Прэ-Катлан или в Арменон-вилле
[44], она казалась маленькой — маленькой-маленькой…
Фельз откашлялся несколько раз, прежде чем заговорить:
— Я вернулся…
— Э, — сказала маркиза Иорисака, — я ужасно рада, что вы вернулись!
— Я вернулся… — повторил Фельз.
И замолчал, пристально глядя на молодую женщину.
Она продолжала улыбаться. Но, вероятно, глаза Фельза были красноречивее, чем его слова. Улыбка внезапно стерлась с хорошеньких накрашенных губок, и над узкими косыми глазами затрепетали ресницы:
— Вы вернулись?..
Обрамленное завязками из розового тюля, под оборочками пышной шляпы, лицо вдруг показалось странно преобразившимся — азиатским…
Прошли четыре секунды — медленно, как четыре минуты. Опять зазвучал нежный голосок; но он больше не был певучим — он стал таинственно ровным, монотонным, серым:
— Вы вернулись… затем, чтобы?..
С трудом Фельз решился докончить фразу:
— Чтобы сообщить вам… что вчера… при Цусиме… была большая битва.
Послышался шелест шелка. Зонтик с оборочками упал. И так и остался на полу.
— Очень большое сражение… Между русским флотом и японским… Вы еще не знаете…
Он приостановился, чтобы перевести дух. Стоя у стены, неподвижная, безмолвная, маркиза Иорисака слушала.
— Нет, вы еще не могли узнать… Очень большое сражение… Очень кровопролитное, разумеется… Да… и много раненых…
Она не шевелилась, не произнесла ни слова. Стояла, прислонившись к стене, прямо глядя в глаза зловещему вестнику.
— Много раненых… Так, я слыхал, что виконт Хирата… Она не пошевельнулась.
— И сам маркиз Иорисака…
Не затрепетала.
— И капитан Герберт Ферган…
Не дрогнули ресницы.
— Ранены…
Слова застревали у Фельза в горле.
— Ранены. Тяжело ранены…
Роковые слова не хотели выходить. Еще протянулись четыре секунды.
— Скончались, — совсем тихо произнес, наконец, Фельз.
Он невольно открыл руки и протянул их слегка вперед, готовый поддержать жертву. Он часто видел, как в подобных случаях женщины падают в обморок. Но маркиза Иорисака Митсуко не упала в обморок. Тогда он немножко отошел, чтобы лучше ее видеть. Она все стояла неподвижно, словно пригвожденная к стене — распятая. Она была смертельно бледна. И казалась вдруг сразу выросшей.
— Погибли, — повторил Фельз, — погибли геройской смертью.
И опять замолчал, не находя слов.
Крашеные губки зашевелились. Во всем окаменевшем, заледеневшем лице, казалось, жили только эти губы да еще глаза — широко открытые, сиявшие, как погребальные лампады:
— Поражение… или победа?..
— Победа… — сказал Фельз.
Подчеркнул:
— Решительная победа! Русский флот совершенно уничтожен. От него остались одни обломки… Не напрасно столько героев отдали свою жизнь: Япония торжествует навеки!
На бледные щеки медленно возвратилась краска. Узкий рот произнес два слова — прежним серым и спокойным голосом:
— Благодарю!.. Прощайте.
И Фельз — отпущенный таким образом — поклонился и отступил к выходной двери.
У порога он остановился, чтобы еще раз поклониться.
Маркиза Иорисака не сдвинулась с места. Она стояла, замерев, выпрямившись: непостижимая, неузнаваемая, — азиатка, азиатка с головы до пят — до того азиатка, что незаметны были ее европейские тряпки. И обитая шелком стена составляла для нее нечто вроде рамы, в которой она стояла во весь рост — и казалась большой, очень большой…
XXXIV
У подножия храма О’Сувы, в маленьком парке на холме Ниши, между вековыми камфарными деревьями, кленами и криптомериями, с которых свешивались по-прежнему великолепные глицинии, вот уже час, как блуждал Жан-Франсуа Фельз.
Он бессознательно пришел сюда, уйдя из виллы на холме Аистов, двери которой закрылись за ним, как двери погребального склепа затворяются за могильщиком. Ему необходимо было одиночество, тень и тишина. Машинально он дошел до маленького парка, находившегося на расстоянии какой-нибудь мили. Тенистые аллеи и глубокие чащи удержали его. По восточной аллее он взобрался на самый верх холма и спустился вниз по западной. Он останавливался на поворотах дороги, чтобы любоваться зелеными склонами, сбегающими к долине, и городом цвета туманов, раскинувшимся на берегу залива цвета стали. Он заглядывал глубоко во дворы и сады старинного храма. Бродил по южной террасе, засаженной вишневыми деревьями в косую линию…
И всюду видел он — вместо расстилавшегося перед его глазами пейзажа — изображение, запечатлевшееся на его сетчатке, изображение стоящей во весь рост женщины, прислонившейся к стене…
Он вышел из маленького парка. Чувствуя себя бесконечно усталым, он решил вернуться в город, вернуться на яхту и, наконец, отдохнуть у себя, в своей каюте, от этого долгого путешествия, слишком печально закончившегося. Но он свернул вправо, вместо того, чтобы взять влево. И снова очутился у подножия холма Аистов, едва в ста шагах от осиротевшего дома…
Он остановился как вкопанный… Потом хотел повернуть обратно. В это время торопливый бег курумайи заставил его поднять голову. Он услыхал, как его окликнул кто-то:
— Франсуа!.. Вы ли это?..
Дюжина курум бежали вереницей, наполненные светлыми туалетами и жакетами с орхидеями в петличках. Весь американский Нагасаки находился тут во главе с м-сс Гок-лей, которая была красивее, чем когда-либо, в платье из муслина, вышитого розовым на розовом — точно таком же платье, как Фельз только что видел на маркизе Иорисака.
Курума м-сс Гоклей резко остановилась, и все следовавшие за ней курумы натолкнулись одна на другую.
— Франсуа!.. — воскликнула м-сс Гоклей. — Неужели вы действительно вернулись? Я счастлива вас видеть! Едем с нами: мы все отправляемся пикником в очень красивое место, которое знает принц Альгеро. И должны только заехать за маркизой Иорисака…
— Позвольте мне сначала сказать вам несколько слов, — промолвил Фельз.
Она спустилась на землю. Он подошел к ней и без всяких предисловий сказал:
— Я только что был у маркизы. И спешу вас предупредить: маркиз убит в бою… вчера, под Цусимой.
— О!., вскрикнула м-сс Гоклей.
Она так громко вскрикнула, что весь пикник медленно высыпал из курум и, узнав в чем дело, рассыпался в соболезнованиях на разных языках:
— Бедная, бедная, бедная милая крошка… Митсуко darling! What a pity! О poverina!
— Я думаю, что надо сейчас же пойти утешать ее, — сказала м-сс Гоклей. — Я отправлюсь и возьму с собой принца Альгеро, который особенно близок с маркизой. А затем вернусь за всеми!
Она решительно подошла к воротам виллы. Постучала. Но в первый раз нэ-сан, придверница, не открыла ворот и не упала на четвереньки перед гостьей. Еще и еще м-сс Гоклей принялась стучать, изо всех сил колотила кулаками в закрытые створки ворот. Они не поддались. Раздосадованная, м-сс Гоклей вернулась к курумам и обратилась к присутствующим:
— Невероятно, чтобы в доме никто не слышал и не ответил. Очевидно, маркиза еще ничего не знает. Потому что, конечно, в такие минуты ей бы особенно было приятно быть окруженной друзьями… Я думаю, как же ей дать знать, что мы тут?..
— Это бесполезно, — сказал Фельз. — Поглядите!..
Ворота, в которые больше никто не стучал, внезапно отворились. Из них вышла странная процессия. Слуги, служанки — все в дорожных одеждах, нагруженные красивыми, аккуратно сложенными свертками, изящными шкатулками, хорошенькими мешками из нервущейся бумаги, составляющими дорожный багаж старинной Японии — выходили из ворот мелкими шагами, один за другим и скрывались на восточной дорожке, ведущей к вокзалу железной дороги Нагасаки — Моджи, Киото и Токио.
И вдруг позади слуг и служанок появилась курума, за которой следовали еще слуги и еще служанки. Курума тоже направилась по дорожке, ведущей на станцию. Ку-руму везли двое курумай. Это была собственная курума, очень элегантная. На ее подушках виднелась белая фигура.
Белая фигура… Женщина в трауре, одетая по древнему обычаю в простую полотняную одежду без швов, как установления предписывают вдовам. Женщина, которая удалялась, прямая, гиератическая, с поднятой головой и неподвижным взглядом — маркиза Иорисака.
Она проехала. Проехала мимо принца Альгеро, не обратив на него взгляда. Мимо м-сс Гоклей, не вымолвив слова. Мимо Жан-Франсуа Фельза…
И медленно скрылась на дорожке, сопровождаемая своей свитой…
Жан-Франсуа Фельз остановил шедшего последним слугу и спросил его по-японски.
— Это маркиза Иорисака Митсуко, — ответил слуга. — Иорисака кошаку фуджин… Ее муж был вчера убит на войне. Она едет в Киото, чтобы жить в буддийском монастыре для дочерей даймио, жить там, нося власяницу, и умереть там же, со всем почетом.
КОРСАР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая
ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО
I
Звонили к полуденной молитве, когда с моря донесся отдаленный пушечный выстрел. И дозорные на башне Богоматери подали сигнал о том, что в северо-западном направлении показался корсарский фрегат, держа путь к рейду. Такое событие, разумеется, не представляло чего-нибудь необычного в Сен-Мало. Однако же всем хотелось поскорее полюбоваться благородным видом отважных малуанских кораблей, возвращающихся победителями из дальних походов, — и не успела еще новость разнестись по городу, как уже весь праздный народ очутился за городской стеной и толпился на Старой Набережной, откуда можно было заметить фрегат, как только он обогнет форт Колифише и Эперон.
Тут было много всякого народа: во-первых, разная сволочь, которая всегда стекается в изобилии туда, где можно поротозейничать, руки в боки, не слишком себя утруждая; затем много моряков, готовых на время оставить свою жвачку и стаканчик, чтобы со знанием дела оценить маневр своего же приятеля и сородича-моряка; потом горожане, арматоры, поставщики и просто почтенные жители знатного города, богатство которых смело пускалось в морские приключения, принося большие доходы и еще большую славу; наконец, всех опередив, протиснувшись сквозь толпу в первые ряды, чуть не попадая в воду своими деревянными башмаками и босыми ногами, женщины и дети, бледные, с пристальным взором, с искаженными жестокой тревогой губами и бровями: матери, сестры, жены, невесты и малыши ушедших в поход и медлящих с возвращением мужчин.
Между тем фрегат, идя бакштаг под марселями, уже подошел к Терновому Камню. Теперь на нем потравливались шкоты, и он начал спускаться под ветер, готовясь пройти фордевинд между мысом Наж и Элероном, так как бриз задувал с юго-запада тепловатыми и крепкими шквалами.
Прошло четверть часа. Со Старой Набережной ничего еще не было видно. Как вдруг криком взорвался авангард ребятишек и их матерей: грота-рей фрегата высунулся из-за Эперона наподобие длинной кулеврины среди пушек, ощетинивших бронзовыми стволами гранитный бок бастиона. Вслед затем, мало-помалу отделяясь от высокой рыжей стены, показался белый парус. И весь фрегат выступил из пролива.
Тогда кто-то из кучки именитых горожан обратился к самому, казалось бы, равнодушному своему соседу — толстому арматору в простой серой одежде и дружески хлопнул его по плечу:
— Эге, Жюльен Граве, приятель! Поглядите-ка получше, что идет, потому что, клянусь Богом, это ваше. Ну да, или на меня затмение нашло, или это судно не что иное, как ваша «Большая Тифена»…
Жюльен Граве сразу оживился, подался вперед, глазки его еще больше сузились.
— Что вы! — сказал он, едва взглянув, — что вы, вы шутите, господин Даникан? На моей «Большой Тифене» рангоут по меньшей мере на двадцать футов выше, чем на этом фрегате. Тут, видно, плотник без зазрения совести поубавил мачтового леса!
Но кавалер Даникан, статный и крепкий мужчина гордого вида, шпага которого приподымала край одежды из тонкого, красиво расшитого сукна над шароварами модного покроя, в ответ только улыбнулся и сделал в воздухе резкое движение рукой:
— Жюльен Граве, приятель! Всмотритесь лучше, всмотритесь!.. Тут поработали ядра Рэйтера, поверьте!..
Действительно, лето господне тысяча шестьсот семьдесят третье еще не наступило, и грозные голландские эскадры крейсировали без всякой почти помехи в Северном море, в Ла-Манше, в Атлантическом океане и даже в Средиземном море. Правда, за последние четыре или пять месяцев, что король выигрывал битву за битвой в Нидерландах, во Фландрии и даже за Рейном, — побежденные Соединенные Провинции были опустошены и даже затоплены. Но совсем не то было на море. И хотя уверяли, что господин Кольбер день и ночь трудится над созданием флота для королевства, однако, до окончания работ было еще далеко. Так что ремесло корсара было опасным, как никогда. И часто отважный грабеж товара с неприятельского судна обходился дороже, чем мирная его покупка на рынке.
Между тем арматор Жюльен Граве, снова забеспокоившись, внимательно рассматривал фрегат, огибавший тем временем Равелин
[45], так что нельзя было еще сказать, хочет ли он выкинуться на прибрежную отмель Доброго Моря
[46] у самого подножия стены или подальше от города, посреди бухты, на пески острова Тузно.
— Горе мне! — вдруг возопил Жюльен Граве. — У вас ястребиные глаза, Даникан!.. Это мой корабль… но в каком виде, господи боже мой!..
Всеобщий крик заглушил восклицание судовладельца. «Большая Тифена» обогнула Равелин и правила к Доброму Морю. Не больше ста саженей отделяло ее от Старой Набережной. Чтобы не налететь на камни неподалеку от Северной башни Больших Ворот, фрегат тщательно избегал уклонений влево, поэтому он повернулся левым бортом, и корма его оказалась так близко, что можно было рассмотреть все подробности от бизань-русленей до гакаборта. А тут было, поистине, чему удивиться: весь борт был пробит, изрублен, изрешечен от абордажных сеток до ватерлинии, представляя собой какое-то деревянное кружево; и казалось, что волны забавляются, свободно вливаясь в эти зияющие дыры и, очевидно, падая оттуда прямо в трюм, к великому вреду и для груза, и для самого судна.
— Горе мне! — без конца повторял арматор, сжимая кулаки. — Горе мне! Новенький корпус, из лучшего дуба!.. Околей все от чумы голландские крысы!.. Вы посмотрите на этот растерзанный гальюн, на эти подпертые мачты! Вы только взгляните на эту отвислую корму, на этот фок, через который ветер проходит как через решето!..
Действительно, фрегат здорово потрепало, сомнительно было даже, чтобы нашлись плотники, которые могли бы привести его в порядок. Куда ни глянь, нельзя было найти места шире четырех квадратных футов, где бы не было следов ядер или картечи. И, поистине, то был знатный бой, из которого он вышел победителем.
Победителем: на трех его мачтах развевалось знамя малуанских корсаров, доблестное знамя — голубое, пересеченное белым крестом, где на черв ленном поле вольной части блистает серебряный шествующий горностай — эмблема вечно девственного города.
В то время как «Большая Тифена» проходила мимо Старой Набережной, бриз заколыхал эти три флага и развернул их на солнце. Самый большой из них — стяг, подымаемый в бою, — не избежал, подобно фрегату, грубого прикосновения вражеского железа и свинца. Его флагдук обратился также в алансонское или английское кружево драгоценного плетения.
Невзирая на это, Жюльен Граве охал все пуще. Кавалер Даникан нетерпеливо схватил его за руку:
— Эй, приятель!., на сегодня хватит слез!.. Посмотри-те-ка лучше на эту материю, что теребится там, на корме. Я охотно куплю ее у вас, если ваш убыток все разоряет! И отсчитаю вам чистоганом пятьдесят луидоров!
Не успел арматор ответить, как в толпе
поднялось новое волнение. Фрегат, миновав Старую Набережную, начал подготовку к осушке и стал по очереди убирать остатки парусов. Между тем голос капитана настолько ясно выделялся, что его можно было слышать и по ту сторону городской стены. К тому же, когда убрали контра-бизань, то отовсюду стали видны шканцы, с которых раздавалась команда.
Из уст в уста пронеслось одно имя, имя этого капитана. Это был не тот, кого ожидали.
— Тома Трюбле!.. Тома Трюбле!..
Сразу же Жюльен Граве забыл и Даникана, и его пятьдесят луидоров, и его флагдук. Вдруг онемев, нахмурив брови, он растолкал соседей и пробрался в первые ряды толпящегося народа:
— Да, — пробормотал он, воочию убедившись. — Да!., командует Трюбле… Но… в таком случае…
Он не договорил. В корабельном списке, скрепляемом подписью арматора, и который он, Жюльен Граве, подписал несколько недель тому назад, Тома Трюбле не значился капитаном фрегата. Он даже не значился помощником…
Жюльен Граве вытер рукою вспотевший лоб и огляделся. Внезапная тишина наступила на Набережной. А в толпе женщин и детей, в смятении сбившихся у воды, как будто странная зыбь колебала спины и плечи. Прошла долгая минута — «Большая Тифена» успела только отдать свой большой якорь и распустить блинд. И вот раздался пронзительный крик — первый крик вдовы, а за ним послышались отчаянные рыдания сирот…
Жюльен Граве поспешно протолкался назад к кучке горожан и именитых лиц. Он сказал:
— Не угодно ли вам, господа, пройти со мной? Я прежде всего встречу своего капитана, затем сделаю чиновникам адмиралтейства заявление о призовом грузе, буде есть таковой… в чем я сомневаюсь, — к сожалению не похоже на то, чтобы мой корабль озолотился!.. Пойдемте! Вы будете свидетелями…
Пройдя ходом Ленного Креста, а затем улицами Бэрери и Орбет, они достигли Больших Ворот, между тем как за ними уже несдерживаемый плач и стон возвещал всему городу о трауре по новым малуанцам, погибшим на море, после стольких других…
II
Ялик причалил к песчаной отмели севернее Равелина, и оба гребца взяли весла на прикол, чтобы держаться носом к волне. Тома Трюбле бросил румпель, перешагнул обе банки и выпрыгнул на берег.
Не доходя до свода бастиона, он остановился и поднял глаза. Над внешней аркой Равелинский Спаситель простирал свои бронзовые руки. Сняв шляпу и сложив руки, Тома опустился на колени и набожно помолился.
Только трижды повторив заключительное «аминь», решился он переступить городскую черту.
Дорога, ведущая в город, за первым же сводом круто поворачивала во внутренний двор. Посреди этого двора Тома снова остановился и снова снял свою кожаную шапку. Но на этот раз он не стал низко кланяться: Тома Трюбле не привык гнуть спину, разве что перед Богородицей да перед ее сыном, ибо Тома Трюбле был благочестив.
Здесь же не в религии было дело. На ступеньках, ведущих в зал собраний, стоял в ожидании своего капитана Жюльен Граве. А вокруг, вместе с Жюльеном Граве, поджидало еще с десяток почтенных граждан.
Подойдя ближе, Тома прежде всего заметил своего второго крестного отца
[47], Гильома Гамона господина де ла Трамбле, затем Жана Готье, который в то время строил свой особняк на улице Викариев, и Пьера Пикара, а также кавалера Даникана и еще нескольких других арматоров-судовладельцев. Тома Трюбле почтительно направился к ним и у ступенек остановился.
Судовладельцы в молчании поджидали моряка и, когда он приблизился, все разом обнажили головы, — не без веской к тому причины.
Левая рука Тома Трюбле висела на перевязи, и свежий шрам пересекал его широкое лицо от уха и до середины лба. Щеки его, обычно красные, казались поэтому бледными и помертвелыми. Большой и толстый от природы, на крепких ногах, с мускулистыми руками, он казался теперь, из-за своих ран, еще толще, еще больше, еще сильнее, как бы увеличенным во всех размерах, огромным даже и величественным. Поистине, мнилось, что его обширное тело, так жестоко отделанное битвами, переполнено воинской славой. И хотя Тома Трюбле был весьма низкого происхождения, а по званию всего лишь боцман фрегата из самых захудалых, однако же, богач Жюльен Граве, владелец двадцати других и лучших судов, приветствовал Тома Трюбле, держа в руке свою фетровую шляпу.
— Тома Трюбле, — сказал он, следуя обычаю, которого никто бы не решался нарушать, — Тома Трюбле, да сохранят нас обоих Спаситель и пресвятая Богородица! Вот вы вернулись милостию всевышнего. Нет ли чего примечательного в шканечном журнале?
Левым кулаком он опирался в бедро. Перо его шляпы касалось земли. Своей здоровой рукой Тома Трюбле покачал собственную шапку, украшенную всего только двумя матросскими ленточками.
— Сударь, — произнес он не сразу, — в журнале, можно сказать, ничего особенного…
Он остановился, чтобы перевести дух. Видимо, Тома Трюбле не слишком был силен в красноречии и чувствовал себя лучше в деле.
Затем он повторил:
— Ничего особенного, значит… кроме…
Он опять остановился, глубоко вдохнул воздух и затем выпалил залпом:
— Ничего особенного, кроме разве того, что мы напоролись на паршивца Голландца и его потопили, как следует быть… а также, что капитан Гильом Морван и потом помощник Ив Ле Горик, и семнадцать других еще… их нет в живых. Вот и все, сударь.
Кожаная шапка с длинными лентами описала на вытянутой руке две почтительных кривых — по одной на каждое из произнесенных имен — и снова водрузилась на рыжем и курчавом парике Тома Трюбле. Тома Трюбле, уважив мертвых, почитал неприличным продолжить свое приветствие живым.
Арматор, однако ж, продолжал расспросы:
— Тома, сынок, расскажи подробнее! Что это был за Голландец?
Тома Трюбле в подтверждение энергично тряхнул головой:
— Паршивец, сударь! Гильом Морван, как его увидел, вообразил, что это какой-нибудь купеческий корабль, благо они, желая действовать исподтишка, припрятали баратею под парусину. Мы тогда бросились их нагонять. И на расстоянии, как бы сказать, двух мушкетных выстрелов на паршивце отдали каболки, которыми был принайтовлен парус, и открыли бортовую артиллерию.
— Ну, и тогда?
— Тогда чуть было не вышло дело дрянь: потому что Гильом Морван не зарядил наших орудий, кроме двух погонных пушек. Да, вдобавок, у того были восемнадцатифунтовые и числом двадцать четыре
[48], что давало ему двенадцать выстрелов по правому борту против наших восьми да еще двенадцатифунтовых. Ну, тогда понятное дело!..
— Продолжай, сынок.
— Нас порядком потрепали, сверху донизу, сударь. Я к самому важному бросился, стало быть, к орудиям, чтобы вытащить пробки
[49], изготовиться, зарядить и все… А тем временем Голландец нам влепил два бортовых залпа, да так метко, что, когда я снова выбрался на шканцы, то увидел, что нам срезало брамселя, фор-марсель тоже и что наши начали сдавать. Иные попрыгали в люки, чтобы запрятаться в трюме. А один дурной… нет нужды его называть, чтобы не позорить его семью, так как он малуанец… один дурной, стало быть, теребил фал для спуска флага
[50]. Первым делом я к этому двинулся и строго с ним поговорил, пистолетной пулей в голову… Так уж нужно было, верно говорю…
— Хорошо, милый мой! А дальше?
— Далыпе-то… да все так же! Гильом Морван и Ив Ле Горик уж свалились. Выходило мне принять команду. Поэтому я решил пристать к Голландцу, благо он продолжал нам всыпать, сколько мог, в самое брюхо двойными залпами, а мы слишком слабо отвечали. Так бы долго мы не протянули, сударь.
— Я то же говорю! Только как же ты пристал, паренек?
— На одном руле
[51], раз все постарались забраться поглубже в трюм. Я чуть ли не один и был на палубе. Но как только мы встали борт к борту с неприятелем, я живо выгнал всех наверх…
— То есть?
— Гранатами, черт подери! Которые я им побросал на головы! Этак ребятам стало жарче снизу, чем сверху. Вылезли, поверьте. И в такой ярости, чта стало совсем просто двинуть их на того. Тем более, что это племя канониров и не подумало даже бросить свои пушки, чтобы нас встретить. Им кроме банников
[52] нечем было и крыть, можно сказать. Живо все кончили.
— Опять, скажу, хорошо! А призовое судно?
— Потоплено, сударь. Рук не хватало, чтобы его увести. У нас и так было семнадцать убитых, как я докладывал вам, да сорок пять раненых, из которых добрая половина либо изувеченных, либо выведенных из строя. К тому же приз стоил гроши: никакого груза и старый корпус.
— Сколько пленных, Тома Трюбле?
Тома Трюбле, переступая с ноги на ногу, покачал свое грузное тело и улыбнулся:
— Чего, сударь!.. Какие там пленные!.. Во-первых, не хватало помещения. А потом ребята слишком перетрусили, теперь это приводило их в смущение. Невозможно было оставить на «Большой Тифене» свидетелей такой штуки: как малуанцы попрятались в трюм от неприятеля. Никак невозможно! Потому, когда топили Голландца, я не обращал внимания на его экипаж. Ну, и вот. Что об этом толковать.
— У них были шлюпки?
— Да… поломанные чуточку… Но они сколотили вроде как бы плот… И потом они всегда отлично плавают, эти голландские крысы…
Тома Трюбле от души рассмеялся.
Арматоры тоже смеялись. Жюльен Граве один возразил для проформы:
— Все же, милый мой, Тома…
Но господин де ла Трамбле, старший среди всех, положил ему на плечо руку:
— Э, приятель!., или вы позабыли, как флиссингенцы захватили нашу «Лилию» в пропитом году? А как они поступили с пленными, эти флиссингенцы? Просто подвязали им камней к пяткам и побросали за борт на стосаженной глубине под тем предлогом, что флаг будто бы сперва был спущен, потом снова поднят… Как будто не случается никогда картечи перерубить фал!
— Да! — подтвердил Жан Готье.
И Пьер Пикар презрительно закончил:
— Бог ты мой, сколько препирательств!..
— Право, больше слов, чем людей потонуло!..
— Уж не боитесь ли вы, господа, что у голландцев мамаша помрет.
Они оставались на ступеньках, ведущих в залу собраний, в южном углу двора Равелина. В это время на башне Больших Ворот два раза ударил колокол «Хоремма». Тогда Жюльен Граве, сойдя со ступенек, подошел к своему капитану, чтобы дружески взять его под руку.
— Тома Трюбле, — сказал он, — Тома, сынок, ты честно поступил, и я за это ценю тебя. Теперь пора, ступай в Адмиралтейство. Мы постараемся, если возможно, добиться, чтобы не тянули с осмотром
[53]; надо поскорее отпраздновать на берегу достойным образом победное возвращение наших славных малых. Исполнивши эту обязанность, мы с тобой поговорим о чем надлежит…
Они тронулись в путь, и остальная компания последовала за ними.
Однако же, когда они прошли главный свод между двумя большими башнями и ступили на малуанскую мостовую, Тома Трюбле вдруг оставил руку своего судохозяина и обернулся, глядя на городскую стену.
В соответствии бронзовому Христу, водруженному над внешней аркой, лицом к рейду, гранитная Богоматерь высилась над внутренной аркой, лицом к городу. И Богоматерь эта — Богоматерь Больших Ворот, которую попы называют также Богородицей Скоропомощницей, наверно, столько сотворила чудес кончиком своего мизинца, сколько все святые, в самых святых местах, не сотворили и не сотворят всеми своими разукрашенными мощами…
Вот почему Тома Трюбле, не заботясь о почтенных гражданах, терпеливо его ожидавших, одним взмахом руки скинул шапку, башмаки, фуфайку и штаны и затем в одной рубашке, опустившись голыми коленями на твердую мостовую, три раза подряд прочел Богородице все, какие только знал, молитвы, исполнив таким образом добросовестно обет, который он тайно принес в самый разгар недавнего боя, в тот самый миг, когда, казалось, все погибло и когда он решил, что одна лишь Богоматерь Больших Ворот способна нездешней силой восстановить почти безнадежное положение, разбить уже торжествующих голландцев и даровать уже искромсанным малуанцам невозможную и чудесную победу.
III
Мало Трюбле, держа в руке кочергу, наклонился над тлеющим очагом и стал мешать угли. Головешки затрещали, и снопы искр полетели в широкое отверстие трубы. Мало Трюбле снова уселся в кресло, положив свои большие, сухие и узловатые руки на резные дубовые ручки. Несмотря на четыре свечи в железном подсвечнике, в нижней комнате было темно.
— Гильемета! — позвал Мало Трюбле, — сними нагар! Гильемета живо поднялась исполнить приказание. Отражение четырех огней заплясало в глубине ее светло-голубых глаз, чистое золото заплетенных в косы волос сияло вокруг ее головы ореолом.
Оправленные свечи шире раздвинули вокруг себя светлые круги и к самым стенам отогнали темноту. Стала видна вся нижняя комната от светлого пола и до темных балок потолка.
Комната была прекрасная и почти новая. Оба шкафа и резной деревянный баул казались обстановкой богачей, а окно было завешено белыми занавесками, хотя оно было очень широкое и высокое и в нем было много стекол, и все целые. На лоснящемся дубовом столе сотрапезников ожидала кварта свежего островного вина и четыре кружки. Однако же пока мужчина был только один, Мало Трюбле, отец и глава семейства, и две женщины — Перрина, его жена, и Гильемета, его дочь. Одна шила, другая пряла.
— Мать, — заговорил снова Мало Трюбле, после небольшого молчания, — взгляни, который час на кукушке?
Кукушка была рядом с прялкой. Ее деревянный циферблат едва выделялся на деревянной стене. Перрина Трюбле должна была встать, чтобы разглядеть стрелки.
— Десятый час уже, — разобрала она наконец.
Она говорила сиплым голосом, издававшим ряд прерывистых и дрожащих звуков, без всякой певучести. А между тем она вовсе не была стара. Но жене рыбака, матери шести сыновей и четырех дочерей, сорок пять лет давят голову и плечи, как девяносто.

Мало Трюбле, узнав который час, нахмурил брови.
— В мое время, — произнес он, — дети больше поторапливались, чтобы провести у родителей первые посиделки после похода.
Гильемета подняла лицо от работы с видимым желанием возразить отцу. Но из уважения к нему остановилась.
Тогда мать немного погодя решилась выступить на защиту запоздавшего сына:
— Парня, может быть, задержал хозяин со своими бумагами. Теперь не то, что раньше: напачкают бумаги больше, чем аптекарь, когда счет подает.
Мало Трюбле, мало говоривший, медленно повел плечами и сначала ничего не ответил. Но минуты продолжали свой бег: кукушка пропела девять с половиной. И тогда Мало Трюбле, рассердившись не на шутку, заворчал:
— Сейчас «Хоремма» прозвонит тушить огонь. Порядочные люди никогда не сидят дольше!
На этот раз ни мать, ни дочь ничего не решились сказать. Только Гильемета поднялась, тихонько подошла к окну и раскрыла форточку, чтобы посмотреть на улицу.
Дубильная улица, называвшаяся так потому, что ее населял почти весь цех кожевников, очень узкая, извилистая и черная, как сажа, была в эту пору совсем пустынной из конца в конец. Высунувшись из окна, Гильемета могла различить справа высокий фасад нового дома, который ради каприза арматор Ив Готье, младший брат арматора Жана, выстроил вдалеке от зажиточного квартала, на краю улицы Кузнецов, которая упиралась в Дубильную улицу, как упираются друг в друга две планки наугольника. Все огни были в этой стороне потушены. Налево улица три раза кряду изгибалась так круто, что нельзя было видеть даже улицу Вязов, хоть это и было совсем рядом. Напряженно вглядываясь в темноту, которая с этой стороны была не так густа, потому что свет, падавший из невидимого окна, плясал по стенам и даже по гранитной мостовой, Гильемета чутко прислушивалась к отдаленным звукам, так как Тома Трюбле, возвращаясь, не мог миновать улицы Вязов.
Однако Гильемета не только ничего не разглядела, но ничего и не услыхала, кроме ослабленного расстоянием, смутно доносившегося обычного шума кабаков, которые все были расположены вокруг Больших Ворот, стало быть, на расстоянии семи-восьми кварталов от тех мирных домов, среди которых находился дом Трюбле.
И Гильемета собиралась уже закрыть форточку, как вдруг откуда-то послышался явственный стук сапог по мостовой. В то же время посвистывание, в такт шагам запоздалого путника, прорезало ночную тишину.
Услышав эти шаги и эту песню, Гильемета одним прыжком очутилась посреди комнаты, хлопая в ладоши и крича от радости:
— Отец, отец! Не сердитесь! Вот он!..
Она звонко смеялась, настолько же шумная, если не больше, насколько перед тем была тихой и смирной, сидя за иголкой. Так что старый Мало, снисходительный к молодости своей последней дочери, усмехнулся в свою седую и жесткую бороду:
— Да ты его хоть видела-то, стрекоза? Почем ты знаешь, что это твой брат, а не какой-нибудь другой пропойца, выставленный из кабака?
Но она возмутилась, почти забывая, с кем говорит:
— Тома, — сказала она, — Тома Трюбле, пропойца! Те, кто так говорят, оскорбляют вашего сына и вас вместе с ним, отец!
Она гневно трясла головой, и ее белокурые косы, как неистовые змеи, плясали по спине:
— Тома выставить из кабака! Скорее он сам разгонит весь кабак в один миг! Или вы один во всем городе не признаете своей собственной крови? Уж не позвать ли сюда голландцев за него заступиться?
Она остановилась передохнуть. Но старик не рассердился.
— Ладно, — сказал он, — мир!
Он скорее был доволен. Он чувствовал в ней родную дочь. И что бы она ни сказала, он горячо любил свою кровь, кровь Трюбле, красную и быстро закипающую.
Почти нежно толкнул он круглое плечо, вырисовывавшееся под голубым праздничным платьем.
Для встречи своего брата Тома, которого она обожала так, как каждая сестра обожает своего брата, пока не начнет обожать возлюбленного, Гильемета нарядилась как могла.
— Мир! — повторил Мало Трюбле. — И прежде всего поди открой ему, чтобы он не слишком долго ждал, раз ты хочешь, чтобы ему здесь оказывали такие почести!
Она бросилась отворять…
И вот корсар сидел во втором кресле, по другую сторону очага, лицом к отцу. А Перрина и Гильемета, замыкая между ними полукруг, сидели, не осмеливаясь рта раскрыть, чтобы лучше слышать мужские голоса — один голос старый, сильный еще и сухой, а другой молодой и звонкий; оба обменивались вопросами и ответами с той сердечностью, которой надлежит связывать отца и сына. Нет, парень не был виноват в том, что столь придирчивое Адмиралтейство до захода солнца не собралось разрешить экипажу сойти, наконец, на берег и отправиться, по обычаю, бросить маленький дрек, взятый с судна, на пороге первого же кабака возле Больших Ворот, чтобы затем, на том же самом пороге, каждому выпить залпом по полной кружке за здоровье короля. Какой же капитан мог без ущерба для собственного достоинства оставить своих людей, не выполнив как следует этот обряд?
— Так как же, — спросил Мало Трюбле, — ты и впрямь капитан, не достигший двадцати трех лет?
Но тут Тома нахмурил брови:
— Как сказать! — сказал он, как любят говорить нормандцы: мать его, Перрина, была из Сен-Васта, и Мало, часто заходивший туда во время рыбной ловли, взял ее оттуда, Тома, стало быть, был лишь наполовину бретонцем.
Но Мало, тот ни в какой мере не был нормандцем. Хитрить он не умел, а брал только упрямством, зато уж упрям он был основательно!
— Как сказать! — повторил он уже нетерпеливо. — Что значит «как сказать»? Я такого языка не понимаю! Капитан ты или нет? Сын, отцу надо отвечать или да, или нет.
Мгновенно вспылив, Тома сжал было кулаки. Но сейчас же укротил себя усилием воли, отчего щеки залились краской и обагрился свежий шрам на лбу и виске.
— Отец, — сказал он изменившимся голосом, — вы правы! Но мне самому Жюльен Граве не сказал ничего толком.
Глаза Тома Трюбле, — стальные глаза того оттенка, который принимает океанская волна под грозовой тучей, — сверкали. В них отражались догорающие угли, и казалось, что зрачки корсара мечут красное пламя.
Также рассердившись, но на этот раз уже не на сына, Мало Трюбле хмурил свои щетинистые брови:
— Бог ты мой! — сказал он. — А за это чем заплатит Жюльен Граве?
Он направил свои два пальца на рассеченное лицо и руку на перевязи.
— О, — произнес Тома презрительно, — об этом кто же заботится? К тому же, оба паршивца, которые меня ударили, уже на том свете.
— Господи Иисусе! — вскричала Перрина Трюбле, и материнские глаза ее расширились от ужаса, — скажи, сынок, своей старухе: рука эта неужто сломана?
Но Тома, у которого гнев простыл, звонко расхохотался:
— Какое! Кость слишком тверда! Голландская сечка об нее зазубрилась. Успокойтесь и вы, мать Перрина, и наша Гильемета тоже: оторвало кожи не больше, чем пистолетной пулей, мяса под ней и не задело… Да не плачьте же! А что касается тех, кто меня убьет, то я вам вот что скажу: их отцы и матери пока что еще и не путали своих башмаков!
Четыре свечи в железном подсвечнике не настолько ярко светили, чтобы можно было с уверенностью разглядеть бледность широкого лица, такого красного в обычное время. Что бы Тома ни говорил, все же он потерял по крайней мере две полных пинты крови. Одни только материнские глаза не обманулись. И Перрина Трюбле, боясь рассердить сына, больше не настаивала на вопросе о нанесенных и полученных ударах.
Поговорили об отсутствовавших, потому что в те времена редкое малуанское семейство было все в сборе. Впрочем, Тома незачем было расспрашивать ни о брате Жане, ни о брате Гильоме, ни о брате Бертране, ни о брате Бартелеми: все четверо были, как и он, моряками, и все четверо в ту пору плавали в дальних водах. Из пяти сыновей Трюбле (шестой погиб в кораблекрушении) Тома позже всех покинул Сен-Мало. «Большая Тифена», вооруженная лишь для нападений вблизи европейских портов и никогда не ходившая дальше мавританского берега или Мадейры, не проплавала и трех полных месяцев, как закончила, известным нам уже образом, свою кампанию, гораздо быстрее, чем рассчитывал ее арматор.
Так что Тома, знакомый с обычаями, и не спрашивал новостей про других родных, кроме только трех своих сестер, которые были старше Гильеметы и все замужем: две — в Сен-Васте за свояками-нормандцами, а третья — в Фау, в дальних местах, в самой глубине нижней Бретани. О последней ни Мало, ни Перрина никогда ничего, кроме неопределенных слухов, не знали. О первых тоже немного бывало известно, с тех пор, как Мало, разбитый болезнями и к тому же достаточно обеспеченный долей своих сыновей в добыче корсаров, продал сети и барку и навсегда отказался от рыбного промысла.
— И вот, сын мой, Тома, — в заключение сказал Мало Трюбле в ответ на расспросы корсара, — наша большая семья стала теперь маленькой до той поры, пока не угодно будет владычице вернуть сюда твоих братьев. Ничего! Нас четверо, и четыре полных кружки ждут на столе! Это настоящее вино с Островов, которое досталось Гильому и Бартелеми, когда они, тому уже скоро семь лет, взяли на абордаж испанский галион. Ты тогда был еще желторотым птенцом. Теперь и у тебя выросла борода. За твое здоровье, сынок!
Стоя почтительно чокнулся Тома своей кружкой о кружку отца. В это самое время кто-то снаружи три раза постучал во входную дверь.
IV
Было уже далеко за десять, и на башне Больших Ворот колокол «Хоремма» давно отзвонил к тушению огней. Правду говоря, много малуанцев, нисколько об этом не заботясь, продолжали самовольно сновать по городу, как будто ночь и не наступала. Но эти полуночники, презирающие закон и неоднократные запреты его высокопреосвященства и магистрата, ограничивали обычно свои прогулки одними кабацкими улицами; Дубильная же улица не была из их числа.
Услышав, что стучат в дверь, и рассудив, что час был неподходящий для приличных приемов
и посещений, Мало Трюбле недолго колебался.
И, прежде чем подойти к двери и раскрыть решетчатое окошечко, он спокойно снял со стены висевший там длинный мушкет и зажег у него фитиль.
— Кто стучит? — спросил он, ко всему готовый.
Но в ответ послышался отчетливый голос:
— Ваш кум, дружище Трюбле, ваш кум и сосед, проживающий — вы знаете где, на улице Викариев.
Удивленный Мало Трюбле убрал мушкет.
Тома, стоявший рядом с отцом, взглянул на него вопросительно.
— Открывай! — приказал старик.
В отверстии открытой двери показался высокий силуэт здорового мужчины приятного вида, левая рука которого покоилась на эфесе длинной шпаги. Тома не мог удержаться от удивленного восклицания.
— Ба, — произнес он, разинув рот, — господин кавалер Даникан!
Готье Даникан господин де Клодоре, меньшой брат господина де Л’Эпин, сын которого сделался впоследствии маркизом де Ландивизно, маркизом де ла Тебоде и графом дю Плесси д’Алиг, конечно, не был самым богатым среди малуанских арматоров, — далеко нет! — но, бесспорно, он был самым предусмотрительным, самым смелым и самым удачливым из всех. Младший в семье, хорошего рода, но плохо обеспеченный, отнюдь не желая прозябать в качестве блюдолиза у старшего брата, он смело рискнул своей скудной законной долей, заменявшей ему все полученные и ожидаемые наследства, с ранних пор пустив ее в море все до копейки, и очень кстати, за что осторожные люди прощали его, как только могли. Он же, видя, что судьба сразу вознаградила его отвагу, повторил то же самое, — рискуя на этот раз не только основной ставкой, но и барышом, — потом снова повторил. И все настолько удачно, что меняя торговлю на каперство, когда мир сменялся войной, — причем и то, и другое обогащало сундуки предприимчивого кавалера, — Готье Даникан, несмотря на молодость, стал числиться среди самой зажиточной буржуазии Сен-Мало; и надо было ожидать, что богатство его будет все расти и когда-нибудь затмит самые давние и блестящие состояния не только города, но, может быть, и всей области.
Он вошел в нижнюю комнату, улыбаясь до ушей. Тотчас же четырьмя любезностями, ловко пущенными по четырем направлениям, он угодил всей семье: отцу, матери, дочери и сыну. Теперь он осушал свою кружку, восхищаясь качеством славного вина, некогда собранного на галионе испанского короля.
— Черт возьми, кум Трюбле! Осталось ли у вас достаточно этого чудного зелья, чтобы попить его так, как надо будет пить в день свадьбы вот этой прелестной девочки?
— Всего лишь с полбочонка, сударь!
— Не беда! Тома позаботится о том, чтобы достать новый запас в Рэйтеровских камерах!
И давай что есть мочи хохотать, хлопая парня по плечу.
Он болтал в этом роде, много разговаривая и ничего не говоря. Однако все ждали, прекрасно зная, что умный человек, а кавалер Даникан был четырежды умен, понапрасну не беспокоится и других не беспокоит в такой поздний час, чтобы только попить вина с Островов да лясы точить. Готье Даникан действительно поболтал ровно столько, сколько требовала вежливость. И когда он выказал ее в меру:
— Кум! — сказал он вдруг, — я не думаю, чтобы тут были лишние, даже если нам захочется посекретничать?
Он смотрел на Перрину и Гильемету. Мало хотел отослать их спать.
— Да нет же, — возразил Даникан. — Мало Трюбле, вы меня не поняли! Я ничуть не хочу лишиться удовольствия видеть, как это я сейчас у вас вижу, лицо благоразумной дамы и личико умненькой девушки. Отнюдь нет! Я просто хотел всех предупредить, что надо держать про себя то, о чем я буду говорить, и что притом одинаково всех нас касается, и мужчин, и женщин, если только с моей стороны нет ошибки или неразумия.
Он отстегнул свою портупею и положил свою шпагу на стол с таким видом, словно хотел расположиться поудобнее для длинного разговора или обсуждения. Потом, опершись на локти и обернувшись на этот раз к Тома Трюбле, он посмотрел ему в глаза взглядом, колючим, как бурав.
— Тома, — сказал он затем без предисловий. — Тома, моряк! Скажи мне откровенно, не нарушая, понятно, клятв и чести: что тебе только что сказал Жюльен Граве, твой хозяин? Что ты ему ответил? И о чем вы до сей поры между собой сговорились?
Он не спускал глаз с корсара. Трудно было бы лгать под надзором этих глаз, которые вам пронизывали зрачки и шарили у вас в башке, как будто подбирая отмычку к самым сокровенным вашим мыслям.
Но Тома Трюбле и не собирался врать. Гнев его, только что с трудом заглушенный, снова хлынул от сердца к горлу. Сначала он не мог даже слова произнести и начал заикаться. Под стиснутыми кулаками затрещали ручки кресла.
Готье Даникан невозмутимо наблюдал эту ярость.
— Малец, — сказал он, помолчав немного, — успокойся и отвечай мне. Не стыдись и не смущайся! Я уже знаю или догадываюсь, что ты скажешь. Потому что… к чему нам лицемерить… Я видел Жюльена Граве после того, как он виделся с тобой. Так что ничего нового ты мне не откроешь.
Тома Трюбле, у которого под нахмуренными бровями сверкало гневное пламя, подвинул вопрошающее лицо к кавалеру.
— Да, — подтвердил Даникан. — Твой арматор чересчур плутоват; он насмеялся над тобой, не правда ли? Скажем лучше — думал насмеяться? Ну, ну, сынок, смотри, не сломай кресла! Ты не баба, нечего стонать и кричать. Скажи мне определенно, как обстоят дела? Подписал ты свой крест под контрактом?
— Нет, — выговорил, наконец, Тома.
— Прекрасно! Ну, а по рукам вы еще не ударили?
— Нет еще!
— Слава богу! Ты, значит, свободен! Эта балда, которая мешкает, чтобы побольше выиграть, проиграет, — или я дурак! Теперь поговорим — пора! Эта, якобы новая, «Большая Тифена» прогнила насквозь? Я так и знал!.. Какой корабль хочет Жюльен Граве снарядить вместо нее?
— Свою «Галантную».
— Свою «Галантную»? Неужто? «Галантную» — которая еще постарше лет на пятнадцать, по крайней мере! Уж ты мне поверь. Мой дед помнит, как ее спускали, а это было при покойном короле — да сохранит его господь в своем царстве. — Черт возьми! Пропади они пропадом, эти жадюги и скупердяи, которые все норовят на обухе рожь молотить!.. «Галантную»! Да ведь ты, Тома Трюбле, будешь на ней по двенадцать часов в сутки проводить у трюмной помпы, а остальное время молиться своему святому угоднику, чтобы он сохранил тебя от свежей погоды!
Тома только молча пожал плечами. Готье Даникан говорил правду и, видимо, не ждал ни одобрения, ни возражений. Впрочем, он уже продолжал, в то время как все остальные молчали:
— Кроме того, ты этой скорлупой и не будешь командовать. Нет, паренек. Ты не будешь ею командовать, я тебе это говорю, если Жюльен Граве еще не решился тебе это сказать. На этой сверху донизу прогнившей «Галантной» ты будешь помощником, только и всего — помощником, с правом на восемь долей
[54] помощником. И знаешь какого капитана?
Тома Трюбле поднял брови.
— Старого Франсуа Кентена, который за всю свою жизнь не мог выйти из Доброго Моря, чтобы не задеть по пути все суда, какие стоят на якоре от Равелина до Таларов!.. Да, милый мой, и такому человеку ты будешь подчиняться, ты, Трюбле, который на самого Рэйтера нагнал бы страх! Ты спросишь меня, почему? — Потому, что Жюльен Граве боится тебя, ему страшно раздуть сверх меры твою храбрость и твою отвагу, потому, что он войны не любит, а ты ею чересчур увлечен, на его взгляд. Так и есть!.. Сделай он тебя капитаном, ты бы слишком хорошо дрался, ты слишком бы многих тузил и тебя бы порядочно тузили. А Жюльен Граве трясется за свое дерево, за свой трос, за свою парусину. Он не прочь заработать, твой хозяин. Но он боится рисковать. А в руках такого петуха, как ты, слишком уж не поздоровится его дереву, парусине и тросу. Вот Франсуа Кентен и будет всегда при тебе, чтобы загораживать от тебя дичь своей благоразумной трусостью. И, будь уверен, он тебя избавит от многих тревог! Например, большие призы уйдут у тебя из-под носа!.. Большие призы, гм… это пахнет порохом, а Франсуа Кентен последит за тем, чтобы избежать перестрелок… Зато ты наверстаешь потерянное на мелкоте. В Зейдерзе селедочников довольно…
Мало-помалу, в продолжение этой речи, кровь отливала со щек Тома Трюбле. И Тома Трюбле, побагровевший было от мужественной ярости, стал теперь мертвенно-бледным, таким бледным, как его сделали недавние раны. Он даже позеленел до такой степени, что Даникан, не перестававший за ним наблюдать, скоро решил, что вместо отхлынувшей крови теперь уже только желчь, гной и прочая ядовитая влага бешено струятся по жилам у Тома. И тогда, смело открыв все свои карты, как ему было свойственно, Готье Даникан, господин де Клодоре, судовладелец из Сен-Мало, разом оборвал свое многословие и, встав во весь рост, положил широкую свою ладонь на плечо корсара Тома Трюбле:
— Товарищ! — сказал он. — Поговорили и довольно! Твой Граве, его «Галантная» и Франсуа Кентен — все это для тебя не годится. Мне думается, я прав? Другие люди, другие предложения тебе лучше подойдут, я уверен. Что скажешь?
Сделавшись сразу спокойным и внимательным, Тома Трюбле взглянул на Даникана.
— Да! — сказал кавалер. — Закончу: другие люди — это я, другие предложения — это мой фрегат — «Горностай». Брось ты своего скрягу и переходи ко мне! Такие ребята, как ты, мне нужны. А такие арматоры, как я, нужны тебе.
Он смотрел прямо в глаза корсару. И он усмехнулся в свой длинный ус, подстриженный по моде последнего царствования, заметив, что Тома Трюбле, только что полный ярости и плохо владевший собой, все же, как только понадобилось обсудить важное дело, разом обрел свою осторожность, свой здравый смысл и даже свою полунормандскую хитрость.
— Как сказать! — произнес он спокойно и ясным голосом. — Господин кавалер, конечно, вы оказываете мне большую честь. Я не стану отрицать разницы между вашим «Горностаем» и «Галантной» Жюльена Граве. Договоримся, однако же, если угодно, потому что всегда следует договориться. Прежде всего, что именно вы мне предлагаете?
Даникан опустил на стол сжатый кулак.
— Я предлагаю, — сказал он, — тебе, Тома Трюбле, бывшему боцману «Большой Тифены» на службе у Жюльена Граве, перейти на службу ко мне, Готье Даникану, капитаном, с правом на двенадцать частей, и хозяином, вслед за Богом, моего фрегата «Горностай», вооруженного для крейсерства, каковой фрегат, в девяносто фут по длине киля, несет двадцать восемнадцатифунтовых орудий и сто человек команды, с тобой включительно.
Тома Трюбле тоже встал. Он посмотрел на отца своего Мало, потом на свою мать Перрину. После чего снова обратился к кавалеру Даникану:
— Слово крепкое? — коротко спросил он.
— Крепкое, — молвил Даникан. — Ив доказательство вот тебе моя рука, которая стоит клятвы. Затем все решено, и Бог нам на помощь! Если хочешь — по рукам, не хочешь — не надо. Ни то, ни другое нас не поссорит.
— Пресвятая Дева Больших Ворот! — сказал Тома Трюбле, — по рукам!
Со всей силой хлопнул он по протянутой руке, и та не поддалась под ударом.
V
— Капитан, — произнес кавалер Даникан, — капитан, стало быть, слушай и запомни то, что я тебе скажу, так как у нас, начиная с завтрашнего дня, больше не будет времени вволю поболтать. Я хочу, чтобы наш «Горностай» был в воскресенье готов к походу. Сосчитай по пальцам — у тебя четыре дня в распоряжении.
Тома Трюбле прикинул на пальцах и покачал головой.
— Как далеко подвинулось вооружение?
— Все готово, и фрегат мог бы поднять якорь с первым же приливом, если бы мне заблагорассудилось. Твой помощник разворачивался как мог. А он человек с большими возможностями, — это Луи Геноле, сын кузнеца, что кует по улице Решетки. Ты его знаешь, Тома. Он тебя тоже знает, любит тебя и готов тебе повиноваться.
Старый Мало удивленно поднял голову и посмотрел на судовладельца.
— Луи Геноле? — спросил он, — маленький Луи, помощником? Не слишком ли он молод?
Но Даникан ударил ладонью по эфесу шпаги, продолжавшей лежать на дубовом столе, и шпага издала воинственный звук.
— Молод? — произнес он, — молод? Ну, конечно, кум! Слава богу, что он молод. Потому что судьба — гулящая девка, и только молодые умеют ей вовремя задрать юбку. Эх, Мало Трюбле! Не думаешь ли ты взаправду, что нужны седые бороды, чтобы ходить по волнам, и что только умудренная старость способна на воинские безумства, которые множат наше богатство? Ну, нет! Твой сын и сын Геноле — вот кто мне нужны. И, кроме нескольких старых морских волков, которым нипочем взять горошинку с нока-рея в непогоду, мне не надо людей старше этих молодцов на моем «Горностае», потому что, когда мой «Горностай», закончив кампанию, вернется в Сен-Мало, он должен быть доверху набит золотом!

Снова ударил он по эфесу своей шпаги и, посмотрев в глаза корсара, снова улыбнулся от удовольствия: глаза эти, словно заранее отражая блеск обещанной добычи, пылали рвением и алчностью.
— Итак, — продолжал кавалер, — докончим наш разговор. Фрегат в полной готовности, способен на любую работу, команда набрана, и ты будешь ею доволен. Впрочем, если тебе на борту что-нибудь окажется не по душе, то у тебя — четыре дня в распоряжении, и ты двадцать раз успеешь все перегрузить и все перевернуть. Делай по-своему, это тебя касается. Клянусь Богом, ты, вслед за ним, — хозяин на своем судне. Но смотри, чтобы в воскресенье, с утренним приливом, все были на своем месте. Тот трус, который отрекается, — мы били по рукам.
— Били, — сказал Тома.
Он размышлял. Помолчав, он спросил:
— А место назначения от меня будет зависеть?
— Нет, — молвил Даникан.
Наступило снова молчание. Кавалер вглядывался в лица внимательных собеседников и старался взглядом проникнуть в глубину обращенных на него четырех пар глаз.
— Ба, — сказал он, наконец, — другие… и, конечно, Жюльен Граве, в особенности… постарались бы напустить здесь туман побольше, чем осенью бывает на Ла-Манше… Но чего мне таиться, раз все мы пятеро здесь присутствующих только выиграем, если сумеем молчать? Нет, капитан Трюбле, место назначения будет зависеть не от тебя, так как я его уже выбрал. Но не бойся! Если я выбрал, так значит знал, что выбрать. Сын мой, я тебя не пошлю в Зейдерзе ловить селедочников, и чтобы тебя самого словили. Наш «Горностай! не станет стеречь голландских крыс у выходов из их норы. Никак нет! Эти прощелыги кичатся тем, что они «морские возчики», — сами себе придумали название. На всех океанах лавируют их корабли с таким гонором, как будто вся соленая вода им принадлежит, и губят пиратством торговлю других стран… Разве я не правду говорю? Я, например, не слышал что-то, чтобы в Вест-Индии было много голландских земель, и все-таки, презирая договоры, всюду развевается трехцветный флаг и дерзко покрывает иные грузы, которые должны бы принадлежать или нам, подданным короля Франции, или нашим друзьям, подданным королей Испании и Англии. Тома Трюбле, ты прежде всего должен прекратить это бесчинство.
— Стало быть, в Индию? — спросил Тома.
— Да, — в Вест-Индию, к Антильским островам. Вот куда я тебе приказываю держать курс, как только выйдешь из фарватера. Это я тебе приказываю, но только: раз ты бросил якорь у Тортуги, — каковая Тортуга тамошний остров, — ты выполнил мое приказание, остальное зависит от тебя. Тогда хорошенько разберись в обстоятельствах и помни только общее мое наставление: опрастывать вражеские трюмы и набивать свой собственный.
Теперь все молчали. Нахмурив брови, старый Мало старался себе представить эти почти сказочные Антилы, куда он никогда не добирался даже в самых отчаянных своих рыболовных предприятиях. Обе женщины слушали в смятении. Сестре уже чудились попугаи, обезьяны и другие неслыханные звери, населяющие Острова, которых Тома, очевидно, привезет десятками; мать своими материнскими глазами видела бури, кораблекрушения, людоедов, акул, лихую горячку. Что касается Тома, то он обдумывал про себя слова кавалера, весьма их одобряя. Тома Трюбле был человек осторожный. И Готье Даникан с минуты на минуту все больше в этом убеждался. Постучав недавно в дверь, арматор явился, собственно, за тем, чтобы связать со своей судьбой судьбу храброго молодца, чья недавняя победа наполняла восхищением и гордостью весь Сен-Мало. Но удача, как всегда, баловала Даникана: упомянутый молодец, помимо всего прочего, оказался ловким и хитрым дядей. Каждое его слово служило тому порукой, каждое молчание — тоже.
Теперь он осведомлялся, задавая вопросы короткие и определенные.
— Что, сударь, ждет меня там хорошего и дурного? Я хочу знать, чтобы лучше вам послужить, так как мне незнакомы те широты.
Готье Даникан кивком головы одобрил своего капитана.
— Конечно, ты прав, что расспрашиваешь. И мне бы многое хотелось знать, чего я не знаю, чтобы тебя научить. Не беда! Ты и сам там научишься. Самое важное вот что: в американской Индии есть, как я тебе говорил, французы, англичане, испанцы, которые имеют право там быть, и голландцы, которые этого права не имеют. Там есть много обширных земель: остров Сан-Доминго, полу-французский, полу испанский, остров Ямайка, уже лет двадцать принадлежащий англичанам, и Куба. Но я тебе назвал Тортугу. Остров этот, как меня уверяли те, кто там бывал, в смысле размеров почти что нуль; может быть, Сен-Мало показалось бы на нем теснее, чем в кольце своих стен. Впрочем, кому важны размеры отчего дома? Мы, малуанцы, хорошо знаем: город наш невелик, а слава о нем гремит повсюду. Точно так же и остров Тортуга превосходит своей известностью Ямайку, Сан-Доминго и Кубу, вместе взятые. Вот почему, сын мой, ты прежде всего бросишь якорь в этом благословенном месте — в настоящей столице Антильских островов, — чтобы собрать там справки и обучиться, как ты того желаешь, всем полезным вещам.
Тома, кивая головой, в свою очередь одобрил своего арматора.
— Я полагаю, — сказал он, — что Тортуга эта французам принадлежит?
— Да, — сказал Даникан, — король держит над островом Тортугой и побережьем Сан-Доминго губернатора.
По последним сведениям, какие я имел, должность эту занимал господин д’Ожерон, о котором отзывались с похвалой. Это было в 1666 г., когда губернатор Мартиники, мой родственник, приезжал ко двору, чтобы по требованию господина Тюренна дать отчет в своем управлении. С тех пор не знаю… Еще бы! Тортуга — остров французский, может быть, в большей степени даже, чем многие другие земли, подчиненные королю… хотя в тех местах не всегда в точности подчиняются королю…
Тома Трюбле вопросительно взглянул на Даникана.
— Не всегда в точности, нет! — повторил судовладелец. Пусть это тебя
не удивляет, капитан! Тортуга, во-первых и прежде всего, владение и родина корсаров, и притом корсаров отважных среди отважных. Эти ребята имеют право на некоторое снисхождение его величества, и они им пользуются. Поступай, как они, я жаловаться не буду.
Большое и румяное лицо, на котором, как свежая кровь, выступал косой шрам, нарисованный голландской саблей, расплылось неожиданной улыбкой. И Тома Трюбле продолжал расспросы:
— Кто же они, эти корсары с Тортуги?
— Они — флибустьеры, — ответил кавалер Даникан, — флибустьеры! Запомни это имя: флибустьеры! А тех, кто его носит, ты быстро узнаешь…
Кавалер уже встал и пристегивал портупею. Надев шпагу, он проверил, хорошо ли она вынимается из ножен. Несмотря на стражу, дурные встречи не были редкостью в ночном городе. Завернувшись в плащ, Готье Даникан оставил правую руку на свободе, на всякий случай.
— За сим, — сказал он, наконец, — до свидания, дорогие хозяева, покойной всем вам ночи, и да хранит вас святой Винцент, патрон нашего города. Мало, сосед мой, мы попьем другого винца, не хуже этого, когда сын твой вернется с Островов. Госпожа Перрина и вы, моя прелесть, целую ваши руки. А тебе, друг мой, скажу: до завтра, если угодно Богу!
И вышел.
VI
Тишина и сон царили теперь в доме на Дубильной улице.
Тома и Гильемета, как подобает детям, первыми поднялись по деревянной лестнице, ведущей в их комнаты. Потом Перрина последовала за ними. И, наконец, Мало, глава семейства, потушил последнюю свечу в железном подсвечнике, тщательно проверив, все ли в порядке со стороны входа: замок, засовы и двойные запоры.
После чего все погрузилось в молчание.
Невзирая на это, немного попозже, легкий шум возобновился в спящем доме, легкий шум шагов — осторожных и тихих, таких заглушенных, что они не потревожили сон стариков. Желтый луч, падавший из ручного фонаря, осветил нижнюю комнату. Тома и Гильемета, — она в нижней юбке, он совершенно одетый, готовый шататься где угодно, — веселые и лукавые заулыбались друг другу. Не в первый раз покровительствовала сестра ночным похождениям брата. Когда ему еще не исполнилось двадцати лет, а Гильемете в то время не было пятнадцати, уже тогда Тома каждую ночь удирал, чтобы таскаться по кабакам, а также и по другим местам, о которых он не говорил Гильемете. Понятно, не в вечер такого дня, — дня, бывшего свидетелем того, как он променял на шляпу с пером и шпагу свой боцманский серебряный свисток, — не в такой вечер капитан Тома Трюбле стал бы вместе с курами укладываться спасть, не совершив сначала прогулки по городу и не пожав руку добрым приятелям и однокашникам.
— Ладно же! — сказала Гильемета. — Смотри только не шуми, когда вернешься. Ты узнаешь мое окно? Брось в него горсть песку, — я тебя услышу и побегу тебе отворять.
— Экие дела! — беспечно сказал Тома. — Лучше не запирайся на засовы. Я с собой возьму ключ, и все будет в порядке.
— Ну, нет! Тут слишком много шатается всякого сброда… Слишком много бродяг, вроде тебя, дурной!
Она засмеялась, погрозив ему пальцем.
— Признавайся, ты разве не забирался в чужие дома, разбойник?
Он схватил ее за руки и поцеловал в обе щеки:
— Вредная девчонка! Ты же знаешь, что это только ради шутки.
— Как бы не так! — сказала она. — А когда старик Дюге, который этого ведь не знал, взялся за мушкет, так это тоже в шутку один из вас проткнул его шпагой. Ведь это ты был…
— Ты у меня замолчишь?
Он душил ее в объятиях, продолжая покрывать поцелуями ее лицо, одновременно ругая ее и называя потаскушкой.
— Лжешь! — возмутилась она.
Потом с любопытством:
— А эта Анна-Мария, которую ты соблазнял, как ты теперь с ней? Ты к ней пойдешь?
Она презрительно сжала губы.
Анна-Мария Кердонкюф когда-то была ее подругой и приятельницей. Но Анна-Мария поддалась уговорам Тома. Была ли то добродетель или ревность, но Гильемета, ничего не имевшая против того, чтобы Тома был возлюбленным всех других женщин и девок
[55], ей неизвестных, нашла очень дурным, что Анна-Мария стала милою Тома.
— Отвечай же! — сейчас же вскипела она, — пойдешь ты к этому отродью?
Тома поломался:
— Если захочу, — сказал он. — Ты тоже хороша. Чего ты на нее нападаешь?.. Что она тебе сделала?
Гильемета выразила крайнее презрение.
— Мне? — прошипела она, втянув губы. — Мне? Анна-Мария? Что бы она могла мне сделать? Или ты воображаешь, что я с ней разговариваю? Святые великомученицы!.. Да ни одна из нас, кто хоть чуточку себя уважает…
Но Тома насмешливо ее прервал:
— Ну да, болтай! Стану я тебя слушать!.. Ты забыла, что вас с ней было водой не разлить. А теперь она у тебя черна, как сажа? Это уж не без причины. Вы что, вцепились друг другу в волосы, и тебе, верно, попало?.. Она больше тебя и толще, Анна-Мария…
В ярости Гильемета со всей силой его ущипнула.
— Мне попало? Мне! Ей-богу, ты не в своем уме. Да я ей ногтями глаза выцарапаю и заставлю прощение просить, твою потаскуху! Приведи ее сюда, если хочешь увидеть ее слепую!..
— Тише, крикунья! Замолчишь ли ты, наконец? Покричи еще, и тогда кое-кто другой за тебя возьмется.
Он показал пальцем на деревянную лестницу и расположенную над ней дверь в комнату стариков. Гильемета смущенно опустила голову.
— Дура ты, дура, — сказал он. — Да нет, не пойду я к ней, к Анне-Марии.
— Верно? — недоверчиво спросила она.
— Так же верно, как воскресная служба. Ты же знаешь, тебе я не часто вру…
— Значит, она тебе больше не нужна?
— Нет! Мне нужна другая…
— О! — сказала она и радуясь, и сердясь. — Этому я еще могу поверить… Но и бабник же ты!.. Ладно, я тебе на этот раз прощаю… Уж очень мне интересно посмотреть на рожу той, когда она узнает!
— Она не узнает.
— Как же! Да я сама ей скажу, когда встретимся у колодца!
— Вот сплетница! Уж больно ты любишь шишки да царапины!..
— А сам-то!
Стоя друг против друга, они залились смехом.
Гильемета не могла успокоиться:
— Скажи-ка… Кто это, новая-то твоя?
Но Тома насмешливо свистнул.
— Кто? — сказал он, — а та, к которой я пойду… и которая мне не прожужжит ушей, как ты, болтунья! Ну, теперь довольно. Дай пройти, мне пора… Уж первый час, никого не останется в кабаке!
Она за него уцепилась:
— Скажи, кто?., а то не пущу…
Он поддразнил ее:
— Береги лучше юбку!.. Я сам тебя не пущу…
Красная, как мак, она вырвалась сильнее, чем стоило из-за этой шутки.
— Иди, дурной!.. Вот тоже… видали вы такого пирата?
— Замолчишь ты, балаболка?
Поцеловав ее, он захлопнул за собой дверь.
VII
В кабаке у Больших Ворот матросы Жюльена Граве все еще пьянствовали. Все были налицо. Входящего Тома Трюбле со всех сторон встретили криками.
— Будьте здоровы! — сказал он, отвечая всем сразу. — Вот и я опять, как обещал. Где бы тут втиснуться?
Он перелез через две скамейки, через стол. Плащ свой вскинул на плечо. Ножнами своей шпаги он задел чей-то стакан и опрокинул его.
— Смотри, Трюбле! — вскричал сидевший за стаканом. — Твоей шпаге пить захотелось.
Трюбле засмеялся. В дальнем углу кто-то сидевший за столом с несколькими собутыльниками поднялся с табурета:
— Шпага? — сказал он. — Так, стало быть, мы теперь уже дворяне?
Тома Трюбле, успевший сесть, сразу вскочил.
— Кто меня задевает? — сухо спросил он.
Но тот предпочел благоразумно промолчать. Тома снова занял свое место. Матросы его поднимали вокруг него стаканы.
— Трюбле, матрос! Ура! Выпей за наше здоровье!
Он выпил. И пока служанка подавала новую кружку, он сделал вид, будто портупея ему мешает и, отстегнув ее, положил свою шпагу на стол, как при нем это давеча сделал кавалер Даникан:
— Черт подери! — выругался он, — хочет она пить или нет, а за эту рапиру тоже следует раздавить стаканчик. Это та самая, которую носил покойник Гильом Морван, наш капитан. И, поистине, он хорошо ею владел.
— И ты тоже! — закричали ребята. — Ура! Этот стакан за рапиру!
Иные сказали: «за рапиру Гильома Морвана», иные: «за рапиру Тома Трюбле».
Довольный Тома ударил по стальному эфесу, по-прежнему подражая Даникану.
— Так-то! — сказал он, поглядывая в дальний угол. — Шпага стала моей, как вы все подтвердили, по праву наследства. И как Гильом ею владел, так буду владеть ею и я, капитан, как и он…
Он привел надменный девиз, который герцогиня Анна высекла на граните своего замка:
— «И кто бы ни роптал, так будет, я так хочу!»
Послышались новые восторженные крики. Один из рьяных матросов со всей силы ударил кулаком среди стаканов.
— Ура! — завопил он. — Эту чашу — за Тома, капитана! Чей-то голос, трудно было разобрать откуда, спросил:
— Капитан? Да будто бы?
— Да, капитан! — властно сказал Тома. — «Кто бы ни роптал…»
Но никто не роптал, совсем напротив. Во всей кучке матросов с «Большой Тифены» поднялось шумное ликование.
— Правильно сделано! — кричали со всех сторон. — Командуй, капитан! Бей Голландца! Да здравствует король! Наклади в рот Рэйтеру! Тома, бери нас к себе на судно, мы твои люди.
— Черт меня побери, — воскликнул Тома, — если я не заберу вас всех, доказавших свою храбрость!
— Когда ты снимаешься с якоря? — спросил один из самых трезвых.
— Завтра, если захочу! — решительно ответил Тома.
В это время среди тех, кто пил в дальнем углу кабака, разгорелся спор:
— Да сиди ты! — советовал Один из них, тот самый, что недавно издевался над шпагой Тома Трюбле. — Сиди и подожди немного. Не видишь разве, что он пьян?
— Да, — подтвердил еще кто-то. — И смотри, пьяный он зол, как собака. Так же, как его отец, и все в их доме, когда напьются.
Но вставший не слушался товарищей.
— Как собака или как кошка, — мне все равно. Ты разве не слышал, что он намерен завтра сняться с якоря? Я сегодня же с ним поговорю, и, пьяный или трезвый, а он меня выслушает.
— Винцент, ты с ума сошел! Чего ты? Незачем искать ссоры…
— Я и не думаю ссориться. Нет, клянусь Богоматерью, не я ищу ссоры!
Продолжая стоять, он высвободился из рук, пытавшихся его удержать. И подойдя к столу, за которым сидели ребята с «Большой Тифены», он придвинулся к Тома Трюбле и положил ему руку на плечо:
— Тома! — окликнул он его глухим и немного хриплым, но четким голосом.
Тогда наступило молчание. Человек, обратившийся к Тома, говорил негромко. Тем не менее его хорошо расслышали, может быть, из-за странного его голоса. И как только он его окликнул, все пьяницы сразу прекратили крик и пение: так как для всех стало явной и неожиданной очевидностью, что не время горланить, что должно произойти что-то важное.
Тома Трюбле разом повернулся на своем табурете. Побеспокоенный таким образом в разгар пьянства и среди своих матросов, он готов был, по своей природной вспыльчивости, броситься на незваного собеседника. Он вскочил, сжал кулаки.
Но увидев подошедшего и узнав его, он сразу утих, расхохотался и снова уселся.
— Вот как! — сказал он. — Это ты, Винцент Кердонкюф? Чем ты там занят в своем углу, отчего не идешь сюда, с нами выпить?
Успокоенная толпа громко выразила одобрение. Один только Винцент Кердонкюф не вторил ей.
— Тома, — сказал он, — ты, я знаю, хороший товарищ, и я тебе благодарен. Но сейчас нам с тобой совсем не время пить, — у меня к тебе дело, и важное дело. Ты не сказал ли только что, будто завтра, может быть, снимешься с якоря и выйдешь в море?
— Да сказал.
— Так значит нам с тобой надо сегодня поговорить с глазу на глаз, и, если угодно богу, по-дружески.
Тома, как ни казался он только что горластым и крикливым, на самом деле не выпил и четверти того, что ему надо было, чтобы только немножко захмелеть.
— По-дружески? Винцент, приятель, раз это так, а я надеюсь, что это так, на кой черт прерывать наш вечер и уходить из этого места, где вино совсем недурное? Подходи лучше, садись сюда и выкладывай свою историю!
Винцент Кердонкюф отрицательно покачал головой.
— Нет, — сказал он, — это невозможно. Тома, только мы двое, ты да я, и никто больше, должны знать эту историю. И я тебе повторяю: иди со мной куда хочешь, но только один, как и я.
Тома, больше не возражая, так резко толкнул стол, что опрокинул множество стаканов, поднялся с места.
— Елки-палки! — сказал он, глядя на своих матросов, —
я нечасто скрытничаю перед этими вот людьми. И все мне свидетели, что и на этот раз, если я играю с ними в жмурки, так не по своей воле.
И, как и следовало, никто не возражал, а некоторые довольно громко заворчали. Один даже крикнул:
— Накласть в рот Рэйтеру и всем, кто нам мешает, и здесь, и всюду.
— Ну, ну, тихо! — приказал Тома довольно вяло.
Чуточку язвительно, Винцент Кердонкюф выразил восхищение.
— Приятель Тома, тебя здорово любят…
Готовый, наконец, перешагнуть через стол, чтобы последовать за «своим приятелем — Винцентом», Тома Трюбле не забыл опоясаться шпагой — шпагой покойного Гильома Морвана, капитана, — и опять-таки точно таким же манером, как это сделал кавалер Готье Даникан в доме старого Мало…
VIII
Тома Трюбле, шедший впереди, выйдя из дверей кабака, тотчас же остановился и повернулся к следовавшему за ним Винценту Кердонкюфу:
— Ну? — спросил он, готовый начать беседу.
Но Винцент Кердонкюф не так торопился и протянул руку, показывая на дальний конец улицы.
— Пойдем дальше, — сказал он. — Здесь слишком много народа у дверей и слишком много ушей, которые могут нас услышать…
И, действительно, Большая улица была веселой улицей. Здесь укрывалась вся ночная жизнь Сен-Мало, здесь, когда погасят огни, встречались и сходились для потехи, безобразий, пьянства и потасовок скверные банды добрых приятелей, наводящие ужас на мирных граждан и доставляющие немало забот городской страже. Широкая и почти прямая улица эта была хороша на вид и ничуть не походила на те опасные закоулки, которые встречаются в других городах и правильно именуются «Горячими переулками». Но не всяк монах, на ком клобук. И Большая улица Сен-Мало, хоть и казалась с виду честной и порядочной, однако, насчитывала от городской стены до ограды Орденского Капитула десятка два дверей, всегда настежь открытых для этих добрых приятелей, постоянно готовых опорожнить бутылку, связаться с девками, зайти в игорный притон и, в конце концов, перерезать друг другу горло.
— Пойдем подальше, — предложил Винцент Кердонкюф.
— Пойдем подальше, — сказал Тома Трюбле.
Они прошли всю Большую улицу до ограды Капитула, затем, повернув направо, прошли улицей Ленного Креста, затем улицей Святого Жана, до самой стены Трех Кладбищ. Винцент хотел пройти дальше, по направлению к северной стене. Но Тома решил, что ходьбы достаточно.
— Какого черта! — сказал он. — На мой взгляд, тут уж нет ни злонамеренных глаз, ни злонамеренных ушей.
Действительно, место было совсем пустынное. К тому же здесь кончался обитаемый город: поверх низких домов коротенькой улицы Красной Шапки Кердонкюф и Трюбле могли видеть зубцы башни «Кикан-Груань» и слышать грохот морских волн.
— Говори же, если хочешь говорить! — воскликнул Тома, уже насмешливо, — или ты предпочитаешь перелезать через эту стену, чтобы беседовать подальше от всякой живой души?
Он указывал на кладбищенскую стену, которая была значительно ниже стены Капитула.
— Нет! — сурово ответил Винцент Кердонкюф. — Если ты желаешь меня выслушать, нам будет здесь хорошо.
— Говори, — повторил Тома Трюбле.
Они стояли посреди мостовой, лицом к лицу. Кругом в тени черных домов, тесно прижавшихся друг к другу, было совсем темно. Но кладбища были похожи на три сада, и луна, хоть и стояла низко, струила свои лучи между тисами и ивами. От низкой стены не падало тени, так что улица тоже была освещена. Тома и Винцент, пройдя совсем темными улицами, теперь ясно, как днем, различали друг друга.
И тогда Винцент Кердонкюф заговорил.
— Тома, — сказал он без всякого предисловия. — Тома!.. Сестра моя Анна-Мария… что ты с ней сделал… как хочешь с ней поступить?
Голос его, хотя и хриплый и почти дрожащий от волнения, прозвучал все же со странной силой. Тома, захваченный врасплох, растерялся, отступил на шаг.
— Твоя сестра? — спросил он, как будто не понимая. — Твоя сестра? А что? И что общего между мной и ею?
Но Кердонкюф резко придвинулся к Трюбле и схватил его за руки крепкой хваткой.
— Молчи, Бога ради! — закричал он со стремительной и буйной силой. — Молчи, если не хочешь врать! Я все знаю: сука мне все сказала… А! В тот день я не пожалел ее шкуры! Я и сейчас не понимаю, почему я ее не убил… Впрочем, все равно: теперь дело тебя касается, а не ее. Тома, ты ее взял и взял невинной. Так отвечай же: как ты теперь намерен с ней поступить?
Он не выпустил рук Тома из своих. Тома, впрочем, и не старался высвободиться.
— Почем я знаю? — сказал он в замешательстве и с досадой. — Почем я знаю, в самом деле? Винцент, выслушай меня теперь ты и не сердись, потому что в этом деле нам с тобой гнев не поможет. Твоя сестра с тобой говорила? Тогда мне нет нужды молчать. Ну да, я ее взял. Но не силой. Бог ты мой, совсем нет, клянусь тебе, что, напротив, она была очень податлива. Ты лучше спроси ее, кто из нас за кем первый гонялся. Вот, стало быть, во-первых… Кроме того, я про это дело не болтал. Ни один сосед ничего не знал. Так в чем же беда? Винцент, приятель, подумай о том, что Анна-Мария не единственная, у которой я отнял невинность. Но все они молчали и умно поступали: ни одна не пострадала, и все, кто только хотел, хорошо пристроились. Что тебе еще надо? Твоя сестра сделана из того же теста, что и другие. Оставь ее в покое и не изводись из-за этого, это ее касается, а тебя не касается ничуть.
Тома Трюбле, высказавшись таким образом, глубоко вздохнул и, довольный тем, что сказал все, что надо было сказать, рассмеялся.
Это была длинная речь. Тома Трюбле совсем не был речист, разве когда злился. А сейчас этого не было. Поэтому он принужден был останавливаться и умолкать, и пыхтеть от сильного смущения. Винцент Кердонкюф, молчаливый и суровый, дал ему договорить. Он слушал его, но, пожалуй, не слышал, весь погруженный в какую-то мрачную задумчивость. Оба они все еще были сцеплены между собой, руки одного судорожно сжимали руки другого. Но ни Тома, ни Винцент этого не замечали.
Итак, Тома Трюбле, кончив свою речь, смеялся. Винцент Кердонкюф, неожиданно выйдя из задумчивости, услышал этот смех и в тот же миг он стал похож на быка, увидевшего красную тряпку. Такая ярость потрясла его с головы до ног, что он сделал нечто вроде прыжка, споткнулся и чуть не упал. Не в состоянии произнести ни звука, он только заикался, до боли сжимая исступленными пальцами руки смеющегося Тома, который сначала опешил, потом стал сопротивляться.
— Эй! — закричал он, повышая голос… — Эй, приятель… Пусти, да пусти же меня!.. Черт возьми, пустишь ли ты меня, скотина?
Началась борьба. Тома, конечно, был сильнее. Но взбешенный человек стоит троих. Винцент не сдавался и не выпускал добычи. Не будучи в силах освободиться, Тома резким усилием схватился за рукоять своей шпаги и снова заорал:
— Будь ты проклят! Винцент, если ты меня не выпустишь, я тебя убью!
Винцент заметил движение его руки. Он дико вскрикнул, выпустил Тома, отскочил назад и выхватил шпагу — все в мгновение ока. Обнаженная шпага засверкала под луной. Это был длинный и твердый клинок, хорошая боевая шпага, а не парадная игрушка, каких, впрочем, горожане Сен-Мало и не признавали, оставляя эту роскошь на долю дворян. Тома увидел острие на расстоянии каких-нибудь шести дюймов от себя. Тем не менее он не вынул собственной шпаги из ножен и даже скрестил руки на груди, сделавшись сразу очень спокойным и хладнокровным, как всегда перед лицом настоящей и явной опасности. Вытянув руку вперед и согнув колени, Кердонкюф готов был броситься на него. Тома сразу оставил его, засмеявшись снова, но уже по-иному.
— Ну, сударь! — сказал он презрительно. — Твоя сестра порадуется, когда ты меня убьешь!
Кердонкюф отступил на шаг и опустил руку. Все так же презрительно Тома продолжал:
— Если ты хочешь меня зарезать, ладно! Если нет, скажи, чего ты хочешь! Ты меня расспросил, и я тебе ответил. Теперь я тебя спрашиваю, а ты отвечай!
Но Винцент Кердонкюф не в состоянии был сразу говорить. Он продолжал тяжело дышать и заикаться. Наконец к нему вернулась речь.
— Сестру… — сказал он. — На сестре… женишься ты или нет?
Тома Трюбле по-прежнему стоял, скрестив руки на груди.
— И это все? — ответил он холодно. — Это все, что ты желал изречь? Нечего было огород городить… Женюсь ли я на Анне-Марии, ты хочешь знать? Нет. Я на ней не женюсь. Впрочем, я ей столько нужен, как и она мне. Между нами кончились всякие глупости. И я тебе сказал и снова тебе повторяю: ты, Винцент, в это дело не вмешивайся! Твоя сестра выйдет замуж за кого пожелает. Она смазливая девчонка, богатая и, могу похвастать, дурного про нее никто не скажет! Я же ни на ком не женюсь. Такова моя причуда, и это разумно: жениться — не дело для корсара.
Винцент снова поднял руку. Тома снова увидал направленное на него острие шпаги. Но невозмутимо и отчетливо он повторил:
— Нет! Я на ней не женюсь! Нет! Нет!
— Берегись, — пробормотал Винцент, дрожа всем телом.
Но Тома начинал терять терпение.
— Берегись-ка сам! — резко ответил он, все еще стараясь сохранить спокойствие! — Берегись, потому что я не люблю угроз. И, клянусь Богом, ты зря мне угрожаешь!..
Почти против воли Винцент напряг левую ногу и вынес правую вперед, как делают дуэлянты, начиная фехтовать.
Полусогнутая рука его медленно протянулась и, так как Тома не отступил, шпага достигла подставленной груди и коснулась камзола.
Тогда они разом вскрикнули. Винцент произнес почти нечленораздельно:
— Женись на ней или умри!
Слишком долго сдерживаемый гнев Тома прорвался разом, как разрывается граната:
— Убирайся с моей дороги или оставайся тут навсегда!

Винцент сделал выпад. Тома отскочил в сторону, но успел получить царапину в плечо. Шпага Винцента сверкнула красным. Тогда Тома взревел от ярости и, выхватив шпагу из ножен, тем же взмахом отразил рапиру противника, вытянул руку и всадил свой клинок на три фута в правый бок Винценту, который без единого звука повалился наземь, как оглушенный бык.
IX
— Пресвятая Дева Больших Ворот! — вскрикнул Тома, держа шпагу в руке.
С опущенного к земле острия капля за каплей стекала темная кровь. На мостовой лежало тело Винцента Кердонкюфа.
— Пресвятая Дева Больших Ворот! — вторично произнес Тома.
Он машинально вытер окровавленное лезвие. Вложив шпагу в ножны и опустившись на колено, он склонился над упавшим.
— Без сомнения, он умер…
Было похоже на то. Рана была двойная: рапира вошла с правого бока под мышкой и выдвинутая почти до эфеса вышла в левое плечо. Кровь текла из обеих ран.
— Умер, да.
Тома, приподнимавший уже покрывшуюся мертвенной бледностью голову, выпустил ее из рук. Однако посиневшие веки вдруг приоткрылись, и в потускневших зрачках слабо затеплилась жизнь. Измученный Тома Трюбле снова склонился к неподвижному лицу. Тогда бескровные губы зашевелились, и Винцент Кердонкюф очень тихо заговорил.
— Тома Трюбле, ты меня прикончил. Но я честный человек.
Я тебя вызвал. Иди же с миром, так как я тебе говорю: ты не повинен в моей смерти.
Он закашлялся, и кровь окрасила его губы, на минуту они стали похожи на губы живого человека. Видя это, Тома заклинал его молчать, так как было ясно, что каждое слово приближает и без того близкую смерть.
Но Винцент все же снова заговорил.
— Тома Трюбле, на сестре моей Анне-Марии ты женишься?
В почти потускневших глазах теплилась жгучая тревога. Тома невольно поднял в удивлении брови. И Винцент ответил на немой вопрос с усилием, от которого на окровавленных губах появился черноватый сгусток.
— Да! Я не хотел тебе говорить… И был неправ… отчего теперь и умираю!.. Тома Трюбле, Анна-Мария, сестра моя… она в положении… четыре месяца… и ровно столько прошло со времени твоего отъезда… Тома Трюбле… клянусь богом, который сейчас будет меня судить… Анна-Мария, моя сестра… Ты один ею владел. Да, кроме тебя, тебя одного… она со всеми хорошо себя держала. Тома Трюбле, женишься ты на ней?
Снова глаза его помутнели. Тома Трюбле почувствовал, как в душу его проникает большое смятение. Надломленная, растворенная, размягченная воля его не выдержала этой мольбы. Последним усилием Винцент Кердонкюф, опираясь обеими руками о мостовую, тянулся к Тома Трюбле. Тогда Тома Трюбле уступил. Наклонив голову в знак согласия, он произнес:
— Хорошо. Ступай же и ты с миром, Винцент. Потому что, если верно, что у сестры твоей из-за меня живот, как ты говоришь, я действительно женюсь на ней, клянусь в том Равелинским Христом и Богородицей Больших Ворот. Иди с миром, Винцент, если ты мне прощаешь от чистого сердца.
— Аминь, — хотел сказать умирающий.
Но ему не удалось. Второй сгусток крови, больше первого, застрял в горле и душил его. Из обеих ран текло уже меньше крови. Она остановилась, а руки, опиравшиеся о землю, подались, и тело, лишенное поддержки, грузно рухнуло. Легкая дрожь пробежала по членам. Потом тело стало недвижимо.
И Тома, обнажив голову, перекрестился и стал читать те немногие молитвы, которые помнил об усопших.
Через час луна, стоявшая теперь высоко, ярко посеребрила все Доброе Море. И Тома Трюбле с городской стены, возвышавшейся над Старой Набережной, искал глазами, среди всех этих мачт — целого леса, свой новый фрегат, «Горностай», стоянку которого указал ему Готье Даникан. Он нашел.
— Так! — сказал он тогда, — с моей стороны, полагаю, было очень умно, что я ударил по рукам с кавалером!
В мощных руках Тома Трюбле бренные останки Винцента Кердонкюфа без особого труда перешли по ту сторону невысокой ограды Трех Кладбищ. Теперь, значит, труп был там, где и следует быть трупам. А кусты, в которые Тома его положил, скроют его до поры до времени. Однако же ненадолго. Теперь было не так, как в старину, нынешний Магистрат поднимал всякий раз много шума вокруг убитого, хотя бы и честным образом, в открытом бою.
Для Тома Трюбле, оказавшегося, правда при самозащите, убийцей, это не предвещало ничего хорошего.
Но на темной воде, по которой луна разбросала свое новенькое серебро, четыре мачты «Горностая», перекрещенные десятью реями, покачивались весьма милостиво. И Тома Трюбле, взглянув на них еще раз, улыбнулся:
— Нет, не в воскресенье, — прошептал он, — а завтра же… завтра же, да, с вечерним приливом… если угодно будет моему святому угоднику… я снимусь с якоря!
В это время прозвонил колокол «Хоремма». И час был очень поздний. На печальном берегу, осушенном отливом, сторожевые псы Сен-Мало ответили колоколу протяжным завыванием. И Тома снова начал креститься, так как ему почудилось, что собаки воют об Винценте Кердонкюфе.
Но собаки, вволю поскулив, замолчали. И Тома Трюбле вздохнул:
— Не повезло парню, упокой его, господи!
Ибо Тома Трюбле, корсар, не был ни жесток, ни черств сердцем.
Глава вторая
КОРСАРЫ
I
Сигнальщик, забравшийся в «воронье гнездо»
[56], над фор-брам-реями, обозрев горизонт, склонился к палубе фрегата и закричал, держа руки рупором:
— Земля!.. На три румба впереди по левому борту!..
[57] Услышав это, баковый с топором в руке бросился с бака к грот-люку, через который со всей силы закричал так, чтобы всем было слышно от батареи и до нижнего кубрика.
— Земля в виду, впереди, по левому борту! Земля!..
После чего все сбежались, и многие матросы взобрались на ванты, чтобы лучше видеть.
* * *
Со времени ухода из Сен-Мало прошло ровно два месяца вдали от берегов. А два месяца на переход в полторы тысячи морских миль, отделяющих остров Тортугу от Сен-Мало, — срок небольшой. Это доказывало, что «Горностай» — очень быстроходный парусник.
Тем более, что Тома Трюбле, получивший от своего арматора и от некоторых старых малуанцев, ходивших в этих широтах, хорошие наставления, постарался выбрать лучший путь, который никоим образом не совпадал с кратчайшим. Обогнув Бретонские острова, он двинулся сразу на юг, миновал Испанию, Португалию и по очереди опознал все африканские острова: Мадейру, Канарские и архипелаг Зеленого Мыса. И только тогда, при попутном пассате переменил он галсы, направил курс на Америку, пересек океан с востока на запад, оставляя далеко к северу ненавистное Саргассово море, и, наконец, на сорок пятые сутки, пристал у одного из Наветренных островов. Какого? Это было безразлично. Еще пятнадцать дней «Горностай» подымался при переменной погоде вдоль островов Девы, мимо Пуэрто-Рико, и наконец, прошел Сан-Доминго. Но вот наступил шестидесятый день. И показавшаяся земля не могла быть не чем иным, как желанной Тортугой, конечной целью и завершением длинного переката.
* * *
В это время открылась дверь на ахтер-кастеле, и Тома Трюбле — капитан, с Луи Геноле, помощником, вышли оттуда. Они прошли под руку вдоль всей палубы и по трапу правого борта поднялись на бак. Там они оба приложили руку к глазам, чтобы лучше видеть, и стали смотреть. Вокруг, насторожась, ожидала команда. Трюбле и Геноле были из тех начальников, которых подчиненные уважают.
— Это тот самый остров, — произнес Тома через минуту.
— По-моему, да, — подтвердил Луи Геноле. — Совершенно так, в точности, описал нам его вид старый Керсэн, который провел здесь четыре года.
Представлявшийся же вид оказался очень отдаленной землей на фоне голубого горизонта, и сама она казалась голубой и почти прозрачной. Но уже, несмотря на расстояние, глаза моряков различали зубчатые очертания горной цепи, обрывистой с северной стороны и отлого спускающейся к югу.
— В этих водах, — заметил Луи Геноле, — глаз различает так далеко, что это прямо замечательно. Лопнуть мне на этом месте, если у наших берегов самый зоркий марсовый только бы догадался на таком расстоянии, что там земля!
— Известное дело! — подтвердил Тома Трюбле. После чего он молча продолжал смотреть.
* * *
«Горностай» шел полный бакштаг, под всеми парусами, кроме брамселей, которые иногда бывает трудно подобрать достаточно быстро, когда плаваешь в широтах, где часты неожиданные шквалы. С таким вооружением «Горностай» шел со скоростью не меньше восьми узлов, тщательно отмеченных по лагу, и Тортуга постепенно поднималась из воды.
Голубоватая земля становилась зеленой, того зеленого цвета, полного оттенков и бархатистости, которого нигде в мире, кроме Антильских островов, не найти. И среди этой редкостной и прекрасной зелени, истинного очарования глаз, можно было теперь разглядеть много разбросанных белых точек. Вся гора была ими усеяна. И это создавало на бархатном фоне лесов и лугов впечатление тончайших кружев, какие носят знатные господа как нарядное украшение поверх своих шелковых кафтанов.
— Ишь ты! — сказал тогда Луи Геноле, показывая пальцем на остров. — Видно, этот поселок — поселок богачей. То, что там виднеется — это, очевидно, прекрасные дачи и загородные замки, удобно расположенные на вольном воздухе и приятные для жилья.
— Да, — сказал Тома Трюбле. — А самый город находится ниже, совсем у моря. Вот он появляется, и гавань также.
Видно было только полукруглую бухточку, вдавшуюся в берег, и выстроившихся по краю этой бухточки тридцать или сорок безобразных строений, больше похожих на сараи, чем на человеческое жилье. Но слева внушительно глядела прочно построенная батарея, и огонь четырех ее больших бронзовых пушек должен был хорошо перекрещиваться с огнем из высокой башни, видневшейся направо. Так что порту Тортуги нечего было опасаться вражеского нападения: хоть и слишком открытый с моря, он при такой защите готов был в любое время его отразить.
— Лучшего нам ничего не надо, — решил Тома, все осмотрев. — Луи, изготовься к отдаче якоря, и прежде всего поубавь немного парусности. Я вернусь в рубку, ты знаешь зачем.
Геноле кивнул головой.
— Есть, — коротко ответил он.
Под руку направились они к корме. И капитан вернулся в свою кают-компанию, тогда как помощник взошел на ют у гакаборта, откуда удобнее распоряжаться работой и где надлежит быть, чтобы сразу охватить глазом все десять реев на четырех мачтах.
* * *
Сидя в своей кают-компании, приподняв тяжелую крышку капитанского сундука с двойным запором, Тома Трюбле искал среди судовых бумаг самую важную, ту, которую он собирался вскоре представить господину д’Ожерону, губернатору. Так как по последним сведениям, полученным кавалером Даниканом из Версаля, все тот же господин д’Оже-рон, что и в 1666 или даже в 1664 году, и до сей поры управлял Тортугой и побережьем Сан-Доминго, состоя на службе у короля и у господ из Западной компании.
— Кажется, эта, — пробормотал, наконец, Тома.
Он развернул грамоту. Она была написана на пергаменте и за государственной печатью зеленого воска, на двух шнурах. Тома, хоть и плохо, а читать умел. Он начал по складам:
КАПЕРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
От Людовика Бурбона, графа де Вермандуа, адмирала Франции, всем тем, кому сие предъявлено будет, здравствовать. Как данное нам королем повеление пещись о защите верных своих подданных и о безопасности морской торговли…
Потом, пропустив несколько строк:
…А по сему, дали мы Тома Трюбле, капитану легкого фрегата, именующегося «Горностай», в сто шестьдесят тонн или около того, с такой командой и столькими орудиями, снарядами, пороховыми и другими боевыми и жизненными припасами, какие для его снабжения понадобятся, власть и полномочие гоняться за пиратами, корсарами и другими бесписьменными людьми, а также за подданными Соединенных Провинций Нидерландов и другими врагами Королевства, их хватать и уводить в плен с их кораблями, оружием и прочим, что у них найдет, в каком бы месте их ни встретил…
Он остановился, чтобы поднять голову.
— Вот это хорошо!
Снова пропустил целый раздел и прочел дальше.
…С тем, чтобы упомянутый Тома Трюбле поднимал в бою только свой флаг, малуанский тож, голубой, пересеченный белым крестом, с серебряным шествующим горностаем на червленном поле в вольной части; а равно с тем, чтобы он исполнял сам и людей своих заставлял исполнять морские уставы и регламент его величества лета господня 1669…
Сворачиваемый пергамент зашуршал.
— Да, — сказал с довольным видом Тома, — мы по всем правилам корсары.
Луи Геноле, стоя на юте вблизи румпеля, отдавал приказания:
— Нижние паруса крепить! Марсовые наверх!
Его бретонский голос, сухой и в то же время певучий, далеко разносился и ясно был слышен вплоть до верхних брамселей.
— Изготовить якоря!
Вахтенные канониры побежали снять найтовы с якорного каната, тогда как люди наверху носились по пертам под нижними реями.
— Паруса на гитовы! Берегись концов!
На «Горностае» все маневры исполнялись с той скоростью и точностью, которая так восхищает на судах королевского флота.
— Вниз!
Марсовые кубарем слетели по вантам. Нижние паруса были убраны. Командир прошел по палубе до трапа, ведущего на ахтер-кастель, и снял шапку, чтобы доложить:
— Изготовились к отдаче якоря.
На что помощник ответил кивком головы. Его силуэт на юте с правого борта вырисовывался неподвижно и властно. Он был невысок и не очень широк в плечах, а его белые и гладкие щеки и его длинные волосы, совсем черные, походили на щеки и волосы девушки. Но твердый и проницательный взгляд всегда пламенных глаз отнимал всякую нежность у этого молодого лица с чистыми очертаниями.
* * *
Несколько позже, в то время, как «Горностай» огибал восточную оконечность Большого Порта, Тома Трюбле присоединился к своему помощнику на юте. И они казались рядом: один — тщедушным ребенком, другой — большим и сильным бойцом. На самом деле один стоил другого, и баковые, все очень послушные, почти робкие, хорошо это знали.
— По-моему, — сказал Трюбле, — здесь будет хорошая якорная стоянка. Луи, вели взять глубину.
Один из рулевых вытравил двенадцать сажен лотлиня и закричал:
— Пронесло!
— Не беда, — сказал Трюбле. — Вот недалеко стоит бриг на якоре. Луи, придержись немного.
Сейчас же Геноле привел к ветру.
— Брасонь назади! Полегоньку, под ветер руля!
Фрегат послушно повернул к земле. Скоро паруса начали полоскать. И лотовый, продолжавший с размаху кидать свой лот, закричал на этот раз:
— Достал дно! Десять сажен по левому борту, десять!
— На якорях, товсь! — скомандовал Тома Трюбле. И, повернувшись к помощнику:
— Ступай на бак, я сейчас прикажу отдать якорь, — сказал он.
Таков порядок, что помощник держится на носу, когда бросается якорь. Этот момент наступил.
Трюбле, оставшийся один, посмотрел на паруса. Фрегат шел под одними марселями и бизанью, имея уже малый ход. Трюбле, плюнув в воду, чтобы лучше убедиться, решился:
— Взять на гитовы все паруса! — закричал он.
Снова бросились молодцы. На светлой еловой палубе начался топот босых ног.
— Товсь! Убирай!
Все три марселя разом сложились, словно три пары крыльев.
— Пошел брасы! Спускайся!
Быстро вытянутые брасы и топенанты заставили реи упасть на свои места над марсами. Тома, довольный, посмотрел на мачты, оголенные от парусов, и, напрягая голос, чтобы слышнее было канонирам, столпившимся у якорного каната, приказал:
— Хорошо ли изготовились к отдаче якоря?.. По правому борту! Отдай якорь!
И якорь погрузился в воду с шумным плеском.
Минуту спустя, рулевой крикнул Тома Трюбле:
— Капитан! А, капитан! С того вон брига нам вроде как бы вельбот шлют!
II
— На шлюпке!
Вахтенный с короткой пикой в руке встретил положенным возгласом подходивший вельбот. Но с вельбота — длинного четырехвесельного яла — никто не ответил; только кто-то встал и в знак мирных намерений помахал шапкой из смазной кожи с развевающимися лентами.
Ял уже подошел к борту фрегата. Человек, махавший шапкой, принялся тогда кричать:
— На фрегате!.. Подайте конец!
Хриплый голос звучал чуждо. Команда, которая оставалась еще на своих местах, оглянулась на капитана, стоявшего на трапе, ведущем на ют.
Тома наклонил голову и, пока молодцы, скорые в выполнении команды, подавали конец, спустился на палубу и пошел встретить ял. Приехавший, ухватившись за конец, карабкался по нему, ловкий, как обезьяна. Тома сердечно, как должно, подошел к нему, едва тот вступил на судно, и протянул ему правую руку, не забывая, впрочем, держаться левой за рукоять одного из пистолетов, заложенных за поясом.
— Ура! — крикнул иностранец.
У него тоже за поясом торчало два пистолета: он взял их оба за стволы и протянул Тома Трюбле в знак дружбы и союза. Потом он повторил:
— Ура!
После чего началось объяснение.
* * *
Эдуард Бонни, по прозванию Краснобородый, из-за длинной бороды, которую он красил в ярко-красный цвет, на манер некоторых краснокожих, из какого-то дикого и варварского кокетства, был капитаном и владельцем брига, стоявшего вблизи «Горностая», каковой бриг, довольно жалкий, носил название «Летучий Король» и вооружен был всего лишь восьмью маленькими пушками. Слабость эта мало смущала Краснобородого, который привык твердить своей команде, что пятьдесят лет тому назад весьма знаменитый Петр Легран с четырьмя всего пушками и двадцатью восьмью флибустьерами взял на абордаж вице-адмиральский испанский галион, на котором было триста девяносто шесть человек и пятьдесят четыре бронзовых орудия. Чем крупнее неприятель, тем крупнее добыча, чем меньше команды, тем больше доля каждого. Умирают только раз, живут только раз, и надо быть круглым дураком, чтобы отказаться от хорошей жизни, боясь худого конца. Таковы были истины, которые исповедовал Эдуард Бонни, уроженец Бристоля в Англии и флибустьер.
Довольно высокий и толстый, хотя и помельче Тома Трюбле, он никому не уступил бы в храбрости, решимости и мужественной гордости. И двадцать уже превосходно выдержанных сражений на суше и на море показали всем американским землям, каков человек был Эдуард Бонни, по прозванию Краснобородый.
Тома Трюбле, который обо всем этом ничего пока не знал, не ошибся, однако же, и оценил флибустьера по достоинству. Чтобы потчевать его, отыскали на камбузе самое старое вино и подали его в чистом виде в самых больших кружках. Четверти часа не прошло, как уже оба капитана были лучшими друзьями и хлопали друг друга по ляжкам.
— Алло! — вскричал, наконец, Эдуард Бонни, вперяя в Тома Трюбле острый взгляд своих глаз, которые у него были так же черны, как борода красна. — Алло! Старый товарищ! Такой парень, как ты, да с такой бородой, не приходит к здещним берегам, чтобы собирать какао, табак или кампешевое дерево, разве только чтобы снять их с испанских судов, идущих из Новой Испании. Или я ошибаюсь? Пропади я пропадом, если ты не такой же корсар, как я флибустьер! А корсар и флибустьер могут столковаться и спеться. Ударим по рукам, матрос, и я тебе расскажу, какую штуку мы с тобой выкинем, как честные братья побережья.
— Посмотрим! — ответил предусмотрительный Тома Трюбле. — Матрос, мой друг, все это хорошо! Но что ты толкуешь про испанцев и про Новую Испанию? Ну да, я корсар, и готов с тобой плавать вместе, но только против одних голландцев, врагов короля Франции, а не против других народов, нейтральных, союзных или дружественных. В доказательство вот тебе мое каперское свидетельство. Я был бы пиратом, если бы ослушался. Прочитай пергамент.
— Алло! — закричал Краснобородый. — Что же ты думаешь, я читать умею? Дудки! Но наплевать! Голландец, испанец, дурак папист, дурак кальвинист, телячья шерсть, бычий волос, да где тут разница? Ты с ума не сошел, приятель? Что же, ты один, один среди всех здешних французов и англичан будешь поворачивать спину шайке кастильских обезьян, которые без милости и пощады жгут наши хижины и вешают наших людей, пока не настанет наша очередь вешать их людей и жечь их жилища?.. Клянусь их окаянной божьей матерью! Тома Трюбле, малуанский капитан, или ты с нами, или против нас. Если
с нами — давай руку. Против, — черт меня подери! — я сейчас же отправляюсь на свое судно, чтобы драться с тобой сейчас же и насмерть!
Не отвечая, Тома отступил на шаг. Краснобородый, переведя дух, начал снова, понизив голос.
— Да что там! Тебя смущает этот кусок ослиной кожи? Иди ты! Матрос, когда ты немного поживешь среди нас, ты перестанешь интересоваться друзьями и врагами твоего простака-короля. Тебе хватит собственных врагов и друзей. Но оставим это, пока что! Все это можно устроить. Господин д’Ожерон, губернатор, — ловкий человек, и я не сомневаюсь, что он быстро достанет тебе другое свидетельство, получше твоего, в котором тебе будет дан приказ гоняться не только за голландцами, но и за испанцами. Если так случится, пойдешь ты со мной?
Тома внимательно осмотрел его с ног до головы и смерил долгим взглядом.
— Да, — сказал он затем своим громким и решительным голосом. — Я охотно войду с тобой в компанию, если получу на то разрешение от господина д’Ожерона, которого я сегодня же хочу посетить. Но что это за комбинацию ты мне предлагаешь, и какое еще свидетельство мне могут дать кроме этого?
Тогда Эдуард Бонни, по прозванию Краснобородый, залился звонким смехом и пустился в подробные объяснения.
* * *
Не с сегодняшнего дня началась эта бесконечная война между Флибустой и испанскими колониями в Новой Индии. Давно уже — лет пятьдесят назад, если не больше, никого уже нет в живых, кто бы мог вспомнить, когда именно буканьеры, т. е. охотники за буйволами, сами подвергшиеся жестокой охоте со стороны испанцев на собственной охотничьей территории, впервые отомстили за себя, в свою очередь напав на испанцев и учинив страшную резню. В те времена, предшествовавшие настоящей Флибусте, буканьеры, — люди дикие и простые, вынужденные к войне грубым нашествием, — не заботились еще ни о политике, ни о дипломатии. Им мало было дела до того, что их враги — подданные католического короля. Они не задумывались над тем, что сами они — подданные христианского короля. На их притеснения они отвечали тем же: око за око, зуб за зуб, их били, они убивали, остальное их не касалось.
Однако впоследствии положение вещей несколько изменилось. Повоевав достаточно долго и на суше, и на воде и привыкнув иметь дело все с одним и тем же противником — испанцами, флибустьеры, преемники и последователи буканьеров, неоднократно испрашивали и получали помощь и одобрение различных народов Европы, последовательно враждовавших с Испанией. То были в разное время народы: португальский, зеландский, английский, но особенно часто, и почти неизменно, французский, ибо французы много лет подряд оставались самыми упорными врагами испанцев. К тому же флибустьеры не забывали, что они сами большей частью были французами, пока не сделались флибустьерами. И некоторые из них надеялись вернуться на старую родину, как только составят себе состояние. Так что после множества приключений всякого рода они все решились просить себе для убежища Тортугу у господина кавалера де Пуанси, который начальствовал в то время над островом святого Христофора в качестве генерала Мальтийского Ордена.
Так теперь обстояли дела во Флибусте. Более зависимая, чем раньше, даже по видимости, подчиненная воле короля Франции, она все же пользовалась многими вольностями. И среди последних самой ценной для нее было право сражаться во всякое время с собственными врагами, даже если бы они уже перестали считаться врагами короля Франции в силу мирного договора, подписанного где-то там в Европе.
В подобных случаях обязанность губернаторов Тортуги состояла в том, чтобы каким-нибудь образом сохранить видимость законности.
Господин д’Ожерон довел до совершенства необходимые для этой цели приемы, которые уже у разных его предшественников были достаточно изящны. В текущем тысяча шестьсот семьдесят втором году он применял следующее: выдавал корсарам каперские свидетельства, писанные от имени короля Португалии, в то время воевавшего с Испанией, безусловно подлинные, которых у него был неисчерпаемый запас, бог его знает, откуда.
* * *
— То же самое он сделает и для тебя, Тома Трюбле, — сказал в заключение своего объяснения англичанин — флибустьер Краснобородый — Не сомневайся в этом и отправляйся к нему поскорее. Для начала тебе надлежит отсалютовать ему семью пушечными выстрелами, как полагается. Я же вернусь на своего «Летучего Короля», а с тобой давай сговоримся сняться послезавтра, с восходом солнца. К чему терять время? Одного дня тебе хватит на приемку воды и провианта, потому что наш переезд продлится не больше двух недель.
* * *
В то время, как вельбот англичанина отваливал от борта «Горностая», загремел первый салют.
И Краснобородый, сидевший на руле, весело мотнул красной бородой, — на борту этого окаянного малуанца не мешкали, чтобы притащить все, что нужно для выстрела.
Между тем Тома Трюбле и рядом с ним Луи Геноле смотрели в сторону порта. При звуке выстрелов жители, выйдя из домов, собрались на берегу. Вскоре один из них, лучше одетый и в шляпе, украшенной перьями, отделился от других и подошел к самому морю.
При последнем выстреле он поклонился, сняв шляпу. И ребята с «Горностая» больше не сомневались в том, что это, как и было на самом деле, господин д’Ожерон, губернатор короля и господ из Вест-Индской компании над островом Тортугой и побережьем Сан-Доминго.
III
— Знайте же оба, — объяснил капитан Эдуард Бонни, по прозванию Краснобородый, обращаясь к Тома Трюбле и его помощнику Луи Геноле, — знайте, что меньше чем в четырехстах милях отсюда на вест-зюйд-вест, когда пройти Улндуэрденским проливом и миновать остров Ямайку, открывается и врезается в материк залив, весь покрытый островами и называемый Гондурасским заливом. Неподалеку оттуда находится страна Кампече, которая составляет часть богатейшего королевства в Новой Испании, полного золота, серебра, кошенили, драгоценных деревьев, превосходного табака и того самого какао, из которого делают шоколад, целебный напиток.
Здесь находятся цветущие города и укрепленные порты, из которых главным является Веракрус. И, конечно, нам в таком виде, каковы мы сейчас, имея всего два судна со ста шестьюдесятью матросами, было бы опасным и тяжелым предприятием атаковать один из этих мощных городов. Я все-таки предложил бы вам это, не будь ничего лучшего, и я уверен, что вы бы согласились, зная, что вы люди, достойные Флибустье. Но, слава богу, нам незачем подвергаться такому риску, чтобы как следует обогатиться. Так вот. Слушайте меня оба: в глубине этого Гондурасского залива находится устье реки, которую мы, авантюристы
[58], называем рекой Москитов. В этой самой реке, которая вполне судоходна, испанцы каждый год вооружают и экипируют гукар в семьсот или восемьсот тонн, годный для всякого рода транспорта, и паташу для защиты гукара и для самостоятельной перевозки более ценных и менее громоздких товаров, которые предпочитают не грузить на гукар, например, драгоценных металлов. Вам, конечно, известно, что гукар — это большие суда с тупым носом и кормой, впрочем, довольно хорошо вооруженные, а паташа — это просто дозорные или сторожевые фрегаты. Что касается случая, который нас интересует, то мне известно, что в этом году гондурасский гукар несет пятьдесят шесть орудий, а паташа — всего сорок, но большого калибра. Все девяносто шесть пушек против наших двадцати восьми. Стороны, можно сказать, почти равны. На нашей будет перевес, если, как я надеюсь, мы захватим сначала гукар, а потом паташу, напав на них порознь и не разъединяясь сами. Таков мой план.
— Он нас устраивает, — ответил без колебания Тома Трюбле, говоря за себя и за Луи Геноле.
После чего Краснобородый, покинув «Горностай», возвратился на своего «Летучего Короля». Затем оба судна, снявшись с якоря, вместе отошли от острова Тортуги.
* * *
Теперь они стояли у острова Роатана, одного из островов Байя, чтобы пополнить запас воды и не пропустить выхода паташи и гукара, которые должны были, выйдя из устья, приблизиться к Роатану, раньше чем подняться к северу, чтобы обогнуть мыс Коточе, что является правильным путем в Европу. И Тома Трюбле вместе с Луи — одни в своей кают-компании, с глазу на глаз — кончали свой полуденный обед, состоявший из солонины, очень жесткой, сушеных турецких бобов, которые моряки называют фасолью, и сухарей, еще тверже мяса. Кончив есть, Тома, добрый католик, запел хваление Захарии, потом Magnificat. А Луи, ему подпевавший, добавил еще Miserere. Они поступали так, как принято поступать на всех христианских корсарских судах, чтобы освятить всякую трапезу. Помолившись оба таким манером, они дружелюбно взглянули друг на друга.
— Нравится мне это, — сказал капитан. — Когда поешь такие песни, те же, что поют у нас в церквах, то родина кажется ближе.
— Да, — сказал Геноле.
Он больше ничего не прибавил. Озабоченный лоб его нахмурился.
— Что с тобой? — спросил Трюбле, внимательно глядя на него.
— Ничего.
— Будет! А я тебе говорю — что-то есть.
— Да нет же.
— Есть! И, разрази меня Бог, по-моему, нам с тобой нехорошо таиться друг от друга.
— Ладно, — сказал Геноле. — Если уж ты так дело повернул, так я тебе расскажу. Потом сердись, если хочешь. Со мной то, что, по-моему, все это наше предприятие не гоже для добрых католиков. Тома, капитан… послушай… и после сам поразмысли: мы с тобой честные и добрые католики, что мы тут делаем в компании с этим англичанином, нехристом, наверно, и гугенотом, если не хуже? Мы станем гнаться за испанцами и драться с ними, добрыми и честными католиками, как и мы, и подданными короля, у которого с нашим королем сейчас дружба. Порядочное ли это дело? А потом кто для нас, малуанцев, привычные враги? Кто поклялся в случае, если им удастся захватить наш город, не оставить в нем камня на камне, чтобы отомстить за все поражения, которые они терпели при своих набегах на нас? Ты знаешь кто, Тома? Это англичане, а вовсе не испанцы. И раз ты требуешь, я тебе скажу откровенно: не нравится мне видеть у себя на траверзе английское судно в дружбе с нами.
— Терпение, — сказал Тома Трюбле.
Он налил себе и своему помощнику две полных чаши того рома из сахарного тростника, который продается по всей Америке, и которым они запаслись в Тортуге.
— Терпение! — повторил он. — Сперва выпей-ка это!
Он сам опрокинул свою чашу. После чего:
— Луи, милый мой, — начал он, — я не сержусь и с тобой согласен. Англичане? Ты думаешь, я их больше твоего люблю? Придет их черед, будь покоен, служить мишенью для наших пушек. Но пока что же делать, как не стараться прежде всего обогатить нашего арматора и самим обогатиться. Теперешний наш поход нам в этом поможет. Не все ли нам равно, будут ли такие-то гугенотами, а такие-то католиками, эти врагами, а те друзьями, раз у нас есть против них каперское свидетельство, по надлежащей форме составленное? Эх, будь что будет! И пусть скорее наступит день, когда мы сами будем арматорами и судовладельцами, вольными поступать, как нам заблагорассудится, и драться, с кем пожелаем!
Он снова наполнил обе чаши. Но Луи Геноле пить не стал.
— Ну, что с тобой еще? — опять спросил Трюбле. — Говори, приятель, и облегчи свое сердце!
Тогда помощник понизил голос:
— Тома, — сказал он, бросая направо и налево нерешительные, пожалуй, даже робкие взгляды, — Тома, ты хорошо и смело говорил. Но не забудь, что нечистый умеет расставлять нам соблазнительные ловушки. А это разве не одна из них? Святая Анна-Орейская! Послушай меня, Тома…
Он еще понизил голос; и Тома вдруг вскочил и с таким же беспокойным взглядом ухватился обеими руками за святые образки, висевшие у него на шее.
— Послушай меня, Тома. Я тогда еще был совсем мал. Мать моя свела меня раз на паломничество в Плугену. Тому уже лет двенадцать. Дело было осенью, и начинало темнеть. Плугена, если знаешь, высоко в горах, среди леса. Там есть речки, много речек. Но их почти не видно, такие они узкие, сжатые прибрежными дубами, кустарниками, растущими между дубов, и мохом, стелящимся под кустарником. Я тебе все это рассказываю, чтобы ты хорошенько понял, что можно упасть в эти речки, и не подумав даже, что перед тобой вода.
Так вот! Мать моя, стало быть, тащит меня за руку, по не слишком-то прохожей тропке, в самой глубине леса. И уж чего-чего, а наверно, тут, в этом лесу, леших было немало. Но все-таки мне не было страшно, совсем не было страшно, можешь мне поверить… да, по правде сказать, нам с тобой сейчас страшнее… и это потому, что мать моя была женщина отважная. Держась за ее руку, я бы пошел хоть на шабаш колдуньи, если б не уважение мое к моим заступникам святому Иву и святому Людовику…
Но погоди! Вдруг мать моя останавливается и не движется больше, обратившись, как бы сказал наш священник, в соляной столб. Я на нее смотрю и вижу, что она прислушивается. Я тогда тоже начинаю слушать и слышу… Тома!., так же верно, как мы здесь с тобой вдвоем… я слышу… плюх! плюх! плюх!., да, как будто белье полощут…
Тома перекрестился нервным движением.
— Русалки? — спросил он, побледнев.
— Знал ли я тогда, — сказал Геноле, — что такое русалки? То были они. И вот как я в этом убедился: сейчас же мать моя выпустила мою руку, сделала шаг вперед, другой, третий, наклонилась, словно вглядываясь вдаль, потом одним прыжком отскочила и, схватив меня снова за руку, бросилась бежать со всех ног, и меня торопя, что есть мочи, прочь от того места, куда мы шли, не смея ни продолжать нашего пути, ни даже оглянуться назад. Все остальное случилось, как по писаному.
— Она скончалась в том же году? — спросил Трюбле.
— В тот же месяц, — ответил Геноле. — Ты видишь, это, верно, были «они», стирали, должно быть, ее саван при лунном свете… Теперь вот что я тебе скажу, и это ты запомни, Тома Трюбле, капитан! — Конечно, я был в ту пору клоп, да еще, пожалуй, самый несмышленый на нашей улице, а все-таки, услышав русалочий «плюх, плюх, плюх», я помню, как сейчас, я ощутил тоже… здесь между лопатками и оттуда сверху донизу, по всей спине… холод, который пронизал меня вдруг до мозга костей, такой холод, что зимняя изморозь после него показалась бы горячими угольями… Да! Вот так, в то утро, в утро нашего прихода к Тортуге, как только я увидел этого Бонни Краснобородого, да разразят его господь и святые угодники… и каждый раз, как после того дурного утра, этот самый Бонни Краснобородый всходил к нам на корабль… так вот опять, так же ясно, я снова чувствовал тот же страшный холод, не забытый мной с самой той русалочьей ночи, тот же холод смертного греха или смерти, тот же холод осужденной души и погибели. Тома, Тома! Все это приведет к большой беде!..
Тома Трюбле снова дважды перекрестился. Он подумал.
— Ба! — сказал он наконец. — Будь что будет! Все-таки разница большая между русалками — опасными, как всем известно, привидениями до такой степени, что никто никогда не мог их увидеть и остаться в живых, и тем, про кого ты говоришь, — человеком из мяса и костей, который каждый день видит много всякого народа и никому не причиняет этим вреда.
— Как знать? — сказал Луи Геноле. — Если предположить, что это злой дух и что всюду, где пройдет, он оставляет как бы некое проклятое семя, то, может быть, это семя не сразу произрастает.
— Луи, — сказал Тома, — ты очень набожен, я за то тебя люблю. Но здесь мы не у себя и, кроме как в наших краях, где бродят колдуны-оборотни, никогда, никто и нигде не встречал злых духов, которые бы жили настоящей жизнью. Тем паче, злых духов, которые бы принимали вид честных капитанов-корсаров с кораблями, пушками и командой, ищущих помощи и союза для захвата добычи, им непосильной.
— Ладно! — сказал Луи Геноле. — Я буду рад, если ошибался, и буду рад, если от Краснобородого нам ничего не будет, кроме добрых испанских монет, гроссами гроссов…
В то время, как он договаривал эти слова, отдаленный и глухой пушечный выстрел легонько качнул на киле «Горностай». В один миг капитан и помощник вскочили и выбежали из кают-компании. Пушечный выстрел был условлен между ними и Краснобородым, чтобы дать знать о выходе паташи и гукара.
Среди мачт матросы начинали лазить по вантам: каждому хотелось первому открыть врага, пока еще невидимого. Но Тома Трюбле разом остановил начинающийся беспорядок одной командой:
— Боевую тревогу пробить!
IV
Нельзя было назвать это большим или очень упорным сражением. Правда, гукар и паташа вдвоем насчитывали втрое больше пушек, чем могли выставить сообща «Горностай» и «Летучий Король». Да и порознь каждый из них все еще был гораздо сильнее обоих корсаров, вместе взятых. Но можно по-разному сражаться. Испанцы — народ мирный, горожане, купцы или торговые моряки, не слишком-то умели владеть оружием и полагались только на отряд солдат, принятых на борт. Солдаты эти не были многочисленными. К тому же пляшущая палуба корабля была менее им привычна, чем их неподвижный пол, который моряки называют «коровьей палубой». Это отразилось на их огне. Наоборот, корсары стреляли чудесно. Гукар, жестоко обстрелянный своими двумя противниками, сдался в мгновение ока. Паташа, увидев это, хотела уйти в открытое море. Но «Горностай», лучший ходок, настиг ее в то время, как «Летучий Король» сменял команду на первом призовом судне. И тут матросы Трюбле оценили по достоинству умение своего капитана. В самом деле, Тома, оставаясь все время за кормой испанца, подвергался огню из одних только рета-радных орудий, а сам, то спускаясь, то приводя к ветру, раз за разом расстреливал ее бортовыми залпами. Попав в такое положение и не смея подражать тактике корсара, из опасения быть взятой на абордаж, паташа скоро примирилась со своей судьбой. Не прошло и двадцати минут, как поспешно стали спускать кормовой флаг Кастильи и Леона. Тогда «Горностай» обогнал сдавшегося врага и пристал к нему носом к носу, из осторожности. Тома, перескочив на борт своей добычи, принял шпагу побежденного капитана, стоя среди пяти или шести десятков убитых, растерзанные внутренности которых устилали шкафут.
* * *
После чего начался дележ добычи.
Оказалось, что на борту гукара победителям досталось двадцать тысяч стоп бумаги и большое количество полотна, саржи, сукна, тесьмы и других материй. Все это стоило денег. Но корсарам трудно было этим воспользоваться. Поэтому на «Летучем Короле» решили побросать за борт все, что они завоевали ценой собственной крови, ибо многие из них были ранены, а иные убиты. Напротив, паташа оказалась груженной одним чистым серебром в слитках. И хотя его было меньше, чем они ожидали, все же эта добыча была гораздо ценнее и удобнее для сбыта.
Тогда среди команды малуанцев разгорелся спор. Одни, основываясь на договоре, заключенном «Летучим Королем» и его капитаном, хотели оставить англичанам часть слитков, приходящуюся на их долю. Другие, ссылаясь на то, что «Горностай» один атаковал и захватил паташу, считали, что с «Летучим Королем» надо произвести раздел одного только гукара, взятого соединенными усилиями обоих корсаров.
Слово за слово, спор перешел в ссору и чуть не кончился еще хуже. С обеих сторон послышались угрозы. Между тем Тома Трюбле и Луи Геноле все еще оставались на борту паташи, где приводили в порядок добычу и запирали пленных в надежное место.
Вдруг, когда всего меньше этого ожидали, на «Горностае» раздался пистолетный выстрел. Луи Геноле, следивший в это время за тем, чтобы люк, куда столкнули ватагу еще целых и невредимых испанцев, был хорошо задраен, поднял голову и навострил уши. Тома Трюбле, более подвижный, выскочил из трюма, наполненного серебряными слитками, где он занят был точной расценкой добычи, и поскакал по трапам на фор-кастель паташи, чтобы лучше и с первого взгляда разобрать, что происходит на борту его фрегата.
Он действительно разобрал, что экипаж разделился на два лагеря и готов перейти врукопашную. Стрелявший, едва не задевший своего товарища, стоял посреди палубы, а пистолет еще дымился у его ног, так как он бросил его, торопясь обнажить палаш.
— Эй вы! — крикнул Тома Трюбле.
Перепрыгнув с бака на бушприт, с бушприта на блинд-рей, пользуясь каким-то топенантом, обрубленным снарядом, на котором он раскачался, как на качелях, чтобы, зацепившись за снасти, в две секунды оказаться на собственном борту, он попал в самую гущу свалки. Ему надо было быть, если можно так выразиться, хорошим канатным плясуном, так как оба судна, все еще связанных несколькими энкердректовами, просто стояли на плаву друг возле друга, но не были хорошенько сошвартовлены. Так что команда, узрев вдруг своего капитана ближе, чем ей того хотелось, была поражена и обалдела. Стрелявший, который только что орал и махал высоко поднятым палашом, первый опустил руку и замолчал, оставшись с разинутым ртом.
— Что это? — сказал Тома.
Он побледнел от сдерживаемого гнева. Но владел собой. За три с лишним месяца, что они вышли из Доброго Моря и до сегодняшнего сражения, которое было первым сражением «Горностая», на его корабле ни разу не поднималось мятежа. Так что матросы, хоть и хорошо знали своего Трюбле и чувствовали, что он сумеет, когда понадобится, наказать как должно, никогда до сих пор не имели случая убедиться в его строгости. Они приготовились к худшему, но уже готовы были успокоиться, видя его таким бесстрастным и не возвышавшим даже голоса.
— Что это? — повторил Тома Трюбле так же сдержанно.
Кто-то, успокоенный этим хладнокровием, решился выступить немного вперед и разъяснить положение вещей. Он был из того лагеря, который требовал раздела с англичанами всей добычи. Стрелявший матрос был другого лагеря. Слыша объяснения своего противника, матрос этот, забыв даже вложить в ножны свой палаш, также выступил вперед и начал возражать.
Тома Трюбле, слушая их, казалось, не сердился. Однако же он не ответил ни слова ни тому ни другому. И оба, обеспокоенные таким молчанием, скоро начали запинаться и, наконец, умолкли.
Тогда Трюбле, взглянув на них, спросил:
— Это все?
Они утвердительно кивнули головой, испытывая все больший страх, и не без основания.
Не без основания! Ибо Тома, не шелохнувшись ни вправо, ни влево, обеими руками взялся за рукояти пистолетов, заложенных у него за поясом. И вдруг, выхватив их сразу, он выстрелил так быстро, что послышался один лишь звук, и так метко, что оба матроса упали с раздробленными черепами.
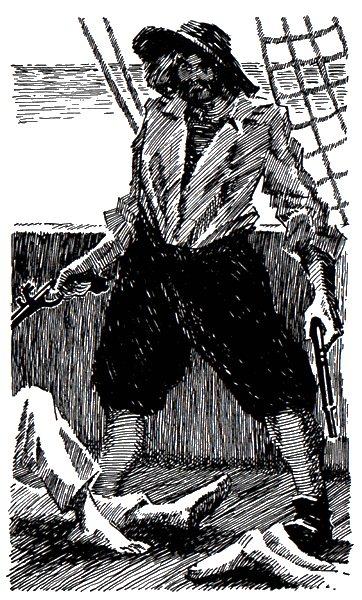
Тогда Тома Трюбле, скрестив руки, отступил к груде коек и, опершись на нее, повернулся лицом к своему экипажу. Никто, кроме него, не шелохнулся, и все смотрели на него с ужасом. Он вскричал:
— Ребята! Я убил двоих! Я убью и двадцать, и сорок! Но знайте, что пока я жив, я не потерплю на своем судне ни одного смутьяна! Мой пистолет не погрешит против всех, кто погрешит против меня. На места все! А что до раздела добычи, то я один над ней хозяин и решу, как мне заблагорассудится.
Оба трупа валялись в крови. Он указал на них пальцем.
— Эту падаль сейчас же повесить за шею к реям! Так каждый узнает мой суд, скорый и справедливый. Ступайте!
Матросы не стали мешкать.
* * *
Тома Трюбле, оставшись один посреди палубы, поднял сначала глаза, чтобы самому посмотреть на то, что он назвал скорым и справедливым судом. В таком положении и застал его Луи Геноле, в свою очередь возвратившийся с призового судна, на котором сменил, как должно, команду.
Гнев Тома походил на те спокойные реки, уровень которых поднимается понемногу незаметно для глаз и которые, однако же, вздуваются сильнее, чем стремительные потоки, и, наконец, разливаются с большей яростью и заполняют землю шире и надолыпе. Так и теперь гнев Тома Трюбле продолжал усиливаться и расти, хотя всякий признак мятежа уже испарился. И когда Луи Геноле, подойдя к нему, счел наилучшим выразить свое одобрение словами:
— Конечно, ты хорошо поступил!
Тома ответил ему только каким-то глухим рычанием:
— Молчи!
И помощник замер рядом с капитаном, не смея дохнуть.
Лишь спустя долгий промежуток времени, Тома, обуздав свою ярость, смог произнести несколько слов, обращаясь к Луи:
— Как ты думаешь? Не лучше ли было бы повесить их дюжину?
— Брось! — сказал Луи, — у нас всего-то сто человек. К тому же они храбро сражались сегодня и заслуживают снисхождения. Не забудь, что они бунтовали не против тебя.
— Черт возьми! — закричал Трюбле, — если б это когда-нибудь случилось, то я бы вот этой самой рукой поджег бы крюйт-камеру.
— Ладно! — одобрил Геноле спокойно. — Однако же, как ты решил относительно раздела добычи? Видишь, Флибустьер подымает паруса и направляется сюда.
Он прибавил сквозь зубы:
— Я говорил, что этот паршивец нам принесет несчастье!
Он перекрестился. Тома Трюбле размышлял.
— Относительно раздела добычи вот как, — сказал он наконец. — Она нам одним принадлежит, так как мы одни ее добыли. Но с другой стороны, Краснобородый нами руководил в этом деле, и должен быть за это вознагражден. Поэтому вот как я поступлю: одну треть этого серебра мы оставим нашему судовладельцу, одну треть — нашему поставщику, рассчитав, сколько мы истратили в Тортуге и в других местах. Остающаяся треть — треть наша с тобой и наших людей; из нее я оставлю только твою и мою долю, а все остальное отдам англичанину вместе с самой паташей в придачу. Это ему будет хорошей платой за труды, а нашим ребятам — хорошим наказанием за их мятеж. Поэтому, если они хотят разбогатеть, им надо будет еще посражаться.
Так и было сделано, как сказал Тома Трюбле. И никто не посмел ворчать на «Горностае». Все прочие немало восхищались. Эдуард Бонни, по прозванию Краснобородый, довольный своей долей, повсюду расточал похвалы малуанцам, а больше всего их начальнику. Вся Флибуста узнала об этом деле. И с этого дня началась великая слава Тома Трюбле, которая скоро распространилась на все Антилы.
V
За один этот 1672 год «Горностай», крейсируя туда и сюда по всем вест-индским водам, не без пользы для себя захватил четыре голландских коммерческих корабля. «Крокодил», груженный какао, сдался у побережья Кура-сао; «Моза», полная кружев и других изделий, была захвачена по пути из Нидерландов; «Драка» при возвращении в Роттердам попалась Тома Трюбле невдалеке от Пуэрто-Рико; и «Мартен Харпетсзон Тромп», который принужден был спустить флаг ближе чем в миле от острова Орубо, где он, конечно, мог бы найти поддержку, так как этот остров принадлежал Соединенным Провинциям. Впрочем, надо признать, что на двух последних кораблях добыча была невелика. Но «Горностаю» больше посчастливилось при поимке пяти испанских кораблей, а именно: «Города Кадикса», полного табаку и серой амбры, который всего три дня как отошел от Сан-Франциско на Кампече и проходил Флоридским проливом; «Дорадо», представлявшего собой просто большую баржу, но сильно загруженную кошенилью, ценным и негромоздким товаром; «Милости божией», вышедшей из испанской Малаги и везшей в изобилии андалузские вина и всякого рода материи Сан-Кристобаль де ла Гавана; «Эспады», груженной ценным лесом, а также имевшей некоторый запас серебра в слитках, добытого в мексиканских рудниках; и, чтоб закончить самым лучшим, «Армадильи», фрегата, вооруженного двадцатью четырьмя пушками и защищавшего в устье реки Ача четырнадцать баркасов, ловивших жемчуг, которым Тома Трюбле также завладел. Действительно, добыча жемчуга здесь очень велика, испанцы разрабатывают этот промысел с помощью водолазов-индейцев, которые находятся у них в рабстве, и добычу его свозят в Картахену Индийскую. Промысел этот длится с октября по март, так как в эти зимние месяцы ветры и течения слабее на всем этом побережье. Вот почему Тома Трюбле напал на «Армадилью» в феврале, к концу ловли. И таким образом досталось ему много жемчуга, несколько мер маленьких жемчужин и не так много крупных, но в достаточном количестве, чтобы составить весьма значительное состояние. Когда «Горностай» возвратился к Тортуге, много народа очень восхищалось, и больше всех господин д’Ожерон, губернатор. Он сам, впрочем, находил в этом свою выгоду, так как, выдав кораблю одно из каперских свидетельств, он получал причитающуюся ему долю добычи.
Но он ее заслуживал больше, чем кто другой, потому что он был человек щедрый, всегда угождал корсарам и, сколько мог, старался их всем снабдить. Все матросы малуанского фрегата оставались им довольны всегда и при всех обстоятельствах.
Наступили следующие годы, 1673, 1674, 1675, бывшие не менее доходными. Мало-помалу все арматоры Испании и Соединенных Провинций узнали, каковы были «Горностай» и его капитан. Всюду, где интересовались американской торговлей и вообще всем, что касалось Вест-Индии, прошел слух о том, что там появились рядом с настоящими флибустьерами другие, еще более опасные корсары, выходцы из Сен-Мало, которые крейсируют по всем Антилам от Веракруса до Маракайбо и от Наветренных островов до Гондурасского залива, так что ни одно торговое судно не решается уже пускаться в море. На самом же деле корсары, чудившиеся каждому капитану дюжинами, благо у страха глаза велики, сводились все к одному Тома Трюбле. Однако, говоря правду, он лучше всех умел, во всякое время года, появляться как раз там, где можно было всего основательнее поживиться, и, имея всего один фрегат, работал за десятерых. Таким образом, он превосходно оправдывал и тот ужас, который он внушал всем своим противникам, и то доверие, которое продолжал ему оказывать его арматор, кавалер Даникан.
* * *
Несколько раз в течение этих четырех лет представлялся случай возвратиться в Сен-Мало, и возвратиться богатыми. Однако Тома Трюбле ни разу не захотел им воспользоваться. Не то, чтобы он уже проникся к своей беспокойной жизни той великой страстью, что к этой самой жизни испытывают авантюристы Флибусты, которые, отведав раз соленой воды, сражений и грабежей, ни за что уже их не бросят и продолжают с переменным счастьем нападать на торговые корабли до самой своей смерти. Тома Трюбле не был еще этой породы, хотя был храбрым, как они, и воинственнее их всех. Будучи в этом отношении малуанцем, он и во всем остальном оставался им, мечтая об ином конце, а не о таком, какой обычно ожидает лучших флибустьеров, а именно, смерть от вражеского огня, стали или веревки. Тома для себя, для своего помощника и для своих людей желал, напротив, мирной кончины в собственной кровати, под простыней из тонкого полотна и среди огорченных родных, что также не лишено приятности. Кроме того, он желал, чтобы это случилось как можно позже и чтобы перед этим он и его близкие успели вволю попользоваться сокровищами, храбро и законно ими накопленными.
И тем не менее, хотя это желание прекрасно можно было согласовать с наездами время от времени на далекую родину, чтобы испытать удовольствие самому выгрузить на набережной Доброго Моря добытые на войне товары, а также позвенеть большими монетами, захваченными на испанских судах, по столам веселых малуанских кабаков, тем не менее Тома Трюбле не вернулся ни разу. И вот уже шел четвертый год этой долгой кампании. Десять раз уже «Горностай», корпус которого бывал запачкан и отягчен после этих бесконечных переходов раковинами и водорослями, принужден был килеваться, что требовало путешествия к Южным Кайям, каковым именем называются островки у побережья Кубы, где под самым носом у испанцев, которые ни черта не видят, фрегаты Флибусты занимаются мелким ремонтом, потому что это самое удобное место из всех Антил и единственное, где море спокойное и тихое. И всякий раз, после каждого ки-левания, «Горностай» уходил снова, направляясь к новым приключениям, из которых многие были весьма прибыльны.
* * *
Тем временем поле действия корсаров значительно расширилось: действительно, король принялся воевать уже не только против Голландии, но против всей почти Европы, народ за народом. С конца 1672 г. — против Испании, вскоре затем с Данией, потом с курфюршеством Бранденбургским и, наконец, с Империей. С тех пор каждое замеченное судно не могло не быть вражеским, если только не несло французский или английский флаг. И Тома счел удобным и выгодным гнаться за каждым попавшимся парусом, избавляя себя от труда вытаскивать подзорную трубу и таращить глаза, чтобы распознать цвет и рисунок флагдука. Работа стала легче и удобнее. И даже наиболее нетерпеливые, наиболее жаждущие возвращения домой матросы соглашались, что это веская причина продолжать и дальше крейсерство, которое шло все успешнее.
Тома, впрочем, был не только храбрый, но и рассудительный человек. Если он не прекращал своей кампании и не устремлялся к родному дому, даже после крупнейших захватов, то от этого ничьи интересы не страдали — ни арматора, ни поставщика, ни команды. По недостатку терпения и заботливости флибустьеры часто упускают из рук плоды блестящих предприятий. Их лень, их нежелание помочь друг другу служат тому причиной. Их обычная расточительность тоже им вредит. Когда они привозят свой товар в какую-нибудь страну, то обитатели остерегаются платить им настоящую цену, а они, как по неотложной нужде в деньгах, так и по своей беспечности, соглашаются на самую низкую оценку или же в ярости выбрасывают за борт весь свой груз.
Тома, лучший финансист, всегда получал барыш со своей добычи. Никогда не чувствуя недостатка в деньгах и поддерживая среди своей команды самую точную и строгую дисциплину, он всегда отказывался от невыгодных предложений и дорого продавал свой товар. Получив деньги, он шел к господину д’Ожерону, который всегда охотно давал ему векселя, оплачиваемые во Франции; и, таким образом, кавалер Даникан, не двигаясь из Сен-Мало, мог легко получать свою долю приза и оценивать по достоинству успехи своего фрегата и счастливую мысль, которая у него явилась, когда он назначил Тома Трюбле капитаном.
* * *
Лета господня 1676 г. в один из весенних вечеров «Горностай», в поисках приключений, крейсировал в открытом море. И так как погода была хорошая, море спокойное и бриз небольшой, то капитан Тома Трюбле и Луи Геноле, его помощник, отдыхали оба, поужинав в своей кают-компании, на ахтер-кастеле. Через кормовые порты, широко открытые вечерней прохладе, проникали последние солнечные лучи. Небо, усеянное облаками, напоминающими маленькие красноватые островки, плавающие в синеве, отражало огни заката, а море, от самого края воспламененное готовым упасть в него солнцем, кружило вокруг фрегата пляшущие волны, похожие на огненные языки.
— Вот, — сказал Тома Трюбле, смотревший через один из портов, — вот зрелище, которое малуанские глаза редко наблюдают с наших городских стен.
Он часто вспоминал отчизну и, как бы для оправдания своего упорного нежелания туда возвратиться, он пользовался также всяким удобным случаем, чтобы отдать предпочтение различным местам, куда его заводило крейсерство, перед этой отчизной, которую он, однако, любил горячей любовью.
— Правда, — сказал Луи Геноле в ответ, — правда, что у нас солнечные закаты не так великолепны. А потом я не думаю, чтобы у нас в Сен-Мало погода была сейчас хоть вполовину столь хороша, как здесь. Однако же, по-моему, дождь на родной земле не хуже, а даже лучше солнца в стране изгнания.
Ни разу себе не позволив из дружбы и дисциплины в чем бы то ни было противоречить своему начальнику, Луи Геноле, истый бретонец, часто горевал о том, что он так давно разлучен с родной Бретанью. И одна мысль о сырых долинах и густых туманах, стелющихся над вереском и утесником, сжимала ему сердце грустью и сладостной тоской.
И вот, вспоминая, как моросит в Бретани дождь, о котором он без устали сожалел, Луи Геноле не смог удержать навернувшихся на глаза слез и, чтобы скрыть их от взглядов Тома, поспешно подошел к одному из ближайших портов, делая вид, что погружен в созерцание неба и моря. Тома, однако, увидел, что он плачет.
— Луи, — позвал он вдруг, — Луи! Поди сюда!
Луи, осушив слезы вечерним ветерком, повернулся к капитану и попытался улыбнуться.
— По чести, — начал Тома, — я не хочу быть злым. Чего говорить? Луи, я сильно к тебе привязан. Ты был для меня, для всех нас, для нашего предприятия, целых четыре года самым храбрым и исполнительным помощником. За три доли лучшего приза я бы не согласился, чтобы у тебя в сердце таилась хоть капля грусти или гнева, исключая гнев против врагов короля и Сен-Мало. А я вижу, что ты грустишь, и тому должна иметься причина. Расскажи мне свое горе, чтобы не было его и у меня, потому что я страдаю за такого человека, как ты! Так, ну же, говори! Или это в самом деле тоска по родине тебя так сильно гложет? И не оттого ли ты начинаешь отчаиваться, что тебе так захотелось повидать родную колокольню?
Он встал перед Геноле, который был ниже его на целую голову, и положил свою большую руку на тщедушное плечо помощника. Луи Геноле, когда-то такой нежный и щуплый с длинными черными волосами и атласными щеками, похожими на волосы и щеки девушки, конечно, значительно окреп и загорел, столько проплавав и в штиль, и в бурю и выдержав столько сражений, где порох все время обжигает вам лицо. Все же он по-прежнему был тонок и хрупок, особенно по сравнению с Тома, который был все такой же толстый, большой и крепкий, даже сверх меры.
— Говори! — повторил Тома Трюбле. Но Луи Геноле сначала не захотел ничего отвечать.
— Тома, — сказал он всего лишь. — Кто из нас не хотел бы повидать родную колокольню?
Но если мы однажды утром, четыре года тому назад, миновали Эперон и вышли из Доброго Моря, то это для того, не правда ли, чтобы прийти в эти воды искать счастья? Кто же из нас станет жаловаться, раз счастье нам улыбнулось и мы вот-вот будем богачами?
Тома, услыхав эти слова, покачал головой.
— Луи, — сказал он, — из нас двоих только я наполовину нормандец с материнской стороны, и, однако же, из нас двоих — это ты ведешь себя сейчас совсем как чистокровный нормандец и отвечаешь: «как сказать?» Луи, я сейчас видел на глазах твоих слезы. Без лишних слов скажи откровенно, в чем твое горе. Я же знаю, черт возьми, что вот уже скоро четыре года, как мы покинули наш город для того, чтобы разбогатеть, но я также знаю, что за эти четыре года представлялось много случаев, которые нам было бы легко использовать, чтобы с почетом вернуться к себе, а потом мы могли бы снова сюда прийти и еще округлить наш капиталец. Жалеешь ли ты об этих случаях? Скажи мне, брат Луи! Я считаю тебя своим крестовым братом и братом по пролитой крови, потому что не раз, когда мы бились рядом, одна и та же сабля или пика царапала нам кожу. Скажи мне свою печаль, и пусть Богоматерь Больших Ворот откажет мне навсегда в своей помощи, если ты не останешься сегодня мною доволен!
Ободренный такими словами, Луи, наконец, решился.
— Брат Тома, — начал он. — К чему столько слов? Я знаю, что ты меня любишь, и я люблю тебя также. Я знаю, что ты хороший человек, такой же умный, осторожный, как и храбрый. Не я один, но и многие другие ребята на судне тоскуют по отчизне. И ты это понимаешь. Не раз после стольких хороших призов, после всего этого жемчуга с «Армадильи» и стольких больших кораблей, нами побежденных, ты ни разу не счел случая подходящим, чтобы нам возвратиться домой, значит они в самом деле были плохи. Все мы терпеливо ожидаем того часа, который ты назначишь. По самой букве того закона, который делает тебя здесь единственным хозяином после Бога.
— Господь наш и Спаситель! — вдруг вскричал Тома, раскрывая объятия, — поди сюда, я обниму тебя! Брат мой, Луи, ты, конечно, лучше меня, добродетельнее и благочестивее, и я это знал. Но я буду теперь вечно хранить в памяти, с какой душевной добротой ты ко мне относился, несмотря на то, что я был к тебе часто несправедлив и зол.
Ей-богу, пусть я умру без причастия, если когда-нибудь забуду, какой братской любовью и теплой благодарностью я тебе обязан!
Он замолчал на минуту, чтобы поцеловать в обе щеки Луи Геноле.
— Теперь, — сказал он, — слушай. Да, много случаев нам представлялось вернуться в отчий дом, и почти все они были не плохи, а хороши. Если я все же не захотел их использовать, несмотря на заведомое желание всей нашей команды, то это потому, что у меня самого есть веские причины оставаться подольше на море, как вот сейчас, и вернуться в Сен-Мало тогда только, когда все там перезабудут прежние дела. Так как, скажу я тебе, Луи, эти дела не послужат к моей чести и достоинству. Я от тебя ничего не скрою — за три дня до нашего ухода, четыре года тому назад, я в поединке убил человека и перебросил его труп через ограду одного из кладбищ, примыкающих к ограде Орденского Капитула. И по различным сведениям, которые с тех пор дошли до меня оттуда, я знаю, что этот поступок, происходивший без свидетелей, недоброжелатели называют убийством и преступлением и что, если я вернусь теперь, он будет поставлен мне в вину, несмотря на все наши богатства и всю нашу славу, купленную дорогой ценой. Теперь ты все знаешь! Но наплевать! Если даже мне суждено одному остаться на Тортуге и сделаться родоначальником потомства флибустьеров, я клянусь тебе своим местом в раю, что в первый же благоприятный день ты, Луи Геноле, сам отведешь «Горностай» в Доброе Море и затем вернешься за мной, если захочешь!
Дав такое клятвенное обещание, он рассказал Геноле во всех подробностях о трагическом приключении и обстоятельствах, при которых пал Винцент Кердонкюф. Но в своем рассказе он все же скрыл истинную причину раздора, а именно, случай с сестрой покойного, будто бы беременной. Тома, впрочем, ничего не знал о том, что потом с ней случилось.
Между тем Геноле внимательно слушал.
— Этот Винцент, — спросил он, когда Тома кончил свой рассказ, — этот Винцент Кердонкюф… не был ли он братом той Анны-Марии, о которой много болтали в связи с тобой, Тома?
— Он самый, — ответил Тома, сильно покраснев.
— В таком случае, — продолжал Геноле, — не перестанет ли семья покойного тебя преследовать, если ты женишься на сестре и, взамен убитого брата, сам войдешь в семью?
— Но, — возразил Тома, — разве за меня, невзирая на мои обагренные его кровью руки, отдадут его сестру?
— Это вопрос, — сказал Луи Геноле. — Однако, если верить сплетням, девчонка была очень влюблена в тебя?
— Прошло четыре года, — сказал Тома.
— Это правда, — согласился Геноле. — Любовь может угаснуть в четыре года, а также ненависть. Самое верное средство узнать это досконально, это отправиться посмотреть на месте. И если ты хочешь, чтобы я отвел
фрегат в Сен-Мало, а сам останешься здесь, пока я не вернусь за тобой, то мне будет очень легко разузнать там обо всем и затем передать тебе.
— Так и сделаем, если будет угодно Богу, — сказал в заключение Тома. — Подождем только нового случая захватить ценную добычу и наполнить ею наш трюм, а там назначим день твоего возвращения.
* * *
Пока они так беседовали, солнце погрузилось в море, и ночь, быстро наступающая в тропиках, сразу охватила небо и море. Квартирмейстеры стали свистать койки наверх, как это делалось каждый вечер, после чего все свободные от вахты матросы могут подвешивать свои койки и ложиться. Но сначала все выстроились позади грот-мачты, чтобы вместе помолиться, как всегда молятся моряки на море перед сном. И когда все были в сборе, и факельщики из уважения подняли свои факелы над головой, Луи Геноле, помощник, исполнявший обязанности судового священника, подошел к трапу на ахтер-кастель и благоговейно прочитал «Отче наш» и «Богородицу», дабы освятить сон «Горностая» и охранить его на эту ночь от бури и кораблекрушения.
VI
— Подождем, — обещал Тома Трюбле, — подождем только нового случая захватить ценную добычу и наполнить ею наш трюм.
Но такие случаи каждый день не встречаются. В это лето господне 1676 Флибустье достигла полного расцвета, и даже сам губернатор д’Ожерон принял участие в погоне за врагами короля, чтобы подать пример всем отважным людям и очистить, как он говорил, Вест-Индию от всех флагов, кроме флага с лилиями.
Шесть месяцев тому назад коалиция авантюристов атаковала Курасао, придя на помощь королевской армии, руководимой начальником Мартиникской береговой стражи. И среди корсаров становилось модным объединяться вместе, чтобы производить нападения на неприятельские острова и города, за невозможностью, с выгодой для себя, нападать, как бывало, поодиночке на торговые суда. Все это доказывало, что испанцы и голландцы, которым надоели тяжкие потери, понесенные ими по вине корсаров, стали сокращать свою торговлю, едва решались пускаться в море и отправляли всего одно судно туда, где раньше у них ходило обычно четыре. От этого страдало ремесло корсаров.
В течение двух месяцев «Горностай» крейсировал повсюду, не встречая мало-мальски стоящей дичи. Наконец, заметив по уменьшению хода, что необходимо произвести килевание, Тома решил уже направиться к Южным Кайям, как вдруг, огибая мыс Тибюрон, являющийся западной оконечностью Сан-Доминго, фрегат, по какой-то чудесной случайности, напал на то, что он так долго и тщетно искал.
* * *
Было раннее утро. Сигнальщик, только что забравшийся в «воронье гнездо», закричал вдруг оттуда, что впереди по правому борту виден парус. Несколько матросов бросились на ванты фок-мачты и стали тоже пялить глаза. Они тоже скоро увидели его. Парус оказался недалеко. Но надо было внимательно смотреть, чтобы его разглядеть, так как он еще плохо освещался восходящим солнцем и неясно выделялся на фоне крутого и темного берега. Луи Геноле, быстро направивший куда следовало свою подзорную трубу, объявил, что там действительно находится корабль, идущий правым галсом, — как шел и «Горностай», — и, очевидно, с таким же намерением обогнуть мыс Тибюрон.
— Какого рода судно? — спросил Тома Трюбле, сходивший в этот момент с полуюта.
— Очень большое, — сказал Геноле.
— Тем лучше! — вскричал Тома, — значит и добыча будет лучше!
Однако же Луи Геноле не бросал своей трубы. Он внимательно разглядывал эту добычу.
— Что тебе видно? — спросил его Тома.
— Я вижу, — ответил он через минуту, — я вижу очень высоко сидящее судно, выкрашенное в красный, желтый, синий и белый цвета, и вижу рангоут в полном порядке и новые паруса на нем.
— Неужели? — сказал Тома, — уж не военное ли это судно?
— По-моему, да, — сказал Геноле.
Он передал подзорную трубу Тома. Тома в свою очередь посмотрел.
— Великолепно! — воскликнул он, когда кончил смотреть. — Сегодня, если будет угодно Богу и нашим святым заступникам, мы будем богаты. Однако нам незачем торопиться: эти от нас не ускользнут. Поэтому нам надо немного подкрепиться перед сражением — это нам придаст силы и облегчит победу. Предложение встретили с восторгом, и команда отправилась на камбуз за едой. Оставшись один со своим помощником, Тома вдруг положил ему руки на плечи:
— Брат мой, Луи, — сказал он торжественно, — нас ожидает опасное приключение и все, что мы до сих пор делали в эти четыре года, по сравнению с ним вздор и пустяки. С этим судном нам придется повозиться.
Не возражая ни слова, помощник утвердительно кивнул головой.
— Ты видел не хуже моего, — продолжал Тома, — это злосчастное судно — линейный двухпалубный корабль, и едва ли ошибусь, сказав, что тряпка, которую он поднял на грот-мачте, означает присутствие какого-то важного лица на борту. Какого-нибудь адмирала, наверное. А мы не больше, как жалкое суденышко, желающее закинуть сеть на столь крупную рыбу.
— Да, — молвил бесстрастно Геноле.
— Ты тоже так думаешь? — спросил Тома, вглядываясь в бледное лицо помощника, который казался всего спокойнее в минуты самой большой опасности. — Ты тоже так думаешь? Так не кажется ли тебе, что нам лучше отказаться от этой затеи? Или ты согласен вместе со мной и на этот раз поставить все на карту?
— Решай, — сказал Геноле. — Я подчиняюсь!
Тома осматривал пустынный горизонт.
— Если бы еще какой-нибудь флибустьер проходил мимо, — пробормотал он, — с ним можно было бы заключить союз… Отчего с нами нет отважного Краснобородого?
Услыхав это ненавистное ему имя, Геноле молча перекрестился. Тома опустил голову в нерешительности.
— Луи, — сказал он наконец, — отвечай! Как ты мне посоветуешь?
— Никак! — ответил Геноле своим бесстрастным голосом. — Делай, как знаешь. Ты начальник.

Из грот-люка выходили матросы. Некоторые еще жевали остатки сухарей, которые они, для скорости раскрошив об колонку, напихали в рот. Тома внимательно смотрел каждому в лицо. Двадцать сражений уже было выиграно благодаря мужественной храбрости этих малуанцев. И не было во всех западных водах ни одного капитана, ни испанского, ни голландского, который бы не дрожал при одном упоминании «Горностая», «фрегата дьяволов», как все его называли. Воинственная гордость наполнила сердце капитана. Он стоял посредине трапа, ведущего со шкафута к ахтер-кастелю. Он соскочил на палубу, подбежал к матросам и, взяв двоих за руки, крикнул со всей мочи:
— Братья побережья! Слушайте все меня. Нас здесь всего сотня, врагов, может быть, тысяча. У нас — двадцать восемнадцатифунтовых пушек, у них — пятьдесят или шестьдесят двадцатичетырехфунтовых или тридцатишестифунтовых. Под ударами их ядер наши тонкие борта полопаются, как каштаны в огне, а наши ядра не повредят даже обшивки, мощной, как стена. Так вот. Благоразумно и осторожно было бы отступить и дать этому кораблю идти своей дорогой… хотя бы он был весь набит золотом, от кильсона до бимсов опер-дека. Это один из галионов Новой Испании, по счастью, отставший от своей эскадры. Я говорю, по счастью, так как, очевидно, это святое провидение послало его на благо храбрецам, которые нападут на корабль, и на позор трусам, подобным нам, которые дадут ему удрать. Я сказал. А вы что скажете?
Ошеломленные матросы хранили молчание, бросая косые взгляды на своего капитана. Но двое из них, успевшие рассмотреть через порты испанский галион, с возмущением обернулись к товарищам и закричали так же громко, как кричал Тома.
— Трусы и изменники те, кто боится напасть на корабль, полный золота!
И мгновенно тот же крик повторился на всем фрегате, и вся команда бросилась на палубу:
— К бою, к бою!
Тома, красный от восторга, выпустил из рук матросов, которых он держал.
— Итак, — спросил он, — вы все, сколько вас ни есть, хотите драться?
Они завопили все разом:
— Хотим!
— Ладно! — сказал Тома. — Луи Геноле, пойди сюда! Ты мне свидетель и все вы мне свидетели вместе с ним, — объявил Тома Трюбле, — что я клянусь Равелинским Христом, Богоматерью Больших Ворот, святым Мало, святым Винцентом и святым Фомой убить собственной рукою всякого, кто отступит в этом бою!
Многие перекрестились, так же как это недавно сделал Луи Геноле. Клятва их пугала. Никогда Тома Трюбле не решался произносить такую ужасную клятву. Он не призывал без причины святых Мало и Винцента, заступников малуанского города, и никогда попусту не клялся Равелинским Христом, который лучше даже Богородицы Больших Ворот охраняет моряков на море, но и строже карает их клятвопреступление.
Тома, между тем, подняв правую руку, плюнул на пол для вящего подтверждения своих ужасных слов. После чего:
— Под ветер руля! — скомандовал он, — вытянуть шкоты! Брасы и булини прихватить! Отдать, вытянуть и поднять верхние паруса! Если мы упустим этого язычника, не пить мне больше вина!
VII
Галион шел правым галсом, стараясь держаться ближе к берегу. Очевидно, он намеревался, пройдя мыс Тибюрон, уклониться еще больше к северу и подняться с попутным ветром к берегу острова Куба, быть может, к ближайшему от Сан-Доминго порту — Сантьяго. Довольно свежий и устоявшийся бриз с норд-оста позволял сохранять тот же галс при наполненных парусах. Но пока что стесняемый берегом галион был несколько связан в своем маневре. Иначе «Горностай», бывший у него под ветром, едва ли мог бы сблизиться с ним.
Тома Трюбле, лавируя так, чтобы поскорее перерезать путь врагу, прежде всего принялся за тщательный осмотр всего фрегата. И подготовив все, как должно для сражения, он позаботился о том, чтобы протянуть длинную парусину над батарейными портами от кормы и до самого носа. Весьма остроумная военная хитрость, так как «Горностай» с замаскированными таким образом орудиями ничем не отличался теперь от купеческого судна, разве только своими парусами, высокими и новыми парусами корсарских судов, привыкших полагаться во всех случаях прежде всего на свою скорость как для бегства, так и для погони. Но этого уж нельзя было скрыть. И Тома, молясь только Богу, чтобы испанец этого не заметил, постарался напротив развернуть сколько было можно всю эту белую и непомерно большую парусность и наполнить каждый ее вершок ветром, чтобы не потерять ни одного узла этой столь драгоценной скорости.
Между тем галион, казалось, не замечал еще фрегата. По крайней мере, он не показывал вида, что фрегат его сколько-нибудь беспокоит. Он продолжал идти все тем же галсом, под теми же парусами — марселями, фоком, блин-дом и контра-бизанью. В конце концов, ничего не было удивительного в том, что такой корабль — линейный корабль первого или второго ранга — не удостаивал даже внимания судно трижды или четырежды слабейшего типа, и по видимости, лишенное артиллерии. К тому же, никто из малуанских матросов не показывался наверх. Один только Тома Трюбле был виден около руля, рядом со своим рулевым. В этом заключалась еще одна предосторожность, предпринятая им: поместив команду в кубрик, он, с одной стороны, благоразумно скрывал от своих матросов превосходные силы врага, а с другой стороны — усыплял бдительность неприятеля, скрывая и от него настоящие свои силы. И все же, несмотря на столько мудрых мер предосторожности, Тома, увидев ближе огромные размеры талиона, снова усомнился в успехе. Нормандская кровь в нем заговорила. Ничуть, впрочем, не теряя мужества, он по очереди пересчитал все орудия талиона, сравнив их число со своей скудной артиллерией. На этом тщательном и осторожном подсчете Тома построил свой план сражения. Достаточно было одного бортового залпа галиона, чтобы уничтожить фрегат. Лучшая тактика заключалась в том, чтобы избегать этого залпа. Это было возможно при том условии, чтоб подойти к врагу спереди, заставляя его сражаться носом, лишенным, как всегда и во всем мире, орудий. Однако же необходимо было также избегать и абордажа, по крайней мере в начале боя, потому что сто человек, как бы храбры они ни были, не могут равняться с пятью-или шестьюстами. А возможно, что команда галиона была еще многочисленнее.
Тома продолжал смотреть. Не больше тысячи саженей отделяло оба судна, и огромный корпус испанца горой поднимался из воды. Его ахтер-кастель возвышался над морем больше чем на сорок футов, а двойной ряд его батареи с гладкими и блестящими пушками блистал на солнце, как строй зеркал. Это действительно был хороший, очень хороший линейный корабль. Гон-дек его был выкрашен в черный цвет, опер-дек — в синий, с золотыми девизными поясками, а мидель-дек был телесного цвета. Закрытые ставни пушечных портов были ярко-красные, так же как и все внутренние убранства кастелей и межпалубного пространства. А над корпусом паруса четырех мачт возвышали до самого неба свою снеговую пирамиду.
Наконец, тысяча саженей обратилась в пятьсот, потом в двести, потом стала меньше ста. Фрегат уже обогнал галион. Тома, увидев корму противника, еще сильнее придержался к ветру, чтобы занять, как он хотел, положение прямо перед вражеским носом. Такой маневр ясно говорил о враждебных намерениях. Испанский капитан сразу сбросил свое оцепенение. Придержавшись сам, чтобы не попасть в ловушку, он живо поднял большое кастильское знамя и подкрепил его пушечным выстрелом. Это служило приглашением корсару самому показать свой флаг. Но Тома Трюбле, считая, что еще не время, не захотел этого сделать, так же как не захотел открыть свою батарею, все еще хитро прикрытую парусиной. Поэтому он, не колеблясь, поднял красивый кастильский флаг, совершенно подобный флагу на линейном корабле, затем спустил свои бом-брамселя и взял на гитовы брамселя, как бы для того, чтобы отсалютовать кораблю и сблизиться с ним настолько, чтобы можно было разговаривать. Для того, чтобы подчеркнуть свои мирные намерения, он не забыл взять в руку рупор и даже приложил его ко рту, повернувшись к галиону. Впрочем, он ограничился лишь жестом и ничего не сказал, не зная, о чем говорить. Но испанец поддался на эту удочку и оказался настолько глуп, что потерял все это драгоценное время, которое Тома сумел использовать.
Действительно, в следующую минуту «Горностай», неожиданно обрасопив передние реи, стал поперек галиона и лег в таком положении в дрейф. Остальное потребовало времени меньше, чем нужно для рассказа. Парус, скрывавший батарею, был сорван, испанский флаг соскользнул с кормового флагштока и его сменил страшный малуанский флаг — голубой, пересеченный белым крестом, червленный в вольной части. В жерлах пушек, направленных на линейный корабль, блеснуло десять огненных языков, и бортовой залп, просвистев среди мачт и снастей, как рукой снял пирамиду парусов, возвышавшуюся над талионом, которая вмиг растаяла и рухнула, как снег на солнце. Тогда на вражеском судне, с одного конца до другого, поднялся яростный воинский клич, и много вооруженных солдат бросилось на бак, чтобы сражаться мушкетами, раз ни одно из их прекрасных бронзовых орудий не могло ответить корсару. Но молодцы «Горностая» не страшились никакого оружия, ни в испанских, ни в любых других руках. К тому же, рассеянные по всему фрегату, под защитой портовых ставней и коек, сложенных в кучу, стреляя с удобством, не торопясь и не приходя в ярость, они имели решительное преимущество перед испанскими солдатами, которые как попало столпились на носу своего корабля, открытые вражеским выстрелам, мешая друг другу, в полном беспорядке, рыча от ярости. Так что через несколько мгновений полубак и шкадук галиона оказались сплошь усеянными трупами, тогда как на борту Корсара все еще были невредимы.
Видя это, матросы Сен-Мало решили, что победа обеспечена, и даже трое или четверо смельчаков решились крикнуть: «на абордаж». Это могло бы кончиться для них плохо, так как Тома Трюбле не любил шутить с дисциплиной. Он ставил безусловным требованием, чтобы во время боя никто, кроме него, не издавал ни звука. На счастье смельчаков, возвысивших голос, Тома, находящийся на ах-тер-кастеле, чтобы руководить сражением с более высокого места, не слышал их криков. И пришлось уже Луи Геноле, следившему за мушкетной стрельбой, навести порядок, что он и сделал со своей обычной уверенностью, разможжив пистолетным выстрелом всего лишь одну голову. Все же этого оказалось достаточно для водворения порядка. И сражение продолжалось без всяких инцидентов не менее получаса.
Стрельба с галиона постепенно затихла после того, как почти все солдаты, рассеянные по всему огромному судну, пали под выстрелами корсаров. И огонь с фрегата также прекратился, так как малуанским молодцам уже не во что было стрелять. Испанец стоял неподвижно, как будто после кораблекрушения. Из его шпингатов и ватервейсов стекали маленькие красные ручейки, и море вокруг окрашивалось в пурпур. Тома, видя столько крови, решил, что враг близок к сдаче. И решившись тогда ускорить событие, он собственными руками взял у рулевого румпель и стал им так управлять, что «Горностай» столкнулся с галионом и слился с ним такелажем, вражеский бушприт пробил грот-ванты фрегата. Тогда Тома Трюбле, бросив румпель с криком: «Братья, за мной!» — держа саблю в одной руке, пистолет в другой, кинжал в зубах, первый бросился на абордаж.
Однако же на галионе было гораздо больше пятисот или шестисот человек, солдат и матросов. Галион, как потом выяснилось, грузился в Сиудад-Реале, очень богатом городе Новой Гренады. Он держал путь к Севилье в Андалузии, отвозя туда, кроме большого числа разного рода пассажиров, две отличные роты испанской инфантерии, т. е. около четырехсот прекрасно вооруженных пехотинцев. К ним надо было присоединить саму команду, т. е. триста сорок матросов, восемьдесят добровольцев, сто десять солдат и сто четыре сухопутных и морских офицера и унтер-офицера всяких чинов. Общее число превосходило тысячу бойцов, большая часть которых была готова сражаться до последней капли крови. Мушкетная стрельба в начале сражения вывела из строя не больше ста пятидесяти человек, что уже было много, если вспомнить, что у малуанцев было меньше ста стрелков.
Поэтому едва Тома Трюбле в сопровождении тридцати матросов ступил на вражеский бак, как из трех широко открытых люков, служивших для прохода на верхние и нижние батареи, хлынуло три потока вооруженных людей, которые, как горящая лава, стали растекаться по всему галиону и со страшной яростью бросились навстречу нападающим. Без сомнения, как ни храбры были корсары, они не выдержали бы первого натиска, если бы их счастливая звезда, пресвятая Дева, к которой они благочестиво взывали, не дала им, по счастливой случайности, большого преимущества в позиции: действительно, испанцы могли достигнуть бака или фор-кастеля только очень узкими проходами, справа и слева от фок-мачты; эти проходы, и всегда-то настолько узкие, что в них трудно было развернуться вчетвером, были в данное время прекрасно баррикадированы всем тем такелажем, который упал под ударом корсарских пушек: реями, парусами, связками троса, кучами снастей и разными обломками. Это создавало нечто вроде блиндажа, к которому Тома и его молодцы поспешили прибавить, в качестве фашан, те пять или шесть десятков трупов, которыми усеян был весь бак.
И тогда началось чудовищное сражение.
Толпа испанцев вне себя от злобы и жажды мщения, тем сильнее разъяренная, что поневоле так долго сносила смертоносный огонь корсаров, не будучи в состоянии действенно отвечать и видя, как падают в ее рядах один за другим храбрые товарищи, с такой стремительностью и с такой отвагой бросилась на приступ бака, что, казалось, никакое укрепление не выдержит подобной атаки. Но за простой баррикадой, образованной упавшим такелажем и трупами убитых, стоял Тома со своими молодцами. И первый натиск, как он ни был ужасен, они отразили. Корсаров уже было не тридцать, а шестьдесят или восемьдесят, так как Луи Геноле, быстрый, как молния, увидав опасность, которой подвергались его капитан и братья по оружию, бросился на помощь со всеми, кто оставался на борту «Горностая». И теперь на этом узком пространстве вокруг фок-мачты галиона малуанцы продолжали сражаться один против десятерых, но не отчаиваясь в победе.
И она осталась за ними.
Кто сможет передать, ценою каких подвигов. Кто сможет изобразить небывалое зрелище, которое представляли эти два человека, Тома Трюбле и Луи Геноле, из которых каждый защищал один из узких проходов, каждый командовал и руководил горсточкой своих товарищей, имея против себя несметную толпу врагов, беспрерывно нападающих, беспрерывно отражаемых, снова кидающихся в атаку, снова отбрасываемых, в то время как трупы их образовали холм у подножия блиндажа, растущий с каждым приступом. Это было похоже на эпопею. После многих тысяч смертельных ударов холм из трупов сделался выше блиндажа, защищавшего бак. И испанцам надо было бы тогда перелезать через него. Но они потеряли мужество, и тогда сами малуанцы, увлеченные отвагой, победно перескочили через препятствие и обратили в бегство перепуганного врага. Открытые еще люки поглотили отступающие толпы испанцев. И Тома, и Луи увлекли своих матросов в погоню за беглецами. На палубе огромного корабля бурлили кровавые потоки. И Луи Геноле, два раза поскользнувшийся и упавший в эту густую кровь, бежал теперь, обагренный ею. А Тома Трюбле, сломавший об испанские кости три шпаги, кинжал и рукояти всех своих пистолетов, взмахивал теперь двумя огромными топорами и сражался так, как сражаются дровосеки против дубов.
VIII
С кормового флагштока галиона упал огромный кастильский флаг. И Тома Трюбле, ужасный в своей победе, растоптал блестящую ткань. Осторожный перед битвой и яростный во время сражения, он, как всегда, опьянялся мало-помалу воинственным пылом и становился похож, в конце концов, на неукрощенного тигра. Даже разгром врага не мог остановить его ужасных порывов. По-видимому, все уже было кончено: победители занимали палубу корабля и батареи; сбившиеся в кучу побежденные теснились в отчаянии на дне трюма, и оттуда поднимались бессильные стоны ужаса вперемежку с мольбами и криками о пощаде. Но тем не менее непреклонный Тома Трюбле продолжал громить гранатами эти жалкие остатки испанского экипажа. В то же время раненые на палубе беспощадно добивались и бросались за борт вместе с трупами. Избиение не прекращалось. Один только Луи Геноле, скрестив руки и опустив голову, не принимал в нем участия и прогуливался в стороне по фор-кастелю галиона, все еще сцепленного своим бушпритом с фрегатом. Иногда Геноле осматривал небо и горизонт вокруг себя, как будто следя за погодой или появлением новых врагов. Действительно, помощник, внимательный, как всегда, в то время, как остальные упивались резней, охранял всеобщую безопасность.
Наконец бойня прекратилась. Из тысячи воинов, числившихся когда-то на галионе, оставалось не больше трехсот. Убедившись в том, что у них не осталось оружия, их загнали как баранов в глубокий трюм, послуживший им последним убежищем. Часовые с мушкетами в руках были поставлены сторожить все выходы, которые, ради большей безопасности, закрыли железными решетками. После этого все, казалось, было в порядке. И Тома Трюбле, все еще дрожащий и размахивающий своими двумя окровавленными топорами, решил, что для окончательного овладения побежденным судном, надо пойти в кают-компанию ахтер-кастеля и забрать судовые бумаги и другие документы, которые должны там находиться.
Он отправился туда в сопровождении нескольких матросов.
Но едва только они приоткрыли дверь в кают-компанию, как оттуда раздались визгливые крики, с несомненностью доказывающие присутствие в этом месте большого числа женщин. Действительно, их было там немало. И много мужчин вместе с ними, которых не было слышно по той причине, что они кричали не так громко. Это были пассажиры и вообще все те, кто не воевал. После первого же выстрела все они попрятались сюда и стояли, столпившись вокруг человека с длинной бородой, фиолетовая сутана которого и аметистовый перстень достаточно ясно определяли его ранг и положение. Действительно, он величественно остановил корсаров и потребовал уважения и почтительности, на которые имеет право его высокопреосвященство архиепископ Санта-фе де Богота, ибо это был не кто иной. И это в честь его галион поднял на грот-мачте архиепископский флаг, который Тома недавно принял за флаг какого-нибудь испанского адмирала.
Тома с поднятыми кверху топорами подвигался вперед, и за ним — четыре корсара. При виде архиепископа они сразу остановились — и от изумления, и от настоящего страха. Действительно, все они были хорошие благочестивые христиане, и одна мысль о кощунстве приводила их в трепет. А может ли быть худшее кощунство, чем поднять руку на священника, помазанника господня. Тома поспешно склонил колено и, забывая даже выпустить из рук свои топоры, попросил у прелата благословения, как единственное средство уничтожить саму тень того греха, который они чуть было не совершили. И архиепископ, у которого как будто гора с плеч свалилась благодаря этой почтенной просьбе, восхищенный тем, что имеет дело с католиками — людьми гораздо менее суровыми по отношению к священникам, чем гугеноты, и легче ублажаемыми, — поспешил сначала благословить всех тех, кто этого желал, а затем предложил большой выкуп при условии, чтобы с ним и его паствой хорошо обращались.
— Черт возьми! — вскричал тогда один из корсаров, не менее довольный и не менее успокоенный, чем сам архиепископ, — черт возьми, вот уж святой человек этот поп. Даром нас благословил да еще хочет отсыпать нам монет!
— Молчи! — закричал ему прямо в лицо Тома Трюбле. — Молчи, окаянный! И не кощунствуй, или я убью тебя!
В первом своем порыве Тома действительно не помышлял о том, чтобы отягчить свою совесть выкупом, который предлагал архиепископ, как не помыслил о том, чтобы запятнать свои руки кровью слуги господня. Но из-под шкуры доброго христианина, превыше всего заботящегося о спасении, выглянуло острое нормандское ушко. И не успел его высокопреосвященство закончить своей речи, в которой он предлагал корсарам за свободу все свои доходы за целый год (т. е. четырнадцать тысяч испанских дукатов или двадцать одну тысячу французских ливров), как уже Тома, перестав заботиться о возможном грехе и охваченный вожделением, при одном упоминании о ливрах и дукатах, поторопился прекратить разговор, чтобы не заключить сделки наугад и оставить себе возможность умело поторговаться. Поэтому он предложил прелату столь же твердо, сколь и почтительно, отправиться пока что в свое собственное помещение и позволить ему обсудить сначала дела его паствы, которой, впрочем, нечего было опасаться чего-либо дурного.
И когда архиепископ без особых препирательств повиновался — занялись остальными.
Это приключение недолго длилось, однако же, достаточно, чтобы утихомирить ярость и жажду крови у корсаров. Очевидно, что, получив благословение святого человека, нельзя было думать о резне. Мирные пассажиры воспользовались этим почти чудесным успокоением победителей. Снова открыли один из тюремных люков. И пассажиры в него устремились, довольные тем, что где-то, хотя бы в тюрьме, им дают приют. Но когда они там очутились и стали друг друга искать и пересчитывать, то оказалось, что не все в сборе: не хватало нескольких женщин.
Не впервые молодцы «Горностая» находили женщин на захваченных ими кораблях.
Обычно это не вызывало беспорядка. Купеческое судно редко защищалось против корсаров, и большинство призов добывалось без единого выстрела. Тогда захватчики вели себя довольно тихо. И женщины, если только там были женщины, платили затем выкуп, так же, как и мужчины, или не платили, смотря по тому, были ли они, подобно мужчинам, богаты или бедны. Конечно, случалось также, что насиловали двух-трех девиц. Но дело дальше не шло. Большая ошибка, в которую часто впадают сухопутные люди, думать, будто матросы, в особенности те, кто давно ходит по морю, одержимы сладострастием и чуть ли не мучения испытывают от долгого воздержания. Совершенно напротив, ничто так не успокаивает плоть, как бесконечные скитания между небом и водой, со святой усталостью во всех членах от отданных, вытянутых, крепленных, брасопленных и взятых на гитовы парусов и с целомудренным поцелуем морского бриза на всем теле.
Но на этот раз дело обстояло иначе. Кровавая битва, выигранная с таким трудом, разожгла кровь бойцов и взволновала их чувства. Как только они увидели перепуганных и кричащих женщин, жавшихся около его высокопреосвященства архиепископа Санта-фе, у корсаров явилось страстное и грубое желание овладеть этими женщинами. Как только удалился архиепископ, и все пассажиры мужского пола попали в свой загон, каждого матроса невольно потянуло задержать ту из пленниц, которая была ему всего милее или всего ближе, и толкнуть ее в первый попавшийся темный угол. И Тома Трюбле, который в других обстоятельствах наказал бы такой поступок немедленной смертью, Тома, поддаваясь всеобщей заразе, поступил так же, как и его матросы.
Он придавил своей большой рукой плечо стройной черноволосой девушки, которая держалась в стороне от подруг, в глубине кают-компании, и которая — одна, может быть, из всей толпы — не закричала, когда корсары вломились в дверь.
Уже начались крики из всех темных углов, куда матросы затащили своих женщин.
Тома Трюбле вдруг задрожал от желания и из багрового стал сразу бледным. Черноволосая девушка, сама бледная, как смерть, и все такая же молчаливая своими черными широко открытыми глазами глядела ему в глаза. Она была высока ростом и очень красива, с золотистой матовой кожей. Своими маленькими и острыми зубами она покусывала нижнюю губу. От укуса выступило немного крови.
Тогда Тома Трюбле, уступая страсти, бросился на свою жертву, опрокинул ее, придавил к земле и наклонился над ней…
Но она отчаянным усилием вырвалась, поднялась, хотела бежать.

Он снова поймал ее, удержал. Но она опять вырвалась и, изменив тактику, решила встретить его. За поясом корсара был заткнут кинжал. Ей удалось его схватить. Замахнувшись кинжалом, она готова была нанести удар. Но он, конечно, со смехом шел на нее. Тогда, отступив еще на шаг, она обратила кинжал против собственной груди. И закричала громким голосом, путая французские и испанские слова:
— Подойди, и я убью себя! И пусть тогда Смуглянка из Макареньи проклянет твою мать, твою сестру и твою жену и задушит их во время сна!
Тома Трюбле, который не знал, что значит Макаренья, а также Смуглянка из Макареньи, удивился этим странным речам и испугался их, решив, что это какая-нибудь магическая формула колдовского заклятия или порчи. И он оставил смуглую девушку, даже оттолкнул ее, боясь действия заклинания. Они долго стояли так друг против друга в полутемной кают-компании среди стонов насилуемых женщин: она — продолжая размахивать кинжалом, Тома — перед ней, сжав кулаки, с искривленными губами, с сумасшедшим взглядом, готовый на нее броситься и не смея, взбешенный, разъяренный и робкий в одно и то же время…
Глава третья
ЗАВОЕВАННЫЙ ГОРОД
I
В тот же вечер Тома Трюбле, капитан, сказал Луи Геноле, помощнику:
— Брат, господь послал нам тот случай, которого мы дожидались. Когда я давеча, желая подогреть храбрость наших ребят, кричал им, что галион полон золота, я сам не подозревал, что на нем его столько. Теперь мы богаты, так богаты, что было бы грешно не оградить нашего богатства от возможных случайностей. Хотя бы каперствовали двадцать лет и больше того, хотя бы мы исходили все моря, никогда уже нам не встретить такого приза. Поэтому нам нужно, по-моему, двинуться к Тортуге, туда не больше полутораста миль, и мы их сделаем в два счета. Там мы как-нибудь обмачтуем наш корабль. Ты примешь его, оставишь на нем сколько надо будет матросов и отправишься, как только можно будет, в Сен-Мало. Так как только в Сен-Мало мы сможем извлечь настоящий барыш из этого чудесного груза.
— Так мы и сделаем, — ответил Луи Геноле, — это мудрое решение.
Галион мог еще идти под остатками нижних парусов, а этого было вполне достаточно для такого короткого перехода. Впрочем, «Горностай» должен был находиться все время рядом, чтобы в случае надобности взять его на буксир. Надо сознаться, что никогда еще на памяти корсаров никто не захватывал столь сказочного приза. По самому грубому подсчету, одного награбленного металла как в слитках, так и в чеканке, было на сумму до четырехсот сорока трех тысяч ливров, считая, как обычно, ливр серебряного лома равным десяти пиастрам. К этому надо было прибавить много драгоценных камней, среди которых некоторые были замечательной красоты, драгоценнейшие ткани, ценное дерево, пряности, много продовольствия, напитки, боевые припасы. Словом, вдоволь всего, чтобы на веки вечные обогатить, как сказал Тома, весь «Горностай», от капитана и помощника до молодых матросов и юнг включительно, не говоря о поставщике и арматоре.
— Ах ты, черт! — повторял Тома, очень довольный, — брат мой, Луи, тебе предстоит блестящее, триумфальное возвращение в Доброе Море. Наши земляки глазам своим не поверят, когда ты, уехав помощником на довольно-таки жалком легком фрегате, вернешься капитаном линейного корабля первого ранга!
Но Луи Геноле взглянул на своего начальника:
— Все это для меня хорошо, — сказал он. — Но для тебя?
— Для меня? — повторил Тома, сразу сделавшись серьезным.
Они сидели вдвоем, с глазу на глаз, в запертой кают-компании. Тома все же понизил голос, прежде чем ответить.
— Ты же знаешь, что я не хочу появляться в Сен-Мало, пока не буду уверен в том, что могу сделать это безнаказанно.
Но Луи Геноле покачал головой.
— Неужели ты думаешь, что тебе нельзя вернуться теперь, когда ты богат и покрыл себя славой? И неужели сестра Винцента Кердонкюфа… царствие ему небесное… не рада будет выйти за тебя замуж, чтобы добиться почета, иметь собственный дом и набитые дукатами сундуки? Ведь все это тебя ждет, как только «Горностай» выкинется на пески Тузно!
— Как сказать! — задумчиво сказал Тома.
Поначалу он с удовольствием и охотой слушал своего помощника. Но при имени убитого им человека он сразу нахмурился. И в то время, как Луи Геноле все еще продолжал говорить про сестру Винцента, Тома с некоторым замешательством смотрел на запертую дверь в каюту, где помещалось его собственное капитанское ложе. Геноле поймал этот взгляд.
— Кстати, о девках, — продолжал он, приняв озабоченный вид, — что ты намерен делать с той?
Он показал пальцем на дверь каюты. Тома нахмурил брови и опустил глаза.
— Почем я знаю! — сказал он нерешительно.
— Зачем ты ее запер здесь, на нашем судне и в собственной каюте?
— Почем я знаю!
Оба они довольно долго молчали. Затем Тома, уступая главной своей заботе, спросил у Луи:
— Послушай, ты набожнее меня и рассудительнее… Что, по-твоему, колдунья она или нет?
— Почем я знаю! — ответил в свой черед Геноле.
Но на всякий случай перекрестился.
* * *
Действительно, несколько часов тому назад Тома Трюбле, как только галион был приведен в порядок, велел перевезти на «Горностай» черноволосую девушку, оказавшую ему такое решительное сопротивление при захвате призового судна.
Почему? Он и сам этого хорошенько не знал, что и подтвердил только что совершенно искренне в разговоре с Луи. Может быть, из-за неудовлетворенного, страстного, исступленного желания, может быть, из-за страха, суеверного страха: по-прежнему загадочная «Смуглянка из Макареньи» продолжала странным образом волновать Тома. Ничего не мог ему объяснить и Луи Геноле.
— Испанцы, — заметил он проницательно, — большею частью добрые христиане и католики. Но среди них все же встречается много безбожников, вроде цыган, мавров, жидов и даже некромантов. Если твоя девка из их числа, то нам всем придется об этом пожалеть.
* * *
Упомянутая девка, пока истинная природа ее оставалась невыясненной, была заключена в собственной каюте Тома. Но Тома к ней пока не являлся. Он, видимо, не спешил с этим и не торопил различных работ, связанных с захватом корабля. К тому же требовалась осмотрительность, и надо было принять много предосторожностей. Сражение было кровавое. Из девяноста двух человек, бывших на фрегате перед нападением на галион, тридцать человек было убито, а восемь получили такие тяжелые раны и увечья, что надолго выбыли из строя, не говоря уже о легких ранениях, никого не удивлявших, так как не было почти ни одного матроса, который бы в этом деле не пролил крови, много или мало. Поэтому Тома, располагая всего пятьюдесятью четырьмя матросами, но решив во что бы то ни стало сохранить свой приз, хотя бы ему пришлось бросить ради этого «Горностай», приказал тридцати шести матросам, по жребию, отправиться на галион и поручил Луи Геноле ими распоряжаться. Итак, на фрегате оставалось всего восемнадцать человек. Всякое восстание пленников на корабле было бы легко подавлено. Что же касается возможной встречи с каким-нибудь неприятельским судном, то восемнадцати бойцов с одной стороны, так же как и тридцати шести с другой, было слишком недостаточно для обслуживания артиллерии фрегата и галиона. Тома, однако же, надеялся, что в этом случае их флаг — малуанский флаг, наверняка защитит их от нападений и что мало найдется таких отважных голландских и испанских крейсеров, которые бы решились выступить против двух противников столь внушительного вида, ничем не обнаруживающих своей действительной немощи и слабости.
Пока что, во всяком случае, нечего было бояться такого рода опасности: так как бриз, как это часто случается в Антилах, сначала затих с заходом солнца, а потом совершенно прекратился. Так что сейчас мертвый штиль, наверное, остановил все суда на море. Поэтому оба корабля, стоя рядом, неподвижно, в центре пустынного горизонта, находились в полной безопасности. И Луи Геноле мог без опасения спустить свой вельбот и отправиться поужинать с Тома Трюбле, чтобы лучше и удобнее столковаться друг с другом о том, что надлежало предпринять в дальнейшем. Одержав так удачно победу, надо было ее так же удачно использовать. Поэтому оба капитана тщательно обсудили и рассмотрели как следует все возможности.
После чего, слово за слово, беседа и пришла к тому, что было только что рассказано.
* * *
Молчаливые оба, Тома Трюбле и Луи Геноле глядели через открытые порты на неподвижный океан и усеянное звездами небо. Луна струила по черной воде узкий ручеек ртути.
— Брат мой, Тома, — сказал вдруг Луи Геноле, — тягостно мне и грустно оставлять тебя одного в этой стране, полной зловредных и скверных людей, и уходить без тебя к нашей милой Бретани, где так много прекрасных церквей и столько чудотворных святых.
— Увы! — молвил Тома, покачав головой.
Он смотрел на ночное море. Еле заметное дуновение сменило полный штиль.
— Брат мой, Тома, — продолжал Луи Геноле. — Ты можешь на меня положиться, я все сделаю по твоему желанию и вернусь сюда, как можно скорее, принести тебе добрую весть, которой ты ждешь и которая позволит тебе, наконец, вернуться без страха и риска домой. Но будь уверен, что, как я ни истосковался по давно покинутой родине и как ни рад я буду возвратиться в наш город да еще с таким почетом благодаря твоей доблести, все же мне будет грустно, что не со мной мой первый товарищ и начальник, когда мы бросим, как водится, самый маленький наш дрек у порога кабака «Больших Ворот» и когда потом мы затеплим наши свечи у соборного алтаря для благодарственной мессы, которую мы отслужим!
— Увы! — повторил Тома.
Тот, кто увидел бы его сейчас, сокрушенного и меланхоличного, с крупными слезами в светлых глазах от печали по милой Бретанской отчизне, которую Геноле ему напомнил, тот бы не узнал в этом простодушном и жалостливом парне свирепого корсара Тома Трюбле, более страшного для вражеских купцов, чем бури и кораблекрушения…
* * *
Немного позже вельбот Луи Геноле возвратился с фрегата на корабль, так как бриз настолько окреп, что надул, хотя и вяло, паруса обоих судов, и надо было пользоваться даже самым маленьким порывом ветра, чтобы поскорее достигнуть Тортуги.
Тем не менее Тома не захотел взяться сам за простое, правда, управление и ограничился тем, что дал свои наставления боцману. Тома остался в кают-компании и, облокотясь на нижний косяк порта, следил за уходящим вельботом помощника. Весла равномерно опускались в темную воду, и в поднимаемой пене плясал таинственный свет…
Когда вельбот скрылся из виду, когда на палубе «Горностая» утих топот босоногих матросов, брасопящих паруса, и замолк всякий шум, тогда, в глухой тишине уснувшего корабля, Тома выпрямился, отошел от порта, отцепил один из фонарей, висевших на бимсах кают-компании, и направился к запертой двери в капитанскую каюту.
Перед тем как войти, он приостановился, но всего лишь на мгновение…
II
Каюта была невелика, фонарь осветил ее всю. Желтый свет отразился от деревянных покрашенных стен. По закопченному подволоку заплясали тени. Блеснула медь иллюминатора.
Тома Трюбле бесшумно закрыл дверь и поднял фонарь, чтобы лучше видеть.
Две скамейки, шкаф, прикрепленный болтами в углублении внутренней обшивки между двумя шпангоутами, и койка составляли все убранство. Койка, узенькая кровать, стояла против шкафа и, подобно ему, была прикреплена болтами к стенке. Лежа на этой койке со связанными грубой прядью пенькового каната руками и ногами, спала пленница, очевидно, обессиленная усталостью и страхом. Свечной огарок, поднятый над ее лицом, не разбудил ее.
Она была прекрасна. Сон успокоил черты ее лица, недавно встревоженного и ожесточенного, и обнаружил ее юный, почти детский возраст. Вероятно, ей было лет шестнадцать. Может быть, и меньше. Но янтарный цвет ее кожи, твердые линии рта, четкие очертания носа с нервными ноздрями, иссиня-черный цвет волос — все отнимало у красивого лица детскую невинность и мягкую нежность. Тома, пристальнее вглядевшись в спокойную энергию этого девичьего лица, снова усомнился, может ли простая дочь мужчины и женщины таить в себе столько явной воли. И нет ли здесь скорее какой-нибудь чертовщины и колдовства. Невольно Тома поднял глаза к большому деревянному распятию, висевшему над
кроватью — единственному украшению каюты, суровой, как келья монаха. Прибитая у подножия креста раковина заменяла кропильницу, и Тома никогда не^ забывал подлить в нее несколько капель святой воды, которые он брал из большой бутыли, освященной перед отъездом из Сен-Мало, по великой милости, высокочтимым епископом Никола Павильоном. Но под божественным изображением, под водой, очищающей от грехов, колдунья не могла бы так безмятежно спать… Ради вящей предосторожности Тома опустил в раковину пальцы правой руки и окропил спящую. Она вздрогнула, но даже не вздохнула. Одержимая бесом, конечно, стала бы корчиться, словно пронзенная каленым железом. Бесспорно, было доказано и ясно доказано: в пленнице не было ничего дьявольского.
Сразу осмелев, Тома положил свою сильную руку на нежное плечо. Внезапно разбуженная девушка сразу вскочила, но все же не вскрикнула, видно, она была не из тех бабенок, что визжат и пищат по всякому поводу и без всякого повода. Связанные руки очень мешали ей. С большим трудом ей удалось облокотиться. И все время она не спускала глаз с Тома, который, снова растерявшись, не знал сначала, что сказать, и довольно долгое время молчал.
В конце концов, он все же заговорил. Своим грубым малуанским голосом, ставшим под действием штормов в открытом море еще более хриплым и густым, он сказал:
— Кто ты? Как твое имя и где твоя родина? Откуда ты ехала и куда направлялась, когда я взял тебя в плен?
Но она не отвечала, продолжая по-прежнему пристально молча смотреть на него.
Погодя он снова начал расспросы.
— Как тебя зовут?
Она молчала.
Он добавил, говоря громче:
— Ты не понимаешь меня?
Она даже головой не покачала. Ни да, ни нет.
Смущенный, он несколько секунд колебался.
Но вдруг он вспомнил.
— Ну, еще бы нет! — закричал он рассерженно. — Ты меня понимаешь, раз ты давеча со мной говорила!..
В нем снова пробудилось любопытство:
— Эта «Смуглянка из Макареньи», которую ты тогда призывала на помощь… Кто она?
Сжатые губы скривились полуулыбкой высшего презрения. Но по-прежнему ответа не последовало. И тотчас же презрительное лицо, лишь на миг переставшее быть бесстрастным, сразу обрело всю свою невозмутимость.
Мало-помалу в сердце Тома, успокоившегося и похрабревшего, поднимался гнев. Рука его грубо тряхнула нежное плечо. Он закричал:
— Тебе что, язык надо развязать? Смотри! Я сумею это сделать! Недолго ты у меня будешь немую корчить, мавританка ты этакая и язычница!
Но на этот раз она вскочила, странно задетая этим оскорблением, и в свою очередь закричала:
— Неправда. Ты соврал своим собачьим языком, собака, собачий сын, вор, еретик. Я христианка по милости всемогущего господа нашего и представительством нашей Смуглянки! Да! Уж, конечно, лучшая христианка и католичка, чем такой разбойник
[59], как ты!
Тома ответил не сразу. Тогда она приказала тоном королевы:
— Развяжи эту веревку!
И протянула ему свои связанные руки.
Подчиняясь какому-то таинственному внушению, Тома Трюбле, корсар, повиновался.
Когда девушка почувствовала, что руки ее свободны, она сжала слегка свои пальцы, очень тонкие и заостренные, чтобы восстановить в них свободное кровообращение. После чего она хотела было начать сама развязывать канатную прядь, опутывавшую ей ноги. Но сейчас же опомнившись, она только показала пальцем завязанный узел Тома:
— Развяжи еще эту веревку! — приказала она еще повелительнее.
И Тома опять-таки повиновался.
И вот она непринужденно села на кровати, как в удобном кресле, а Тома Трюбле стоял перед ней. Теперь она задавала ему вопросы, и он покорно ей отвечал.
Она начала свой допрос так же, как и он хотел было начать:
— Кто ты? Как твое имя? Где твоя родина?
И он на все это ей ответил, и его гордость мужчины и господина не восстала против такой странной перемены ролей. Она же — пленная, побежденная, находясь во власти победителя, — услышала без волнения страшное имя, наводящее ужас на всю Вест-Индию: Тома Трюбле… Но теперь, может быть, меньше его презирая или довольная тем, что ей удалось так скоро укротить такого врага, она говорила и отвечала, хотя еле-еле, на вопросы, которые он снова начал почти застенчиво ей задавать.
Ее зовут Хуана. Ей семнадцать лет… Семнадцать, да, а не пятнадцать… что в самом деле. Он принимает ее за девочку? Она родом из Севильи, чистейшей андалузской крови… Дочь гидальго. В Севилью она направлялась на галионе, чтобы выполнить данный обет, и затем должна была снова вернуться в Вест-Индию, где живет вся ее семья… Как имя этой семьи… Это слишком благородное имя, чтобы произносить его в этом разбойничьем вертепе. Ее родители… Это знатные господа в прекрасном городе, откуда вышел галион, — Сиудад-Реале, в Новой Гренаде, в таком богатом и могущественном городе, что ни один из европейских королей не мог бы ни купить его, ни завоевать. И, конечно, гораздо почетнее быть губернатором этого города или наместником, чем таскаться по морю с бандой диких пиратов, грабя и избивая честных людей на каждом встречном корабле.
Не обращая внимания на оскорбления, Тома спросил:
— А твои родители ехали с тобой? Взял я их в плен? Или убил?
Но она залилась горделивым смехом:
— Сумасшедший!.. Если бы они были здесь, так это они бы тебя взяли в плен и тут же повесили на твоем собственном рее. Двадцать таких бандитов, как ты, не испугали бы ни моего отца, ни моего брата, ни того храбреца, который будет моим мужем.
Тома узнал всегдашнее испанское хвастовство, которое он привык неизменно встречать всегда и всюду. Призвав собственную гордость, он пожал плечами.
— Ни один человек твоего племени, — проворчал он, — никогда не встречал меня без страха и горя!
И так как она еще сильнее засмеялась, желая скрыть свою ярость и обиду, он решился взглянуть ей в лицо.
— Если б они были такими храбрыми, твои земляки, ты разве была бы здесь? В сегодняшнем бою я победил их больше тысячи, а моих молодцов было меньше ста!..
Она раскрыла рот, чтобы ответить. Но он решительно приказал ей молчать.
— Молчи! И помни, что ты — моя пленница.
Она проглотила обиду. И они оставались так друг против друга, онемевшие, полные ненависти…
Погодя она сделала усилие над собой и снова заговорила. Она сказала:
— Мой отец заплатит тебе большой выкуп за меня, и ты сможешь удовлетворить свой пиратский аппетит!
Но он возразил, смотря на нее сверху вниз, со странным выражением в своих больших глазах цвета бегущей волны:
— А кто тебе сказал, что я приму выкуп за тебя?
Впервые он увидел, что она вздрогнула.
— Тогда, — сказала она, — что же ты намерен со мной сделать?
Он колебался несколько долгих секунд, и щеки его побагровели. Но она продолжала презрительно покачиваться на полусогнутых руках. Вдруг он бросился на нее, как пьяный, подмял ее под себя, сжимая до боли ее плечи в своих мощных, как тиски, матросских руках, и опрокинул ее на койку, крича:
— С тобой вот что я сделаю!
Он воображал, что сейчас же ею овладеет. Но она не поддавалась, как не поддалась и раньше, сжимая ноги и отворачивая голову, чтобы избежать его поцелуев. Он боролся некоторое время, выпустив одну ее руку, чтобы обхватить ее за пояс, и продолжая мять это нежное тело своими стальными пальцами. Но девушка сопротивлялась с такой гибкостью, что его грубые нападения оставались безуспешны. И, наконец, она сумела так воспользоваться своей свободной рукой, что он сразу зарычал от боли: она ударила, оцарапала или ущипнула его в чувствительном месте.
— Потаскуха! — закричал он, ослепленный яростью и болью. — Сука! Потаскуха! Ты недолго будешь торжествовать! Ты будешь моей, или я подохну, клянусь пресвятой Девой Больших Ворот! Хотя бы мне для этого пришлось принайтовать тебе руки и ноги к четырем углам койки и так вытянуть найтовы, чтобы тебя живой четвертовать.
— Посмей! — закричала она, сверкая глазами. — И твоя дева, как ее там, собачья дева, дева язычника, не одолеет Смуглянки из Макареньи, которой я посвятила свою девственность и которая ее защитит против всех разбойников твоей породы!
Она перевела дыхание. Она запыхалась от борьбы, и грудь ее тяжело вздымалась, приподымая черную шаль, завязанную по севильской моде крест-накрест над юбкой. Затем она продолжала более спокойно, но не менее решительно:
— Невинная и останусь невинной, знай это! Мое благородное тело не для мужика! Ты меня не возьмешь ни силой, ни хитростью. Если ты выпустишь меня на свободу, ты получишь большой выкуп! Если нет, то ничего не получишь, ни денег, ни меня! Так и знай!
Он стоял теперь в глубине каюты, скрестив руки, превозмогая свою боль. Невозмутимо выслушал он вызов пленницы. И очень холодно ответил:
— Сама ты вот что знай: я здесь владыка, я один, после Бога, я всегда поступал и буду поступать так, как мне заблагорассудится; ты моя пленница и моя раба, пленницей моей и рабой ты и останешься, овладею я тобою или нет, безразлично; никогда я не возвращу тебя к твоим родным.
Она вскочила на ноги, прошла три шага ему навстречу, почти коснулась его и, смотря ему прямо в глаза, крикнула:
— Тогда тем хуже для тебя!
Он ответил:
— Тем хуже для тебя самой!
Затем он вышел, оставив ее одну в каюте, и снова запер дверь за собой. А сам отправился лечь в пустую теперь постель Луи Геноле.
III
Спустя три дня, при восходе солнца, фрегат в сопровождении галиона бросил якорь в гавани Тортуги под защитой пушек западной батареи и высокой восточной башни. На берег высыпало множество народа, чтобы полюбоваться небывалым призом и подивиться тому, как двадцатипушечный корсарский фрегат захватил линейный корабль, в четыре раза лучше вооруженный и в десять раз более сильный по типу. Особенно поражались, что после такого сражения, поневоле упорного, у «Горностая» не было ни одной порванной снасти, ни одной пробоины в корпусе. И присутствовавшие здесь флибустьеры, так же как и все другие моряки, привычные к морским битвам, чувствовали, как у них возрастает уважение, которое они давно питали к Тома Трюбле и его потрясающему искусству в боях.
Господин д’Ожерон, губернатор, не стал даже дожидаться, пока победитель явится к нему с визитом и засвидетельствует свое почтение. Он поторопился подъехать сам на своем вельботе к борту «Горностая» и радостно бросился в объятия Тома, приветствуя его и от собственного имени, и от имени короля, который не преминул бы возрадоваться, увидев, что один из его подданных, гражданин доброго города Сен-Мало — столь славного и верного — одержал такую победу над врагами государства. После чего покрытые славой Тома Трюбле и Луи Геноле и несколько их товарищей по оружию отправились с губернатором торжественной процессией поблагодарить, как должно, Бога к часовне, заменявшей на острове и церковь, и собор. Тома пожертвовал этой часовне все то, что вез с собой на галионе испанский архиепископ: богатые облачения — эпитрахили, мантии и ризы, и церковную утварь — кресты, дароносицы и чаши. Что касается самого архиепископа, то его заставили присоединиться к процессии и даже стать во главе ее, самому совершить богослужение и пропеть Те Deum в ознаменование поражения его сородичей. Он выполнил все это самым учтивым образом.
* * *
Попозже перешли к не менее важным делам. Вопрос о пленных пока был отложен. Удовольствовались тем, что свезли всех их на берег и поручили их охрану господину д’Ожерону, который наполнил ими свои тюрьмы, а самых здоровых поставил работать на своих плантациях. Все это до той поры, пока не определится общая сумма выкупа. С одним только архиепископом из Санта-фе обошлись очень милостиво: его выпустили на свободу и даже отвезли с почетом в испанский порт Сантьяго, на остров Куба. Архипастырь был этим очень тронут, хотя и заявлял, что его без ножа зарезали, потребовав с него выкуп в шестьдесят шесть тысяч испанских дукатов, равных ста тысячам французских ливров, и не уступая ни единого су, вместо того выкупа — в пять раз меньшего, который он вначале предлагал. Настоятели, каноники, архидиаконы и священники, сопровождавшие его высокопреосвященство, были все задержаны на Тортуге в качестве поручителей за выкуп. Исключение сделали только для прелестного мальчика из церковного хора, которого архиепископ усиленно просил оставить при нем «для помощи в богослужении», как он говорил. На это охотно согласились, тем более, что господин д’Ожерон через свою тайную разведку узнал, что этот столь любимый маленький певчий не кто иной, как собственный сын прелата. Порядочные люди посовестились бы отнять ребенка у отца, особенно раз не было никакой необходимости прибегать к такой строгой и жестокой мере.
* * *
Между тем починка галиона шла своим чередом. На Тортуге не было недостатка ни в мачтах, ни в реях, ни в оснастке всякого рода. Весь попорченный или разрушенный малуанскими ядрами такелаж был очень скоро восстановлен и возобновлен. Не прошло и двух недель, в одно прекрасное утро к Тома Трюбле явился Луи Геноле с отчетом: все закончено, и галион может хоть сейчас же поднять паруса, все на месте до последнего гвоздика. Оставалось, значит, решить только вопрос о команде.
— Капитан Луи, — произнес Тома, — я хочу предоставить это на полное твое усмотрение, что и естественно, не правда ли?.. Ведь ты для нашей обоюдной пользы отведешь во Францию наш приз… Как же ты думаешь? Какая должна быть команда на таком корабле?
Луи Геноле покачал головой.
— Капитан Тома, — сказал он, — господин Кольбер, знающий толк в этом деле, не пустил бы в море корабль такого тоннажа меньше, чем с двумястами пятьюдесятью матросами и ста двадцатью солдатами, должным образом внесенными в корабельный список.
— Яс тобой согласен, — подтвердил Тома.
— Но у нас, — продолжал Геноле, — нет ни двухсот пятидесяти матросов, ни ста двадцати солдат. У нас осталось, считая всех, кто хоть на что-нибудь способен, пятьдесят четыре человека. Не могут ведь идти в расчет наши восемь раненых и увечных, которые сейчас не в силах даже шкота вытянуть.
— Да, — сказал Тома. — И хотя пятьдесят четыре славных малуанских молодца стоят во время абордажа ста двадцати солдат и двухсот пятидесяти матросов, даже больше, — на галионе это узнали, если не знали раньше, — однако же правда и то, что для управления парусами четырех мачт, из которых самая высокая в тридцать пять сажен, и для обслуживания шестидесяти четырех пушек в четырех батареях, по два на каждом лаге, пятьдесят четыре молодца составляют всего лишь пятьдесят четыре молодца, или сто восемь рук, для работы. У тебя совсем не будет лишка, брат мой, Луи! Поэтому бери всех! И оставь меня одного на нашем «Горностае». Меня одного хватит, чтобы уберечь его в этой надежной гавани. Впрочем, в случае надобности, кто мне мешает набрать себе бравых авантюристов Флибусты. Немногие откажутся заключить договор с Тома Трюбле.
И в самом деле Тома Трюбле был прав: пятидесяти четырех человек, хотя бы корсаров, было далеко не достаточно для того, чтобы прилично обслуживать галион. Поэтому было бы крайне непредусмотрительно снимать хотя бы одного из этих пятидесяти четырех. А с другой стороны, «Горностай», стоя на якоре в дружеском порту и под защитой береговых батарей, мог ничего не опасаться.
Все же Луи Геноле долго не соглашался со справедливыми доводами Тома. Он был слишком хорошим моряком, чтобы оспаривать их благоразумие, и возражал лишь против того полного одиночества, в котором останется Тома Трюбле, очутившись совсем один на пустом фрегате, подобно сторожевому псу, забытому на цепи во дворе покинутой хозяевами усадьбы. Часто случалось, что таким же точно образом флибустьеры покидали на каком-нибудь пустынном острове своих начальников, оставляя им только ружья, пистолеты, сабли и немного пороха и свинца, когда эти начальники были почему-либо неугодны этим флибустьерам. Простительно ли было такое варварство по отношению к лучшему и храбрейшему во всей Америке капитану-корсару, когда только что этот капитан так обогатил и прославил весь свой экипаж.
Но Тома только смеялся в ответ на эти соображения. Наконец он хлопнул Геноле по плечу и властно заставил его замолчать.
— Брат мой, Луи, — сказал он, — я знаю, что ты меня любишь, и я вижу твое больное место! Но знай: я все же поступлю по-своему, и все будет сделано так, как я решил! Впрочем, чего тебе бояться, ведь ты сам вернешься через шесть-семь месяцев, как только доставишь в надежное место наш груз. Черт возьми! Тебе лишь остается решиться, а я бьюсь об заклад, что к заветному дню твоего возвращения буду еще толще, жирнее, живее и крепче здоровьем, чем сейчас.
— Это возможно, — озабоченно пробормотал Луи Геноле, — но телесное здоровье не самое важное!..
Тома, сам озабоченный, нахмурился и перестал смеяться. Тем не менее резким движением руки, он отвел неприятное предположение и не позволил его высказать…
И, как того хотел Тома, на следующей неделе галион снялся с якоря и поднял паруса, направляясь к милой Франции, все до единого пятьдесят четыре матроса «Горностая» ушли на нем. А «Горностай» остался. И Тома Трюбле, капитан, стоя на ахтер-кастеле, глядел поверх гакаборта, как удаляется его экипаж, который он столько раз водил к победе и который, покидая его, приветствовал его такими криками и так размахивал шапками, что корсару мог бы позавидовать любой командующий эскадрой или вице-адмирал королевского флота в день блестящего генерального сражения.
IV
Отныне на много дней и много недель, на год, может быть, или больше Тома Трюбле, подобно отшельнику, должен был вести уединенную жизнь на своем фрегате, где под его начальством влачила свое существование лишь та горсточка калек и инвалидов, которая не могла отплыть на борту галиона и продолжала кое-как лечить свои незаживающие раны.
Сам Тома, здоровый и сильный — он не раз бывал ранен в бою, но всегда легко, — казалось, не очень-то годился для ремесла сиделки, на которое был обречен силой обстоятельств. И немало удивились флибустьеры и другие жители Тортуги, когда узнали про странное решение самого знаменитейшего из американских корсаров про это истинное отречение, на которое он шел. Многие сначала вовсе не хотели этому верить, объявили все это вздором и утверждали, что никогда великий Трюбле не отпустил бы своего помощника и своей команды одних на борту призового судна, которое ни команда, ни помощник, конечно, не захватили бы без него. Кто поверит тому, что такой человек остался на этом фрегате, виднеющемся вон там на рейде со срубленными мачтами, сложенными реями, и в таком, поистине, состоянии, что скорее ему нужен сторож, а не капитан… Пришлось, однако же, покориться перед очевидностью, после того как несколько рыбаков и матросов, проходя на шлюпках невдалеке от «Горностая», не раз видели Тома Трюбле собственной персоной, слоняющегося, как неприкаянная душа, по своему ахтер-кастелю от правого борта к левому и от левого к правому, или целыми часами, молча созерцающего море, опершись о какой-нибудь поручень или протянутый леер. Тогда стали еще больше удивляться. Но скоро распространился слух, что это странное уединение, сменившее четыре года непрерывной деятельности, не обходилось без тайных причин. Стало известно, что Тома Трюбле выбрал себе среди пленных, взятых на борту галиона, молодую испанскую даму, красивую, говорили, как божий день. И один из племянников губернатора, только что закончивший свое обучение и не забывший еще его азов, очень кстати упомянул о Ганнибале и наслаждениях древней Капуно.
— Понятно! — решили, наконец. — Любовь — великая сила! Наш Тома, подобно многим славным бойцам, воюет теперь в стране любви!..
* * *
Если уж говорить о войне, то эта война уже, наверное, могла почитаться одной из самых трудных, какие только приходилось вести Тома.
Действительно, пленница Хуана ничуть не смягчилась, и время тут не помогало. Терпение, так же как и насилие, ничего не могли поделать с этим неодолимым упрямством, с этой испанской спесью, обратившейся в добродетель, и в яростную притом добродетель. И с той, и с другой стороны положение оставалось без перемен. Пленница жила в каюте Тома, а Тома — в каюте Луи Геноле. Впрочем, ни тот, ни другая не выходили почти из своих берлог. И увидев их рядом, трудно было бы сразу решить, кто у кого в неволе. Тома все-таки каждый день входил к Хуане и старался развлекать ее разговорами. Предлогом для его посещений была учтивая забота о самочувствии молодой девушки. Говоря правду, оно на самом деле беспокоило Тома, который даже велел купить и подарил своей пленнице невольницу-индианку. И Хуанна приняла подарок все с тем же видом королевы.
Вопрос о любви совершенно отпал, по крайней мере на словах, потому что с глазу на глаз Тома и Хуана продолжали оставаться противниками. Один — готовый к нападению, другая — к защите. Но Тома, уже дважды отброшенный, — и мы знаем, как решительно, — не решался еще на третий приступ. Так что, оставаясь оба начеку и не показывая своих когтей, они довольно вежливо вели беседу. Хуана, предпочитавшая первое время молчать, вскоре решила, что лучше будет говорить, чтобы сильнее подавить врага всеми преимуществами, которые она перед ним имела или делала вид, что имеет. Таким образом Тома узнал тысячу мелких происшествий, подробностей и анекдотов, всегда чрезвычайно благоприятных для его пленницы, и мог удостовериться в том, какая она знатная дама, по крайней мере, если верить ее словам. Сказать по правде, это величие никогда не производило на Тома того впечатления, как хотелось бы Хуане.
Хуана, согласно ее собственным словам, родилась в Севилье семнадцать лет тому назад. В этом-то великолепном городе, самом обширном и знатном во всей Испании и даже во всей Европе, — так утверждала Хуана, — впитала она с молоком кормилицы то исключительное и ревностное благоговение, которое она никогда не переставала выказывать великой и могущественной мадонне, покровительнице Севильи, Макаренской Богоматери, которую там называют попросту «нашей Смуглянкой», по той причине, что изобразивший ее благочестивый мастер сделал ее красивой, черноволосой андалузкой. Тома был очень рад этому объяснению, получив, наконец, уверенность в том, что эта Смуглянка, недавно так его беспокоившая, была не чем иным, как испанской сестрой доброй малуанской Богородицы Больших Ворот. В Севилье родители Хуаны занимали одно из первых мест — опять-таки по ее словам. А так как слишком многочисленное население Севильи стремилось время от времени покинуть андалузскую землю и эмигрировать в поисках счастья в Новый Свет, то ее родители, столь высокопоставленные, соблаговолили в один прекрасный день возглавить эту эмиграцию и повезти всех желающих в Вест-Индию. Таким образом из Испании выселилось несколько тысяч мужчин, женщин и детей, поклявшись друг другу, что сумеют создать где-нибудь в глубине Америки новый город, больше, сильнее и богаче даже самой Севильи. И они сдержали свою клятву: не прошло и десяти лет с того времени, а созданный ими город Сиудад-Реаль Новой Гренады — город, совсем еще юный и не достигший полного своего расцвета, — уже слыл одним из самых славных городов Вест-Индии. Хуана, собственными глазами наблюдавшая его рост и почитавшая себя — искренно или нет — как бы его государыней, не переставала восхищаться великолепием этой подлинной столицы. Там только и были, что монументальные постройки, гражданские и военные, укрепления, форты, крепости, цитадель, редут, ратуша, губернаторский дворец и великолепные особняки, украшенные гербами; а в особенности много там было часовен, монастырей, семинарий, базилик, собор и архиерейский дом в виде пышного замка. Прекрасно мощенные улицы сияли чистотой во всякое время года. Дома, постоянно окрашиваемые заново, являли взору тысячи нарядных цветов, на которые светлое солнце Америки накладывало шелковистый лак своих лучей, как солнце Испании на занавесы и драпировки, которые протягивают в Севилье от балкона к балкону в дни торжественных праздников. Умело обрабатываемые поместья полны были бесчисленных садов и огромных, чрезвычайно плодородных полей, где собирались лучшие фрукты, снимался богатейший урожай. Дальше паслись стада — в степях, по сравнению с которыми все луга Франции и других стран показались бы пустынями и болотами. Бесспорно, гордая барышня, державная владетельница, или почти что так, столь замечательного наследия, имела право смотреть свысока на этого простого и грубого матроса, Тома Трюбле, рожденного в бедном краю, затопленном дождями и туманами, Тома Трюбле, который вместо предков перечислял одни только подвиги. Так что время от времени Хуана, вдруг решив, что слова ее пробили брешь в упорной воле корсара, прерывала себя посреди какого-нибудь удивительного рассказа и заводила свою старую песню:
— Видишь, какой, выкуп ты теряешь из-за своего упорства!.. Ну! Отведи меня в Сиудад-Реаль и положись на щедрость моих родных!.. Не то..
Но тогда взгляд Тома, под пушистым сводом его нахмуренных бровей, сверкал таким грубым блеском, что девушка, внезапно робея, несмотря на свою кичливость, не смела даже закончить начатой фразы и замолкала.
Она вознаграждала себя в другие часы. И часто Тома приходилось склонять голову и отступать перед своей пленницей. Хуана даже оказывалась сильнее в те минуты, когда Тома готов был ее считать слабой и беззащитной.
В самом деле, почти каждую ночь Тома Трюбле, мучимый бессонницей, покидал свою койку и свою каюту и шел полураздетый бродить по палубе при звездах. Тропическая жара не имеет конца, и пыл ее опасен как с утра до вечера, так и с вечера до утра. Тома, задыхавшийся в своей запертой каюте, бродил от юта до бака, чтобы освежиться хоть легким ночным бризом. Но все было напрасно, так как мертвый штиль давил в это время море. И тяжелый аромат деревьев и цветов с острова, густыми волнами клубившийся над водой, как бы сливался с неподвижным воздухом, тяжелым, как туман, отягчая его еще больше и делая почти неподвижным для дыхания. С воспламененными нервами Тома метался еще некоторое время, созерцая то молчаливый и замерший океан, то совсем темный берег, то усыпанное алмазами небо, где струился Млечный путь, как широкий жемчужный поток в берегах из самоцветных камней. Жгучая ночь наполняла тогда горячей лавой жилы корсара. Он возвращался вдруг в ахтер-кастель, затем решительным жестом человека, внезапно принявшего решение, толкал дверь каюты, где спала Хуана…
Но спящая Хуана не просыпалась. И Тома, остановленный этим нежным сном, который какая-то таинственная сила заставляла его чтить, стоял на пороге двери, не смея ступить шагу. Тщетно на смятой постели простиралось пленительное тело. Тщетно округлая грудь поднималась дыханием спящей. Тщетно сжимался красный рот. Тщетно раскидывались по воле случая руки и ноги словно для того, чтобы казаться и невиннее и соблазнительнее…
Тома, побежденный, укрощенный каким-то неведомым богом, покровителем этой невинности, подвергаемой таким опасностям, скорее закрывал полуоткрытую дверь и боязливо возвращался к собственной постели…
V
Как-то вечером жители Тортуги увидели причаливающую к пристани шлюпку, на которой сильными взмахами греб одинокий гребец. Удивленные прохожие стали останавливаться на набережной, потому что своим внешним видом этот гребец не похож был на индийского рыбака, — из тех, что снабжают колонию морскими черепахами и ламантинами, усладительной пищей; также и шлюпка не походила на туземную пирогу, выдолбленную в стволе акажу. Мужчина выскочил на берег, сильной рукой вытащил на него свой ял и направился к городу. Тогда, увидав его вблизи, жители узнали Тома Трюбле.
* * *
В течение шести недель Тома Трюбле, замкнувшись в своем уединении на борту фрегата, не желал его нарушать даже для того, чтобы запастись на берегу свежими продуктами, довольствуясь солониной из камбуза или той рыбой и дичью, которую ему доставляли редкие торговцы, отваживающиеся продавать свои товары судам, стоящим на рейде. В течение шести недель размеры палубы «Горностая», казалось, удовлетворяли корсара в его прогулках, тогда как четыре года кряду все великое Антильское море не могло вместить его неустанных походов. И, без сомнения, Тома Трюбле, радуясь этому отдыху после стольких забот, продолжал бы им наслаждаться и не ступил бы ни разу на берег до конца своего изгнания, если бы презрение и черствость пленницы Хуаны не ожесточили его в конце концов настолько, что гнев отвергнутой любви переполнил его наконец до краев.
И тогда он решил найти себе более широкое поле, чтобы, яростно снуя взад и вперед, вдоль и поперек, как-нибудь облегчить себя и рассеять.
И вот флибустьеры и другие обитатели острова видели в этот вечер, а потом и в другие вечера, как Тома Трюбле носится туда и сюда по городу и за городом, поднимаясь до вершины горы, по склонам которой расположились дачи самых знатных жителей, а иной раз уходил и дальше в глубину тех диких северных лесов, где уж не встретишь ни полей, ни плантаций. Тома бродил повсюду тем же скорым и неровным шагом и всюду с тем же лицом, лицом человека, объятого и поглощенного каким-то суровым раздумьем. И только глубокой ночью странный любитель зарослей и лесов, скорее измученный, чем успокоенный, возвращался к берегу, отыскивал свой ял, спускал его на воду и возвращался к своему плавучему жилью…
И вот однажды, когда Тома, прогуливаясь таким образом, шел от пристани, поднимаясь по первым, очень крутым улицам дальних кварталов, кто-то, выйдя из низкого дома с большой вывеской, громко вскрикнул, заметив его:
— Ура! Старый товарищ, ты ли это? Окаянная матерь божья! Провалиться мне на этом месте, если мне привиделось, и это не мой Брат Побережья и моряк, Тома Трюбле, передо мной! Ура! Такую встречу надо вспрыснуть! — Входи в кабак, брат Тома, и уважь меня, не то я подохну!
Тома узнал Эдуарда Бонни, по прозванию Краснобородый.
По-видимому, дела английского флибустьера шли сейчас не блестяще. Это доказывало его платье: штаны его были сплошь заплатаны, а камзол такой старый, что нельзя было угадать его цвета. Впрочем, Краснобородый и не скрывал своей бедности, которая действительно была почетна; и первым делом он рассказал Тома, с большими подробностями и прерывая свою повесть звучными раскатами смеха, как кораблекрушение лишило его «Летучего Короля», напоровшегося на подводный камень у мыса Мансанильи, и как испанцы из Колона, которых он в свое время хорошенько пограбил, подло отомстили ему, перерезав из его гибнувшей команды всех, кого только могли поймать. Он один, Краснобородый, спасся и, оставшись гол как сокол, достиг Тортуги, после бог знает скольких злоключений. Здесь он находился уже около месяца без единого гроша, но по-прежнему отважный, по-прежнему решительный, словом, по-прежнему такой же флибустьер.
— Кастильская обезьяна дорого заплатит мне за мой бриг и еще дороже за моих братьев Побережья! — заявил он, с силой ударяя Тома по плечу. — Матрос, можешь мне поверить: за каждого зарезанного брата я зарежу не меньше десяти противников, этой вот самой рукой; а за каждую погибшую доску сдеру с них не меньше фунта золота.
После этих слов они оба, Краснобородый и Тома, вошли в кабак, вывеска которого с железным флюгером приятно поскрипывала под южным ветром. Было жарко. «Дорла была удобная», как говорят моряки, т. е. в глотке пересохло. За столом, который Краснобородый только что оставил и к которому он теперь подвел Трюбле, два пустых кувшина ясно доказывали, что флибустьер упорно старался одолеть эту засуху. Но два новых кувшина, которые он поспешно заказал, доказывали также, что он считал недостаточным это первое усилие. И действительно, оба новых кувшина мгновенно иссякли, подобно роднику в летний зной.
— А как ты, брат Тома? — спросил тогда флибустьер, —
как теперь идут твои дела? Я слышал, что ты так же богат, как я беден, и поздравляю тебя как хороший и честный товарищ; мне также известно, что ты отправил в Европу со своей командой и со своим помощником значительную добычу, которую недавно захватил! Ладно! А с тех пор? Правда ли, как повсюду уверяют, что ты остался в одиночестве на своем «Горностае», чтобы хорошенько насладиться любовью и ласками какой-то красотки, которую ты сделал своей невольницей? Если да, то не красней и давай сюда руку, — никто лучше Краснобородого не понимает нежных чувств, и я тебе сейчас дам тому основательное доказательство.
С этими словами, не дав Тома времени ответить, он снова встал и, подбежав к дверям кабака, выглянул на улицу. И, должно быть, он увидел на ней то, что искал, так как сейчас же начал кричать во все горло.
— Алло! Рэк, старый товарищ! Сюда, внучек! Отводи руля, бери все паруса на гитовы и отдавай якорь у этой двери, так как я в этом кабаке выпиваю в компании с Братом Побережья, которого я тебе хочу представить и которого ты ради меня полюбишь!
Он воротился в сопровождении привлекательного юноши, у которого не было ни бороды на подбородке, ни усов над губой; скинув шляпу на стол, молодой человек обнажил свои прекрасные светлые волосы, которые свободно падали на шею и плечи.
— Алло! — закричал, в свою очередь, вновь прибывший голосом довольно свежим, хотя несколько надтреснутым. — Алло! Бонни, старый матрос! Ты уже напился да еще без меня! Ты в этом раскаешься, окаянная скотина! Кто этот человек?
— Этот человек Тома, — да! — Тома Трюбле, о котором я тебе много раз говорил и который…
— И который, конечно, не нуждается в том, чтобы такой болтун, как ты, что-нибудь добавлял к его имени. Замолчи ты, ради господней требухи! Капитан Тома, давайте руку! Вы мне нравитесь, клянусь честью Мэри, и я — ваша покорнейшая служанка.
Таким образом, Тома, крайне изумленный, узнал, что матрос Краснобородого был женщиной.

Женщина эта носила имя Мэри Рэкэм, и хотя ей было не больше двадцати лет, она уже порядком понюхала моря; так что не была уже новичком ни в военном, ни в морском ремесле. Однако хотя она и была храброй и смелой, как ни один флибустьер, хотя она и носила одежду другого пола — как ради удобства, так и по склонности к ней, — все же она оставалась настоящей женщиной, со всеми страстями, порывами, а также слабостями и капризами женщины. И, не теряя времени, она это доказала так, что у Тома не осталось на этот счет сомнений: повернувшись к Краснобородому, она яростно на него напала, произнося ужасающие кощунства и упрекая его в том, что он строил глазки какой-то трактирщице, обещая ему сто тысяч ударов ножом в живот, если эта трактирщица в ответ на его взгляды хоть улыбнется.
— Э, тебе-то что? — сказал Краснобородый, хохоча во все горло, — ты разве моя законная жена, я тебе разве клялся в верности, что ты так ревнуешь?
Мэри Рэкэм мгновенно выхватила из-за пояса нож и воткнула его в стол; острие вонзилось в дерево, по крайней мере, на два дюйма.
— Мне что? — возразила она, и ее вздернутая губа обнаружила белые зубы. — А вот что: мне не нужно ни мужских клятв, ни поповских молитв, чтобы удержать свое добро. И вот что за меня постоит…
Она показывала пальцем на вонзившийся в стол нож.
Тома галантно вытащил его и передал ей. И ему пришлось употребить всю свою силу, чтобы сделать это сразу, так сильно ткнула ножом эта дама.
— Вот черт! — сказал он восторженно. — Это не похоже на работу спустя рукава. Мне бы хотелось иметь помощь этой руки при абордаже!
Польщенная возлюбленная Краснобородого ударила кулаком по плечу Тома.
— Клянусь господней требухой! — вскричала она, — я хочу такой абордаж! Я буду ему рада, если мы будем драться плечо к плечу! Капитан Тома, я сказала тебе, что ты мне нравишься, а мое слово верное!., слушай же: когда я надую этого борова Бонни… а это, наверно, будет скоро, потому что дьявол меня опоил или ослепил в тот злосчастный день, когда я взяла себе в любовники эту скотину!.. Когда я его надую, говорю я, то это будет, — если найду тебя в своих водах на расстоянии пушечного выстрела, — с тобой…
На что Краснобородый ответил такими раскатами смеха, что действительно чуть не лопнул.
С этого дня Тома отказался от одиноких прогулок, которые и до сих пор не давали ему удовлетворения. Он нашел лучшее развлечение в обществе веселого флибустьера и его воинственной подруги, а также и разных других авантюристов, которые, подобно Краснобородому, не имели сейчас ни гроша, а шатались по всем кабакам острова, чтобы использовать тот небольшой кредит, который им еще предоставляли. Тут пили вперемежку люди самые необычайные и самые разнообразные. Тома Трюбле отметил среди прочих одного француза, родом с острова Олерона в провинции Они; француз этот, воспитанный в духе так называемой реформированной религии, сохранял в силу этого кажущуюся строгость нравов, весьма близкую к ханжеству, но был ничуть не менее храбр и отважен, чем любой католик. Другой француз, родом из Дьеппа в Нормандии, был до того жирен и толст, что при виде его можно было счесть его калекой, хотя на самом деле никто не мог сравняться с ним в живости каждый раз, как надо было устремляться навстречу ударам и особенно, когда надо было на один удар ответить десятью. Третий молодец своеобразием превосходил даже первых двоих: это был венецианец, называвший себя дворянином и всегда прибавлявший к своему имени Ser, т. е. господин, — на венецианском наречии. Этот дворянин уверял, что происходит из семьи патрициев, чуть ли не дожей. Он именовал себя Лореданом; впрочем, это громкое имя, имя древнего дожа, шло к редкой красоте его лица, к тонкости его рук, к гордой и мягкой грации его походки. В остальном этот Лоредан — принц или мужик, безразлично — был настоящим флибустьером, и из лучших, хотя в противоположность нормандцу из Дьеппа и гугеноту с Олерона, так же как и всем почти товарищам их, он не был прирожденным моряком, а начал плавать уже возмужалым; детство его и юность составляли настоящий роман. Не было такого ремесла, в котором Ло-редан-флибустьер не поупражнялся бы, должности, которой бы он не занимал, авантюры, которой бы не испытал на суше и на море, в лагерях, в городах и при дворе, словом, всюду, где должным образом ценят хорошую шпагу, которая не залеживается в ножнах.
Эти люди и много других стали отныне привычным обществом Тома Трюбле, который по-прежнему жил на борту «Горностая» и ежедневно сносил гордые речи и резкости севильянки Хуаны, но который отныне стал каждый вечер съезжать на берег на своем яле, чтобы разыскать в каком-нибудь городском кабаке шайку праздных флибустьеров, выпить с ними и повеселиться, — на самом деле или для виду. Впрочем, никто из этих людей и не подозревал, чтобы у Тома, короля корсаров, могло быть хоть малейшее основание не считать себя счастливейшим из смертных, а тем более, чтобы в вине и роме он мог искать забвения от обид, причиненных ему пленницей, — той пленницей, которая, в представлении всех авантюристов, людей мало чувствительных и не склонных подчиняться владычеству какой бы то ни было женщины, очевидно, была покорной служанкой такого бойца, как Тома Трюбле, — служанкой и рабой, послушной малейшим прихотям своего господина, всем его сладострастным и прочим фантазиям. Они бы немало удивились, если бы узнали, что в действительности не было ничего подобного…
VI
Тома Трюбле уже дважды пытался взять приступом добродетель или мнимую добродетель своей пленницы Хуаны. И дважды был он отражен самым решительным образом — так решительно, что он откладывал и переносил с недели на неделю свою новую атаку. Первые две последовали на протяжении всего нескольких часов, — одна на борту галиона, в тот день, когда его взяли на абордаж, другая на борту «Горностая», в ночь того же самого дня. Но с тех пор сто новых дней и сто новых ночей сменили друг друга, потому что прошло уже три полных месяца, как Луи Геноле ушел из гавани Тортуги, увезя на своем корабле всю прежнюю команду Тома Трюбле и оставив его почти одного на разоруженном фрегате.
Однако же Тома Трюбле все еще сдерживался, подавлял свой гнев и пыл и проявлял бесконечное терпение, как испытанный тактик: потому что на этот раз он решил бороться наверняка, прекрасно сознавая, что новая неудача была бы решительной или потребовала бы для своего исправления чрезвычайных и титанических усилий.
Без сомнения, грубая сила одолела бы сопротивление слабой женщины, в общем почти еще ребенка. Но Тома, хотя сначала и счел было это самым верным путем, хотя и угрожал девушке, что так и сделает, вскоре отказался от выполнения этой угрозы. Одно дело — изнасиловать женщину во время первого приступа ярости среди захваченного города или на палубе корабля, взятого на абордаж, и совсем другое — спокойно привязать эту самую женщину к четырем углам кровати и овладеть ею без препятствий и не торопясь. Тома тем более не мог решиться на такое запоздалое насилие, что чрезмерное самолюбие пленницы позволяло всего опасаться, если подвергнуть его столь жестокому унижению. Не раз Хуана клялась, что не переживет своего бесчестия, как она высокопарно выражалась. И Тома охотно верил тому, что она в самом деле способна убить себя, лишь бы только настоять на своем.
* * *
Наступил, однако же, и день третьего боя, так долго откладываемый и оттягиваемый. И Тома Трюбле, который столько времени ждал, чтобы лишь в удачный миг завязать сражение, имея все преимущества на своей стороне, вдруг забыл всякую осторожность, в одну минуту потерял достижения трех месяцев, и, выйдя из терпения, перестал соображать и стал действовать наобум. Это случилось во время одного из тех церемонных разговоров, которые происходили у него с Хуаной и которыми она пользовалась, чтобы постоянно раздражать его тысячью дерзостей. Снова зашла речь о Сиудад-Реале Новой Гренады. И Хуана, продолжая распространяться все с тем же самодовольством и даже тщеславием о пышности этого города, который она почитала как бы собственным владением, заявила вдруг, что Тома сможет скоро сам убедиться в действительности этого великолепия, ни с чем в мире не сравнимого.
— Как сказать, — молвил Тома, не сразу заметив, к чему она ведет. — Как сказать! Как же это я увижу?
— Увидишь собственными глазами! — сказала она.
Они говорили друг другу ты. Но это обращение в устах Тома было лишь привычкой, свойственной моряку из морской семьи, который никогда особенно не церемонился с женами и дочерьми
своих приятелей моряков, тогда как Хуана, говоря ему ты, делала это с пренебрежением дворянина, обращающегося к мужику, или хозяина, отдающего приказание лакею.
Между тем Тома снова спросил:
— Но как же это я увижу собственными глазами?
— Ты увидишь, — был ответ, — ты увидишь собственными глазами, когда мой отец, мой брат и мой жених, придя сюда, чтобы освободить меня, уведут тебя пленником в Сиу-дад-Реаль и повесят тебя на виселице у Больших Ворот!
Тома был из тех, кто не слишком-то беспокоится из-за пустых угроз.
Хуана скоро рассердилась, видя его невозмутимость.
— Или ты воображаешь, — раздраженно сказала она, — что они потому до сих пор не явились, что боятся тебя и твоих людей? Если бы они знали, что я здесь, они сейчас же поспешили бы сюда, и ты давно был бы в их власти, даже если бы им пришлось завоевать всю Тортугу, чтобы тебя забрать.
Тома только засмеялся. Выйдя из терпения, девушка сжала кулаки.
— Ах, ты сомневаешься? — презрительно прошипела она. — Разбойник! Ты очень умно и осторожно поступил, спрятав меня здесь и спрятавшись сам, чтобы избежать справедливой мести моих родных!
Продолжая смеяться, Тома пожал плечами.
— Нельзя сказать, чтоб я очень прятался, — сказал он, — вся Америка знает, что я здесь, на своем собственном фрегате, и что я здесь один! Моим врагам остается только прийти сюда за мной!
Хуана в свою очередь пожала плечами.
— Будто ты такая важная птица, — сказала она, издеваясь, — что каждый знает, где ты, не дожидаясь, пока ты объявишь это. Чего ты лжешь? Если бы твои враги, как ты говоришь, пришли за тобой сюда, кто же защитил бы тебя против них. Не твоя ли богородица, как ее там, богородица язычников, собачья богородица, которая, наверно, спит с дьяволом!
Кощунство возмутило Тома больше, чем это сделали бы двадцать оскорблений.
— Молчи! — приказал он, сразу рассердясь. — Богородица эта, перед которой ты недостойна стать на колени, уж, наверно, стоит твоей цыганской Смуглянки, которая может спать с кем хочет, а все ж не помешала тебе попасть в мои руки!
Вне себя от этих слов пленница подскочила на месте.
— Сам молчи, нечестивец! — завопила она. — Моя Смуглянка спасла от тебя мою девственность, заставив тебя уважать ее, несмотря на всю твою силу и все твое распутство и несмотря на распутную поддержку твоей собственной богородицы, богородицы развратной и непотребной.
Оскорбление ударило Тома Трюбле, уже разъяренного, как курок ударяет в огниво заряженного мушкета. В тот же миг ярость самца буквально ослепила Тома Трюбле. И тогда-то он и потерял на самом деле в одну минуту достижения трех месяцев. Действительно, Хуана, вызывающая и насмешливая, стояла перед ним, подбоченясь, сразу обретя все свое хладнокровие, тогда как Тома его потерял. Трюбле видел ее перед собой в позе женщины, ради вызова отдающейся и уверенной, что ее не посмеют взять. Задетый за живое, он решился. Он бросился на нее, как уже бросался два раза. И был так стремителен, что опрокинул ее на постель и упал на нее раньше, чем она успела опомниться. Но нелегко осилить сопротивляющуюся женщину, если только не употреблять бесчеловечной жестокости. И Тома не дошел до этого, так как при первом же крике противницы он ее выпустил, разжал пальцы, сжимавшие хрупкие кисти ее рук, и убрал колено, которым давил нежный живот. А в такой битве самца против самки тот, кто раз отступил, тот побежден. Выиграв одну отсрочку, Хуана сумела выиграть и другие. Крича, как будто с нее живьем сдирали кожу, как только она чувствовала, что положение ее становится опасным, она таким образом заставляла почти оцепеневшего любовника постепенно терять все достигнутые им преимущества. Исход такой борьбы не подлежал никакому сомнению. Через пять минут Тома поднялся, разбитый наголову, и отступил. Хуана, едва освободившись от сжимавших ее объятий, также поднялась и одновременно с Тома вскочила на ноги. Она испытала страх. Но победа вернула ей смелость. Она разразилась пронзительным смехом:
— Я говорила! — закричала она. — Я говорила, что твоя богородица, богородица подворотен и перекрестков, не одолеет моей Смуглянки из Макареньи… моей Смуглянки, которая охранит мне мою девственность, так как я теперь же дала обет пожертвовать ей, как только вернусь в Сиудад-Реаль, платье из золотой парчи…
Тома выходил уже в дверь. Услышав эти слова, он повернулся, как ужаленный:
— Клянусь богом! — проворчал он, стиснув зубы. — Я беру обет на свой счет! Аминь! Я сам заплачу за платье из золотой парчи для Смуглянки! Но Смуглянка на меня не рассердится, если, чтоб снять с нее мерку, я переменю ей сначала часовню?
Хуана, раскрыв рот, оторопев, сразу прекратила издевательство.
— А впрочем, — закричал Тома Трюбле, в свою очередь разражаясь смехом, — впрочем, если Смуглянка рассердится, то Богородица Больших Ворот сумеет испросить мне прощение…
Дверь с шумом захлопнулась за ним.
VII
В кабаке под вывеской «Танцующей черепахи», где в этот вечер выпивали Эдуард Бонни, по прозванию Краснобородый, и Мэри Рэкэм, его любовница, и венецианец Лоредан, и флибустьер с Олерона, и уроженец Дьеппа, и много других авантюристов — все люди с весом, Тома Трюбле, войдя внезапно, произвел сенсацию, так как, в противоположность обычному своему поведению, которое часто бывало резким, но все же оставалось спокойным, Тома Трюбле на этот раз шел воинственными шагами и бросал вокруг себя свирепые взгляды. Дойдя до скамейки, он скорее упал на нее, чем уселся; заметив кружку, только что наполненную вином, он схватил ее и опорожнил одним глотком, причем никому не пожелал хотя бы доброго вечера. Удивленные флибустьеры прервали собственное пьянство и молча разглядывали прибывшего.
Тома, кончив пить, разбил яростным ударом кружку о стол.
— В чем дело? — решилась спросить Мэри Рэкэм, более скорая на язык, чем мужчины.
Но Тома ничего не ответил. Может быть, он и не слышал.
— Братья Побережья! — закричал он вдруг, обводя всех взглядом, сверкавшим, как молния. — Братья Побережья! Вам не надоело, как мне, протирать штаны о кабацкие скамейки и опорожнять кошельки, не зная, когда вам придется снова их наполнить! Если да — вы мои люди, а я ваш! Ну, допивайте кружки и очистим стол. Теперь слушайте меня все: кто из вас согласен подчиниться мне, как капитану, и подписать со мной договор на прекрасную и превосходную экспедицию, которая нас на веки вечные обогатит, если будет угодно Богу и нашим святым заступникам.
За мертвым молчанием, которым встречены были первые слова этой речи, последовала неистовая суматоха. Вскочив, как на пружинах, флибустьеры вопили от восторга, потрясая мушкетами, так как их обыкновением было не расставаться с ними нигде: ни в бою, ни в кабаке. В течение целых пяти минут шум был такой, что нельзя было расслышать ни одного слова. Но в конце концов пронзительный голос Рэкэм выделился в хоре остальных.
— Ура! — закричала она. — Клянусь господней требухой! Капитан Тома, я хочу быть в этом приключении твоим матросом, если ты мне не откажешь! И я последую за тобой всюду и пойду, куда ты пойдешь, на жизнь и на смерть, и даже в самое пекло ада!
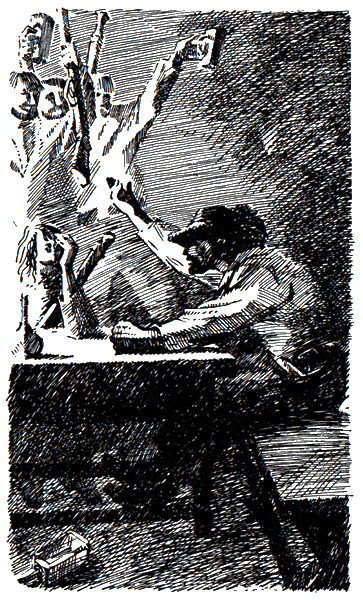
Остальные, вопя и ругаясь, вторили ей. Тома, с гордостью вспоминая, как недавно собственная его команда на «Горностае» поднимала такой же невероятный шум в часы, предшествующие каждому выигранному сражению, почувствовал и на этот раз, что его сердце наполняется воинственной и торжествующей радостью. И только обождав довольно долгое время, ударил он кулаком по столу, чтобы водворить молчание.
— Кто-нибудь из вас, — спросил он, — знает, понаслышке или потому, что сам там побывал, некий город в королевстве Новой Гренады, который называется Сиудад-Реаль?
— Я, — ответил венецианец Лоредан, поднимаясь со своей скамьи.
И так как он пил в самом конце кабака, он подошел к Тома и уселся прямо на тот стол, за которым сидел капитан. Обрадованный Тома ударил его по ляжке.
— Итак, — сказал он, — ты, брат Лоредан, ты знаешь Сиудад-Реаль в Новой Гренаде?
— Да, клянусь святыми Марком и Львом! — подтвердил венецианец. — И, кроме того, заметь, брат Тома, что я знаю его не понаслышке, а потому, что сам в нем был, я сэр Лоредан из Венеции, флибустьер.
— Черт возьми! — выругался восхищенный Тома, — вот проводник, который нам нужен был. Приятель, расскажи-ка нам про этот город, о великолепии которого столько говорят, и скажи нам все, что ты знаешь о нем. А вы все, Братья Побережья, слушайте обоими ушами: так как, говорю я вам, именно Сиудад-Реаль я намерен взять приступом и предать его огню, мечу и разграблению.
И в тот же миг раздался гром восторженных восклицаний. Немного флибустьеров ясно себе представляли, каков этот Сиудад-Реаль, но все слышали о нем как об очень богатом городе и, стало быть, годным для грабежа.
Между тем Лоредан-Венецианец ждал, пока стихнет общий крик. Затем он заговорил своим обычным голосом, очень мягким и ровным.
— О Сиудад-Реале в Новой Гренаде, — сказал он, — я все знаю, не только знаю в нем по названию каждую улицу, каждую площадь и каждые ворота, но также много раз осматривал укрепления, форты, крепости, замок и редут. Так как я не был в нем простым путешественником, который придет, поглядит и уйдет, но жителем и даже гражданином. Мне случилось даже быть офицером того гарнизона, который держит в Сиудад-Реале король Испании.
Утверждение это, хотя и странное, не удивило флибустьеров. Флибустьеры видели все, всем занимались и не находили ничего особенного в том, что один из них когда-то был хоть бы испанским офицером. Один Тома Трюбле приподнял брови. Но это ничуть не смутило Лоредана.
— Так вот, — продолжал он спокойно, — что нам теперь важно знать о Сиудад-Реале: Сиудад-Реаль — превосходно снабженная крепость и способна выдержать несколько месяцев правильной осады. Чтобы захватить его по всем правилам, необходим флот, а также армия. Флот должен состоять из восьми или десяти линейных кораблей, так как фронт, обращенный к морю, заключает восемь или десять хороших батарей последнего образца, из которых каждая стоит корабля. Армия должна будет состоять, по крайней мере, из шести тысяч человек, так как гарнизон насчитывает три тысячи пятьдесят, из которых каждый сражается за зубчатой стеной и стоит двоих незащищенных. Кроме того, Сиудад-Реаль окружен большим валом, с бастионами, куртинами, люнетами, рвами глубиной в пятнадцать футов и брустверами толщиной в семь футов. Снаружи находится несколько отдельных фортов, числом десять. Заняв форты и укрепленный вал, осаждающие встретят пять обнесенных окопами монастырей, образующих второй укрепленный пояс города. Две тысячи четыреста монахов составляют там настоящий гарнизон, так как губернатор испанского короля дал им восемьсот мушкетов и тысячу шестьсот пик. Я там был, когда их раздавали. Когда будут заняты, в свою очередь, и монастыри, останется еще цитадель или замок, с очень высоким редутом посередине, фланкируемым четырьмя сторожевыми вышками. Пятидесяти человек внутри достаточно, чтобы задержать пять тысяч, пока главнокомандующий вице-королевства не поспешит на помощь из Санта-фе де Богота во главе двадцати тысяч солдат, которыми он командует. Между Санта-фе и Сиудад-Реалем меньше ста миль.
И Лоредан-Венецианец, проговорив все это, небрежно подбоченился и замолчал.
Среди флибустьеров послышалось легкое роптание. Конечно, никого не пугали размеры опасности. Но перед стечением стольких препятствий, некоторые, прикинув небольшие силы, имеющиеся для их преодоления, начинали сомневаться в возможности успеха.
Но тогда раздался голос Тома Трюбле. И голос этот прозвучал так холодно и спокойно, словно Тома Трюбле не слышал ни слова из грозных пояснений Лоредана-Венецианца.
— Брат, — говорил Тома Трюбле, — брат Лоредан, ты совершенно ничего не говоришь о том, что нас единственно интересует! Ну-ка, я тебя спрошу?.. Правда ли, что Сиудад-Реаль, как меня уверяли, один из самых богатых городов Америки?
— Конечно! — сказал Лоредан.
— Правда ли, что его церкви, часовни, монастыри и другие благочестивые здания наполнены статуями и образами, которые в большинстве сделаны из литого золота и серебра?
— Правда!
— Верно ли также, что в Сиудад-Реале находятся обширные склады, доверху наполненные драгоценными слитками, а также рубинами, гранатами, изумрудами, агатами, безоарами и другими драгоценными камнями, кораллами, кошенилью, индиго, табаком, сахаром, серой амброй, красным деревом, кожами, какао, шоколадом?
— Да!
— И правда также, что в этом городе простые мещане богаче, чем в других местах старшины, купцы и нотабли города?
— Без сомнения!
Обоими кулаками Тома Трюбле ударил по столу.
— Ну вот! — закричал он с восторгом, — на кой черт говорить об укреплениях, куртинах, люнетах, бастионах и крепостях? Какие флибустьеры станут заботиться о такой чепухе!.. Слава богу! Слушайте меня все хорошенько: клянусь здесь Равелинским Христом и пресвятой Богородицей, — раз Сиудад-Реаль богат, значит Сиудад-Реаль будет наш, или я в нем погибну!
* * *
Из присутствовавших флибустьеров ни один не отступил, ни один не отклонил чести сопровождать Тома Трюбле в задуманной им экспедиции, которая обещала быть одной из самых отважных, какие только предпринимались когда-либо Флибустой. В кабаке «Танцующей черепахи» собралось двадцать шесть молодцов, которые все сейчас же подписали с большим воодушевлением договор, составленный по всем правилам, так что ни один законник не изготовил бы его в лучшем виде: ибо Тома Трюбле продиктовал его слово за словом Лоредану-Венецианцу, который, умея писать, — он приблизительно все умел — написал его очень четким почерком. Затем бумага в течение трех дней оставалась на столе в кабаке, приколотая собственным кинжалом Трюбле и стилетом Венецианца, как двумя воинственными гвоздями. И каждый флибустьер, бывший в то время на острове, имел возможность знать его содержание, которое многие доброжелатели, достаточные грамотеи, читали и перечитывали всякому вновь прибывшему. Так что к вечеру третьего дня Трюбле и Лоредан, придя вытащить свои кинжалы и забрать договор, нашли под ним сто шестнадцать имен хорошо написанных и, сверх того, двести двадцать крестов, перемешанных с этими ста шестнадцатью именами. Все вместе составляло, стало быть, триста тридцать шесть честных ребят, умеющих или не умеющих подписываться, но зато умеющих драться. Сливки Флибусты вступили целиком, довольные как командиром, так и предприятием.
* * *
Что касается договора, то Тома продиктовал его так, как он ниже следует, заботясь о том, чтобы согласовать обычаи авантюристов со своими личными интересами ма-луанского капитана и с некоими таинственными планами, которые он лелеял касательно города, столь хваленого Хуаной-пленницей, и касательно жителей этого города…
Так вот что продиктовал Тома и что записал Лоредан:
ДОГОВОР
Договор заключается между Братьями Побережья, кои эти строки подпишут, чтобы повести экспедицию против Сиудад-Реаля в Новой Гренаде, руководимую Тома Трюбле, капитаном и командующим, имеющим в качестве помощников Эдуарда Бонни, по прозванию Краснобородый, Лоредана-Венецианца, авантюриста из Дьеппа, авантюриста с Оле-рона, Мэри Рэкэм, женщину-корсара, и других, если таковые последуют. Из них Тома Трюбле назначает одного вице-адмиралом флота, другого — контр-адмиралом, по своему выбору, и сам вступает в командование сухопутной армией, как только армия эта сойдет на берег.
Флот состоит из легкого фрегата «Горностай» и всех других кораблей, которые будут захвачены в пути. Ввиду того, что упомянутый фрегат, будучи предоставлен командующим, не является общим достоянием состава экспедиции, настоящим устанавливается, что первый захваченный корабль будет отдан командующему в уплату за его риск, с двумя лишними долями, сверх его собственной в придачу.
Каждый из помощников получает две доли при разделе. За отличие им с общего согласия присуждается вознаграждение.
Лекарю назначается две тысячи золотых за ларь с мушкетами.
Тиммерману — тысяча золотых за работу при киле-вании.
Тому, кто убьет первого врага, — тысяча золотых.
Тому, кто первый взберется на городской вал, — тысяча золотых.
Тому, кто сорвет испанский флаг с крепости и водрузит на ней французский или малуанский, — тысяча золотых.
Увечные получают:
За потерю глаза — тысячу золотых.
За оба глаза — шесть тысяч.
За потерю руки или кисти руки — полторы тысячи.
За потерю обеих — четыре тысячи.
За потерю ноги — две тысячи.
За потерю обеих — шесть тысяч.
Здесь отмечается, что цифры эти, в восемь или десять раз превышающие обычно принятые, таковы в силу размеров и опасности предприятия. Всякие особые вознаграждения вычитаются из добычи до ее раздела, каковой затем производится по числу установленных сим договором долей.
Командующий покупает на свои средства весь порох для пушек и получает еще две доли сверх своих за эту статью.
По взятии города ни один авантюрист не может ничего присвоить себе из добычи: ни денег, ни невольников. Но каждый, признавший среди пленных своих личных врагов, может убить их собственной рукой, если пожелает.
В удостоверение чего руку приложили, даем клятвенное обещание быть до победного конца добрыми Братьями Побережья.
* * *
Хуана-испанка немало удивилась, услышав поутру на «Горностае» шум, производимый первыми прибывшими флибустьерами, которые начали уже грузить трюм и батарейные палубы всем, что могло понадобиться для вооружения фрегата. И Хуана, слишком гордая, чтобы выказать свое любопытство, не желая ни сама увидеть, ни расспрашивать кого бы то ни было, ожидала посещения Тома Трюбле, убежденная, что все узнает из уст корсара. Но этого не случилось, ибо Тома не посетил своей пленницы ни в этот день, ни в следующий. И когда неделю спустя «Горностай» снялся с якоря под крики своей новой команды, Хуана-пленница, пленница все более и более, и, так сказать, пленница тайная, еще не знала, как, зачем и куда направляется «Горностай», унося на своем борту, кроме невидимого капитана, кроме неизвестных матросов, молодую девушку в большом смятении.
VIII
Берег, видимый довольно близко и с правого, и с левого борта, тянулся за длинной полосой рифов, над которыми бушевало море. Позади меловой стеной поднимались утесы. А за утесами, вдали, вздымались высокие горы со множеством острых пиков и обрывистых склонов. Впереди залив переходил в устье. Здесь впадала в море река, о присутствии которой можно было догадываться по разным низеньким островкам, подобным тем, которые образуются вблизи Сен-Мало, в устье Раисы, наносами речного ила. На двух из этих островов виднелись высокие здания правильной формы, слишком еще далекие, чтобы их ясно опознать. За ними виднелись другие строения, еще более смутные. Но несколько колоколен, возвышавшихся над ними, доказывали, что эти строения и есть город Сиудад-Реаль Новой Гренады, раскинувшийся на берегу своей реки Рио-Гранде, подобно тому, как Севилья раскинулась на берегу своей Рио-Гва-далквивир… Тома Трюбле вспомнились эти слова Хуаны.
Ничтожный и одинокий «Горностай» отважно продвигался вперед под всеми парусами. Со времени ухода с Тортуги не было взято ни одного приза. Фрегат по-прежнему полностью нес на себе свой воинственный груз — триста тридцать шесть флибустьеров, решивших победить или погибнуть. Конечно, это было много, и все же это было ничто, если принять во внимание число противников, которых надлежало победить, и силу укреплений, которые надо было одолеть. Тома Трюбле, сосчитав по пальцам, прикинул соотношение того и другого и определил, что каждому авантюристу придется побороть сорок или пятьдесят противников. Такой подсчет в день атаки галиона вызвал в нем колебания. Но тогдашний Тома Трюбле и Тома Трюбле теперешний, очевидно, были уже совершенно разные люди, потому что тот, который теперь прогуливался по своему ахтер-кастелю, переходя от одного борта к другому неровными шагами и смотря вперед, все вперед, с каким-то яростным нетерпением, не колебался совершенно и даже время от времени разражался смехом диким и как бы сумасшедшим, будто смеялся над теми опасностями, навстречу которым он шел.
* * *
— Эти камешки, — заявил Лоредан-Венецианец, говоря со своей обычной беспечностью, — эти камешки, которые вы видите вон там на островах устья, это все крепости, будто бы возбраняющие неприятельским эскадрам приближаться к Си-удад-Реалю. Их всего шесть, и от первой до последней приходится пройти фарватером около двух миль. Та, что ближе всего к нам, на три румба впереди по левому борту, называется фортом святого Иеронима. Это, собственно говоря, батарея, окруженная стенами с парапетом, если я не запамятовал, шириной в пять футов, а гласисом — в три с половиной. Здесь имеется восемь железных пушек, стреляющих двенадцати-, восьми- и шестифунтовыми ядрами, с караулом в пятьдесят человек. Вторая крепостица, святой Терезы, вооружена двадцатью пушками. Это совершенно новое сооружение, с четырьмя бастионами и сухими рвами. Кроме артиллерии, в ней имеется десять органных орудий, каждое по двенадцать мушкетонов, затем девяносто ружей, двести гранат и соответственное количество пороха, свинца и фитиля. Далее идут платформа Непорочного Зачатия и платформа Спасителя…
— Достаточно, — перебил Тома Трюбле. — Занять все эти плохонькие укрепления мы, конечно, можем! Но это большая возня! Разве нет пути, ведущего ко рву самого города, помимо устья?
— Возможно, — беззаботно молвил Венецианец. — Но я никогда не слышал о таком пути.
* * *
Все помощники Тома толпились вокруг Краснобородого, уроженца Дьеппа, Олеронца и Мэри Рэкэм, которая все так же носила мужское платье и ругалась, и клялась одна за четверых флибустьеров, вместе взятых, и даже похуже..
Тома, размышляя, устремил пристальный взгляд на серую линию крепостей и вдруг решился, не спросив ни у кого совета.
— Пленных! — сказал он внезапно. — Пленных, вот что нам надо. Если путь, который мы ищем, существует, мы таким образом его узнаем, или я не я!
Стремительный, он сам бросился к румпелю и отвел руль, как было нужно, чтобы править прямо на форт святого Иеронима.
— Эта развалина, — продолжал он, — не выдержит и одной шамады. Караул насчитывает всего пятьдесят ружей, это нам только на зубок. Если они сразу сдадутся, — дадим им пощаду! Если будут сопротивляться, — убьем эту сволочь, кроме, десяти, двенадцати негодяев, которые послужат нам проводниками.
— А если они не захотят? — спросил авантюрист из Дьеппа.
— Не захотят? Кишки дьявола! Не захотят, так их повесят, и не за шею, а за кое-что другое! — ответила Мэри Рэкэм, хохоча во все горло.
— Захотят, — уверил Тома Трюбле.
* * *
И Братья Побережья еще лишний раз полюбовались искусством маневрирования их капитана и командующего. Фрегат так тонко лавировал, что пристал левым бортом, во время отлива, в ста саженях всего от форта святого Иеронима, ко все же вне обстрела испанских пушек. Дело в том, что в море наискось выдвигалась песчаная коса, к северо-западу от верка, и бойницы восьми орудий не были рассчитаны для нападений на эту косу. В этой-то защищенной зоне и остановился «Горностай». И сто флибустьеров, заранее намеченных Тома и лично им руководимых, могли, таким образом, достигнуть гласиса без боя.
Тогда осажденные заняли свои бойницы и стали стрелять из мушкетов, но довольно вяло, так как после первого же выстрела ответ авантюристов, стрелявших, как ни один солдат в мире, сшиб всех испанцев, головы которых хоть сколько-нибудь возвышались над стеной. Не успело четверо из них свалиться, как уже остальные старались высовывать одни только мушкеты на вытянутых руках, стреляя как попало, лишь бы не подставлять под пули собственную шкуру. Эти плохо направленные выстрелы не могли флибустьерам причинить большого вреда. Все же они скоро привели Тома в раздражение. Соскочив в ров, во главе двух десятков своих людей, — остальные продолжали защитную стрельбу, — он влез по живой лестнице, втихомолку перебрался через стену и один, вскочил в укрепление. Через мгновение половина его людей присоединилась к нему; и этого короткого мгновения оказалось достаточно, чтобы шесть испанцев, пораженных абордажным палашем корсара, очутились на земле. Уцелевшие, думая, что видят черта, побросали оружие. Большую часть этих несчастных прикончили. Тем не менее, Тома вспомнил, очень кстати, что ему нужны пленные, и приказал пощадить необходимых восемь человек, которых со связанными руками немедленно отвели на фрегат. Во время сражения начался прилив, и «Горностай» был уже на плаву в стороне от косы, готовый двинуться к новым победам…
Но раньше, чем распустить паруса, уроженец Дьеппа, ведавший рулем и парусами, направился к Тома Трюбле узнать, на какой курс лечь, раз для того и взяли форт, чтобы «достать языка» и узнать из уст испанцев, какой путь наименее труден.
Но Тома, по своему обыкновению, вышел из битвы, кипя мрачной яростью. Сначала он был раздражен оказанным сопротивлением; затем трусость врага обратила это раздражение в гнев. Наконец, взобравшись сам на стену и лично приняв участие в битве, он сильно разгорячил себе кровь, а последовавшее избиение не только не успокоило этого дикого волнения, но, напротив, усилило его до исступления. Победителю потребовалось даже некоторое усилие, чтобы перестать убивать и дать пощаду восьмерым пленникам, которых он хотел взять себе в проводники.
Поэтому как только уроженец Дьеппа спросил, как мы видели, куда держать путь, Тома, разразившись хохотом, с глазами, светящимися, как раскаленные угли, громовым голосом отдал приказание вывести упомянутых пленников на палубу фрегата и выстроить их в шеренгу позади грот-мачты. Множество флибустьеров собралось вокруг. Тогда Тома, заметив авантюриста с Олерона, говорившего по-испански не хуже испанского короля, приказал ему объяснить пленным, какой услуги от них ожидают: провести армию к городу, избегая огня укрепленных островов.
Так и сделал Олеронец. Но речь его не увенчалась успехом. В самом деле, пленники, переглянувшись, объявили в один голос, что с них требуют как раз то, что неисполнимо, потому что единственным доступным путем к Сиудад-Реалю служит фарватер реки, фарватер, находящийся под последовательным обстрелом остальных пяти верков.
Выслушав этот ответ, Мэри Рэкэм повернулась к Тома Трюбле и усмехнулась.
— Не говорила ли я тебе, черт побери, что они ничего не скажут? — сказала она. — Живо! Повесь их и ступай себе дальше! Довольно время терять!
Но Тома, красный как огонь, заткнул ей рот.
— Молчи! Я тебе сказал, что они заговорят! Погоди!
Пленники с беспокойством смотрели на капитана. Не говоря ни слова, он подошел к первому из них и обнажил саблю.
— Вот еще! — произнесла Мэри Рэкэм, хохоча еще громче, — уж не думаешь ли ты, что они лучше заговорят, когда ты снимешь с них башку.
Но больше она ничего не успела сказать, так как под ударом Тома первая голова, срубленная одним взмахом сабли, полетела, как камень из пращи, и расшиблась о палубный пояс у самых ног Мэри Рэкэм.
Семеро живых еще испанцев завопили от ужаса. Не без причины. Тома все так же молчаливо, с таким же багровым лицом подходил ко второму. Тот невольно отступил, собираясь бежать, но Тома успел дважды ему всадить в живот и грудь ту же окровавленную еще саблю. Испанец упал замертво.
Третий, видя это, крикнул: «Пощади!»
Столь же глух, как и нем, Тома разрубил его пополам, от плеча до пупка. Тома с любопытством пошарил кончиком сабли в этой мерзости, как бы ища чего-то и не находя. Труп уже не вздрагивал больше.
Тома направился к четвертому пленнику.
Тот бросился на колени, а за ним и все уцелевшие его товарищи. Все вместе, не ожидая пощады от своего палача, они принялись молить бога.
Тогда Тома, остановившись против своей четвертой жертвы, вместо того, чтобы ударить, вложил саблю в ножны.
Несчастный с надеждой поднял голову. Но коротка была его радость.
— Тросу! — приказал Тома, заговорив, наконец.
Два флибустьера принесли несколько раскрученных канатных прядей.
— Свяжите вместе эти вот две руки и эти две ноги. Три выбленочных узла и один бабий узел!
Это было исполнено.
— И бросьте пакет за борт!
Стон приговоренного заглушили волны.
Из восьми пленников осталось еще четверо.
— Вот этот человек!.. — начал Тома, разглядывая того, чья очередь настала умирать.
Он запнулся, повернул голову и посмотрел на Мэри Рэкэм.
— Ты, — снова заговорил он, обращаясь к ней, — ты что это там говорила давеча. Что нет хорошего пути, ведущего в Сиудад-Реаль.
Он повернулся на каблуках и смерил взглядом дрожавшего испанца, готового заговорить.
— Хорошего пути? — повторил Тома. — Я сейчас узнаю, три или четыре. Но этот человек, наверное, не знает ни одного!
За поясом Тома торчало два пистолета. Он схватил один из них и поднес его к лицу пленника.
— Путь… — заикнулся пленник, как будто уже заранее мертвый.
— Он не знает ни одного! — повторил Тома, спустив курок. Мозг разлетелся брызгами.
— А этот человек, — начал Тома, подходя к тому, за которым стояли еще двое.
Это был мулат, полукастилец, полуиндеец. Он упал ниц.
— Sen’or capitan! — закричал он в отчаянии, — no те mateis! Yo os dire la verdad!
[60]
— Ба! — сказал Тома, скрестив руки.
Он не на мулата смотрел, а на Мэри Рэкэм.
— Есть путь, путь верный, — утверждал мулат, все еще говоря по-испански, как будто всякий другой язык, кроме его собственного, даже жаргон флибустьеров, который понимают и на котором говорят по всей Америке, изгладились от ужаса из его памяти.
— Говорил я тебе? — повторил Тома, обращаясь к Мэри. — Говорил я тебе, что дорога есть?
— Этот путь идет вдоль западных гор… В двенадцати милях выше города Рио-Гранде переходим вброд… Перейдя вброд с левого берега на правый, вы можете вернуться в Сиудад-Реаль степью, без малейшего препятствия.
— Конечно, этот путь, — сказал Тома, по-прежнему обращаясь к Мэри Рэкэм, — может таить засаду…
— Не думай этого, синьор капитан! — закричал мулат. — Никакой засады! Я говорю тебе правду!..
— Но если бы оказалась засада, — продолжал Тома, — то тем хуже было бы нашим трем проводникам, с которых я живьем сдеру кожу своим собственным ножом…
— Пусть будет так, синьор капитан! И если все пойдет хорошо, тогда пощада, не так ли?
— Тогда пощада, ладно! — обещал Тома.
Он подошел к женщине-корсару и ударил ее по плечу.
— Ну что, заговорили они? Да или нет? Как тебе кажется?
Он смеялся смехом судорожным и страшным.
— Требуха господня! — выругалась Мэри. — Ловкий парень наш командующий! Крепок, как ягненок, клянусь честью!
— Ура этому ягненку, Тома! — сейчас же закричал Краснобородый.
Двадцать флибустьеров повторили этот крик.
— Ура! Тома-Ягненок!
Все еще смеясь тем же чудовищным смехом, Тома-Ягненок протянул правую руку флибустьерам, как бы принимая прозвище.
— Ягненок! Ладно! — сказал он. — Пусть же отныне я буду Ягненком! А теперь, вперед! Лево на борт руля и правым к западу! Повезем шкуру Ягненка волчатам Сиудад-Реаля!
IX
Подойдя на расстояние ста саженей к крепостному валу, Тома Трюбле, по прозванию Тома-Ягненок, движением руки остановил отряд добровольцев, во главе которых стоял сам. И поднявшись во весь рост над высокой травой, он подошел еще шагов на тридцать поближе, чтобы в точности оценить вражескую позицию. Один за другим раздались три мушкетных выстрела: часовые на бастионах были бдительны. Просвистела также стрела, так как среди осажденных было немало индейцев. Но Тома не обратил внимания ни на стрелу, ни на пули. Всегда презирая опасность, он старался только получше рассмотреть фас и профиль окопа, чтобы сознательно выбрать место атаки.
Город этот — Сиудад-Реаль Новой Гренады — был построен на плоскогорье, с крутыми обрывами со всех сторон, за исключением стороны, обращенной к реке. Здесь склон опускался почти полого, заканчиваясь пристанью, у которой суда могли со всеми удобствами грузиться и разгружаться: под защитой нескольких больших крытых батарей над самой водой, составлявших морской фронт крепости. Выше и ниже этой крепости две высокие бастилии замыкали сухопутный фронт. Полукруглый вал, связывавший эти бастилии между собой, зазубривал как бы самый откос плоскогорья, служившего подножием городу. В любой точке этого превосходно сделанного укрепления приступ был более чем труден.
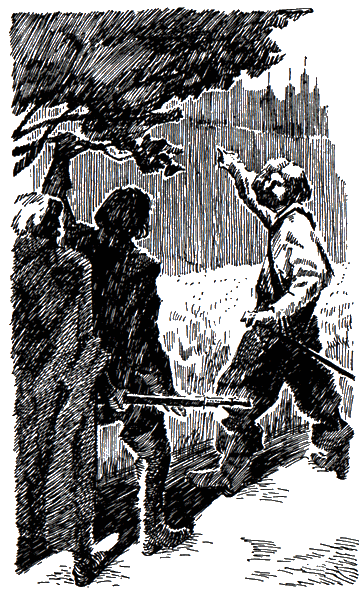
Впереди рва возвышался парапет высотой в сажень, прорезанный каменными казематами. Наконец, различные заграждения окончательно затрудняли доступ к главным укреплениям, с верхушки крепостного вала многочисленные батареи во все стороны наводили орудия. А поверх этих батарей ничего не было видно, кроме нескольких колоколен: настолько высота крепостной стены превышала высоту любого дома и любого здания в городе.
Снова раздались три мушкетных выстрела: часовые успели перезарядить оружие. Пуля выбила камень из земли в двух шагах от невозмутимого Тома. Наконец, Тома, увидев все, что он хотел видеть, отступил и увел своих добровольцев. Издали, сидевшие в казематах, испанцы поносили его, называя щенком и вызывая его начать приступ! Он же, спокойно удаляясь, рассмеялся.
* * *
Благодаря пленникам форта святого Иеронима, оказавшимися хорошими проводниками, ни высадка на левом берегу Рио-Гранде, ни путь вдоль гор, с севера на юг, ни переход вброд повыше города не представляли ни малейшего затруднения. Всего сорок флибустьеров осталось, по жребию, на борту «Горностая», который, во избежание нападений со стороны испанских кораблей и брандеров, ушел в море и крейсировал теперь среди залива. Тогда сухопутная армия численностью около трехсот бойцов обошла укрепления устья и неожиданно появилась перед Сиудад-Реалем, под самыми его стенами. Большой был выигрыш в том, что таким образом дело обошлось без всяких сражений и, следовательно, без всяких напрасных потерь; и в довершение успеха флибустьеры, как бы обойдя своих врагов, занимали теперь единственную дорогу, по которой Сиудад-Реаль мог бы выслать гонцов и просить помощи либо в Панаме, либо в Санта-фе де Богота. Так что можно было свободно продолжать осаду, не боясь преждевременного вмешательства.
Впрочем, в намерения Тома не входило затягивать дело. Он заявил об этом самым решительным образом, отвечая авантюристу с Олерона, который спросил:
— Кто-нибудь из нас знает ли толк в траншеях, саках, редутах и прочих кротовых работах, годных для взятия крепости по всем правилам военного искусства?
— К чему нам какие-то правила и какие-то кротовые уловки! — презрительно возразил Тома. — Разве мы не годны на то, чтобы брать приступом, а испанцы — на то, чтобы сдаваться?
Лагерь был разбит на вершине холма, в расстоянии меньше полумили от крепостного вала. Вокруг этого лагеря расставлено было восемь постов главного караула, и все городские ворота, во избежание случайностей, находились под тщательным наблюдением летучих отрядов. Кроме того, время от времени посылались разведки волонтеров, достигших непосредственно самых подступов рва. Надо было возможно скорее открыть — буде оно существовало — слабое место укрепленного пояса, раз Тома решился на приступ. Впрочем, для скорейшего достижения цели Тома не щадил ни себя, ни других. И, как мы видели, он лично провел одну из этих разведок, ту самую, с которой сейчас возвращался в лагерь.
— Ну, — крикнул ему Краснобородый, командовавший главным караулом, имея Мэри Рэкэм в качестве помощника. — Ну, что же? Генерал Ягненок, нашел ты подходящее для приступа место?
— Как сказать, — ответил осторожный Тома. — Сейчас мы об этом потолкуем в совете.
И как будто набрав воды в рот, он продолжал путь, вошел в лагерь и направился к своей палатке.
* * *
В лагере палаток было немного. Большинство флибустьеров, сыновей и потомков буканьеров былого времени, кичились тем, что спят на ветру лучше и крепче, чем любой горожанин в своем алькове. Без лишних церемоний они завертывались в какое-нибудь одеяло, часто в свой деревенский плащ, сшитый из козьих шкур, и подкладывали под голову протянутую левую руку, локтем упираясь в землю. Одни только начальники, чтобы подчеркнуть свое достоинство, да немногие солдаты, самые богатые и желавшие показать свое богатство, захватили с собой столько обожженных кольев и смоленого холста, сколько нужно, чтобы дать убежище человеку. Штук пятнадцать или двадцать таких палаток было раскинуто в центре квадратной площади, занимаемой армией. Палатка Тома, во всех отношениях схожая с другими, отличалась только длинным копьем, которое он сам воткнул в землю перед дырой, служившей входом, и к которому привязал малуанский флаг, знамя, присвоенное экспедиции.
Итак, откинув холст, одно полотнище которого ниспадало в виде полузакрытой двери, Тома, нагибаясь, вошел в палатку, слишком низкую для того, чтобы в ней ходить, выпрямившись…
Женщина — испанка Хуана, — сидевшая в глубине, опершись подбородком о колени и зажав руки между ног, подняла на него глаза.
* * *
Ибо Хуана тоже входила в состав сухопутной армии.
Во время высадки на левый берег Рио-Гранде Тома, к удивлению всех флибустьеров, приказал высадить — «волей или неволей» — пленницу, запертую до тех пор в его собственной капитанской каюте. Впрочем, Хуана не сопротивлялась и даже не задавала вопросов, хотя с большим любопытством смотрела вокруг себя, пока ее везли в яле с корабля на берег. Быть может, она узнавала окрестности своего Сиудад-Реаля, которым она так сильно гордилась. Во всяком случае, она этого ничем не обнаружила.
После чего целых четыре дня от того берега, где они высадились, и до самого городского вала Хуана шла среди флибустьеров, по-прежнему не произнося ни слова, по-прежнему ни на что не жалуясь. К тому же никому не приходило в голову открыть рот, чтобы что-нибудь ей сказать, и Тома не больше, чем другим. Он, впрочем, ни разу не нарушил молчания, которое хранил по отношению к пленнице с самого начала экспедиции. И даже здесь, в конце пути, перед Сиудад-Реалем, накануне вступления в него с оружием в руках, он упорствовал в этом молчании и даже ни разу не переступил порога своей собственной палатки, вплоть до этой минуты.
Так что он входил сюда в первый раз. И Хуана, удивленная, хотя нисколько не обнаруживая этого, подняла на него глаза…
* * *
Лицом к лицу они смотрели друг на друга, он и она, долго, оба молча.
Затем Тома, не опуская взгляда, — две недели неограниченной власти, повелительно осуществляемой, вернули его сердцу былую отвагу, — резко спросил ее:
— Знаешь ли ты, где находишься?
Она с презрением пожала плечами, показывая, что ей все равно, быть ли здесь или там, или еще где-нибудь.
— Ладно, милочка! — сказал он усмехаясь. — Тебе наплевать, не так ли? Ладно, ладно! Во всяком случае, видишь ты вон тот угол палатки? Погодя приложи к нему ухо и слушай хорошенько, потому что там, за стенкой, я буду сейчас держать совет, предупреждаю тебя. И, как бы мало в тебе ни было любопытства, пусть я попаду в лапы самому главному дьяволу в аду, если тебе не занятно будет слушать наши рассуждения!
Продолжая смотреть ей прямо в глаза и хохоча все громче, он, пятясь задом, вышел из палатки. Холщовая дверь опустилась за ним.
* * *
Вскоре звук трубы огласил весь лагерь, и начальники собрались вокруг малуанского флага — знамени армии. Тома, командующий стоя, поджидал своих помощников, опираясь обеими руками о копье, древко знамени.
— Братья Побережья, — сказал он, когда все оказались в сборе, — я сейчас рассмотрел вблизи крепостной вал, ров и прочую ерунду: заграждения, казематы, батареи, бастионы, кавальеры, люнеты, куртины, патерны и остальной вздор, со всех сторон окружающий Сиудад-Реаль. Знайте, что все в прекрасном состоянии и что осажденные, по-видимому, весьма высокомерно полагаются на свои стены. Это не беда! Мы все-таки будем сегодня же ночью в сердце города, если пресвятая Дева Больших Ворот, в которую я верую, удостоит принять обет, мною приносимый, построить в честь ее часовню на острове Тортуге, сейчас же по возвращении, и отдать в эту часовню все самое ценное и прекрасное, что нам удастся награбить в здешних церквах, аббатствах, обителях и монастырях.
— Решено и подписано! — сейчас же согласился авантюрист из Дьеппа, добрый католик, между тем как гугенот с Олерона, слыша, как поминают и славят Пресвятую Матерь божью, презрительно плюнул. Однако же он ничего не посмел возразить, потому что пылающий взор малуанца устремился на него, полный опасной угрозы. Ну, а Лоре-дан-Венецианец, тот, по обыкновению, улыбался, всегда готовый одобрить все, что не вредило его собственным интересам. Точно так же не возражали и Краснобородый, и Мэри Рэкэм, с той только разницей, что англичанин не улыбался, а заливался во все горло, а женщина-корсар, серьезно занявшись новым толедским кинжалом, впервые попавшим в ее руки, не слышала ни слова из его речи.
Так как никто не вымолвил ни звука, Тома продолжал: — Раз мы в этом сошлись, перейдем к дальнейшему. Братья Побережья, как я уже вам говорил, нам придется перелезать стены высокие, перепрыгивать широкие рвы. Несмотря на это, мы, наверняка, будем завтра в Сиудад-Реале, раз мы решили там быть. На этот счет не может быть никаких сомнений. В средствах недостатка не будет. Но кто из вас посоветует самое лучшее?
По-прежнему никто не издал ни звука. Внимательно слушая, заранее повинуясь и доверяя, флибустьеры ожидали приказания корсара.
— Отлично! — гордо заговорил Тома. — Чего вы не знаете, то знаю я!
И он вытащил из-за пояса длинную стрелу с колючим острием, ту самую, которую давеча пустил в него, в Тома, чуть его не задев, один из индейцев, защитников вала.
Тома высоко поднял эту стрелу, выставляя ее всем напоказ:
— Вот что послужит нам и лестницей, и перекидным мостом, если угодно будет Спасителю и его Пресвятой Матери.
Стрела была цела, кроме острия, которое
сломалось, ударившись о камень. Крайне изумленные, все авантюристы подошли на шаг, чтобы получше рассмотреть эту оперенную палочку, которую Тома назвал «лестницей» и «перекидным мостом»…
— Ладно! — первая прервала молчание Мэри Рэкэм, насмешливо тронув пальцем затупившуюся стрелу. — Ладно! Клянусь господней требухой! Вот уже один ров засыпан, а стена пробита. Вперед же! Нечего болтать: город взят!
Тома не слушал. Гугенот с Олерона, любопытный, как все еретики, стал расспрашивать:
— Каким образом эта стрела?..
Ответ последовал надменный:
— Раз я ручаюсь, то мне кажется, этого достаточно. Вот что, довольно болтовни, обсудим дальнейшее. Теперь твой черед, брат Лоредан, подумай вот о чем: ночь будет темная и безлунная; сумеешь ли ты все-таки, когда укрепленный пояс будет взят, провести нас, несмотря на темноту, по запутанным улицам, переулкам и перекресткам.
— Не лучше и не хуже, чем среди бела дня, — заявил Венецианец.
— Нам, очевидно, придется с большой поспешностью занять прежде всего защитные укрепления — замок и редут, а также казармы… Представляешь ли себе, какого порядка и плана нам нужно в этом отношении придерживаться?
Лоредан-Венецианец задумался:
— Представляю, — сказал он, наконец. — Прежде всего и самым спешным образом нам нужно будет не захватывать, а поджигать. Так как нам будет, поистине, необходимо не разъединяться друг с другом, раз мы и вместе-то не слишком многочисленны… Итак, мы подожжем несколько зданий, которые я сумею отыскать, не беспокойтесь, хотя бы ночь была темнее ада. Затем, не задерживаясь у домов и складов, — о штурме их порознь не может быть и речи, иначе мы бы сразу оказались рассеяны и ослаблены, — мы бросимся прямо к цитадели, захватим ее и в ней засядем. Очевидно, там будут в сборе все главнейшие неприятельские начальники, и они сразу попадут в наши руки. Солдаты, лишившись таким образом командиров, долго не выдержат. И мы, задолго до восхода солнца, овладеем городом. Главное — стараться избегать во время наших поджогов зубчатых монастырских стен, осада которых, не имея никакого смысла, будет нам стоить больших потерь и драгоценного времени, если не хуже. Но это уже мое дело — быть хорошим проводником и пройти, сторонясь монахов, без злоключений.
— Хорошо, — сказал Тома.
Он минуту колебался, как будто размышляя. Потом изменившимся голосом, более тихим, странно ускоряя слова, произнес:
— Так значит, в цитадели мы найдем, очевидно, всех главных начальников — вельмож города… Брат Лоредан… Что ты о них знаешь? Кто они и как их зовут?
Мэри Рэкэм не стеснялась, опять стала издеваться:
— Ей-богу! — воскликнула она. — Вот уж, действительно, важно, — зовут ли кастильских обезьян Карлосами, Антонио или Хосе…
Бесстрастный Тома, казалось, не слышал. Впрочем, Ло-редан, всегда учтивый и любезный, не замедлил ответить.
— Сиудад-Реаль, — пояснил он, — не особенно благородный город. И населен он простонародной сволочью, пришедшей из Испании вслед за солдатами, которых король испанский некогда сюда послал. Впрочем, эта сволочь очень быстро и скандально обогатилась торговлей и разработкой рудников. Но от этого она не перестала быть сволочью, и в городе, таким образом, нет ни именитых горожан, ни тем паче знати. Единственные подлинные начальники и вельможи — это те, которых сюда назначает король, а именно: губернатор, по имени дон Фелипе Гарсиа, — если только его не сменили за эти два года, чего я не думаю, так как он только что приехал тогда; советник, по имени дон Педро Иниго, и прокуратор, по имени Лупс-Медипа Соль; оба последние — для гражданских дел. Для военных в распоряжении у губернатора находится несколько капитанов пехоты, но не думаю, чтоб я знал кого-нибудь из них, потому что отряды, стоящие в Новой Гренаде, часто меняют стоянку; и те, которые сейчас занимают Сиудад-Реаль, стояли, наверно, в Санта-фе или в Маракайе в то время, когда я был здесь в последний раз.
Тома, слушавший самым внимательным образом, продолжал расспросы:
— У этого губернатора, советника и прокуратора есть, конечно, жены и дети при них… с которых мы можем получить более значительный выкуп.
— Нет, — ответил Лоредан. — Ни один испанский чиновник или дворянин не привез бы свою семью в город, населенный одними проходимцами. Все, мною названные, живут холостяками.
Тома удивленно поднял брови:
— Неужто?.. А не забыл ли ты упомянуть еще какого-нибудь начальника.
Лоредан, поразмыслив, вскрикнул:
— Ах, чтоб тебя! Конечно! Клянусь львом! — сказал он, презрительно смеясь. — Я чуть не забыл много начальников, а этими начальниками нельзя пренебрегать, раз дело идет о получении выкупа, потому что все они богаты. Хоть и населенный, как я только что сказал, одним простонародьем, Сиудад-Реаль все же город чванный и неугомонный, поэтому, опасаясь волнений или даже мятежей, испанский король дал недавно этим мужланам право выбирать себе, для внутреннего управления, аль-када, сержантов, приставов и четырех офицеров милиции. Этих лиц они всегда выбирают среди самых зажиточных. Алькад, насколько помню, именовался тогда или, вернее, заставлял себя именовать как вельможу, хотя таковым и не был: дон… дон Эприко… Эприко… Алонсо… Клянусь львом, забыл… Эприко, пожалуй… ну да… дон Эприко Форос… или Перес… Словом, что-то в этом духе… У него, верно, были жена и дети, доказательством чего служит то обстоятельство, что он сделал одного из своих сыновей офицером милиции и прочил свою дочь за какого-то Якобле Идальго, также офицера милиции… Девчонку звали Хуана, насколько мне помнится, и дон Фелипе Гарсиа, губернатор, разговаривая как-то со мной, сказал мне, что она красива…
— Все значит к лучшему! — оборвал Тома рассказ Венецианца. — В лучшему, да! И добыча превзойдет наши скромные ожидания вдвое или втрое…
Он опять говорил торопливо, словно теперь особенно спешил покончить с этим вопросом об испанских начальниках. И снова голос его изменился, стал надменным и твердым, когда он вновь обратился ко всему совету, желая закончить обсуждение.
— Братья Побережья, — сказал он, — все предусмотрено, разойдемся. Но в полночь, пусть каждый будет на ногах, вооружен и готов к приступу. А пока вот приказ, который всем вам даю я, Тома-Ягненок, командующий армией: велите своим добровольцам собрать как можно больше стрел, которые не преминут метать в изобилии индейцы, состоящие на кастильской службе, чуть только мы их заденем. Затем пусть очистят все окрестные хлопковые плантации и соберут пушистые волокна, так как все это нам, как вы увидите, сегодня понадобится. А теперь, Богу слава! И да хранит он нас!
Тогда все удалились. Тома остался один, все еще опираясь обеими руками на копье, служившее древком малуанского знамени, знамени армии. Немного погодя он сделал несколько шагов и взглянул по направлению ко входу в свою палатку, словно собираясь войти туда. Однако же он этого не сделал и только уселся задумчиво рядом. На его широком, властном лице играла жестокая полуулыбка…
Х
Темной ночью флибустьеры молча подошли вплотную к первым палисадам. Порывистый ветер, сухой и жгучий, играл деревьями и высокой травой. Легкий топот идущего войска сливался с их шелестом и до того в нем терялся, что ни один из пяти-шести десятков испанских часовых, стоявших на валу, ни о чем еще не догадывался.
Теперь Тома Трюбле, по прозванию Тома-Ягненок, шедший, как и следовало, во главе своих солдат, остановился, увидев, что подошел на нужное расстояние, чтобы начать выполнение своего боевого плана. По его команде, почти беззвучно произнесенной, пятьдесят авантюристов, выбранных среди самых метких стрелков, стали заряжать свои мушкеты, но странным способом: вместо пули, каждый вкладывал одну из имевшихся у него стрел, привязав предварительно к камню этой стрелы полную горсть пушистого хлопка, которым были набиты их карманы, после чего все вместе высекли огонь, подожгли эту горсть хлопка, нацелились на верхушку укрепления и все, как один, выпустили свои пятьдесят зарядов. В тот же миг пятьдесят огненных черт прорезали ночную тьму. Одни вонзились в гауптвахты, караулки, будки и всякие другие легкие бараки, там и сям размещенные на бастионах и куртинах; другие били дальше и сильнее, попадая в самый город. И тотчас же занялось множество пожаров, повсюду, куда попадали эти адские головни.
— Что я говорил? — громко вскричал гордый Тома.
Общий клич раздался в ответ. Не надо было больше прятаться и молчать: жаркий ветер раздувал огонь, охватывающий все вокруг; по пылающему валу бегали куда попало ослепленные ярким светом испанцы; и флибустьерам уже нечего было опасаться. По эту сторону рва часовые, приставленные к казематам и к парапетам, также начинали волноваться и стали отступать к эскарну. Их превосходно было видно, так как их черные силуэты отчетливо выделялись на фоне пылающей крепости, и было на редкость приятно подстреливать их в ту самую минуту, когда они появлялись на откосе, готовые соскочить с контр-эскарна, крича благим матом, чтобы им открыли ход в канонир. Тут флибустьеры славно поработали мушкетами. Не прошло и четверти часа, как не осталось в живых ни одного врага вне городской стены. Увидев это, Тома закричал изо всех сил:
— Братья Побережья, вперед! На приступ!
И снова армия ответила торжествующим кличем единодушно:
— Ягненок! Ягненок! Ягненок!.. Вперед! Братья Побережья! На приступ! На приступ!
Они двинулись…
Укрепленный пояс был захвачен с первого же натиска, осаждающие взбирались один на другого по живой лестнице быстрее, чем мы с вами успели бы сделать глоток воды. Потом авантюристы, устремившись все сразу за Тома, командующим, Лореданом, проводником, дико помчались среди огня, крови, обломков, трупов с развороченными кишками и мозгами, в уже наполовину завоеванный город.
Через час все было кончено. Почти без боя шесть или семь построек: казармы, оружейные склады, ратуша, которую кастильцы называли ayuntamiento, книжная лавка, переполненная лишним хламом, разные склады и всякие мастерские — все это было основательно поджарено по благоразумному совету Венецианца. Ни один укрепленный монастырь не преградил им дорогу. И в самом конце длинного ночного пути по тридцати переулкам, извилистее любого тупика Сен-Мало, армия, наконец, уперлась в закрытые ворота, за которыми находился ров с поднятым откидным мостом. По ту сторону, во мраке, высилась стена барбакана
[61]. Ни ворота, ни ров не задержали флибустьеров. Тридцать солдат, найденные в барбакане, были повешены, для примера, и армия кинулась дальше. От барбакана к замку вел ступенчатый подъем, по которому быстро вскарабкались; и не успели растерявшиеся защитники опустить решетку, как уже Тома первым бросился в укрепление и заработал саблей. И враги опять разбежались. Тогда вся армия присоединилась к своему начальнику, который, по обыкновению, не получил ни малейшей царапины. И казалось, они в самом деле победили. Большая часть крепости была захвачена. Плацдарм был свободен и беззащитен.
Оставалось только раскусить и проглотить редут в качестве десерта к этому знатному ужину, так быстро и прожорливо истребленному…
Тогда Тома Трюбле, по прозванию Тома-Ягненок, обтерев о штаны свои руки, красные от вражеской крови, повернулся вдруг к своим, разыскивая взглядом английского флибустьера Краснобородого.
— Брат Бонни, — сказал он, заметив его, и голос его звучал хрипло, как у пьяного. — Брат Бонни, женщина здесь?
— Ну да, провались я на этом месте! — выругался флибустьер.
В тот же миг два черных невольника вышли вперед, таща за нежные связанные и скрученные руки женщину, о которой шла речь, Хуану.
По приказанию командующего пленница сопровождала армию в течение всего штурма. Таким образом, она собственными глазами видела победу авантюристов, поражение испанцев, словом, весь разгром, развал и гибель этого города — почти родного ей города, который она так часто и с такой гордостью превозносила, который она считала навеки неприступным, — этого города, который триста босяков, триста разбойников… взяли и завоевали, проглотили — без боя, на ходу, шутя.
И в то время, как черные невольники, приставленные к ней, подталкивали ее или переносили от одного препятствия к другому, среди стольких горящих зданий, стольких нагромождений человеческих трупов; в то время, как она не переставала видеть во главе этих неотразимых флибустьеров того страшного человека, который их вел, Хуана, разбитая от усталости, полумертвая от ужаса, чувствовала, как мало-помалу ее покидает все ее былое мужество и вся ее кичливая гордость, и она становилась жалкой, безжизненной вещью, бессильной и безвольной, почти бесчувственной…
Среди обширной палаты, расположенной перед плацдармом, в толпу окровавленных и ужасных авантюристов, к ногам начальника бросили негры эту безжизненную вещь, Хуану. Она не издала ни стона, ни крика. Обессиленная, она не двигалась с места, устремив на Тома Трюбле расширенные и тусклые глаза. Тот, еще опьяненный битвой и торжеством, пошел прямо на нее и придвинулся вплотную.
— О! — зарычал он. — Вот и ты, девственница! Ладно! Знаешь ты, где сейчас находишься? Полно! Не ломай голову! Я сам тебе скажу: ты в Сиудад-Реале Новой Гренады, в Сиудад-Реале, который я взял, ты в замке Сиудад-Реаля! Гляди: вот плацдарм, вот редут! Гляди, гляди же! Мавританская колдунья! Там, в этом редуте, укрылись твои отец, брат, жених, еще живые; и ты знаешь, что мне известны имена всех троих. Теперь смотри сюда! Сюда! На перила этого балкона! Здесь я сейчас повешу жениха, брата и отца! Клянусь Богом, который тому свидетель, клянусь Богоматерью Больших Ворот, удостоившей меня победы, и клянусь Равелинским Христом!
Он повернулся к своим флибустьерам, слушавшим его с большим изумлением:
— А теперь, Богу хвала! Братья Побережья, вперед! На редут! Все ступайте за мной, до самого конца.
Он схватил веревку, которой были связаны руки пленницы. И, увлекая ее сам, бросился на плацдарм, с саблей наголо.
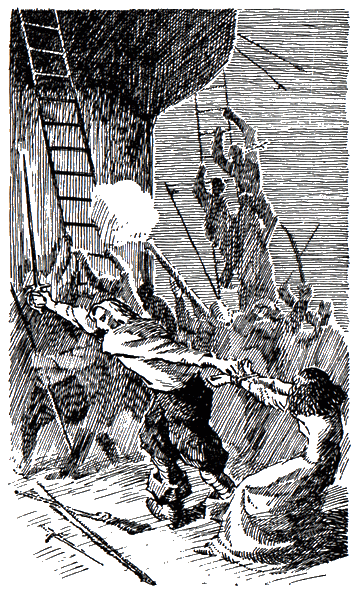
Как ни мало времени потеряли таким образом, в разговорах, неприятель поторопился использовать эту задержку. Ворота редута были теперь открыты. И в то время, как флибустьеры, выскочив из первой половины крепости, бросились, наконец, на плацдарм, бегом направляясь к этим воротам, оттуда вырвался вдруг, ринулся им навстречу отряд. Разразилась сильнейшая мушкетная стрельба, огонь извергали все окрестные бойницы, все амбразуры, все зубцы. Армия Тома, не успев даже ответить, потеряла тут больше народа, чем за все время с начала приступа крепостного вала. Мгновенно завязалась отчаянная борьба. На пороге редута появился старый вельможа, гордого вида, одетый в черный бархат, очевидно, немощный или увечный, несомый в кресле двумя лакеями; громко восклицая, он воодушевлял своих солдат на борьбу. Все они с чрезвычайным подъемом старались изо всех сил. И если бы не бесподобное мужество флибустьеров и их несравненное умение владеть оружием, эти испанцы, наверное, одержали бы верх.
Но, едва опомнившись, Тома и его флибустьеры быстро начали одолевать защитников. Пока у них падал один, шесть врагов валились наземь. И теперь, когда все перемешалось, мушкетеры, стрелявшие сверху, прекратили огонь, боясь задеть своих же соотечественников. Краснобородый, уроженец Дьеппа и авантюрист с Олерона, нещадно колотя направо и налево и рассекая толпу испанцев, уже достигли ворот редута и уцепились за них, чтобы их нельзя было захлопнуть. Мэри Рэкэм, которая дралась еще яростнее, чем мужчины, подскочила к старому вельможе, сидевшему в кресле, и пронзила его свирепым ударом шпаги. Это был сам губернатор Сиудад-Реаля, дон Фелипе Гарсиа. И, видя его мертвым, остальные потеряли мужество. Многие побросали оружие, взывая к милости и пощаде, между тем как другие разбегались во все стороны, впрочем, без особой надежды на спасение.
Тогда победители-флибустьеры стали входить в самый редут. Большинство бросилось на приступ верхних этажей, взбегая по лестнице, взламывая двери и транки, обходя сзади сидевших за амбразурами и бойницами, убивая на ходу и устремляясь дальше. Лоредан-Венецианец, самый ловкий и самый проворный из всех, первый достиг площадки, над которой развевалось королевское знамя Кас-тильи, и, сорвав его, водрузил на его место белый флаг, флаг Флибусты, который он намеренно захватил, обернув его вокруг себя в виде пояса; флаг, который вся армия, едва его увидела, встретила долгим победным кличем. Впрочем, несколько флибустьеров, отделившись от товарищей, остались в нижних этажах, а иным пришла даже мысль спуститься в подземелье. Повсюду перекрещивалось множество сводчатых ходов, со множеством окованных железом дверей. За некоторыми из этих дверей, когда их взломали, оказалось немало врагов — солдат и милиционеров, которые здесь укрылись и не оказали большого сопротивления. Так, сверху донизу, редут переходил в руки авантюристов, и повсюду слышались одни жалобы и мольбы, сменившие недавние воинственные призывы.
Тома Трюбле, несколько стесненный в движениях своей пленницей, которую он все еще волочил за собой, поднялся только в первые этажи и сейчас же остановился, как только ему представилась возможность немедленного боя. Ступеней на пятьдесят выше плацдарма виднелось довольно обширное помещение в виде площадки; сюда выходили три двухстворчатые двери, которые, очевидно, вели в важные комнаты. Увидев это, Тома Трюбле бросился вперед.
Плечом и кулаком он толкнулся в среднюю дверь. Она не поддалась. Это была тяжелая дверь из толстого дуба, сколоченная большими гвоздями. Тома отступил на шаг, озираясь в поисках чего-нибудь вроде шарапа. Ничего не находилось. Но по стенам висели военные трофеи, и среди них было несколько абордажных топоров. В это же время черные невольники, приставленные охранять Хуану, не пожелав ее покинуть даже после того, как Тома лично взялся за нее, подошли к нему, ожидая распоряжения своего господина. Движением руки он приказал им подать ему один из трофейных топоров и вооружиться самим. После чего они все вместе ринулись на непокорную дверь, которая на этот раз не выдержала и разлетелась на куски.
Тотчас же Тома, увлекая Хуану, ринулся с поднятым топором в проделанное отверстие. И оба невольника отважно последовали за ним.
За дверью помещалась узкая и длинная комната, и в этой комнате за столом сидело рядом трое мужчин, вооруженных шпагами и пистолетами. Все трое были великолепно одеты. И как только Тома увидел этих людей, он почувствовал уверенность, уверенность, полную и безусловную, хотя необъяснимую, что это отец, брат и жених Хуаны. Так на самом деле и было. Тогда он двинулся на них. Но Хуана, узнав их сама, вскрикнула так пронзительно, что Тома невольно остановился и повернул голову к своей пленнице.
Это было для него несчастьем, так как на крик Хуаны ответило шесть пистолетных выстрелов. Все три испанца разом вскочили и выстрелили обеими руками. Убитые на месте негры повалились друг на друга. Тома, с простреленным бедром, разодранным левым плечом, все же двинулся вперед и ударил топором с такой силой, что до самой шеи рассек голову первому из трех своих противников. Двое других, отступив на шаг, выхватили шпаги. Тома повернулся к ним, размахивая окровавленным топором. И так грозен был его взгляд, что они, вдвоем против одного и невредимые, сначала не смели на него напасть. Секунды четыре все оставались на месте, неподвижные, в нерешительности.
Но тогда Хуана, выйдя, наконец, из своего оцепенения и увидев, что из простреленного бедра и раненого плеча ее врага струится кровь, что топор дрожит в ослабевшей руке, сочла Тома побежденным. Заранее торжествуя, она разразилась пронзительным смехом. Смех этот подстегнул Тома, как удар кнутом по лицу. Он сразу бросился вперед, взмахнул рукой, ударил. Обе направленные на него шпаги задели его, но не сильно, так как оба противника отскочили назад, уклоняясь от топора. Один из них все же упал с разверстой грудью. Оставался последний. Но Тома, почти обессиленный, уже нетвердо держался на ногах, с трудом поднимая отяжелевший топор, тогда как испанец играл, как соломинкой, своей рапирой, длиной в четыре фута.
Тома, теряя силы, споткнулся. Он готов был упасть, и испанец уже приближался, чтобы воткнуть ему прямо в сердце свой клинок, когда Хуана снова разразилась своим ужасным смехом. И опять Тома подскочил, как умирающий конь, поднятый шпорой. Испанец тщетно сделал выпад: шпага, воткнутая до эфеса, не остановила последнего порыва корсара: топор, быстрый, как молния, оказался проворнее шпаги. Аль-кад — это был он — рухнул первый, мертвым. Тома, умирающий, свалился на его труп. И осталась одна Хуана.
Много времени прошло. Застыв, словно окаменев, Хуана не двигалась с места. С ужасом смотрела она на груду тел этих людей, только что живых и сильных.
Очень много времени прошло. Наконец, пленница решилась подойти, посмела наклониться, посмела рукой дотронуться до этих тел.
Трое уже холодели. Этим ничто уже не могло помочь. Четвертый был еще теплый, не только теплый, — горячий. И это был Тома. Несмотря на свои пять ран, Тома не был еще мертв, только без сознания: и его пожирала горячка.
Тотчас Хуана выпрямилась, приняв мрачное решение. В двух шагах от нее валялся кинжал без ножен, выскользнувший у кого-то из-за пояса. Хуана схватила его, вернулась к Тома…
Но не ударила…
Она занесла руку и бессильно опустила. Неведомая сила, всемогущая, разжала ее стиснутые пальцы, вырвала из них кинжал. Обезоруженная, она глубоко содрогнулась всем телом. Между тем ни гнев ее, ни ненависть не ослабели. Человек, лежавший здесь, взял ее в плен, притеснял, неволил, потом унижал; это он только что убил, на глазах у нее, ее жениха, отца, брата… Она ненавидела его… Да. Но убить его, нет… она не могла…
Она не могла… Он слишком был силен, слишком храбр, слишком прекрасен, пожалуй, лежа так, в крови, победителем, на этой груде вражеских трупов…
И вдруг Хуана опустилась на колени перед этим человеком — перед Тома-Ягненком и, разрывая его одежду, запачканную большими красными пятнами, разрывая также собственное платье тонкого полотна… стала перевязывать эти пять глубоких ран…
KOPCАP

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая
КОРОЛЬ
I
Через шесть месяцев после захвата Сиудад-Реаля флибустьерами Тома-Ягненка Луи Геноле — бывший на «Горностае» помощником того Тома, который тогда был всего лишь Трюбле, — как-то вечером снова пристал к берегам Тортуги на совершенно новом корсарском фрегате, доставившем его прямо из Сен-Мало.
Как только отдали якорь, Луи Геноле с беспокойством навел подзорную трубу: «Горностай» ли это все еще там покачивается на плехтовом канате? И все ли цело и невредимо на этом жалком суденышке, так давно уже разоруженном и заброшенном? Ибо Луи Геноле так думал.
Но приятно было его удивление: «Горностай», стоявший все на том же самом месте, принарядился. Рангоут его был в полном порядке, а корпус заново окрашен. На кормовом флагштоке развевался великолепный малуанский флаг; и это было еще не все: на топе грот-мачты красовался еще один горделивый знак — знак своеобразный, впрочем. Луи рассмотрел большой кусок флагдука ярко-красного цвета, заканчивающийся двумя косицами, а посередине что-то вроде барана или ягненка, как будто вытканного золотом.
— Это что ж такое? — спрашивал себя Геноле, тараща глаза.
Потом он пожал плечами. Долго ли узнать, что это такое, — стоит только съездить посмотреть.
— Вельбот! — приказал он.
И прежде даже, чем нанести, согласно этикету, визит господину д’Ожерону, по-прежнему управлявшему от имени короля Тортугой и побережьем Сан-Доминго, Луи Геноле отправился с визитом к Тома Трюбле.
* * *
Тома Трюбле, Тома-Ягненок, ждал этого посещения, стоя у выхода к трапу и топая ногами от нетерпения. Он еще издали заметил приближение своего бывшего помощника, и сердце его билось, так как он не переставал горячо любить его. Как только Луи Геноле взобрался по трапу, он схватил его и стал обнимать и целовать изо всех сил. Так что у того дух захватило, и он даже не сразу мог вскрикнуть. Наконец, он вскрикнул. И не без причины! Тома, этот Тома, которого он снова видел, Тома, переменившийся с головы до ног. Он производил впечатление родовитого вельможи: в шляпе с тройным галуном и гигантским красным пером, в пышной одежде из синего бархата, шитой золотом по всем швам, каковая одежда спускалась ему ниже колен. В довершение всего два невольника-метиса в костюме ливрейных лакеев, точно две тени, следовали за упомянутым вельможей. Разинув рот, Луи разглядывал своего бывшего начальника. И для первого приветствия у него не нашлось ничего сказать, он только воскликнул:
— О, брат мой, Тома! Ты прямо великолепен и наряднее, чем в светлое воскресение!
— Ба! — молвил Тома, хохоча во все горло. — Разве ты не знаешь, брат мой, Луи, что в твое отсутствие, — которое, видит Бог, показалось мне длиннее сорока постов, вместе взятых, — я, Тома, стал очень богат и очень славен? Ты только послушай! Адмирал флота, генерал армии, губернатор города… словом, чуть ли не принц или король!.. Я всем этим был!.. И доказательство тому — мое монаршее знамя, которое еще развевается вон там… Взгляни!.. Да, всем этим я был, брат мой, Луи: император, почитай! Но люблю тебя, тем не менее от всего сердца!
Он снова обнял его с такой нежностью, что добрый Геноле, затисканный и зацелованный, почувствовал, что все беспокойства и сомнения покидают его сердце.
* * *
— …Итак, — сказал в заключение Тома, развернув от начала до конца свою изумительную повесть, — итак, город был, можно сказать, взят, я же лежал недвижим, почти мертвый. Тогда-то, брат мой Луи, поверишь ли, девка сама, хоть я и был в ее власти, не только меня не прикончила, как я бы, наверное, сделал на ее месте, но перевязала мои раны! Мало того: перевязав их, она стала меня лечить, ухаживала за мной, глаз не смыкала, пока я спал и бредил, — одним словом, вылечила меня… И клянусь тебе, что никакая сиделка или сестра милосердия не была бы так искусна и внимательна! Так что вот как дела теперь обстоят: все худое между нами позабыто, и воцарилась любовь.
— Бог ты мой! — пробормотал изумленный Луи Геноле.
Он невольно перекрестился. Приключение казалось ему и необычайным, и непонятным, что-то тут было нечисто!
— А добыча, ты себе и представить не можешь! — продолжал корсар. — Ею нагрузили, кроме «Горностая», еще восемь больших судов, захваченных нами в самом порту Сиудад-Реаля, из которого они не посмели выйти — трижды глупые трусы! — боясь, что наш фрегат настигнет их в открытом море… Из этих-то восьми кораблей четыре, самых прочных и лучше всего построенных, были специально предназначены для металла как в слитках, так и в чеканке. Серебром нагрузили целых три корабля, золотом, камнями, кружевами и дорогими тканями — четвертый. Наш венецианец, Лоредан, парень догадливый, захватил среди багажа своего большие весы, которые нам тут очень пригодились… Брат! Чистое золото весило двадцать тысяч шестьсот марок
[62], серебро — шестьсот тысяч, даже больше! Я уж не говорю тебе о какао, кошенили, кампешевом дереве, разной мануфактуре, муке, оливковом масле и об отличном вине, которого мы забрали восемьсот бочек и которое, конечно, очень помогло мне вернуться к жизни, так как в течение всего грабежа я, как уж говорил тебе, был почти что при смерти, и подруга моя, Хуана, ни днем, ни ночью не отходила от моего изголовья. Однако же это не помешало Флибусте поступить по отношению ко мне благородно: старый товарищ, Краснобородый, вице-адмирал флота и генерал-лейтенант армии, стало быть, главный после меня начальник, заявил в совете во время дележа, что ввиду блестящей победы, мною подготовленной и одержанной, а также ввиду тяжких ранений, полученных мною в бою, недостаточно вознаградить меня пятью долями, причитающимися мне по договору; он полагает справедливым уделить мне еще пять. Что все и одобрили громкими криками. Так что в день моего выздоровления — а мы уже тогда две недели как вернулись на Тортугу — несколько человек явились ко мне с торжественным визитом и выкатили мне три славных бочонка, полных золота, а в этих бочонках побрякивало и позванивало семьсот двадцать шесть тысяч французских ливров да, кроме того, поднесли мешочек с такими жемчугами и драгоценными камнями, каких нет и у его величества нашего короля! С того дня Хуана носит на шее ожерелье из тридцати бриллиантов; а господин д’Ожерон, как только увидел эти бриллианты, так сейчас же предложил мне за них, если я соглашусь их продать, тридцать тысяч экю!
— Бог ты мой! — восторженно повторил Луи Геноле.
Затем он раскрыл рот, как бы собираясь заговорить, но снова его закрыл, ничего не сказав. Тома, впрочем, и не ждал ответа. Проворно вскочив, — они разговаривали, сидя за столом, в той самой кают-компании «Горностая», где столько раз и прежде беседовали по душе, — Тома подбежал к шкафчику и достал два стакана и кувшин.
— Черт возьми! — воскликнул он, — вот то самое вино, которое мы добыли в Сиудад-Реале. Отведай-ка его и скажи свое мнение. Я готов подохнуть, если нам теперь не подобает выпить за наше свидание и за возвращение на эту Тортугу!
Он уже наполнил два стакана до краев. Луи Геноле взял свой стакан и поднял его:
— Я, — сказал он, — я хочу выпить за твое возвращение к нам, Тома, за твое возвращение в Сен-Мало!
И он до капли осушил стакан.
* * *
Затем Луи Геноле поведал свои собственные похождения. Они не были сложны. Окончив рассказ, он заключил его следующими словами:
— Еще до того, как ты взял Сиудад-Реаль, и даже до того, как ты захватил наш галион, твои подвиги широко раскрыли тебе старые ворота нашего города. Конечно, Кер-донкюфы долго кричали о мести и отрицали, что их Винцент пал в честном поединке. Но болтовню их скоро уняли. По мере того, как к нам на родину доходили слухи о всех твоих сражениях и о всех твоих захватах, по мере того, как у нашего арматора, доброго кавалера Даникана, сундуки наполнялись золотом, которое он получал по твоим векселям, все лживые наветы стали заглушаться, а твоя доблесть начала входить в поговорку. С этой минуты было решено и признано, что тебя можно обвинять, в худшем случае, в неосторожном ударе шпагой. А потом, когда я сам возвратился в Доброе Море на нашем галионе, весь народ громко сокрушался о твоем отсутствии: тебя ожидало три сотни славных ребят, и они плакали горькими слезами, что не могут понести тебя на руках.
— Ай-ай-ай! — молвил Тома не без гордости.
— Также и Кердонкюфы не только не станут к тебе придираться, но почтут за удовольствие стать твоими друзьями, можешь быть уверен: а еще приятнее им будет с тобой породниться, если только ты согласишься жениться на Анне-Марии; но ведь ты, кстати, еще и не знаешь, что случилось…
— Молчи! — прошептал Тома, вдруг перебив его резким жестом, которого Геноле сначала не понял.
* * *
В это время открылась дверь капитанской каюты, и из нее вышла прекрасная дама.
Это была Хуана, собственной персоной. Она появилась разодетая и разукрашенная самым богатым образом: в юбке из великолепной переливчатой тафты, в парчевой мантии, приоткрытой над кофточкой из тонких фламандских кружев. Что же касается лица, то Геноле должен был откровенно признаться, что никогда не видал ничего, в чем была бы хоть половина этого блеска и очарования. А стан был поистине станом королевы.
— Ага! — воскликнул Тома, сразу повеселев при виде ее. — Вот и она, легка на помине! Подойдите, моя радость, и позвольте вам представить моего брата и лучшего друга, о котором я столько раз вам говорил. Это он самый, Луи Геноле, только что вернувшийся из нашего Сен-Мало.
Луи немедленно отвесил учтивейший поклон, удивляясь про себя, что Тома научился выражаться с таким изяществом. Дама же отвечала реверансом. Непринужденным тоном, как будто говоря о чем-то заранее условленном, о чем-то бесспорном и давно предрешенном:
— Ах, я в восторге, — сказала она, — что вижу вас, и мы поистине с нетерпением вас ждали… Привезли ли вы нам добрые вести, на которые мы рассчитываем? И скоро ли мы сможем, уже без затруднений, отправиться вместе в ваш город, который мне так хочется узнать и полюбить?
II
— Итак, — спросил попозже Луи Геноле, — ты забираешь эту испанку с нами на родину?
— А что же делать, как не брать ее с собой? — ответил Тома Трюбле, по прозванию Ягненок.
И ни тот ни другой больше не разжимали рта на этот счет, прекрасно зная оба, что отныне слова ни к чему и что тайная воля, очевидно более сильная, чем воля их обоих, — даже их троих, — направляет их поступки.
* * *
Действительно, возвращение было близко. Еще неделя, и «Горностай», наполнив паруса, радостно поплывет к Сен-Мало. Луи Геноле уже упорно работал над вооружением. Предусмотрительный, — настоящие моряки, пожалуй, предусмотрительнее самого провидения, — он позаботился привезти двойную команду на новом фрегате из Франции. Новый фрегат мог бы продолжать каперство в Вест-Индских водах, на преуспеяние кавалера Даникана, его арматора, тогда как «Горностай» мог вернуться, увозя обратно вместе с Луи, снова в качестве помощника, также и Тома, снова в качестве капитана. Луи согласился еще раз покинуть свою милую Бретань, где теперь благодаря звонким денежкам, добытым на галионе и в прочих местах, он обзавелся собственным домишком и земелькой, исключительно ради того, чтобы привезти домой Тома. Тщетно сметливый судовладелец, по достоинству ценивший таких ребят и очень бы желавший сохранить для себя этого нового капитана, почти уже знаменитого Луи Геноле, соблазнял его, как только мог, всякими обещаниями, лестными и заманчивыми. Луи Геноле согласился лишь на то, чтобы отвести на Тортугу новый корабль, оставить его там в распоряжении другого капитана, нарочно для того принятого на судно, и сейчас же вернуться назад на старом «Горностае». Не рассчитывая на большее, кавалер Даникан одобрил этот план. К тому же он был слишком порядочный человек, чтобы не сделать от всего сердца удовольствие этим молодцам, Трюбле и Геноле, которые так ему помогли — он сам это говорил и всюду подтверждал — стать тем, чем он был в настоящее время: самым богатым из всех богатых малуанских арматоров.
— Как же это так, милейший Луи, — заметил он все же, — ты дважды пересечешь воды океана с той только целью, чтобы вернуть оттуда нашего Тома? Тебе не кажется, что он и один сумел бы вернуться?
— Конечно, господин, — ответил Луи Геноле, комкая в руках свою широкополую шляпу, — он, конечно, прекрасно бы сумел. Но я дал клятву, и если я не поеду, то нарушу ее.
Действительно, эта далекая и странная Тортуга внушала ему большие сомнения. Нельзя было быть спокойным там за тело и душу; и для одинокого Тома это, бесспорно, было нежелательным местопребыванием. Луи Геноле в течение своего двойного путешествия туда и обратно не спал спокойно и двух ночей в неделю, беспрестанно тревожимый тысячью сновидений, в которых с бедным Тома случались тысячи событий, одно страшнее другого. В конце концов, то, которое с ним произошло на самом деле, было не лучше.
* * *
Однако же Луи Геноле ревностно работал, и под его руководством «Горностай» быстро оживал. Новый экипаж, малуанский от первого до последнего человека, был вполне удовлетворителен как своей дисциплиной, так и старательностью. Это все был народ мирный, набранный специально для того, чтобы привести фрегат домой, и который, не будучи причастен к корсарству, отнюдь не жаждал каких-нибудь приключений. Это были не то, что флибустьеры, и Тома с некоторым презрением относился к этим добродушным ребятам, простоватым и покладистым бретонцам, которые беспрекословно исполняли все приказания. Луи на это не жаловался, так как это давало большой выигрыш во времени, позволяя ему закатывать им двойные наряды, увеличивать число береговых работ, заставлять их трудиться и в трюмах, и на мачтах, одним словом, без зазрения совести пользоваться этими незлобивыми матросами и гонять их до бесчувствия, чтобы в самом спешном порядке приготовить все для предстоящего отхода.
Что касается Тома, то он в этом отношении не проявлял никакого беспокойства и, предоставляя другим полную свободу действий, проводил последние дни своей американской жизни в приятных прогулках по всему острову, а последние свои ночи — в еще более приятных кутежах, на которые созывались авантюристы всей округи. Хуана не пренебрегала этим веселым обществом и охотно председательствовала на ночных бдениях. Кичась своими богатыми нарядами, она находила удовольствие, соединенное, правда, с тайным презрением, в обществе многочисленных дам, никогда не упускающих случая присоединиться к флибустьерам, пока у тех есть деньги, и превосходно умеющих выманивать большую часть этих денег в свою пользу; откуда и обилие драгоценностей и красивых платьев. Захват Сиудад-Реаля пышно набил все карманы; так что на Тортуге царила изумительная роскошь — на несколько недель. И все это тратилось на пьянство и распутство. Целые океаны вина стекали алыми волнами на шелка, бархат, кружева и золотые вышивки. Сюда примешивалась также и игра, и нередко, в силу чудесных особенностей ландскнехта
[63], флибустьеры усаживались за карточный стол богатыми и вставали из-за него бедняками. Что, впрочем, мало их трогало, раз море-то, в конце концов, оставалось на месте, а на море — неприятельские корабли; значит, все проигравшие неминуемо должны были вернуть свой проигрыш либо на зеленом поле, либо на поле брани. Следствием этого являлась самая яростная карточная игра среди самых царственных оргий…
Один лишь Геноле не принимал ни в чем участия и, упорно оставаясь на фрегате, с еще большим усердием старался ускорить его подготовку, с каждым днем подвигавшуюся вперед…
* * *
Наконец, наступил час отхода, которому надлежало быть последним в эту долгую и плодотворную кампанию «Горностая». Лето господне 1677-е близилось к концу. А Тома и Луи, капитан и помощник, осенью 1672-го вместе покинули Сен-Мало, отправляясь искать богатства и славы в страну Флибусты. Правда, богатство и славу они нашли. И это было достойной наградой за столько лет тяжелой работы…
Час, наконец, наступил. Это было в исходе прелестного октябрьского вечера; а октябрь на Антильских островах в сто раз светлее и теплее, чем в наших краях июнь, июль и август. Уже накануне Тома и Хуана начали окончательно прощаться со всеми своими друзьями и товарищами по войне и веселью. Прощание это было долгое. Луи Геноле с большим трудом удалось прекратить его, так как он решил, что откладывать отход больше нельзя.
Наконец, после некоторых затруднений, вельбот все же отошел от берега и высадил на корабль капитана с его подругой. После чего помощник поспешно принял командование, поднял последний якорь, заставил выбрать все шкоты, поднять все паруса, обрасопить все реи, и наконец, взял курс на норд-вест с тем, чтобы обогнуть Багамским проливом острова Люкайо и достигнуть таким образом попутных ветров и течений, ведущих из Америки в Европу. «Горностай», вполне послушный своим брасам, булиням, шкотам и галсам, стал весело разрезать спокойные воды, тогда как на западе экваториальное солнце, готовое спуститься за горизонт, зажигало пожар в небе, на земле и на море своими светозарными лучами.
Стоя на ахтер-кастеле, Тома и Хуана наблюдали этот торжественный заход царственного светила. По правому борту, на потухшем уже востоке, Тортуга раскинула свои берега, зеленее изумруда. Вдали, среди покрывающихся ночною тьмой нагорных лесов, разбросанные там и сям жилища всеми своими ослепительными окнами отбрасывали к западу, подобно молниям, последние окровавленные солнечные стрелы. Это было редкостное зрелище. И Хуана, судорожно ухватившись обеими руками за планширь, жадно смотрела вдаль.
Закончив свой маневр, Луи Геноле подошел к капитану и, радуясь тому, что находится в пути, в приятном обратном пути, ударил его по плечу. Тогда Тома Трюбле, по прозванию Ягненок, принялся хохотать и протянул руку к удалявшемуся уже берегу:
— Брат мой, Луи, — сказал он, — поверишь ли? Мне жалко расставаться со всем этим.
Но Хуана, продолжавшая любоваться зрелищем, судорожно повела плечами и, как бы с усилием оторвавшись от планширя, повернулась к своему любовнику:
— О, — молвила она, — мы вернемся!
III
Целых две недели лавировал «Горностай», ложась то правым, то левым галсом поперек Багамского пролива, который далеко не широк и отнюдь не безопасен, так как с севера он ограничен множеством подводных рифов, а ветры в нем крайне непостоянны. Луи Геноле, прошедший его уже раз из конца в конец, во время отвода во Францию некогда захваченного галиона, к счастью, знал все его опасности и изгибы. Он и проявил себя хорошим лоцманом, и благодаря его бдительности не случилось никакой беды. В конце концов опознали мыс Песчаный, которым заканчивается испанский полуостров Флорида, и на семнадцатый день плавания миновали его. После чего Луи Геноле сейчас же повернул к северу, чтобы должным образом обогнуть последние Вест-Индские острова, — Большой Абако и Большую Багаму.
Цвет моря тогда переменился и из зеленого сделался синим. Матросы удивились этому. Но Луи Геноле посмеялся над ними и порадовался, хорошо зная, что это примета, предвещающая близость удивительно теплого течения, проходящего через Атлантический океан от американских берегов до испанских и английских земель. «Горностай», понятно, почувствует себя в нем как нельзя лучше.
Четыре дня спустя ветер внезапно перешел с востока на запад и сильно посвежел. Чистое небо покрылось густыми облаками, и порывистые шквалы следовали друг за другом без перерыва. Луи Геноле закрепил брамселя, подобрал бизань, взял рифы. И снова порадовался. Все эти перемены происходили в свое время и в таком порядке, как он это предвидел. Под одними марселями, нижними парусами и блиндом «Горностай» шел в полный бакштаг скорее, чем когда-либо ходил, гоняясь на всех парусах за богатым испанским или голландским кораблем. Вскоре прекратилась жара, потом все море покрылось туманом.
Малуанцам, полной грудью вдыхавшим влажный бриз, показалось, что Бретань уже близка…
Однако же много еще дней протекло… Все-таки каждый вечер Полярная Звезда поднималась капельку повыше над горизонтом…
* * *
Между тем, Тома Трюбле, по прозванию Ягненок, нисколько не беспокоился ни о каких-то там течениях, ни о каких-то там бризах, и еще меньше о звездах, полярных или тропических. Тома Трюбле, по прозванию Ягненок, пока помощник его и команда работали с полным рвением над тем, чтобы обеспечить фрегату хорошее плавание и изготовиться ко всяким случайностям, сам довольствовался тем, что пил, ел, спал, а главное предавался самым сладостным утехам в обществе подруги своей, Хуаны. Луи Геноле, с болью и грустью отмечая эту перемену в привычках и характере того, кого он некогда знавал столь деятельным и сильным как в работе, так и в сражениях, не мог не видеть здесь влияния таинственного колдовства и всякий раз крестился при виде испанки; он сильно подозревал ее в том, что она-то и была той проклятой колдуньей, которая навела эту порчу…
По правде говоря, тут, верно, было колдовство, но колдовство скорее небесного, чем дьявольского происхождения, раз дело шло просто-напросто о любви, о любви пылкой, страстной и ненасытной, которую утолить было невозможно: Купидон безо всякого страха и почтения глубоко и прямо вонзил свои стрелы в почти невинное сердце корсара, сердце, бесспорно лучше вооруженное против целой вражеской эскадры, чем против карих глаз и белой кожи прекрасной женщины, теперь покорной и влюбленной, влюбленной страстно, и опытной в утонченных ласках.
* * *
Еще много дней прошло…
* * *
Наконец Луи, заставлявший ежечасно бросать лот, решил, что земля должна быть недалеко; а взяв высоту Полярной, он даже объявил, по окончании вычислений, что землей этой, вероятно, является остров Уэссан (Эсса по нижне-бретонски). После чего много матросов заспорило о том, кому забраться в «воронье гнездо», чтобы добиться парусиновой рубахи, которую капитан обязан дать тому, кто первым усмотрит французский берег при возвращении из кампании или каперства. Но никто из них не добился упомянутой рубахи, так как судьба уготовила «Горностаю» пристать вовсе не к Уэссану и еще менее того в Сен-Мало…
Действительно, под утро пятьдесят шестого дня, считая с того времени, когда снялись с якоря у Тортуги, — а пятьдесят шестой этот день приходился в канун сочельника, — сигнальщик заметил вдруг много парусов, видимых прямо по носу; ему казалось, что паруса эти идут полным ветром, держась на ост, подобно самому «Горностаю». Луи Геноле, уверенный в скорости своего фрегата, — тем более, что они быстро нагоняли замеченные корабли, — не побоялся приблизиться к ним. Видя это, один из них отделился от других и лег в дрейф, как бы поджидая фрегат. Вооружившись подзорной трубой, Луи легко узнал королевский корабль — короля Франции — как по аккуратному такелажу и двойной крытой батарее, так и по прекрасному белому с лилиями флагу, поднятому на топе грот-мачты. Через некоторое время удалось прочесть название этого линейного корабля — он именовался «Отважным»; потом разглядеть стоявшего у гакаборта с рупором в руке гордого дворянина, который, казалось, командовал королевским экипажем.
Малуанский фрегат лег в свою очередь в дрейф, как только сблизились настолько, что можно было хорошо слышать друг друга. И стоявший с рупором начал говорить, задавая обычные на море вопросы:
— Эй, на фрегате!.. Кто вы? Откуда и куда идете?
На что Луи Геноле отвел, не таясь. И имя Тома Трюбле произвело хорошее действие, так как дворянин, услышав это имя, сделался учтивее, чем это бывает обычно у господ офицеров королевского флота, когда они опрашивают обыкновенных корсаров.
— Я, — крикнул он, — я кавалер д’Артелуар, командир его величества на этом корабле в сорок четыре орудия. Но вы-то, разве вы не знаете, что ваш Сен-Мало тесно блокирован голландскими эскадрами, которые заняли весь Ла-Манш, от Уэссана до Па-де-Кале? Так что вот мы, два командира королевского флота и командующий эскадрой, сопровождаем этот караван из тридцати двух купцов, чтобы ввести его в любой французский порт, если есть хоть один, свободный от неприятельской блокады.
Очень изумленный, почти сбитый с толку такими новостями, Луи Геноле хранил молчание. Слова кавалера д’Артелуара благодаря рупору звучали громко и ясно, и вся команда «Горностая», столпившаяся позади помощника, слышала все. Луи, не поворачивая головы, услыхал встревоженное перешептывание.
Кавалер д’Артелуар снова поднес рупор к губам.
— Я не думаю, — закричал он снова, — чтобы вам удалось прорвать неприятельскую блокаду и войти без помехи в Сен-Мало. Но вы можете воспользоваться караваном и его прикрытием. Нас — три корабля его величества, — «Француз», под флагом господина де Габаре, командующего нашей эскадрой, «Отважный» и «Прилив». Сто шестнадцать пушек. Этого хватит, с божьей помощью!
Тут на плечо Луи Геноле опустилась тяжелая рука. Тома Трюбле, по прозванию Ягненок, вышел из ахтер-ка-стеля, привлеченный необычайным шумом. Он поклонился капитану его величества, и перо его фетровой шляпы довольно горделиво заколыхалось под дуновением бриза. Затем, крича так громко, что его чудесно слышали на обоих кораблях, несмотря на большое еще расстояние и несмотря на то, что он-то никаким рупором не пользовался:
— На корабле! — воскликнул он. — Господин кавалер, я, Тома, капитан, охотно принимаю ваше любезное предложение и присоединяюсь к вам, конечно, не для того, чтобы меня защищали, а чтобы самому защищать; чтобы защищать вместе с вами ваш караван и защищать также честь короля нашего Людовика. Будет сто тридцать шесть орудий вместо ста шестнадцати. Этого хватит, с божьей помощью!
И он гордо надел шляпу, в то время как кавалер д’Артелуар снимал свою, низко кланяясь Тома.
IV
Жестокий бриз дул с веста. Большие волны цвета морских водорослей бежали по морю, сотрясая корабли и подвергая их сильнейшей качке, боковой и килевой. Тяжелые тучи покрывали небо, над водой стлались полосы тумана. На востоке бледная заря боролась с темной еще ночью.
— Бог ты мой! — пробормотал Луи Геноле, осматривая с мостика горизонт. — Если только погода сейчас не прояснится, голландским часовым не удастся нас заметить. Но самим-то нам удастся ли заметить вход в Гавр, весь усеянный мелями и банками?
Он некоторое время колебался, потом, решившись вдруг, спустился с мостика в кают-компанию и кулаком постучал в дверь капитанской каюты, где вместе спали Тома и Хуана.
* * *
Это было в рождественское утро. И уже два долгих дня караван, окруженный тремя королевскими кораблями и «Горностаем», подобно блеющему стаду, окруженному четырьмя овчарками, — два дня пробирался караван среди неприятельских крейсеров, пользуясь попутным ветром. В это лето господне 1677-е, подходившее к концу, французские эскадры, под началом господ Вивона и Дюкена, начисто, правда, вымели все неприятельские суда из всего Средиземного моря; впрочем, Средиземное море недурно почистили уже в 1676 году наши победы при Агосте и Стромболи, где даже грозный Рэйтер нашел свой конец. В Антилах, господин граф д’Эстре, командовавший силами Атлантического океана, также выиграл под Тобаго большое сражение. Но эти-то победы и лишали кораблей все наши северные и западные берега. И адмиралы Соединенных Провинций, уже победившие нас года четыре тому назад при Вальхерене, пользовались этим, чтобы повторить свой старый успех. Шестьдесят их кораблей крейсировали теперь по Ла-Маншу, и нелегко было господам де Габаре д’Артелуару и де Росмадеку — так именовался командир «Прилива» — отвести в надежное место свой караван под носом у неприятеля, столь чудовищно превосходившего их числом.
Командующий эскадрой после совещания, устроенного им на своем корабле с остальными командирами, взял курс прямо на норд-ост, чтобы поскорей приблизиться к английскому берегу и затем пойти вдоль него на расстоянии пушечного выстрела, — по всем признакам надо было думать, что неприятельские крейсера расположились во французских водах; маневрируя таким образом, караван судов мог надеяться, что останется до последней минуты незамеченным и, пожалуй, захватит блокирующих врасплох, неожиданно прорвав их блокаду. Что касается места назначения, то господин де Габаре решил достигнуть, если возможно, Гавра: действительно, порт этот лежит у открытого и доступного моря и ограждается мелями, которые глубокосидящие голландские корабли стараются обходить подальше; кроме того, большие приливы там бывают чаще, чем во всех других портах Ла-Манша. Луи Геноле, осведомленный об этом выборе, со своей стороны, весьма его одобрил. Что же касается Тома, то он, очевидно, еще не знал о нем, так как ни разу не выходил из своей каюты после переговоров с командиром «Отважного».
Но в это время господин де Габаре дал сигнал каравану и прикрытию, с помощью белых и красных огней, сразу повернуть на восемь румбов вправо. Это доказывало, что Гавр уже близок. И Луи Геноле, не сомневаясь в этом, не пожелал терять ни минуты и побежал предупредить капитана, который, без сомнения, как ни беспечен он был до сих пор, должен был принять горячее участие в сражении, буде оно случится…
Вот почему Луи Геноле стучал теперь кулаком в дверь каюты, где вместе спали Тома и Хуана.
* * *
Почти тотчас же Луи услыхал, как в запертой каюте засуетились; затем, меньше чем через минуту, раскрылась дверь, и появился Тома. Одетый в одну лишь сорочку и штаны, он и в этом небрежном наряде проявлял пышное великолепие: сорочка его была вся разукрашена кружевами, а штаны расшиты наподобие хоругви. Как бы то ни было, узнав Луи, он вышел из каюты. И даже закрыл за собой дверь, переступив порог.
— В чем дело? — спросил он, глядя на Геноле.
— Сражение, надо полагать, близко.
— А! — молвил Тома.
Несколько секунд он оставался в раздумье. Затем, пожав плечами, круто повернулся, раскрыл дверь, вошел в свою каюту и больше из нее не выходил…
* * *
Вернувшись на мостик, опечаленный своим одиночеством, Луи Геноле поборол гнетущую тоску, сжимавшую его сердце. Кругом за это время ничего не изменилось. Конвоируемые суда шли в беспорядке под всеми парусами, а прикрывающие их корабли, боясь опередить купцов, которые никогда не бывают такими ходоками, как военные корабли, взяли на гитовы блинд и брамселя. «Горностай», еще быстроходнее, чем все три королевских корабля, поспевал под одними марселями.
Не видно было ни неприятельских судов, ни берега. Полосы тумана по-прежнему стлались над водой, и бриз, хоть и сильно задувал, не рассеивал их, так как стоило отойти одной, как набегала другая. Однако же, как ни редки были просветы, они попадались и длились достаточно долго, чтобы приоткрыть порой кусочек горизонта. И Луи неизменно торопился направить туда свою подзорную трубу, с которой он не расставался.
— И на этот раз ничего, — пробормотал он, снова поглядев.
Особенно на западе силился он что-нибудь увидеть, вопреки туману. Это была наветренная сторона, и Луи, взвешивая вероятнейшие возможности атаки, боялся, как бы голландские крысы не пришли отсюда.
— Море здесь пошире, — думал он, — так как оно простирается отсюда до Котантена по крайней мере на сорок пять — сорок восемь миль
[64]. А сорока пяти — сорока восьми миль глубокого моря хватит, чтобы разместить не одну эскадру. Если бы двенадцать-пятнадцать кораблей напали на нас с той стороны, то, идя полный бакштаг, они имели бы, кроме того, выигрыш в направлении ветра…
Вдруг он прервал свои вычисления.
— Ого! — проговорил он вслух, — это что же такое? Батюшки, сколько флагдука! Эти господа из королевского флота не могут и часа прожить, не расцветивши флагами свои фалы!
Головной корабль господина де Габаре — «Француз», шедший на четверть мили впереди, — поднял действительно много флагов, подавая сигналы своим двум конвоирам, «Отважному» и «Приливу». В то же время он дал три орудийных выстрела, белоснежные дымки которых смешались с грязным туманом. И, очевидно, это означало весьма решительное приказание, так как Луи Геноле увидел, как оба корабля, таким образом призываемые, сейчас же подняли все паруса и прямо направились к флагману.
Неуверенный в том, какое положение надлежит занять ему самому, Луи увидел, что к нему подходит очень кстати «Прилив», который собирался пройти за кормой «Горностая», но подошел к нему довольно близко, чтобы поскорее выбраться на ветер. На мостике стоял сам командир, кавалер де Росмадек. Заметив Луи Геноле, он поднес рупор к губам:
— На корсаре!.. Голландцы здесь на вест-зюйд-весте. Мы завяжем с ними бой, чтобы выиграть время. Вы же, конвоируемые суда, уходите и правьте прямо на зюйд. Гавр уже недалек!
«Прилив» уже поспешно удалялся. Луи проводил его взглядом. Это был гораздо более слабый фрегат, чем «Француз» и «Отважный». Те были линейными кораблями, и один вооружен был сорока семью, другой — сорока четырьмя пушками. На «Приливе» же их было всего двадцать четыре, и меньшего калибра. «Горностай, со своими двадцатью медными орудиями, почти не уступал ему.
— За кого он нас принимает, этот франт? — заворчал Луи, крайне обиженный. — Не воображает ли он, что больше нас понюхал пороху? И знает он или нет, почему Тома Трюбле, всего лишь третьего дня, согласился присоединить нашего «Горностая» к королевской эскадре?
Так рассуждая, он подошел к рулевому. Затем, взявшись сам за управление, он положил руль под ветер и приказал вытянуть шкоты. Тотчас же послушный «Горностай» лег бейдевинд и также стал быстро приближаться к флагманскому кораблю.
* * *
Еще раз покинув мостик, возвратился Луи Геноле в кают-компанию. Он даже вплотную подошел к двери капитанской каюты, но постучать в нее не решился и, наконец, не слыша в каюте ни звука, повернулся и на цыпочках удалился.
* * *
Но в ту самую минуту, когда он поднимался по трапу ахтер-кастеля, слух его поразил раскат грома, раздавшийся вдалеке. И Луи, как пришпоренный, подскочил и в тот же миг снова очутился на мостике. Тут, озираясь во все стороны, он сначала не заметил неприятеля. Но зато он увидел, что флагманский корабль окружен облаком дыма, так же как и присоединившийся уже к нему «Отважный». Очевидно, голландцы подходили, и оттуда их уже заметили…
* * *
В шести кабельтовых впереди «Горностая», «Прилив» продолжал идти тем же галсом, чтобы стать за линейными кораблями. Луи, в ожидании событий, не менял галса.
Событие наступило. Из редеющего, полупрозрачного тумана, скользившего широкими спиралями, почти сразу показалось одно, два, три, шесть, восемь, девять высоких белесоватых очертаний, подобно ужасным призракам, внезапно восставшим из моря: голландские корабли. Не успел Луи их хорошенько сосчитать, как уже пять судов бросилось влево навстречу двум кораблям короля Франции, тогда как остальные четыре, сделав поворот вправо до фордевинда, в беспорядке, каждый сам за себя, выбирая по собственному желанию курсы и маневры, бросились все четверо вперемежку наперерез отступавшему каравану.
Но раньше, чем это сделать, этим четырем голландцам — охотникам за беззащитными купцами — надо было все же развязаться с более благородным, хотя почти таким же слабым противником: действительно, маленький фрегат «Прилив» храбро бросился наперерез, преграждая путь голландским кораблям. Но между фрегатом и четырьмя кораблями было такое же соотношение, как между тщедушным ребенком с деревянной саблей и пращей и четырьмя здоровыми солдатами, драгунами или мушкетерами в полном вооружении. Четырем голландцам, боевым судам с тремя батарейными палубами, кавалера де Росмадека с его ореховой скорлупой хватило бы лишь на закуску.
Надлежало ли «Горностаю» путаться в это заведомо гиблое дело, не лучше ли было присоединиться к флагману, который по крайней мере не преминет оказать решительное сопротивление своим противникам? Луи Геноле колебался.
Но в это время с той и с другой стороны начался бой. И Луи, храбрый как всегда, сейчас же забыл всякие расчеты и всякую осторожность и инстинктивно бросился к орудию, к ближайшему орудию. Приблизительно в полутора милях «Француз» и «Отважный» сражались правым лагом; «Прилив» был не дальше мили прямо по носу. Подняв все паруса, «Горностай» бросился на помощь королевскому фрегату, который уже слабел под огнем своих страшных противников.
V
— Правый борт, товсь! — скомандовал Луи Геноле, подойдя на четыреста сажен к неприятелю.
Левобортные канониры оставили свои орудия и побежали на помощь к товарищам у правого борта, чтобы ускорить работу.
— По мачтам! — скомандовал Луи.
Стрельба на потопление линейных кораблей не стоила выеденного яйца: жалкие снаряды «Горностая» лишь оцарапали бы эти корпуса из толстого дуба, слишком крепко построенные и обшитые. Тогда как удачный залп по мачтам, направленный чуточку повыше борта, разом сбрасывая на палубу мачты, реи, паруса и снасти, с одного маху превращает могущественный трехпалубный корабль в развалину.
— А теперь, ради всех святых, целить метко, комендор!
Луи Геноле побожился. Это бывало так редко, что команда заволновалась.
Уже головной голландский корабль был на расстоянии выстрела.
— Бортовой залп! — крикнул Луи.
Десять пушечных выстрелов прозвучали, как один.
* * *
Секунд двадцать царила кромешная тьма: густой дым окружал весь фрегат. Задохнувшись, Луи начал кашлять. Но пока он старался наклониться над полубаком, напрягая, как только мог, зрение, чтобы все-таки рассмотреть маневр неприятеля, на полуюте под резкими шагами заскрипели доски, и повелительный голос покрыл пушечный грохот:
— Спускаться! Чертова перечница!
Луи, подскочив от радости, обернулся и увидел Тома.
* * *
Услышав голос капитана, — хозяина после Бога, — рулевой и крюйс-марсовой непроизвольно повиновались. Сразу же, несколько отойдя от ветра, «Горностай» в четверть минуты удвоил, потом утроил скорость. Не успели истечь эти пятнадцать секунд, как ужасный грохот, от соединенной пальбы всех шестидесяти тяжелых орудий разом потряс воздух; и вихрь огромных ядер прожужжал, как прожужжали бы сто тысяч майских жуков, летящих сплошным роем: линейный корабль ответил всем своим ужасным бортовым залпом. Но залп этот пролетел вдалеке от цели и только изрешетил воду, упав частым градом посередине струи за кормой фрегата, на расстоянии верных тридцати саженей: так как «Горностай» был еще, к счастью, закрыт завесой собственного дыма; и голландские канониры, которые могли видеть свою мишень лишь сквозь густое облако, иначе, говоря, совсем не могли в нем ничего разобрать, хотя бы даже клотика на мачте, навели свои орудия наугад и выстрелили наугад же, полагаясь на скорость, которую эта мишень, сейчас невидимая, примерно развивала. Таким образом, хитрость Тома увенчалась полным успехом.
Итак, на сей раз «Горностай» вышел невредим из этого дыма, который так хорошо его защитил. И глазам Тома представилось поле битвы. По левому борту виднелись убегавшие в смятении конвоируемые суда, смочив до нитки все свои паруса
[65], чтобы бежать поскорее. С правого борта господа де Габаре и д’Артелуар храбро боролись, задерживая около своих двух кораблей всю свору тех же пяти противников, которые было на них напали впятером против двоих, «чтобы разом покончить», и из которых теперь ни один, после обмена двадцатью или тридцатью залпами, не смел отстать ни на шаг от своих четырех товарищей из боязни, что как только их останется всего четверо вместо пяти, их мгновенно победят и принудят к сдаче. Поближе, в районе «Горностая», четыре других голландца старались еще пуще маневрировать, по-прежнему с целью настигнуть коммерческие суда. Но из этих четырех самый крупный все еще задерживался храбрым «Приливом»; а другой, — тот, который только что дал залп по Тома, — скрывался пока в облаке собственного дыма, как это недавно было с фрегатом. Оставались, значит, два последних, которые оба управлялись так, чтобы пройти впереди «Горностая».
— Смотри, — сказал Тома, пока канониры перезаряжали пушки, — что это там водрузили эти паршивцы на топе своей грот-мачты?
Луи направил туда свою подзорную трубу.
— Бог ты мой! — вскричал он.
— Говори! Что это?
— Бог ты мой!
— Да что же, черт подери?
— Метла!
[66]
Тома, внезапно побледнев от злости, два раза повернулся, как бы ища где-нибудь скорой мести. Наконец, подняв глаза к своей грот-матче:
— Спаситель Равелина! — крикнул он сдавленным голосом. — Где мой личный флаг?
— Твой флаг? — спросил Геноле.
— Да, черт тебя подери! Мой ярко-красный, мой кроваво-красный флаг, чтобы крикнуть этим мерзавцам мое настоящее имя. Поднять его сейчас же!
Два молодых матроса, перепуганные взглядом капитана, бросились к ящику с флагами. Через секунду упомянутый Ягненок, которого все одиннадцать Провинций страшились больше чумы и тяжкой смерти, развевался по ветру.
— Лево руля! — вопил Тома в ярости. — Изготовиться к повороту! Вытянуть бизань-шкоты, блинд на гитовы!
И экипаж повиновался, оторопев. Даже Луи Геноле сначала ничего не понял в этом странном маневре, ставившем «Горностай» на довольно долгое время против ветра, лишая его хода и затрудняя управление, — и все это ближе кабельтова от носа обоих голландцев, которые еще не вступали в бой. Они как раз подходили, идя борт к борту, фордевинд, под новенькими парусами, надутыми, как полные бурдюки, и при каждом ударе килевой качки их решетчатые помосты на гальюнах обдавались морской пеной. Можно было уже рассмотреть черные жерла их пушек. Еще одна минута, и они бы опередили фрегат, взяв его между двух огней, раздробив своими тройными залпами, намного более сильными, чем его одиночные залпы, — залпы слабенького фрегата.
Но Тома опять командовал:
— Заряжать по правому борту! Комендоры, смелее! Полный ход назад! По-прежнему по мачтам! И верно наводить! Марсовые левого борта, по вантам! Руля право на борт! Потравить, вытянуть блинда-шкоты! Бизань на гитовы! Комендор, товсь! Бортовой залп!
На этот раз команда поняла. Поднялся восторженный крик, покрывший грохот орудий. Тома-Ягненок не сделал поворота на другой галс! Он только притворялся и еще раз надул врага! Голландцы, видя неподвижность фрегата, не придержались к ветру, чтобы помешать его маневру и, не придержавшись, не успели вовремя открыть своих неодолимых батарей. «Горностай», выпустив залп, переходил теперь на правый галс и бросился под бушприт одного из судов, вместо того чтобы пройти между обоими. Благодаря дыму судно это почти ничего не видело, разве только огонь. И оно налетело на фрегат с такой силой, что разбило об него свой выстрел, блинд, ватерштаги и гальюн и, кроме того, разные штаги, ванты и фардуны. Его фор-марсель упал вниз, увлекая с собой брамсель, грот-марсель и даже крюйсель, — иначе говоря, и весь рангоут, в котором, как известно, главной составной частью является бушприт, без которого все остальное рушится. «Горностай», впрочем, сильно пострадал от такого столкновения, так как все три его марселя также обрушились. Но тем не менее за ним оставалось большое преимущество: прицепившись, как сейчас, к носу судна, он мог пользоваться против него всеми орудиями правого борта, стоило их только перезарядить; оно же не могло бить по нему ни одной своей пушкой.
Тома, смеясь, как он умел смеяться, во все горло и с торжествующим лицом, широко разевая рот и скаля зубы, сказал Луи:
— Не правда ли, этот корабль так же попадает в наши лапы, как и тот набитый золотом галион!
Луи кивнул головой:
— Да! — сказал он. — Но на этом корабле не такое золото, чтобы нас обогатить.
— Конечно! — ответил Тома, — продолжая смеяться. — Скорее он разбогатеет, если, паче чаяния, ограбит нас!
Он захохотал еще громче; затем, подойдя к малуанским канонирам, возившимся над картузами и снарядами:
— Живо! — крикнул он. — Давайте залп! Затем хватайте все топоры, пики и палаши! Я вам отдаю на растерзание этого голландца, ребята! Берите его!
* * *
Но, говоря так, он думал, что обращается к своим недавним флибустьерам или к прежним корсарам; и те, и другие с одинаковой радостью сражались вдесятером против ста, и те, и другие одинаково готовы были или победить или погибнуть. Но теперешний его экипаж был другого рода: хорошие ребята, правда, и малуанцы, но все же мирные ребята, торговые, а не военные моряки, лишь в случае необходимости проявлявшие свою храбрость. Поэтому, когда Тома им предложил взять на абордаж корабль втрое больший, чем фрегат, они заколебались.
И Тома заметил их колебание.
Одним прыжком отскочил он к груде абордажных сеток и, прислонившись к ней спиной, оглядел всех своих матросов. Два стальных пистолета блестело в его вытянутых руках.
— Собаки, трусливые собаки! — завопил он, страшный в своей ярости. — Слушайте меня! Вы беднее Иова, — я богаче Креза. У вас здесь, кроме собственной грязной шкуры, ничего нет, — у меня, в капитанском рундуке, — семьсот тысяч ливров золотом. Ваши жены и девки в тепле, в ваших деревнях, моя — здесь, у меня, а кругом свищет картечь! Однако же это я только что пожелал вступить в этот бой, в котором я ничего не могу выиграть — и могу все потерять. Но теперь вы будете драться, клянусь в этом своим кровавым флагом, который вьется там! Собаки, трусливые собаки! На абордаж! На абордаж! Или я, я сам, вот этими руками…
Он не договорил. Глаза его, метавшие молнии, говорили за него, а поднятые в обеих руках пистолеты самым понятным образом поясняли угрозу.
В это время несколько голландских матросов, выбравшись из груды парусов и снастей, свалившихся на палубу, стали собираться на баке и открыли по матросам «Горностая» энергичную стрельбу из мушкетов. При первом залпе упало четыре малуанца. Очутившись между этими мушкетами и пистолетами Тома и воочию убедившись, таким образом, что смерть повсюду и что, стало быть, остается, волей-неволей победить или умереть на месте, кроткие бараны пришли в ярость. Нагнув головы, ворча от страха и от гнева, они бросились на приступ корабля, огромный корпус которого возвышался над фрегатом подобно тому, как собор возвышается над пристроенным сбоку церковным домом. По счастью, обвалившийся и спутавшийся рангоут образовал сходни. И морякам нетрудно было взойти по ним. Не прошло и четверти минуты, как Тома, оставшийся один на опустевшей палубе, увидел, что ребята уже на неприятельском баке и, в порыве яростного отчаяния, кидаются на голландцев.
Тогда Тома, на время успокоившись в этом отношении, взобрался на кучу каких-то обломков и осмотрел поле битвы…
* * *
Положение не ухудшилось. Напротив, Тома увидел прежде всего конвоируемые суда, продолжавшие отступать и значительно теперь удалившиеся. Их можно было уже считать спасенными, так как бой еще продолжался около господина де Габаре, по-прежнему задерживавшего своими двумя кораблями пятерых голландцев, из которых ни одному еще не удалось высвободиться из этих крепких объятий. А с другой стороны, из прочих четырех неприятельских судов, атаковавших «Прилив» и «Горностай», тоже ни одно не было в состоянии успешно преследовать удачливый караван: каждый фрегат сцепился, корпус к корпусу, с двумя противниками, а оба остальных, получившие по залпу с «Горностая», метко направленному в рангоут, потеряли кто грот, кто фок-мачту и слишком ослабили свой ход, чтобы отныне считаться опасными преследователями. Несчастный «Прилив», по правде сказать, был в тяжелом положении, потому что его командир не сумел так удачно, как Тома, взять на абордаж голландца. Но каким ни казался он теперь разбитым и побежденным, выдержав на таком близком расстоянии ужасный обстрел противника, королевский фрегат все же так крепко сплелся и как бы спутался с этим противником, что тот на добрый час времени не мог рассчитывать освободиться от него и возобновить погоню.
— Все идет наилучшим образом, — крикнул развеселившийся Тома, обращаясь к Луи, все еще стоявшему на своем посту, у гакаборта, перед рулевым…
В то время, как он это кричал, открылась дверь ахтер-кастеля, и появилась Хуана.
* * *
Хуана, прекрасная в своем лучшем парчевом платье и так причесанная, напудренная и накрашенная, словно она собралась на бал, а не в сражение, очень спокойно вышла на палубу. Там и сям раздавались выстрелы. Пули, гранаты и картечь свистели повсюду. Но, очевидно, при осаде Си-удад-Реаля девушка привыкла к этой музыке, так как она ничуть не обратила на нее внимания и подошла к Тома, у которого дух захватило от волнения, когда он увидел, какой опасности она подвергается.
— Ну, — сказала она, — вы еще не кончили? Неужели вы еще не захватили это судно?
Тома, неподвижный и как бы окаменевший, пристально смотрел на нее. Она пожала плечами и сделала скучающую гримасу:
— Как долго! — продолжала она. — Какое жалкое сражение! Вы-то, прежде всего, что вы тут один делаете?
Он снял свою шляпу с пером, низко поклонился и бросил шляпу на палубу.
— Я иду, — коротко сказал он.
И размеренным шагом, так же, как шла она, он прямо направился к неприятельскому кораблю и поднялся на него, — не торопясь, спокойно, не вынимая шпаги из ножен.
Как раз в этот миг голландцы, объединившись, наконец, и выпутавшись из баррикад, образованных упавшим такелажем, начали теснить с барабанным боем малуанских ребят, которых было втрое меньше. «Горностай» в свою очередь не на шутку рисковал быть взятым на абордаж.
Но на фор-кастеле, позади готовых бежать матросов, внезапно выросла фигура Тома…
Он крикнул:
— Ягненок, на подмогу!

И, сменив свое спокойствие на самую ужасную, самую смертельную ярость, он кинулся в гущу врагов и таким отчаянным образом стал рубить, колоть и колотить, что даже храбрейшие отступили, и картина боя сразу переменилась. Тома, опьяненный пролитой кровью, увлекая своих, в одно мгновение одержал верх. Как недавно на галионе, он вскоре оттеснил побежденных спереди назад и затем спихнул их в беспорядке с палубы в грот-люк, куда они все устремились, голося от ужаса.
И сам он устремился туда за ними, продолжая кричать во все горло:
— Ягненок, на подмогу! Ягненок! Ягненок!
VI
В тот же вечер при заходе солнца городское население Гавра, привлеченное гулом отдаленной канонады на свои стены и молы, увидело редкую и славную картину: фрегат, почти совсем лишенный рангоута, еле-еле входящий в порт под несколькими лоскутками парусины, и на буксире у него — два линейных корабля, оба оголенных, как понтоны. Это была какая-то тройная развалина, передвигавшаяся с большим трудом. Но над этой развалиной развевалось тридцать флагов, продырявленных насквозь наподобие тонких кружев, тридцать героических флагов, которыми адмирал-победитель торжественно расцветил свои победоносные обломки. Горожане, крича от восторга, скинули свои шляпы в знак приветствия этим флагам. То были королевские флаги из белого атласа с вышитыми золотом лилиями; то были малуанские флаги синего флагдука, окровавленные червленой вольной частью; и то был, выше всех других, подобный огненному языку, колеблемому вечерним ветром, великолепный лоскут темного пурпура, на котором сверкал, среди сотен дыр, таинственный геральдический зверь, которого гаврские жители приняли за льва.
Так достигала защищенного порта, вслед за спасенным караваном, отныне знаменитая эскадра под командой храброго адмирала де Габаре, у которого оторвало правую руку снарядом, но которому не суждено было умереть от столь почетно полученной раны.
Одного «Прилива» не было, увы, налицо; он изнемог, в конце концов, в столь неравном бою, который так долго выдерживал против самого сильного из неприятельских кораблей. Так кончился бой. Усталые и измученные четырьмя часами упорной борьбы, видя, что от них ускользнул тщетно преследуемый караван, голландцы отступили в полном порядке, довольствуясь скромным успехом: победой восьмидесятипушечного трехпалубного линейного корабля над двадцатичетырехпушечным фрегатом. Сами они, впрочем, пострадали гораздо сильнее, потеряв тот линейный корабль, который Тома взял на абордаж и затем сжег, опасаясь, что его снова отберут. А остальные их восемь кораблей все получили сильные повреждения — поломки мачт и реев, пробоины, оторванные гальюны, развороченные и разверстые кормы. Сражаться дальше было бы невозможно таким растерзанным судам. Таким образом, господа де Габаре и д’Артелуар остались непобежденными после отступления неприятельской эскадры. Но корабли их, в сто раз больше развороченные, чем голландские корабли, никогда бы не смогли достигнуть берегов Франции, если бы Тома-Ягненок, победитель, освободившийся с помощью пожара от своего приза, не соорудил себе как попало брифок и не подал своих буксиров обоим командирам королевского флота.
* * *
Темной ночью «Горностай», а за ним «Отважный» с «Французом» миновали входную эстакаду, которую им смогли открыть, так как вода перестала прибывать. И командир арсенала дал им всем троим ошвартоваться в надежном месте, каждому на четырех перлинях.
Луи Геноле получил, наконец, возможность вволю отдышаться и отдохнуть; так как с самой зари он только и делал, что от работы переходил к сражению и от сражения опять к работе. Как только неприятель был разбит, Тома сейчас же снова заперся в своей каюте в обществе своей милой. Ни она, ни он не получили ни малейшей царапины за все время сражения, хотя они бесстрашно подвергали себя опасности. Особенно про Тома, нырявшего в неприятельские ряды подобно пловцу, ныряющему в воду, опустив голову, можно было в самом деле сказать, что имя это — «Ягненок», восклицаемое им наподобие воинского призыва, служило своего рода талисманом.
— И мне бы хотелось, — бормотал озабоченный Геноле, удалившийся теперь в свою каюту, куда ему был подан скудный ужин, так как он с утра еще ничего не пил и не ел, — и мне бы хотелось быть вполне уверенным, что в этом талисмане не замешан нечистый…
Глава вторая
СЛИШКОМ ТЕСНОЕ ГНЕЗДО
I
Уютно развалившись в новом кресле, Мало Трюбле протянул руку к дубовому столу, чтобы взять свою кружку, еще наполовину полную. Андалузское вино сверкало чистым золотом, и, выпив его, старик Мало подумал о том, что это жидкое золото в точности похоже на мягкое золото волос Гильеметы, сестры Тома, болтавшей или вышивавшей подле отца; похоже также на звонкое золото, которым наполнен подвал. И возликовав до самого мозга своих полувысохших костей, Мало Трюбле стукнул опорожненной кружкой об стол:
— Ну, — сказал он, — Гильемета! Небось, ты довольна: ты теперь так разоделась в золото, что даже подкладка твоего чепца блестит!
Но Гильемета только молча покачала головой, причем нельзя было понять, что она хочет этим выразить, и сделала вид, что вся ушла в свою работу.
Мало Трюбле обратился тогда к своей благоверной, которая пряла, по своему обыкновению, у большого занавешенного окна.
— Мать! — сказал он. — Погляди-ка время на кукушке.
Перрина Трюбле встала, чтобы получше разглядеть стрелки на потемневшем циферблате.
— Скоро шесть, — сказала она.
— Час добрый! — молвил старик, еще веселее. — Тома не замедлит сейчас явиться, а мне не терпится поужинать, так как я, ей-богу, проголодался.
Но Гильемета опять иронически покачала головой. Она очень сомневалась, и не без причины, чтобы Тома опоздал ненадолго.
* * *
Действительно, за тот месяц, что Тома, вернувшись в Сен-Мало, снова занял свое место у домашнего очага, он перестал церемониться со старыми семейными обычаями, которые в былое время соблюдал гораздо строже. Старый Мало, полный снисхождения к этому сыну, вернувшемуся со столь доблестной славой и столь жирной добычей, охотно давал ему поблажку. Но, как это ни странно, как раз Гильемета, бывшая когда-то брату такой хорошей сообщницей в шалостях и проказах, стала теперь, наоборот, выказывать строгость и сердилась, видя его более независимым и взрослым, чем бы ей хотелось.
* * *
Между тем здесь требовалось некоторое снисхождение. Шесть лет сражений и побед наилучшим образом объясняли, отчего Тома-Ягненок не был вылитым Тома Трюбле былого времени. И весь Сен-Мало охотно принял это объяснение.
Надо сказать, что Тома ничем не пренебрегал вначале, чтобы выказать себя с самой выгодной стороны перед своими согражданами. Отчасти, конечно, тщеславие, но также и расчет. Парень недаром был наполовину нормандцем. И, прежде всего, самый день его возвращения был, бесспорно, великолепным днем.
«Горностай» вошел в Гавр в рождество 1677 года, но, в силу известных нам уже повреждений, провел целых три месяца в ремонте, тимберовке, обмачтовании и прочем под осторожным руководством верного Геноле. В это время Тома, вызванный ко дворцу, получал там блистательные доказательства монаршей милости. После чего, когда все вошло в обычную колею, т. е. когда Луи заново отремонтировал фрегат, а Тома с Хуаной, своей милой, хорошенько поразвлекались в самых лучших харчевнях этого столь приятного города Гавра, — капитан и помощник сошлись в том, что не стоит ждать мира, хоть все и уверяли, что он близок, а надо снова отважно пуститься в плавание, чтобы пройти в Сен-Мало под самым носом у голландцев. Менее храбрые призадумались бы в этом случае, так как семьдесят кораблей Соединенных Провинций владели еще Ла-Маншем, имея во главе одного из сыновей старого Тромпа. Кроме того, англичане также впутались в войну и присоединили свои эскадры к голландским из зависти и ненависти к великому королю. Но англичан или голландцев и даже коалиции англичан с голландцами было недостаточно, чтобы стеснить свободу движений Тома Трюбле, по прозванию Ягненок, при возвращении его после шестилетнего отсутствия к себе на родину. И «Горностаю», сделавшемуся…после недавнего килевания… таким хорошим ходоком, как никогда, было так же наплевать на грузные линейные корабли, как свинье на апельсины.
И в самом деле, в конце концов, миновали форты Колифише и Эперон, не сделав ни единого выстрела, хотя два больших неприятельских крейсера упорно стреляли залпами перед Ранским камнем в целях лучшей блокады Сен-Мало. Тома, полный презрения, не соблаговолил показать им даже своего страшного красного флага.
И вот весь малуанский народ, сбежавшийся на призыв дозорных с башни Богоматери, мог, наконец, полюбоваться с конца Старой Набережной, почерневшей от восторженной толпы, на этого столь славного «Горностая», высокие, почти легендарные деяния которого так долго не сходили во всех уст и всем прожужжали уши. Он и впрямь был тут, нарядный, расцвеченный флагами, и — как всем было известно — прямо-таки чудесно набитый золотом. Вскоре появился и сам Тома, пристав на своем вельботе к песчаному побережью, что лежит к северу от Равелина. И все благочестиво порадовались, увидев, как он, перед тем как войти под свод бастиона, остановился у подножия большого бронзового Христа и помолился там не торопясь, обнажив голову, опустившись на колени, не боясь испортить тонкий бархат своих штанов.
Как было не простить такому славному и храброму малому, столь набожному, доблестному и богатому, того, что он, как и в былое время, — если не больше — остался кутилой, пьяницей и бабником и непомерно возлюбил кабаки? Избавили же его господа из Магистрата от всякого преследования по поводу кончины бедного Кердонкюфа, хоть тот и был убит на поединке без свидетелей!
* * *
А что касается Мало Трюбле, то он, конечно, не склонен был относиться к собственному отродью строже, чем остальные малуанцы. Вот почему — весьма терпеливо и черпая терпение в кружках доброго испанского вина, которым был отныне полон его погреб, — он совершенно безмятежно услышал, как кукушка прокричала шесть часов, и не рассердился, что Тома все еще нет.
Гильемета же встала и, нарочно шаркая ногами, чтобы обратить на себя внимание, отправилась посмотреть поближе часовые стрелки редкого дерева, как бы желая подчеркнуть, что настало время ужина. Но старый Мало становился глуховат, когда ему того хотелось, и отвернулся, смотря в другую сторону. Затем вдруг:
— Гильемета! — позвал он. — Поди-ка сюда! Прочитай мне пергамент.
Пальцем он показывал висевшую в рамке на стене дворянскую грамоту, пожалованную Тома королем. По нраву было Мало Трюбле поглядывать на эту грамоту, украсившую дом столь великой и заслуженной славой, и слушать чтение ее, до которого он был великий охотник.
Так что волей или неволей, а пришлось Гильемете прочитать ее от начала до конца.
Людовик, божией милостью, король Франции и Наварры, всем, ныне и присно, здравствовать.
Последние войны, кои вести нам пришлось, явили свету высокие достоинства и доблести господина Тома Трюбле, Капитана-Корсара, славного и верного, нашего города Сен-Мало; каковой господин Трюбле, посвятив себя морскому делу, захватил в Вест-Индских водах и прочих местах более ста торговых и корсарских судов, ходивших под неприятельским флагом; захватил также немало военных кораблей, голландских и испанских; и, наконец, спас честь нашего оружия, сражаясь один против троих противников в бою, данном в первый день рождества лета господня 1677-го под Гавром де Грас, бою, выигранном отвагою и умелым маневрированием помянутого Трюбле.
Желая особо выразить свое удовлетворение его знатной и честной службой и явить всему свету нашу любовь и уважение к таким подданным, почли мы за благо возвести и настоящей грамотой возводим помянутого господина Тома Трюбле в дворянское достоинство, со всеми прерогативами, связанными с этим званием, включая все сеньориальные права и обязанности, право суда по гражданским, уголовным и опекунским делам и прочая, и прочая… и повелеваем помянутому Тома Трюбле именоваться отныне: сеньор де л’Аньеле[67] — согласно прозвищу, которое он снискал и заслужил редкостными кротостью и человечностью, не менее, нежели отвага, отличавшими его в боях.
Гербом помянутому Тома Трюбле, сеньору де л’Аньеле, иметь: червленый щит, окаймленный картушью, в коем три отделанныхзолотом корабля, идущих с попутным ветром по лазурному морю, и над ними золотой ягненок рядом с двумя лилиями; щитодержатели: два американских туземца, опирающиеся на лазурные палицы, усеянные золотыми лилиями; щит увенчан короною из лазурной, золотой, зеленой, серебряной и червленой пернаток, с нашлемником в виде золотой лилии.
Итак, препоручаем возлюбленным и верным нашим советникам, членам Парижского парламента, распорядиться сие прочесть, обнародовать и занести в книги, в точности хранить и соблюдать, дословно и по существу.
И дабы быть сему прочным и неизменным вовеки, повелели мы скрепить сие нашей печатью.
Дано в Сен-Жермене, в Генваре месяце, в лето господне тысяча шестьсот семьдесят восьмое, царствования же нашего тридцатое.
Людовик.
И пониже:
«скрепил — Фелиппо».
И рядом:
«засвидетельствовал — Бушера».
И внизу:
«читано в совете — Филиппо».
И скреплено большой печатью зеленого воска.
* * *
Гильемета замолчала.
— Ты ничего не пропустила? — спросил внимательно слушавший отец.
— Ничего! — сухо ответила она.
Мало Трюбле снова развалился в кресле. Кукушка пробила половину седьмого.
— Те, кто добивается таких грамот, — сказал старик, кулаками ударяя по резным дубовым ручкам кресла, — те имеют право ужинать хоть на час позже, если им заблагорассудится!
II
Во всяком случае, те, кто представлял себе Тома Трюбле, сеньора де л’Аньеле, — не видя его и не зная, где его найти, — кутилой, пьяницей и бабником, непомерно возлюбившим все малуанские кабаки, начиная с «Пьющей Сороки» и кончая «Оловянной Кружкой», те попадали пальцем в небо.
Впрочем, находились и другие люди, которые лучше себе рисовали положение вещей и не полагались на болтовню разных кумушек. Они лучше были осведомлены, — через самих матросов сошедшей на берег команды, — и для них не было тайной, что в ночь, по приходе «Горностая» в Доброе Море, от фрегата отвалил весьма таинственный вельбот и пристал к берегу у Равелина. Предупрежденные, очевидно, часовые не чинили препятствий и открыли Большие Ворота. И Тома — это он возвращался таким образом в город — провел за собою, держа за руку, молчаливую и замаскированную даму; дама же эта — опять-таки по словам матросов — была не кто иная, как некая испанская или мавританская девица, которую корсар похитил некогда неведомо где и сделал своей подругой, столь горячо любимой подругой, что никогда с ней не расставался, таская ее повсюду за собою, даже в самой гуще сражения, под смертоносным градом ядер и пуль, и под конец дошел до того, что привез ее с собой в Сен-Мало.
Что же касается остального, — а именно того, что сталось с помянутой испанкой или мавританкой, где удалось Тома ее поселить, что намерен он был с ней делать, теперь или, скажем, позже, в этом городе, достаточно неприязненно настроенном к иностранцам и кичившемся своей недоступностью и строгой нравственностью, — об этом никто не имел ни малейшего понятия.
Не подлежало, во всяком случае, сомнению, что, вопреки распространенному мнению, Тома отнюдь не пропадал во всех злачных местах Большой улицы, являвшихся некогда предметом его вожделений, и, несмотря на это, не менее часто уходил из родительского дома, расположенного, как известно, на Дубильной улице, отправляясь затем гулять в одиночестве вдоль городских стен, задерживаясь в самых пустынных местах, как-то у Низких Стен — между Бидуанской башней и башней Богоматери — и у Асьеты — в конце улицы Белого Коня, что на полпути между упомянутой Бидуаной и Кикан-Груанем. Там он бродил, шагая поспешно и в то же время беспокойно. И никто еще не решался тревожить его там своим непрошеным присутствием.
* * *
Да, конечно, сеньор де л’Аньеле совсем уже не был похож на Тома Трюбле былых времен…
Тот, правда, грубоватый, но хороший товарищ и веселого нрава, оставил в Сен-Мало много верных друзей. Этот, резкий, мрачный, не желавший сдерживаться, за исключением тех редких часов, которые ему так или иначе приходилось проводить ежедневно в доме на Дубильной улице, пренебрегал всеми теми, кто прежде любил его; пренебрегал даже драгоценными ласками родных и близких, что сначала очень огорчило сестру его Гильемету, затем очень ее опечалило и, наконец, сильно разгневало. Ее всегда связывала с Тома горячая привязанность, усиливаемая взаимным доверием как в малых, так и в крупных делах. У них с Тома не было тайн друг от друга. И вдруг после этого долгого отсутствия, во время которого сестра вздыхала не меньше, если не больше, чем вздыхают жены и возлюбленные, когда их покидают любовники и мужья, брат, вернувшись, коварно забывал свои былые ласки, не желая возобновления прежней близости!
Этого он решительно не пожелал и притом с первого же дня по возвращении.
Действительно, как только он переступил порог своего дома, Гильемета не замедлила броситься в объятия любимого брата, столь гордо возвращавшегося в лоно семьи. И Тома не преминул ответить поцелуем на каждый поцелуй, объятием на каждое объятие. Но когда дело дошло до рассказов и передачи всех подробностей этой шестилетней кампании, со всеми ее случайностями и удачами, со всеми разнообразными ее приключениями, Тома вдруг уперся и тотчас же как будто воды в рот набрал: Гильемета не могла двух слов из него вытянуть.
Тщетно изощрялась она, требуя рассказов то о сражениях, то о штормах, затем настаивая на подробном повествовании о захвате этого Сиудад-Реаля, столь богатого и знаменитого, что слава о нем докатилась до Сен-Мало: каждый вопрос только усиливал молчаливость корсара. И в довершение всего, когда любопытная затронула вопрос о дальних любовных похождениях и о прекрасных заокеанских дамах, Тома, внезапно разозлившись и почти рассвирепев, вскочил вдруг со стула и выбежал из комнаты, хлопнув дверью и громко проклиная женщин, их дурацкую болтовню и эту их страсть всегда воображать, что мужчине нечем заняться, кроме бабья и всякого вздора. На чем и прекратились окончательно все рассказы и беседы.
И Гильемета все еще не могла утешиться.
* * *
Последняя из десяти детей Мало и супруги его Перрины, Гильемета была много моложе своих трех сестер, которые все повыходили замуж, когда она сама была еще совсем маленькой девочкой; моложе также всех своих братьев, среди которых Тома, младший из шестерых, был все же на целых пять лет старше ее; поэтому детство Гильеметы было уныло. Не то чтобы старики и старшие плохо с ней обращались; но, будучи все старше ее, они не забавлялись и не играли с ней. Позже лишь Тома — и то только он один, — когда ему исполнилось пятнадцать-шестнадцать лет, а ей десять или одиннадцать, — обратил внимание на эту не по летам развитую и осторожную уже девочку, умевшую все вокруг себя заметить, вовремя промолчать и не выдать секрета. Тогда он живо обратил ее в свою союзницу и сообщницу, пользуясь ее услугами, которые она с полной готовностью ему оказывала, для того чтобы ловко скрывать свои мальчишеские проказы. Так родилась между ними нежная дружба. И дружба эта была настолько сильна, настолько деспотична, по крайней мере у Гильеметы, что та решительно отказывалась от замужества и не раз на коленях умоляла старого Мало не принуждать ее соглашаться на то или иное предложение, хотя бы и выгодное. Она не хотела мужа. Она не хотела, чтобы кто-нибудь заменил Тома в ее горячем сердце, в ее пламенном доверии…
И вот теперь он сам, Тома, отвергал то и другое и, можно сказать, порывал с братской любовью былого времени. Ей, Гильемете, стукнуло уже двадцать два года. Скоро она станет старой девой. Уже никто из парней за ней не ухаживал…
Дошло до того, что глухая злоба стала мало-помалу наполнять ее сердце, и нередко, когда Тома уходил из дому на свои одинокие прогулки вдоль городских стен, ловила она себя на том, что взгляд её, провожавший Тома, полон не только раздражения, но и ненависти…
III
Проглотив наскоро обед, Тома как раз удирал тайком из нижней комнаты. Старый Мало, засидевшись за столом, делал вид, что не замечает поспешного бегства парня, а Перрина, быть может, и опечаленная в глубине души, не решалась ничего сказать. Так что одна Гильемета, собравшись с духом, соскочила также со своего стула и живо бросилась к двери, преграждая, как бы невзначай, дорогу брату.
— Ты так торопишься уйти? — тихо сказала она ему. — Кто это каждый день так призывает и притягивает тебя подальше от нас?
Раньше, чем ответить, он молча поглядел на нее.
— А тебе что за дело? — сказал он, наконец, тоже тихо, заботясь, как и она, о спокойствии отца и матери.
Гильемета нетерпеливо тряхнула головой.
— В былое время, — заметила она, — мне не нужно было бы и спрашивать, ты сам бы мне сказал!
Он пожал плечами:
— Другие времена — другие люди! — сухо отрезал он.
Она топнула ногой. Он остался спокоен, делая усилие над собой, чтобы не рассердиться.
— Вспомни, — продолжал он более мягко, — что целых шесть лет я жил, как хотел, никогда ни перед кем не отчитываясь. Я побывал у черта на куличках! Сколько раз не знал я, как быть, и из-за каждой безделицы мне приходилось работать до седьмого пота… И ни души кругом, у кого бы спросить совета. Теперь я разучился болтать и калякать… Зато научился ходить один и бродить, ради прогулки, куда глаза глядят. Я уже не в силах как-нибудь это изменить… Не огорчайся — ни ты, ни я не можем здесь ничего поделать.
Проговорив это, он хотел открыть дверь, но Гильемета снова задержала его:
— Послушай, — сказала она, — я и сама не сумела бы теперь калякать и болтать. После твоего отъезда, я так же, как и ты, отвыкла от этого. Но, не тратя стольких слов, разве не могли бы мы, как раньше, делиться своими тайнами и помогать друг другу советами… Не смейся! Как ни учен ты, а век живи, век учись, и не так-то ты уж ловок, чтобы не влипнуть когда-нибудь!
Насмешливо смерил он ее взглядом.
— Я тебя знаю! — сказал он. — Ты не прочь подраться, да руки вот у тебя коротки! Только уж ты мне поверь, я столько вынес ударов, что кожа у меня затвердела. Лучше ты меня не задевай!
— Ладно! — сказала она сквозь зубы, нахмурив брови.
Он все же открыл дверь. Он ушел. Молча смотрела она ему вслед, и на губах у нее блуждала нехорошая улыбка.
* * *
Дойдя до конца Дубильной улицы, Тома свернул налево в улицу Вязов и затем, в конце улицы Решетки, являющейся продолжением улицы Вязов, повернул направо в Известковый переулок. Если бы кто-нибудь последовал за ним в его извилистом пути, то догадался бы, что Тома направляется, по обыкновению, гулять вдоль городских стен; и действительно, он вскоре их достиг, миновав улицу Старьевщиц и башню Богоматери. И начал ходить здесь, как всегда, большими шагами, резкими и порывистыми.
Городские стены Сен-Мало являются, как известно, великолепнейшей каменной постройкой; и круговая дорога, проходящая под защитой их парапетов, поспорит как место для прогулок с любым местом в мире. Достойна удивления высота, на которой стоишь, смотря на песчаные берега под самыми стенами и на море за этими берегами, раскинувшееся под небесами чудесным зеркалом: то голубым, то зеленым, то серым. На сей раз, пока Тома, поднявшись по лестнице башни Богоматери, продвигался, как мы знаем, к Бидуане и Асьете, весь небосвод покрылся большими облаками самых разнообразных оттенков и очертаний; и отражение их в воде одело ее в переливчатый и волнистый шелк, цвет которого менялся от мышиного серого до черноватого оттенка. Однако же, как ни прекрасно было это зрелище, Тома не удостаивал его ни единым взглядом. Он шел, опустив голову, с омраченным челом, как бы мучаясь докучливыми мыслями. Так миновал он Бидуанскую башню, не обратив даже внимания на часового, который с пикой в руке охранял подземный ход в пороховой погреб…
Но, пройдя еще пятьдесят шагов и далеко еще не доходя Асьеты, Тома вдруг остановился.
Он как раз поравнялся с очень узким тупиком, известным малуанцам под названием улицы Пляшущего Кота. Этот закоулок, столь же пустынный, как и узкий, примыкает к самой городской стене, так что крайний его дом, построенный на косогоре, одновременно сообщается большой дверью с улицей и маленькой — с защитным валом.
Тома, теперь неподвижный, пристально смотрел, повернувшись спиною к морю, на окна этого крайнего дома.
Очевидно, он нашел в нем то, чего искал, так как вдруг, торопливым взглядом осмотревшись кругом, чтобы убедиться, что никто за ним не следит, сошел по открытой лестнице с круговой дороги, пересек вал и принялся стучать в маленькую дверь дома о двух выходах.

IV
Сидя у окна и глядя на море, Хуана хранила молчание. Жилище ее возвышалось на сажень над городской стеной. Облокотившись на подоконник широко раскрытого окна, она созерцала поверх круговой дороги и зубчатого парапета волнистые облака и отражающие их воды.
И когда Тома вошел, она не повернула головы, хотя очень хорошо его слышала.
Он все же подошел к ней, затем, сняв шляпу и поклонившись, как принято в благородном обществе, взял не поданную ему руку и поцеловал ее, ибо Хуана приучила своего любовника к такой учтивости, в которой, впрочем, он все еще проявлял некоторую неуклюжесть.
— Прелесть моя, — сказал он затем очень нежно, — прелесть моя, как чувствуете вы себя нынче?
Не говоря ни слова, она равнодушно покачала головой.
— Разве вам плохо здесь? — спросил Тома, снова целуя руку, которую еще не выпускал из своей.
Не будучи, правда, очень роскошным, помещение являло много удобств, — хорошие кровати, глубокие кресла, большие шкафы, наполненные очень тонким полотном. Тут можно было также заметить различные ценные раритеты, свидетельствовавшие о незаурядном богатстве, — шелковую обивку на стенах и множество серебра искусной работы. Но все было такое сборное и разрозненное, что сразу видна была случайность подбора. Рядом с диваном, гобеленов ткачей его величества, виднелся плохонький плетеный стул; и подле изящного позолоченного кубка — простой каменный кувшин.
По правде сказать, прекрасной Хуане эта неравномерная роскошь была, по-видимому, безразлична. Уподобляясь в этом своим соотечественницам, испанкам, которые всегда обращают большое внимание на свои наряды и охотно пренебрегают столом и хозяйством, она бродила всегда по своим неубранным комнатам, заботясь лишь о том, чтобы быть великолепно разодетой, как полагается накрашенной и по моде напудренной. Тома, тог иногда удивлялся этим привычкам, столь отличным от всего того, что он постоянно наблюдал в Сен-Мало, и в особенности не мог освоиться с манерой своей возлюбленной сидеть сложа руки и ротозейничать, тогда как мать его и сестра постоянно заняты были какой-нибудь работой.
Подумав об этом, он сказал:
— Я боюсь, что вам здесь скучно во время моих долгих отлучек.
Она снова покачала тщательно причесанной головой и совершенно безразличным тоном ответила:
— Я не скучаю. Но скажите — в вашей стране никогда не бывает солнца?
— Как бы не так! — уверил Тома. — Вот наступает прекрасный месяц май, всегда как нельзя более солнечный. Имейте терпение, моя прелесть!..
С тех пор, как любовь их помирила, а затем тесно связала между собой, они перестали друг к другу обращаться на ты, как будто слово «ты» годилось им только для раздоров. И действительно, между двумя даже пламенными любовниками меньше настоящей близости, чем между двумя смертельными врагами.
Между тем Хуана отвечала, впервые проявляя некоторую живость в ответе:
— Терпения у меня достаточно. Разве не прошло уже больше трех недель с тех пор, как вы меня привели в эту тюрьму, и я, ради вашего удовольствия, ни днем, ни ночью не выхожу из нее? Однако же вы обещали мне, что этому будет положен конец, и при этом скорый конец! Помните ли вы, по крайней мере, об этом и принимаете ли необходимые меры для ускорения?
На что Тома, в большом смущении, не решаясь дать определенный ответ, пустился в туманные объяснения и нежные речи. Но видя, что Хуана настаивает, он сразу перешел от слов к действиям. И действия его оказались настолько красноречивы, что страстная Хуана благодаря им забыла на некоторое время не только свое вынужденное уединение, но также и свои наряды и свою прическу, немало пострадавшие от пылкой страсти корсара, которой, впрочем, вполне вторило бурное самозабвение его любовницы.
* * *
Ну, конечно! Тома сначала пообещал, даже поклялся, что это новое заточение, которому он должен был подвергнуть свою прежнюю пленницу, долго не продлится… «Ровно столько лишь времени, — уверял он, — сколько понадобится для того, чтобы расположить малуанцев и малуанок к хорошему приему иностранки, которой, без этой предосторожности, грозила бы опасность быть плохо принятой…»
Тома, предупрежденный Луи Геноле, считался и раньше с этой опасностью, но только вернувшись в Сен-Мало и снова соприкоснувшись с людьми и обычаями родного города, начал он понимать в полной мере непреодолимость этого затруднения. Действительно, в каком качестве и под каким именем представить строгим мещанам чванного своей добродетелью города иностранку, которую все не преминут назвать наложницей, а то даже шлюхой и потаскухой? По правде говоря, Хуана и была-то всего-навсего военнопленной. Матросы и солдаты расправляются, как хотят, с такими созданиями, это позволительно. Но они никогда не решаются привозить их с собою в свои дома и города. И Тома не закрывал глаз на то, что было бы чистым безумием надеяться на прием его любовницы, именно в качестве любовницы, любым обществом из тех, что имелись в городе, хотя все они, даже самые чванные, приняли бы его самого с великим почетом. Что же касается того, чтобы ввести в свою семью испанку, даже как законную жену, как супругу, то об этом нечего было и думать. Что же тогда делать?
Смущенный Тома не мог прийти ни к какому решению. И часто не без горечи оценивал он ничтожность того действительного могущества, которого на самом деле достигает человек вместе с достижением столь вожделенных земных благ: богатства, славы, знатности и, наконец, открыто явленного монаршего благоволения. Все это у него было, у него, Тома, сеньора де л’Аньеле, которого король Людовик XIV пожелал видеть собственными очами и поздравить из собственных уст в своем Сен-Жерменском королевском замке. А какая польза от всех этих почестей? Нельзя даже открыто взять, признать и сохранить у себя любовницу по собственному выбору, не заботясь о том, что об этом скажут!
* * *
— Целовать не значит отвечать!.. Тома, миленький, оставьте теперь мою грудь в покое и скажите-ка мне по совести, скоро вы намереваетесь вытащить меня отсюда?
Так, снова переходя в атаку, говорила Хуана, тщательно поправляя прическу перед своим прекрасным зеркалом, привезенным из Венеции.
Тома крякнул.
— Гм! — сказал он нерешительно. — По совести… разве я знаю?.. Прежде всего надо разыскать другое жилье, получше этого чердака. Мне хотелось бы вам подобрать, моя прелесть, совершенно новый и красиво выстроенный особняк; затем хорошо обставить его. После чего мы подумаем о прислуге; затем о выезде, с кучерами и форейторами. Всему свое время. Над нами не каплет. Кик-ан-Груань не в один день выстроилась…
Так говорил он и при этом радовался столь удачному, столь ловко придуманному предлогу. Чем можно лучше успокоить женщину, как не пообещать ей то, что больше всего ценится женщинами: лошадей, кареты, золоченые ливреи и собственный дом? А золота хватит, чтобы сдержать обещание.
Но Хуана пожала плечами. Венецианское зеркало по-прежнему отражало бесстрастное лицо, а гребень и пуховка все так же старательно продолжали свое дело среди эбеновой, грациозно изваянной прически.
Она презрительно фыркнула:
— Ищите, что вам угодно, я не возражаю. Но есть другие заботы, более неотложные. Есть у вас здесь церкви и священники? У меня большая потребность в молитве, так как душа моя, наверное, черна сейчас, как сажа… И сколько воскресных дней провела я сейчас без обедни? Кроме того, мне очень хочется стать на колени рядом с вами, любовь моя, во время литургии…
Тома, никогда не помышлявший об этом, невольно подскочил на месте.
Хоть он и сам был очень набожен, ему и в голову не приходило, что его милой может вдруг понадобится пойти на исповедь. Он очень страстно ее любил, но, несмотря на это, — или, как знать, быть может именно потому, — видел в ней просто-напросто настоящую язычницу, предававшуюся странному идолопоклонству, вроде ее почитания некоей Смуглянки, столько раз призывавшейся на помощь и столько раз проклинавшейся… язычницу, да, — или хуже того: создание полудемоническое, настолько странно сладострастное, настолько пылкое в утехах любви, что христианин подвергал некоторой опасности свою душу, прикасаясь своим телом к этому пылу. Луи Геноле, человек на редкость благоразумный, недаром много, много раз крестился при виде той, кого он про себя называл колдуньей. И вот этой колдунье или полудемоническому созданию вдруг понадобились обедни и священники, исповеди и причастия, ни дать ни взять, как какой святоше, стремящейся каждый праздничный день подойти к алтарю.
— Ну, что же? — спросила Хуана. — Вы молчите?
Он не знал, что ответить. Данный случай был не только чрезвычайно странный, но и чреватый последствиями. Куда же ее повести, эту еще никому не известную иностранку? К какому священнику? В какую церковь? Очевидно, только не в собор, куда собираются
к воскресной обедне все местные кумушки, заранее навострив языки! И не в маленькие часовни при различных монастырях, куда допускается лишь ограниченное число привилегированных прихожан… Куда же тогда?.. К крепостной обедне, которая для всех доступна, но на которой встречаются лишь гарнизонные солдаты, так как им запрещено показываться на других обеднях, потому что ревнивые малуанские горожане потребовали этого запрещения, чтобы избавить своих жен от волнующего блеска мундиров королевской армии?
— Ну? — нетерпеливо повторила Хуана. — О чем вы размечтались, разинув рот?
Он опять ничего не сумел ответить. Тут она вспылила.
— В чем дело? — крикнула она. — Или ты меня стыдишься? Или я слишком безобразна или слишком плохого рода, чтобы появляться рядом с подобным тебе мужичьем перед твоей Богородицей Больших Ворот или с большой дороги, Богородицей пиратов и разбойников? Пес ты эдакий! Заруби себе на носу: в следующее же воскресенье ты отведешь меня за руку в самую святую твою церковь или же, клянусь памятью моего отца, которого ты убил, — предательски! — ты раскаешься!
V
Между тем как раз в тот день, а было это в пятницу, кладбищенские ворота были открыты, согласно распоряжению господина епископа, желавшего, чтобы раз в неделю, а именно в пятницу, — день, освященный страстями господними — благочестивым малуанцам было предоставлено право и возможность помолиться на могилах своих близких. Вот через эти-то открытые ворота и вошла женщина, держа за руку ребенка. Женщина эта была скромно одета, в дрогетовой юбке и черном вдовьем чепце. Ребенок, небольшого роста, но очень стройный, живой и крепкий, не смеялся, однако же, и не резвился, но смирно держался подле матери. Оба они, не теряя попусту времени, прошли среди старых и свежих могил, как люди, хорошо знающие дорогу, и, наконец, опустились на колени перед бедным, почти жалким деревянным крестом, на котором написано было имя Винцента Кердонкюфа.
Женщина была Анна-Мария Кердонкюф, сестра покойного; а ребенок — собственный незаконный сын Тома Трюбле, рожденный этой Анной-Марией, незамужней матерью.
* * *
Месяцев через пять после смерти злополучного Винцента, месяцев через пять, значит, и после отъезда Тома, капитана «Горностая», бедная Анна-Мария, покинутая отныне на долгое одиночество — или навсегда, — родила этого незаконного сына, в лето господне 1673-е во вторую пятницу великого поста…
Всякая девушка, которая споткнется и сойдет с прямого пути честной женщины, всегда дорого платит за свою слабость или глупость. Но Анна-Мария в данном случае поплатилась по крайней мере за четверых и двадцать раз готова была умереть от множества оскорблений, жестокостей и даже грубых нападок, которые градом сыпались на нее со всех сторон. Как она все-таки спаслась и не умерла сразу же от голода и холода, как вскормила своего ребенка, воспитала и обучила его, — пожалуй лучше, чем своих законных отпрысков разные мещанки и знатные дамы, должным образом обвенчанные, гордящиеся этим и мужьями своими, и очень часто даже наставляющие рога, — Бог знает, и только он один!..
Конечно, все вначале отталкивали ее, оскорбляли, показывали на нее пальцем. Отец ее и мать, люди добродетельные, поспешили выбросить ее на улицу, как только проступок ее получил огласку. Она ютилась, где могла, и родила на улице — как бездомная кошка или собака — так как родильные приюты, разумеется, строятся не для потаскух! Даже при этом бедственном ее состоянии прохожие отворачивались от нее. И только две монахини монастыря Богоматери совершили милосердный поступок и соблаговолили присутствовать при ужасных родах этой зачумленной. Ребенка же из большого снисхождения окрестил священник, без церковного звона и подарков, понятно. После чего никто больше не беспокоился ни о матери, ни о ребенке.
Несмотря на это, мать выжила, сын тоже. Эта Анна-Мария Кердонкюф чего-нибудь да стоила. У нее не было недостатка ни в энергии, ни в решимости, и, кто знает? — ей, может быть, не потребовалось бы особенно благоприятных условий для того, чтобы сделаться самой порядочной из порядочных женщин у домашнего очага супруга, который бы очень гордился, и вполне справедливо, такой женой. Рок судил иначе. Но даже низведенная до состояния полного ничтожества — каким становится не имеющая мужа роженица, — прежняя подруга Тома Трюбле сумела честно зарабатывать свой хлеб насущный, несмотря даже на то, что весь город изощрялся всячески, чтобы его сделать ей горше полыни.
Прошло пять лет горького одиночества. У Анны-Марии Кердонкюф не осталось больше ни родных, ни близких, ни друзей. Родители отвергли ее, запретив ей даже носить их имя, считая, что она марает его, и заставив ее при помощи господ из Магистрата, которые издали специальное постановление, именоваться просто Анной-Марией. Просто Анна-Мария не принадлежала, стало быть, ни к какой семье, и естественно, что каждый старался быть от нее подальше. С какой стати стали бы посторонние принимать в ней участие и спасать погибшую дочь от справедливого гнева уважаемого родителя?
Впрочем, никого не удивляла такая суровость со стороны отца. В противоположность Трюбле, простым рыбакам, которые мало-помалу разжились благодаря каперству, Кердонкюфы были из старинного рода горожан, состояние которых, когда-то гораздо более значительное, постепенно оскудело. Но, как это свойственно людям, гордость и тщеславие этого рода, близкого к упадку, возрастали по мере ослабления денежного могущества. Так что дурное поведение несчастной Анны-Марии словно каленым железом прижгло уже задетое и страдающее самолюбие всех Кердонкюфов, имевшихся в наличии в Сен-Мало.
Хуже всего было то, что эти самые Кердонкюфы свысока относились к Тома Трюбле, отпрыску рыбачьего рода, когда он вознамерился, как уже известно, чуть-чуть поухаживать за их невинной еще Анной-Марией… Ухаживание это не могло, конечно, остаться незаметным для зорких глаз сплетниц и балаболок… И вот Кердонкюфы начали кочевряжиться. Так что парень обиделся; и это презрение к нему со стороны родных его возлюбленной, без сомнения, укрепило его в намерении окончательно порвать с ней. Гильемета Трюбле, сначала подруга, а затем соперница и враг Анны-Марии, радовалась этому разрыву, которому и сама всеми силами способствовала. И Кердонкюфы, со своей стороны, ему порадовались, хотя им и было досадно слышать, как эти же балаболки запели другую песню и стали болтать повсюду, что сам же парень Трюбле послал к черту Кердонкюфскую дочку… Впрочем, они делали вид, что не замечают этих сплетен, твердя всем и каждому, что никогда девушка, подобная их Анне-Марии, такой благородной крови и происхождения, не удостоила бы даже вниманием этого беспутного малого, это ничтожество, возымевшее наглость поднять глаза на столь недосягаемую для него высоту. Когда же обнаружилась беременность Анны-Марии, они уже не посмели обвинять Тома и требовать удовлетворения. Раз дочь их совершила ошибку, она перестала быть их дочерью. Впрочем, что касается Тома, то месть Кердонкю-фов должна была немедленно поразить его иным образом: раз Винцент умер, то не ясно ли, что убийца — Тома?
Так судили Кердонкюфы. По счастью, господа из Магистрата решили иначе.
И как всегда случается со всяким, даже запутанным делом, и это дело, в конце концов, постепенно устроилось. Тома, завоевав славу и богатство за океаном, прослыл в конечном счете таким молодцом, что всякие клеветнические толки на его счет заглохли. Винцент, ставший прахом, был забыт. И только самые застарелые и скверные городские распутницы продолжали еще сплетничать насчет Анны-Марии, которая, впрочем, никогда и не выходила из своей конуры, разве что на прогулку со своим малышом, которого она тем сильнее любила, чем больше он ей стоил слез, и который становился славным человечком, умным и хорошим.
* * *
Так что и самое возвращение сеньора де л’Аньеле не внесло сюда никаких перемен.
* * *
Итак, у могилы Винцента Кердонкюфа Анна-Мария молилась с большим усердием и сокрушением. Одна лишь, пожалуй, во всем Сен-Мало — за исключением Тома — знала Анна-Мария, что брат ее, здесь покоившийся, умер именно из-за нее. Ибо некогда, в день смертельной схватки, Винцент, отправляясь на поиски Тома, объявил об этом своей сестре, гордо похваставшись даже, что быстро исправит совершенную ею ошибку и без промедления приведет к провинившейся возлюбленной этого мужа, с которым она слишком рано сочеталась. Увы! Дело обернулось хуже…
Итак, Анна-Мария теперь молилась, как привыкла молиться каждую неделю, умоляя господа нашего Иисуса Христа и его Пресвятую Матерь простить побежденного поединщика, умершего едва ли не в смертном грехе. И ребенок тоже молился, по-детски, часто крестясь, то правой, то левой ручонкой. Наконец, наступила минута, когда ему нечего было уже сказать, так как он два раза подряд повторил от начала до конца все свои молитвы. Он замолчал. И мать его, заметив это, взяла его к себе, сложила его руки между своими ладонями и стала шептать ему на ухо молитву, которую она, очевидно, тут же придумывала и которую он послушно повторял.
— Милый маленький Иисусе, сжалься надо мной, который, как и ты, родился без папы. Пресвятая дева Мария, заступись за меня и попроси боженьку, чтобы он дал мне кормильца, как дал твоему сыночку. Во имя отца и сына, и святого духа. Аминь.
VI
— Так, стало быть, — сказал Луи Геноле с несколько смущенным видом, — брата моего, Тома, значит, нет дома?
— Нету-нет! — ответил Мало Трюбле, радушно протягивая посетителю руку. — Брат твой, Тома, вышел. Но он наверняка вернется к ужину. И если ты его здесь не подождешь, то сестра твоя, Гильемета, ни за что тебе этого не простит, потому что она умирает от желания с тобой поболтать. Оставайся, братец, и положи-ка сюда свою шляпу, а то ты так вертишь ею в руках, что, пожалуй, пообтреплешь ей поля. Оставайся, говорю тебе! И поужинаешь с нами, развеселишь нас всех, и старых, и молодых… У матери там петух варится в котле… Ей-богу, сынок, оставайся! А не то я рассержусь!.. В самом деле, разве ты нам не родной?
Луи Геноле, столь сердечно понуждаемый, остался.
* * *
Немного бывало гостей в доме на Дубильной улице. Благоразумные Мало и Перрина, хоть и разбогатели теперь, не захотели ни в чем менять свою прежнюю жизнь, сойдясь оба на том, что они слишком стары, чтобы заводить что-нибудь новое, как бы ни было оно — или как бы ни казалось — хорошо. Потом Тома пусть поступает по-своему и сколько ему угодно изображает буржуа или даже вельможу. Отец же его и мать, родившиеся рыбаком и рыбачкой, так рыбаком и рыбачкой и помрут. Тем не менее из поздно пришедшего к ним богатства они извлекли наиболее существенное — больше удобств и покоя, больше разнообразия в столе, вино лучшего качества, более мягкие постели. Но ничего больше. И в особенности ничего такого, что клонилось бы скорее к удовольствию посторонних, чем к удовольствию хозяев дома. Ни Мало, ни Перрина нисколько не заботились о том, чтобы видеть у себя в гостях, теперь, когда они обзавелись деньгами, эту шутовскую клику, которая именуется хорошим обществом, — породу людей, которые, понятно, никогда бы и не подумали зайти на Дубильную улицу, пока Мало и Перрина были бедняками.
Поэтому в доме у них бывали одни лишь истинные друзья, друзья прежнего времени. Но для них дверь была всегда широко открыта. И Луи Геноле, которого все почитали славным братом Тома и таким же Трюбле, в сердце своем, как если бы он им был по кровному родству, доставлял всегда большую и искреннюю радость каждый раз, как ему случалось постучать в дверь.
* * *
Оставшись с глазу на глаз или вроде того, — так как старик задремал, как всегда, в своем кресле, поджидая ужин, — Гильемета и Луи могли вволю наговориться.
— Итак, — повторила Гильемета после долгих расспросов все об одном и том же, — итак, вы не знаете, наверное, куда отправляется Тома и где он пропадает столько времени, уйдя от нас один и в меланхолии?
— Не знаю, — упрямо повторил Луи.
Кое о чем он догадывался; но и самая строгая правдивость не обязывала его говорить о том, в чем он не был вполне уверен. С другой стороны, ему было неприятно, даже и с добрыми намерениями, выдавать тайны Тома.
Подозревающая что-то Гильемета продолжала настаивать:
— Неужели вам, своему помощнику, брату и Брату Побережья, он ничего не рассказывает?
— Ничего! — сказал Луи. И на этот раз он проговорил это с горечью, не ускользнувшей от внимания Гильемета и уверившей ее в том, что он не лжет. Она сама слишком хорошо понимала, что можно грустить и печалиться, видя, что тебя изгоняют, лишая ответной нежности, из сердца тобою любимого, не давая больше проникать в его тайны, на что, казалось, ты был вправе рассчитывать.
— В таком случае, — сказала она, — раз вы скоро будете с ним разговаривать, расспросите его хорошенько и узнайте у него всю правду. Честью вам клянусь, что все это меня очень беспокоит, и даю голову на отсечение, что в этой тайне кроется немало худого!..
На что Луи Геноле только покачал головой, так как и сам он не меньше был убежден в этом, и не без основания, даже, увы, с гораздо большими основаниями: разве не достаточно было одного присутствия Хуаны в Сен-Мало, чтобы предвидеть наихудшие бедствия?
* * *
Геноле знал, сколько бесчисленных препятствий встретит дерзкое намерение Тома привезти в Сен-Мало язычницу-колдунью. Это было дело не только невозможное, но просто невообразимое. Но Тома как раньше не спрашивал совета, так и потом не просил помощи. Один, тайком от всех — тайком от Геноле даже — высадил Хуану под Равелином и провел ее в Большие Ворота. Хоть и обиженный втайне этим очевидным недоверием, которое выказывал ему таким образом столь любимый его брат, Луи тем не менее рад был, что благодаря этому освободился от всякого участия во всей этой истории: Тома, если станет раскаиваться, должен будет винить лишь самого себя в заботах, неприятностях и разочарованиях, которые не преминут скоро дождем и градом на него посыпаться.
* * *
Между тем Гильемета снова заговорила:
— Прежде, — сказала она, — он ни за что бы не скрыл от меня даже малейшего пустяка, а также и худшей неприятности. И вы можете спросить у него самого, пришлось ли ему хоть раз жалеть об этом, может ли он вспомнить хоть один промах или сплетню с моей стороны. Вы и сами, досконально теперь зная все, что его касается, можете это подтвердить. Проведали ли у нас в городе хоть что-нибудь о всех тех дерзких проделках, виновников которых тщетно разыскивают господа из Магистрата и даже само его высокопреосвященство? Известно ли было хоть что-нибудь о случае с Анной-Марией Кердонкюф, который, однако же, настолько беспокоил самого Тома, что он не захотел вернуться в прошлом году вместе с вами из Америки и предпочел послать вас вперед, чтобы посмотреть, что сталось с матерью и ребенком?
Она долго говорила в этом духе. Но Луи Геноле, сделавшийся вдруг внимательным, поднял голову:
— Что такое? — спросил он, когда Гильемета замолчала. — Что это за мать с ребенком, о которых вы говорили, упоминая имя Винцента Кердонкюфа?
Ибо он совершенно не представлял себе, что Тома был отцом малыша Анны-Марии. Действительно, в свое время, на Тортуге, Тома рассказал ему все про старую ссору, кроме истинной ее причины. И Луи, который никогда бы не скрыл в разговоре с кем бы то ни было малейшей капли истины, и не воображал даже, чтобы Тома мог быть иногда не так щепетилен.
Гильемета смотрела на него, разинув рот.
— Что такое? — спросила она, до того удивленная, что заподозрила его в притворстве. — О чем это вы спрашиваете, прикидываясь, будто ничего не знаете? Или вы думаете, что мне не известна вся эта история? Я ее узнала гораздо раньше вас.
Но Луи Геноле, еще более удивленный, чем она сама, только развел руками.
— Я вас совершенно не понимаю, — сказал он.
Она провела рукой по лбу.
— Не может быть!.. Вы в самом деле не знаете?..
— Чего не знаю? — спросил Геноле.
— Да того, о чем вы спрашиваете!.. Ну, словом, эта мать и этот ребенок… да вы смеетесь надо мной! Раз Тома отправил вас вперед прошлым летом из предосторожности…
— Он послал меня затем, — объяснил Геноле, — чтобы посмотреть, прошло ли раздражение Кердонкюфов по поводу того поединка, что был шесть лет назад. Тут не было и речи ни о какой матери и ни о каком ребенке.
— Но поединок-то! — воскликнула Гильемета. — Ведь этот поединок вызвал Винцент из-за своей сестры Анны-Марии, которая была в положении!
Изумленный Геноле отступил на два шага.
— В положении! — повторил он. — В положении… из-за Тома?
— А то как же! — молвила Гильемета. — Из-за кого же больше?
С минуты они оба молчали. Потом Гильемета потребовала дальнейших объяснений.
— Однако же, — начала она, — как все это произошло? Вы же, очевидно, слышали историю с Анной-Марией, как ее выгнали родные?
— Конечно! — ответил Луи. — Но чего я не знал, так это того, что ребенок принадлежит Тома.
— Ну да! — сказала Гильемета. — Если сам Тома вам ничего не сказал, то вы, конечно, ничего не могли узнать от других, так как тайна эта хорошо хранилась! По правде сказать, вы первый, кому я открыла ее, да и то только потому, что воображала, будто вам все известно…
— Но она? — перебил внезапно Геноле, — она-то, Анна-Мария, разве она тоже блюдет тайну? И почему, ради всех святых?
— Почем я знаю? — равнодушно ответила Гильемета. — По глупости, наверно… да из страха, что у нее возникнут новые неприятности из-за неосторожной болтовни или, как знать… из любви… Тома в свое время утверждал, что она горячо любила его… Во всяком случае, как ни была она порочна и распутна, Тома никогда не сомневался в том, что ребенок его… Но стоит ли так беспокоиться об этом отродьи!
Луи Геноле, встав, ухватился за шляпу, лежавшую на ларе.
— Луи? Вы что это делаете? — спросила Гильемета.
— Я иду, — сказал он, — навстречу Тома, чтобы поскорей его увидеть.
VII
— Таким образом, — произнес Луи Геноле сурово, — женщина терпела все эти шесть лет известные тебе страдания, и, несмотря на это, она не выдала твоей тайны и выкормила твоего сына. Разве не правду я говорю?
— Да, — согласился Тома, смотревший в землю.
— Ты думаешь, — продолжал Геноле, — много женщин было бы способно на это? И не находишь ли ты, что сестра покойного Винцента Кердонкюфа гораздо более достойна, чем любая из наших горожанок, войти под руку с тобой в наш собор и там, под звон всех колоколов на колокольне и при торжественной службе на главном престоле, стать законной супругой Тома Трюбле, сеньора де л’Аньеле?
— Совершенно верно, — снова согласился без малейшего колебания Тома.
— Тогда, — сказал Геноле, — отчего же ты не отправишься сейчас же просить ее руки?
— Оттого, что я не люблю ее, — сказал Тома.
Он поднял голову и смотрел на Луи Геноле, который, очень удивившись и плохо понимая, ничего сначала не ответил, погрузившись в раздумье.
* * *
Парень этот — Луи Геноле — не во всем походил на других. Сын честных родителей, обладавших известным достатком, — отец его, кузнец с улицы Решетки, никогда не нуждался в работе и понимал толк в красивых железных поделках, — Луи с детства больше интересовался отцовскими наковальнями и молотками, чем кубарями, волчками и юлами мальчишек его возраста. Позже, когда ему исполнилось четырнадцать или пятнадцать лет, и девочки стали обращать внимание на его приятную внешность, на цвет его лица, белый, как чистая бумага, и на черные, как свежие чернила, волосы, сам он не обращал внимания на их заигрывания. Набожный, чувствуя непомерный страх перед адом и дьяволом, убежденный, что одна невинная женщина может погубить больше христианских душ, чем двадцать лукавых демонов, отрок остерегался отроковиц. И в то время, как его сверстник Тома, — более равнодушный к делам веры и с более горячей кровью, — многим уже лазил под юбки, включая и Анну-Марию, Луи, начинавший увлекаться морским делом, проводил все свободное от молитв, исповедей и прочих благочестивых упражнений время на стоявших в гавани кораблях. Таким образом, юношеские их годы сильно разнились между собой. Так что, когда каждому из них было около двадцати двух лет, и кавалер Даникан завербовал их обоих на «Горностай», то Тома в это время был уже распутнее немецкого рэйтера, тогда как Луи еще не потерял невинности.
Такими они пустились в море — в лето господне 1672-е, такими же и вернулись из плавания — в лето господне 1678-е. Поэтому Луи, оставшись, говоря без прикрас, таким же Иванушкой-дурачком в искусстве любви, по-прежнему даже не понимал, что значит любить. И спросив Тома: «Отчего же ты не женишься на Анне-Марии?» — и получив ответ: «Оттого, что не люблю ее», он так же не понял этого ответа, как если бы Тома ответил ему не на чистом
французском языке, а на ломаном наречии ирокезов.
Тем не менее хорошенько потрудившись, хоть и тщетно, нам тем, чтобы проникнуть в глубокий смысл этих таинственных слов: «Я ее не люблю», Луи Геноле снова перешел в наступление.
— Что же такого? — сказал он с большой простотой. — Разве не приходится в нашей жизни делать каждый день много такого, чего делать не хочется и чего, значит, не любишь? Это твоя обязанность, как порядочного человека, жениться на этой женщине.
— Возможно, — согласился Тома. — Но что же поделать, если я не люблю ее?
Луи вспомнил очень кстати про ходячее мнение, которое ему приходилось слышать и которое он и воспроизвел:
— Сначала женись на ней, а там полюбишь ее.
— О! — воскликнул Тома, воздев обе руки к небу, — что ты говоришь, брат мой Луи? Вспомни, что мы с Анной-Марией уже раньше были влюбленными. Между нами тогда царила любовь. Она исчезла и, следовательно, никогда уж не вернется вновь. Кроме того, я люблю другую женщину и так сильно, что если бы мать моего сына хоть на каплю заподозрила это, то она сама бы отказалась выйти за меня замуж и, конечно, предпочла бы умереть.
— О! — в свою очередь воскликнул Луи.
Он не слишком удивлен был тем, что за всем этим скрывалась Хуана. Похитить супруга у супруги, отца у сына — это явно было колдовством, не хуже всякого другого. А что Хуана была колдунья, в этом не было никакого сомнения. Эта-то колдунья и навлекла на Тома какую-то порчу или нечто в этом роде. Поспешно Луи прочитал про себя по-латыни молитву. После чего, набравшись смелости, сказал возмущенно:
— О, брат мой, Тома! Неужели же какая-то мавританка, заведомо проклятая, не дает тебе ныне послушаться голоса чести и подвергает, таким образом, великой опасности твою душу?
Но Тома снова уставился в землю и не ответил ни слова.
* * *
Они шли рядом, наугад, по пустынным улицам, следя лишь за тем, чтобы не подойти слишком рано к дому Трюбле, так как им бы пришлось в него войти, потому что час ужина давным-давно пробил; а они оба предпочитали исчерпать этот разговор, дабы никогда больше к нему не возвращаться.
* * *
Луи между тем снова принялся за мавританку:
— Брат мой, Тома, ответь мне ради бога, скажи, не был ли я всегда предан тебе душой и телом и не требовал ли ты у меня, иногда даже против моей воли, совета каждый раз, как надлежало дать серьезное сражение или предпринять крупное дело? Разве я не правду говорю? Если это правда, то заклинаю тебя всем святым!.. Понимаешь ты, что значит это, — для девицы достойного рода, достойной всяческого уважения, — быть выгнанной на все четыре стороны из родного дома, подвергаться оскорблениям каждого встречного, жить посмешищем на улице и быть мишенью, которую может забросать камнями любой шалопай, удравший из школы? Брат мой, Тома, подумал ли ты о том, что твоего малыша — в то время, как мать его, славная женщина, пробовала его качать — нередко будил трезвон кастрюль и котлов, которыми стучали друг о друга, как стучат ими обычно у дверей размалеванных потаскух? Что сделаешь ты, чтобы прекратить все это зло? И неужели ты хочешь, чтобы сын твой, плоть от твоей плоти, остался незаконнорожденным, даже не знал, что он твой сын, — сын Тома-Ягненка?
— Это еще не самое худое, — сказал Тома, как бы думая вслух.
Он едва слушал, он вспоминал клятву, данную им в свое время готовому испустить дух Винценту Кердонкюфу… Христом Равелина и пресвятой Девой Больших Ворот поклялся он, Тома, жениться на Анне-Марии, если только Анна-Мария от него беременна. И оказывалось, что это именно так: ребенок — от него, он сам ни минуты в этом не сомневался… Если он на ней не женится, то что же скажет Винцент Кердонкюф из глубины своей могилы? И что скажет гневная Богоматерь, и что скажет Христос, страшный для клятвопреступников?
— Да… есть кое-что гораздо хуже! — повторил Тома, вздрагивая всем телом.
— Матерь божия! — молвил Луи Геноле, разинув рот. — Да что же еще хуже-то?
Но Тома счел излишним отвечать. Он про себя соображал. Не было ли какого-нибудь средства? Не являлись ли деньги таковым — всемогущим, пригодным для излечения всяческих страданий?.. В конечном счете, дело Анны-Марии представлялось пустяком по сравнению с делом Хуаны… Но даже и трудности, связанные с положением Хуаны, могли бы, пожалуй, получить благоприятный исход — благодаря деньгам, должным образом истраченным. И едва ли больше потребовалось бы для того, чтобы сделать из сестры Винцента уважаемую горожанку, а из незаконного сына — молодца, который стоил бы любого другого. Оставались, правда, Христос и его пресвятая мать… Смилостивятся ли они, — всемогущие, благодаря свечам, щедрой милостыни, покаянию и прочим подходящим проявлениям благочестия?
— Увы, — проговорил Геноле, сильно опечаленный, — брат мой, Тома, я вижу, что ты озабочен и сумрачен, но все еще не можешь принять правильное решение. Мыслимо ли, чтобы какая-нибудь баба… Ах! Верно, лукавый следил за ними в тот день, когда мы погнались за проклятым галионом, на котором была эта Хуана…
— Да ведь я люблю ее, — сказал Тома.
VIII
В это воскресенье, на которое как раз приходилась Троица, викарий во время торжественной мессы, взойдя после чтения евангелия на кафедру с намерением начать, как обычно, проповедь, должен был, наверное, воздать хвалу господу за обилие верующих, которые теснились в соборе и обращали к проповеднику свои внимательные и набожные лица. Правда, малуанцы и малуанки, добрые христиане и верные своим обязанностям благочестия, стараются никогда не пропускать воскресную обедню. Но торжественная служба, с пышным хором, с сопровождением органа и запутанной проповедью, длится нередко целых два часа. А многим хозяйкам два часа могут показаться очень долгим сроком по причине обеда, который приходится в воскресенье стряпать точно так же, как и в будни; поэтому они предпочитают слушать обедню без пения, шестичасовую, для прислуги; или проповедническую, в семь часов. Однако же в двунадесятые праздники харч охотно приносится в жертву религии. И викарий, порадовавшись тому, что лишний раз смог в этом убедиться, начал проповедовать чуть ли не перед всем городом.
Нечего и говорить, что Тома был тут же, рядом с отцом и матерью, Мало и Перриной, и с сестрой своей Гкльеметой; а также с братом своим Бертраном и братом Бартелеми, так как оба они воротились из недавнего похода к берегам Анголы. Все они держались гордо и очень прямо, как подобает почтенным людям, богатым и уважаемым, о которых даже самые злые языки не смеют судачить. И немало важных горожан потеснилось и отошло, чтобы дать в своей компании побольше места этим Трюбле, являвшимся отныне настоящими буржуа. Тома, осмотревшись вокруг, узнал своего крестного Гильома Гамона господина де ла Трамбле, а также Жана Готье и брата его Ива и потом Пьера Пикара — все богатых арматоров; неподалеку стоял кавалер Даникан, которого двадцать предприятий, увенчавшиеся полным успехом, бесспорно сделали настоящим королем каперства и торговли; а за ним прятался Жюльен Граве, который благодаря своей скаредности настолько же оскудел, насколько возвеличился кавалер Даникан… Одним словом, тут находился буквально весь Сен-Мало; и, сказать по правде, викарий мог гордиться столь обширной и прекрасной аудиторией.
Но будучи поистине святым человеком, одному лишь Богу приписал он заслугу в этом и ему вознес хвалу. Перекрестившись и прочтя краткую вступительную молитву, он начал свою проповедь, возгласив в качестве введения во весь голос, который у него был громоподобный, божественную заповедь, к коей хотел он в этот день привлечь внимание своей паствы:
— Не помяни имени господа Бога твоего всуе…
Те же, кто в эту самую минуту глядел случайно на Тома Трюбле, сеньора де л’Аньеле, могли заметить, как он внезапно вздрогнул, — очевидно, по причине холодного ветра, подувшего на него из-за какой-нибудь плохо прикрытой двери или из разбитого оконного стекла…
* * *
Далеко от кафедры, — далеко также и от именитых особ, граждан знатного города, и от степенных женщин — их жен, сестер, дочерей и матерей, — скромное существо, одетое во все черное, со вдовьим чепцом на голове, старалось остаться незамеченным, как бы прячась в тени колонны. И рядом с этим существом, с Анной-Марией, бывшей когда-то Кердонкюф, стоял, держась за ее юбку, незаконный ребенок, родившийся у нее от Тома; ребенок, не имевший отца, и для которого его безропотная мать и не ждала никакого отца.
* * *
Между тем проповедник находился уже в разгаре своего поучения:
— Так-то вот, возлюбленные братья, — говорил он, — надлежит ясно усвоить эти важные понятия! Не только лживые клятвы запрещает и осуждает божественная заповедь; не только эти слишком ужасные преступления, осуждаемые даже язычниками и которыми, я уверен, ни один настоящий малуанец не осквернит свою душу… Но также и всю мелкую божбу и богохульство, из которых малейшее сильнее отягчает христианскую совесть, чем пески Сийона отягчаются башнями Кик-ан-Груань и Женераль, обеими сразу! Помните это хорошенько, братья мои, помните об этом непрестанно: одно лишь имя господне, произнесенное понапрасну, подвергает нас самым ужасным пыткам чистилища! И я не хочу здесь даже и вспоминать о неимоверно худшем, тяжком и смертном грехе: ибо всякий, кто умышленно призовет спасителя нашего Иисуса или его пресвятую матерь, или кого-либо из преславных святителей, обитающих в раю, в свидетельство ложного, тот — дважды лжец перед Богом и перед своим ближним, сейчас же после смерти прямо отправится кипеть в дьявольском котле сатаны, всегда полном до краев горящей серой, расплавленным свинцом и тысячью других зажигательных составов… Вечно, о мои братья! Представьте себе беспримерный ужас этой длительности, не имеющей конца, по сравнению с которой сотни тысяч столетий поистине не длиннее одной секунды! Братья, да будет вам таковое спасительное устрашение могущественным препятствием к совершению греха, тем клином, который бы не выпустил из уст ваших ни одно лживое или неосторожное слово, которое вы бы покусились произнести!..
Так проповедовал почтенный викарий, с великим умилением и убедительным красноречием. И все напрягали слух, чтобы ничего не пропустить из поучения, — как вдруг непривычное волнение пронеслось среди стоявших около боковой двери, через которую входят верующие миряне, ибо главным ходом пользуются лишь его высокопреосвященство господин епископ, а также и другие церковнослужители как из епископского дома, так и из орденского капитула. Итак, толпа верующих, стоявшая до сих пор неподвижно и в молчании, зашевелилась и стала перешептываться, потому что, в противность доброму порядку и благочинию дома божия и несмотря на то, что торжественная обедня началась уже не менее как три четверти часа тому назад, какая-то дерзкая женщина распахнула обе обитые кожей створки деревянной двери и, расталкивая окружающих, продвигалась в середину храма, столь же нахально, как если бы еще не пелось Intrabo ad altarem Dei. Шум был достаточно силен, а суматоха достаточно заметна для того, чтобы со всех сторон движимые любопытством лица повернулись к тому месту, откуда исходила эта непристойная сумятица. Тогда Тома, также повернувшись, подобно своим соседям и соседкам, задрожал и сделался белее савана — при виде Хуаны…
* * *
Несмотря на ясно выраженное ею желание и на все те угрозы, которые она по сему случаю высказывала, Тома никогда и в голову бы не пришло повести свою любовницу «за руку» — как ей бы того хотелось «в самую святую из малуанских церквей». Легкомысленно положившись на старое изречение, по которому у баб семь пятниц на неделе, он тщательно остерегался в течение всей недели опасных тем о набожности, исповедях и молитвах. Впрочем, и Хуана больше к ним не возвращалась. Так что Тома, когда суббота миновала, решил, что дешево отделался и может быть спокоен: Хуана, как было совершенно очевидно, забыла о своей мимолетной прихоти.
Хуана же ничего не забыла, так как она никогда ничего не забывала. Но чрезвычайно оскорбленная нерешительностью своего возлюбленного и уверенная в глубине души, что он в действительности стесняется ее, она решила вывести его на чистую воду, отправившись одна туда, куда он не беспокоился ее свести, и присоединившись там к нему на виду у всех. Это она и сделала, как мы только что видели…
* * *
И вот она была здесь, в самой середине этого собора, полного именитых малуанцев, которые все заметили ее и все продолжали ее разглядывать, удивляясь этому незнакомому лицу, порицая это шумное вторжение, которым так досадно была прервана служба… С высоты своей кафедры непременный викарий, дважды прервав свою проповедь, бросал на непрошеную пришелицу сердитые взгляды. И он комкал и сокращал заключение своей речи, видя, что рассеянная аудитория уже не слушает своего пастыря с прежней набожной сосредоточенностью…
* * *
Гильемета тоже посмотрела — увидела, поняла. Ревность ее, всегда готовая вспыхнуть, с первого взгляда почуяла в этой странной девушке — слишком стройной и слишком смуглой, со слишком красными губами и слишком блестящими глазами — соперницу и врага, воровку, присвоившую себе расположение и доверие Тома, которая, без сомнения, заставляла его, встречаясь с ним Бог его знает где, каждый день покидать на долгие часы опечаленный этим родительский дом…
Побледнев от сдерживаемой ярости, Гильемета украдкой поглядела на брата. Тома, стиснув зубы и нахмурив брови, не отводил больше взгляда от алтаря. Но надо было плохо знать его, чтобы ошибиться при виде свирепого и упрямого выражения этого взгляда, в котором Гильемета лучше, чем в раскрытой книге, читала смущение, гнев, неловкость и смертельный страх…
* * *
Между тем торжественная служба подходила к концу. Обратившись лицом к верующим, священнодействовавший пастырь пропел Ite, missa est. Затем, перейдя, согласно обряду, от посланий к евангелию, он начал заключительное: In principio erat verbum… А Тома, озабоченно размышлявший, не усматривал никакой возможности избежать, выходя из собора среди своих родных, встречи с Хуаной. Что она сделает? Какой устроит ему скандал? Он не смел и представить себе этого…
Священник, спустившись со ступенек, запел теперь: Domine, fac salvum regem… и все молящиеся ему подпевали, как надлежало верным подданным, преданным своему государю.
И один лишь Тома молчал, столь сильно озабоченный, что забыл — поистине впервые — помолиться Богу о благоденствии и славе этого короля, Людовика XIV, которого он, Тома, горячо, однако же, любил.
* * *
Наступила, наконец, страшная минута. По выходе из дома господня Тома, принужденному следовать вместе с Бертраном, Бартелеми и Гйльеметой за медленно шагавшими, взявшись под руку, Мало и Перриной, Тома ничего не оставалось делать, как спуститься по улице Блатрери и подойти к арке, которая служит выходом из церковной ограды. У самой же арки остановилась Хуана в ожидании своего возлюбленного.
Место было выбрано удачно — весь город толпился вокруг. Нигде не мог бы разразиться скандал крупнее и опаснее. Уже много любопытных остановилось около этой странной девушки, которой никто до того не видал и о которой никто ничего не знал.
Трюбле подходили к арке. Хуана живо выступила вперед, одной рукой отстранила стоявшего у нее на дороге Бартелеми и схватила за руку Тома, сказав ему настолько громко, что всем с одного конца улицы до другого все до единого слова было слышно:
— Не пойдем ли мы домой, моя радость?
* * *
Народ, который толпился на мостовой, болтая и зевая по сторонам, в ожидании очереди, чтобы пройти тесным сводчатым выходом, внезапно замолчал. И наступила полнейшая тишина. В ту же секунду не осталось ни одного малуанца, который бы не сообразил в точности, в чем дело, кто такая Хуана, какие отношения соединяют ее с Тома, и какое бесчестие должно от этого пасть на всех носящих имя Трюбле, начиная с Мало и Перрины и кончая Гиль-еметой и ее братьями. Действительно, все они, сколько их тут было, стояли ошеломленные и подавленные, как люди, которых поразил гром небесный. Никто из них не произнес ни звука. Что придало дерзости Хуане, которая, не выпуская руки Тома, воскликнула:
— Ну, что же? Идете вы?
Тогда Тома Трюбле, который до сих пор не вымолвил ни слова, вдруг очнулся и сделался самим собой. Все было безнадежно потеряно: скандал был публичный и такого свойства, что его в будущем нельзя было никогда загладить. Оставалось, значит, только идти напролом, гордо подняв голову, — как это делают флибустьеры и корсары, идя в бой один против тысячи. Тома Трюбле, сеньор де л’Аньеле, выпрямился во весь рост и окинул толпу огненным взглядом. Затем, обращаясь к своей любовнице:
— Эй! — крикнул он, и голос его прозвучал сухо и повелительно, как звучал на мостике «Горностая» в часы сражения. — Эй, ты! Кто тебе разрешил сюда являться? И с каких это пор ты поступаешь по-своему, не слушаясь моих приказаний?
Хуана, смертельно побледнев, отступила на шаг и раскрыла рот для ответа. Но не успела она это сделать, как Гильемета, неистово возрадовавшись нахлобучке, которой подвергалась соперница, разразилась пронзительным смехом. И Тома мгновенно набросился на нее:
— Ты, — приказал он, — молчать! Береги задницу и не вздумай трогать эту вот, если тебе дорога твоя шкура!
Выставив когти, лицом к лицу, обе девушки, казалось, готовы были броситься друг на друга. Толпа, жадная до скандалов и лакомая до потасовок, уплотнилась вокруг них. Перепуганная старая Перрина обеими руками удерживала свою Гильемету. Но Мало Трюбле, выйдя внезапно из своего первоначального оцепенения и большим усилием воли вернув к себе достоинство отца и главы семьи, увлек за собой свою супругу:
— Жена, — сказал он, — ступай прочь отсюда!
Он посмотрел на Тома — на самого дорогого своего сына… и старое родительское сердце болезненно сжалось. Однако же он не колебался. Он повторил:
— Прочь отсюда, жена! Наше место у себя дома… Уходи прочь! И всем своим детям я велю идти за нами…
И он выпрямился, произнося последнее слово:
— А те, кто не пойдет за мной, больше не дети мне!
Бертран и Бартелеми поспешно повиновались. Гильемета стиснула зубы, но повиновалась тоже.
И все пятеро пошли прочь, не поворачивая головы…
Один Тома остался позади. Он смотрел на Хуану.
Народ вокруг, думая, что он ее сейчас бросит, начал смеяться и принялся издеваться над ней, отпуская множество шуточек, согласно достойному обычаю людей, которые торопятся оскорбить и унизить всякую несчастную женщину, как только увидят ее без защиты. Однако же в этом случае люди эти плохо рассчитали, так как Хуана не была еще в их власти. Тома был здесь. И достаточно было этих шуток и издевательств, чтобы снова вернуть его своей любовнице, несмотря на решительное приказание старого Мало. Видя поддержку корсара, насмешники, как по волшебству, снова сделались серьезны. Тогда Тома и Хуана, взявшись за руки, вместе прошли под аркой и отправились как раз в обратную сторону.
Но, очевидно, было предначертано, что в этот день Тома Ягненок должен встретить на своем пути все наихудшие препятствия. В то время, как он сворачивал, миновав арку, влево на улицу Ленного Креста, чтобы кратчайшим путем достигнуть улицы Пляшущего Кота, — раз отныне у него не было другого жилья, кроме дома Хуаны, — кто-то снова преградил ему дорогу; и это был не кто иной, как Луи Геноле, который затерявшись в толпе, наблюдал за всей этой сценой и, сообразив, что Тома таким образом порывает со всеми своими родными, инстинктивно принял некое решение, составил план и теперь выполнял его.
Подойдя, стало быть, к Тома, он сказал ему:
— Брат, взгляни!
И Тома, посмотрев, увидел позади Геноле женщину, одетую во все черное, и ребенка, державшегося за юбку этой женщины: Анну-Марию и незаконного своего сына. Ни она, ни он не говорили, и Геноле не прибавил ни слова к тем двум, что произнес. Тома, между тем, видя их троих, молча умоляющих его, почувствовал, что в груди у него сердце сжимается.

Там удалялась семья, которая была его семьей и которая, быть может, больше уж ею не будет… Но разве здесь не находил он новой семьи, которая не меньше той ему принадлежала и которая могла, в конечном итоге, заменить один домашний очаг другим… и даже, почем знать, на место одного счастья поставить другое?
Но вдруг Хуана тонкими своими пальцами, — искусными в утонченных ласках, что могут сломать мужскую волю подобно тому, как ураган ломает тростник, — слегка сжала руку своего возлюбленного, желая увлечь его поскорей за собой. И этого оказалось достаточно: Тома, сразу откинув все сомнения, грубо оттолкнул Луи Геноле и, не глядя больше ни на мать, ни на ребенка, молча теперь плакавших, пошел от них прочь…
IX
И вот для Тома Трюбле, сеньора де л’Аньеле, началась странная жизнь, которой, пожалуй, ни один малуанец не испытал до него. Начиная с этого дня, Тома Трюбле так же перестал быть Трюбле, как прежняя его милая, Анна-Мария Кердонкюф, за эти шесть лет перестала быть Кер-донкюф. Открыто и отнюдь ни от кого не прячась, Тома поселился на улице Пляшущего Кота. И никто больше не видел, чтобы он когда-нибудь посещал дом на Дубильной улице; этого больше не случалось. Впрочем, он знал, что мог встретить там только плохой прием, так как старый Мало был такого нрава и характера, что все бы мог простить своему сыну, только не публичный скандал и ослушание на виду у всех. К тому же он и выразил это очень определенно, когда, собираясь пройти под арку на базарную площадь в ту самую минуту, когда произошел роковой скандал, он приказал всем своим детям следовать за ним, добавив решительным голосом, что «те, кто не пойдет за ним, больше не дети ему…»
Итак, между ними образовался ров. И ров этот, отделявший Тома от его семьи, отделил его вскоре и от друзей, и от всего города. Тома, почти не будучи больше Трюбле, сделался почти ничем в Сен-Мало.
Конечно, с Тома дело обстояло иначе, чем с Анной-Марией. Как бы то ни было, сеньор де л’Аньеле оставался все же видной персоной. Уличные мальчишки не смели бегать за ним по пятам. И каждый встречный горожанин почитал всегда за честь низко ему поклониться. Но этим и ограничивалась учтивость. И не было ни одного добропорядочного мужчины или женщины, кто бы хоть раз постучал в двери того дома на улице Пляшущего Кота, где Тома и Хуана продолжали жить в ожидании собственного особняка, который теперь Тома на самом деле старался приобрести. Ибо он все еще надеялся, что, в конце концов, ему удастся с помощью роскоши победить предрассудки своих сородичей и зажить в свое удовольствие среди них, назло сплетницам, и снова занять свое положение среди буржуазии, а главное, заставить всех примириться с Хуаной…
* * *
Хуана же, вначале упоенная победой, одержанной ею почти без усилий над всем семейством и над всей, так сказать, родиной своего возлюбленного, скоро заметила, что выгод от этой победы не было, однако же, никаких. Что может быть, в самом деле, проще? Положение ее ничуть не изменилось от того, что теперь Тома жил на улице Пляшущего Кота, вместо того, чтобы приходить туда в гости, как он это делал раньше, — впрочем, ежедневно и очень аккуратно. Правда, она могла теперь свободно выходить из дому. Но мало удовольствия гулять по улицам, когда встречные выражают вам одно презрение и никогда не уступают вам дороги, не говоря о вещах похуже этого. Благодаря многочисленным неприятным приключениям Хуане быстро опротивели ее одинокие прогулки. Два раза, между прочим, она столкнулась неудачно, носом к носу, с Гильеметой. И Гильемета, как никогда терзаемая ревностью, не упустила удобного случая изругать на все корки свою ненавистную соперницу, — при общей поддержке всех зевак. Еще бы немного, и обе эти ссоры перешли в потасовку. Хуана, не склонная к терпению и, пожалуй, более воинственная, чем Гильемета, наверно, даже бросилась бы на нее первая, если бы не эти зрители, обступившие их обеих, зрители сплошь враждебные по отношению к иностранке, которые не потерпели бы, чтобы кто-нибудь задирал их землячку. Хуана вполне отдавала себе в этом отчет — шансы ее на победу будут невелики, буде наступит когда-нибудь день стычки. А рано или поздно стычка эта должна была произойти; действительно, сестра Тома ненавидела теперь своего брата со всей силой былой любви и поклялась дать ему самые яростные и самые вероломные доказательства этой ненависти.
Так что Тома, хорошо и надлежаще осведомленный об этом, предпочитал не спускать глаз со своей милой и по возможности сопровождать ее на прогулках. Это обеспечивало Хуане защиту от возможных оскорблений; кроме того, она была неравнодушна к почету, окружавшему такого спутника — бесспорно храбрейшего во всем городе. Несмотря на это, стоило влюбленным появиться таким образом даже в самом многолюдном квартале, как перед ними таинственно пустели улицы. Конечно, ни один малуанец не решался выказать непочтительность к корсару, однако, ни один малуанец не хотел также кланяться беспутной девке…
Так что Хуана вела жизнь как бы зачумленной, и притом в стране, климат которой и небо ничуть не могли ее очаровать, ничем не напоминая ей, хотя бы отдаленно, ослепительное солнце Севильи, а тем паче солнце ее Сиудад-Реаля, полного света и тепла, полного огня, выражаясь одним словом.
Поэтому Хуана, вспоминая в мечтах своих оба ослепительных города, — прежние свои отчизны, — вспоминая вместе с ними юность свою и детство, не менее ослепительные и особенно казавшиеся таковыми в силу своей отдаленности, — Хуана, сравнивая теперешнее свое положение с прежним, настолько лучшим, начала впадать в дурное расположение духа…
Увлеклась она корсаром среди первобытного величия приступа и победы в захваченном редуте. Там явился ей Тома адмиралом и главнокомандующим, окруженным столь ужасной славой, что даже коронованные государи ей бы позавидовали. Столь же прельщенная, как и устрашенная, Хуана послушалась тогда скорее голоса честолюбия, чем любви, последовав за грозным человеком, только что убившим всех ее родных и готовым заменить единолично всех их в ее сердце. В первую минуту она подумала, что, сделавшись подругой такого короля, короля в силу храбрости и могущества, она всюду будет королевой. И вдруг она не только не достигла трона, но была низведена здесь в такие условия, что их бы отвергла самая захудалая мещанка! Тома, правда, внушал ей надежду на счастливую перемену, но она что-то не видела наступления этой перемены… и во всяком случае долго еще нельзя было ни на что надеяться… Долго же… Терпение не относилось к числу добродетелей Хуаны!..
Итак, расположение духа ее быстро переменилось, и не без причины. И Тома, который вначале страдал, видя свою милую недовольной и несчастной, вскоре стал страдать из-за того, что она делала его несчастным. Обычное полное согласие, которое создавала между ними любовь, сменила с этого времени привычка к ссорам и раздорам. Они снова стали говорить друг другу ты — и не из-за более пламенной любви… Не то, чтобы они перестали любить друг друга! По-прежнему деспотическая страсть, более сильная, чем все их раздражения, бросала их друг другу в объятия, и они дошли до того, что стали предаваться страстным ласкам во время самых яростных своих раздоров. Но любовь эта, яростная и сварливая, судорожная и порывистая, — если и оставалась все еще страстью и даже пламенной страстью, — конечно, давно перестала быть нежностью.
X
Апрель месяц прошел, потом май и июнь, блистательные и сияющие, потом июль и август, нестерпимая жара которых измучила весь город с его жителями: мужчинами, детьми, женщинами, вплоть до сторожевых псов у ворот и пристаней малуанских. Одна лишь Хуана не испытывала этой тягости в силу своего почти тропического происхождения. И даже в то время, когда все бретонские спины обливались потом и поджаривались на солнце, как индюшки на вертеле, подруга Тома, ставшая на время сговорчивей и хорошо настроенной, находила самое большое удовольствие в том, чтобы жить полураздетой, ненасытно отдаваясь в сладострастной праздности, жгучим ласкам полуденной луны, как у нас говорится.
Но затем явилась осень с обычной свитой дождей, туманов и холодов. При первом же граде, забарабанившем по стеклам их дома, Хуана снова насупилась вместе с небом, из голубого сделавшимся темно-серым. Тома же, во избежание слишком участившихся злобных выходок, стал нередко удирать из дому и гулять в одиночестве вдоль городских стен, как он это и раньше делал в те времена, когда Сен-Мало еще и не подозревал о существовании этой столь раздражительной Хуаны… Увы! Времена эти безвозвратно миновали…
И вот как-то вечером, во второй половине октября, Тома, гуляя таким образом, встретил Луи Геноле, который тоже прогуливался. Это было недалеко от башни Богоматери, на Низких Стенах, тянущихся вдоль куртины над побережьем Скорой Помощи; на этом побережье в песок зарыты разбойники, убийцы и иные тяжкие преступники, павшие от руки палача. Тома, рассеянно смотревший на это печальное и сыпучее кладбище, не заметил Луи, который, подойдя неожиданно, охватил руками своего старого капитана и нежно обнял его; так как Луи, невзирая на все, что произошло и могло еще произойти, хоть и не одобрял Тома, все же продолжал горячо его любить, а Тома продолжал любить Луи точно такой же любовью.
Впрочем, они часто виделись, так как Луи Геноле, единственный из всех добропорядочных малуанцев, никогда не переставал, пренебрегая общественным мнением, посещать дом на улице Пляшущего Кота. И надо было почитать это большой с его стороны заслугой, так как Луи Геноле, если и не боялся нисколько осуждения своих сограждан, то до крайности страшился лукавого, его сует и хитростей. И он не сомневался, что, заходя в дом более чем подозрительного создания, как Хуана, от которого так и зашибало нос серным запахом, встречая упомянутое создание вблизи, говоря, беседуя даже с ним, как ему волей-неволей приходилось, он подвергает свою душу величайшей опасности. Но Луи, хотя и устрашенный этим безмерным риском, все же предпочитал ему подвергаться — при поддержке и покровительстве всех святых рая — и не обрекать своего брата Тома участи, которую он, Геноле, почитал со дня на день все более пагубной — в смысле благочестия.
* * *
И вот Луи и Тома разговаривали, облокотившись один возле другого о парапет куртины и смотря на море и бегущие по нему барашки. По зимнему небу проносились серые облака.
— Большие холода теперь уже не замедлят наступить, — сказал Геноле, говоря сначала о погоде, как принято для того, чтобы завязать разговор.
— Да, — ответил Тома, испуская при этом глубочайший вздох. — И пойми, — продолжал он как бы в пояснение своего вздоха, — хорошенько, брат мой, Луи, пойми, что в такие вот печальные и мрачные вечера я начинаю горько жалеть о блестящих днях былого времени и о тропическом солнце Антил, которое постоянно украшало кровавым пламенем все небо и все море в час своего заката!..
Луи Геноле растопырил руки и поднял их кверху в знак того, что прекрасно помнит это. Но ничего не ответил. Так что Тома пришлось одному продолжать, что он и сделал, после некоторого раздумья:
— Ну, да! — начал он снова, как бы отвечая собственным мыслям, — легко понять, что она не может привыкнуть к нашему суровому климату, столь отличному от родного ей и куда более неприятному…
Он не называл Хуаны. Но Луи Геноле не мог бы ошибиться. Все же он остался нем, как прежде. И тогда Тома тоже замолчал, подперев лицо рукой, как будто собирался сказать что-то важное, не зная хорошенько, с чего начать.
— Наконец, однако же, рано или поздно, — сказал он вдруг с какой-то решимостью в голосе, — мне все же придется вернуться туда или поехать еще куда-нибудь. Так как, мне думается, не дело парню из Сен-Мало, не достигши еще третьего десятка, прозябать всю свою жизнь в четырех стенах своего дома, будь даже этот дом велик и богат!..
Вздрогнув, Луи Геноле облокотился на парапет и посмотрел в лицо Тома.
— Так ты, значит, снова хочешь пуститься в каперство? — спросил он его немного дрогнувшим голосом.
— Да! — отвечал Тома совсем тихо.
* * *
Он действительно хотел этого. Иначе говоря, Хуана, которой надоело подвергаться презрению малуанских мещанок, которой надоело также терпеть суровое бретонское небо, действительно хотела сразу от всего освободиться, возможно скорее покинув страну, которую она теперь ненавидела всей душой.
Ну, а чего Хуана хотела, того же хотел и Тома. Чего бы ему еще желать?
К тому же, чего иного и желал он сам для себя, как не увидеть снова на устах своей милой и снова вкусить, наслаждаясь, эту алую улыбку, с которой собственная его жизнь была как бы связана, улыбку, сейчас погасшую, увядшую, которая, в самом деле, казалось, могла снова расцвести лишь под жгучими лучами южного солнца?..
— Здесь жить, — продолжал Тома, говоря с полной откровенностью, — я не могу больше! О, брат мой, Луи! Вспомни наши добрые походы былого времени, вспомни эти славные годы боев и добычи, вспомни нашу тогдашнюю свободу, столь великую, что даже сам король на своем троне со скипетром в руке не так свободен, как мы были тогда!.. Разве это неправда, скажи? Разве не были мы между небом и водою, вне всяких законов и правил, подчинены лишь собственной воле? Или, правильнее говоря: господа всему, после Бога?.. Еще бы! Те, кто раз отведал этой вольной воли, те уже не могут довольствоваться той жизнью, какую ведет в стенах мирного города, слишком жалкой и стесненной жизнью!..
Луи Геноле покачал головой. Многое можно было возразить. Но к чему? Тома был из тех неболтливых людей, которые говорят, лишь решившись и даже твердо решившись действовать. В данном случае даже самые лучшие доказательства спасовали бы перед его решимостью…
И Луи Геноле, не тратя лишних слов, спросил:
— Раз ты отправляешься, то как ты это сделаешь?
* * *
Объяснение длилось долго. Тома, открывшись в самом главном, почувствовал душевное облегчение. И он предпочел ничего не замалчивать в своем проекте, ценя советы Геноле. Итак, он изложил ему во всех подробностях, каким образом кавалер Даникан, застигнутый врасплох мирным договором, подписанным пять недель тому назад королем и почти всеми его врагами, оказался в настоящее время обладателем шести легких фрегатов, разоруженных в Добром Море, которых он больше не мог использовать. Поэтому он хотел, если это возможно, продать их, хотя бы с убытком. Среди них находился и «Горностай»; и Тома подумывал о его покупке, совершенно уверенный в том, что кавалер ему, Тома, уступит его задарма; так как Готье Даникан был на редкость порядочный человек и всегда готов был сделать одолжение тем, кто в свое время хорошо ему услужил.
— Пусть будет так! — согласился Луи Геноле, оставаясь озабоченным, так его мучило одно сомнение. Впрочем, он долее не мог сдерживаться:
— После того, как мир теперь заключен с англичанами, голландцами, а также и с испанцами, что же ты-то будешь делать со своим фрегатом, если кавалер, несмотря на всю свою смелость, не решается с ним ничего другого сделать, как продать его по цене старого дерева? Не забудь, Тома, что теперь адмирал не даст тебе никакого каперского свидетельства.
— Ба! — молвил Тома, беззаботно смеясь, — конечно, король остается королем, но и Флибуста остается Флибустой. Что же ты думаешь, что там наши старые приятели, Братья Побережья, — Краснобородый и его девка Рэкэм, так же как и все остальные: уроженец Дьеппа, Венецианец, флибустьер с Олерона, — сами-то подписали, что ли, мир с кастильскими обезьянами? Не беспокойся, Луи! Оставь свои заботы и не отчаивайся. То, в чем нам откажет адмирал, то всегда как-нибудь сумеет нам разрешить господин д’Оже-рон, хотя бы от имени португальского короля!
На что Луи не нашелся ничего возразить. Действительно, разве не обстояло дело именно так семь лет тому назад? К тому же, можно ли было подумать, чтобы в Нимвегене, где только что был подписан мирный договор, послы его величества, занятые таким большим числом ведущих между собою войну королевств и провинций, хотя бы вспомнили, что где-то на свете существует некая Тортуга?
Тома радостно продолжал:
— И представляешь ты себе, брат мой, Луи, как мы снова теперь бросим якорь на рейде этой незабвенной Тортуги и нанесем весьма церемонно визит губернатору, уже не в качестве ничтожных капитанов на посылках у арматора и поставщика, как раньше, но как настоящие начальники и вельможи, которые сами себе и поставщики, и арматоры, и могут, наконец, равняться с теми прославленными флибустьерами, которые никому не подчиняются, часто даже самому королю!
На этом закончил Тома. И Луи, молчаливый и меланхоличный, подумал, что бесполезно было бы что-нибудь на это возражать и что действительно это заранее предрешенное дело.
* * *
Они снова стали прогуливаться, идя под руку куда глаза глядят. Наступало ночное время, но ветер не стихал. Соленые брызги больших волн перелетали через отлогий берег и мелким дождем падали даже на куртину. Луи, повернувшись лицом к морю, раскрывая рот, принялся дышать полной грудью, как бы желая наполнить свои легкие и внутренности чистым воздухом этого целебного и бодрящего бретонского моря, которое больше даже, чем земля, было его подлинной и обожаемой родиной…
При увеличивающейся темноте они, сами того не замечая, возвратились к башне Богоматери, где им надлежало покинуть городской вал и спуститься в город по ступенькам, выбитым в граните стены. Дойдя до этих ступеней, они приостановились, чтобы бросить взгляд на благородный вид двух островков, Большого Бея и Малого Бея, которые море и туман опоясали двойным кольцом белоснежной пены.
Луи, выпустив тут руку Тома, протянул руки к горизонту, как бы желая охватить его:
— О, брат мой, Тома! — воскликнул он; и голос его, столь спокойный и сдержанный обычно, дрожал и трепетал, подобно голосу влюбленной женщины. — О, брат мой, Тома! Когда ты взглянешь в последний раз на все это, на родное наше, бретонское… что мне кажется красивее и отраднее, на мой бретонский вкус, чем всякие американские Тортуги, несмотря на их лазурные небеса и их огненные солнца… когда ты на все это взглянешь, взглянешь в последний раз, разве не разорвется твое сердце, переполнив грудь твою, и разве не утонут твои глаза в потоке слишком горьких слез?
Тома, внезапно вздрогнув, вытер себе рукой лоб, который вдруг увлажнился, покрывшись мелкими каплями холодного пота.
— Разве не покажется нам все это, — сказал он решительно, — гораздо красивее и милее, когда мы снова сюда вернемся как настоящие и славные вельможи, столь богатые, столь могущественные и столь благородные, что каждый, волей-неволей, согнет пред нами спину и, встретив нас, опустится на колени?
Он снова взял под руку Геноле и, прижимая его к себе, властно и в то же время вкрадчиво сказал:
— Брат, брат Луи, ты ведь знаешь, что ныне все мои близкие по плоти и крови, все мои родственники и свойственники, одним словом, все те, которых, однако же, я сделал тем, что они есть: знатными, почитаемыми, уважаемыми и почтительно всеми встречаемыми… ты ведь знаешь, что ныне все они, сколько их ни на есть, плюют на меня и меня отталкивают! Брат Луи, ты, который меня никогда не покидал в течение шести суровых годов войны и каперства… ты, который всегда бывал рядом со мной и своим телом старался меня защитить каждый раз, как нас поливало частым дождем свинца и железа… ты, который и теперь, один во всем моем родном городе, меня не отталкиваешь, не плюешь на меня, но, напротив, еще нежнее меня любишь и еще с большей бдительностью и теплой любовью стараешься меня уберечь… так знай же, брат Луи, что отныне ты, ты один мне и отец, и мать, и братья, и сестра, и все, все вместе! И что мне не надо других родных, кроме тебя, тебя одного, Луи Геноле, моего помощника, моего матроса и настоящего моего брата и Брата Побережья!
Порывисто он сжал его в своих объятиях.
— О, брат мой, брат Луи! Я снова ухожу в море, чтобы сызнова пуститься вдаль и таким образом удалиться от злых людей и удалить от них любимую мною подругу. Брат Луи, брат мой, отпустишь ли ты меня одного туда, куда я отправляюсь?
Луи Геноле вздохнул; ибо с высоты этой куртины Богоматери, на которой они находились, он мог заметить, встав на цыпочки, поверх Пласитров и Известкового переулка, кровлю своего собственного родного дома, расположенного, как известно, на улице Решетки. И дом этот был очень дорог его сердцу, сердцу покорного сына и благочестивого малуанца. Тем не менее он и двух секунд не медлил с ответом. И когда Тома повторил:
— Луи, брат мой, Луи, отпустишь ли ты меня одного? Геноле, в свою очередь, ответил ему нежным объятием. — Увы! — сказал он. — Ты же знаешь, что нет! Могу ли я?
Теперь между ними все было сказано. И никогда больше они не возвращались к этому. Верно, написано было на какой-то странице в большой божьей книге, что Луи Геноле в течение всей своей жизни и даже при самой своей кончине не покинет своего капитана, былого и всегдашнего, и что Тома-Ягненок, снова отправляясь к Островам ради неведомых приключений и набегов, снова возьмет Луи Геноле своим помощником, матросом, братом и Братом Побережья, — доколе Бог соизволит продлить тому и другому жизнь…
XI
И вот Луи Геноле, помощник, подобно тому, как он это уж не раз делал и раньше, стал подготавливать все необходимое для предстоящего похода «Горностая». И хотя он не забыл ни одной мелочи, а главное постарался набрать команду из прошедших огонь и воду молодцов, не знающих страха любителей приключений, тем не менее он ухитрился сделать все так незаметно, что никто в городе вначале и не подозревал этого. Очевидный плюс: так как вооружение корсарского фрегата в мирное время не могло не раздражить господ из Адмиралтейства; всяких же объяснений с помянутыми господами надлежало избегать вплоть до того дня, когда бумаги «Горностая», оформленные любезной рачительностью славного господина д’Ожерона, не доставили бы Тома и его команде право расхаживать по всем морям, имея в качестве груза двадцать восемнадцатифунтовых пушек, а вместо отборного провианта — полную констапельскую здоровых ядер новой отливки и порядочный запас здоровенных бочек с порохом…
Так что ни один малуанец не знал о том, что Тома-Ягненок принял решение снова
пуститься в море. Одна лишь Хуана узнала об этом из собственных уст корсара; но можно было не опасаться, что она разгласит тайну. Геноле же ни слова не сказал даже своему отцу и матери, хотя это ему было нелегко, так как он был таким нежным и ласковым сыном, каких теперь, в наш развращенный век, уже не встретить. Законтрактованным же матросам было поставлено условие не болтать под угрозой нарушения контракта. Так что если они и шептались, то с глазу на глаз и только при закрытых дверях в кабаке. Таким образом, тайна оттуда не вышла и осталась погребена в чашах, кружках, стаканах и бокалах. Горожане, дворяне и именитые лица ни о чем не были осведомлены и семья Трюбле не больше других.
Старик Мало и супруга его Перрина, совершенно не подозревая, что их парнишка, которого они продолжали втайне любить, так же, как отец и мать блудного сына, — по евангельскому слову — не переставали любить его, пока он путешествовал вдали от них; находится накануне путешествия и должен расстаться с ними, не сказали ни одного родительского слова, чтобы задержать его, и спокойно оставались у себя дома, оба убежденные в том, что рано или поздно сыну их надоест его поганая девка, и он, прогнав ее, вернется просить прощения, которое они охотно поскорее бы ему дали. Они успокаивали себя таким образом, а впоследствии горько сожалели, что были недостаточно проницательны и недостаточно также снисходительны. Ибо Тома, страдавший, как известно, от своего отчуждения и от враждебности, которую выказывал ему весь город, был в таком состоянии, что малейшее проявление нежности со стороны родных его, наверное, удержало бы на берегу и привязало к отчей земле, дорогой все же его малуанскому сердцу. Но этого проявления нежности он так и не увидел…
Между тем Гильемета, неустанно следившая за своим братом и мавританской потаскухой, как она с ласковой фамильярностью называла Хуану, что-то учуяла. Служанки, которых она подкупала своими старыми лентами, платками, косынками и разными тряпками, донесли ей, что Тома купил «Горностая» у кавалера Даникана и что Луи Геноле его вооружает. Девки эти узнали все от своих любовников, либо матросов, либо служащих у поставщика, либо писцов у нотариуса, который выправлял договоры. Так что Гильемета, не сомневаясь в том, что новости эти, следуя одна за другой, предвещают немедленный отъезд корсара, могла бы в свою очередь предупредить об этом своих родных. И, пожалуй, она бы так и сделала, несмотря на то, что все еще сердилась на Тома, если бы, проходя однажды по Межбазарной улице, не восхитилась прекрасной гранитной постройкой, к крыше которой каменщики только что подвязали три цветущие ветки золотохвороста в знак окончания ее. Расспросив, она чуть не задохнулась от ярости, узнав, что постройка эта — роскошнейший особняк — как раз позавчера передана новому владельцу и что покупателем и теперешним ее хозяином является не кто иной, как господин де л’Аньеле собственной персоной, который уплатил ровным счетом четыре тысячи экю — сумму, поразившую ротозеев, — так велика она была.
— Так значит, — тотчас же подумала исступленная ревнивица, — так значит, эта шлюха чуть не негритянской породы скоро станет жить во дворцах! А мне надо будет смотреть, как она из себя корчит принцессу, тогда как ее любовник, глупый рогатый Тома, по-прежнему будет досыта издеваться надо мной! Пусть лучше он завтра же уезжает на своем проклятом фрегате, увозя с собой мавританскую потаскуху, и пусть отправляется подальше, чтобы мне никогда не слышать ни про него, ни про нее!
И так бормоча, она тотчас же дала обет, посулив Богоматери-Скоропомощнице поставить ей свечу белого воска в шестнадцать фунтов весом, при том условии, что Тома и Хуане не позволено будет во всю их жизнь ступить ногой в роскошное жилище на Межбазарной улице.
Поэтому-то Гильемета никого не предупредила о предполагаемом путешествии Тома из боязни, чтобы ему не воспрепятствовали. Так что Мало Трюбле с Перриной, их сыновья Бертран, Бартелеми и Жан, только что вернувшийся из индийской кампании, — все до последней минуты оставались в неведении о близкой разлуке с Тома. Поэтому ничто не предотвратило этой разлуки, не смягчило ее.
* * *
Наконец приблизился назначенный день. Оставалось не больше недели. Луи Геноле проводил все дни на фрегате, чтобы лучше удостовериться в том, что каждый шкертик на месте и что все в полном порядке. Тома решил сняться с якоря в день святой Варвары, покровительницы бомбардиров и прочего народа, имеющего дело с порохом. Этот день, то есть 4-е декабря, приходился в этом 1678 году на воскресенье.
Девять же дней тому назад, в пятницу 25-го ноября, Тома, пожелавший сам осмотреть своего «Горностая» сверху донизу, возвращался с него в город в сопровождении Луи Геноле. Выйдя на берег у Старой Набережной, они, стало быть, направлялись к воротам Ленного Креста и с этой целью шли вдоль вала, шагая неторопливо, подобно людям, которым некуда спешить. Тома рассказывал Луи последнюю выходку ехидны Гильеметы: проследив тайком за возвращавшейся домой Хуаной, она вылила ей на голову полную лоханку грязной воды, попортив и загубив шелк ее платья.
Луи Геноле молча качал головой и смотрел в землю.
— Впрочем, — сказал Тома, — наплевать. Эта проклятая Гильемета мне теперь нипочем, и ее ярость, смешная и преувеличенная, не может меня трогать, раз я не хочу больше, как говорил тебе, быть Трюбле, и отныне буду просто Ягненком. Я отвергаю тех, кто отверг меня. И если ты меня любишь, то никогда больше не говори мне о них ничего!
Они подходили к воротам. Луи Геноле вдруг остановился и посмотрел на Тома:
— И о других тоже? — спросил он серьезным и почти умоляющим голосом, — и о других тоже не должен я тебе ничего говорить?.. О женщине в черном платье и об ее ребенке, который ведь и твой ребенок?
В глаза Тома, цвета изменчивой воды, внедрял он мольбу собственных глаз, цвета темной и неподвижной ночи.
Но Тома, ничуть не колеблясь, в свою очередь решительно взглянул на него и положил затем обе руки ему на плечи.
— Упаси меня боже, — сказал он, — платить кому бы то ни было злом за добро и смешивать в одну зловредную породу и добрых, и злых! Я принял решение относительно Анны-Марии и ее сына, и ты можешь его узнать: этот особняк, который я рассчитывал купить для себя лично и для моей подруги в одной из новых улиц города, я действительно купил и занялся теперь тем, чтобы хорошенько снабдить его хорошей и красивой обстановкой, с хорошей и красивой посудой в шкафах, хорошим и красивым бельем на кроватях. Как только все будет в порядке, сейчас же совершу должным и законным образом дарственную запись на все это на имя сына, а также его матери; она будет пользоваться пожизненным владением, он получит в окончательную собственность. Бумаги будут выправлены у нотариуса не позже завтрашнего дня. Сходи посмотреть лачугу. Она совсем рядом с твоим домом, на Межбазарной улице, и ты можешь убедиться, что она весьма привлекательна. Отныне Анна-Мария будет в ней жить, имея достаточно денег, чтобы оплачивать, не скупясь, все свои желания, всего иметь вволю. Пусть подохнет от зависти весь город, начиная с противной злюки Гильеметы!
Он снял руки с плеч Луи; отошел на три шага и, отвернувшись, докончил про себя, втихомолку, не раскрывая рта, не шевеля губами и языком:
— И главное, пусть Равелинский Христос и Богоматерь Больших Ворот, которых я так неосмотрительно призвал над телом умирающего Винцента Кердонкюфа, снимут с меня грех клятвопреступления!
Луи Геноле, между тем, от удовольствия и волнения, расплакался вовсю. Затем, поразмыслив:
— Ах! — сказал он, — ты очень щедр и люб мне этим… Но хочешь — верь мне, хочешь — нет, а несмотря на всю твою щедрость, незамужняя мать предпочла бы отца для своего сына и мужа для себя…
Но Тома, вздрогнув, словно его задели за живое, жестом не дал ему продолжать. Затем, бессильно опустив обе руки, повторил:
— Я не люблю ее!
Он походил на человека, удрученного, раздавленного непосильной ношей…
* * *
Они миновали ворота и ступили на уличную мостовую. Бретонский дождь поливал их мелкими капельками. Тяжело ступавший Тома скользил на размягченной уже почве, несколько раз Луи пришлось его поддерживать.
Когда они подошли к углу улицы Трех Королей, какая-то нищая, до ужаса старая и худая, протянула им свои землистые когти и попросила милостыни во имя Великомученицы Екатерины, святой того дня. Тома, щедрый как всегда, бросил в эти когти монету в шесть ливров. Тогда нищая, как бы ослепленная солнцем, согнулась в своих отрепьях для поклона, так что лбом ударилась в грязь, и поспешно схватила корсара за край его плаща:
— Бог в помощь вам, мой добрый господин! — кричала она, словно блеющая коза, — Бог в помощь вам! Пусть вернет он вам сторицей ваше щедрое подаяние! Конечно, Бог в помощь вам! Все-таки дайте вашу руку старой Марии Шьенпердю, чтобы и она попробовала вам погадать и предохранить вас, сколько можно, от скверных акул, врагов ваших… Ну, давайте же вашу руку, чтобы добрая старуха Мария прочитала по ней вашу судьбу от начала до конца: хорошее и дурное, дни и ночи, гогу и магогу, — как меня обучили египтяне!
Удивленный, встревоженный даже, Тома остановился:
— Египтяне? — переспросил он.
— Ну да, египтяне! — отвечала старуха. — Египтяне, цыгане и сарацины, злые и нехорошие племена, укравшие меня у родителей, когда я была еще слабым ребенком. Но пресвятая дева Мария защитила меня, потому что я молилась ей, как только умела, а она — моя заступница. И проклятые нехристи, державшие меня в плену, все перемерли, кто на виселице, кто на костре; а я — вот она, добрый мой господин!
Не колеблясь больше, Тома дал ей левую руку:
— Смотри на здоровье! — сказал он.
Упоминание божьей матери достаточно успокоило его сомнения насчет возможной греховности таких языческих действий. Геноле, напротив, враждебно относившийся ко всякому колдовству, поспешно отступил под самый навес соседнего дома и бросал на гадалку подозрительные взгляды.
— О! — воскликнула она, рассматривая вблизи широкую ладонь корсара. — Вот уж подлинно знатная рука, добрый мой господин!
Она ее трогала концами своих пальцев, иссохших, как у старого трупа, поворачивая ее и изгибая, очевидно, желая получше рассмотреть ее во всех направлениях и под всеми углами зрения.
— Я тут вижу много сражений, много побед и много славы, а также много золота и серебра… О! Возможно ли иметь такое счастье и преуспевать таким образом чуть ли не во всех предприятиях?.. А! Впрочем… позвольте… вам надо остерегаться брюнета… иностранца, падкого до разврата… вам надо беречься этого человека и беречь от него и свою хозяйку…
Тома размышлял, нахмурив брови:
— Иностранца? — спросил он.
— Ну да! — молвила старуха. — Пройдоху, египтянина, цыгана, сарацина, кто его знает! И все же красивого малого, без сомнения… Берегитесь же его, это необходимо… Это здесь написано так же ясно, как дождевая вода…
— Дальше?
— Дальше… погодите-ка… Дальше… Эх, что же это мне мешает видеть ясно дальше?
Она вдруг выпустила руку, отскочила от Тома на небольшое расстояние и подняла на него внезапно встревоженный взгляд своих пустых глаз.

— В чем дело? — спросил удивленно Тома.
— Увы! — сказала она, — увы! Милости и пощады, если я завралась! Это не по моей вине… Это верно здесь написано… взгляните-ка сами: тут как будто бы облако какое, красное облако…
— Да что же, наконец?
— Кровь…
Она сгорбилась и испуганно защитила локтем голову. Тома, ожидавший худшего, разразился смехом:
— Кровь? — повторил он. — Кровь у меня в ладошке? Черт побери! Да если бы ты и не увидала, старуха, так только сослепу. Я ее пролил больше, чем полагается, за короля. Не бойся и гляди сквозь это знатное облако. Что ты там видишь?
Но старуха отрицательно покачала головой:
— Другая кровь, — сказала она, — не такая, как вы говорите, совсем другая.
— Ба, — воскликнул Тома, — а какая же?
Она снова взяла его за руку, несколько ее наклонив.
— Кровь, — сказала она нерешительно, — кровь кого-то, кровь кого-то, кто здесь близко от вас… совсем близко, тут…
Тома невольно окинул взглядом пустынную улицу. Нигде же не видно было ни одной живой души. Один лишь Геноле стоял здесь под ближайшим навесом. Тома проглотил слюну и снова храбро расхохотался.
— Тут же близко? — насмешливо воскликнул он. — Тут немного видно народа! Ну-ка, старая, надень очки и оставь в покое эту кровь, которая меня мало трогает. Продолжай! Что ты там еще видишь?
Немного успокоенная, она снова стала смотреть, подняв широко раскрытую руку и держа ее вертикально пальцами вверх.
— Ой! — бормотала она, все еще дрожа. — Ой, кровь путает все знаки… Нет, погодите, становится понятнее… Вот поглядите-ка еще, смотрите сами: вот эта извилистая борозда, такая глубокая и красная, которая проходит отсюда до сих пор, — ну, так это как бы вылитая ваша судьба, — вы сами, иначе говоря…
Он наклонил голову и прищурил глаза, стараясь получше рассмотреть эту таинственную извилину, полную таких откровений…
— Я? — сказал он наконец, — я? Это я сам, эта смешная извилина, которая ползет здесь изломами по моей ладони? Ну, ладно! В таком случае смотри же как следует и говори, куда же, в конце концов, я приду по этой извилине?
В то время, как он произносил эти слова, старуха, все еще пристально разглядывавшая терпеливую руку, задрожала, и лицо ее исказилось, как бы испуганное неожиданным и ужасным видением. Тома переспросил ее снова. Она, отвечая, начала заикаться: и голос ее, совершенно переменившись, стал глухим и невнятным.
— Очень высоко… — произнесла она.
— Очень высоко? — повторил Тома, инстинктивно взглянув на крыши. — Куда же, очень высоко?
Она повторила, без всяких объяснений:
— Очень высоко…
Шутя, он спросил:
— К трону, стало быть?..
Она вся изогнулась, вдавив голову в плечи.
— Выше, — сказала она, — еще выше…
Удивившись этому, Тома вопросительно взглянул на Луи. Но тут колдунья, — у которой теперь стучали зубы, от подлинного или поддельного ужаса, — вдруг бросилась в бегство, улепетывая так быстро, как только ей позволяли ее изношенные ноги, так быстро, словно за ней по пятам гнались все черти ада…
Тома, впрочем, ее не преследовал.
— Глупости и ерунда, — сказал он, очень разочарованный. Он снова взял под руку молчаливого Геноле. И они пошли, опираясь друг о друга с братской нежностью.
* * *
Девять дней спустя, когда они снимались с якоря, вышеописанная нищая-колдунья с улицы Трех Королей, которую они, впрочем, больше не видали, а также и ее пророчество, столь необычайное, совершенно вылетели у них из головы. И больше они об этом довольно долгое время не вспоминали…
Глава третья
РЫЦАРИ ОТКРЫТОГО МОРЯ
I
В этот день «Горностай» отдал якорь в порту Тортуги. И тут же неподалеку стоял также на якоре бриг, каковой именовался «Летучим Королем» и имел в качестве капитана флибустьера Эдуарда Бонни, по прозванию Краснобородый. Так что положение вещей как будто бы совсем не изменилось со времени первого прихода Тома в Вест-Индию, хотя приход этот произошел целых семь лет тому назад. И сам Тома, беседуя, как и во время оно, в той же кают-компании, с тем же Краснобородым, мог бы впасть в ошибку и подумать, что какая-то тайная магия перенесла его в самый разгар былых времен, если бы Краснобородый, собственной персоной, как только они осушили стаканы в честь новой встречи, не постарался поскорее разрушить столь поэтическую и романтическую иллюзию, доставив своему старому товарищу и Брату Побережья много доказательств того обстоятельства, что они действительно живут в лето господне 1679-е, а уж не в лето господне 1672-е.
— Как же так? — спросил Тома, ничего не понимая. — Разве разница так уж велика? Какого черта нам беспокоиться, мне и тебе, что мы стали постарше, чем тогда? На таких ребят, как мы, возраст не влияет. И клянусь тебе, что я чувствую ровно столько же, как и раньше, твердости в поступи и меткости во взгляде, и чертовски длинные клыки!
— Алло! — крикнул Краснобородый, хлопая его по ляжкам со всего маху, — алло, товарищ! Вот таким я тебя люблю! Пропади я пропадом, если в недалеком будущем мы с тобой не отправимся вместе всадить эти проклятые длинные клыки в какую-нибудь испанскую шкуру! И сопляк тот, кто отречется! А все-таки ты уж мне поверь, внучек: теперь не то, что прежде, — далеко нет, — как ты скоро увидишь… Матрос, поистине я знавал время, когда Тортуга была кое-чем и когда Флибуста тоже кое-что собой представляла. Ну, а очень скоро я узнаю время, когда Флибуста обратится в ничто. Да! И пусть изъест им оспой все их потроха и требуху, всем тем, кто послужил этому причиной!
Тогда Тома, ни черта не понимавший в этих сетованиях, спросил:
— Всем тем? Кто же они? И что за причина, о которой ты говоришь? Заклинаю тебя всеми чертями адовыми, говори! В чем дело? Неужто же в этих водах кто-нибудь решится издеваться над такими людьми, как мы с тобой?
На что флибустьер, перейдя к подробным объяснениям, дал исчерпывающий ответ.
* * *
Совершенно правильно и правдиво было то, что Флибусте ныне грозило полное разорение, которого можно было бы избежать лишь ценой настоящей революции и тысячи перемен во всех обычаях и законах, принятых на Побережьи. И причиной этого было не что иное, как тот всеобщий мир, который подписали восемь или десять месяцев тому назад король Франции, король Испании и республика Соединенных Провинций.
Совершенно исключительным образом и противно тому, что всегда делалось в прошлое время, оба помирившихся государя, а вместе с ними и Генеральные Штаты Голландии втемяшили себе в голову распространить свой мир на все части света и, в частности, на Америку совершенно так же, как на какую-нибудь Германию или Фландрию. Так что французские губернаторы на Антилах, начиная с господина де Кюсси Тарена, преемника недавно умершего господина д’Ожерона, решительно отказывались в какой-либо мере помогать флибустьерам в их каперстве и различных предприятиях. Флибуста только-только еще могла рассчитывать на то, чтобы на нее хоть бы смотрели сквозь пальцы и чтобы ей позволяли пользоваться французскими рейдами и портами, без чего самое существование авантюристов скоро сделалось бы невозможным.
— Пусть так! — перебил Тома, когда Краснобородый дошел до этого места в своих комментариях. — Но если бы даже случилось самое худшее, разве Флибуста не может обойтись без всяких одобрений так же, как и без всякой поддержки? И ты сам, в свое время, разве не побуждал ты меня нападать на наших частных врагов, совершенно не заботясь о том, являются ли они врагами моего короля или нет, точно так же, как и твоего? Почему же теперь не то, что тогда?
— Елки-палки! Оттого что тогда мой король и твой тоже мало заботились о том, будут их слушаться за морем или нет!.. И потому что отныне твой король, либо мой — да будут они прокляты и тот, и другой! — потребуют, чтобы даже здесь их окаянные приказания уважались. Так утверждал в разговоре со мной, с Бонни, Краснобородым тож, сам злосчастный Кюсси, который теперь управляет нашей Тортугой, отказывая мне в каперском свидетельстве, которое я у него просил позапрошлый месяц для того, чтобы принять участие в некоей экспедиции, организованной одним из наших братьев, по имени Граммоном, против побережья Куманы. И этот самый Кюсси не скрыл от меня, что очень скоро сюда явятся королевские эскадры, чтобы крейсировать вдоль и поперек по нашим водам и заставить нас, хотя бы даже силой, отказаться от наших авантюр и бросить привычную нам жизнь. Да! Все в точности, как я тебе передаю!

Тома, скрестив руки и нахмурив брови, слушал эти объяснения.
— А ну-ка! — сказал он вдруг. — Брат Бонни, прикинь-ка на пальцах, если умеешь. Помнишь ли ты тот день, когда я уехал отсюда, возвращаясь к себе домой?
— Конечно, пропади я пропадом! — ответил Краснобородый. — Это случилось через несколько месяцев после взятия Сиудад-Реаля. А я купил этого нового «Летучего Короля» на свою долю в добыче, скоро тому два года.
— Два года, — повторил Тома. — Два года назад я, стало быть, поднял паруса здесь, на Тортуге, чтобы отправиться, весь осыпанный золотом, к родному моему городу Сен-Мало. Ты думаешь, там я не мог бы продолжать жить спокойно и богато? Однако же я возвращаюсь оттуда, чтобы жить здесь. Я возвращаюсь потому, что, испытав раз ремесло флибустьера, я чувствую, что мне уже невмоготу ремесло горожанина. Но, клянусь богом, раз это так, то я хочу вести жизнь флибустьера, а не городского жителя. Поверь мне и ты, в свою очередь: ни Кюсси, ни его королевские эскадры, ни приказы самого короля не помешают мне, Тома, сеньору де лАньеле, — я теперь ведь дворянин — нападать на тех, на кого я захочу, имея или не имея каперское свидетельство!
Он начал отдуваться, совсем выбившись из сил, выпалив такую кучу слов одним духом. Затем, прервав вдруг одобрительные «ура!» английского флибустьера и захохотав во все горло, он вскрикнул:
— Чертова перечница! Послушай-ка, брат мой Бонни: в прошлом году этот самый король, которого ты так любезно отправляешь к черту, мой король Франции, Людовик Великий, — за то, что я захватил, разграбил, разгромил, потопил и сжег сотню-другую неприятельских кораблей, — причем очень часто гораздо раньше объявления войны, как ты, конечно, не забыл, — за все это, стало быть, король Людовик потребовал меня ко двору и собственными своими монаршими устами премного хвалил, поздравлял, чествовал, ласкал и, в конце концов, сделал меня, как я тебе уже говорил, настоящим вельможей и настоящим дворянином, со всякими пергаментами, дворянскими грамотами, размалеванными гербами и прочей знатной дребеденью, какую только можешь себе представить! Так-то! И штука эта случилась всего год тому назад… Так заставишь ли ты или кто-либо другой меня поверить, что этот же король, так вознаградивший меня в том году, в этом году вздумает меня наказывать или порицать за те же поступки, за те же дела? Дудки! Меня не проведешь!
Он встал со стула и продолжал говорить, в то самое время как Краснобородый, убежденный и восхищенный его доводами, мял ему бока неистово ласковыми пинками:
— Итак, довольно слов! Не пойду я с визитом к господину Кюсси Тарену и ничего не буду у него просить, раз все равно он мне во всем откажет. Как только я возобновлю запас продовольствия и пресной воды, я снимаюсь с якоря — и с Богом! Ты, если хочешь, иди одним путем со мной. Что же касается моего выбора, то раз король Франции не желает больше иметь врагов, то моими врагами будут все корабли и все нации, какие только возят по морю товары, за исключением только Франции, Флибусты и Англии. Вот распятие, а вот и Библия. Поклянемся, как полагается, во взаимной верности, если желаешь.
Краснобородый вытащил из-за пояса абордажный топорик и взял его в левую руку лезвием кверху:
— Вот на чем, — сказал он, — желаю я поклясться. Ибо на этом — на отточенной стали топора — будем мы отныне клясться, мы все, бывшие флибустьеры, которые переживем, если надо будет, Флибусту и из авантюристов и корсаров, какими мы были, превратимся, если нас к тому принудят, в Кавалеров Фортуны и в Рыцарей Открытого Моря!
— Рыцари Открытого Моря, да будет так! — молвил Тома. И на лезвии топора он поклялся первым — он, Тома-Ягненок.
II
Таким образом, с самого своего возвращения на Тортугу Тома-Ягненок на своем «Горностае» снова взялся за каперство и снова начал пенить американские воды, подобно тому, как и прежде он это делал, ничуть не заботясь о том, переменились ли времена или нет…
Подобно ему, впрочем, продолжали каперствовать и шнырять по морю и все прежние флибустьеры, по крайней мере те, кто до этого времени избег бесчисленных опасностей столь пагубной жизни: штормов, подводных камней, канонад, перемежающейся лихорадки и прочих удовольствий в том же духе. Эти отважные люди, живучие, как кошки, также очень мало заботились о повелениях, приказах и запрещениях, которые стремились навязать им короли европейских стран. Твердо решив ими пренебречь, чего бы это им не стоило, хотя бы перехода из их теперешнего положения корсаров на положение пиратов, они удваивали тем временем свою отвагу и энергию, как бы насмехаясь над этими далекими королями, столь самонадеянно желавшими распоряжаться Флибустой. Так что Тома, от мыса Каточе и до Порт-оф-Спэйна и от Флориды до Венесуэлы, встретил, одного за другим, всех тех, кого он знал в былое время, и много раз, для разных трудных предприятий, заключал он с ними союзы, подписывая договор или давая клятву на топоре. Все здесь были: уроженец Дьеппа, пуще прежнего дородный и отважный, флибустьер из Олерона, все так же приверженный гугенотскому ханжеству, флибустьерка Мэри Рэкэм, которая по-прежнему не отставала от Краснобородого, хотя, как уверяли, много раз уже изменяла ему с венецианцем Лореданом, но все же продолжала плавать и сражаться вместе с англичанином на его «Летучем Короле». Были и другие, которых Тома меньше знал или совсем не знал, но слава о которых достигла до его ушей: француз Граммон, не так давно взявший приступом на Куманском побережье город Пуэрто-Кабельо, — завоевание, о котором Краснобородый отзывался одобрительно; остендец по имени Ван-Хорн, искусный мореплаватель; голландец, или прикидывающийся таковым, называвший себя Лораном де Граафом, опытнейший артиллерист; словом, — целиком вся Флибуста, которая, под угрозой скоро окончить жизнь по слишком уж миролюбивой воле слишком могущественных монархов, яростно торопилась жить, вдвойне и втройне уснащая эту жизнь доблестными и удалыми подвигами.
И столь удачно, что разные губернаторы и наместники королей Франции и Англии, хоть им и было дано их властителями строгое задание искоренять всякое незаконное каперство и подчинить всех корсаров миру, не могли не поддаться восхищению перед изумительной храбростью и неизменно торжествующей энергией тех самых авантюристов, которых им надлежало уничтожить. Так что губернаторы эти и наместники долгое время уклонялись от исполнения данных им приказаний и даже начали снова втайне потворствовать Флибусте. Один из них, господин де Кюсси Тарен, — который даже до того дошел, что возвратил нескольким французским капитанам старые каперские свидетельства, которые сначала сам отнял у них, — рассуждал, будучи, подобно покойному господину д’Ожерону, человеком сердечным и милостивым к храбрым людям, следующим образом:
— Таким способом, — думал он, — ценой небольшого зла можно избежать зла горшего, так как, без сомнения, эти непомерно воинственные капитаны не преминули бы заупрямиться и начать войну со всякими повелениями и против всяких приказов. И, не имея возможности убедить их вовсе не вести войны, я предпочитаю, чтобы они вели ее в качестве корсаров, а не в качестве пиратов. Ибо таким путем я сохраняю его величеству храбрых подданных, которыми он будет иметь случай гордиться в тот день, когда враги снова принудят его взяться за оружие.
* * *
Итак, значит, с апреля месяца 1679-го по май месяц 1682-го года, Тома, каперствуя по старому своему обыкновению и грабя все встречные корабли, не разбираясь попусту в цветах их флагов и в их происхождении, взял на абордаж двадцать испанских кораблей, восемь голландских, три португальских, два остендских, один датский, пять других еще национальностей и три, не причислявших себя ни к какой национальности. К этим судам, почитавшимися вражескими и общее число которых доходило до сорока двух, надлежит добавить четыре судна, сочтенных вначале дружескими (три из них шли под английским флагом, а четвертый — под французским), но с которыми, по разнообразным и прискорбным основаниям, «Горностай» вынужден был вступить в бой. Все это составило ценную добычу и было с выгодой распродано частью на самой Тортуге, частью на рынках Ямайки, частью на Сан-Доминго и Сен-Кристофе. В качестве своей призовой доли Хуана смогла выбрать себе по своему желанию множество драгоценных камней и жемчугов, которыми она не преминула до такой степени разукраситься, что стала скоро походить на Смуглянку из Макареньи — предмет ее самого страстного почитания.
Ибо Хуана, по-прежнему любимая своим любовником, если не больше еще, продолжала жить, надменная и безразличная, на «Горностае», который теперь заменял ей родину и на котором она поистине играла роль хозяйки и арматорши, оставляя на долю Тома лишь обязанности капитана или даже помощника.
Ей, Хуане, исполнилось только что двадцать лет. И возраст этот, равнозначный для женщин Андалузии двадцати пяти- или тридцатилетнему возрасту наших француженок, — по той причине, что в южных странах более жаркое солнце заставляет скорее созревать всякое живое существо, — возраст этот довершал великолепный расцвет всех редкостных красот тела и лица, подобных которым Тома не видел никогда. По правде и без поэтического преувеличения, Хуана за все время этих новых походов, бывших последними походами Флибусты, была столь блистательной, что вызывала у многих мужчин жгучие и дикие страсти, которые подавлял только тот ужас, в который одно лишь имя Тома-Ягненка повергало теперь всю Америку, вплоть до самых бесстрашных авантюристов.
Сам же Тома, как бы грозен он ни был и как бы ни становился все более грозен по мере того, как возрастало число его сражений, из которых ни одно никогда не бывало проиграно, оставался все так же порабощенным своей любовницей и с каждым днем все больше покорялся ей телом и душой. Дело тут было не только в красоте, хотя бы безупречной. Хуана, ставшая теперь более страстной, более падкой до любовных утех, увеличивала и укрепляла с помощью множества тайных и сладострастных ухищрений ту деспотическую власть, которую она давно уже утвердила над корсаром и которая с каждым днем становилась все более тираничной.
Так, например, как упомянуто, на самом деле она командовала на «Горностае», вместо и взамен Тома, сама и единолично решая, что надобно сделать то, а не это, что надо лучше туда пойти, а не сюда, что надо погнаться за таким-то парусом, замеченным на зюйде, а не за таким-то, усмотренным на норде, одним словом, уступая руководство делами лишь в минуту сражения, — после того, как заряжены пушки. Луи Геноле, который никак не мог примириться с этим, с трепетом ждал всегда, что она пожелает взойти еще ступенью выше и потребует в один прекрасный день руководства и управления боем.
Его предположение могло сбыться. Ибо Хуана отнюдь не была из тех боязливых бабенок, которых звук пистолетного выстрела повергает в трепет или даже в обморок. Совершенно напротив: странная девушка нигде не чувствовала себя так хорошо, как в самой гуще яростнейшей свалки. И все могли видеть, как она спокойно прогуливается под дождем картечи по ахтер-кастелю, жадно вдыхая резкий запах пороха.
В спокойные дни подруга Тома совсем не показывалась из своей каюты, где все ее время протекало в примерках и прихорашивании, в ленивых мечтаниях и любовных делах. Ибо оба любовника, согласуя теперь свои взаимные настойчивые желания, изнуряли друг друга, не зная ни отдыха, ни срока, яростно терзая свою плоть и кровь в похотливом исступлении, больше смахивающем на ненависть, чем на нежность. Нередко удивлялись матросы фрегата, видя, что их капитан спотыкается поутру, взбираясь по трапу, и торопится прислониться к поручням на мостике, тогда как мулатка-невольница Хуаны улыбалась, замечая большие темные круги под влажными еще глазами ее госпожи…
* * *
Итак, три года и даже больше плавал «Горностай» таким образом, унося к тысяче случайностей и тысяче приключений самых разных людей: пылких любовников, ко всему вокруг себя равнодушных, серьезного и набожного Геноле, имевшего рядом с ними вид святого, заблудившегося в аду, и несколько сот бравых малуанских молодцов, которые вначале были вольными корсарами и верными подданными короля, но вскоре пали до Флибусты и продолжали, впрочем, опускаться и дальше благодаря сражениям, которые они вели в мирное время против флагов всего мира, благодаря также тому, что в их состав все обильнее вливались подкрепления в виде авантюристов всех наций, так как злокачественная лихорадка и вражеский огонь беспощадно косили их ряды; и отовсюду, с английских, голландских и даже испанских земель, а не только с французской земли, приходилось Тома-Ягненку набирать новых товарищей…
III
И вот, когда прошли эти три года, не без того, чтобы какой-либо из них не был отмечен среди других чем-либо особо примечательным, в мае лета 1682-го произошло событие, незначительное по виду, но чреватое пагубными осложнениями.
Действительно, к этому времени Тома, возвращавшийся с килевания от кубинских Кай, заключил по всем правилам договор с некоторыми капитанами Флибусты, с тем чтобы отправиться всем вместе на приступ города Пуэрто-Бельо, следуя в этом примеру английского авантюриста Моргана, который захватил его уже десять или пятнадцать лет тому назад и прекрасным образом обобрал его, продержавшись в нем целых десять месяцев под самым носом у президента Панамы дона Хуана Переса де Гусмана. Столь славный пример достоин был подражания, и тут нельзя было не приобрести разом и славу и богатство. Действительно, Пуэрто-Бельо является главным торговым центром на берегу Атлантического океана для тех американских владений, которые природа отвернула, так сказать, от Европы, обратив их к Южному морю, называемому также Тихим. Сюда-то именно и свозится, перед отправкой в Испанию на талионах католического короля, весь этот чудесный груз золота и серебра, который Мексика и Перу каждый год извлекают из своих неисчерпаемых рудников.
Итак, этот договор был подписан на острове Вака, что было удобнее, чем на острове Тортуга, так как губернатор Кюсси, управлявший последним, несмотря на то, что его первоначальная строгость мало-помалу смягчилась, всегда старался, тем не менее, противопоставлять широким предприятиям флибустьеров бесчисленные препятствия и затруднения; и самое простое поэтому было действовать без его ведома. Местом встречи назначили якорную стоянку у островка Старого Провидения, расположенного, как известно, мористее Никарагского побережья, то есть как раз у выхода из Пуэрто-Бельо. Когда все было таким образом условлено, — и весьма благоразумно, — Тома 19 мая поднял паруса под покровительством святого Ива, память которого приходится на этот день, и направился прямо к месту свидания, убежденный, что найдет там почти всех своих Братьев Побережья, большинство которых ушло на три или четыре дня раньше.
И действительно, когда 21 мая, после всего лишь трехдневного, как нельзя более удачного перехода, «Горностай» прямо направился по фарватеру к якорной стоянке, там уже находилось два больших корабля, и тот и другой под белым флагом
[68], и тот и другой более сильного типа, нежели малуанский фрегат.
И Тома, беспечный по обыкновению, не сомневался в том, что эти два корабля принадлежат капитанам Лорану де Граафу и Ван Хорну, принимавшим участие в экспедиции и действительно командовавшим двумя довольно крупными судами. Так что он порядком был удивлен, когда оба мнимокорсарских судна, спустив свои белые флаги, подняли вместо них кастильское знамя и в ту же минуту вступили в бой. По счастью, осторожный Геноле, более предусмотрительный, чем его начальник, заподозрил хитрость и, под предлогом отдачи салюта, очень кстати велел открыть констапельскую и созвал к пушкам всю орудийную прислугу. Так что «Горностай» не замедлил с ответом на огонь испанцев. Тем не менее он все же оказался один и в узком фарватере, совершенно не допускавшем маневрирования, против двух значительно его превосходивших противников. Это была ловушка, устроенная по специальному распоряжению президента Панамы, каковой сановник, совмещавший должность главного управителя в области гражданской и главнокомандующего всеми испанскими силами, расположенными в Перу, поклялся государю, своему королю, что он либо освободит Америку от Флибусты, либо погибнет при исполнении своей задачи. Предупрежденный через шпионов о недавно задуманном походе на Пуэрто-Бельо, он решил помешать его выполнению, послав к островку Старого Провидения сильную эскадру и поручив ей разгромить или разогнать одного за другим всех корсаров, которые туда явятся. Так, де Грааф и Ван Хорн уже принуждены были спастись бегством от нескольких линейных кораблей. Так Тома, которому еще меньше повезло, оказался вынужден выдерживать неравный бой против арьергарда той же эскадры, то есть против двух судов, вооруженных вместе шестьюдесятью шестью пушками, тогда как «Горностай» их имел, как известно, всего двадцать.
Все же для авантюристов нет ничего особенного в том, чтобы драться одному против троих или четверых. Тома уже десять раз выходил победителем при худших обстоятельствах. Отнюдь не удивляясь и в данном случае, он просто принялся за свое ремесло корсара, и испанцы скоро увидели, что они были весьма неосторожны, атаковав такого врага, не имея возможности противопоставить ему целый флот. Тщетно боролись они, отчаянно, стреляя вразброд или давая залпы, не успев хорошенько навести орудия. Меткий огонь малуанцев рубил их, как капусту. Напрасно вопили они во все горло, выкрикивая яростные «ура», чтобы себя подбодрить. Тем убийственнее была работа, совершавшаяся на борту «Горностая», что она была безмолвна, как того всегда требовал строгий Луи Геноле. Наконец, самый крупный из кастильских фрегатов, лишившись рангоута, потеряв возможность управления, почти неспособный уже к сопротивлению, обрубил свои канаты и понесся по течению к подводным камням у островка, о которые и разбился, довершив таким образом свою гибель; а спутник его, оставшись один и сочтя сражение безнадежно проигранным, спустил свой желто-красный флаг и сдался.
Тут и случилось одно непредвиденное происшествие.
Команда «Горностая» спустила уже шлюпку на воду и стала перебираться на борт испанца. Его шкафут весь был усеян ранеными и умирающими. Обычай велит в таких случаях приканчивать всех пленных, вышедших из строя, дабы по возможности облегчить, как и должно быть, заботы победителей. С этой целью малуанцы начали добивать раненых уже врагов, постепенно выкидывая трупы через абордажные сетки. Как вдруг один из раненых, которого собирались прирезать, поднялся и, вырвавшись из державших его рук, поспешно бросился к ногам Тома:
— Senor capitan, — крикнул он на своем жаргоне, — no me mateis! Jo os dire la verdad!
А это была, слово в слово, та самая фраза, которую сказал перед захватом Сиудад-Реаля пленный мулат, послуживший, в конце концов, проводником. Тома, вспомнив это и к тому же заинтригованный словом «verdad», означающим «правда», заподозрил какую-то тайну и захотел ее выяснить. Но на прямой вопрос негр не отвечал ни слова, продолжая лишь обнимать ноги корсара, как бы заранее страшась того, что ему надлежало сказать. Негр этот был высокого роста и ранен был всего лишь мушкетной пулей в правую руку. Он трясся всем телом.
— К черту! — закричал Тома нетерпеливо. — Убейте его сейчас же, если ему нечего рассказывать! Эй! Подать сюда пистолет!
На этот раз негр заговорил — и то, что он сказал, заставило всех вытаращить глаза; ибо, сначала выпросив себе пощаду ценой той правды, которую он откроет, он затем объявил, что его зовут Мохере, что по ремеслу он палач, — палач Панамы, — и взят он был на испанский корабль по личному желанию президента, который, нисколько не сомневаясь в том, что флот его одержит победу над флибустьерами, приказал не щадить таких разбойников и всех их повесить, а сеньора Ягненка выше всех остальных.
Матросы яростно кричали. Бесстрастный, хоть и побледневший сразу, Тома велел им замолчать. После чего, взглянув на все еще распростертого ниц негра-палача, сказал:
— Дарую тебе пощаду, дарую тебе даже свободу, но с тем условием, что ты отвезешь от меня письмо своему президенту; так как мне хочется дать ему знать о себе. Но только смотри получше, что здесь произойдет, чтобы дать ему верный отчет обо всем.
С этими словами он обнажил саблю прекрасного закала и изумительно острую. Матросы, следившие взглядом за его движениями, увидели, что он подошел к люку. Здоровые и невредимые еще испанцы укрылись, как обычно, в глубине трюма.
— Все наверх! — скомандовал Тома.
Появился страшно испуганный испанец, и Тома ужасным ударом наотмашь снес ему голову. За первым последовал второй, и его голова тоже отлетела. Двадцать, потом еще сорок других поднялись один за другим, так как снизу они ничего не видели и не подозревали, какой им готовит прием по выходе из люка смертоносная сабля, обагренная кровью их товарищей, — и Тома, неутомимый, нанес двадцать и еще сорок ударов. Наконец, слетело еще пятьдесят три головы, — последние были скорее оторваны или отпилены, чем отрублены, но Тома все еще взмахивал, все с тою же яростью, своей уже затупившейся, зазубренной и непригодной саблей. Но все было кончено — последний пленник был мертв.
Корсары молча взирали на ужасную расправу. И, как ни огрубели они, привыкнув к самой отчаянной резне, все же они побледнели от какого-то скрытого отвращения. Тем не менее по знаку начальника они без всяких возражений выкинули за борт все это изрубленное человеческое мясо. Потом один из них, бывший в свое время семинаристом или даже священником, как утверждали некоторые, и помнивший еще азы, приготовился писать, по приказанию Тома, письмо, которое негр-палач, единственный из всей вражеской команды оставшийся в живых, должен был передать своему президенту. Ни у кого, понятно, из присутствующих для такого письма не было ни чернил, ни бумаги, ни пера. Но семинарист, недолго думая, живо смастерил себе из щепки перо и обмакнул его в разлитую по палубе кровь; и ни у одного писаря никогда не было ни такой большой, переполненной чернильницы, ни таких хороших красных чернил.
Что же касается бумаги, то матросы отправились поискать ее в сундуке у испанского капитана, убитого, понятно, также; и как раз на патенте этого капитана семинарист и написал письмо, продиктованное Тома. И вот каковы были, дословно, выражения письма, которое президент Панамы счел нужным вручить королю Испании, «как ужасное доказательство наглости и зверства
французских разбойников», и которое король Испании поместил впоследствии в свою королевскую библиотеку в Эскуриале, где всякий любознательный путешественник может его видеть и ныне.
«Мы, Тома, милостью божией и его величества короля Франции, сеньор де л’Аньеле, а равно капитан Флибусты и Рыцарь Открытого Моря, господину президенту Панамы желаем здравствовать.
Настоящим доводим до сведения вашего, что флот ваш, посланный к островку Старого Провидения, дабы разбить и перерезать нас всех до единого, против всяких правил, законов и обычаев честной войны, сам был разбит и побежден нами в честном бою, как сможет то засвидетельствовать нами невольник, коего отсылаем вам с этим посланием.
А как невольник этот признался нам и рассказал, что состоит на жаловании у вас в качестве палача и как таковой посажен на ваше судно, чтобы выполнить тут свое ремесло палача, подло убивать и вешать за шею всех корсаров и флибустьеров, которых удалось бы вашему флоту словить и взять в плен, если бы Бог ему даровал победу; и это вместо того, чтобы с почетом относиться к упомянутым корсарам и флибустьерам, как подобает христианским врагам; то посему и по этой причине, мы сами собственными руками и нашей саблей обезглавили всех изловленных нами и взятых в плен испанцев с упомянутого вашего флота; сие, как справедливое возмездие и согласно воле божией, который ради того дал нам победу и отнял ее у вас, хотя вы значительно превосходили нас и силой, и числом.
И как поступили мы при этой встрече, так будем поступать всегда и впредь, при каждой предстоящей встрече, вознамерившись не давать вам никогда пощады и перебить вас всех, а также и вас лично, если угодно будет Богу, подобно тому, как вы вознамерились нас убить, что вы и сделаете, по нашему разумению, если сможете. Но этого не случится, понеже никто из нас никогда не достанется живым в ваши языческие лапы.
Да будет так, ибо такова наша воля.
Невзирая на сие, да будет с вами Бог,
Тома-Ягненок».
IV
И вот таким образом, начиная с этого рокового мая месяца 1682-го года, Тома-Ягненок, скорее по воле своих врагов, чем по своей собственной воле, и взаправду сделался Рыцарем Открытого Моря и повел с упомянутыми врагами, понуждавшими его к этому, уже не милостивую войну, но жестокую; то есть, не давая больше никому пощады, вешал, топил, расстреливал и обезглавливал всех побежденных, попадавших в его руки, как раненых, так и невредимых. Тогда «Горностай», бывший до того времени кораблем честным, кораблем добрых христиан, соблюдавших, по мере сил, добродетели милосердия и прощения обид, стал вскоре чуть не дьявольской обителью, где властно воцарились сотни самых ужасных пороков и, кроме всего прочего, беспримерная свирепость, ненасытная до крови.
Ибо никакая чума, никакая оспа не столь заразительны, как подлинная лихорадка, сжигающая и пожирающая людей, погрязших в жестокости. Иные ребята, великодушные некогда и кроткие, так быстро привыкают к преступлению, общаясь с закоренелыми уже преступниками, что они и сами торопятся найти величайшее наслаждение в том, чтобы притеснять и мучить свои жертвы, собственными руками терзая их и даже разрывая на куски. И всякий, кто бы посмотрел, начиная с лета этого 1682 года, на команду фрегата, принадлежавшего Тома, команду, состоявшую еще главным образом из малуанцев, — все людей порядочных, рожденных в честных семьях, в лоне которых они вели себя нежными и почтительными сыновьями, — всякий, увидев их теперь, ставших наихудшими разбойниками, наиужаснейшими дикими зверями, наверное, решил бы, что такое дьявольское превращение целиком есть дело величайшего совратителя и похитителя душ, сатаны…
* * *
Буйной этой заразе не поддался один Геноле. Не в силах, однако же, сдержать ее или хоть сколько-нибудь утихомирить беспрестанно возобновляемые безобразия, услаждавшие всех его товарищей и совершавшиеся по личному приказанию Тома, не в силах также смягчить хоть немного сердце и волю этого самого Тома, который, однако же, еще любил его и называл братом, но никогда уже не спрашивал у него совета и дружески с ним не беседовал, — ибо Хуана не переставала стоять между ними, — Луи Геноле замкнулся, так сказать, в своей одинокой добродетели и стал жить среди свирепой орды, начальником которой он волей-неволей должен был оставаться, как живут в миру монахи и священники, никогда не отрывающие от креста своих благочестивых взоров…
Теперь он целыми днями находился в своей каюте помощника, выходя из нее лишь для обходов и осмотров, которые он настойчиво производил по всему кораблю, стараясь по крайней мере поддерживать повсюду ту строгую дисциплину, без которой на море возможны лишь поражения и аварии. Но, совершив эту обязанность, Луи Геноле снова возвращался к себе и закрывал дверь, чтобы не слышать больше вечного шума, раздоров, споров, богохульств, бесстыдных толков и прочих громогласных бесчинств, которые могли смутить его в его молитвах. Ибо, запершись один в своей каюте, Луи Геноле теперь только и делал, что молился. Он молился весь день или, по крайней мере, все свободные от вахты часы. Да и ночью он еще раза два набожно вставал с постели, чтобы спеть ночное бдение и утреню при звуке корабельных склянок, отбивавших восемь, а затем четыре удара, что на морском языке означает полночь и два часа пополуночи. Он молил господа нашего Иисуса Христа, святых ангелов и архангелов, апостолов, великомучеников, словом, всех святых, больших и малых, о милости и сострадании к этим самым малуанцам, капитану и матросам, столь безумно предавшим свои души на растление лукавому. И Луи Геноле для спасения этих душ, а также и ради спасения собственной души, подвергавшейся гибельной опасности в таком соседстве, без устали стократ твердил «Отче наш» и прочие молитвы. И при этом Геноле оставался все же хорошим помощником и всегда суровым бойцом. Не было никого, кто бы так способствовал теперь, как и прежде, успеху сражений. Но стоило выиграть сражение, как он внезапно исчезал, с ужасом спасаясь от жестокой расправы и резни, торопясь поскорее пасть на колени перед своим распятием и молиться как за палачей, так и за их жертвы…
* * *
Хуана же, напротив, во время боя наслаждалась прогулкой под градом ядер и пуль, а также созерцанием агонии побежденных. Она улыбалась и облизывала острым языком свои красиво накрашенные губы, слыша вопли и рыдания страдальцев.
Она проходила, шагая среди крови и растерзанных тел, осторожно ступая в своих тоненьких башмачках, чтобы не запачкать их атласа или парчи. Она подходила к какому-нибудь умирающему, нагибалась, чтобы получше его разглядеть, и требовала, бывало, оружие, чтобы самой его добить, восхищая этим Тома, так как она очень ловкой была и сильной, и убивала, когда хотела, с одного удара. Но чаще всего она развлекалась медленной смертью, изобретая иногда новые муки, длительные и замысловатые.
Так поступила она, ко всеобщей превеликой радости, при захвате купца из Кадиса, нагруженного индиго и кошенилью, каковой купец не оказал никакого сопротивления; но, конечно, послужил бы источником опасной болтовни, если бы хоть один из его матросов вышел невредимым из этой переделки. И вот в тот миг, когда собирались устранить эту опасность, Хуана, вдруг рассмеявшись, приказала корсарам выдвинуть наружу на купце, через вырез в борту, ведущий к выходному трапу, длинную доску, наподобие сходен, — сходен, понятно, ни к чему не примыкавших, а лишь возвышавшихся над открытым морем, — затем приказала пленникам немедленно убираться по этим сходням, угрожая содрать с них живьем кожу и терзать калеными щипцами и расплавленным свинцом, если они будут мешкать. Только один заколебался и был мгновенно предан таким пыткам, что остальные поспешно бросились к сходням, предпочитая утонуть. И было очень забавно смотреть, как они тонут, так как матросы из Кадиса, хорошо плавая, долго держались на воде, раньше чем пойти ко дну, и, как Хуана это правильно предвидела, на них напали акулы…

Но попозже, когда покончено было с боями и сечами, когда призовые суда, должным образом разграбленные, начисто очищенные от всего того, что служило им экипажем, и, наконец, подожженные, отходили по воле ветра и удалялись в ночь, как огромные блуждающие факелы, озаряя море, прежде чем в него погрузиться, — тогда хмельная, пьяная кровью, со сладострастно раздраженными до предела нервами, Хуана, с внезапным нетерпением, поспешно удалялась в свою каюту, бросив быстрый взгляд на Тома, служивший и призывом, и повелением…
И не было случая, чтобы Тома ослушался ее…
* * *
В такие вечера опьяненный своей победой «Горностай» спешно выбирался в открытое море, где нечего было больше опасаться, и затем, в случае хорошей погоды, что почти всегда бывает в этих краях, вверялся океану, убрав все паруса, подняв на мачты тридцать огней из страха перед абордажем и принайтовив румпель, чтобы ни одному матросу не надо было беспокоиться насчет курса, вахты и маневрирования. И если какие-нибудь суда, проходя неподалеку, замечали вдруг этот вынырнувший из ночной тьмы или тумана странный и поразительный корабль, весь освещенный, с которого неслись бесчисленные крики, песни, смех и богохульства, — весь галдеж ста двадцати пьяных пиратов, продолжавших пить, играть и вопить до зари, — то перепуганные эти суда поспешно поворачивали и спускались до полного бакштага, чтобы бежать скорей, вообразив, что увидели призрачный корабль Летучего Голландца и его проклятую команду, которую даже ад, как известно, отказался принять…
V
В лето господне 1683-е, к концу весны, случилось, что капитаны-флибустьеры, Граммон, Ван Хорн и Лоран, задумали напасть на город Веракрус, что в переводе значит «истинный крест». Расположенный у Мексиканского залива, он был столицей королевства Новой Испании, — будучи построенным целиком из прекрасных тесаных камней, со множеством дворцов, особняков, садов, а также со множеством подвалов, и складов, и различных пакгаузов, в которых богатые испанцы бережно хранят свои сокровища. Бесспорно, взятие такого города могло сторицей возместить Флибусте неудавшееся прошлогоднее предприятие, направленное против Пуэрто-Бельо, когда панамский флот рассеял авантюристов, собравшихся ради этого похода у островка Старого Провидения, — неудача, за которую, впрочем, Тома-Ягненок отомстил уже, как известно, разгромив арьергард этого же флота.
И на этот раз на острове Вака был подписан договор, согласно которому губернатор Кюсси, как и прежде, старался отбить у Флибусты охоту к грандиозным экспедициям… Мало того, сделавшись снова весьма придирчивым за последние месяцы, он опять, как и прежде, начал упорно отказывать в выдаче всяких указных грамот и каперских свидетельств и даже из страха, что их дурно используют, простых разрешений на охоту и рыбную ловлю, облегчавших флибустьерам приобретение ими пороха, свинца и всяких боевых припасов. К тому же дело было серьезное: четыре тысячи старых солдат стояли гарнизоном в Веракрусе, а пятнадцать тысяч пехоты и кавалерии, расквартированных в окрестностях, могли, в случае надобности, явиться на помощь, потратив на это не больше полусуток. Капитан Граммон, главнокомандующий экспедиции, пожелал поэтому заручиться содействием всех доблестных людей, какие только и могли к нему примкнуть, и, несмотря на такой большой приток народа, требовать от каждого строжайшей тайны.
Начальники-флибустьеры, держа военный совет перед тем, как сняться с якоря, были поэтому крайне удивлены весьма неожиданным появлением господина де Кюсси Тарена, собственной персоной, который, Бог его знает каким образом пронюхав все, совершенно неожиданно покинул свою резиденцию на Тортуге и отправился еще раз сказать капитанам Флибусты, до какой степени он не одобряет этого нового воинственного проекта и какова на этот счет королевская воля, с каждым днем все более решительная и гневная.
По обыкновению учтивые и почтительные капитаны выслушали его. Они были здесь в полном сборе, а именно: помимо трио — Граммона, Ван Хорна и Лорана де Граафа, — Тома Ягненок, Краснобородый, уроженец Дьеппа, гугенот с Олерона и даже Мэри Рэкэм, одетая, как всегда, в мужской костюм. Из всех доблестных корсаров, которых когда-либо знавал Тома, один лишь венецианец Лоредан не откликнулся на призыв. Впрочем, больше года его уже нигде не было видно. И никто не знал, и Мэри Рэкэм не больше всех остальных, что случилось с этим странным человеком, одним из самых таинственных, каких знавала Флибуста.
Между тем господин де Кюсси Тарен говорил с большой силой и красноречием. Напомнив сначала все услуги, которые он в течение стольких лет оказывал Братьям Побережья, и то, как он изощрялся для того, чтобы подольше отсрочить исполнение приказаний, идущих из Парижа и Версаля, он объявил, что далее невозможно вести дело таким образом и что король, твердо решив пресечь непослушание и заставить повсюду уважать мир, подписанный им с кузеном своим королем Испании, только что принял грозное решение послать в Вест-Индию несколько своих фрегатов, которым надлежит действовать силой, если уговоры окажутся бесполезны.
Услышав это, капитаны переглянулись. Они медлили с ответом, не решаясь на открытое возмущение, но и не желая отступаться от своих намерений. Наконец, командующий Граммон как будто нашел лазейку:
— Эх, сударь, — сказал он, — как узнает король, что мы собираемся захватить Веракрус, когда даже собственные наши братья не все об этом осведомлены? Этого не может быть. И я уверен, сударь, во всем этом вами руководит ваша, всем нам хорошо известная, душевная доброта, не терпящая мысли о насилиях, которым могли бы при данных обстоятельствах подвергнуться испанцы. Но, клянусь вам честью флибустьера, мы обойдемся без всяких насилий, потому что план наш так хорошо составлен, что мы окажемся победителями, не сделав ни единого выстрела, и испанцы даже и не заметят, как мы их разграбим и возьмем с них выкуп. Согласитесь, что лучше нельзя и придумать.
Все поспешили громко расхохотаться. Но губернатор оставался строг:
— Шутки в сторону, — холодно сказал он, — король не хочет больше ни каперства, ни завоеваний. Мир есть мир. Такова его воля. И тем, кто дерзнет его ослушаться, может не поздоровиться! Так и знайте.
Снова замолкли все капитаны. Даже сам Граммон смолчал, хоть он был весьма речист и за словом в карман не лазил. Дело в том, что, откровенно говоря, с волей короля мудрено было шутить. Одну минуту господин де Кюсси Тарен считал уж было себя победителем.
Но тут поднялся Тома. И все до единого удивленно посмотрели на него, так как Тома-Ягненок мало или ничего не говорил, помимо исключительных случаев. Особенно за последний год он, никогда не бывший очень веселым и склонным к болтовне, стал на редкость мрачным. И из всех собравшихся на совет он один не раскрывал еще рта.
Однако же он заговорил своим грубым, несколько хриплым голосом. И никто не решился его перебить, так как слава его была теперь огромна; и никто из начальствующих флибустьеров, здесь присутствовавших, не посмел бы оспаривать у него первенства.
— Король, — сказал он, — принял меня самого, в свое время, в своем Сен-Жерменском замке и осыпал милостями. Понятно, стало быть, что я являюсь самым верным его подданным и всем сердцем стремлюсь за него умереть. Именно для того, чтобы дать ему достойное и кровавое доказательство своей верности, я и хочу поскорее водрузить его знамя в этом Веракрусе, которому надлежит быть французским, а не испанским, принимая во внимание, что такой великий король рожден, конечно, для того, чтобы повсюду быть властелином.
Восхищенное таким ответом, столь же прекрасным, как и находчивым, собрание разразилось единодушными аплодисментами. Один лишь господин де Кюсси не присоединился к общему одобрению. Он повернулся к Тома и с любопытством смотрел на него, ответив лишь жестом руки в виде приветствия. Но последнее свое возражение он пожелал адресовать всей Флибусте, дабы не длить сверх меры излишние споры:
— Господа, — сказал он, — я не намерен с вами препираться. Я хотел лишь довести до вашего сведения волю его величества. Итак, покончим с этим. Позвольте мне только еще раз воззвать к вашему благоразумию; заклинаю вас самих вернуться к исполнению долга. Я предвижу уже королевский гнев, готовый пасть на ваши головы. И, вы знаете, гнев этот разит быстрее и ужаснее грома. Прощайте, господа.
Он надел шляпу и ушел, оставив их все еще упорствующими в своих намерениях, хотя и несколько обеспокоенными такими угрозами. Но когда они остались одни, по уходе господина де Кюсси, Тома, недолго думая и скорее всего инстинктивно, трижды воскликнул: «Да здравствует король!» и сейчас же вслед за тем издал не менее громкий возглас: «Вперед! На Веракрус!» И эти возгласы, в таком сочетании, настолько успокоили всю компанию, — хотя никто не отдавал себе отчета, как и почему, — что в тот же вечер, при попутном бризе, все подняли паруса и взяли курс прямо на мыс Каточе, который приходится обогнуть, чтобы затем достигнуть Веракруса…
* * *
Неделю спустя они уже хозяйничали в городе, захваченном ими почти без единого выстрела, как шутя обещал это капитан Граммон господину де Кюсси Тарену. Только взятие крепости потребовало от них некоторых усилий. Несмотря на это, их потери составляли всего лишь семь убитых и одиннадцать раненых. Невероятный результат, достигнутый, конечно, прежде всего благодаря главнокомандующему, сумевшему собрать под свое знамя столько храбрых и искусных капитанов, благодаря Тома-Ягненку, разносторонняя опытность которого, приобретенная повсюду и особенно в Сиудад-Реале Новой Гренады, оказалась чрезвычайно ценной для хорошей подготовки атаки, и который, кроме того, когда понадобилось уже не разглагольствовать, а драться, дрался так и, по правде сказать, с таким безумием, что можно было подумать, будто на самом деле он ищет скорее смерти, чем победы.
VI
Захватив и разграбив Веракрус, флибустьеры поторопились уйти восвояси: добыча была значительная, и важно было свезти ее в надежное место; сигнальщики же усмотрели уже появление испанского флота численностью в семнадцать военных кораблей, гораздо более сильных, чем суда флибустьеров, которых было всего восемь, и из них три барки без всякой артиллерии.
Тем не менее суда эти и барки прошли мимо испанского флота и не были остановлены, хотя флагман этого флота, конечно, не мог не заметить нагроможденное на палубах флибустьеров награбленное золото, серебро и драгоценные товары. Но на мачтах у этих флибустьеров развевались и полоскались от бриза грозные белые флаги, флаги одинаково принадлежащие как Флибусте, так и Франции, а также и другие внушающие страх цвета и эмблемы, как горностай малуанцев и некий кровавый вымпел, в середине которого красовался золотой ягненок. И, несмотря на его храбрость, кастильский народ мало соблазняло вступить в бой с этими флагами, слишком уж привычными к победе.
* * *
Таким образом эскадра флибустьеров беспрепятственно вернулась к якорной стоянке у того острова Вака, от которого они отплыли так недавно. Тут поделили они добычу по всей справедливости. И тут же, не желая терять ни минуты, начал каждый весело проматывать свою долю в кутежах, попойках и разгуле с девками. Действительно, к этому времени на острове Вака, хотя и сильно отстававшем во всех отношениях от Тортуги, было вдоволь всяких кабаков и домов разврата. И там все можно было купить, что по вкусу матросам и солдатам, из богатых украшений, нарядов, драгоценностей и прочих роскошных безделушек. Само собой, торговцы пользовались случаем набить карман, и какой-нибудь отрез скверного атласа, стоивший во Франции один экю серебром, продавался обычно на острове Вака за десять, пятнадцать луидоров. Так что торговый народ наживался в Вест-Индии гораздо скорее и вернее, чем корсары. Впрочем, это иногда сердило корсаров. И каждый год это кончалось, рано или поздно, тремя-четырьмя убитыми или ограбленными торговцами.
* * *
Итак, флибустьеры на сей раз тут же, на острове Вака, принялись за развлечения. А в этом деле переборщить нельзя было, если хочется достойно ознаменовать столь высокий воинский подвиг. В течение двух недель все ночи напролет были предназначены питью и еде. После чего утомленные обжорством и истощенные развратом победители Веракруса стали похожи на подыхающих с голоду оборванцев.
Начальники, ничуть не меньше последних своих солдат, принимали горячее участие в этих грубых празднествах. Потому что, подлинно, все авантюристы между собой братья, как они и сами про себя говорят, то есть равны между собой, имея одинаковые вкусы и сходные суждения насчет всего. В тех же кабаках, в тех же веселых домах, что посещались самыми простыми матросами, сиживали за столом, не зазнаваясь, самые знаменитые капитаны, пивали, пьянства ради, тут же сахарную водку и ласкали тех же распутниц. Тут встречались друг с другом Граммон, Краснобородый и Лоран де Грааф. И Хуана пожелала, чтобы Тома водил ее туда. Ибо Хуана охотно участвовала в самых грубых попойках. Она наслаждалась положением королевы среди шумной толпы распаленных пьяниц. В особенности находила она скрытое удовольствие в том, чтобы чувствовать, как растет вокруг нее и бушует поток вожделения и страсти, постоянно возбуждаемых ее красотой. Она нисколько не боялась ссор и раздоров. Ей нравился вид крови. И ей случилось и самой ее пролить — не только на палубе побежденного корабля, во время сражения…
* * *
Случилось это при обстоятельствах весьма странных, о которых Тома впоследствии всегда вспоминал со смущением и неловкостью…
Захват Веракруса ознаменован был неожиданным происшествием, которое значительно способствовало окончательному успеху флибустьеров. Во то время, как они собирались пойти приступом на крепость, после двенадцати часов безуспешной канонады, кастильское знамя вдруг спустилось, и на место его взвилось знамя Франции. Пораженные этим, вожди флибустьеров стали с осторожностью подходить, опасаясь западни. Но у подъемного моста их встретил некто, чей один лишь вид их сразу успокоил и даже наполнил восторгом: ибо это был не кто иной, как венецианец Лоредан, их старый товарищ, о котором они уже больше года ничего не слыхали и который, таким образом, не без блеска возвращался в лоно Флибусты. Когда дело дошло до расспросов, он объяснил, что частное дело вынудило его прожить весь этот год в Веракрусе, изображая из себя мирного горожанина; но что, несмотря на это мирное житье, при первом же признаке атаки, как только он узнал своих Братьев Побережья, идущих на приступ укреплений, он и сам во мгновение ока стал снова Братом Побережья, весьма удачно пробрался в крепость и там, сбросив маску и очутившись среди гарнизона с обнаженной шпагой в руке, настолько его напугал, что тот сразу разбежался, крича об измене и врассыпную спасаясь через капониры. Таким образом, Лоредан-Венецианец единолично завоевал и затем передал Флибусте крепость с ее сорока пушками. Откуда и великая слава ему, и жирная доля добычи.
И вот этот же Лоредан, возвратившись затем на остров Вака на корсарском судне, — он предпочел сделать переход на «Горностае», а не на «Летучем Короле» — также вел тут самую развеселую жизнь. Хуана, обратившая на него внимание во время обратного переезда, старалась постоянно встречаться с ним — в сопровождении Тома — в каком-нибудь веселом месте на острове. В обществе Венецианца, красивого малого, столь же обходительного, сколь и храброго, подруга Тома расцветала и становилась радостной и веселой. Тома, без задней мысли, радовался этому и сам.
* * *
Но наступил день, когда он перестал радоваться. На этот раз все пьянствовали и напивались в харчевне под вывеской «Серого Попугая», когда явились сюда поразвлечься также и другие их товарищи, среди которых были сам капитан Граммон, Эдуард Бонни, по прозванию Краснобородый, и его женщина-матрос, Мэри Рэкэм, флибустьерка. Сначала все шло превосходнейшим образом, и все с величайшим дружелюбием перепились. К несчастью, обе женщины, как только опьянели, затеяли, как нередко бывает, ссору. И ссора быстро разгорелась по многим тайным причинам, а равно потому, что флибустьерка, гордясь своей мужской одеждой, принялась обзывать свою противницу бабой, годной только на роль потаскухи со своей подмалевкой вокруг носа и парчевой юбкой вокруг задницы. Тогда Хуана живо ответила, что, если уж говорить о потаскухах, так та, что спокойно сидит дома под присмотром одного лишь любовника, наверное, стоит той, что одевается мужчиной, чтобы свободно бегать, куда заблагорассудится, давая каждому себя щупать по всем закоулкам на полях сражений.
— Проклятая сука, — крикнула в ответ Мэри Рэкэм, — врешь, шлюха ты этакая!
Они обе вскочили, опрокинув свои табуреты. Лицом к лицу, с вызывающим видом, они площадными словами ругали друг друга. И тщетно пытались их успокоить Тома, Краснобородый, Лоредан и даже Граммон. Отрезвев от избытка ярости, они вместе и решительно потребовали по праву, предоставленному всем Братьям Побережья, дать им разрешить спор, как им захочется, с тем, чтобы никто из Братьев не вмешивался.
— Клянусь господней требухой, — восклицала флибустьерка, обнажив кинжал, — пустите меня все, или я распорю кому-нибудь брюхо!.. Капитан Тома-Ягненок, я слишком тебя люблю, чтобы ободрать живьем твою девку. Не бойся! Я хочу только пометить крестом ее задницу, чтобы унять ее болтовню!
Хуана, до крови кусавшая своими маленькими острыми зубками нижнюю губу, также вытащила из ножен свой испанский кинжал с золотой рукояткой, который она всегда носила за поясом, скорее как украшение, чем как оружие. Она молчала теперь; ее черные глаза сверкали, как сверкает солнце, отражаясь в расплавленном дегте конопатчика. И взглядам четверых мужчин, свидетелей боя, она являлась подобно перуанскому ягуару, готовому прыгнуть…
Поистине, это было удивительное зрелище — эта дуэль шароваров и юбки с треном! Впрочем, обе противницы разнились между собой и сами не меньше, чем их одеяния: хрупкая и тонкая испанка, с иссиня черными волосами, великолепно зачесанными в высокий шиньон, который увеличивал ее рост на целый фут, и англичанка, до того сильная, что легко сгибала пальцами самые толстые золотые монеты, со светлыми густыми волосами, ниспадавшими на широкие, как у мужчины, плечи. Ясно, что шансы были неравны у этого крепкого вояки и у этой нежной, стройной женщины. Тома-Ягненок, видя это, попытался снова вмешаться. Но на этот раз Граммон благоразумно отговорил его:
— Разве вы не видите, — сказал он, — что если вы им сегодня помешаете, они подерутся завтра? Пусть лучше уж сгоряча дерутся, чем спокойно!
Впрочем, остальные пьяницы, сбежавшиеся со всех концов, уже составили круг и кричали: «Вольная игра!» — что означало требование соблюдать закон флибустьеров и дать противницам поступать, как им заблагорассудится, ничем не помогая ни той ни другой, разве только в конце, чтобы подобрать побежденную.
— Дорогу! — крикнула тут Мэри Рэкэм, отступая шага на три для разбега.
И она бросилась на Хуану, направляя кинжал ей в лицо и стараясь схватить ее другой рукой, чтобы опрокинуть. Ибо она не хотела убивать, а только лишь пометить свою соперницу, как сказала она Тома. На самом деле они действительно были соперницами, как это в следующую минуту обнаружилось.

Хуана, подбиравшая левой рукой складки своего трена, чтобы не споткнуться, наступив на него, дралась одной лишь правой рукой. Отскочив в сторону, чтобы избежать острия, направленного ей в глаза, она ответила косым ударом, разодравшим левую руку флибустьерки от локтя до кисти. Пораженная и сразу обезумевшая от боли и ярости, Мэри Рэкэм испустила такой крик, что многие сочли ее рану смертельной. Но в ту же секунду она снова ринулась на испанку, сделав три разъяренных выпада один за другим, которых Хуана избежала, лишь отступив, по крайней мере, на шесть шагов, не пытаясь даже отражать удары.
— Стой же! — вопила флибустьерка, еще яростнее нападая с протянутым вперед кинжалом. — Стой, подлая тварь! Стой, воровка мужчин! Подожди, дай мне тебя выпотрошить! Подожди, чтобы я могла вытащить у тебя из живота все, что тебе туда запихивает твой венецианский распутник, который был моим…
Она бы, конечно, еще многое сказала. И уже трое мужчин, Тома, Краснобородый и Лоредан, переглядывались, нахмурив брови. Но Хуана, в свою очередь опьянев от ярости, вдруг заткнула ей рот, слепо бросившись на нее сама…
Они вцепились друг другу в волосы, и оба жаждущих крови клинка скрипели сталью о сталь, в то время как разодранная рука Мэри Рэкэм обдавала красным дождем сплетенные между собой тела. Объятие длилось недолго. Вдвое слабейшая Хуана перегнулась вдруг, как сломанная тростинка, и упала навзничь, увлекая за собой флибустьерку. На этот раз ни та ни другая не вскрикнула, и обе остались лежать вместе на полу, так что все почитали их убитыми наповал, и ту, и другую. Но когда подняли эти сцепившиеся и спутавшиеся тела, то обнаружили, что одна лишь Мэри Рэкэм действительно мертва, пронзенная испанским кинжалом как раз под соском левой груди. Что касается Хуаны, то она просто потеряла сознание, сильно ударившись затылком об землю, и была почти невредима — кинжал побежденной лишь оцарапал победительницу.
* * *
Придя в себя через некоторое время, она увидела Тома, склонившегося над ней. Кабак опустел; все поспешили удалиться, и прежде всего Краснобородый и Лоредан.
Тома же пристально глядел на Хуану задумчивым и мрачным взглядом. Хуана, приподнявшись резким усилием, прежде всего окинула взглядом помещение. И все еще с ненавистью в голосе она спросила:
— Мертва?
— Да, — сказал Тома.
Тогда она увидела его и увидела его взгляд. И она припомнила. Волна крови залила ей щеки, лоб, даже грудь. Она вся выпрямилась и вскочила. Вскрикнула:
— Ты не поверил?..
Но он не ответил ни слова и медленно отвернул голову. Она покраснела еще больше и секунды три оставалась в нерешительности. После чего, внезапно очень громко рассмеявшись, дотронулась до него пальцем, затем приказала — повелительно и презрительно:
— Подними мой кинжал!
Он поднял. Языком она коснулась красного еще лезвия и, с видом лакомки, отведала крови. Затем вложив кинжал в ножны и направляясь к двери, сказала:
— Так! Вернемся на корабль. Я устала. Идем!
Она ушла, не обернувшись. Он двинулся за ней.
VII
Последовавшие затем недели Тома-Ягненок провел у себя на корабле, забившись в свою каюту, как раненый кабан, забившийся в свою берлогу. Никто больше его не видел, ни мужчина, ни женщина, ни друг, ни недруг, ни даже матросы его команды, ни даже Луи Геноле, который от капитана своего и брата за это время не добился ни единого признака жизни, так же как и смерти. Вести извне не достигали этой чуть ли не замурованной каюты. Тома совершенно не знал, что Краснобородый и Лоредан дрались на дуэли по обычаю флибустьеров и что Венецианец выстрелом из мушкета прострелил англичанина насквозь, не убив его все же, настолько изумительно эти люди легко переносили свинец, железо, сталь и, не хуже слив и яблок, переваривали пули и ядра. Он, Тома, ни с кем не дрался; и верно, даже и не подумал об этом.
* * *
Он прожил нелюдимым, с глазу на глаз с одной лишь Хуаной, которую он принудил жить так же нелюдимо. И, действительно, ни разу за все это время не видела она человеческого лица, если не считать трех ее невольниц-мулаток. Да и то одну из этих невольниц Тома убил в минуту гнева и, убив ее, решительно отказался купить другую: «Довольно двух сводниц, и эти-то две лишние».
«Горностай» эти восемь недель стоял на якоре у острова Вака, ни разу не снявшись для каперства или крейсерства. И Луи, постоянно моля Бога о спасении их всех, не знал, радоваться ли ему столь долгой передышке от кровавых обычаев предшествовавших недель или еще больше трепетать за будущее, опасаясь всего этого мрачного одиночества, в котором замкнулся Тома: ибо Тома, бесспорно, должен был когда-нибудь выйти из него, ужаснее и смертоноснее прежнего.
Так й случилось на самом деле, как это и предвидел Луи Геноле. В некий сентябрьский вечер, — надо было справиться в календаре, чтобы отличить сентябрь от января или от марта, так как все времена года одинаково жгучи и ясны в Вест-Индии, — в некий, стало быть, вечер матросы, занятые по обыкновению выпивкой и игрой, сильно подивились, заслышав неожиданно голос капитана, которого мало кто решался ослушаться. Тома, повелительный, обуреваемый странной и внезапной торопливостью, распоряжался отходом. По его приказанию якорь был поднят, паруса отданы, выбраны, поставлены, реи обрасоплены — и двинулись в путь. Через три дня на траверсе Кай де лас Досе Легвас остендский трехмачтовик, груженный в Картахене Индийской и направлявшийся в Европу, попался навстречу, был атакован, захвачен. И Тома проткнул своей собственной шпагой всех остендских парней за то, что один из пятнадцати перед тем, как сдаться, выстрелил из пистолета…
* * *
И в этот же вечер команда, распевая на палубе при лунном свете, увидела снова, как видела столько раз и раньше, как капитан и капитанова подруга, верно, помирившись, — если только они вообще ссорились, в чем, в конце концов, никто не был убежден и уверен, — стоят прислонившись вместе к фальшборту на юте и вместе смотрят на море. Их тесно прижавшиеся друг к другу тела, казалось, слились в одно…
* * *
Снова началась бродячая жизнь, жизнь самого что ни на есть открытого моря; жизнь свободных людей, каковы флибустьеры, кавалеры океана, рыцари удачи…
Как это было и прежде, Хуана снова стала настоящим капитаном, а Тома настоящим помощником, хотя, пожалуй, помощником менее послушным, чем раньше, и иногда решавшимся на неповиновение…
В остальном это был тот же Тома, только говорил он еще более отрывисто, еще более хрипло
и для того лишь, чтобы отдать приказание, никогда больше не болтая, не беседуя. Не видно было больше, чтобы он подходил к Луи Геноле и дружески с ним разговаривал, как в былое время. Всего лишь два-три раза, проходя случайно мимо помощника, он положил ему руку на плечо, не больше. И как-то утром, выйдя из своей каюты подышать первым утренним бризом, — матросы впоследствии припоминали это во всех подробностях, до того показался им этот случай удивительным, — он подошел к румпелю, где стоял Геноле, следя за компасом, и внезапно обхватил его руками, обнял три или четыре раза, беспрерывно повторяя во время объятий: «О, брат мой, Луи, брат мой, Луи!«…Но на этом дело и кончилось.
* * *
Между тем вынужденный возобновлять запас воды и провианта, «Горностай» не мог обойтись без заходов в порты. Он несколько раз забирался в устья рек на побережье континента, где, под прикрытием громадных американских акажу, кораблю легко исчезнуть вместе со своим корпусом и рангоутом и наилучшим образом укрыться от всяких вражеских взглядов. Здесь живут некоторые племена индейцев, враждебные Испании, стало быть, расположенные к авантюристам и рыцарям моря. Племена эти охотно приносили свою живность, дичь, рыбу и плоды и разрешали наполнять из своих источников бурдюки, анкера и бочки. Но много есть нужного для корабля, чего не найдешь у дикарей, как то: парусов и снастей, всякого такелажа, запасных частей разного рода, солонины, сухих овощей, а также ядер, картечи, пуль и пороха. Так что Тома надо было, в конце концов, хотя это, видимо, мало ему улыбалось, взять курс на какую-нибудь цивилизованную землю. Больше не было таких, которые бы радушно приняли корсаров, а тем более таких, которые бы не встретили пушечными выстрелами Рыцарей Открытого Моря, репутация которых среди всех миролюбивых людей была, понятно, известна. Итак, «Горностай» еще раз возвратился на Тортугу, единственное убежище, на которое можно было всегда положиться. Когда он стал здесь на якорь, прошло день в день ровно тринадцать недель со смерти Мэри Рэкэм, убитой Хуаной.
* * *
Большая часть капитанов-авантюристов, которые приняли участие в походе на Веракрус, находились в то время на Тортуге, одни потому, что, быстро обеднев благодаря кутежам, они явились порасспросить о предстоящих предприятиях, в которых они бы могли заполучить новую добычу, другие, все еще богатые, потому, что остров Вака скоро показался им скучным местопребыванием, и они захотели щегольнуть последними своими пиастрами на глазах у этого губернатора Кюсси Тарена, который так отговаривал их от нападения на Веракрус. Так что, тоже бросив якорь между большой башней и западной батареей, Тома узрел вокруг себя на якоре всю эскадру флибустьеров, которая четыре месяца тому назад плавала вместе с «Горностаем».
На берегу также все оставалось по-старому. И те же люди выпивали в тех же кабаках, распевая те же песни, ругаясь той же кощунственной бранью. Говорили лишь о призах, о каперстве, об авантюрах. Одним словом, все было, как раньше. И никого больше не смущали столь ясные и прямые угрозы, которые привез в свое время на остров Вака господин де Кюсси, а также и фрегаты, будто бы отправленные королем против Флибусты. Все изменения сводились к появлению нескольких новых братьев — свеженавербованных авантюристов — да к некоторым потерям среди старых братьев. Но это было обычное действие пушки, мушкета и абордажей. На это не обращалось ни малейшего внимания. Бедная Мэри Рэкэм была погребена в человеческой памяти глубже, чем под землей. Тома, снова ступив на землю, нашел Краснобородого и Лоредана совершенно примирившимися и в наилучших отношениях между собой. Краснобородый почти оправился от раны, и вряд ли помнил, когда, как и от кого получил эту рану…
Итак, в среде этого беспечного народа, жившего сегодняшним днем, не желая и не умея помнить вчерашний день, не желая и не умея позаботиться о завтрашнем дне, Тома и Хуана вернулись вместе. Ибо больше не было и речи об отшельничестве. И Хуана, как и в былое время, заставляла своего любовника водить ее по самым веселым кабакам и верховодила на всех попойках, самых буйных, — столь же красивая и даже еще красивее, чем когда бы то ни было. И Тома следовал туда за ней и пил вместе с ней. Те, кто встречал их, удивлялись иногда, что он упорно молчит и никогда не принимает участия ни в разговоре, ни в пении. Но, если подумать, этому нечего было особенно удивляться, потому что он никогда не был болтлив. Впрочем, он всегда был вежлив и обходителен и встречал людей приветливо, хотя, по-видимому, иной раз довольно плохо различал их между собой.
VIII
Однако же фрегаты короля Франции, о которых столько раз говорилось, пришли, наконец. Их эскадра в одну из этих ясных вест-индских ночей, так озаренных звездами, что можно плавать увереннее, чем среди бела дня, вошла в пролив, отделяющий Тортугу от Сан-Доминго. При восходе солнца они уже были на месте, вытянувшись перед портом длинной колонной, с правильными промежутками, как и надлежит военным кораблям. Тома увидел их через иллюминатор каюты, лишь только поднялся с койки. Их было пять, самый большой был вооружен сорока орудиями, самый слабый — четырнадцатью. Их пятерной залп мог накрыть весь рейд и весь город. На корме они подняли флаг Франции белого атласа, украшенный лилиями, а на грот-мачте королевский вымпел, лазурный и золотой.
В то время, как Тома, вооружась подзорной трубой, разглядывал этот царственный герб, явившийся ему здесь, под американским бризом, совершенно таким же, каким он видел его некогда на фронтоне Сен-Жерменского замка, большая четырнадцативесельная шлюпка отделилась от административного фрегата и прямо направилась к берегу. На руле сидел королевский офицер. А впереди этого офицера две важные персоны в больших париках являли вид значительных вельмож и весьма горделиво развалились на малиновых подушках. Все они прошли в каких-нибудь пятидесяти саженях от «Горностая». Один из вельмож в большом парике привстал со своей банки, чтобы разглядеть по пути корсара. Снова усаживаясь, он сделал знак рукой и произнес несколько слов, которые Тома, за дальностью расстояния, не расслышал.
* * *
Сразу же пополудни стало известно, что две эти персоны именуются господами де Сен-Лораном и Бегоном и что они являются комиссарами его величества, имея от него задание искоренить все злоупотребления, совершавшиеся как на Тортуге, так и на Сен-Кристофе и Сан-Доминго и вообще где бы то ни было во французской Вест-Индии. Так начали осуществляться грозные предсказания губернатора Кюсси. Ибо в первую голову среди злоупотреблений, которые надлежало пресечь господам де Сен-Лорану и Бегону, стоял, бесспорно, флибустьерский обычай не различать войны и мира и пользоваться миром так, как принято пользоваться войной, избивая и грабя всякого рода врагов, действительных или мнимых. Не было сомнений, что комиссары короля будут этим поражены и возмущены и пожелают немедленно с этим покончить.
Посему на следующий же день по прискорбном прибытии королевских фрегатов на «Горностае» состоялось подобие военного совета, как не раз уже бывало и прежде. Сюда сошелся весь цвет Флибусты — Эдуард Бонни, по прозванию Краснобородый, с другом своим Лореданом-Венецианцем, затем флибустьер из Дьеппа, гугенот с Олерона, несколько видных англичан и один француз, весьма прославленный, по имени Гронье. Все они очень уважали Тома-Ягненка, почитая его одним из самых храбрых и неизменно счастливых во всем Братстве. Потому им и хотелось прежде всего узнать его мнение и обсудить всем вместе у него на корабле, какое надлежит принять решение, согласиться ли уступить или же решиться не уступать. Тома принял их с почетом, усадил их вокруг стола в своей кают-компании за самыми большими своими кружками, наполненными лучшим его вином, и пошел в каюту кликнуть Хуану, дабы она приняла участие в обсуждении. Никто, впрочем, не счел это зазорным: ибо в глазах их всех Хуана качествами и достоинствами была настоящей флибустьеркой, в особенности с тех пор, как все могли видеть, что она владеет кинжалом, как противник, которого следует остерегаться.
* * *
Когда все, прежде всего, осушили по кружке, чтобы как должно прочистить себе горло, Краснобородый
взял слово и постарался ясно обрисовать положение вещей, бесспорно неутешительное: комиссары короля не успели сойти на берег, как отправились для переговоров к губернатору Кюсси Тарену и совещались с ним битых два часа единственно того ради, чтобы хорошенько осведомить его о неудовольствии его величества и о решении, им принятом, покончить во что бы то ни стало со всем, что касается Флибусты и флибустьеров. Все это стало известно благодаря самому же губернатору, который подробнейшим образом рассказал это многим лицам, а главное, нескольким авантюристам, с явным намерением, чтобы все и всюду знали все до последнего слова. К тому же, королевские комиссары не задавались целью вести следствие о прежних проступках и преследовать корсаров за прошлое их каперство, несмотря на то, что посланники всей Европы осаждали короля своими жалобами по поводу каперства и корсаров. Но король, если и благоволил памятовать об услугах, оказанных в свое время этими же флибустьерами, и прощал им, таким образом, все проступки и даже преступления прошлого, зато приказывал быть беспощадным ко всякому, кто осмелится упорствовать.
— И этот обормот-король, — закончил Краснобородый, ударяя рукой по столу, — вознамерился заставить нас сложить сейчас же оружие, сойти с наших кораблей и просить весьма униженно господина Кюсси благоволить оценить нас по достоинству и наделить нас землей, дав нам разрешение обрабатывать ее и возделывать в качестве миролюбивых землепашцев!
Сказав, он замолк и снова осушил свой стакан, вмещавший три четверти штофа. Этого было едва достаточно для того, чтобы более или менее утихомирить крайнее возмущение, которое его прямо-таки душило при этом названии «землепашцев», произнесенном собственными же устами.
Впрочем, все бывшие налицо капитаны возмущались, и Тома вместе с ними. Иные презрительно смеялись. Другие негодовали. Гугенот с Олерона, совещавшийся уже некоторое время шепотом с несколькими англичанами, вдруг громогласно вскричал, что он решительно отказывается, поскольку это его касается, повиноваться и, сверх того, отвергает свою принадлежность к французам, не желая больше числиться среди подданных — лучше сказать рабов — столь скверного властителя, идолопоклонника, деспота и тирана, фрегаты которого, впрочем, не настолько сильны и не настолько многочисленны, чтобы семьсот-восемьсот Братьев Побережья не могли походя, одним ударом, захватить на абордаж всю их эскадру.
Наступило молчание, так как заявление это было довольно дерзкое. Однако же английские капитаны кивали уже головой в знак одобрения, как вдруг поднялся Тома-Ягненок, раздавив свой стакан судорожно сжавшимися пальцами.
— Клянусь Равелинским Христом! — торжественно поклялся он, — я француз и французом останусь, стало быть, верной слугой своего короля, что бы он ни делал! Что же касается прохвостов, которые вознамерятся атаковать в моем присутствии его фрегаты или покуситься как бы то ни было на его флаг, прохвосты эти, будь они трижды и четырежды флибустьеры и Братья Побережья, конечно, встретят меня поперек своей дороги и с саблей в руке, если на то пошло!
Между тем мулатки, невольницы Хуаны, подавшие вино, поспешили принести господину другой стакан, полный до краев. Он схватил его и одним глотком осушил до капли. После того, стоя лицом ко всем своим гостям, он крикнул во все горло, во всю силу своих легких.
— Да здравствует король!
И никто ничего не возразил.
* * *
Тома же Ягненок, крикнув это, как верный подданный, уселся снова и больше не добавил ни слова; казалось, он снова погрузился в те странные и сумрачные размышления, которые были ему теперь свойственны. Флибустьер из Дьеппа, который, впрочем, только что ему вторил, крича, как и он: «Да здравствует король!» от чистого сердца, почел весьма необходимым все же получить некоторые разъяснения. Поэтому он обратился с вопросом, и вопрос его был достаточно последовательным:
— Значит ты, Тома-Ягненок, теперь вполне доволен, согласен принять волю короля Людовика, подчиниться его приказаниям и, стало быть, разоружить свой «Горностай»?
— Я? Нет! — возразил Тома, настолько ошарашенный, как будто он только что с луны свалился.
Тут он спохватился и, казалось, размышлял. Затем, взглянув на Хуану, как бы спрашивая у нее совета, он пояснил, что напротив, он твердо решил не повиноваться и самым почтительнейшим образом противиться всевозможным приказам, прошлым, настоящим и будущим; что он на этот счет будет поступать, как ему заблагорассудится, будучи, конечно, хорошим подданным короля, верным, стало быть, и лояльным, но в то же время оставаясь Рыцарем Открытого Моря, свободным, стало быть, человеком.
— Свободным, — подтвердила очень спокойно Хуана.
Она впервые раскрыла рот. И все флибустьеры посмотрели на нее с вожделением, потому что она казалась красивее всех в мире, роскошно разодета, напудренная, подкрашенная, с румянами на щеках и убийственными мушками, подперев подбородок сверкавшей драгоценными камнями рукой. Она очень внимательно выслушивала все предложения, скорее как воин или капитан, чем как женщина; и лицо ее, оставаясь все же нежным и сладострастным до крайности, казалось сейчас еще более упорным и вдумчивым.
* * *
Между тем капитан Гронье в свою очередь взял слово. И стоило послушать то, что он говорил:
— Я француз и французом останусь, как и ты, — заявил он сначала, обращаясь к Тома-Ягненку, — французом и, тем самым, лояльным подданным короля Франции, ибо одно предполагает другое. По этой причине я не хочу никаких восстаний; тем более не хочу, что все они рано или поздно будут для нас гибельны. Разве нам не известно, что злосчастный этот мир, столь волнующий и стесняющий нас, не может не уступить вскоре места войне? Король Людовик Великий — великий король, и даю голову на отсечение, что через три-четыре года он снова двинется на врагов своих — стало быть и наших. Когда наступит это время, тем из нас, кто сумеет дотерпеть, ничем себя не скомпрометировав, будет так хорошо, что и сказать нельзя! Остается, значит, выиграть самое большее четыре года. А чтобы их выиграть, вовсе незачем, поверьте мне, делаться нам пахарями. Нам представляется другой выход, и я хочу надеяться, что он хорош.
Он приостановился и обводил взглядом весьма внимательное собрание. Тогда Хуана, легче поддающаяся, как свойственно женщинам, любопытству, спросила его:
— И выход этот?..
— Вот он, — молвил Гронье, перестав колесить вокруг да около и спеша сделать удовольствие даме: — Братья Побережья, все мы, сколько нас ни на есть здесь, знаем, что по ту сторону Пуэрто-Бельо и по ту сторону Панамы существует огромное, даже безграничное море, которое мы называем Южным морем и которое омывает, помимо королевства Мексики и Перу, также на диво богатых, кроме нескольких других американских областей, не менее обильных, девственную до сей поры землю, землю сказочную, хоть еще и вполне реальную и которая весьма справедливо носит название Эльдорадо, ввиду того, что она содержит золото в таком изобилии, что жители ее имеют обыкновение пользоваться для своих надобностей как в хозяйстве, так и в ремесле, утварью и орудиями, сделанными целиком из литого золота. Да! Там сплошь золотая посуда, золотые горшки, миски тоже золотые, кирки, заступы, лопаты, топоры и косы, пожалуй, даже сохи из золота, из чистого золота, самородного золота, без всякой примеси. И это не пустые рассказы, а напротив, истинная, доказанная действительность. Теперь, Братья Побережья, слушайте меня хорошенько: Южное это море, омывающее Эльдорадо, король Испании во все времена объявлял своей личной собственностью; и мирные договоры, те самые договоры, что король Франции вздумал соблюдать так строго, действительно называют его морем испанским и кастильским и предоставляют, в виде особой привилегии, одним лишь кораблям, плавающим под желто-красным флагом. Нечего, значит, опасаться, чтобы фрегаты с тремя лилиями когда-либо заплыли в эти столь запретные воды! Нечего опасаться, чтобы король Людовик, а также его комиссары и губернаторы почувствовали вдруг беспокойство по поводу начинаний, которые мы там предпримем, и мы, буде мне поверят, подпишем все вместе договор на столь прибыльную и славную авантюру, что из простых флибустьеров поистине превратимся в Завоевателей Золота!
Он встал. Правой рукой он ударил по столу. Упало несколько стаканов, и потекло вино, что, как известно было старейшим членам Братства, надлежало толковать как прекрасное предзнаменование.
* * *
Тотчас же поднялась суматоха. В восторге некоторые капитаны громогласно требовали чернил, перьев и бумаги, чтобы сейчас же подписать упомянутый договор. Среди них был уроженец Дьеппа, и он один суетился за четверых. Другие, не столь поспешно дающие свою подпись, требовали дополнительных разъяснений. Спрашивали, например, про пути, ветра, время года. Один англичанин довольно рассудительно заметил, что, сколько ему известно, нет прохода, связывающего Северное море, в котором они находятся, с Южным, куда предполагается попасть. Но на все возражения у капитана Гронье были готовые ответы, казавшиеся как нельзя лучшими.
— Те из нас, — сказал он, — у кого под ногами имеется хорошая верхняя палуба, подобная этой вот палубе, смело может направить курс к зюйду, миновать Оранжевый мыс и мыс Святого Роха и разыскать Магелланов пролив, открывающийся около пятидесятого градуса широты. После чего они снова поднимутся, взяв курс на норд, вдоль всей страны Чили. Я теперь же назначаю всем свидание под стенами самой Панамы, на апрель или май будущего года. Но для менее счастливых людей, к которым и я принадлежу, словом, для нас, имеющих взамен кораблей и фрегатов лишь старые калоши и мокрохвостые скорлупки, будет разумно поскорее с ними разделаться: ибо с севера на юг мы пройдем пешком. Пешком, да! С саблей на боку, с мушкетом на плече. А впоследствии эскадры обоих вице-королей позаботятся, как должно, снабдить нас новыми судами, только что отстроенными Тиммерманами его величества короля Испании.
* * *
Между тем кто-то поддержал будущего командующего; и это был Венецианец Лоредан, который до того не вымолвил ни слова. Редкие же его познания во всем, касающемся Америки, придавали ему в таких случаях особый авторитет.
— От Северного моря до Южного, — сказал он, — надо считать, по прямой двенадцать испанских лье, т. е. пятнадцать лье французских, или тридцать, тридцать пять наших морских миль. Это, конечно, пустяк. Однако же мили эти будут усеяны препятствиями: как-то реками, лишенными брода, непроходимыми лесами, горами и пропастями, а главное, индейцами Брави, опасными в искусстве метать издали свои отравленные и смертоносные стрелы. Что касается другого пути — пути кораблей, — то мне однажды пришлось его проделать, и он действительно труден лишь при подходе к самому проливу, так как там царят обычно противные ветры, дующие с большой силой.
Выслушав его, командующий Гронье спросил:
— А сам ты, брат Лоредан, какой из этих путей изберешь, чтобы достигнуть Южного моря?
Но Венецианец медленным движением поднял обе раскрытые руки, затем дал им упасть:
— Я? — сказал он. — Увы! Южное море далеко, и мне, старику, невозможно покинуть это Северное море, на котором я провел свою молодость…
Он улыбнулся, и те, кто услышал его говорящим о своей мнимой старости, живо сообразили, что он насмехается, так как ему было отнюдь не больше тридцати лет, и каждый волос на его голове был черен, как вороново крыло. Но так как он был весьма скрытен, то ему не угодно было оповещать о тех причинах, по которым он оставался в Вест-Индии и не желал присоединяться к экспедиции в Южное море.
* * *
Повскакав с мест, капитаны собрались кучками и спорили громко и шумно. Проект командующего Гронье собирал уже большинство голосов. Тем не менее некоторые капитаны определенно не высказывались, и Тома-Ягненок в том числе; он один оставался сидеть за столом и продолжал пить в молчании, озираясь вокруг рассеянным взглядом. Хуана его покинула и, полуоткинувшись в амбразуре одного из портов, беседовала с Лореданом-Венецианцем, также, очевидно, расспрашивая его об его отказе, отказе, удивлявшем многих флибустьеров.
Гронье тем временем подошел к Тома и положил ему руку на плечо:
— Капитан Ягненок, — сказал он ему весьма почтительно, — пожалуй, это самый грандиозный план, какой намечался со времен возникновения Флибусты! Как вам кажется? Что касается меня, то, по-моему, такая попытка должна увенчаться успехом, при условии, понятно, что мы сумеем использовать все возможности и ничего не упустим. Так вот, так-то! Угодно вам выслушать меня на этот счет, вам — славному Брату Побережья? Я, Гронье, буду командовать сухопутной армией, как я только что сказал, и поведу ее с севера на юг, сквозь болота и пропасти, сквозь испанцев и индейцев также. И ясно — такое командование не шутка. Флот, между тем, который будет плавать в панамском зное, а потом среди Магеллановых льдов, должен руководиться с неменьшей энергией, и я бы хотел видеть его командующим самого искусного и самого достойного человека, какой когда-либо появлялся на море. Но к чему нам ходить вокруг да около? Такого человека я знаю. Это вы, брат Ягненок; решено ли это между нами, будете ли вы в этом деле моим товарищем — командующим вместе со мной, как и я, равноправным со мной во всем? Вдвоем, нога в ногу, войдем ли мы, для начала, в ворота столицы Панамы
и Лимы и, в заключение, во врата обетованной земли Эльдорадо?
Он говорил довольно тихо, не желая быть услышанным подозрительными и завистливыми ушами. Тома, выйдя из задумчивости, взглянул ему прямо в лицо, затем встал и сделал несколько шагов, как бы колеблясь и не решаясь ответить. Гронье, следивший за ним взглядом, увидел, что он прошел недалеко от Хуаны, продолжавшей беседовать со своим Венецианцем и даже смеявшейся не без кокетства. Впрочем, Тома, проходя мимо, не поднял даже головы, чтобы посмотреть на них. Но тут, как нарочно, голос Хуаны сделался громче, покрыв на мгновение тот гул, который производили флибустьеры, говоря все разом. Хуана, очевидно, ободрявшая Венецианца Лоредана за то, что он не желал странствовать по Южному морю в поисках страны золота, говорила:
— Я, как и вы, сэр Лоредан, не поддамся на удочку, потому что надо быть безумным, нищим или трусом для того, чтобы плыть пять тысяч лье по соленой воде из-за жалкого страха перед пятью фрегатами…
Услышав эти бабьи речи, Гронье только пожал презрительно плечами. Но Тома, услышав или нет, — он по-прежнему не подымал головы, — как раз в этот миг принял решение и дал ответ. И ответ этот, волею случая, — в то же время и таинственного, и полного иронии, — оказался почти слово в слово таким же, как и ответ, данный недавно Венецианцем Лореданом, и который он, Тома, конечно, и не слышал даже:
— Брат Гронье, спасибо вам! Вы оказываете мне большую честь… Но мне, старику, невозможно пускаться в столь далекое путешествие и покинуть это Северное море, ставшее мне родным…
IX
И вот, на глазах у королевских комиссаров, под самыми пушками королевских фрегатов, начала организовываться эта Южная экспедиция, бывшая, как свидетельствует история, самой значительной из всех экспедиций флибустьеров. Однако же ни господа Сен-Лоран и Бегон, ни губернатор Кюсси Тарен ей отнюдь не препятствовали. Как совершенно правильно указал командующий Гронье, Южное море находилось вне юрисдикции и контроля Франции. И благодаря именно этому флибустьерская эскадра, предполагавшая в него отправиться на свой страх и риск и без каперских свидетельств, ускользала от всех репрессий со стороны Франции. Королю Франции было вполне достаточно того, чтобы упомянутая эскадра хорошо себя вела во все время перехода по Северному морю и не сделала ни одного выстрела, начиная от Тортуги и до Магелланова пролива. А дальше, — боже мой! — там это было дело испанского короля, достаточно могущественного монарха, чтобы самому очистить свое Южное море от разбойников и пиратов, которым нравилось в нем крейсировать. Что касается этих разбойников и пиратов, — неважно было, англичане ли они или французы, так как оба правительства, и лондонское, и версальское, многократно заявляли, что они всячески порицают столь непокорных подданных и отказываются от них. К тому же, дабы еще больше успокоить на этот счет господ де Кюсси, Бегона и де Сен-Лорана, командующий Гронье по секрету обещал им всем троим отказаться, тотчас же по выходе из пролива, от своей национальности француза и спустить, следовательно, свой белый флаг, подняв другой, относительно которого король испанский не будет иметь повода придраться к его величеству королю французскому.
— Какой же это флаг? — спросили удивленные королевские комиссары.
— Вот этот вот! — тотчас же ответил командующий флибустьеров, вытаскивая из кармана кусок свернутого флагдука, который он и развернул у них перед глазами.
И все, кроме бесстрашного Гронье, вздрогнули: флагдук был черный, украшенный по четырем углам четырьмя белыми черепами.
* * *
Так, волей-неволей, установились тайные, но не лишенные учтивости, сношения между Флибустой и доверенными короля — теми самыми доверенными, которым было строго наказано их владыкой обуздать и укротить эту самую Флибусту. Несмотря на это, хоть и казалось, что они смягчились и как будто даже отступились от своей первоначальной строгости, комиссары Бегон и Сен-Лоран упорствовали в своих миролюбивых намерениях и продолжали все так же настойчиво стремиться к обращению американских корсаров в землепашцев. Их терпимость распространялась исключительно на покорных флибустьеров, уважающих волю короля, на тех флибустьеров, которые, благоразумно повинуясь, соглашались поскорее покинуть Антилы и отправиться ка-перствовать настолько далеко, чтобы ни один отголосок их каперства не мог обеспокоить королевский слух. Но другие флибустьеры, не столь склонные к послушанию, не удостоились такого снисходительного отношения.
И Тома-Ягненок оказался в их числе.
По особой и в то же время гибельной милости король Людовик не забыл капитана-корсара, представленного ему шесть лет тому назад господином де Габаре, ныне маршалом Франции. Король же Людовик Великий был, говоря без лести, поистине великий король. И если он никогда не забывал награждать достойных награды, то и не забывал также карать заслуживающих кары. Поэтому, когда в Версаль стали стекаться тысячи жалоб со стороны испанцев, вопивших о тысячах флибустьеров и Рыцарей Открытого Моря, король, перелистывая дело с упомянутыми жалобами и диктуя свою волю господину Кольберу де Сеньелэ, статс-секретарю морского ведомства, громко и почти горестно вскрикнул, заметив среди имен наиболее подозрительных обвиняемых этого самого Ягненка, им самим некогда возведенного в дворянское достоинство.
— Как! — молвил он, опечаленный, но твердый в своем решении. — Неужели столь достойный человек превратился из героя в разбойника и грабителя? Если это правда и за столь преступным заблуждением не последует скорое раскаяние, — то этому заблуждению нет прощения! Прошлые наши милости, отнюдь не охраняя и не покрывая виновника, недостойного извинения, должны, напротив, обратиться против него и послужить ему особым наказанием!
* * *
Так что на полях «Инструкции господам комиссарам его величества, на коих возложена миссия в Вест-Индии», имя Тома-Ягненка было внесено, во всю длину, собственноручно упомянутым государственным секретарем маркизом де Сеньелэ. Вот почему в первый же день их прихода на Тортугу, когда адмиральский вельбот отвозил их с корабля на берег, господа де Сен-Лоран и Бегон, заметив стоявшего на якоре «Горностая» и узнав в нем чересчур знаменитый фрегат упомянутого Тома-Ягненка, также чересчур знаменитого, не смогли ни тот ни другой сдержать тот жест — жест удивления и любопытства, — который Тома, глядя в иллюминатор, заметил, как мы видели, как раз, когда они проходили мимо, — никак, впрочем, не толкуя его и тем более не подозревая, что это жест опасный и чреватый для него угрозами…
* * *
А Южная экспедиция продолжала, стало быть, спокойно подготовляться под благожелательным взором королевских комиссаров, под жерлами молчаливых пушек королевских фрегатов. Тома со своего все еще стоявшего на якоре «Горностая» вволю мог наблюдать это странное зрелище. Но, несмотря на всяческие рассуждения, он никак не мог с ним освоиться; он даже упорно отказывался его понимать. Как же так? Господа де Кюсси, де Сен-Лоран, Бегон и их прихвостни, после того, как сами же столь грозно метали против всяких флибустьеров и всяческой Флибусты гром и молнии, теперь, дивно успокоенные и смягченные, поддерживали это начинание флибустьеров и даже ему покровительствовали?.. Это не подлежало сомнению!.. И каждый день целые караваны шлюпок и плотов, дерзко груженные оружием или свинцом, или порохом в картузах и бочонках, приставали, отнюдь не скрываясь, к кораблям экспедиции…
Оглушенный этим, Тома не выдержал и нарушил, наконец, на один день свое молчание. Луи Геноле, тоже очень удивленный, должен был прервать самую длинную из своих послеобеденных молитв, чтобы дать ответ корсару и обсудить с ним положение.
— Пресвятая Дева! — гремел Тома, — пресвятая Дева Больших Ворот! Все, значит, позволено этим людям, а мне ничего? Однако же разве я так же, как и они, они так же, как и я, не Братья Побережья и не Рыцари Открытого Моря? Брат мой Луи, что скажешь? Разве король не достаточно справедлив, чтобы не потерпеть такого неравенства?
Геноле хорошенько не знал, что ответить. Однако же он боялся всего самого худого. И, хватаясь за этот случай, который мог быть единственным, и он обнял руками своего горячо любимого брата и убеждал его, плача и рыдая, отказаться от всего, повиноваться королю, — повиноваться тем самым Богу, который строго карает убийц и душегубцев.
— Не забудь, что он сам сказал святому апостолу Петру: «Кто возьмется за меч, от меча и погибнет».
— Повиноваться я не могу! — молвил Тома, потупив глаза.
Затем, тряхнув внезапно плечами, он вернулся к первой мысли:
— Нет, ты скажи! Ни черта не понимаю! Отчего позволено каперствовать в Лиме и Панаме и не позволено в Пуэрто-Бельо и Сиудад-Реале?
— Почем я знаю? — сказал Геноле. — Однако же, если так, отчего нам не двинуться тоже в Панаму или Лиму? И отчего ты не подписал договор с этим Гронье, который предлагал тебе такие отличные условия?
Тома снова опустил голову. Если он и не часто теперь откровенничал с Геноле, все же он постыдился бы солгать хоть единым словом:
— Она не захотела, — пробормотал он.
И Геноле, услышав, ничего больше не спросил.
Тогда Тома, бросившись к нему и в свою очередь прижимая его к груди, добавил:
— Увы! Увы!
Я люблю ее!.. Я люблю ее! А она… она… Ах, брат мой Луи, ты один у меня остался, ты один… оставайся со мной всегда, оставайся со мной!..
* * *
Пополудни же, съехав на берег вместе с Хуаной и переходя из кабака в кабак, так как Хуана пожелала немедленно разыскать разных веселых приятелей, среди которых числился и Лоредан-Венецианец, Тома вдруг страшно рассвирепел, заметив нескольких довольно жалкого вида субъектов, которые следовали за ним по пятам, от двери к двери, очевидно, с намерением подслушать его разговоры и раскрыть его планы.
Он обнажил шпагу и бросился на них. Подлецы разбежались, подобно стае ворон перед орлом.
— В чем дело? — кричал он, вне себя от ярости. — Что я, изменник или бунтарь? Черт возьми! Меня доведут до этого, если выведут из терпения!
Но Хуана, оставшаяся стоять на месте, презрительно усмехнулась:
— Никогда! — сказала она. — До этого тебя не доведут, поджавшая хвост собака ты этакая, умеющая только рычать, у которой ни одного клыка не осталось, чтобы укусить!
Она теперь презирала его и открыто им пренебрегала, упрекая его в излишней покорности велениям всяких Кюсси, Сен-Лоранов и прочих Бегонов; все из-за того, что он еще не принимался снова за каперство с тех пор, как фрегаты короля сторожили Тортугу.
Оскорбленный таким образом, он всегда становился смертельно бледен. Но и на этот раз он не сумел унять ее болтовню, как бы ему следовало, пятью, шестью оплеухами, которые бы ей свернули челюсть, или хорошей поркой, которая бы ей с пользой обновила кожу и заново отполировала задницу.
Итак, он миролюбиво к ней возвратился и стал лишь препираться с ней, подобно судебной крысе, которая спорит, желая выиграть заведомо гиблое дело:
— Кто же поджавшая хвост собака? — сказал он. — Я ли, которого дюжина шпионов не выпускает из виду, боясь, чтобы я не пошел, куда мне заблагорассудится? Или другие, хорошо тебе известные люди, которых все какие ни на есть губернаторы и комиссары ласкают и лелеют, как всякий может убедиться каждый день, прямо на рейде и среди бела дня?
Но она повернулась спиной и не слушала больше. Ло-редан-Венецианец вошел в кабак и в эту минуту садился за стол невдалеке от нее. Она подошла к нему и стала тереться об его плечо, подобно обезумевшей от страсти кошке, трущейся о кота.
— Уж вас-то, наверное, — сказала она затем, — вас-то, наверное, сэр Лоредан, никогда бы не посмели ласкать ни губернатор, ни комиссары!.. И мухи не смеют жужжать слишком близко от вашей шпаги, которая так же длинна, как коротко ваше терпение!..
Она склонила голову набок, чтобы украдкой взглянуть на Тома. Тома не дрогнул. Он пил, безмолвный, развалившись всем телом, медлительный в движениях. Она видела, как он проглотил одну за другой четыре больших кружки рома. Тогда она вдвойне осмелела и обнаглела. Она засмеялась громкими взрывами порывистого и нервного смеха. Затем, вдруг наклонившись, она поцеловала Венецианца, прильнув губами к его губам…
Тома, опустив голову, упорно смотрел в землю.
X
В темной каюте дверь была заперта, иллюминатор задраен — было невыносимо жарко. Тома, который не спал, обливаясь потом и почти задыхаясь, соскочил, наконец, со своей койки и бесшумно прошел в кают-компанию, а затем по капитанскому трапу на полуют. Он был полураздет. Ночной бриз заиграл в его распахнутой боевой рубахе, в парусиновых штанах, свободно свисавших с его голых ног. Он перешел с правого на левый борт, затем подошел к гакаборту и облокотился в самом дальнем конце с наветренной стороны, лицом к морю. Небо сверкало звездами, и море, светящееся в глубине, как часто случается под тропиками, казалось, заключало в своих недрах мириады странных факелов, бирюзовое свечение которых — слишком отдаленное — колебалось, потухая и снова зажигаясь ежесекундно, по воле волн. Ночь была прекрасна, прозрачна, как алмаз.
— Черт возьми! — проворчал Тома, говоря сам с собой, — не дурак ли я, что сплю закупоренный в этой адской каюте, когда здесь такая благодать…
Он дышал полной грудью, и морской воздух, весь пронизанный солеными брызгами и полный также ароматов близкого берега, восхитительно обвевал ему виски, шею, грудь. Освеженный, он оставался тут, смотря на горизонт…
Королевские фрегаты стояли на якоре не больше, чем в одной миле. Но на них ничего нельзя было разглядеть, ни корпуса, ни рангоута. Одни только желтые и колеблющиеся штаговые огни мерцали. Да и то их можно было спутать с чуть померкшими звездами, утопавшими в мягком тумане, стлавшемся над самой водой. Тома, смотря и не видя, сначала их вовсе не заметил. И даже, когда пробило полночь, и адмиральская рында ударила восемь раз, а за ней последовали и остальные четыре, Тома, услышав этот слабый и хрупкий перезвон, подумал лишь о колокольнях родной Бретани, часто не настолько богатых, чтобы иметь большие колокола с хорошим, торжественным звоном.
Однако же мысли эти недолго длились, так как сигнальщики у шлюпбалок и трапов стали кликать смену вахты, как положено по уставу на судах его величества. Повторяясь, долгий этот крик полетел от фрегата к фрегату, разносясь по морю. Тут уж Тома ничего не оставалось делать, как только вспомнить стоявшую здесь эскадру, эту эскадру, которую он столько раз уже посылал ко всем чертям. И он нетерпеливо щелкнул языком.
— Стало быть, без устали и без конца эти пять проклятых посудин будут мне мозолить глаза и жужжать в уши, и днем, и ночью!..
Пожав плечами, он отодвинулся от фальшборта и круто повернулся, не желая больше видеть упомянутые штаговые огни, им теперь запримеченные, оскорблявшие его зрение. Он отошел, ворча и сердито ругаясь, и пересек ют, шагая без разбора. Но при этом он споткнулся о решетчатый люк кают-компании. И сразу оборвал свои проклятья, боясь быть услышанным; так как кормовые каюты приходились почти непосредственно под этим самым люком. А из этих кают, которых было всего четыре и которые все четыре выходили в кают-компанию, Хуана занимала самую просторную, тогда как остальные три занимали: одну — Тома, другую — Луи Геноле и последнюю — невольницы-мулатки, так как Хуана требовала, чтобы они всегда были у нее под рукой, по соседству, дабы являться по малейшему зову.
Споткнувшись, стало быть, о помянутый люк, Тома инстинктивно приостановился и машинально нагнулся, чтобы взглянуть в зияющее отверстие люка. В нем, понятно, ни зги не было видно. Но в нос ему ударило спертым воздухом; и он резко выпрямился. К тяжелым запахам, исходившим от сонного корабля, примешивался нервирующий аромат, — аромат Хуаны, который Тома различил бы среди тысячи других. И Тома, порывисто отскочив, отошел от люка, обошел кругом и снова оперся о фальшборт, на сей раз с подветренной стороны, лицом к берегу.
Там все огни были потушены. Берег не вырисовывался на потемневшем горизонте. Море было спокойнее и казалось не таким светозарным. Неподалеку от «Горностая» еле виден был очень маленький, неподвижный ялик, хотя он довольно сильно покачивался, стоя, очевидно, на дреке и раскачиваясь на слишком коротком дректове. Тома, если бы напряг глаза, — а они у него были ясные и зоркие, — конечно, удивился бы, не заметив в этом ялике ни рыбака, ни гребца, словом никого, — так что это имело вид весьма таинственной шлюпки, покинутой, этак, больше чем в миле от берега…
Но Тома не глядел ни на землю, ни на небо, ни тем более на какие-то шлюпки на воде. Тома, так низко опустив глаза, что они ничего не могли видеть, кроме отвесного борта фрегата, омываемого волнами, Тома снова забылся в раздумье, бормоча сквозь зубы беспорядочные слова. Только вблизи можно было бы что-нибудь расслышать. Только раз уста его разомкнулись, произнося несколько громче:
— Шесть, семь, восемь… восемь ночей…
По-видимому, он считал, с каких пор Хуана вздумала спать одна в своей каюте, запираясь на замок, несмотря на его мольбы и угрозы. Это случалось и раньше. Однако же никогда еще Тома не чувствовал столько глухого гнева, столько подлинных страданий, — страданий сердечных и телесных, — тяготы и скорби отверженных…
Ибо таков грозный божественный суд, что часто ниспосылает он на эту землю тем, кого он отринет в судный день — ужасное предвкушение грядущих мук.
— Восемь ночей… — повторил Тома, по-прежнему склонившись над темной водой.
Обеими руками он ухватился за локти. Он так яростно стискивал пальцы, что ногти его, разодрав кожу, врезались в мышцы. Выступили капельки крови.
Но вдруг стиснутые пальцы разжались, и раскрывшийся рот перестал издавать звуки. Тома, ухватившись обеими руками за доски планширя и всей своей тяжестью свесившись вниз, хотел, казалось, броситься в море. Он не упал, согнулся только дугой, чтобы получше рассмотреть, поближе и не так искоса, внешнюю обшивку судна.
Как раз под ним, отвесно под его головой, приходился порт, — порт одной из четырех кормовых кают, — порт задней каюты по правому борту, каюты Хуаны. Порт же этот задраен был лишь наполовину — верхний ставень был опущен, а нижний откинут. Тома теперь различал при свете звезд багряную окраску этого откинутого ставня. Впрочем, никакого подозрительного света в каюте не виднелось. Но в ней послышался слабый звук — звук, не похожий на дыхание спящей, не похожий ни на один из тех дозволенных звуков, какие могут исходить из каюты одинокой женщины, независимо от того, спит она или бодрствует… Тома, уцепившись ногами и подколенками за две переборки в фальшборте, перегнулся еще больше. И когда подозрительный звук повторился, ноги его, колени и все свесившееся тело охватила такая дрожь, что и сам фальшборт затрясся и затрещал, — но этот треск заглушила непрерывная жалоба такелажа, колеблемого бризом…
Ибо Тома услыхал не что иное, как звук поцелуя. Поцелуя, и еще поцелуя…
* * *
Тома, однако же, больше не дрожал. Из груди его вырвалось хрипение. И в то же время губы его, внезапно пересохшие, трижды пробормотали одно короткое слово, слово: «Здесь!» Это было подобно стону, стону возмущения, смешанного с ужасом и отвращением. И Тома стал слушать дальше, совершенно уже недвижим, застыв в том грозном спокойствии, к которому приучены были его нервы ожиданием битв. Он продолжал слушать и продолжал слышать. Поцелуи учащались — звучные, страстные, нескончаемые…
К ним вскоре прибавился некий стон бесконечно сладостный и томительный, который был хорошо знаком Тома, который он узнал. И тут Тома перестал слушать. Медленным напряжением мышц он выпрямился, снова вскочил на полуют, отпустил фальшборт и, крадучись, бесшумно скользнул к капитанскому трапу и снова спустился в кают-компанию. Здесь все еще витал аромат Хуаны, еще сильнее даже ощутимый, как бы недавно потревоженный, развеянный. Тома вздрогнул, но не остановился. Дверь его собственной каюты была полуоткрыта. Беззвучнее тени, он скользнул в нее. Ощупью, но по-прежнему совершенно бесшумно, отыскал он кремень, высек огонь, зажег свечной фонарь. Пламя осветило лицо пепельного цвета, и глаза, горящие голубыми огнями раскаленных углей. В изголовье койки, рядом с обнаженной шпагой, лежало два стальных пистолета, заряженных, с капсулями. Тома взял пистолеты, взвел курки, засунул один из них за пояс брюк, другой зажал в правой руке, указательным пальцем касаясь собачки, а левой рукой ухватил за кольцо свечной фонарь, подняв его на вытянутой руке, чтобы он лучше светил. После чего, выйдя из своей каюты и миновав кают-компанию, он направился прямо к каюте Хуаны, затем, без зова, без стука, без каких-либо околичностей, подобно разъяренному жеребцу, рванулся в дверь с такой силой, что вмиг раздробленная створка рухнула внутрь, вместе с засовом, замком, ключом, задвижкой, петлями, разлетевшимися врассыпную.
И глазам предстала каюта — на мгновение ока.
На мгновение ока — на время, достаточное для того, чтобы Тома мог разглядеть сбитую, раскиданную постель и на ней обнаженную Хуану в объятиях мужчины. Тома успел заметить тело этого мужчины — тело худощавое и мускулистое, кожу — белую кожу, подобную женской коже, и одежду, состоящую из одной лишь рубашки. Голова и лицо оставались в тени. Тома поднял пистолет.
Но, быстрее молнии, человек этот разом вырвался из объятий, вскочил, отпрянул. Тома не спустил курок, желая бить наверняка. Тогда тот бросился на него и обоими кулаками ударил по рукам Тома, пытаясь его обезоружить. Это ему не удалось, потому что руки Тома были подобны тискам. Но фонарь, разбитый вдребезги, разлетелся, и свеча покатилась наземь. В тот же миг, человек этот, бросившись снова вперед, повалился на землю, стараясь избегнуть выстрела, как стрела скользнул между ног Тома и выскочил из каюты. Но Тома, успевший обернуться, смутно различил его в слабом свете, проникавшем через решетчатый люк, — человек приближался к двери, ведущей в каюту Геноле. Тома выстрелил. Человек с шумом повалился.

И Тома, ослепленный снопом огня из пистолета, мгновение ничего не видел.
Опрокинутая свеча у ног его не совсем еще потухла. Он схватил ее, поднял кверху. И тут у него вырвался крик изумления; человек снова стоял, все на том же месте — перед дверью Геноле. И он уже не убегал, оставаясь, напротив, недвижим, лицом к Тома. Тома схватил свой второй пистолет, двинулся вперед. Поднятая свеча бросала желтый свет. Вдруг Тома снова закричал и споткнулся, оглушенный, обалдевший, вытаращив глаза: человек этот был Луи Геноле! Луи Геноле, да. — Никакого сомнения. — Луи Геноле — в рубашке, с белой кожей, отсвечивавшей при огне, с крепкими мышцами, проступающими на тонком теле.
Тома подошел ближе. Луи Геноле не шевелился. Ни страха, ни стыда на спокойных чертах его лица. Тома, вне себя, вглядывался в него две-три секунды, потом шепотом, как будто потеряв дыхание, произнес:
— Брат мой, Луи, так, значит, и ты, как другие?., и порывисто нажал курок.
Луи Геноле широко открыл рот, изумленно вытаращил глаза и упал замертво. Пуля попала ему под самое сердце, перерубив на две части аорту. Брызнуло столько крови, что правая рука Тома, стоявшего шагах в трех, по крайней мере, оказалась залитой по самый локоть. Он выпустил дымящийся еще пистолет и замер на месте, словно окаменев.
Тогда тишину нарушил звук очень мягких шагов. Подходила Хуана — обнаженная. Тома заметил ее. Она была бесстрастна, почти весела. Подошла. Глазами искала труп. Увидела. И живо подняла голову. Брови ее, поднятые на самый лоб, выдавали ее крайнее изумление. Она сказала, как бы не веря собственным глазам:
— Геноле?
И она осмотрелась кругом. Тома же пристально глядел на нее. И в эту минуту он со жгучей горечью жалел, что за поясом у него нет третьего пистолета.
* * *
Но в то время, как они тут стояли, он и она, лицом к лицу, другой звук, четкий, хоть и отдаленный, заставил их вместе вздрогнуть: плеск бросившегося с порядочной высоты в воду тела. И когда Тома услышал этот звук, для него это было как выстрелом мушкета в голову: он раскинул руки, замахал ими, дважды повернулся на месте и упал перед телом Геноле ничком.
…Тогда как Хуана, тоже услыхав, вдруг разразилась торжествующим смехом — ужасным.
* * *
Но даже и после этого он ее не убил.
Она повернулась, продолжая смеяться, к своей каюте. Из дверей она осмелилась ему крикнуть:
— Иди сюда!
Если он не пошел за ней, — не сразу, — он уже приподнялся на колени, опираясь на руку. Если он за ней не пошел, так это только потому, что блуждающий взгляд его упал случайно на другую его руку, окровавленную. И странным образом, он вспомнил внезапно малуанскую колдунью, повстречавшуюся ему пять лет назад на улице Трех Королей близ ворот Ленного Креста. И он твердил себе, мрачный, в великом ужасе и великом отчаянии, тогдашнее предсказание — осуществившееся: «На руке этой кровь… Кровь кого-то, кто здесь близко от вас… совсем близко, тут…»
XI
Он не убил ее ни в этот и ни в один из следующих вечеров. Он так и не убил ее никогда. Это подобно было ярму, которое она положила ему на шею; это подобно было ошейнику, который она нацепила ему на шею. Ярмо плоти, плотский ошейник. Сладострастные узы, которых никакой волей уже не распутать.
* * *
Когда она звала: «Иди!» — он шел. Окровавленное тело Луи Геноле, — Луи, бывшего для Тома Братом Побережья, и братом, и товарищем, и еще много большим, бывшего ему настоящим отцом, и матерью, и всей подлинной родней, братом, сестрой, другом, — словом, всем, всем решительно, — окровавленное тело Луи Геноле не послужило для Тома и Хуаны слишком длительным препятствием… Скажем лучше прямо и откровенно: в первую же ночь, последовавшую за ночью убийства, Хуана, дерзко открыв свою дверь, крикнула Тома: «Иди!» И в первую же эту ночь Тома пришел…
Когда он переступал порог этой каюты, которую она, тем не менее, продолжала часто запирать из смелой дерзости… или, может быть, из тонкого расчета, когда он входил наконец, она сначала как будто совершенно не замечала его присутствия. Она не смотрела на него и, если пела, то не прерывала песни, причесываясь, не прекращала своего занятия.
Порой она бывала одета в пышное платье, не успев еще снять своего дневного туалета. Ибо она, по-прежнему, больше всего на свете любила красивые материи и роскошные безделушки и, посреди американских вод, пыталась следовать изменчивой моде Версальского двора или, по крайней мере, тому, что она о ней узнавала или предполагала. Так всю свою жизнь тратилась она на пудру, румяна, мушки, мази, эссенции и духи. Но чаще всего Тома находил ее обнаженной — обнаженной и лежащей на той самой койке, на которой так недавно он увидел ее также обнаженной… и вместе с кем-то другим…
Ей по нраву было в ту пору бесстрастно следить за вожделением этого человека, который был когда-то ее владыкой и сделался отныне ее обесчещенным рабом. Развалившись среди подушек, раскинув руки, разметав ноги, одну туда, другую сюда, она нарочно медлила, обсасывая какой-нибудь леденец или вдыхая запах смоченного фиалковой водой платка. Через некоторое время она, правда, отбрасывала духи и сласти; но для того лишь, чтобы зевнуть сладострастно, зевнуть, являя взору, подобно сладостному и запрещенному плоду, весь полуоткрытый рот: теплые и подвижные губы, острые зубки, искусный в лизании язык; затем, зевнув, вытягивалась и потягивалась все телом, медленными движениями, открывавшими взгляду по очереди живот, спину, плечи, груди, бедра. И Тома, в лихорадке, но укрощенный, лицезрел все это, — не смея шевельнуть пальцем, моргнуть глазом, пока она его не позовет, — сама, взволнованная, не позовет, как зовут собаку, резким и повелительным движением…
* * *
И тогда они сплетались.
* * *
Даже сделавшись флибустьеркой, после стольких битв и сеч, испытав столько разных климатов, посетив столько стран, она оставалась все той же андалузкой, все той же набожной богомолкой, преклонялась у ног своей Смуглянки и молила ее ниспослать ей более пылкие страсти. И не раз, когда любовник обнимал ее, она его отталкивала, чтобы вместо лишней ласки, крестным знамением освятить объятие…
* * *
Это было самое буйное, самое неистовое, самое дикое объятие — и также самое искусное. Из этих рук, столь хрупких и бархатистых, из этих слабых рук с ногтями, подобными лепесткам роз, корсар выходил разбитый, изнемогший, сонный, с омертвевшим телом, иссушенным мозгом. На растерзанной, смятой, опустошенной койке лежал он распростертый, подобно солдату, которого выстрел приковал к земле и который остается недвижим, сражен.
И тогда она, Хуана, склонившись над ним, не сводила с него странного взгляда…
* * *
Слишком женщина, — слишком
также гордая, — чтобы притворно выказывать, в объятиях мужчины, сладострастие, которого она на самом деле не испытывала, она, случалось, оставалась в иные дни бесчувственной и холодной и отвечала взрывами смеха на рыдания и спазмы любовника. Но гораздо чаще она и сама распалялась в любовных играх, отдавалась им вся целиком, впиваясь пальцами в давящее ее тело, кусаясь, царапаясь, рыча… чтобы, наконец, упасть с вершины миновавшего наслаждения и в самую глубь той мрачной и немой бездны, в которую рушился в то же мгновение и сам Тома и где она уничтожалась рядом с ним, поверженная, как он.
* * *
Она любила его, Тома, за то наслаждение, которое он ей доставлял и равного которому не сулил ей дать ни один мужчина, — хотя она, небось, пробовала не раз, в остервенелых поисках, развратная потаскуха… Ни один мужчина, включая даже Венецианца, хотя тот и был весьма изощренным и изобретательным любовником, подобно людям его расы. Но для нее, — принадлежавшей к другой расе, простой и бурной, — никакое изощрение, никакая тонкость не могли сравниться с силой, со всемогущей силой…
Она любила, стало быть, самого сильного. Но она также и ненавидела его, именно из-за этой самой любви, ее обуревавшей, ее порабощавшей. Гордость пленницы, сделавшейся госпожой, уязвлялась этим. И порой она доходила до того, что начинала ненавидеть самое себя, упрекая себя, как за преступление и гнусность, за каждое испытанное наслаждение, за каждое вольное или невольное объятие, за каждый полученный и возвращенный поцелуй…
* * *
Тогда, для того чтобы искупить перед самой собой указанные гнусности и преступления, она удваивала свое презрение и жестокость, стараясь себя успокоить и убедить в том, что, несмотря на взаимное наслаждение, взаимное, по обоюдному желанию, равно настоятельному и с той, и с другой стороны, она все же оставалась королевой, а Тома — рабом. И она жадно хваталась за каждую возможность проявить эту свою царственность за счет раба Тома…
Так, например, несколько дней спустя после смерти Луи Геноле она заставила Тома сняться с якоря и поднять паруса прочь от Тортуги с единственной целью нарушить составленный вначале Тома проект, заключавшийся в том, чтобы сняться одновременно с эскадрой флибустьеров, направлявшейся в Южное море, дабы остаться незамеченными королевскими чиновниками в путанице кораблей, снимающихся в таком большом количестве и, вероятно, в большой сутолоке.
Но так как Хуана решила по-другому, «Горностай» снялся с якоря один, задолго до Южной экспедиции, и не стал прятаться…
XII
Через три недели, как раз в день своего возвращения на Тортугу, «Горностай» удостоился весьма неожиданного и странного посещения…
Вечерело, — а Тома отдал якорь ровно в полдень. Когда солнце начало погружаться в западные воды, в порту отвалила шлюпка и тихонько направилась к малуанскому фрегату, — очень маленькая шлюпка под двумя веслами, на которых сидел всего лишь один негр. В этой хрупкой посудине плыл пассажир, который, видно, старался скрыть свое лицо, пряча его на три четверти под опущенными полями большой шляпы. Ночь, быстро спускавшаяся, как спускаются все тропические ночи, наступила раньше, чем шлюпка подошла к корсару. Наконец она достигла его. Тома, случайно прогуливавшийся взад и вперед по ахтер-кастелю, услышал тут свое собственное имя, громким голосом произнесенное. Он посмотрел. Человек в низко опущенной шляпе разговаривал с вахтенным. Тома спустился навстречу посетителю в то время, как тот поднимался по входному трапу. Они встретились на шканцах. И, крайне удивленный, Тома узнал тогда господина де Кюсси Тарена, губернатора короля над Тортугой и побережьем Сан-Доминго.
Господин де Кюсси Тарен тотчас подмигнул обоими глазами и приложил палец к губам. Он не назвал себя вахтенному. Тома без труда почуял какую-то тайну и, не говоря ни слова, повел губернатора в кают-компанию. Там оба, после всяческих церемоний, усевшись, внимательно стали друг друга разглядывать, все так же молча. Пораженный Тома не верил своим глазам: он сам ни разу не являлся с визитом к господину де Кюсси! Тем более странным и необычайным казался этот поступок столь важной персоны. Однако же он вскоре и сразу получил объяснение.
Действительно, поколебавшись, подобно человеку, не знающему, с какого конца лучше начать очень серьезную беседу, королевский губернатор внезапно решился и взял некоторым образом быка за рога: без всяких витийств он с места в карьер стал допытываться у Тома, что делал «Горностай» в открытом море и не захватил ли он, случаем, какой-нибудь добычи, вопреки формальному запрещению его величества.
Быстрые глаза губернатора внимательно изучали лицо Тома. Тот после такого вопроса густо покраснел и собирался вскочить с места.
— Не обижайтесь на мой вопрос! — воскликнул тогда господин де Кюсси Тарен, удерживая корсара за рукав куртки. — Не обижайтесь! И умоляю вас, капитан л’Аньеле, посудите сами, одно мое присутствие у вас на корабле должно вас убедить в моих добрых намерениях. По чести, сударь, я пришел к вам ради вашего же блага. И не за мной дело станет, чтобы оказать вам ныне самую верную услугу!
Удивленный Тома снова опустился на стул. Господин де Кюсси пододвинул свой стул и протянул Тома широко открытую руку:
— Давайте руку и потом выслушайте меня! — продолжал он не без живости. — Выслушайте меня, и вы перестанете сомневаться.
После чего он стал увещевать Тома, довольно красноречиво, отметив сначала его редкостные достоинства, изумительный ряд подвигов и доблестных поступков, поистине невероятных, которыми он в конце концов заслужил несравненную славу по всей Америке, с одного конца до другого. Невыносимо было бы думать, что столь честный человек, как капитан л’Аньеле, рискует заслужить плохую благодарность за свою великую отвагу. И сам он, Кюсси Тарен, благородный дворянин и честный солдат, поклялся предотвратить зло.
— Вот как? — молвил Тома, ничего не понимая.
— Вот как! — подтвердил господин де Кюсси. — И теперь я перехожу к делу без дальних околичностей.
Он отстегнул две пуговицы и рылся в карманах, желая, видимо, найти что-то.
— Капитан л’Аньеле, — продолжал он между тем, — вы вспомните, быть может, что мы уже однажды виделись на острове Вака, накануне того похода, блистательного, но и прискорбного в то же время, который вы и товарищи ваши флибустьеры предприняли в прошлом году против Веракруса… В тот раз я пришел на ваше совещание сообщить вам категорические распоряжения его величества короля Франции. Мне помнится, что вы, сударь… да, вы лично, ответили мне весьма обходительно, — но с недоверием. Не правда ли, я не ошибаюсь? Заклинаю вас ответить мне без страха и вполне искренно.
Слово «страх» не относилось к тем, которые Тома мог слышать без гнева.
— Ну да, черт возьми! — сказал он резко. — Ничего в мире я, сударь, не страшусь, и вы не ошиблись. Только что вы назвали меня, сударь, честным человеком. Я действительно таков. И король таков, я это говорю, так как знаю сам, разрази меня Бог! Поэтому я не верю и никогда не поверю, чтобы такой честный человек, как король, захотел угрожать, да еще жестоко угрожать, как мне хотят непременно внушить, такому честному человеку, как я, за какое-то затопленное испанское барахло или несколько вздернутых голландцев. В особенности после того, как этот честный человек послужил нашему честному королю так, как я!
Он гордо выпрямился на стуле.
Но господин де Кюсси покачал головой.
— Капитан л’Аньеле, — сказал он медленно и весьма торжественно, — король, конечно, как вы говорите, честный человек, и было бы смертным грехом хотя бы усомниться в этом. Тем не менее он отдал помянутые распоряжения, подписал приказы, которым вы не хотите поверить, и действительно грозит смертью каждому, кто пойдет наперекор. Всему этому есть доказательства. И я явился к вам на корабль с тем, чтобы принести вам эти доказательства, дать вам увидеть их собственными глазами и коснуться их собственными руками!
Он, наконец, вытащив из камзола сложенную вчетверо бумагу, развернул ее и протянул корсару. Это было не что иное, как точная копия «Инструкции господам комиссарам его величества, на коих возложена миссия в Вест-Индии». Заинтригованный Тома начал разбирать первые слова, не без труда, так как почерк был мелкий. По счастью, не успел он разобрать и полстрочки, как господин де Кюсси его перебил:
— Когда вы прочитаете, — сказал он с искренней печалью, — когда вы прочитаете собственными глазами, вы поверите… Сударь! Мне хотелось вас предостеречь и с этой целью показать вам ваше собственное имя, написанное здесь рукой самого господина Кольбера де Сеньелэ, стало быть, без сомнения, под диктовку короля!
Ошеломленный Тома подскочил как ужаленный:
— Мое имя? — воскликнул он.
— Ваше имя, да! — ответил господин де Кюсси Тарен. — Ваше имя полностью: Тома Трюбле, сеньор де л’Аньеле…
Он снова взял из рук Тома написанную, к прискорбию, столь мелко копию. Пальцем указал он на пометку на полях, действительно продиктованную королем Людовиком. И Тома мог вволю таращить на нее глаза.
— Ну! — сказал губернатор после долгой паузы.
Но Тома, прочитав, перечитывал и все снова перечитывал. Особенно последняя фраза привлекала и удерживала его взор, подобно гибельному магниту:
«А буде за преступлением не последует скорое раскаяние, то былые наши милости справедливо обратятся против преступника и усугубят ему кару».
— Я полагаю, — добавил господин де Кюсси, — что вы больше не сомневаетесь?
Тома, наконец, опустил голову. Он не ответил. И, действительно, что мог он ответить? Верно, он больше не сомневался. Но так же верно было и то, что он плохо понимал.
Между тем губернатор короля поднялся с места.
— Господин де л’Аньеле, — сказал он торжественно, — имею честь откланяться, я удаляюсь. До губернаторского дома отсюда очень далеко.
Тома молча поднялся вслед за своим гостем и машинально отвесил поклон.
Господин де Кюсси Тарен стоя и со шляпой в руке готов был переступить порог кают-компании. Однако же он остановился, как бы желая еще что-то добавить, и наконец достаточно неожиданно закончил следующим образом:
— Сударь, благоволите еще раз выслушать мою просьбу: не забывать, что здесь дело идет о вашей голове. Те, кто отныне будет каперствовать, будут почитаться не корсарами, а пиратами. Да, пиратами! Сударь, это вот, больше всего прочего, мне и хотелось вам сказать. Я сказал. Прощайте, сударь.
Он вышел.
* * *
Сейчас же после того, как Тома провел своего посетителя к выходному трапу, и тотчас же вслед затем, как он остался один в кают-компании, широко открылась дверь, давно уже полуоткрытая; и из нее вышла подслушивавшая Хуана.
Тома сидел и размышлял. Она подошла к нему, ударила его по плечу.
— Так-с! — сказала она насмешливо. — Теперь мы стали паиньками, раз такова воля короля! Тома, дружок… где твоя соха?
Он не понял.
— Моя coxa?
— Ну да, черт возьми! — сказала она, — твоя соха! Ты разве не станешь хлебопашцем?
Он пожал плечами и не ответил. Она усилила натиск, оскорбляя его словами и жестами.
— Дело идет о твоей голове, мой Тома! Чтобы спасти такую голову, как твоя, — прекрасную голову, еще бы, — чего не сделаешь! Ну же! Грабли, борону, заступ, лопату! Когда слезаем мы на берег?
Он топнул ногой.
— Молчи! — прогремел он. — Кто говорит о том, чтобы слезать на берег?
Она прикинулась крайне удивленной:
— Как, сердечко мое, ты намерен ослушаться? Ослушаться этого доброго губернатора Кюсси Тарена, столь верного твоего друга? Ты хочешь его огорчить? Неужели против его желания ты хочешь снова каперствовать?
Он отвернулся, склонив голову набок.
— Это-то нет, — сказал он, — не сразу теперь…
Она разразилась презрительным смехом:
— Трус! — крикнула она, перемешивая крик смехом. — Трус! О, я это хорошо знала!
Он подступил к ней, сжимая кулаки.
— Знала что?
Она перестала смеяться, посмотрела на него, — ее черные глаза метали молнии.
— Ты спрашиваешь? — крикнула она. — Ты смеешь спрашивать?
Он решительно тряхнул головой.
— Отвечай, шлюха!.. Что ты знала?
Она яростно сжала пальцы, как когти.
— Трус! — повторила она. — Я знала, и что ты испугаешься, и что ты подчинишься, и что ты подожмешь хвост, трусливая собака! Я знала, что ты рад будешь спастись от войн и сражений, как ты всегда спасался от опасностей и опасных тебе людей, как ты спасался от…
Она остановилась, несмотря на свою дерзость, в нерешительности под ужасным взглядом корсара. Но тотчас же устыдилась своего колебания, ибо она была храбра.
— Как ты спасался от всех моих любовников! Как ты спасался…
Она не договорила. Впервые поднял он на нее руку. Он ударил. И удар свалил ее на землю с разбитым носом, окровавленным ртом.
Он бросился на поверженное тело. Он снова ударил, свирепый, опьяненный, готовый ее убить.
— Молчи! — вопил он. — Молчи!
Но яростным усилием она приподнялась на локтях.
— Трус, трус! — вопила она сильнее, чем он вопил. — Трус, ты меня хочешь укокошить, но не смеешь укокошить других! Трус, трус! Лучше удирай, спасайся, беги! Отправляйся пахать свое поле, поле, которое ты получишь от своего Кюсси за свою трусость! Трус, трус!..
Он все бил. Она снова упала, замолчав наконец, обессилев и потеряв энергию, и вдруг зарычала от боли и ярости. Тогда он бросил ее, отпихнув бесчувственное тело ногой.

Но она не потеряла сознание. И она услышала, как, выскочив из кают-компании, он командовал своему экипажу голосом, подобным раскатам грома и грохоту орудий:
— Свистать всех наверх! Всех наверх, черт возьми! По местам, сниматься с якоря!
Хотя наступила уже темная ночь и не было луны, «Горностай» через полчаса плыл под парусами.
XIII
Вернулся «Горностай» на Тортугу через семь дней…
* * *
В тот день устроен был праздник на королевских фрегатах. Начальник эскадры, человек знатный, принимал губернатора Кюсси Тарена, а также обоих комиссаров его величества, господ де Сен-Лорана и Бегона, — хотя те и были простыми приказными; но на расстоянии полуторы тысячи миль от Версаля можно было несколько поослабить этикет. На судовой этот праздник была приглашена вся городская знать. Адмиральский фрегат, весь расцвеченный флагами и разукрашенный цветами и листвой, имел вид плавучего дворца. На ахтер-кастеле виднелась палатка из малинового отороченного золотом бархата, и в ней важно расселись приглашенные вельможи за длинным столом, заставленным превосходными винами, а также пивом, сидром, лимонадом и прочими подобными напитками, со множеством фруктов, печенья, шоколада, которыми все тешились всласть, осушая за здоровье короля бутылку за бутылкой. Так что до захода солнца и несмотря на то, что угощение было подано уже после полудня, всеми овладело буйное веселье; слышны были одни лишь песни, смех и радостный галдеж.
Тем не менее вахтенная служба снаружи не ослабевала, и вахтенные сигнальщики направляли на горизонт свои подзорные трубы с той аккуратностью, которая привилась на кораблях его величества короля Франции благодаря указам господина Кольбера. Так что один из вахтенных начальников не побоялся заявиться в самый разгар пиршества и притом прямо в бархатную, отороченную золотом палатку, чтобы доложить начальнику эскадры о появлении паруса, приближающегося к месту якорной стоянки.
Начальник эскадры как раз поднял бокал. Сама по себе новость не представляла ничего особенного. Он встретил ее шутливо.
— Черта с два! — сказал он, поднимая наполненный до краев стакан. — Парус этот, бесспорно, подходит к нас в добрый час! Добро пожаловать! Господа, выпьемте за этот парус!
Все выпили. Но вахтенный начальник с шапкой в руке, вытянувшись в струнку, не уходил. И начальник эскадры это заметил.
— Ну, что еще? — сказал он. — И чего ты стоишь, милейший, будто аршин проглотил? Говори же, черт подери!..
— Адмирал, — сказал моряк, — все насчет того паруса…
— Ну?
— Мне кажется, он как две капли воды похож на того проклятого корсара, который отсюда поднялся на той неделе…
— Эге! — вскричал адмирал, сделавшись вдруг серьезен, как на панихиде. — Ты хочешь сказать — «Горностай» Тома-Ягненка?
— Так точно, — сказал вахтенный начальник.
Имя это произвело магическое действие. Смолкли песни и смех. Господин де Кюсси Тарен побледнел. Господа де Сен-Лоран и Бегон подошли прислушиваясь.
Начальник эскадры оставался, однако же, спокоен. Он даже пожал плечами.
— Ба! — сказал он, минуту помолчав. — Тома-Ягненок или кто другой, нам на это наплевать! Пусть приходит, если это он. Впервые, что ли, «Горностай» отправляется в поход на восемь-десять дней, очевидно, с целью приучить к морю неопытный экипаж?
При слове «неопытный» губернатор Кюсси покачал головой. Вахтенный же начальник продолжал между тем стоять перед начальником эскадры, разинув рот и не говоря ни слова.
— Ты еще не кончил? — воскликнул разгневанный адмирал. — Что тебе еще надо, морской жид, смоленый зад? Стаканом вина угостить тебя? Или пинком в задницу?
Такова игривая манера разговора морских офицеров со своими матросами. И у вахтенного начальника сразу развязался язык:
— Никак нет, адмирал, — ответил он. — Но дело в том, что корсарский фрегат на сей раз возвращается к якорной стоянке не таким, как обычно.
— А каким же? — спросил удивленный начальник эскадры.
Вахтенный начальник стоял у входа в бархатную палатку. Он протянул руку к западу.
— Не угодно ли будет вашей милости взглянуть…
Заинтригованные, некоторые из гостей начальника эскадры вышли вместе с ним из палатки…
И они увидели…
«Горностай» был уже недалеко. Под всеми парусами, так как погода была прекрасная и с зюйда дул легкий бриз, он направлялся прямо к якорному месту таким образом, что офицеры королевского флота могли видеть лишь топовый огонь корсара, скрывавший от них кормовой огонь.
Но этого было достаточно для того, чтобы довольно ясно разглядеть четыре рея фрегата, а именно: блинда-рей, фока-рей, фор-марса-рей и фор-брам-рей. На восьми же ноках этих реев висели странные украшения. И когда начальник эскадры поднес к глазу окуляр одной из подзорных труб, которую поспешили принести ему от сигнальщиков, у него вырвался внезапно громкий возглас, возглас отвращения, ужаса почти…
Ибо замогильными гроздями там висели тела казненных… Трупы испанцев, — теперь уже можно было узнать это по одежде, даже по чертам лица, — трупы пленных, развешенных на разной высоте, которых Тома-Ягненок привозил таким образом вздернутых попарно, по трое, по четверо, на всех блоках своего рангоута…
* * *
Сделал он это ради бравады — бравады высокомерной и дикой, — для того, чтобы заткнуть осыпавшую его оскорблениями глотку Хуаны. Ибо Хуана несчетное число раз все возвращалась ко всевозможным нападкам и поношениям, которыми уже вывела из себя своего любовника. С остервенением платила она ему сторицей за каждый удар, который он нанес ей во время их последней ужасной ссоры, и платила бесконечно худшей монетой презрительных насмешек. Так что Тома решил с этим покончить и вознамерился ей доказать исчерпывающим образом, что ни приказы его величества, ни советы губернатора Кюсси, ни тщетное могущество пяти королевских фрегатов не превозмогут его собственной воли — воли Тома-Ягненка!
Поэтому, отойдя от Тортуги западным фарватером, «Горностай» направился к Сантьяго на Кубе с твердым намерением захватить там добычу, хотя бы для этого пришлось проникнуть в самый аван-порт под обстрел испанских батарей. Но судьба решила иначе, отбросив пришедшим с норда ветром фрегат к мысу Тибюрон, который является западной оконечностью острова Сан-Доминго. И как раз в том самом месте, где восемь лет тому назад захватом груженного в Сиудад-Реале галиона Тома-Ягненок положил прочную основу своей славе и богатству, торговое судно из Севильи, возвращаясь в Европу, полное кампешевого дерева и разных пряностей, злополучно подвернулось под руку Рыцарям Открытого Моря. Опять-таки ради бравады и из пренебрежения к опасностям, о которых его предупреждал господин де Кюсси, Тома, атакуя это судно, вместо малуанского флага с багряной вольной частью, поднял зловещее знамя, воистину ставшее теперь его собственным, черное знамя с четырьмя белыми черепами, — помимо своего собственного пурпурного стяга с алым ягненком. Охваченный ужасом, испанец в паническом бегстве открыл огонь из имевшегося у него Фальконета. За что, в наказание, Тома-победитель, не задумываясь, истребил весь этот злосчастный экипаж от первого человека до последнего, затем, — все под хлещущим бичом насмешек Хуаны, — впал в такое неистовство и ярость, что решил повесить эти трупы на всех своих реях: и верхних, и нижних, — дабы так возвратиться и поскорее явить собственным очам королевских комиссаров этот страшный и дерзостный груз.
* * *
«Горностай» придержался между тем к ветру, желая, очевидно, выбраться побольше на бриз и выбрать поудобнее якорную стоянку. При этом он открыл в отдельности свои четыре мачты офицерам королевского флота, все еще толпившимся у входа в адмиральскую палатку. И из этой толпы, подлинно охваченной томлением и даже ужасом, раздался новый крик: так как на каждой из этих четырех мачт висел свой гнусный груз. Покачиваясь от бортовой качки среди надувшихся белых парусов, болталось сорок трупов, вздернутых за шею…
За общим возгласом последовал звон разбитого стекла. Начальник эскадры далеко отбросил от себя полный еще бокал. Повелительный, грозный, он скомандовал:
— На фал! Дать сигнал «Астрее»…
«Астрея» была самым слабым из всех пяти королевских фрегатов: вооружена всего лишь четырнадцатью орудиями и такого легкого типа, что походила скорее на одно из тех маленьких судов английской конструкции, которые начали тогда появляться на море и стали называться корветами.
Голос начальника эскадры раздавался так громко и отчетливо, что ни один из четырехсот матросов адмиральского фрегата не пропустил ни слова из отданного приказания:
— Дайте сигнал «Астрее» немедленно отдать шкоты, поднять паруса, подойти к пирату и привести ко мне вот сюда, ко мне на корабль, всю эту проклятую команду, скованную по рукам и по ногам…
Как бы невольно господин де Кюсси Тарен приблизился на шаг к начальнику эскадры и окликнул его, впрочем, почти шепотом:
— Маркиз…
Весь содрогаясь еще, адмирал королевского флота круто повернулся:
— Господин губернатор?
Но губернатор, опустив голову и нахмурив лоб, затаил, казалось, в себе те слова, что хотел было сказать.
И только после довольно продолжительного молчания заговорил он снова, но совершенно в другом уже тоне:
— Не будет ли «Астрея», — сказал он, — несколько слабым судном для такого поручения?
Но начальник эскадры, чуть не задыхаясь, порывисто скрестил руки на груди:
— Что такое? Можете ли вы хоть на мгновение вообразить, что эти негодяи без стыда и совести осмелятся восстать против нас, слуг его величества?
Сигнальные флаги и вымпела трепал уже ветер. На «Астрее» послышался барабанный бой и завывание маневренного свистка,
* * *
А на «Горностае», не заботясь об управлении судном, Тома все еще сидел в кают-компании и рядом с ним Хуана, разрядившаяся в этот день в самое пышное свое платье темно-фиолетовой тафты, вышитое золотом и снова золотом поверх, по золоту, расшитое, открывающее белую шелковую юбку, великолепно разукрашенную прекраснейшим ажурным шитьем.
Вместе пили они, — оказавшись каким-то чудом в ладу между собой и любезничая друг с другом, — кардинальское вино, захваченное среди недавней добычи, как вдруг один из матросов, постучав в дверь кулаком, доложил капитану, что «треклятый королевский фрегат правит, как распутная девка, наперерез Рыцарям Открытого Моря», После чего Тома тотчас же поднялся на мостик, и Хуана вместе с ним.
«Астрея» на самом деле правила так, как доложил матрос. Оставаясь еще пока под ветром у «Горностая», она приводилась к бризу так круто, брасопя до предела и втугую выбирая булини, что малуанский фрегат начинал уже чувствовать себя стесненным в своих эволюциях. Разделявшее оба судна расстояние было уже не больше трех-четырех сот шагов.
— Ну, как? — заворчал один из канониров, глядя на Тома. — Не надо ли подрезать крыло этой злосчастной птице?
Он уже подходил к своему орудию и оттыкал жерло. Другие последовали его примеру. Уже — неведомо кем — люк констапельской оказался открыт.
Тома, нахмурив брови, разглядывал королевский фрегат. Хуана, стоя подле Тома, усмехалась.
И тут над водой пронесся протяжный крик. Поднеся ко рту свой рупор, капитан «Астреи» окликал корсарский фрегат. Внимательные Рыцари Открытого Моря разобрали слова. Тома отвечал.
— На «Горностае»!
— Есть на «Горностае»!
— Именем короля! Спустить флаг!
— А?
— Спустите флаг, вам говорят! Сдавайтесь!
Тома, пораженный, ожидавший всего, но только не этого, взглянул на свою грот-мачту, потом на корму. Тут еще развевалось черное знамя с четырьмя черепами. Там — красный флаг с золотым ягненком.
Между тем офицер королевского флота, не уверенный в том, что его расслышали, повторял, крича еще громче:
— Сдавайтесь! Спускайте флаг!
И в ту же минуту команду корсаров охватило внезапное волнение. Ребята эти, за всю свою жизнь не видевшие ни отступления, ни поражения, ни, тем паче, плена, разом расхохотались, торопясь в то же время занять свои места для боя. Все это было проделано так быстро, что Тома, вдоволь насмотревшись на свои развевающиеся флаги и перенеся вслед за тем взгляд на палубу фрегата, увидел его вдруг в полной боевой готовности для ответа огнем и мечом на дерзость королевского судна. Впрочем, нельзя было и сомневаться в том, что «Горностаю» достаточно было бы трех залпов, чтобы вдребезги разбить «Астрею». Бой между этими судами подобен был бы дуэли опытного преподавателя фехтования и жалкого ученика, впервые взявшего в руки шпагу.
— Спустить флаг! Именем короля, — крикнул все же еще раз капитан «Астреи».
Тогда Тома, рассмеявшись тоже, как смеялась его команда, обнажил шпагу и направил ее на неприятельский фрегат. И он уже шевелил губами, чтобы приказать открыть огонь, как вдруг на том фрегате, также готовом сражаться и выполнить свой долг, на грот-мачте и на корме развернулись цвета французского королевства: флагдук, или белый атлас, украшенный лилиями, а посередине — королевский герб, лазурно-золотой…
Герб его величества, такой, каким Тома Трюбле, сеньор де л’Аньеле, узрел его когда-то и приветствовал, и почтил коленопреклоненно, когда этот самый герб развевался по ветру на королевском штандарте, горделиво развернутом над Сен-Жерменским замком…
Все матросы, Рыцари Открытого Моря, впились глазами в капитана, выжидая малейшего его движения или слова, чтобы начать бой. И все, вытаращив вдруг глаза, стали их разом протирать, решив, что зрение у них помутилось.
Тома-Ягненок, увидав и признав флаг короля Франции, задрожал всем телом, потом бессильно опустил свою скорбную голову так низко, что подбородком коснулся груди, потом, наконец, выронил обнаженную шпагу, упавшую плашмя с унылым звоном. И в то время, как капитан королевского фрегата в последний раз кричал: «Именем короля», в то время, как изумленная Хуана испускала громкий крик, перешедший в яростный хохот, Тома-Ягненок, не желая сражаться против помянутого флага, не желая сражаться против королевских лилий, твердым шагом направлялся к фалу собственного своего флага и, выбирая к себе этот фал, повиновался — убирал свои цвета, — сдавался…
Глава четвертая
ГРОТА-РЕЙ
I
Выписки из протоколов канцелярии королевского суда французского адмиралтейства по особому подотделу, отряженному на остров Тортугу.
* * *
Данные выписки сделаны из журнала допроса главных начальников и вождей, обнаруженных при захвате легкого пиратского фрегата под названием «Горностай» из Сен-Мало, вооруженного двадцатью пушками, захвате, произведенном королевским кораблем «Астрея», принадлежащим к эскадре под началом господина маркиза де Плесси-Корлэ, командующего эскадрой. Каковой допрос снимали мы, мессир Ги де Гоэ-Кентен, кавалер, сеньор де Лоске, советник, судья гражданских и уголовных дел французского адмиралтейства, подотдела, отряженного на Тортугу по приказу господ Сен-Лорана и Бегона, комиссаров короля, уполномоченных.
Допрос проводился в доме господина Требабю, морского профоса в этом порту, где заключен капитан и главный начальник упомянутого пиратского судна, скованный по рукам и ногам двойными кандалами; в присутствии вышеупомянутых королевских комиссаров, в присутствии заместителя адъюнкт-советника, имея присяжным секретарем нижеподписавшегося Жозефа Коркюфа в качестве письмо-водителя. В темнице названный капитан пиратов, мужчина высокого роста, носящий белокурые бороду и парик, клятвенно обещал показывать правду сего тридцатого ноября тысяча шестьсот восемьдесят четвертого года.
* * *
Спрошенный, как законом положено, он отвечает: именуется Тома Трюбле, сеньор де л’Аньеле, дворянин, лет от роду около тридцати четырех, капитан флота его величества короля Франции, уроженец Сен-Мало, пребывающий на лично ему принадлежащем фрегате, именуемом «Горностай», исповедует святую католическую веру.
Его величество король Людовик Великий соизволил пожаловать ему дворянские грамоты в Сен-Жерменском королевском замке в лето тысяча шестьсот семьдесят восьмое, согласно коим названному сеньору де л’Аньеле гербом надлежит иметь червленый щит, обрамленный картушью, в коем три украшенных золотом корабля, идущих с попутным ветром по лазурному морю и золотым ягненком вверху рядом с двумя лилиями; что его величество соизволил также пожаловать его тем чином капитана флота, каковой он и носит.
Спрошенный о том, каким образом дворянин мог оказаться повинным в приписываемых ему деяниях, деяниях позорных как беспримерной жестокостью, так и неповиновением королю, нашему повелителю, стало быть изменнических, Тома Трюбле отвергает это обвинение и утверждает, что изменником не был никогда, называя и провозглашая себя, хотя и верным слугою короля, но Рыцарем Открытого Моря, стало быть, свободным якобы от всякого повиновения.
Двадцать первого сего ноября французского стиля встречен был перед входом в порт Тортуги около пяти часов пополудни королевским судном типа очень маленького легкого фрегата или разведочного корвета; каковое судно, не дав никаких разъяснений, потребовало, чтобы он, Тома-Ягненок, сдался, и в подтверждение упомянутого требования подняло и водрузило королевский флаг. На что он, Тома-Ягненок, невзирая на бесспорное свое превосходство в силе по сравнению с упомянутым королевским судном, отверг все настояния своих сотоварищей, которые хотели, — возмутившись столь неучтивым обращением, — оказать сопротивление и вступить в бой, и добровольно повиновался, спустив, как ему приказано было, флаг свой перед флагом королевским — и все это единственно из уважения и почтения к его величеству.
Он всегда и при всех обстоятельствах, как и в настоящем случае, проявлял величайшую покорность и глубочайшее уважение к королю Франции, которого будто бы любит горячей любовью и боготворит.
Спрошенный о том, какие мог бы он привести доказательства этой покорности, когда как все до едина знают прекрасно, что, напротив, обвиняемый, а вместе с ним и его преступные товарищи продолжали каперствовать, пиратствовать и крейсировать на море после эдиктов короля точно так же, как и до них.
Он отвечает, что последний его поступок, упомянутый выше, достаточно ясно и вразумительно говорит за себя, когда он, Тома-Ягненок, сдался по-хорошему, без единого выстрела, такому сопливому мокрохвосту, как это так называемый корабль, именуемый «Астрея», лишь только тот поднял королевский флаг.
Судно его введено было в этот порт командиром вышепоименованного корабля «Астрея», на каковое судно сам он был переведен пленником, двадцать первого числа сего месяца.
И сейчас же после спуска флага он сам лично отдал приказание своим людям сложить оружие и не восставать ни против короля, ни против королевских приказов, будь они даже несправедливыми. Что к тому же на сей предмет доказательством служит рапорт командира «Астреи», приложенный к делу. Что, следовательно, он, Тома-Ягненок, не считает себя ответственным за пару мушкетных и пистолетных выстрелов, произведенных по приказанию какого-нибудь младшего помощника, выведенного из себя, и не без причины, помянутой вопиющей несправедливостью. Что, во всяком случае, он, Тома-Ягненок, в течение своей жизни взявший на абордаж около четырех или пяти сотен кораблей, заявляет и утверждает, что сдача собственного его «Горностая» «Астрее» произошла без всякого сопротивления, о котором стоило бы говорить, имея в виду, что при наличии такового сопротивления «Астрея» была бы в настоящее время на берегу или на дне морском, а «Горностай» — в открытом море и на свободе.
Спрошенный о том, кто мог быть тем мятежным помощником, который приказал открыть огонь и оказался поэтому повинен в смерти тринадцати верных слуг короля, убитых в этом деле, отказывается отвечать. И отведенный затем в помещение, предназначенное для пыток, упорствовал в своем отказе. И посаженный на скамью пыток, потом связанный, потом трижды поднятый на дыбу, упорствовал по-прежнему.
Спрошенный о том, кто та женщина, именуемая Хуаной, которая найдена была на «Горностае» и взята в плен, после того, как она оказала слугам короля самое упорное и преступное сопротивление и убила либо ранила выстрелами из пистолета и ударами кинжала первых троих, хотевших ее схватить, он отказывается отвечать. И трижды поднятый на дыбу упорствует в своем отказе.
Спрошенный о том, действительно ли эта женщина, как сама она уверяет, чем похваляется, входит в состав пиратской команды «Горностая» и на самом деле служила у обвиняемого в качестве первого помощника или заместителя капитана, он отказывается отвечать. Упорствует и после пытки.
Спрошенный рассказал, что за всю свою жизнь захватил такое большое число судов, что совершенно не в состоянии все их припомнить. Что, производя все эти захваты, множа их по мере сил своих, он по совести уверен, что тем отлично послужил королю, усматривая доказательство тому в тех почестях и милостях, коими осыпан был в Сен-Жермене и прочих местах помянутым королем, которого смиренно почитает владыкой своим и государем. Что захваты эти произведены были при наличии исправных каперских свидетельств, врученных обвиняемому либо от имени короля Франции, либо от имени иных монархов, действительно царствующих. Что эти каперские свидетельства, сказать откровенно, ныне уже просрочены, и других обвиняемый представить не может. Но что сам он в этом неповинен, так как ни в коем случае не преминул бы исходатайствовать себе новые грамоты, если бы не был заранее предупрежден, что теперешние губернаторы перестали их выдавать и что флибустьеры стали обходиться без них.
Спрошенный о самых последних из его столь многочисленных захватов, о тех именно, что обвиняемый произвел в течение последних своих походов, он отказывается отвечать, уверяя, что запамятовал.
Спрошенный о том, не по вине ли обвиняемого погибло множество испанских, голландских, флиссингенских, датских и португальских судов, без следа исчезнувших в последнее время, отказывается отвечать на приведенные вопросы, утверждая, что не может сказать определенно ни да, ни нет, а лгать не желает. Подвергнутый пытке упорствует по-прежнему.
Спрошенный о том, какая дикая и языческая жестокость заставила его вернуться из последнего похода с четырьмя десятками трупов людей, выдаваемых за врагов, развешенных у него на рангоуте наподобие ужасных плодов среди ветвей фруктового сада, отказывается отвечать.
Спрошенный, ведомо ли ему, что, каперствуя без должных свидетельств, разбойничая, грабя и убивая во время мира, он действовал как гнусный разбойник и пират, он отвечает (с негодованием и яростью): что он, как был всегда, так и останется корсаром и Рыцарем Открытого Моря, а не пиратом. Ибо быть пиратом означает быть разбойником и мерзавцем, тогда как он, Тома-Ягненок, а также и все его товарищи, и женщина Хуана, о которой только что была речь, в особенности, никогда не переставали быть, с божьей помощью, честными людьми.
* * *
Таковы вопросы и ответы названного капитана или командира пиратов, каковой, по прочтении их ему вышепоименованным присяжным нашим секретарем, заявил, что признает оные содержащими правду и не требующими ни добавлений, ни сокращений и что оные подтверждает.
На подлинном руку приложили:
Тома-Ягненок. Гоз-Кентен де Лоске. Сен-Лоран. Бегон. Аврю. Ж. Коркюф.
ПРИЛОЖЕНИЕ
«Рапорт Луи Констана де Мальтруа, капитана флота четвертого ранга, командира королевского судна, именуемого «Астрея», господину маркизу де Плесси-Корлэ, начальнику эскадры, главнокомандующему.
Адмирал!
Имею честь представить вам, согласно вашему приказу, настоящий рапорт касательно проведенной мною именем короля поимки пиратского судна под названием «Горностай», легкого фрегата о двадцати пушках, под командой у господина Тома л’Аньеле и плавающего под черным с белыми черепами флагом и красным, расшитым золотом брейд-вымпелом.
Снявшись с якоря для производства агой операции тотчас же после того, как разобрали ваш приказ, переданный сигнальными флагами, двадцать первого сего ноября, я немедленно привел судно в боевую готовность, продолжая править в бейдевинд, дабы выбраться на ветер неприятелю. В чем я преуспел раньше, чем он проник в мои намерения. Мне, однако же, показалось, что он тут принял некоторые меры защиты, но беспорядочно, без барабанного боя и свистков.
Оказавшись вскоре на расстоянии пистолетного выстрела, я поднял свой белый флаг и приказал отвести и протянуть блинд, чтобы подойти на абордаж. Поступая так, я крикнул пирату, чтобы он сдавался, сомневаясь, впрочем, в его повиновении, так как канониры его, — привычные, видимо, к войне, — уже ототкнули и изготовили орудия. Тем не менее я ошибался, ибо капитан Тома-Ягненок, — которого я тут же приметил и опознал стоящим на своем ахтер-кастеле, — вслед за приказом моим собственноручно отдал фал от своего красного брейд-вымпела, и брейд-вымпел этот опустил. Без сомнения, он здраво рассуждал, что его заведомо ждет проигрыш: ибо такого рода разбойничьи команды, Цезарю подобные по храбрости, когда речь идет о нападении на бедных безобидных купцов, живо показывают спины военным людям и сражаются с ними, скрепя сердце, вяло, будь их даже трое против одного. Я, со своей стороны, несмотря на эту видимую покорность, распорядился все же, ради вящей предосторожности, забросить энтер-дреки и собрал свои абордажные отряды, опасаясь какого-нибудь предательства. И хорошо сделал.
Действительно, когда я, минуту спустя, переходил со шпагой в руке на пиратское судно, дабы, согласно приказу вашему, его захватить, десятка два разъяренных молодцов бросились мне навстречу. Тут произошла довольно жаркая схватка, во время которой, с прискорбием должен вам донести, потери наши оказались чувствительны, дойдя до одиннадцати убитых и двадцати одного раненого. Истины ради вынужден я даже заявить, что потери эти были бы еще значительнее и даже гибельны, если бы помянутый капитан Тома-Ягненок не пришел нам добровольно на помощь, бросившись в толпу восставших, угрозами понуждая их сложить оружие и повиноваться королю, что они, в конце концов, и сделали.
И вот тут-то и произошел странный случай, отчет о котором я вам дать обязан, хотя это и приведет к растянутости данного рапорта.
Вышеописанное нападение было произведено слишком уж согласно, чтобы предполагать здесь одну лишь слепую ярость попавших в ловушку и восставших против своей участи бандитов. Эти пятнадцать-двадцать полоумных, которые бросились на меня и на моих людей, сделали это по настоянию и под руководством главаря, вначале не показывавшегося. Но после того, как все бунтари до последнего сдались, главарь этот объявился, показавшись вдруг со шканцев и направляясь прямо к нам с парой пистолетов в руках. Вообразите же мое удивление, когда главарь этот оказался молодой и красивой дамой, весьма богато разодетой, и которую я бы во всяком другом месте, конечно, принял бы за знатную особу. Не уверенный в том, что в данном случае собой представляла эта особа, я сделал навстречу ей два шага, желая спросить у нее объяснений. Сделать этого я не успел, ибо странная эта героиня без дальних слов прервала мою речь выстрелом из пистолета, прострелившим мне бедро, после чего выстрелила вторично в одного из моих мичманов, господина Дуливана, убив его наповал. Немедленно матросы мои ринулись на этого демона в юбке, столь искусно владевшего оружием; и вскоре его обуздали, хотя это и стоило жизни одному матросу, убитому насмерть кинжалом, который не сумели вовремя вырвать из столь опасной руки.
Закончив наконец это дело и связав, как должно, вышеуказанную девицу, — причем господин Тома л’Аньеле выказал ей самое нежное внимание и ходатайствовал о том, чтобы не стягивать ее так туго веревками, в чем я ему отказал, — я смог, несмотря на довольно мучительные страдания от полученной раны, руководить все же управлением судна и вернуться к якорной стоянке, конвоируя захваченный приз, — не преминув сначала поднять обычный сигнал: «Приказ адмирала выполнен».
Засим, имею честь оставаться, господин маркиз, вашим смиреннейшим, покорнейшим и вернейшим слугой».
Подпись; Луи Констан де Мальтруа.
Согласно тем же выпискам из журнала приговоров, вынесенных пиратам, пойманным на легком фрегате под названием «Горностай», захваченном и отобранном королевскими судами, пираты обвинялись в вооруженном нападении, по-пиратски, на множество торговых судов, в захвате команд, умерщвлении их, в завладении грузами и пр., и пр…
Вследствие чего в отношении господина Тома Трюбле, Ягненка тож, пирата и разбойника, суд вынес такой приговор: «Вам, Тома Трюбле,
Ягненок тож, отправиться в то место, откуда вы явились, и оттуда будете вы отведены к месту казни, где повешены будете за шею, доколе не воспоследует смерть.
Да сжалится милосердный господь над вашей душой!»
* * *
Хуана же, пиратка и убийца, именем его христианнейшего величества, Людовика, короля Франции и Наварры, тоже должна была отправиться в то место, откуда явилась, и оттуда будет отведена к месту казни, где повешена будет за шею, доколе не воспоследует смерть.
Отметка на полях:
«Поелику осужденная, вышеупомянутая Хуана, потребовала осмотра повивальными бабками, дабы засвидетельствовать ее беременность, и нами на сей предмет наряжена была госпожа Мари-Жанна Бека, присяжная бабка; поелику упомянутая повивальная бабка клятвенно удостоверила, что осужденная на самом деле на третьем месяце беременности или около, — суд приказывает отсрочить исполнение приговора.
Каковой приговор будет исполнен, как полагается, после родов, кормления и отнятия от груди младенца, — буде не последует высочайшего помилования».
(Последние пять слов, прибавленные, очевидно, к протоколу впоследствии, написаны, по-видимому, другой рукой и другими чернилами).
II
Выйдя из дома господина Требабю, Тома, — хоть и закованный еще в цепи и ослепленный светом яркого солнца, — продвигался все же твердым и гордым шагом. И капеллану, взявшему его, по обычаю, под руку, — то был капеллан самого губернатора Кюсси, — ни к чему было поддерживать и направлять осужденного на смерть, так дивно пренебрегающего и жизнью, и смертью. Сбежавшаяся толпами чернь, готовившаяся погорланить при появлении мрачного шествия и всячески поглумиться над тем, к кому недавно питала такой сильный и почтительный ужас, — чернь, вопреки всей низости и подлости своей, молча и в отупении взирала на столь великую скорбь, скорбь, поистине торжественную.
Таким образом Тома Трюбле, сеньор де л’Аньеле, рыцарь милостью короля и Рыцарь Открытого Моря, направлялся к виселице. И те, кто видел его в этот последний его час, не могли припомнить, чтобы знавали его более спокойным и решительным в те времена, когда он, бывало, сходил на берег после какого-нибудь победоносного похода, намереваясь бросить у ближайшего кабака якорь веселья.
* * *
Сто двадцать стрелков выстроены были в шеренгу. Другие сорок окружали осужденного. Двенадцать слуг, при шпагах и мушкетах, сопровождали королевских комиссаров, шедших во главе. Восемь тюремщиков, с пистолетами и палашами, сопровождали палача, шедшего в хвосте. Наконец, четыре ефрейтора с саблями в руках окружали знаменосца, старавшегося поднять как можно выше знамя казни. Все вместе составляли настоящую армию. И так распорядился советник Гоэ-Кентен, судья по гражданским и уголовным делам, боясь бунта или заговора, который могли, пожалуй, составить друзья осужденного, с целью вырвать его из рук правосудия. Двести вооруженных солдат не слишком много, когда дело касается Тома-Ягненка.
Двадцать монахов, сверх того, босых монахов, с веревкой на шее, факелом в руке и темной кагулой кающихся на лице, распевали отходные молитвы. И так опять-таки распорядился советник Гоэ-Кентен, дабы внушить народу вящий ужас и страх и дабы столь чрезвычайно торжественное повешение послужило примером и до глубины души преисполнило каждого флибустьера праведного и спасительного трепета перед королем и его правосудием. Этой ценой должен был, наконец, установиться во всей Вест-Индии тот державный мир, которым его величество, в своей королевской милости, желал одарить вселенную.
* * *
Между тем искупительная, так сказать, жертва, Тома Трюбле, сеньор де л’Аньеле, направлялся к виселице. И капеллан, держа его под руку, старался вести с ним умилительную беседу и призывал его к чисто христианской кончине, благодаря которой, с божьей помощью, даже худший из грешников, омытый от преступлений своих, может избежать кратчайшего даже пребывания в чистилище и с виселицы переселиться прямо в рай.
С учтивым сокрушением слушал Тома почтенного отца, но, тем не менее, не переставал озираться жадным взглядом человека, видящего окружающее в последний раз. А в ту минуту, когда духовник многоречиво расписывал ему неземные наслаждения, ожидающие на небе избранных, Тома, по-прежнему глядя направо и налево, заметил, что они как раз проходят мимо той харчевни «Танцующей Черепахи», где он в былое время вкушал наслаждения, хоть и вполне земные, но все же достойные некоторого сожаления. И трактирщик — славный человек, — увидев своего старого знакомца и приятеля в печальном окружении осужденного, хотел поднести ему кружку вина для подкрепления. Но, по злобной прихоти или излишней строгости, стрелки этому воспротивились, и таким образом Тома был лишен этого ему налитого вина. И так как он чувствовал жажду, то рассердился.

— Сын мой, — сказал тогда капеллан с большой кротостью, — пожертвуйте это господу, это вам зачтется!
Так говоря, он прижимал к себе руку Тома, и Тома, уступая этому почти что нежному пожатию, сделал усилие, чтобы смирить свой гнев.
— Да будет так, раз это вам угодно, отец мой! — сказал он, немного помолчав. И чуть не вслух сказал себе:
— Мне, впрочем, сдается, что я могу еще малость потерпеть жажду, так как то вино, что пьют в раю, надо полагать, получше вина из «Танцующей Черепахи»!
Духовник, не расслышав, продолжал свои назидательные речи:
— Сын мой, — говорил он, — вы простили этому стрелку, лишившему вас питья. Слава господу, милостиво давшему вам простить! Скажите же мне теперь: прощаете ли вы так же всем вашим врагам, без исключения, все их проступки против вас?
— Ну да! — искренне молвил Тома. И снова подумал:
— Я не в убытке, если и враги мои так же мне прощают! Ведь их проступки против меня словно тоненькая соломинка, а мои проступки против них подобны толстенному бревну…
При этом он грустно улыбался, ибо в памяти его всплывали сестра его Гильемета и прежняя его милая Анна-Мария, а также малуанские горожане и испанцы из Сиудад-Реаля и из Веракруса и столько встреченных на море команд, — и Хуана…
* * *
Размышляя таким образом, Тома все шагал тем же спокойным шагом, нимало не задумываясь о пути, которым следовал. И поистине чудесно было видеть этого человека — столь гордого некогда и упорного — в такой мере успокоенным близостью смерти и как бы уже почувствовавшего величавую безмятежность могилы.
Тем не менее, несмотря на равнодушие, которое он теперь выказывал ко всему мирскому, Тома удивился, когда его конвой, покинув улицы самого города, миновал склады и магазины порта и вступил на дорогу, окаймлявшую набережную. Обычно виселицу воздвигали очень далеко отсюда, на вершине небольшой горы, возвышавшейся над всей окрестностью. Изумленный Тома спросил капеллана:
— Где же, черт побери, меня вздернут, отец мой?
Но духовник снова дружески пожал ему руку:
— Не все ли вам равно, сын мой? Помышляйте лишь о Боге, которого скоро узрите во славе его… И не смотрите туда! — поспешно добавил он в тот миг, когда Тома взглянул на море, желая рассмотреть стоявшие там на якоре суда.
Добрейший отец хотел таким образом скрыть от его взора виселицу. Но Тома уже все понял, заметив прямо впереди шествия своего собственного «Горностая», ошвартованного четырьмя швартовами у самого берега.
— Эге! — вскричал он, невольно громче, чем того хотел. — Не на своем ли собственном грота-рее я сейчас запляшу гугенотскую пляску, подобно стольким испанцам на той неделе?
— Так точно, сударь, — ответил палач, заговорив впервые.
Он подумал, что осужденный спросил его и, будучи по природе учтивым, не видел, отчего бы ему не ответить. К тому же Тома поблагодарил его кивком головы.
— Ей-богу! — молвил он, глядя, нимало не бледнея, на упомянутый грота-рей, к ноку которого помощники палача принайтовили уже тали. — Не скажу, чтобы это мне не нравилось. Итак, в это последнее путешествие я отправлюсь, как приличный путешественник, — из собственного моего дома!
Он все смотрел на грота-рей, как ни старался его отвлечь капеллан.
— Ей-богу! — повторил он, презрительно засмеявшись. — Не бывал я на таком празднике, в таком прекрасном месте, на такой высоте…
Но, произнося последние слова, он вдруг вздрогнул, и глаза его расширились. Из глубины его воспоминаний ему припомнилась малуанская колдунья, одно из ужасных предсказаний которой уже сбылось. И ему снова почудился старый дребезжащий голос, доносившийся к нему сквозь время и пространство, чтобы опять повторить ему, Тома, перед самой виселицей, непонятную тогда, теперь же значительную и грозную фразу:
«Ты кончишь очень высоко, очень высоко, выше, чем на троне»…
С этой минуты он до конца шел задумчиво, с опущенными глазами. И несколько раз, с великой и мучительной горестью, пробормотал он имя Луи Геноле…
Сходни, спущенные с судна на берег, открывали доступ к плененному фрегату. Тома проворно по ним прошел, несмотря на то, что ноги его были довольно тесно спутаны. И вздохнул свободнее, очутившись на этой палубе, — столь славном поле брани, так много раз видевшем его победителем.
* * *
Свершились наконец установленные церемонии. Заместитель адъюнкт-советника прочел приговор. Осужденный предан был в руки палача, который им и завладел.
Тома с полным равнодушием предоставлял вести себя. Но за минуту перед казнью появился некто, перед кем все почтительно расступились. И Тома, подняв глаза, узнал господина де Кюсси Тарена, которого великодушная жалость побудила присутствовать при последних минутах своего недавнего гостя, коим он, как известно, постоянно восторгался за редкое его мужество, — столь, поистине редкое, что он, Кюсси Тарен, бравый солдат и верный ценитель отваги, почитал его сверхчеловеческим.
Помощники палача расступились. Тома учтиво поклонился. И господин де Кюсси, бледный от волнения, схватил его закованные руки и сжал в своих.
— Увы! — сказал он, едва сдерживаясь, — отчего не поверили вы мне, когда я говорил вам…
Он не докончил. Но Тома во сто крат менее взволнованный, чем добрейший губернатор, сам договорил:
— Когда вы говорили мне, сударь, что я рискую головой? Пусть так! Но не печальтесь ни о чем: видно, не суждено мне было умереть смертью утопленника! Это не уменьшает моей к вам благодарности, поверьте, сударь.
Тут подошел капеллан и протянул Тома медное распятие:
— Приложитесь, сын мой, и доверьтесь его милосердию. Он простит вам, если и вы простите вашим ближним.
— От всего сердца! — заявил Тома, смотревший на губернатора. — Я прощаю даже королю, хоть он и жестоко обманул меня.
Палачу показалось, что время чересчур затягивается. Он кашлянул.
— Прощайте, господа, — молвил Тома, заслышав этот кашель.
Но господин де Кюсси снова взял его за руки:
— Господь мне свидетель! — сказал, он не сдерживая больше слез. — Я сейчас испытываю больше горя, чем вы сожаления и страха!.. Капитан л’Аньеле, скажите мне, не хотите ли вы… чего бы то ни было… перед смертью?.. Честное слово де Кюсси, я бы отдал правую руку, лишь бы исполнить ваше желание!
Тома пристально поглядел ему в глаза, затем медленно покачал головой:
— О, да! — промолвил он. — Но то, чего я желаю…
Он решительно покачал головой.
— Что же это? — спросил удивленный губернатор.
— Видеть ее!..
Он проговорил это так тихо, что господин де Кюсси не положился на свой слух.
— Что? — переспросил он.
— Видеть ее! — повторил Тома, все так же тихо и почти униженно. — Видеть ее, Хуану, мою милую… мать моего малыша…
Он узнал, что она тяжела.
— Клянусь спасением моим! — горячо воскликнул добрый губернатор, — только и всего? Вы ее увидите, беру это на себя! До тюрьмы ее не будет и пятисот шагов…
Он поспешил распорядиться. И один из ефрейторов, захватив с собой двух стрелков, побежал к указанной тюрьме.
* * *
Палач между тем ворчал из-за такой задержки. И Тома, слыша это, пожелал вернуть ему хорошее расположение духа, настолько собственное его сердце переполнено было истинным ликованием при мысли сейчас увидеть снова ту, с которой он уже считал себя разлученным вплоть до страшного суда. Поэтому, оборотившись к палачу, Тома, без дальних околичностей, отдался в его руки и велел ему приступить к подготовительным церемониям, как будто бы пробил уже последний час.
— Таким образом, — сказал он, смеясь, словно речь шла об изысканнейшей шутке, — вы сможете отправить меня на тот свет проворнейшим образом, как только я пять-шесть раз поцелую прелестную красотку, которую жду. И не бойтесь, что я замешкаюсь: как только она заплачет, с меня будет довольно!..
Так, он потребовал, чтобы ему надели на шею роковую петлю и прислонили к абордажным сеткам виселичную лестницу. Вслед за тем остановился вблизи, поджидая.
Но вот он встрепенулся, и, несмотря на удивительное свое мужество, смертельно побледнел: ефрейтор возвращался и оба стрелка также. Но Хуаны с ними не было.
— В чем дело? — закричал Тома-Ягненок, невольно сделав шаг вперед, насколько позволяли ему его ножные кандалы.
Ефрейтор снял шляпу, ибо лицо осужденного сияло в эту минуту грозным величием.
— Особа, — пробормотал он, — не пожелала прийти. Она сказала…
Запыхавшись, он приостановился. Тома повторил столь же бледным, как и сам он, голосом.
— Сказала?
— Она сказала: «Передайте ему, что мне до него нет дела. Так как, если бы он тогда сражался, как мужчина, то не подох бы теперь, как собака».
Тома, онемев, отступил к лесенке. Палач знаком подозвал своих помощников. Потихоньку, перебирая руками, выбирали они слабину у талей.
Тома тогда несколько раз глотнул слюну. И ему удалось еще проговорить.
— Больше ничего, — прошептал он, — больше ничего она не сказала?
— Как же, — молвил ефрейтор, мявший в руках свою треуголку. — Как же!.. Она еще сказала…
— Сказала?
— Она сказала, что ребенок не от вас…
* * *
Без единого стона, Тома-Ягненок вдруг склонился, поникая и сгибая тело под прямым углом, как это иной раз бывает со смертельно ранеными людьми. Но тотчас же разом выпрямился, задел плечами виселичную лестницу, обернулся, взлез на три ступеньки, спрыгнул в пространство. Канат, заранее выбранный и натянутый, сразу сломал ему шею.
INFO
ББК 84.4.ФР
Ф25
Фаррер К.
Ф25 Битва. Корсар. Романы./Пер. с французского; худ. И. Сакуров. — Ярославль: Нюанс, 1993. — 472 с., илл. — («Новая библиотека приключений»).
Ф 4703010100 — 01/Нюанс — 93 Без объявл.
Клод Фаррер
БИТВА
КОРСАР
Романы
Редактор М. Г. Китайнер
Художник И. А. Сакуров
Художественный редактор Н. Д. Шадуров
Технический редактор Л. В. Анисимова
Корректор Л. Е. Новожилова
Сдано в набор 25.08.92. Подписано в печать 2.02.93. Формат 84*108/32. Бумага офсетная № 2. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. п. л. 24,78. Уч. изд. л. 29,1. Заказ 802. Тираж 12000 экз.
Творческое объединение «Нюанс».
Издательство «Нюанс»
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 56.
Ярославский полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.

Примечания
1
«Зеркало — душа женщины, как меч — душа мужчины» (японская пословица).
(обратно)
2
Кунг-Фу-Тзы (Конфуций) родился в стране Лу.
(обратно)
3
Идти медленно разрешается только знатным особам. Идти скоро считается доказательством уважения.
(обратно)
4
Даже в зале, устланной коврами, по обычаю, требуется предложить гостю для того, чтобы он сел или лег, одну или несколько циновок.
(обратно)
5
Мандарин третьего класса. В империи девять классов мандаринов. Чеу Пе-и, государственный посланник и министр, имеет своими адъютантами штатских или военных в чине, соответствующем французскому префекту или полковнику.
(обратно)
6
В китайском языке не существует звуков равнозвучных буквам французского имени «Фельз», следовательно, и букв, которыми можно было бы написать это имя. Чеу Пе-и, которому приходится рисовать кисточкой имя своего друга, вынужден прибегать к хотя бы приблизительно аналогичным буквам. Наиболее приближающиеся буквы будут «Фенн». Чеу Пе-и, естественно, произносит имя Фельза так, как он его пишет. Ta-Дженн — почетное обращение, дающееся чиновникам первого и второго ранга и вообще знатным особам. Буквально оно означает «важный человек».
(обратно)
7
Чунг-Куо — Срединная Империя, Центральная Империя, т. е. Китай. Слово «Китай» для китайцев непонятно.
(обратно)
8
Чеу — фамилия, Пе-и — имя, которое китайцы, как и японцы, ставят после фамилии. У знатного китайца всегда два имени — одно интимное, другое официальное. В разговоре следует употреблять последнее, так как первое предназначается исключительно для ближайших родственников или для высших по иерархии. Так как Чеу Пе-и старше семидесяти лет, то автор не решился из уважения к нему привести здесь интимное имя такого почтенного человека.
(обратно)
9
Покои, т. е. женская половина дома. Благовоспитанный китаец никогда не говорит о женщинах иначе как отвлеченно, например цитируя какое-нибудь философское изречение. Чеу Пе-и хвалит своего гостя за то, что тот сумел дать ему понять без ненужных подробностей и лишних слов, что женщины играли и еще играют большую роль в его жизни.
(обратно)
10
Цветущее знамя — Коа Ки — прозвище, которое китайцы дают американскому флагу из-за его пестрой расцветки.
(обратно)
11
Августейшая Высота — Хоанг-Чан; Августейший повелитель — Хоанг-Ти; Сын Неба — Тиен-Тзы — этими тремя именами называют китайцы своего императора.
(обратно)
12
Западная сторона предоставляется особенно почетным гостям.
(обратно)
13
Та-Хио — Великое Учение — первая из четырех древних книг.
(обратно)
14
В это число — к тому же преувеличенное — японская пресса без различия включала как военные суда, так и угольщики.
(обратно)
15
Кими — значит «милый», с оттенком почтения.
(обратно)
16
«Dotters» и «deflection-tearchers» — два прибора, помогающие комендорам правильно наводить, «loading-machines» помогают артиллерийской прислуге быстро заряжать. Дальномеры Барра в 1910 году были единственными инструментами в мире, позволяющими правильно измерить расстояние от орудия до цели.
(обратно)
17
Ранее капитана Герберта Фергана г. Адрэ Бельсор слышал такую же фразу из уст одного самурая из Кагошимы.
(обратно)
18
Шоджи — переносные перегородки в виде рамы, обтянутой плотной бумагой.
(обратно)
19
Китайские книги, раньше бывшие основанием японского образования.
(обратно)
20
Чайные домишки и гостиницы.
(обратно)
21
Мандарин шестого класса.
(обратно)
22
Мандарин второго класса.
(обратно)
23
Кунг-Фу-Тзы, кн. VIII, гл. XVI, параграф 2.
(обратно)
24
Менг-Тзы, кн. II, гл. II, параграф 5.
(обратно)
25
Древний философ, известный своей крайней терпимостью. Чеу Пе-и приводит здесь изречение Менг-Тзы и намекает на анекдот, довольно известный в китайских летописях: Ванг-Лянг, невзирая на приказ начальника, отказался вести колесницу неискусного стрелка Хи. За это его восхваляли, указывая, что вопреки мнению Гуэя, он вступился за достоинство своей профессии.
(обратно)
26
Китайская пословица.
(обратно)
27
Цуо-сен иу сянг — очень распространенное выражение.
(обратно)
28
Третья из священных книг. И-Кинг (Оккультные науки). Чу-Кинг (Летописи). Че-Кинг (Стихи). Ли-Ки (Обряды). Чун-Тсиу (Весна и Осень).
(обратно)
29
Наиболее распространенное наименование Кунг-Фу-Тзы (Конфуция).
(обратно)
30
Линн-Лю, кн. VI, гл. XI, параграф 25 (Тиен и Тсенг-Си — имена одного и того же мудреца).
(обратно)
31
Ша-змея, шестое из двенадцати животных китайского цикла. 1905 год христианской эры был годом змеи.
(обратно)
32
Май. Китайские месяцы дней на сорок отстают от наших..
(обратно)
33
Обычная формула вежливости: «Я много слов еще мог бы вам сказать, но не говорю их, чтобы не наскучить вам».
(обратно)
34
Предание XII века, относящееся к истории войн между кланами Таира и Минамото (1161–1185 гг.).
(обратно)
35
Буквальный перевод фразы, слышанной автором из уст гостиничной служанки.
(обратно)
36
Никакое судно по имени «Никко» не принимало участия в Цусимской битве. Автор, заботясь о том, чтобы «интрига» этого романа оставалась совершенно вымышленной, вынужден был изобрести несуществующий броненосец, чтобы на нем поместить несуществовавших людей и описать несуществовавшие события. Но само собой разумеется, что все в этой книге, что не касается непосредственно «Никко», его экипажа и командного состава, носит строго исторический характер.
(обратно)
37
При Кумамото был в 1877 г. разбит Сайго со всем кланом Сатсумы.
(обратно)
38
Аматерас но Охоми Ками, родоначальница династии Микадо.
(обратно)
39
Неизменная Середина — Чуг-Юнг, где Конфуций помещает абсолютную мудрость.
(обратно)
40
Лиун Иу, кн. VII, гл. XVI.
(обратно)
41
Метафора, обозначающая, что Сын Неба умер.
(обратно)
42
Обязательная метафора, чтобы выразить, что Сын Неба несовершеннолетний. Почтение запрещает китайцам считать годы императора.
(обратно)
43
Первая книга Ли-Ки «Мелкие правила благоприличия».
(обратно)
44
Известные парижские рестораны.
(обратно)
45
Большой бастион, теперь уже несуществующий, прикрывавший Большие Ворота со стороны моря.
(обратно)
46
Доброе Море, служившее собственно портом Сен-Мало, покрывало в 1708–1710 гг. весь теперешний квартал Св. Винцента.
(обратно)
47
В то время было принято иметь двух крестных отцов вместо одного, чтобы придать больше пышности крестинам. Понятно, эти крестные отцы выбирались среди знати или горожан, способных стать в дальнейшем хорошими покровителями новорожденному.
(обратно)
48
Тома Трюбле объясняет на сокращенном морском жаргоне, что голландский фрегат вооружен восемнадцатифунтовыми пушками — пушками, стреляющими ядрами весом в 18 фунтов — и что пушек этих было 24, т. е. по 12 орудий с каждого борта, тогда как «Большая Тифена», значительно более слабая, несла на себе всего 16 пушек, стреляющих 12-фунтовыми ядрами, т. е. имела по 8 пушек с каждой стороны.
(обратно)
49
Оттыкать горло у пушек, вынимать пробку; пробка — деревянная втулка, прикрывавшая пушечное жерло для защиты дула от дождя и пыли.
(обратно)
50
Спустить флаг — сдаться.
(обратно)
51
Приставали на абордаж, управляясь одновременно румпелем, то есть рулем, и парусами, иногда пользуясь только парусами. Но чтоб управлять парусами, надо было иметь команду на палубе, как полагается.
(обратно)
52
Банник — род метелки из ворсы, которой чистились пушечные дула.
(обратно)
53
Ни один матрос с возвратившегося в порт корсарского судна не мог сойти на берег раньше, чем чиновники Адмиралтейства не посетят судна и не оценят груз с целью избежания тайной разгрузки, уменьшавшей обманным образом долю короля.
(обратно)
54
При официальном разделе призов треть всей добычи шла экипажу, треть — арматору и треть — поставщику. Треть, принадлежавшая экипажу, в свою очередь делилась на доли, и каждый моряк получал либо одну долю, если он был матросом, либо поддали, если был молодым матросом, либо 2, 3 или 4 доли, смотря по тому, был ли он унтер-офицером или офицером. Что касается капитана, то он имел право на 12 долей, а помощник его — на 8.
(обратно)
55
Девка (garce) обозначало, на простонародном языке того времени, просто молодую девушку. «Garce» было женским родом от «garcon» (мальчик) и не имела порочащего смысла.
(обратно)
56
«Воронье гнездо», из которого сигнальщик следил за горизонтом, а также за цветом воды, показателями рифов и подводных скал, было простой бочкой, открытой сверху, которую крепили как можно выше на фок-мачте.
(обратно)
57
На три румба впереди по левому борту означает точку горизонта, находящуюся влево от того места, куда направляется судно, и на 34 градуса в стороне от него. Моряки для удобства глазомерной оценки делят окружность (360 градусов) на 32 румба, из которых каждый, следовательно, равняется 11 градусам и 15 минутам.
(обратно)
58
Флибустьеры сами себя называли авантюристами, и оба термина сохранены летописцами, как синонимы.
(обратно)
59
В то время испанцы Нового Света называли всех флибустьеров и авантюристов разбойниками, ladrones.
(обратно)
60
Господин капитан, не убивайте меня. Я скажу вам правду.
(обратно)
61
Так назывались укрепления, служившие для защиты ворот или моста.
(обратно)
62
Марка того времени весила около двухсот граммов.
(обратно)
63
Карточная игра. —
Прим. автора.
(обратно)
64
Восемьдесят пять — девяносто километров, —
Прим. автора.
(обратно)
65
Поливая старые паруса водой, заставляли ткань уплотняться и сильнее наполняться ветром. —
Прим. автора.
(обратно)
66
Начиная с 1653 года, со времен войны с Англией, у голландцев вошло в обычай, победив неприятеля, поднимать на грот-мачте метлу в знак того, что они могут, как только пожелают, вымести с моря всех врагов. —
Прим. автора.
(обратно)
67
Ягненок — Прим. перев.
(обратно)
68
Флаг Флибусты был белый, в подражание французскому. —
Прим. автора.
(обратно)
Оглавление
БИТВА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XХIII
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
ХХХIII
XXXIV
КОРСАР
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Глава вторая
КОРСАРЫ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Глава третья
ЗАВОЕВАННЫЙ ГОРОД
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Х
KOPCАP
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
КОРОЛЬ
I
II
III
IV
V
VI
Глава вторая
СЛИШКОМ ТЕСНОЕ ГНЕЗДО
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Глава третья
РЫЦАРИ ОТКРЫТОГО МОРЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Глава четвертая
ГРОТА-РЕЙ
I
II
INFO
*** Примечания ***