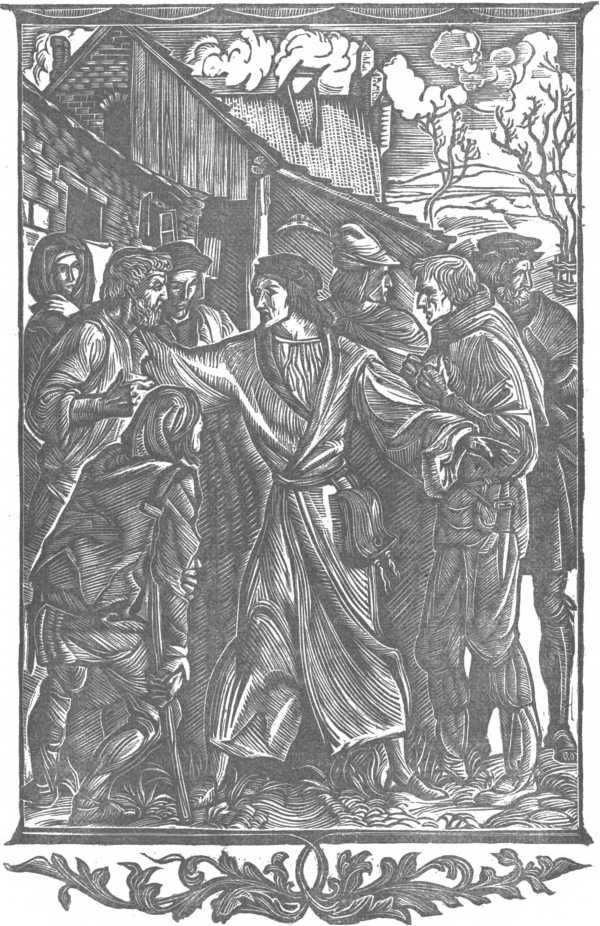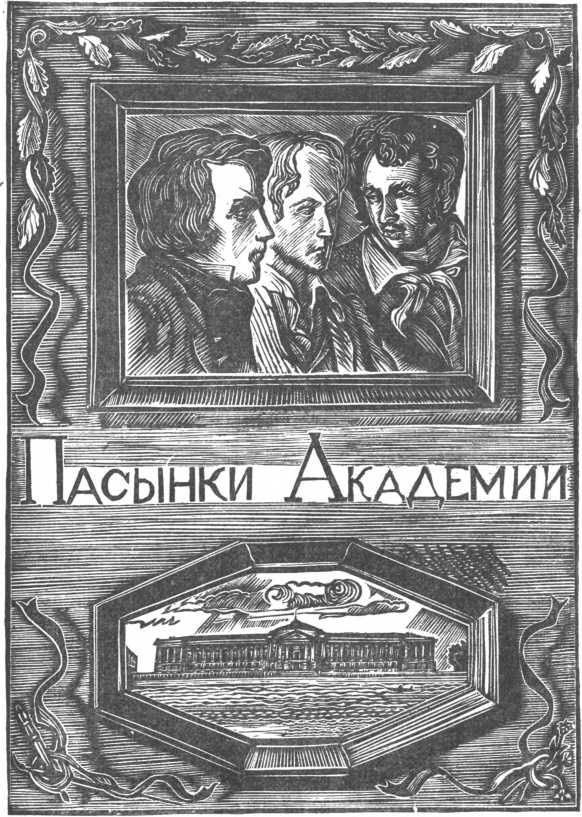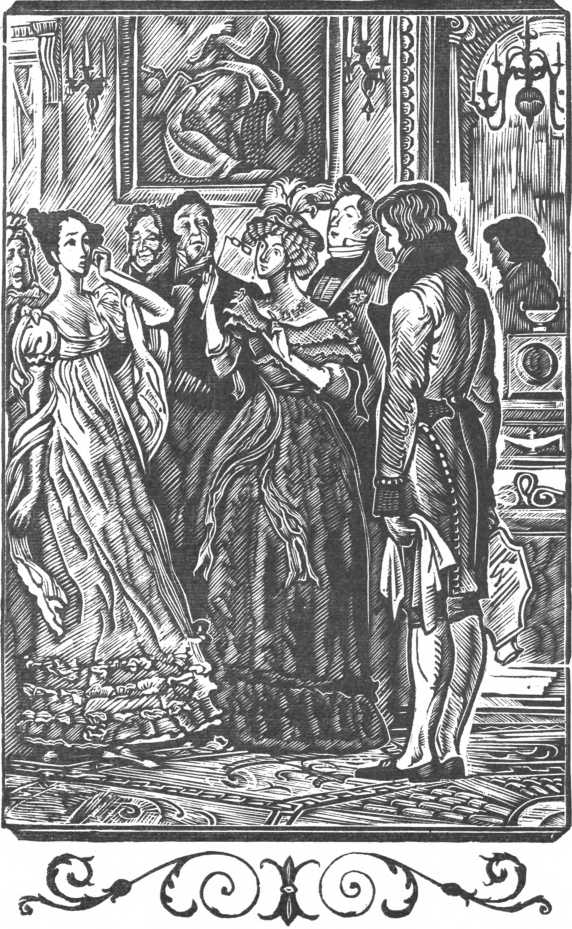АЛ. АЛТАЕВ (1872–1959)


Гравюры на дереве Л. Дурасова
Биограф и летописец минувшего

В конце прошлого столетия в Петербурге издавался журнал «Игрушечка». Журнал предназначался для подростков, но имел приложение, рассчитанное на самых маленьких читателей. Это было одно из лучших, хорошо иллюстрированных изданий той поры для детей. На его страницах встречались имена многих известных русских прозаиков и поэтов. В редакции «Игрушечки» заботливо относились и к начинающим литераторам, всегда старались поддержать молодых авторов, если находили в их рукописях хотя бы искру литературного дарования.
В один из осенних дней 1889 года в редакцию «Игрушечки» пришла застенчивая русоволосая девушка — Маргарита Рокотова, шестнадцатилетняя ученица рисовальной школы при Обществе поощрения художеств. Она принесла рукопись небольшой сказки-аллегории «Бабочка и солнце».
Издательница журнала Александра Николаевна Толиверова была женщиной незаурядной. Горячая сторонница демократических идей шестидесятых годов, она в молодости покинула Россию, чтобы бороться в рядах гарибальдийцев против владычества австрийцев в Италии, против деспотической власти итальянского короля и церковников. Была сестрой милосердия у повстанцев, спасала раненых патриотов, смело проникла в страшную тюрьму святого Ангела в Риме и помогла бежать приговоренному к смерти другу Гарибальди Луиджи Кастеллацци… Это было давно, но на стене в редакции, как память о прошлом, все еще висела окрашенная кровью рубаха гарибальдийца.
Издательница приветливо встретила Маргариту Рокотову и внимательно прочитала ее небольшую рукопись. Девушка была несомненно талантлива. Толиверова пообещала Маргарите отредактировать наивную, но живо написанную аллегорию и поместить ее в февральской книжке журнала за следующий год.
Молодые авторы не отличаются долготерпением, потеряла покой и Маргарита Рокотова. «Февраль еще далеко… — вспоминала она. — Ходить „просто так, в гости“ к Толиверовой я не решалась, боялась быть навязчивой. Нетерпение не давало мне покоя, хотелось видеть себя поскорее напечатанной». Отец как-то посоветовал дочери обратиться к писателю Иерониму Ясинскому, с которым он был знаком. Ясинский редактировал в Петербурге еженедельный журнал «Всемирная иллюстрация». Маргарита пришла к редактору журнала с тоненькой тетрадочкой, в которую была старательно переписана ее новая сказка «Встреча нового года». Сказка Ясинскому понравилась. «Помещу ее в рождественском номере», — сказал он.
Через две недели Маргарита Рокотова явилась к Ясинскому. «Сказка ваша напечатана», — заявил он и вручил растерявшейся девушке свежий номер «Всемирной иллюстрации», на обложке которой стояла дата — 16 декабря 1889 года.
Так впервые русские читатели познакомились с молодым автором, который стал затем им широко известен под псевдонимом Ал. Алтаев.
Первые литературные успехи окрылили Маргариту Рокотову. Но жизнь ее до этого события складывалась нелегко. Отец Маргариты, Владимир Дмитриевич Рокотов, был когда-то известным в Киеве издателем прогрессивной газеты «Киевский вестник» и театральным деятелем. Человек широкообразованный, убежденный последователь Белинского, Чернышевского и Добролюбова, он целью своей жизни считал просвещение народа. Все свое большое состояние он истратил на устройство общедоступного театра, на содержание актеров и частной народной библиотеки. Жена его, Аглая Николаевна, дочь декабриста Н. Н. Толстого, помогала мужу в его начинаниях и всеми силами старалась облегчить положение семьи. Она работала в библиотеке, занималась рукоделием, продавала театральные билеты… Но все это не спасало Рокотовых от нужды.
Владимир Дмитриевич не был крупным актером. В продолжение нескольких лет он скитался по городам России, исполнял второстепенные роли в провинциальных труппах. Иногда руководители театров обращались к нему за помощью как к талантливому режиссеру. Такой светлой полосой в жизни семьи Рокотовых было недолгое пребывание во Пскове. Владимира Дмитриевича пригласили на сезон режиссером любительской драматической труппы. Но и здесь дело не обошлось без трудностей. Нужно было выбрать такие пьесы, которые бы привлекли зрителей, а среди любителей не хватало на многие роли способных исполнителей.
Маргарита узнала от отца, что неладно в театре и с переписыванием ролей. Машинок в те времена еще не было. «А это трудно — переписывать роли?» — заинтересованно спросила она. «Не так уж трудно, — отвечал отец. — Нужно только внимание, грамотность и разборчивый почерк». — «А я… могла бы переписывать?» — «Вполне», — решил отец.
Так с тринадцатилетнего возраста началась трудовая жизнь Маргариты Рокотовой. Девочка была счастлива. Заработок небольшой, но работа для театра вызывала у нее чувство радости.
Переписывание пьес по ролям оказалось хорошей литературной школой для Маргариты. Она вспоминала, что творчеством была ее «недремлющая мысль», еще смутная, полусознательная оценка ролей, сравнение чувств героев, «улавливание искренности образа»…
После счастливого года, проведенного во Пскове, Рокотовы обосновались в Петербурге. Но надежного заработка Владимир Дмитриевич все еще не имел. И его сестра решила позаботиться о племяннице.
В семье Рокотовых жили воспоминания об их талантливом родственнике — художнике-портретисте XVIII века Федоре Рокотове. Девочка рисовала, и тетка прониклась убеждением, что из нее может выйти хорошая художница. Так Маргарита стала ученицей петербургской рисовальной школы.
У Маргариты не было ясно выраженной склонности к живописи или графике. Даже при своем трудолюбии она не очень радовала родственников успехами в изобразительном искусстве. Но зато она нашла в школе товарищей, с которыми вела нескончаемые споры о будущем, о своем месте в жизни и о том, как стать полезными для общества людьми.
Однажды в разговоре с товарищами по школе Маргарита призналась, что решила посвятить свою жизнь литературному труду. И те посоветовали Маргарите обратиться к кому-нибудь из опытных писателей, чтобы он определил, есть ли у нее литературные способности и стоит ли отдавать все свои силы изучению сложного словесного искусства.
С трепетом отправилась Маргарита Рокотова к поэту Я. П. Полонскому и, оставив у него свои рукописи, в смятении убежала… Но ответ от Полонского не заставил себя долго ждать. В рисовальную школу пришло письмо от поэта. Он говорил, что в сказках юного автора слишком много символики, но стихотворения ему понравились, в них он заметил живой «лирический порыв». Поэт советовал ей серьезно учиться. Он даже выразил надежду, что со временем она сможет стать «настоящей писательницей».
Когда Маргарита Рокотова решилась отдать на суд А. Н. Толиверовой и И. И. Ясинскому свои произведения, она подписала их мужским псевдонимом Ал. Алтаев. Так звали героя одного из рассказов Я. П. Полонского. В этом она выразила не только свою признательность большому поэту, благословившему ее на литературный труд, но и горькую мысль о том, что печататься женщине в то время было очень трудно.
Властитель дум русской молодежи Н. Г. Чернышевский называл литературу учебником жизни. Достаточно ли для литературной деятельности тех знаний, которые дает ей рисовальная школа? — часто думала Маргарита Рокотова. Нет, решила она. Быть писателем и учить других может только просвещенный человек. Значит, нужно приобрести необходимые знания. Прежде всего она подготовится и сдаст экзамены за весь курс гимназии. А потом… Потом можно будет подумать и о Высших женских курсах.
Но для странствий в огромном мире наук нужен умный и знающий руководитель. И подруга по рисовальной школе Ариадна Максимова обещала познакомить ее с человеком, который много знает… И выполнила свое обещание.
В доме отца Ариадны, художника Максимова, Маргарита встретилась со студентом-филологом Петербургского университета Александром Нечаевым. Ученый студент в первую минуту поразил девушку своим необыкновенным сходством с Пушкиным. Оказалось, что он даже позировал художнику М. П. Клодту, когда тот создавал на одном из своих полотен образ великого поэта.
А. П. Нечаев был образованным человеком, прекрасно знающим не только гуманитарные, но и естественные науки. Он помог Маргарите успешно сдать экзамены за гимназический курс. Позже она окончила знаменитые Фребелевские курсы, получила высшее педагогическое образование.
Маргарита Рокотова рано вышла замуж, ее мужем стал студент Лесного института Андрей Ямщиков. У них родилась дочь Людмила. Вскоре молодая женщина поняла, какую трагическую ошибку она совершила. Муж не сумел стать ее подлинным другом. Ему были чужды ее литературные занятия, он уничтожал ее рукописи и слышать не хотел, чтобы жена продолжала свой писательский труд и была независимым от него человеком.
Маргарита Владимировна никогда не мирилась с принуждением. Без вещей, без паспорта, с маленькой дочкой на руках она покинула дом мужа. «Это была тяжелая полоса моей жизни», — говорила потом писательница. Не было документов, которые давали бы ей право жить самостоятельно. Полиция грозилась отправить ее по этапу к мужу.
В самый тяжелый момент к ней на помощь пришел друг и учитель А. П. Нечаев. За революционную деятельность его исключили из Петербургского университета, и он уехал в Дерпт, чтобы там в университете изучать естественные науки. В Дерпт — так раньше назывался город Тарту в Эстонии — он вызвал и свою бывшую ученицу. Нечаев оберегал ее от преследований полиции, помог найти работу. Но даже в эти трудные годы она не забывала о своем призвании и писала для детей.
Когда Нечаев окончил университет, Маргарита Владимировна вернулась в Петербург, чтобы жить только литературным трудом. Эти годы не прошли для нее бесследно. Она духовно окрепла, более совершенными стали и ее литературные навыки.
Толиверова обрадовалась возвращению Маргариты Владимировны и привлекла ее к изданию своего журнала. Она доверила ей редактирование литературного отдела «Игрушечки».
Юным читателям были уже знакомы ее рассказы и сказки, которые мало чем отличались от обычных в ту пору чувствительных и далеких от подлинной жизни произведений, печатавшихся на страницах детских журналов. О содержании ее работ говорили сами за себя их названия: «Две песни соловья», «Елкино счастье», «Подарок феи Гольды»… Требовательного автора теперь все меньше удовлетворяло собственное творчество. Так искусственно и наивно писать больше нельзя, решила она. Надо оставить эти избитые «нравоучительные рассказики…».
К чему же более всего лежало ее сердце?
Особенно часто возникали в памяти картины жизни старинных русских и украинских городов, где ей случалось бывать. Вот город ее детства Киев, на высоких холмах над Днепром. Полный жизни и красок современный город, овеянный преданиями старины. А вот гостеприимный Псков. Она любила стоять на горе у кремлевской стены над рекой Великой. «Закроешь глаза, и чудится, что гудят тревогой колокола, сзывая вольнолюбивых псковичей на ратный труд…»
Тема родины, ее прекрасная, грозная и трагическая история — вот о чем прежде всего нужно писать. Рассказы о немеркнущих подвигах предков всегда найдут отклик в душе юного читателя.
Но не только события далекого прошлого интересовали молодую писательницу. Ее волновали биографии людей, творческая деятельность которых достойна вечной благодарности человечества. Обстоятельства благоприятствовали Маргарите Владимировне. В журнале «Игрушечка» уже многие годы печатались небольшие, занимательно написанные биографические очерки о писателях, художниках, ученых, изобретателях, общественных деятелях. В 1897 году появился биографический рассказ Ал. Алтаева о коротком жизненном пути поэта-лирика С. Я. Надсона. Писательница с жаром принялась за разработку жизнеописаний выдающихся деятелей мировой культуры.
В Петербурге, напротив Публичной библиотеки, находилось частное издательство О. Н. Поповой. Это было не совсем обычное издательство. Его владелица нередко выпускала в свет произведения русских социал-демократов.
На рубеже XX столетия издательство О. Н. Поповой выпустило в свет сборник биографических произведений Ал. Алтаева «Светочи правды». В книгу входили жизнеописания первопечатника Иоганна Гутенберга, скульптора и художника Микеланджело, композитора Бетховена и ботаника Линнея… По словам писательницы, сборник был первой ее большой книгой и «одним из значительных этапов» в ее жизни.
Новый период в жизни Маргариты Владимировны был особенно важным еще и потому, что у нее сложились прочные товарищеские отношения со студентами-революционерами из марксистского кружка в Горном институте. В маленькой квартире писательницы на Васильевском острове собирались студенты на тайные сходки. Хозяйка бесстрашно хранила у себя революционные листовки русских социал-демократов — ленинцев. В дни первой русской революции на квартире у Маргариты Владимировны был составлен единственный номер запрещенной затем царским правительством большевистской газеты «Молодая Россия».
После расстрела у Зимнего дворца 9 января 1905 года участников мирной демонстрации гнев и возмущение охватили рабочих заводских окраин Петербурга. К вечеру этого дня рабочие начали сооружать баррикады. «Я всем существом потянулась к ним, — вспоминала писательница, — я была на баррикадах». В Петербурге начал тайную деятельность политический Красный Крест, и Маргарита Владимировна сразу же оказалась в его рядах. Она устраивала передачи заключенным, под видом родственницы ходила к ним на краткие свидания, пыталась оказать помощь бедствующим семьям рабочих. На квартире у нее скрывался сподвижник лейтенанта Шмидта — матрос Фесенко. С чистым сердцем, без колебаний выполняла молодая писательница свой нелегкий долг перед народом.
В эти бурные годы для Маргариты Владимировны особое значение приобрела дружба с Верой Михайловной Величкиной. Новая знакомая напоминала Маргарите Владимировне «милых девушек шестидесятых годов, которые ради просвещения народа уходили в глушь деревни». Именно таким самоотверженным и убежденным человеком была Вера Михайловна. Она много сил отдавала организации рабочих клубов, читален и библиотек, выполняла все, что требовала от нее партия большевиков. Вместе со своим мужем В. Д. Бонч-Бруевичем Вера Михайловна сопровождала в Канаду русских переселенцев, занималась на чужбине изданием революционной марксистской литературы. Маргариту Владимировну привлекала выдержка и сила духа этой скромной женщины, умевшей постоять за свои убеждения. В беседах с нею Маргарита Владимировна особенно остро чувствовала, как велика ответственность детского писателя в борьбе за души молодого поколения.
Отблеск первой русской революции осветил на многие годы творчество Ал. Алтаева. Писать о только что пережитых героических событиях 1905 года нечего было и думать. Тема считалась запретной. На пути к юным читателям стоял неумолимый цензор с красным карандашом в руке. Но ведь можно было поведать подросткам о думах и чаяниях восставшего народа другим путем. Для этого достаточно было рассказать о том, что происходило много веков назад, но по-своему напоминало о недавней революционной буре в России…
В творческих замыслах Ал. Алтаева постепенно прояснилось содержание будущей книги о восстании немецких крестьян и городской бедноты в начале XVI столетия. Главным героем задуманной повести писательница избрала Томаса Мюнцера, пламенного проповедника и мужественного руководителя восставших.
Знакомые студенты раздобыли для Маргариты Владимировны книгу Ф. Энгельса о крестьянской войне в Германии. Эта книга дала возможность писательнице правильно истолковать смысл героических и противоречивых событий далекого прошлого.
Редакция журнала «Юный читатель» предложила автору напечатать в нескольких номерах ее произведение. Началась лихорадочная, напряженная работа. Рядом с главным героем все яснее вырисовывались образы его соратников: полководца крестьянских отрядов Яклейна Рорбаха, неистовой знаменосицы восставших вилланов Кетерли, мужественного рыцаря-повстанца Флориана Габера, певца и музыканта из народа Руди… Повествование разрасталось, наполнялось отзвуками битв и голосами людей, судьба которых была неотделима от подъема и спада народной войны.
Повесть «Под знаменем „Башмака“ положила начало многим произведениям Ал. Алтаева о грозных и памятных событиях в истории человечества. Осуществить огромный творческий замысел — создать целую библиотеку таких исторических повестей и романов — казалось непосильной задачей для одного человека. Но писатель Ал. Алтаев обладал неукротимой энергией и необыкновенной работоспособностью. Не проходило года, чтобы на столе у читателей не появлялось одной-двух новых книг.
Через много лет, уже в конце жизненного пути, Маргарита Владимировна составила список своих произведений и расположила их по странам и народам. Оказалось, что чаще всего она обращалась к прошлому нашей отчизны. Она писала о жизни славян в приднепровских лесах в период возникновения Киевского государства, о тяжком для Руси нашествии монголо-татарских орд и трагической битве за Рязань… В повести „В татарской неволе“ она рассказала о поездке князей-данников в Золотую орду и мужестве Михаила Черниговского, не подчинившегося варварским обычаям ханской столицы.
Писательница часто обращалась к событиям XVI–XVII веков. Иван Грозный и его опричники, „медный бунт“ московской бедноты во времена царствования Алексея Михайловича, начало раскола на Руси, выступление казацкой голытьбы во главе со Степаном Разиным дали драматический материал для нескольких ее книг.
Хорошо знакомы читателям произведения Ал. Алтаева, посвященные истории западных славян. В повести „Ян Гус из Гусинца“ писательница сурово и правдиво осветила жизненный путь вольнолюбивого чешского мыслителя и народного заступника Яна Гуса. Продолжением этого произведения послужил роман „Троцновский пан“, в котором речь шла о гуситских войнах на чешской земле в XV столетии и суровом вожде таборитов Яне Жижке.
Темы исторических произведений Ал. Алтаева удивительно разнообразны и связаны с прошлым многих европейских народов.
Неоднократно обращалась она к богатой драматическими событиями истории Англии, средневековой Италии, суровой истории Испании первой половины XVI столетия, когда страной правил жестокий и подозрительный король Филипп II. Особое место в творчестве Ал. Алтаева занимают книги о злодеяниях колонизаторов.
Современники Ал. Алтаева сразу же обратили внимание на энциклопедический характер его творчества. Критики отмечали, что автор беспрестанно переносит своих читателей в различные исторические эпохи и отдаленные страны. Широк круг его героев, разнообразны события, но в центре повествования почти всегда находится борьба народов за освобождение от социальных пут или национального порабощения. Сама Маргарита Владимировна говорила, что для произведений она обычно избирает „моменты исторических бурь“.
Мы уже отмечали, что еще до того, как писательница обратилась к истории, ее привлекали жизнеописания выдающихся людей всех времен и народов. Этот интерес не угасал у нее в продолжении всей ее долгой творческой жизни. Ее внимания удостаивались не цари и вельможи, а люди, деятельность которых озаряла добрым светом пути человечества. Среди героев ее биографических книг есть имена борцов с деспотизмом и национальным угнетением: Яна Гуса и Яна Жижки, Степана Разина, Джузеппе Гарибальди, Авраама Линкольна. Не менее дороги были писательнице и люди, которые несли своим современникам правдивую и честную мысль, мужественно противостояли могущественным мракобесам и „охранителям“ ложных учений. Одно из первых биографических произведений Ал. Алтаева было посвящено отцу книгопечатания — Иоганну Гутенбергу. Позже были написаны повести о трагическом пути в науке великих астрономов — Джордано Бруно и Галилео Галилея.
Известный в дореволюционное время критик и библиограф детской литературы Н. Саввин жаловался, что хорошие научно-популярные и художественные произведения о деятелях искусства — „довольно редкие гости на страницах журналов“. Прочную основу новому виду биографических повестей, романов и рассказов для подростков заложил именно Ал. Алтаев.
Маргарите Владимировне всегда было особенно дорого все, что связано с искусством. С детства она привыкла жить интересами театра, сцены В юности с увлечением слушала лекции по истории изобразительного искусства итальянского Возрождения. „Мне казалось, — вспоминала она, — что, закрыв глаза, я вижу и улицы, и обстановку жизни Рима, Флоренции, Милана и Венеции, вижу картины, статуи и людей“. Вдумчивое изучение научных трудов, знакомство с историческими документами, воспоминаниями современников и сила творческого воображения дали ей возможность создать несколько полюбившихся читателям книг о великих живописцах эпохи Возрождения.
Особенно удалась Ал. Алтаеву книга „Впереди веков“, которая начинается повествованием о гениальном художнике, изобретателе и ученом конца XV — начала XVI столетия Леонардо да Винчи. В повести прослежена вся жизнь художника с удивительно светлого и беспечального детства до кончины в глубокой старости вдалеке от дорогой его сердцу Италии.
Вторая повесть, „Звезда Италии“, раскрывала короткий, но блистательный путь младшего современника Леонардо — Рафаэля де Санти. В финале повести рассказывается о создании художником величайшего шедевра мирового искусства — „Сикстинской мадонны“.
Маргарита Владимировна говорила, что ее привлекают в биографическом повествовании не внешние броские события, а переживания, быт, психологическое развитие личности выдающегося человека.
Произведения писательницы охотно печатали многие частные издательства. Но она не любила издателей-дельцов и мечтала, чтобы ее книги выпускали люди, которых волнует просвещение молодого поколения. Осуществить это желание ей помогла В. М. Величкина. Вскоре после первой русской революции в Петербурге было основано издательство „Жизнь и знание“. Руководил этим издательством В. Д. Бонч-Бруевич, В. М. Величкина входила в редакционную коллегию. Они стремились выпускать в свет произведения революционеров-большевиков, но не забывали и о книгах для детей. „Мы договорились с Владимиром Дмитриевичем (Бонч-Бруевичем) о печатании в „Жизни и знании“ моих сочинений“, — вспоминала потом писательница. В продолжении нескольких лет, почти до самой Великой Октябрьской социалистической революции, это издательство выпускало одно за другим ее произведения.
Весной 1917 года М. В. Ямщиковой посчастливилось быть на митинге рабочих Путиловского завода, где выступал В. И. Ленин. Он говорил, что положить конец преступному кровопролитию в Европе может только союз рабочих воюющих стран. Через два дня в огромном зале Морского корпуса она слушала лекцию Владимира Ильича об империалистических войнах и надвигающейся пролетарской революции. Правда ленинских слов потрясла писательницу и определила всю ее дальнейшую судьбу. Вскоре она начала работать в редакции большевистской газеты „Солдатская правда“, а через несколько месяцев была назначена ответственным секретарем газеты.
Многие обязанности легли на ее плечи, но писательница всегда находила дружескую помощь у редактора „Солдатской правды“ В. И. Невского. Это был закаленный большевик-подпольщик, солдат революции, поэт и талантливый ученый-историк. „Мы работали дружно, рука об руку, — вспоминала М. В. Ямщикова, — и понимали друг друга с первого слова… Советы его давались мне легко и радостно“.
В одном из просторных помещений Смольного разместились редакции всех большевистских газет. Рядом с Марией Ильиничной Ульяновой за столом „Правды“ трудилась Маргарита Владимировна, здесь же для газеты „Рабочий и солдат“ работала Вера Михайловна Величкина. Сумрачные осенние дни и ночи проводила Маргарита Владимировна в Смольном. Правила сотни статей и заметок, сама писала фельетоны и стихи, помогала неопытным авторам готовить рукописи к набору И была, как и все, „хронически голодна“. Здесь, в Смольном, приветствовала она победу Великой Октябрьской социалистической революции. Здесь ей приходилось слушать выступления В. И. Ленина перед делегатами солдат-фронтовиков, крестьян и рабочих.
В марте 1918 года столицей молодого социалистического государства стала Москва. Уехала из Петрограда, в котором прошла большая часть ее жизни, и М. В. Ямщикова. В Москве она опять с жаром принялась за газетную работу. Но здесь ей приходилось готовить статьи, читать рукописи, корректуры и письма для другой газеты — „Деревенская беднота“.
Теперь рядом с ней появилось много способных молодых журналистов, и писательницу все чаще одолевала мысль: не пора ли вернуться к привычному, близкому ее сердцу литературному труду? В 1918 году „Правда“ писала, что в огне сражений мы забыли о детях, забыли о детской книге, которая тоже должна стать оружием революции. Маргарита Владимировна была согласна с газетой. Она была убеждена, что о молодом поколении Страны Советов нужно думать уже сейчас. И ее произведения о героях освободительного движения минувших веков принесут пользу детям народа, сбросившего оковы несправедливого общественного строя.
В первое десятилетие после Октябрьской революции лучшие книги Ал. Алтаева, выдержавшие испытание временем, издавались и переиздавались много раз. По словам критиков, они были проникнуты „духом революционной романтики“ и пользовались большой популярностью у юных читателей.
Однако Маргарита Владимировна не довольствовалась тем, что было ею написано ранее. Она с увлечением взялась за осуществление новых замыслов, которые прежде встретили бы сопротивление цензуры. Ее привлекала эпоха возникновения в России первых революционных союзов и обществ декабристов. В повести „Семеновский бунт“ она раскрыла трагическую историю возмущения солдат и офицеров Семеновского полка в Петербурге, закончившегося беспощадной расправой над непокорными гвардейцами. Участником этого „бунта“ был дед писательницы Николай Николаевич Толстой. Судьбам героев движения посвящен и роман „Бунтари“. Большим успехом у юных читателей пользовалась повесть „Декабрята“.
В повестях и романах Ал. Алтаева, созданных до революции, почти не затрагивалась история Франции. Писать для подростков о Французских революциях XVIII–XIX столетий при царе было невозможно. Только в двадцатых годах Маргарита Владимировна смогла взяться за разработку этой темы. Герой повести „Когда разрушаются дворцы“ — сын крестьянина-бедняка Шарль покидает отчий дом и уходит в Париж, где становится участником бурных событий французской революции конца XVIII века. Более позднему периоду французской истории посвящен сборник рассказов Ал. Алтаева „На баррикадах“. В рассказах речь идет о героических и незабываемых днях Парижской коммуны.
Наиболее сильной стороной творчества Ал. Алтаева критики признавали колоритную и выпуклую обрисовку образов исторических лиц. Маргарита Владимировна не стремилась погружаться в жизненные частности или описывать все свойства характеров героев. Она предпочитала брать только основное, выделять самые важные, самые выразительные черты каждого из действующих лиц. В своих записках она отмечала: „Надо, чтобы герой, пусть даже пришедший к нам из самой древней древности, показался человеком близким и понятным, целостным, чтобы он был способен вызвать в читателе прилив сильного чувства — отваги, ярости, презрения, любви“. Писательница была верна этой художественной манере на протяжении всего своего творчества.
Незадолго до Великой Отечественной войны исполнился полувековой юбилей литературной, журналистской и редакторской деятельности Маргариты Владимировны. Трудно было предполагать, что впереди у писательницы новый расцвет творчества, высокий подъем художественного мастерства. В суровые годы Отечественной войны в затемненной, отбивающей натиск врагов Москве старая писательница ни на минуту не прерывала свой творческий труд. Она обращалась к прошлому ради будущего отчизны. В памяти Маргариты Владимировны возникали образы замечательных русских людей, с которыми довелось ей встречаться на долгом и нелегком жизненном пути или слышать взволнованные рассказы о них от друзей и близких. Здесь были выдающиеся художники А. Агин, И. Репин, М. Нестеров, скульптор П. Клодт, художник В. Максимов, актрисы М. Савина и Н. Кузьмина, писатели Д. Мамин-Сибиряк, Я. Полонский, Н. Лесков… И, наконец, самое заветное, что было в жизни у старой писательницы, — незабываемые встречи с В. И. Лениным и Н. К. Крупской, дружба с замечательными большевиками Н. И. Подвойским, В. И. Невским, В. М. Величкиной.
В первом послевоенном году вышла в свет ее книга „Памятные встречи“. Затем она дважды переиздавалась. В ней не было художественного вымысла. Писательница сдержанно и немного с грустью вспоминала о своем детстве и юности, о начале творческой работы. Но не автобиографические сведения были ей важны. Основное место в книге занимали литературные портреты многих ее современников, оставивших светлый след в памяти потомков. С удивительной живостью и совершенством воссоздавала она их черты, рисовала значительные и яркие сцены недавнего прошлого.
Однажды, просматривая свои сочинения, Маргарита Владимировна сделала краткую пометку: „Все пересмотреть — переработать“. Трудно найти более убедительное свидетельство ее постоянной творческой неуспокоенности и неугасимого трудолюбия. Писательнице было уже далеко за семьдесят лет, когда она вместе с дочерью Людмилой Андреевной Ямщиковой, известной читателям под псевдонимом Арт. Феличе, принялась за переработку многих своих исторических и биографических произведений. Прежде всего они обратились к популярной у юных читателей книге о чешском полководце и вожде таборитов Яне Жижке. Соавторы обогатили роман новыми важными материалами, полнее осветили жизнь и боевые дела Яна Жижки и его сподвижников. Роман вышел под новым названием — „Могучий слепец“.
В середине двадцатых годов Маргаритой Владимировной была написана книга о человеке огромного дарования — скульпторе, живописце и архитекторе Микеланджело. Теперь она решила объединить эту повесть с более ранними повестями о Леонардо да Винчи и Рафаэле, создать связное повествование — трилогию. Каждая из частей трилогии была посвящена одному из художников, его жизни от первых проявлений художественных склонностей до последнего часа служения людям и любимому искусству.
Писательница рисует трех „титанов Возрождения“ не гениальными одиночками, а гражданами Италии. Творческие искания и стремления художников неотделимы в повествовании от чувства и мыслей лучших людей их времени. Первоначальное название повести о Леонардо да Винчи „Впереди веков“ она сделала общим для всей трилогии.
Так же упорно, как и в годы молодости, Маргарита Владимировна продолжала работать над новыми произведениями. Только теперь она обратилась к биографической литературе. Ее особенно привлекали русские художники и музыканты.
Вскоре после войны появилась повесть-хроника Ал. Алтаева о создателе русской национальной оперы Михаиле Ивановиче Глинке. Автор прослеживает весь жизненный путь композитора со дня его рождения до отъезда в середине прошлого столетия за границу, откуда он уже больше не вернулся на родину. Главный мотив повести — кровная связь композитора с жизнью народа, с народной песней и музыкой. Испытания, которые выпали на его долю, — отголосок нетерпимого отношения царя и петербургской знати к его слишком „простонародным“ операм, к слишком демократической музыке.
Вершиной писательского мастерства Ал. Алтаева можно считать биографический роман „П. И. Чайковский“, появившийся в середине пятидесятых годов. Писательница останавливается лишь на самых значительных моментах жизни композитора. Она говорит о его пламенной любви к музыке, знакомит читателей с судьбой человека, который лучшие силы своей души отдавал творческому труду.
В последние годы жизни Маргарита Владимировна работала над повестями о двух художниках прошлого столетия — Сергее Полякове и Александре Агине. Первая повесть была названа „Пасынки Академии“, вторая — „К вершинам искусства“. Герой первой повести Сергей Поляков — воспитанник Академии художеств. Но у него нет будущего. Он крепостной. И вместо совершенствования в живописном искусстве, вместо поездки в Италию, его ждет участь беглого холопа… Повесть об Агине „К вершинам искусства“ была написана не только по документам, но и по воспоминаниям, многие годы сохранявшимся в семье Рокотовых, близким другом которых был художник. В повести возникает привлекательный образ Агина, человека, в характере которого сочеталась мягкая снисходительность к людям со страстной нетерпимостью к несправедливости. Вершиной творческих достижений Агина были его гениальные иллюстрации к „Мертвым душам“ Гоголя.
В последних произведениях Маргариты Владимировны отчетливо проявились все лучшие свойства ее литературного мастерства. Герои ее повестей и романов проходят перед читателями в живом окружении современников, события прошлого передаются сжато, емко и выразительно. Языковая палитра писательницы точна и многоцветна. Она владела секретом занимательного повествования. Поэтому книги Ал. Алтаева волнуют и убеждают читателей.
Трудно было писательнице отстоять в молодости свою независимость, завоевать право на литературный труд. Не случайно в лучших ее повестях и романах особенно сильно звучит мотив борьбы за честный и прямой путь в жизни, борьбы за любимое дело.
Письма, которые она получала от читателей, были полны добрых слов об ее книгах, о том, что они помогли им яснее увидеть свое призвание. Писали школьники, студенты, молодые рабочие. Случалось, что к ней обращались и пожилые люди. Ученый-историк сообщал, что ее книги указали ему „дорогу в жизни, по которой он идет до сих пор…“.
Чутких и вдумчивых читателей Маргарита Владимировна называла своими друзьями, говорила, что их письма несут ей „любовь и ласку, заботу и участие“, раздувают „потухающий огонек“ ее жизни.
Удивительная история произошла с книгой Ал. Алтаева „На баррикадах“ — сборником рассказов о героях Парижской коммуны. Книга находилась в судовой библиотеке советского парохода „Смидович“, направлявшегося к берегам Испании в начале 1937 года. „Смидович“ был мирным судном советского торгового флота и шел с грузом пшеницы для народа Испанской республики, раздираемой бедствиями гражданской войны. В море на советский пароход напал фашистский эсминец, захватил его и отвел в порт города Сан-Себастьяна. Советские моряки были заключены в тюрьму. Капитан „Смидовича“ В. Глотов сумел взять с собой книгу Ал. Алтаева „На баррикадах“.
Целый год томились моряки в фашистских застенках. Книгу Ал. Алтаева тайно передавали из камеры в камеру. Истомленные неволей и преследованиями, советские моряки находили в книге примеры стойкости и гражданского мужества коммунаров.
Наступил день, когда франкисты были вынуждены освободить наших моряков и под охраной направить их к французской границе.
Прошло тридцать лет. В порт соседнего с Сан-Себастьяном города Пасахес пришел советский теплоход „Софья Перовская“. „К большому нашему удивлению и радости, — писал помощник капитана Т. Лебедев, — на второй день мы получили из рук рабочих чудом уцелевшую книгу со „Смидовича“ — „На баррикадах“. „Мы хранили ее в память о тех далеких днях“, — записали на титульном листе книги наши испанские друзья. Советские моряки приняли от них эту книгу как символ интернационального братства трудящихся.
Через три десятилетия сборник Ал. Алтаева „На баррикадах“, поддерживавший бодрость многих людей в дни испытаний, снова вернулся на родину.
Есть люди, судьба которых кажется необыкновенной. И не потому, что им пришлось испытать какие-нибудь удивительные приключения или их участь была особенно драматичной. Поражает не внешняя сторона их жизни, а их целеустремленность, их огромная душевная сила и работоспособность. Именно такой была жизнь Маргариты Владимировны Ямщиковой.
Почти за семьдесят лет напряженного творческого труда писательница создала более ста пятидесяти исторических и биографических произведений, сборников рассказов и сказок. Она выступала в печати как журналистка, как редактор, как человек, озабоченный развитием советской детской литературы. Чтобы свершить такой творческий подвиг, нужен был труд необыкновенный, плодотворный, нужна была трепетная любовь к литературе, к читателям-детям, для которых она создавала свои книги.
В архиве писательницы сохранилось много незаконченных произведений. Даже после того, как перестало биться ее сердце, продолжали выходить в свет новые книги, на обложках которых стояла знакомая фамилия
Ал. Алтаев. Писательнице Л. А. Ямщиковой-Дмитриевой удалось завершить труд своей матери и подготовить к печати повести „Пасынки Академии“ и „К вершинам искусства“.
Лучшим книгам Ал. Алтаева суждена долгая жизнь. Они не только знакомят читателей с волнующими страницами минувшего, но и напоминают о душевной твердости их автора, о его непоколебимой преданности своему писательскому и гражданскому долгу.
Н. Летова
Б. Летов
Леонардо да Винчи


 Посвящаю Науму Яковлевичу Берковскому
Посвящаю Науму Яковлевичу Берковскому
Часть первая
ПРЕКРАСНАЯ ФЛОРЕНЦИЯ
I. МАЙСКИЙ ПРАЗДНИК
Ночь уходила, светлая, весенняя ночь под праздник 1 мая 1458 года, и с первыми лучами зари должна быть кончена посадка маджо — деревцев боярышника — перед невысокими домиками маленького тосканского городка Винчи. Брызнет алым заревом небо, и городок оживет, зальется веселыми песнями, веселым говором множества голосов. Они пробьются сквозь ржание лошадей, крики осликов, мычание коров, рокот струн мандолин, свист флейт, сквозь беспричинный радостный смех молодежи.
И вот дерзкие ликующие лучи солнца прорвались, упали на землю, и в золотых нитях засияли алмазные капли росы на лугу. Засияли радугой маленькие цветные стекла церковных окон в оловянных переплетах, солнечные зайчики заскользили по раскидистым веткам олив цвета старого серебра, по бледным чашечкам ароматных асфоделей, по темной листве дубов, окаймлявших дорогу. Заскрипели возы, и раздались первые звуки праздничной песни.
"Сосны, бук и лавр, трава и цветы, луга и утесы светятся ярче всяких сокровищ… Как хорошо это синее небо!
В блеске дня смеется луг, смеется все вокруг… Как хорошо это синее небо!"
И небо раскинулось, сияющее золотым светом, синее и бездонное…
Лужайка на берегу реки Арно — излюбленное место молодежи. На вершине воза, покачиваясь, стоял мальчик, очень красивый и очень веселый, в венке из роз. За спиною его сияли серебряные крылышки, спорившие блеском с его светлыми золотистыми кудрями. Это герой праздника — крылатый Купидон, или Амур, с завязанными глазами и луком в руках. Он наугад, не целясь, пустит стрелу, и в кого она попадет, в юношу или девушку, тот загорится любовью. И много уже стрел, смеясь, пустил мальчик — в идущих за возом с радостными песнями. Мальчик этот — Леонардо, сын синьора Пьеро, нотариуса из Винчи, красивый и всеми любимый ребенок, к которому отовсюду тянутся руки, чтобы снять его с воза на землю, на лужок, где готовятся танцы. И хорошенькая Бианка, соседка нотариуса, первая схватывает шестилетнего купидона в свои объятия, целует его и, хохоча, спрашивает:
— Леонардо, дорогой, пойдешь ли ты со мною плясать?
Ну конечно, он пойдет в круг танцующих в паре с Бианкой, первой танцоркой; он так любит ее, так любит танцы и умеет плясать, это же знают все в городке!
Лютни и флейты поют майскую песню, им вторит весенняя песня пташек…
Какой-то заезжий испанец пускается плясать, прищелкивая кастаньетами, и Леонардо старается подражать танцору, забавно щелкая пальцами. Толпа хохочет… Испанец разглядывает мальчика, как любопытного зверька, но Леонардо серьезно ему поясняет:
— У меня нет таких щелкалок, как у вас, а пальцами ничего не выходит. Но я знаю много песен и умею играть… Тогда лучше поется…
Он взял аккорд на мандолине испанца и запел. Лицо его сделалось серьезным, почти торжественным. Леонардо пел свободно, как поют птицы, сам тут же придумывая слова и мотив, пел о поле, о птичке, о цветах, о небе, о солнце, пел незатейливую песню о том, что знал и видел…
Когда Леонардо кончил, Бианка под общее одобрение надела ему на кудри свой венок из маленьких роз, что украшали гибкими ползучими ветками городские домики. Сегодня сын нотариуса — герой праздника: на радость всем, он показал самоуверенному испанцу, как искусен в пении и пляске, несмотря на свои шесть лет.
Праздник тянулся без конца. Солнце начинало припекать слишком назойливо. Пора было подумать о возвращении домой, к столу с майским угощением, и Бианка предложила молодежи:
— Понесем Леонардо, как короля, на троне! Ну-ка, мой майский королек, занимай свой трон!
Десятки рук подхватили мальчика, и вот уже его несут на носилках из зеленых веток, перевитых полевыми цветами, по улице, мимо старого торговца Беппо, и вся семья Беппо встречает шествие веселыми криками; мимо опрятного домика Бианки, и мать Бианки выглядывает из окна, оплетенного виноградом, смеясь и грозя молодежи костлявой рукой. Шествие подвигается вперед под звуки лютни, мандолины, флейты и пощелкивание кастаньет заезжего испанца.
Но вот и "дворец" маленького короля, или, вернее, дом его отца, мессэра
[1] Пьеро, окруженный прекрасным цветником, увитый виноградом и розами. Сегодня, украшенный майскими ветками, он смотрит особенно приветливо. У порога — старушка, прямая, стройная, сохранившая еще следы былой красоты. Она вышивает шелком и золотом пелену для церкви по данному обету, и рука ее с золотой
канителью застывает в воздухе, когда приближается к дому толпа с майским королем, ее внуком.
— Что это, мой Леонардо, тебя чествуют, как папу в Риме!
— Да ведь он сегодня майский король, — отвечает старушке Бианка.
Леонардо смеется:
— Я король, бабушка Лючия! Мама Альбьера, лови!
В окно летит целый дождь цветов, осыпая сидящую у окна миловидную молодую женщину.
Ловко соскакивает Леонардо со своего "трона", бежит сначала к бабушке, а потом к мачехе, которую он зовет "мамой Альбьерой". Видя ее ласковое обращение с Леонардо, никак нельзя представить, что он ее пасынок: столько любви и заботливости в ее обхождении с ним.
— Прощайте, прощайте! — кричит Леонардо вслед уходящей молодежи и бросается на шею к мачехе: — Мама Альбьера, я до смерти голоден!
И мама Альбьера торопится подать мальчику простое угощение: джьюнкатту (свежий творожный сыр), горячие оффелетти (пирожки с тмином) и милльяччи (студень из свиной крови); она наливает ему кубок легкого светлого вина. Уплетая завтрак за обе щеки, Леонардо рассказывает мачехе и бабушке о празднике на лужайке около Арно. Рот Леонардо набит дымящимися оффелетти, он морщится, а женщины смеются.
— А ты и не знаешь, проказник, что я нашла сегодня в саду, — лукаво говорит синьора Альбьера. — Ишь ведь какой, и ничего не сказать мне! Погоди, покажу отцу, и тогда…
Мальчик вскакивает как ужаленный:
— Ты не сделаешь этого, не сделаешь, потому что это… Дай сюда! Пожалуйста, дай!
Черные глаза синьоры Альбьеры смеются. Она высоко поднимает над головой руки, держа в них маленькую статуэтку, которую ее пасынок вылепил вчера из глины. Леонардо становится на цыпочки и силится вырвать у нее свое сокровище. Полна шаловливой грации фигура молодой женщины рядом с просительно нетерпеливой, молящей фигуркой ребенка.
Альбьера устала первой.
— Ну довольно… Так и быть, на тебе, упрямец… Вон идет отец.
На дорожке сада в самом деле показалась плотная фигура нотариуса с садовыми ножницами в руках. Он был расстроен неполадками в своем маленьком хозяйстве:
— Пришлось обрезать виноградные лозы и подвязывать. Вчерашний дождь наделал в саду немало беспорядка… Что тут у вас случилось? — Взгляд его упал на статуэтку Леонардо. — Что это такое? Птица… Кто вылепил?
— Это моя работа, батюшка, — отвечал спокойно Леонардо.
— А, да, да… это, пожалуй, и хорошо — игрушка… Рисуй, лепи, пой, пляши, но только в меру. Плохо будет, если, кроме подобных забав, у тебя ничего не будет больше в голове.
И, добродушно погрозив сыну пальцем, нотариус прошел в свой рабочий кабинет.
В доме мессэра Пьеро царил невозмутимый мир. Идолом семьи был маленький Леонардо, очаровывавший всех своею живостью, красотой, приветливостью, какая сама собой возникает у счастливых детей с выдающимися способностями. Казалось, он, как только стал понимать человеческую речь, начал интересоваться окружающим миром, умел наблюдать, запоминал все, что слышал и видел, и не по возрасту много думал.
Для синьоры Альбьеры он был баловень, любимая живая игрушка. У нее не было своих детей, и сама она была так молода, что еще не забыла, как играла в куклы. И с пасынком у нее сложились товарищеские отношения. Но кто больше всех в доме любил мальчика — это бабушка. Внук казался ей верхом совершенства, она возлагала на него большие надежды.
Бывало, взгрустнется старушке, а внук уж тут как тут, подойдет сзади и обнимет ее за шею. И, казалось, она сразу молодеет: морщины разглаживаются, а взгляд больших строгих глаз становится мягким и ласковым.
Вот и сегодня, пока Альбьера возилась с хозяйством, Леонардо теребил ее за рукав:
— Расскажи, бабушка, сказку, да позанятнее…
— Сказку? Ну ладно, слушай. В некотором царстве жил-был добрый человек. Звали его Печьоне. И было у него пять сыновей, таких ленивых и никуда негодных, что бедняга не знал, как с ними и быть. Не захотел он их больше даром кормить и решил направить их на трудовую дорогу. Вот он и говорит им:
"Сыны мои, видит бог, что я вас люблю, но я уже стар и не могу много работать, а вы молоды и любите досыта покушать. Идите найдите себе добрых хозяев, наймитесь на работу и научитесь какому-нибудь мастерству, а ко мне возвращайтесь через год".
Голос ее звучал однотонно, размеренно:
— Ну хорошо… Пошли это сыновья, Как приказал им отец, и вернулись к нему ровно через год. Стал отец у них спрашивать по очереди.
"Ты чему научился, Луччо?" — спрашивает у старшего.
"Фокусы делать, батюшка!"
"А ты чему, Титилло?"
"Корабли строить, батюшка!"
"Ну, а ты, Ренцоне?"
"Я, батюшка, научился так стрелять из лука, что попадаю в глаз петуху".
"Ну, а ты что скажешь, Якуччо?"
"Я, батюшка, — молвил Якуччо, — научился искать траву, что воскрешает из мертвых".
"Что же ты знаешь, Манекуччо?"
"Ничего я не умею, батюшка: ни фокусы делать, ни корабли строить, ни стрелять из лука, ни находить траву целебную; только одному я научился: понимать, как птицы небесные между собою разговаривают. Вот и рассказала мне махонькая птичка лесная, что дикий человек утащил у царя Аутогверфо его единственную дочь и держит ее на неприступном острове, а царь кликнул клич: "Кто возвратит мне дочь, тому она в жены достанется"…
Бабушка остановилась на минуту. Леонардо впился в нее своим острым взглядом. Из груди его вырвался подавленный вздох. Старушка продолжала все так же размеренно и спокойно:
— Отец послал сыновей искать счастья: найти царевну. На лодке, что сделал Титилло, подплыли они к острову. Дикий человек спал на солнце. Голова его покоилась на коленях прекрасной царевны Чьянны. Ловкий Луччо ухитрился подложить дикому человеку под голову камень так, что тот ничего и не заметил, а царевну увести в лодку. Проснулся дикий человек, увидел — нет красавицы, только вдалеке белый парус виднеется. Разгневался он, обернулся грозною тучею и полетел в погоню за царевной. Заплакала Чьянна, на черную тучу глядя, и от страха бездыханной упала на дно лодки. А Ренцоне в это время пробил черную тучу меткой стрелой, и, когда лодка причалила к берегу, Якуччо воскресил царевну своей целебной травой. Очнулась Чьянна Прекрасная… Тут братья заспорили, кому она в жены достанется. Титилло говорит, что ему — он ведь лодку построил. Луччо — ему: это он сумел увести царевну Ренцоне…
— Матушка, — перебивает синьора Альбьера, — вас Пьеро зовет.
Мальчик вздрагивает, еще погруженный в сказку.
— Ну, и что же Ренцоне? — спрашивает он замирающим голосом старушку, хотя отлично знает конец много раз слышанной сказки. — Что же дальше, бабушка?
— Дальше, внучек? Да они и теперь еще спорят о прекрасной царевне Чьянне…
И она уходит к сыну.
*
Тяжелая дверь кабинета нотариуса наглухо заперта. Мальчику хочется знать, что делается за этой дверью. Леонардо на минуту задумывается, но потом грезы о златокудрой Чьянне, страх за нее, когда черной тучей летел за ней в погоню дикий человек, снова заполняют его голову. Он вздыхает и выходит в сад. Там уже раскинулся темный ночной полог, усыпанный звездами, — в Италии не бывает сумерек, как на севере. В высокой траве звенели цикады; в соседней роще сладко заливался соловей; у ног Леонардо засветился светляк. Леонардо отступил, чтобы не раздавить его, и задумался: "Отчего на теле этого невзрачного червяка светит голубой огонек и светит только ночью?" Он нагнулся, поднял крошечное создание вместе с листком и бережно положил к себе на ладонь.
Дома он хорошенько разглядит, где у него огонек.
Он поднял глаза вверх. Там, в небе, рассыпались светляки. Не сосчитать, сколько их… И опять вспомнилась рассказанная бабушкой любимая сказка.
"Точно глаза царевны Чьянны", — подумал Леонардо, и разлитый на темном небе Млечный Путь показался тонкими нитями золотых волос царевны…
"Как бы я хотел знать про звезды!.." — вздохнул мальчик.
Летучая мышь задела его крылом по лицу. Бабушка ему раз показала залетевшую на свет летучую мышь, но тут же выбросила ее в окно, не дав хорошенько разглядеть.
"И про эту летучую мышь хотел бы я знать, как она и где живет на воле… Отчего она днем ничего не видит и не летает так легко и быстро, как голубь…"
Откинув голову, Леонардо еще раз взглянул ввысь, на светлые огоньки звезд, а потом понес осторожно фонарик светлячка домой…
Ночью светляк куда-то исчез, так и не раскрыв Леонардо своей тайны.
II. ПЕРЕМЕНЫ
Маленький сын нотариуса беспечально рос, продолжая свои любимые наблюдения над природой и рисуя где попало, когда в руках был мел, уголь или малярная краска. Рисовал все, что видел и что его занимало. Он рос быстро и незаметно в девять лет превратился в высокого, стройного подростка.
Раз утром, едва он оделся и покончил с кружкой утреннего молока, налитого ему бабушкой, он услышал голос отца, звавшего его. Невольно мальчик вспомнил, что накануне в рабочем кабинете отца было какое-то семейное совещание.
Он редко заглядывал за эту тяжелую дверь, куда днем приходили люди не только из Винчи, но и из соседних деревушек за советом к опытному нотариусу. Эта комната, почти пустая, скучная, наполненная полками с какими-то книгами и делами, не была привлекательна для Леонардо. Только раз он вошел в нее по собственному желанию: когда увидел в полуоткрытую дверь, что в окне бьется о стекло необычайно красивая бабочка, редкая по раскраске. Ему захотелось нарисовать ее красками, которые он выпросил у приезжего живописца, поправлявшего старые иконы в церкви.
Переступив порог отцовского кабинета, Леонардо остановился в ожидании. У него помимо воли сильно забилось сердце. Что такое хочет сказать ему отец? Быть может, он в чем-нибудь провинился? Но в чем?
Мессэр Пьеро казался особенно торжественным в своем большом кожаном кресле, с суровым лицом и очками на носу. Торжественность увеличивало присутствие бабушки и мамы Альбьеры.
— Ну вот, вся моя семья в сборе, — начал отец, — и я при всех объявлю моему сыну свое решение. Ты можешь сесть, сынок.
Леонардо опустился на маленькую скамеечку для ног возле кожаного кресла нотариуса.
— Мой Леонардо, — начал размеренным, почти строгим голосом отец, — ты недурно поёшь, ездишь верхом и пляшешь, даже что-то там лепишь из глины и до всего на свете любопытен, даже не похоже, что тебе только девять лет. Короче говоря, я тебя отдаю в школу. Того же хотят твоя бабушка и мать…
Произнеся эту короткую речь, мессэр Пьеро с довольным видом посмотрел на сидевших на скамейке двух женщин, молчаливых и казавшихся растерянными.
— Ну-ка, подтвердите, что и вы того же хотите…
От Леонардо не укрылось, что мама Альбьера смотрит куда-то в сторону, — это значит: она чем-то недовольна, а у бабушки в глазах стоят слезы. И она сказала, шепелявя больше чем обычно:
— Ты умеешь верно рассудить, Пьеро, — ведь ты нотариус. Только наш мальчик… он бы еще мог подождать…
Тогда откликнулась и мама Альбьера:
— И к тому же он левша…
Мессэр Пьеро пожал плечами:
— Нечего ждать. Он скоро и меня догонит ростом, ему девять лет, а умом перещеголяет шестнадцатилетнего, — весь в меня. Наверно, тоже будет нотариусом, и я передам ему свое дело. А что левша — не беда, в школе его научат, какой рукой надо писать, а грамоте он давно у меня обучен.
Тут и мама Альбьера сказала со вздохом:
— Да, мой Леонардо, я совершенно согласна с твоим отцом.
Мессэр Пьеро был очень расчетлив и теперь кусал губы, соображая, сколько ему предстоит вытрясти из кошелька за учение сына.
Помолчав, он сказал:
— А пройдет года два-три, и надо будет ехать во Флоренцию. Твое образование, Леонардо, для меня большая забота. Ты должен быть тоже нотариусом, как твой отец, и суметь нажить хорошее состояние. Chi non ha nulla, e nulla…
[2] Боюсь, чтобы непоседливость не сделала из тебя недоучку. А Флоренция — кладезь всяких знаний. Пожалуй, мне и самому лучше устроиться во Флоренции, — не много наживешь в этом городишке… Однако я должен заняться делами — вон кто-то уже пришел и кашляет у двери…
Леонардо вышел в сад. Зелень деревьев, пение пташек, суетня насекомых в траве всегда отвлекали его от всяких горестей и волнений…
— Ау! — раздался около него знакомый звонкий голос; кто-то подкрался сзади и закрыл ему глаза.
— Это ты, мама? — сказал он, улыбнувшись, и отвел ее руки.
— Ты не бойся, — сказала мама Альбьера, стараясь его утешить. — Мы же все, наверно, переедем во Флоренцию…
— А ты не могла заступиться! — упрекнул ее Леонардо.
— Ну вот! Я даже сказала, что ты левша. Видал ли кто когда нотариуса-левшу? А он хочет тебя сделать нотариусом! Да разве его отговорить, если он что-нибудь задумает! И в латинской школе ты не ударишь лицом в грязь и будешь первым!
Латинская школа. Немного страшно о ней подумать. Непоседе, каким считает его отец, а с ним вместе мама Альбьера и бабушка, произносившие это слово вовсе не с осуждением, — непоседе сесть за указку! Но ничего, он довольно послушен, а главное — любознателен. Занятно, что это за латинская школа, и как в ней надо учиться, и что в ней узнаешь нового. Только вот как быть с тем, что придется писать правой рукой, когда он левша?
Латынь дается ему легко. Он лишь постепенно узнаёт, как она трудна. Он постоянно слышит, что все образованные люди в Италии должны изучить этот древний язык так, чтобы уметь на нем свободно говорить и писать. Все книги ученых написаны по-латыни. Латынь, латынь… В нотариальных книгах при крещении нередко записывают младенцев именами древних греков и римлян, прославивших себя чем-либо. Новорожденных детей художников называют теперь то Ахиллом, то Плиниусом или Агриппою…
Леонардо слышал, как приходившие к отцу его гости недоумевали, почему Данте
[3], свободно писавший по-латыни, перешел на итальянский язык, на котором говорят простолюдины. Кто-то даже решился сказать:
— У великого поэта вышло бы не хуже, если бы он обратился к языку мудрецов древности… Ведь недаром же он взял своим спутником в поэме латинского поэта Виргилия…
И Леонардо, наслушавшись этих суждений, проникся уважением к чуждому языку школы.
А тут еще бабушка и мама Альбьера внушали ему:
— Ведь и наши молитвы и евангелие — на латинском языке, на котором говорили первые христиане в древнем Риме… Подумай только: это божественный язык, мы молимся на нем и ни на каком другом.
И Леонардо старался постигать божественный язык древнего Рима.
Ах, эта латинская школа, эта зубрежка среди множества таких же мальчиков, которые, зевая, твердили незнакомые слова, глядя с тоскою в окно на синее небо и прислушиваясь к веселым звукам улицы! И линейка в руках старого монаха, которая частенько щелкала по рукам зазевавшегося ученика… Раз щелкнула она и по рукам Леонардо, когда он, забыв о правой руке, начал писать левою. Большие вдумчивые глаза мальчика, делавшего над собою усилие быть терпеливым и мужественным, обезоруживали учителя, и он отходил, а потом частенько делал вид, что не замечает, как Леонардо пишет левой рукою. Этот красивый, приветливый и послушный подросток отнимал всякую охоту пускать в дело благодетельную линейку…
Так продолжалось усвоение Леонардо латыни. В то же время он вбирал в себя другие знания, которые ему щедро предлагали жизнь и искусство.
— Ты, Леонардо, как будто не учишься, а играешь, — говорила мама Альбьера, не то журя, не то восхищаясь. — И что только ты делаешь в подвале нашего дома?
Он не таился и повел ее к своим сокровищам.
В темноте подвала у мальчика была целая лаборатория: какие-то баночки, коробочки, ящички, а в них целый мир насекомых, которые барахтались среди мха, наполнявшего банки, переползая друг через друга, шурша засохшими листами и стебельками травы. В коробочках были мертвые жучки.
Синьора Альбьера повела плечами и поморщилась, увидев сороконожек с мокрицами:
— Что это за гадость, Леонардо? И вот гадкая уховертка… Я их боюсь! Они залезают в уши, и человек глохнет — они там ткут паутину…
Леонардо засмеялся:
— Нет, мама Альбьера, это все сказки. Я их хорошо знаю, этих уховерток.
— Зачем они тебе нужны?
— Мне все нужно, — серьезно отвечал Леонардо. — Я считаю у них ножки, усики, узнаю, у кого и какие есть крылья, и смотрю, какая разница. Ну, какая разница, понимаешь? Я вот все смотрел на мух: почему их так трудно поймать? Они, понимаешь, очень глазастые.
Синьора Альбьера не очень-то понимала пасынка. Она оглянулась и повела носом. Пренеприятно пахнет вином, отсыревшей штукатуркой, плесенью, прогнившим деревом старых бочонков. Темно, плохо видно…
— Что, если все эти козявки нападут на тебя? Пойдем в сад, — сказала она, — там тоже есть всякие букашки.
Леонардо нехотя пошел за мачехой.
В то время как Леонардо был поглощен наблюдениями над природой, дома у него творилось что-то неладное. Синьора Альбьера с некоторых пор стала вялой; исчезла ее веселость; она перестала болтать и смеяться и совсем не обращала внимания на пасынка. Впрочем, сначала он этого почти не замечал, увлеченный своими новыми мыслями. И к школьным занятиям он потерял всякий интерес, что наконец стало выводить из терпения снисходительного учителя.
— Ой, Леонардо, — говорил учитель, покачивая головой, — ничего-то путного из тебя, как я вижу, не выйдет! Ты хватаешься за все, мараешь бумагу рисунками и ничему толком не научишься.
Леонардо молчал. Он думал о сложном, не дававшемся ему вычислении.
— Эй, Леонардо! — раздавался над его ухом сиплый голос монаха. — Видно, придется мне жаловаться на тебя отцу! С каких это пор ты позволяешь себе спать, когда с тобой говорит учитель?
Леонардо поднимал голову, смотрел на желтое лицо учителя с седыми нависшими бровями и сердитыми глазами, смотрел пустым, невидящим взглядом и вяло отвечал то, что думал, так как не умел лгать:
— Я не сплю, падре
[4], но я думаю об одной математической задаче.
— О какой еще задаче?
— Ах, это я делаю не в школе… Может быть, вы разъясните мне один вопрос по математике…
Но монах не был силен в математике; он не мог разъяснить Леонардо то, что его мучило, и, чтобы скрыть свое невежество, ворчал:
— Тебе этого не задавали в школё! Лучше бы ты как следует заучил речь Цицерона! У тебя хромает латынь, а ты хочешь постичь законы математики!
А мама Альбьера становилась все молчаливее, слабее, и в одно утро она не поднялась с постели. Было слышно, как стучат ее зубы. Ее трепала лихорадка.
— Я уже не встану, Леонардо, — заговорила она с тоскою, когда мальчик подошел к ней, и попробовала ему улыбнуться. — Вот мне уж больше и не бояться твоих уховерток с сороконожками…
Тяжелые капли слез повисли на ее длинных ресницах.
— Какая я теперь уродливая… — говорила она, глядя на себя в ручное зеркало.
И Леонардо стало жаль ее: он видел таким осунувшимся лицо, на котором еще так недавно играл румянец.
Силы покидали синьору Альбьеру. Часто она теряла сознание и начинала бредить:
— Кто это там ходит рядом, матушка? Что это за старуха притаилась за шкафом? Кто ее привел?
— Молчи, молчи! — шептала бабушка. — Она поможет тебе, она знает средство от лихорадки… Ну, мона
[5] Изабелла, пройдите к больной…
Мона Изабелла, старая знахарка, умевшая лечить заговорами, избавляла от "порчи" и беззастенчиво обманывала суеверных людей.
Она нагнулась к больной, уставившись на нее своим единственным глазом. Больная покорно протянула ей тонкую, прозрачную руку.
Леонардо, забившись за шкаф, видел в щель страшную старуху и следил за малейшим ее движением.
Колдунья зашамкала беззубым ртом:
— Ой, трудно выгнать болезнь, трудно одолеть порчу…
Она поникла головой и несколько минут размышляла. И опять монотонным шелестом зазвучали слова:
— Под камнем у колодца, что на дворе у мессэра Алонзо, кожевника, живет большая черная жаба. Когда пробьет полночь… — Старуха наклонилась к самому уху бабушки и зашептала так тихо, что Леонардо не мог разобрать почти ни одного слова.
И, слушая этот шепот, бабушка повторяла беззвучно молитву, а у мамы Альбьеры лицо сделалось белым, как наволочка на ее подушке. У Леонардо защемило сердце, а по телу побежали мурашки.
После ухода моны Изабеллы больной стало хуже. Ночью бабушка со слезами на глазах принесла ей что-то завернутое в тряпку и положила на грудь. Леонардо догадался, что это печень большой черной жабы кожевника мессэра Алонзо. Больной стало еще хуже…
В одно утро Леонардо не пошел в школу: маме Альбьере стало так плохо, что его послали за духовником, и из собора Сан-Джованни пришел падре ее исповедать.
После исповеди все стали подходить и прощаться с больной: отец, бабушка и он, Леонардо. В комнате пахло ладаном и воском. У висевшего на стене распятия зажгли толстую свечу. Леонардо душили слезы, и он выбежал из комнаты…
— Отошла… отошла… О, пречистая дева! — раздался вдруг скорбный крик бабушки, и она, шатаясь, появилась на пороге спальни. — И к чему живу я, никому не нужная старуха, и к чему, господи, идут к тебе такие молодые, счастливые! Боже, боже, ты один ведаешь, что творишь!
Леонардо заплакал беззвучно, прижавшись к ее темной, морщинистой руке…
Не стало Альбьеры, и все пошло не так в доме нотариуса. Бабушка все время уныло и мрачно повторяла какую-то похоронную молитву и говорила, что скоро и ее черед: недаром собака воет по ночам во дворе. Мессэр Пьеро не мог видеть мрачную старческую фигуру матери, вечно перебирающей темные четки. Он сразу постарел на десять лет и стал все реже и реже бывать дома в свободное время.
Раз он сказал матери сквозь зубы, глядя в окно:
— Так жить нельзя! Ничего не поделаешь, надо жениться.
Эти слова заставили бабушку от страха уронить на пол тяжелое шитье.
— Доброе дело, — сказала она через минуту равнодушно и потом спросила, как будто дело шло о покупке нового плаща: — Есть кто на примете? Молодая? Красивая? Доброго нрава? Из хорошей семьи? С приданым?
И, когда нотариус ответил на все вопросы утвердительно, она равнодушно сказала, принимаясь за иголку:
— Женись, пожалуй… Кто такая?
— Франческа Ланфердини.
— А!
Ее тусклые глаза, на минуту оживившиеся, снова потухли. Для нее ведь не было ни настоящего, ни будущего: она вся принадлежала прошлому. Не все ли равно, Франческу ей назовет сын или Марию: ведь они не могут занять в ее сердце место, которое когда-то она отдала простодушной бедной девочке Аль-бьере.
Леонардо со страхом ждал прихода в дом новой хозяйки и матери Это совпало с переездом нотариуса во Флоренцию.
III. НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Настал день, в который Франческа Ланфердини явилась хозяйкой в дом мессэра Пьеро да Винчи. В своем белом подвенечном наряде, с ясным взглядом больших детских глаз, черных, как спелые вишни, с веселой, простодушной улыбкой, она казалась совсем ребенком. Ей едва минуло пятнадцать лет, и она была ниже ростом, чем ее пасынок.
Франческа застенчиво улыбнулась Леонардо, и эта улыбка напомнила ему кроткую улыбку мадонны на статуях и картинах флорентийских мастеров. И Леонардо дружески улыбнулся этой девочке-мачехе. Точно какая-то тяжесть сразу спала с его сердца. Неужели он забыл маму Альбьеру? Нет, он помнил ее, но почему он должен встречать враждебно эту доверчивую девочку, выбранную отцом ему в подруги-матери? Он заметил, что и лицо бабушки прояснилось. Наконец-то и у нее есть опять помощница в хозяйстве, и Пьеро не одинок, и дом наполнится веселым смехом и звонкими песнями — молодая-то, что пташка, поет и смеется…
Франческа полюбилась в доме нотариуса решительно всем, даже старому коту Пеппо, любимцу покойной Альбьеры.
Через два-три дня она чувствовала себя в доме нотариуса, как в своем родном доме. Пасынок ей понравился, только удивлял ее своею серьезностью, и она всячески старалась подбить его на беготню по саду взапуски, на игру в прятки, на давно забытые им шалости, и он старался как умел угодить этой милой девочке, принесшей в унылый дом давно забытое веселье. Иногда ей было досадно, что он выше ее ростом, и с лукавой улыбкой она просила:
— Слушай, сынок, давай мериться, кто из нас выше.
— Хорошо, только вы не становитесь на цыпочки, — смеялся Леонардо, — ведь правда, бабушка, мама становится на цыпочки?
Франческа смеялась:
— Его не обманешь! Нет, не обманешь; он и мысли-то все читает!
Недолги были сборы во Флоренцию. И бабушка и мама Франческа укладывались весело, приговаривая:
— Недалеко и ехать…
— К тому же в свой дом. У Пьеро свой дом рядом с Баптистерием
[6]. Удобно, Франческа: как раз тут же, под боком, и крестят, и венчают, и служат панихиды по умершим, а мне скоро придется об этом подумать — ведь восемь десятков прожито на свете… И, если у тебя с Пьеро родится еще девочка или мальчик, недалеко носить крестить…
— А сколько лавок там, матушка! Как весело бывает на улицах в праздники! И садик у нас при доме, и всякие цветы… Как можно хорошо устроиться!
— Школа, говорят, тоже близко для внучка, я уже справлялась… Пьеро выгодно купил этот дом, когда хорошо заработал на одном судебном процессе. Ведь если бы не он, от одной сироты разбойники дяди оттянули бы большое наследство… С этого процесса Пьеро и стал большим человеком. Ему уже не к лицу быть захолустным нотариусом.
— Какие там дома! И сколько статуй! На каждом шагу на тебя смотрят изваяния. Я знаю, это тебе понравится, Леонардо. Сколько там художников, какие картины!
Эти слова мамы Франчески разожгли любопытство Леонардо. Ему было все же жаль сада при домике в Винчи, веселой пляски на лужайке и соседки Бианки, но что же делать, что делать…
Леонардо чувствовал себя очень хорошо, подъезжая к Флоренции. С высот Фьезоле
[7] жадно смотрел он на чудный город. В чистой, безоблачной синеве тонул купол собора Санта-Мария дель Фьоре. Причудливо вырисовывался холм Сан-Миньято. Как в панораме, мелькали бесчисленные дома, дворцы, монастыри, башни и колокольни. На зданиях ослепительным перламутровым блеском сияли прекрасные выпуклые изображения из глазурованной терракоты
[8]. Из ниш смотрели лики мраморных мадонн. Леонардо не мог оторвать восхищенных глаз от красот этого великолепного города.
Здесь все для него было ново и удивительно. Пышным, нарядным казался и дом отца после скромного прежнего, а нотариус, обходя большие комнаты этого дома, все записывал, что надо купить для обстановки, соответствующей его положению состоятельного гражданина. И Леонардо часто слышал, как отец повторяет свою любимую поговорку: "Кто ничего не имеет, тот и сам ничто!"
Флоренция — чудо из чудес.
Проходя с отцом по широкому Старому мосту — Понте Веккио — через Арно, он с изумлением смотрел на длинный ряд лавок золотых дел мастеров. В руках ювелиров каждая безделушка казалась верхом совершенства. Так же удивляли его и мастерские столяров, резчиков и кузнецов: везде он угадывал смутно, инстинктом точность рисунка, разнообразие форм, богатство воображения.
Действительно, Флоренция в то время была средоточием искусства, поражавшего с первого взгляда, была центром умственной жизни Италии, раздираемой на части вечными смутами и войнами. Во всем мире только Италия сберегла великое наследие античного искусства. Интерес к искусству был не только у аристократа, но и у рядового горожанина. И флорентийцы шли впереди других итальянских государств в признании высокого значения искусства. Покровителем этого направления во Флоренции был знаменитый банкир Козимо Медичи Старший. Этот просвещенный правитель, при котором протекало детство Леонардо, ссужавший деньгами иноземных королей, собирал вокруг себя людей науки и искусства, не жалея средств для приобретения редких картин, статуй, древних рукописей. Щедрый меценат, он помогал поэтам, художникам и ученым, оказывал им гостеприимство на своей прекрасной вилле Кареджи, особенно художникам и поэтам, прославлявшим его имя. Его же заботами при флорентийском монастыре Сан-Марко по завещанию друга Медичи, Никколо Никколи, возникла богатейшая библиотека, первая публичная библиотека в Италии.
Росла и страсть к собиранию произведений древнего искусства. Повсюду в Италии производились раскопки, в моду вошли греческие учителя и изучение классической древности. Некоторые богачи разорялись на покупке античных статуй, древних рукописей, как разорился Никколо Никколи, собравший знаменитую библиотеку Сан-Марко.
*
Цветущий город казался мальчику, приехавшему из тихого городка, волшебным. У самого дома отца действительно стоял так называемый Баптистерий.
Показывая Леонардо это замечательное сооружение, отец сказал с гордостью, как следовало говорить каждому флорентийцу:
— Смотри, мальчик, ведь это храм, по котором тосковал, когда был в изгнании, наш великий поэт Данте. Кто из прославленных художников не украшал его в разное время, и сколько их еще потрудится над его украшением! Вон замечательные бронзовые двери работы великого скульптора Лоренцо Гиберти!
И, держа за руку сына, нотариус показал ему знаменитые двери с барельефами — целыми картинами на библейские сюжеты, объясняя с восторгом:
— Смотри, какая работа! Высокий рельеф чередуется с рельефом тончайшим, как паутина, который стелется легким налетом, незаметно сливаясь с фоном…
Здесь, во Флоренции, отливалась бронза и создавались рельефные фигуры задумчивых евангелистов, пророков, сивилл
[9], библейские сцены в рамках прихотливых гирлянд из плюща; здесь происходили беседы художников; сюда привозили мраморные античные статуи, отрытые в глубине земли, изуродованные тела которых старались с таким упорством восстановить художники. И сына нотариуса, любознательного Леонардо, тянула мечта найти где-нибудь на пустыре если не голову, то хотя бы кисть руки античного бога или богини, чтимых в древности…
Как странно, что люди, которые собираются по церквам молиться христианскому богу, с таким благоговением ищут старых языческих богов!
Этого было не понять Леонардо. Он видел вокруг себя странные противоречия и спрашивал у мачехи:
— Скажи, да разве у нас тоже много богов, как было прежде здесь и в Риме, у язычников?
Она смотрела на него с ужасом, а бабушка, слыша это, отрывалась от своего рукоделия и строго говорила:
— Смотри, Леонардо, чтоб тебя не услышал отец или какой монах, проходя мимо! Что выдумал? Много богов! Мы верим и молимся только одной троице.
— А святой Доминик? А святой Николай, а Иероним, Антоний, Цецилия и мадонна, бабушка?
— Это святые и пресвятая и пречистая дева Мария, матерь бога.
Леонардо замолкал. Он хотел хорошенько это обдумать.
Противоречия его смущали. Вся жизнь казалась ему сплошным противоречием, как и эти верования, и сами боги, и святые. Говорили "не убий" — и благословляли крестом войну. Говорили, что мученики погибли потому, что верили в единого бога, а он оказался троицей и имел еще святых, которым тоже молились христиане. А потом эти старые боги, которых извлекали из развалин с таким восторгом и благоговением…
Все, все кругом — противоречие.
Почему бабушка надела ему на шею маленькую ручку из коралла, сжатую в кулак, с выставленными двумя пальцами — указательным и мизинцем — и делает это движение сама рукою, когда боится чьего-либо "дурного глаза"? И что такое этот "дурной глаз"? Что такое значит — сглазить? И почему во Флоренции считают, что надо начинать дело в субботу, если хочешь успеха? Чем суббота лучше других дней? И почему, когда строят какой-нибудь дом, то зарывают в землю что-нибудь золотое или серебряное?
Никто до сих пор не объяснил этого Леонардо…
IV. УТРАТЫ, ПЕРЕМЕНЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Леонардо рос среди любящей его семьи, в сущности, одиноким. Ему одному приходилось разбираться в возникающих постоянно вопросах об окружающей жизни и в загадках природы, которая его привлекала с тех пор, как он стал себя помнить. И, однако, жизнь в городе с каждым днем все больше и больше нравилась ему.
Флоренция была необыкновенным городом, полным чудес, как казалось Леонардо. Он не мог равнодушно проходить по ее улицам, не останавливаясь поминутно перед изваяниями, барельефами и фресками знаменитых мастеров, и долго созерцал их с благоговением. Все окружающее развивало в мальчике любовь к прекрасному.
Во Флоренции улица была художественным музеем; улица учила любить и познавать искусство.
Флоренция представляла собой обширный питомник, в котором вся Европа черпала зодчих, скульпторов, живописцев, ювелиров. Флорентийских мастеров приглашал к себе и глава католической церкви, папа, и великий князь московский, и турецкий султан. Все это развивало в самих художниках чувство собственного достоинства и законную гордость.
Каждый флорентийский подросток при встрече с известными художниками издали снимал шапку; говорил о них с гордостью и восторгом.
Не мудрено, что и в Леонардо с каждым днем росло и крепло здесь восторженное отношение к красоте и искусству. Он много рисовал втихомолку, рисовал все, что видел. В особенности занимало его внимание движение — человека, собаки, лошадей, разных животных, как занимало и вообще наблюдение над природой.
Он рос, вытягивался, становился более задумчивым и молчаливым, и часто веселая мама Франческа не понимала его пристального и в то же время отсутствующего взгляда — этот взгляд был для нее загадкой. Странный мальчик, на что он смотрит, что видит? И она говорила, не то журя, не то восхищаясь пасынком:
— Ты, Леонардо, учишься точно мимоходом, но учитель не жалуется на тебя. Если бы ты учился более прилежно, ты стал бы одним из самых уважаемых синьоров в городе, право. Из тебя вышел бы знаменитый учитель или нотариус, и ты бы стал очень богатым.
Знаменитый нотариус или учитель, к которому трудно попасть в учение, — это была высшая ступень желаний синьоры Альбьеры, а потом и новой его матери — синьоры Франчески.
В то время во Флоренции жил знаменитый математик, астроном, врач и философ Тосканелли. Это имя хорошо знал каждый уличный мальчишка. Не раз, проходя мимо дома ученого, Леонардо с завистью поглядывал на окна и дверь, за которыми, по его мнению, было святилище науки. В окно ему иной раз удавалось увидеть великого ученого у рабочего стола, заставленного разными химическими приборами: ретортами, колбами, ступами, перегонными аппаратами, — видел полки с длинными рядами рукописных книг.
Здесь, в тишине строгого кабинета, были определены широта и долгота Флоренции, была начертана карта, благодаря которой сделалось возможным путешествие Колумба и открытие Америки.
Нередко Леонардо встречал на улице знаменитого ученого в старомодном черном плаще, окруженного преданными ему учениками. Длинные седые волосы окаймляли худое лицо с глубоким, задумчивым взглядом, вся фигура дышала спокойным величием, и мальчик чувствовал к этому старику почтительный страх. Его тянуло к ученому. С каждым днем ему все больше хотелось попасть в число учеников, и он по целым часам простаивал у дома Тосканелли. Наконец ученый заметил мальчика.
— Кто это? — спросил Тосканелли у одного из своих учеников. — Он сидит на ступенях у моего дома, точно чего-то дожидается.
Леонардо в это время, сидя на каменных ступенях, чертил на земле геометрические фигуры и делал какие-то вычисления.
— Что ты здесь делаешь у моего дома каждый день и зачем следишь за мною?
Леонардо вспыхнул:
— Я хочу учиться у вас математике!
Тон был решительный.
Это короткое заявление понравилось ученому. Он улыбнулся.
— Который тебе год, маленький Архимед? — спросил он насмешливо, смерив его взглядом с головы до ног.
— Скоро четырнадцать, синьор, и я… я очень люблю науку.
— Ну что ж, можно любить науку и в тринадцать лет.
И, слегка прищурившись, Тосканелли сказал шутливо:
— Отныне мой дом всегда открыт для моего нового ученого друга.
Глаза Леонардо весело заблестели. Он понял добродушную насмешку ученого и раскланялся с утонченною учтивостью взрослого:
— Я буду весьма признателен синьору маэстро.
Тосканелли так же с улыбкой кивнул головою и поднялся на лестницу, ведущую в его таинственное жилище.
С этого дня сын нотариуса сделался учеником знаменитого математика. Мало-помалу Тосканелли серьезно заинтересовался мальчиком, закидывавшим его самыми разнообразными вопросами и принимавшим горячее участие в научных беседах и опытах.
И учение у Тосканелли наложило глубокую печать на весь склад души Леонардо.
Леонардо как-то рассказал учителю про свою жизнь, про маму Альбьеру и новую женитьбу отца. Тосканелли несколько минут молча ходил по кабинету, задумчиво разглаживая длинную седую бороду.
— Да, — проговорил он грустно и торжественно, — люди умирают, родятся, любят, изменяют, дерутся и горюют… И все это скоропреходяще… А там…
Он взял мальчика за руку и подвел к окну. На темном небе горели яркие звезды.
— Там тысячи миров, — заговорил ученый каким-то новым, проникновенным голосом, — там тысячи миров, друг мой! На каждой из этих далеких звезд, быть может, копошатся миллионы таких существ, как мы, и даже более совершенных… Они тоже страдают, радуются, родятся и умирают. И, когда погибнут эти миры, явятся новые, и будут они сиять так же, как эти звезды в необъятном просторе Вселенной.
Леонардо с новым чувством восхищения смотрел на учителя.
— Вселенная… — прошептал он и со страхом закрыл глаза.
Ему показалось, что он стоит на краю бездны, бесконечной, страшной и прекрасной, наполненной огненными мирами, несущимися с неимоверной быстротой, точно золотые волшебные мячики.
— Вселенная… — повторил он с восторгом.
Время шло. Нотариус приглядывался к сыну и все больше и больше задумывался, очевидно что-то решая и взвешивая. Положительно у мальчика не было никакого интереса к профессии своего отца, профессии, доставившей мессэру Пьеро да Винчи и материальные блага и почет. Он никогда не интересовался, о чем отец говорит с приходящими клиентами, не интересовался ни судебными процессами, ни толкованием законов. Его тянуло к этому странному отшельнику, ученому Тосканелли, который жил замкнуто в своем гнезде, куда был открыт доступ только немногим, таким же, как и сам Тосканелли, людям, постигшим тайны науки. Они составляли обособленный кружок, и о них во Флоренции среди особенно благочестивых людей говорили нехорошо: в своих колбах они добывают золото, и, наверно, тут не обходится без помощи нечистой силы. В этом кружке два таких таинственных человека: Бенедетто дель Абако
[10] и Карло Мармокки
[11]. Доведет ли это до добра Леонардо? Как посмотрят на то, что сын нотариуса обучается тайным наукам у этих людей, не очень-то усердно заботящихся о мнении католической церкви? Среди людей, бывавших у Тосканелли, как было известно мессэру Пьеро, разве один только грек Аргиропулос
[12] своими занятиями античной литературой и языками снискал себе во Флоренции общее уважение.
Погруженный в эти беспокойные думы, мессэр Пьеро да Винчи не подозревал, что по ученым трудам Тосканелли, опасным в глазах верных католиков, учится Кристофор Колумб, слава о котором потом будет греметь в веках.
Он мрачно думал о судьбе единственного сына. Мальчик способный, нет слов, но стыдно, если при его способностях он не оправдает любимой поговорки нотариуса и не станет одним из состоятельных граждан Флоренции. У мальчика и память острая для наук, и голос для пения, и на лютне подберет любую песенку. Да и рисует он отменно: нет предмета, который бы он не изобразил в минуту — набросает углем или черным мелом что хочешь; даже в портретах у него верное сходство, а если захочет посмеяться, нарисует и схоже и смешно, даром что левша. И он подумал со вздохом:
"Уж лучше ему быть художником, если не хочет наследовать от отца его занятие… А художники у нас во Флоренции в славе. Вон Вероккио, мой приятель, — имя его гремит. Художник может попасть в придворные даже к самому святейшему отцу-папе… Что, если поговорить о мальчике с Вероккио? Леонардо — при дворе. Что ж, он красив и ловок, будет украшением любого двора и прославит отца… Но надо поговорить с мальчиком".
И, открыв дверь кабинета, громко позвал:
— Леонардо! Где ты там?
Из сада ему отозвался голос сына:
— Я здесь, батюшка…
— Иди ко мне. Мне надо поговорить с тобой. Да скорее.
Леонардо явился, неся в руках какое-то растение, сок которого ему хотелось исследовать. О нем говорил вчера Тоска-нелли.
— Слушай, Леонардо, — начал мессэр Пьеро решительно, — тебе нужно выбрать занятие. Что ты скажешь, если я тебя отдам в ученики к достославному маэстро Вероккио?
К изумлению мессэра Пьеро, сын его нисколько не удивился.
— Это будет очень хорошо, батюшка.
И все. Он точно ждал, что отец именно так решит его участь.
— Ну и ладно. Я поговорю с маэстро о тебе.
Мессэр Пьеро позвал Франческу:
— Дай-ка мне мое новое платье, дорогая.
Франческа, не расспрашивая, послушно принесла мужу новое платье, расправив чуть смятый кружевной воротник, красиво лежащий на черном бархате камзола, и его прекрасный плащ, только что сделанный к свадьбе.
Вскоре нотариус широко шагал к дому своего друга, знаменитого художника Андреа ди Микеле ди Франческо Чьонэ, по прозвищу Вероккио.
Подходя к дому художника, мессэр Пьеро услышал издали многоголосый шум. Но это не был гармоничный хор: молодые голоса звучали возбужденно; в их реве тонул бешеный окрик, в котором мессэр Пьеро все же узнал голос своего приятеля Вероккио.
— Да замолчите же, болваны, я вам говорю! Пусть скажет он сам, как было дело!
И, когда все смолкло, послышался слабый, прерывистый голос:
— Как я мог стерпеть, когда оскорбляют моего учителя!
И в ответ басистый, полнозвучный хохот Вероккио, знакомый хохот, который, как говорил сам мессэр Пьеро, может поднять мертвого из могилы:
— Ну и ходи теперь, Лоренцо, с подбитым глазом за честь своего учителя!
Очевидно, Вероккио заметил в окно подходившего к его дому приятеля прежде, чем тот взялся за молоток у входной двери, чтобы стуком известить о своем приходе, и позвал:
— Входи, входи, дорогой друг, дверь открыта! Разве с моими разбойниками может быть какой-нибудь порядок? Для них нет никаких запоров!
Мессэр Пьеро вошел и, протискавшись сквозь "хаос", как называл художник свое
помещение, загроможденное атрибутами мастерской, остановился, не зная, куда положить свою шляпу и плащ, и боясь запачкаться краской. Это, впрочем, была обычная обстановка художников, и Вероккио, как и другие, сочетал в своем доме и в своем лице три профессии: ювелира, живописца и скульптора.
С вершины подмостков он закричал гостю:
— Вон там, на столе, чисто. Туда я кладу рисунки. Положи туда и свою шляпу и плащ. Я сейчас отведу тебя в чистое отделение, как мы называем мою спальню. А здесь — краски, глина, гипс, угли, карандаши, кисти и… пыль, много пыли. Одним словом, все сокровища ремесла художника. А в придачу — разбойники, которым тоже несть числа и которые чуть не проламывают себе голову во славу своего учителя!
Слезая с подмостков, Вероккио продолжал весело болтать:
— Не угодно ли, полюбуйся на этого проходимца Лоренцо Креди. Он подрался с учеником Гирландайо из-за того, что тот смел заявить, что я не стою мизинца его учителя! Смотри, в самом чуть душа держится, а лезет драться с дюжим болваном на голову выше его!
Маленький, щуплый Лоренцо Креди сконфуженно прятал от гостя лицо с подбитым глазом и тихо ворчал:
— Вон, говорят, лет десять назад здесь один ученик убил подмастерья какого-то художника за то, что тот поносил его учителя.
Соскочив на пол, Вероккио широко открыл дверь в соседнюю комнату, прибранную не только аккуратно, но даже с претензией на уют, где рядом с огромной кроватью под балдахином, покрытой парчовым одеялом, на изящном столике с резными золочеными ножками в виде грифов
1 в красивой вазе стоял букет цветов.
— Милости просим, друг. Побеседуем. Мальчишки всегда заботятся о том, чтобы у меня были свежие цветы. Они, мои сорванцы, проявляют в этом свою любовь ко мне, хотя служат, в общем, прескверно. Эй, чья там сегодня очередь? Подметите мастерскую да принесите нам с гостем хорошенькую бутылочку фалернского! Милости просим, мессэр Пьеро, заходи в мое пристанище, побеседуем. Стой, стой, бесстыдник Лоренцо, да у тебя из башмаков торчат пальцы! Сходишь к сапожнику и, если нельзя починить, возьмешь у меня денег и купишь новые!.. Милости просим, друг мой мессэр Пьеро, я рад, рад…
За стаканчиком душистого фалернского вина между приятелями полилась дружеская нескончаемая беседа. Говорили о трудности жизни и о доходах, разбирали по косточкам заказчиков и клиентов, говорили о последних тяжбах, о заказах на картины и статуи Вероккио, о новых украшениях церквей, о налогах и о роскоши, в которой живут Медичи на своей вилле Кареджи. Описывая эту роскошь, художник мимоходом, вскользь коснулся того, что флорентийские бедняки жалуются, что они умирают с голоду, в то время как правители республики утопают в золоте. Но гость осторожно перевел разговор на повышение цен на рынках и на то, что город собирается украсить Палаццо Веккио — дворец Синьории
[13], и вдруг стал развертывать трубку с рисунками Леонардо:
— Вот, друг мой, я к тебе по делу…
— Что такое?
— Наследник у меня, и я пришел узнать твое просвещенное мнение о нем. Рисует, много рисует, а к моему делу у него нет никакого прилежания. Послушен, поперек слова не скажет, тихоня, мухи не обидит, а душою лежит к науке да "к рисованию. Наука — это, я так мыслю, дело пустое, с нею как раз попадешь в еретики, а вот быть художником во Флоренции почетно. Посмотри, пожалуйста, рисунки Леонардо и, ежели найдешь. что он способен для твоего цеха, возьми в ученики, не раскаешься: с моим сынишкой не наживешь беды — от него никакого озорства, а я накажу ему, чтобы почитал тебя, как родного отца.
Вероккио с интересом погрузился в разглядывание рисунков, и они ему очень понравились. Не у многих из своих учеников он видел что-либо подобное. У мальчика смелый штрих, уверенность и замечательное умение наблюдать природу. Редко кто даже из взрослых может с такою правдою изобразить лошадь в разнообразии поз и в движении.
— Кончено, дружище, я беру твоего мальчика. Приводи его ко мне, и чем скорее, тем лучше. Будь спокоен — обижен у меня не будет, но и лениться не позволю, и от озорства уберегу. У меня не сделается пьяницей.
— Знаю, знаю, друг…
— Вот и выпьем еще по стаканчику в честь помолвки твоего Леонардо с моей боттегой
[14].
Выпили еще по стаканчику за помолвку Леонардо с искусством Вероккио. Мессэр Пьеро верил другу, как самому себе, о чем прямо ему заявил, но все же заговорил об условиях и подписал контракт на обучение, по которому он должен был получать известную сумму — ведь ученик художника до некоторой степени и его слуга.
V. В МАСТЕРСКОЙ ВЕРОККИО
Вероккио занимал почетное место среди флорентийских художников. Начав, как и многие люди его профессии, с искусства ювелира
[15], он постепенно сменил ее на профессию живописца и скульптора, но имел тяготение к последней и стал более ваятелем, чем живописцем. Это тяготение сказалось и на его картинах. Фигуры на них как бы вылиты из бронзы: они написаны с большою точностью; видно, что внимание художника особенно обращено на анатомические подробности. Впоследствии бронзовая конная статуя предводителя венецианского войска Бартоломео Коллеони, украсившая площадь в Венеции, покрыла имя Вероккио неувядаемой славой.
Во Флоренции к нему относились с большим уважением, как к учителю. Всем были известны его честность, его трогательное, почти отеческое отношение к ученикам. Пользуясь их мелкими Услугами в мастерской, что было тогда в обычае среди художников, он никогда их не переутомлял, журил, как своих детей, радовался их успехам, горевал об их печалях, заботился об их одежде. В свободное время Вероккио любил шутить с учениками, и в эти часы его мастерская оглашалась молодым, веселым смехом, но в часы работы художник был строг и требователен.
Вероккио был новатором. Он указывал ученикам, что мало одного добросовестного труда и способностей, чтобы стать хорошим художником, что надо еще нечто другое — изучить правду жизни, природу. Так, изображая человека без знания анатомии, трудно найти верные пропорции его тела. По этой части Вероккио был образованнее многих из своих современников.
— Нарисуй скелет, — убежденно гремел в мастерской его голос, — покрой его мускулами и жилами и тогда только облекай кожей.
Следуя жизненной правде, Вероккио создал своего удивительного по верности природе Иоанна Крестителя. Особенно поражает в этой картине рука пророка, с ее жилами и сухожилиями, так ясно видными сквозь кожу. Это действительно рука сурового отшельника, проводящего в пустыне целые месяцы, иссохшая, загрубелая от тяжелого труда.
"Ведь из этого источника, — говорил о Вероккио современный ему поэт Уголино Верино, — многие живописцы почерпнули все свое умение. Почти все, чья слава теперь гремит, были обучены в школе Вероккио".
В мастерской знаменитого художника время для Леонардо летело с неимоверной быстротой. Он не жалел о том, что покинул уютный дом. Он внимал наставлениям учителя, вбирал их жадно и, естественно, старался проверить их на своей работе. Стопки рисунков его росли, росла и запись правил для живописца. Среди товарищей он чувствовал себя как нельзя лучше и не отлынивал от общей работы: хождения в лавки за покупками, растирания красок и уборки мастерской.
Прощаясь с мачехой, он утешал ее покровительственным тоном:
— Тебе вовсе не о чем горевать, мама Франческа. Ты должна понять, что есть нечто, что дороже нам родного дома, чему мы должны учиться, то, к чему нас тянет… А потом, разве у меня не будет отпусков? Я ни одного не пропущу и буду тебе рассказывать по порядку о моей жизни у Вероккио.
Бабушка молча грустным взглядом проводила внука; она чувствовала, что ей уже недолго осталось видеть близких сердцу.
В мастерской Вероккио было много даровитых учеников, которые нравились Леонардо, но больше других его привлекали Лоренцо ди Креди и Пьетро Ваннучи, прозванный впоследствии Перуджино, по имени его родного города Перуджи. Пьетро был старше Леонардо и раньше многих из учеников поступил в мастерскую Вероккио; он держался уверенно и казался знающим, серьезным. Лоренцо Креди был полною ему противоположностью: маленький, слабый и часто хворал. Когда зимою Вероккио посылал Креди в лавку за лаком и краской и мальчик уныло смотрел в окно, за которым свистел ветер, Леонардо охотно исполнял за Креди поручение. Он поправлял рисунки Креди, ухаживал за ним, когда тот был болен, и не раз приводил к его постели знаменитого Тосканелли, знавшего толк во врачевании. Как самая заботливая мать, утешал он Лоренцо в его горестях, и Креди платил ему восторженною привязанностью, во всем стараясь подражать Леонардо — в движениях, говоре, манерах, мимике, только писать не научился левой рукой.
— Креди, — кричал кто-нибудь из товарищей, — а ведь ты не так надел свою шапочку, как Леонардо, — подвинь ее влево!
И Креди, краснея до корней волос, подвигал свою шапочку. А те не унимались:
— На палец больше!
— А теперь на полпальца меньше!
— Не так, не так!
— Креди! — кричал другой товарищ. — Да ты сошел с ума! Сидеть спокойно и тереть краски, когда Леонардо лежит на улице возле лавки мясника с проломленной головою… Он умирает, Леонардо, и я прибежал за тобою…
Креди смертельно бледнеет и опрометью бросается на улицу, сталкиваясь в дверях с учителем.
— Куда ты! — гневно кричит Вероккио. — Весь перепачканный краской несешься из мастерской так, что чуть не сбил меня с ног!
Ученики хохочут:
— Да он, маэстро, видел во сне, что Леонардо убили на улице…
В другой раз кто-то из учеников пустил слух, что по предсказанию колдуньи Леонардо должен будет умереть, если его лучший друг не согласится пожертвовать для него своею правой рукой, и, обступив Креди, товарищи спрашивали наперебой:
— А ну-ка, Креди, скажи, дашь ли ты отрубить себе или сжечь свою правую руку, чтобы спасти жизнь Леонардо?
И опять Креди поверил и, смертельно побледнев, сказал шепотом, прерывающимся от волнения:
— Да разве я могу не дать?
Иные отношения были у Леонардо с Ваннучи. Сильный физически, Пьетро не нуждался в его защите, когда дрался на кулачках или ссорился с товарищами, но в рисунке Леонардо был гораздо сильнее, хоть летами и моложе. Нередко он подходил к Пьетро и поправлял его рисунки, говоря уверенно и с некоторым огорчением:
— Друг мой, ведь здесь надо усилить тени, а здесь дать побольше света! У тебя рисунок бледен и в один тон… С какой стороны у тебя свет?
Ваннучи смотрел, соглашался и исправлял рисунок.
Очень интересовался Леонардо талантливым юношей Алессандро Филипепи, прозванным впоследствии Сандро Боттичелли, появлявшимся часто в мастерской Вероккио. В сущности, он был учеником фра Филиппо Липпи
[16], но он часто приходил в мастерскую Вероккио, увлеченный его замечательными работами, и черпал у него много нового для своего искусства. Боттичелли был на восемь лет старше Леонардо, и его сильная рука смело, уверенно работала кистью. Прозвище "Боттичелли" казалось насмешкой при взгляде на него: "боттичелло" — по-итальянски значило "бочонок"; это прозвище носил его брат Джованни, и оно по традиции перешло к Сандро. Уже в то время Боттичелли увлекался могучей поэзией Данте, уже тогда в его душе жили образы, напоминавшие образы дантовского "Рая" и "Ада", и он пробовал набросать их на бумаге.
Впоследствии Боттичелли осуществил мечту ранней юности и создал рисунки ко всем трем частям дантовской "Божественной комедии" — всего более девяноста рисунков.
Одним своим видом Боттичелли останавливал на себе внимание: молчаливый, вечно погруженный в созерцание каких-то невидимых другими красот и образов, он и в Леонардо вызвал глубокий интерес. В нем было что-то, что хотелось разгадать впечатлительному подростку. Ведь и сам Леонардо часто погружался в глубокие думы, которые не могли разогнать ни веселые шутки окружающей молодежи, ни приглашение на праздник. Он бывал рассеян даже в разговоре с учителем. Чаще это случалось после посещения дома Тосканелли. Замкнутость и перемена настроения у Леонардо не ускользнули от Вероккио; он замечал отсутствующее выражение его лица после таинственных исчезновений из мастерской, а ученики и соседи не скрывали, что Леонардо посещает дом философа.
Раз он спросил Леонардо:
— О чем грезишь наяву?
Леонардо вздрогнул, вскинул на учителя ясные синие глаза и просто, спокойно отвечал:
— О соединении искусства живописца и ваятеля с наукой, о познании природы.
Вероккио улыбнулся. Этакий еще мальчик, а говорит серьезно, строго, как мудрый старец.
— Ты думаешь об анатомии, которая дает правильное понятие о строении человека и животных? Тебе, пожалуй, еще рановато начать рассекать трупы, но ты, конечно, займешься со мною этим впоследствии.
Леонардо покачал головой:
— Нет, не об этом, маэстро, хотя, конечно, мне необходимо будет изучить анатомию. Я говорю о том, что художнику необходима наука не только чтобы постигать строение тела человека и животных, но вообще…
Он искал слов; он еще не чувствовал себя таким сильным, чтобы ясно выразить свои мысли, сделать выводы из бесед там, в кружке ученых.
— Я… я думаю о науке в ее разнообразии… что искусство без науки — как тело без души… что математика в большом… в большом объеме нужна для познания законов перспективы, светотени и игры красок… что оптика и механика нужны для того же, иначе… иначе мы будем ходить как слепые, в темноте… и что познание этих наук требует особых, долгих и внимательных опытов…
Вероккио смотрел на ученика с молчаливым изумлением. Он говорил таким языком, этот юноша, каким не говорил с ним ни один из его более зрелых питомцев. Он не знал, что ему ответить. Ведь сюда, в мастерскую, приходило их много, и им довольно было тех навыков, которые они получали от него, а из инструментов — резца, стэки, циркуля, весов, простых приборов для измерения длины и ширины да, пожалуй, хорошей лупы, а из науки — первых уроков математики…
А Леонардо говорит о том, о чем никто из них не мечтал. Ведь большинство из них променяло ремесло ювелира на ремесло-искусство живописца-ваятеля, не чуждаясь, впрочем, и архитектуры, и сам он когда-то сидел с лупой над камнями и резал камень, гордясь тончайшим рисунком… Но этот мальчик хочет проникнуть в тайну мироздания. И вспомнилось Вероккио, как на днях он слышал горячий спор Леонардо со старшим и более опытным Сандро Боттичелли и как Леонардо твердо, не волнуясь, доказывал ему что-то… Нет, это поколение отличается от сверстников его самого, Вероккио. Оно будет неустанно чего-то искать, всегда чувствовать недовольство собою, тогда как Вероккио и его товарищи жили просто, верили в себя и не предавались несбыточным мечтам… Недалеко то время, когда Леонардо будет судить своего учителя, указывать на его недостатки, промахи, исправлять его…
— Познание… глубокое познание законов природы и искусства… — со вздохом шептал Вероккио.
VI. УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
Вероккио все больше и больше привязывался к этому необыкновенному юноше, несмотря на то что только перед ним, сыном нотариуса, он должен был как-то подтягиваться, что только один Леонардо да Винчи взвешивал и проверял каждое слово своего учителя. Гораздо проще были и Боттичелли и Ваннучи, а ведь оба они были значительно старше Леонардо. Когда Вероккио беседовал с учениками об искусстве и ученики выслушивали его наставления как непреложную истину, он ловил внимательный, но испытующий взгляд Леонардо. Леонардо смотрел прямо и открыто в глаза учителю, взвешивал каждую фразу. Он один позволял себе высказывать замечания по поводу недостатков в картинах учителя, но свойственная ему чуткость подсказывала, что это следует говорить учителю только наедине. Так устанавливалась между Вероккио и Леонардо тесная душевная связь. И этот же беспристрастный судья являлся самой терпеливой, нежной сиделкой у постели учителя, когда он заболевал.
В минуту душевной тоски, когда Вероккио что-нибудь не удавалось, Леонардо молча, тихими шагами входил в комнату, куда учитель удалялся от посторонних глаз, и ждал, смотря на учителя, который сидел неподвижно, сжав голову обеими руками. Наконец художник замечал его:
— Это ты, мой Леонардо? Сегодня твой учитель никуда не годится. Здесь, — он указывал на свою голову, — пусто. Я ничего не могу из нее выдавить. А в груди так больно и так холодно! Мне кажется, что я больше ничего не смогу создать. А у тебя все впереди. Что тебя ожидает? Быть может, громкая слава, шумный успех, а главное, главное — спокойное, уверенное творчество… Ты будешь знать, что сделано все так, как надо, как ты задумал… А я… неужели это конец? Мой мозг высох, источник иссяк… В горле так сухо… Налей мне вина…
Леонардо наливал учителю кубок любимого им фалернского вина и начинал говорить тем тихим, проникновенным голосом, который доходил до сердца Вероккио. Он вспоминал, как отец привел его в эту мастерскую и как хорошо встретил его учитель, вспоминал его наставления, такие нужные, важные, дорогие, а потом переходил к тому, сколько дали эти наставления его товарищам и, наконец, какой восторг испытывали ученики, стараясь научиться живописи на работах учителя. А эти работы, эти картины и статуи?
Тихий голос и восторженные слова юноши ласкали усталую душу художника; лицо его прояснялось, и глубокая складка горечи около рта исчезала. Он точно молодел и вновь становился самим собой, этот добрый, ясный, бодрый учитель, друг и наставник молодых дарований. Он чувствовал потребность излить все, что накипело у него на сердце, брал в руки арфу, на которой чудесно играл, и Леонардо наслаждался льющимися из-под его пальцев вдохновенными звуками.
А когда учитель оставлял инструмент, брал его Леонардо и начинал свою робкую импровизацию. Таким образом переливы струн золотой арфы создавали еще один язык, близкий и понятный обоим, и исчезала последняя перегородка, отделявшая внутренний мир учителя от внутреннего мира ученика.
Ученики слушали музыку сначала издали, потом бросали кисти; в щели двери мелькали их лица…
Валломброзские монахи заказали Вероккио для своей обители картину "Крещение господне". Художник горячо принялся за работу. И вот под его кистью явились Христос и Иоанн. Вероккио задумал написать еще двух ангелов, благоговейно созерцающих великое событие. Было в обычае, что ученики и подмастерья помогают мастеру в больших, сложных картинах, выписывая второстепенные фигуры и мелкие детали, смотря по степени подготовленности.
Вероккио стоял в раздумье около неоконченной картины, когда в мастерскую вошел Леонардо. Учитель думал вслух:
— Остался один ангел. Тут надо передать простодушие детей, восторженно взирающих на необыкновенное зрелище, не понимая его важности, и так, чтобы он не был похож на другого.
Голос был усталый. Художник повернулся, услышав скрип двери.
— Это ты, мой Леонардо?
С минуту он раздумывал.
— Поди сюда, ближе. Стань так, чтобы не загораживать свет, чтобы он падал как раз на место, где происходит событие. Смотри. Ты напишешь здесь одного из двух ангелов… Ты доволен, что я поручаю тебе такой труд и что ты будешь участвовать в картине своего учителя?
Леонардо был ошеломлен. Для него это большая честь — значит, учитель находит его почти законченным художником… Но угодит ли он?
И его тихий голос слегка дрожал, когда он ответил, от всего сердца, искренне и радостно:
— Если я смогу… я постараюсь написать, чтобы вы были довольны, дорогой маэстро!
— И так, чтобы этот ангел не был похож на другого, — повторил снова раздумчиво Вероккио. — Принимайся-ка за работу, мой Леонардо.
Этот день Леонардо провел в раздумье. Он был взволнован; он искал в душе нужный ему образ и не спал ночь. Утром взялся за кисть. Великая честь участвовать своим трудом в большой картине большого мастера!..
"Чтобы он не был похож на другого…" — врезались в память Леонардо слова Вероккио.
Но он и не мог бы копировать уже написанного учителем ангела. Этот ангел ему не нравился. Глядя на него, Леонардо чувствовал, что художник устал, что его не захватил образ ребенка, восторженно глядящего на необычайное событие. С полотна на него смотрело детское личико с толстым носиком, приподнятыми бровями, ничего не выражающим взглядом круглых глаз.
И Леонардо начал работу. Ученикам задание Вероккио было еще неизвестно. Первым увидел товарища с кистью у картины Креди. Он сначала удивился, заметив контур ангела, над которым работал Леонардо, а потом пришел в восторг:
— Это он поручил тебе, тебе! О, да какой же ты счастливец!
Креди хотел еще что-то сказать, но, заметив, как спокойно движется рука друга, замолчал и стал изумленно следить за этою рукою. Вот он какой, этот Леонардо, — он пишет фигуры на картине учителя!
На пустом месте, оставленном на полотне, вырастала фигура коленопреклоненного ангела. Его мечтательный и серьезный взгляд, казалось, понимал значение происходящего. Кудрявая головка окружена, точно дымкою, тонким, прозрачным сиянием; одежда лежит красивыми, естественными складками.
Леонардо работал усердно изо дня в день, и Креди изо дня в день приходил любоваться его ангелом. Когда Креди первый увидел оконченную фигуру, он закричал простодушно:
— О пресвятой Себастьян! Да ты, Леонардо, сделал ангела лучше, чем сам учитель!
В эту минуту на лестнице, ведущей в мастерскую, показалась сгорбленная фигура Вероккио. Он был нездоров, переутомлен и, как всегда в такие минуты, мрачен. В это время мир казался ему пустыней, а сам он — затерявшимся в ней ничтожным червяком. Он закричал с отчаянием:
— Что ты сделал, Леонардо?
Юноша смутился:
— Ведь когда я наметил, ваша милость маэстро, вы одобрили позу коленопреклоненного ангела…
— Да не об этом я! А о том, что после твоего ангела я ничего не стою как живописец, что мне надо браться только за резец!
В тот же день Вероккио показывал работу своего любимого ученика Луке делла Роббиа, прославившемуся своими работами в глазурованной терракоте.
Художник заинтересовался Леонардо и захотел быть ему полезным. И решено было, что Леонардо будет пользоваться его советами.
Теперь у юноши не оставалось ни одной минуты свободной. Ему некогда было бегать домой — он то работал под руководством Вероккио, то шел к Луке делла Роббиа, не забывая и научного кружка Тосканелли.
Вероккио часто прихварывал, и Тосканелли, искусный врач, стал лечить его. Врач — друг тела — оказался другом души. Он вел беседы с художником, открывая ему тайны природы и уводя от искусства и обыденной жизни в необъятные просторы Вселенной. Он приводил с собою своих друзей полюбоваться произведениями славного художника, и в мастерской Вероккио, к радости Леонардо, иной раз затевались беседы на широкие философские темы и на темы, интересующие исследователей природы.
Леонардо минуло двадцать лет. Незаметно подошел срок, когда, по договору, он должен был оставить мастерскую Вероккио и получить звание мастера. Но и звание мастера не заставило его покинуть любимого учителя. Он решил остаться с ним еще несколько лет.
В редкие дни, когда Леонардо бывал дома, он испытывал тяжелое чувство одиночества. Мало что связывало его теперь с семьей. Его интересы были здесь чужды… Бабушка умерла; мама Франческа, девочка, когда-то товарищ его игр, сделалась апатичной, отяжелела и превратилась в вялую, сонную, живущую сегодняшним днем женщину, которая интересуется только болтовней, нарядами и лакомствами. Отец рано одряхлел и был недоволен, что сын все еще хочет чему-то учиться, приобретать знания, которые не сулят обогащения. Он ворчал:
— Скоро мне трудно будет ходить по судам и ломать голову над тем, как выручить из беды клиентов обходом законов. А ты все недоволен тем, что знаешь, хоть и помогаешь в работе над картинами такому прославленному мастеру, как мессэр Вероккио. Ты и сам бы должен открыть свою мастерскую. И к чему тебе возиться с этими учеными, которых многие во Флоренции считают чернокнижниками? Ты попадешь на заметку у святых отцов нашей единой матери католической церкви, вместо того чтобы покоить старость отца и позаботиться о той, кого я дал тебе в матери…
VII. ЮНОСТЬ
После разговора с отцом, напоминавшим о том, что пора уже начинать свое дело, Леонардо не изменил решения и остался на неопределенное время подмастерьем у Вероккио. Его нисколько не соблазнил пример товарищей, открывавших свои мастерские и принимавших самостоятельные заказы. Он охотно бывал с ними в тавернах на пирушках, когда они праздновали окончание своего учения. Был даже один такой день, когда Леонардо заколебался в своем решении, глядя на Пьетро Ваннучи, явившегося на пирушку, он почувствовал желание стать самостоятельным…
Вероккио охотно принимал участие в празднествах, устраиваемых учениками в честь принятия их в цех. И в этот день он сидел за столом простенького кабачка, излюбленного молодежью — подмастерьями и начинающими художниками, — и толстый хозяин таверны, Томазо, потчевал его своим хиосским вином, уверяя, что оно лучше его любимого фалернского. Но Вероккио не слушал его хвастливых уверений; он был рассеян и, казалось, погружен в неотвязную грустную думу.
Хор учеников, провожая уезжавшего товарища, пел веселую песнь школьников, но Вероккио не подпевал им; голову его, как молотом, гвоздили знакомые слова:
Как вино, я песнь люблю
И латинских граций,
Если ж пью, то и пою
Лучше, чем Гораций!
Облокотись на стол, Вероккио не притрагивался к своему кубку. Вот они все уходят от него, эти даровитые юноши, составлявшие его семью, в которых он вложил то, что постиг годами опыта и размышлений. Он чувствовал, что уйдет и этот, самый любимый, который написал на его "Крещении" прекрасного коленопреклоненного ангела.
Настроение учителя передавалось и Леонардо. Он тоже был далек от смеха, песен и шуток товарищей. До него долетели фразы из другого угла таверны, хорошо знакомые выражения:
— Ты бы посмотрел на его работу! Какая гармония! Какие постепенные переходы от высокого рельефа к среднему и низкому! Из него выйдет замечательный мастер!
Они говорили о каком-то скульпторе. Потом завели речь о живописи:
— Тут не обойдешься законами ваяния. Здесь не объем и не пропорции, тут необходимо совершенное знание перспективы, умение компоновать, не говоря уж о безупречной правильности рисунка…
Вот они, нужные слова и нужные понятия! Кто дал им, начинающим, возможность с такой уверенностью произносить эти слова? Кто, подобно тому, как искусный ювелир шлифует камни, отшлифовал эти дарования? Тот, кто сейчас здесь сидит, погруженный в грустные мысли, огорченный разлукой?.. Леонардо подводил итоги полученного им от Вероккио: это умение наблюдать природу, учиться у нее, брать ее как образец жизненной правды, умение отойти от усвоенной условной манеры, продиктованной церковью и завладевшей искусством, это живой интерес к изображению пейзажа, правдивого, каким видит его глаз…
Он взглянул внимательно благодарными глазами на учителя.
— Маэстро…
Вероккио вздрогнул. Вот оно, прощание… Ведь уже несколько месяцев, как Леонардо получил звание мастера.
— Я хотел сказать, маэстро, что, если вы разрешите, я останусь у вас еще на несколько лет, чтобы укрепить знания, полученные мною в вашей мастерской…
Мрачное лицо художника просветлело. Он пробормотал чуть слышно, прерывающимся от волнения голосом:
— Да, сын мой, ты ведь хорошо знаешь, как мне будет это приятно…
Он улыбнулся и придвинул кубок к кубку Леонардо. А Леонардо, еще так недавно мечтавший о собственной мастерской, о самостоятельной жизни и свободном творчестве, вдруг почувствовал, как у него отлегло от сердца, и от души чокнулся с учителем:
— Привет вам от вашего благодарного подмастерья, маэстро!
И оба они стали слушать школьников, воспевавших вино, веселье и латинских граций.
Так Леонардо остался у Вероккио подмастерьем, несмотря на то что все его товарищи, закончив учение, устроились самостоятельно, принимая заказы в своих мастерских. Это решение делало счастливым Креди, который еще не кончил учения и не получил права на звание мастера, но и он удивлялся Леонардо и не понимал его.
Леонардо любил ходить по улицам Флоренции, смешиваясь с толпою на рыночной площади, на церковной паперти, на веселых уличных праздниках. Он вынимал украдкой из-за пояса записную книжку и делал наброски, если встречалось интересное лицо, фигура или целая группа.
В народную толпу тянула Леонардо, кроме профессии, также и любовь к танцам, музыке и конским скачкам. Он прекрасно пел, играл на лютне и на конских состязаниях всегда приходил первым, укрощая самую дикую, бешеную лошадь. Его изящные, тонкие пальцы, ловко работавшие кистью, обладали такою силою, что гнули подковы, а красота его была известна во Флоренции и вызывала у многих молодых художников зависть: на праздниках девушки охотнее всего танцевали с Леонардо. А праздников во Флоренции было много, и они давали неисчерпаемый материал для зарисовок. Здесь он видел людей в момент наибольшего оживления, а ведь в движении, в непринужденных позах характер каждого отдельного человека проявляется особенно ярко. И художник, накопляя в записной книжке зарисовки, наброски, записи подслушанных разговоров, песен, шуток, замечаний, философских рассуждений, копил громадный, неоценимый запас для будущих художественных и научных работ.
После него осталось таких зарисовок, чертежей и философских заметок более семидесяти тысяч страниц…
Леонардо было уже около двадцати восьми лет, когда он открыл собственную мастерскую. К тому времени имя его было хорошо известно в художественном мире Флоренции, и заказы не заставили себя ждать.
Из Фландрии он получил предложение сделать картон — большой рисунок для ткачей, которые готовили португальскому королю роскошно затканный ковер. Леонардо изобразил на картоне Адама и Еву. Вокруг первых людей на лугу — множество разнообразных животных, причудливых цветов. И листья, и цветы, и звери — все было изображено с необычайной точностью, особенно пальма, которой художник придал исключительную грацию и гибкость. Впечатление достигалось не поверхностной передачей формы — дерево было изучено ученым и прочувствовано художником. Уже тогда ученый проявлялся в художнике; уже тогда обнаруживалось многообразие интересов и способностей Леонардо, так ярко сказавшееся впоследствии. Сложность творений природы не пугала его. Он хотел говорить о ней свободным языком художника, но с точностью, позволяющей воспроизвести все ее элементы. Уже тогда складывалась и та мягкая живописная манера, которая так отличает его от жесткой манеры большинства флорентийских художников XV века.
К этому же времени относятся написанные Леонардо два "Благовещения".
Первое "Благовещение" дышит непринужденной естественностью. Ни богато убранной комнаты, как это обыкновенно изображали художники, ни голубя — святого духа, ни облаков на верху картины — ничего этого здесь нет. Богоматерь принимает благую весть под открытым небом, у входа на террасу. Чудный день, веселый пейзаж — цветущие лилии, живописные группы деревьев, река, окаймленная холмами. Мария на коленях благоговейно и смущенно слушает радостно улыбающегося ангела.
Второе "Благовещение" несколько иное. Изображенный на нем ангел задумчив, серьезен, а мадонна с радостным изумлением выслушивает необычайную весть. На этой картине все, начиная со складок одежды богоматери до столика, на котором лежит раскрытая книга, поражает совершенством художественной отделки.
Молодой художник начал писать картины на религиозные сюжеты подобно своим товарищам по профессии. Это было в духе времени, только художники эпохи Возрождения умели наполнять эти религиозные темы новым, человеческим содержанием. Для них эти "святые" были не бесплотными духами, а здоровыми, полными сил людьми, обладающими всеми чувствами обитателей земли.
Так работал и Леонардо. Уже в начале своего самостоятельного пути он быстро освобождается от некоторой упрощенности и скованности художников старшего поколения, его образы отличаются естественностью и реалистичностью.
Это особенно видно в более зрелом произведении молодого Леонардо, так называемой "Мадонне с цветком"
[17]. Это мать, играющая с младенцем и забавляющая его цветком. Прекрасная, очень юная женщина со счастливой улыбкой любуется своим ребенком, а он теребит пухлой ручонкой цветок, который она держит. Картина дышит человечески правдивой простотой. Чудесно выражены материнская нежность и связь между матерью и ребенком. Необыкновенно тонко переданы прозрачные тени лица Марии и контраст этого нежного лица и тела младенца на фоне суровых, ничем не украшенных стен убогого жилища.
"Переход от света к тени, — говорил Леонардо, — подобен дыму".
Здесь ярко сказалась его упорная работа над светотенью, как и в неоконченной картине "Поклонение волхвов", с которой он начинал самостоятельную жизнь. Многофигурная картина, результат множества предварительных набросков, дошла до нас только в подмалевке, но она интересна именно исканиями молодого художника.
Среди рисунков этого времени сохранился и пейзаж с натуры, очевидно вид окрестностей Винчи по дороге в Пистойю: горы, поросшие кустами и деревьями, на одной из вершин — стены замка, и в прорыве между кручами — даль с рекою, окаймленною холмистым берегом.
Мессэр Пьеро да Винчи теперь был доволен: сын наконец начал свое собственное дело, и дело пошло как нельзя лучше — от заказов не было отбою.
Сам мессэр Пьеро, чувствуя тяжесть лет и усталость, бросил шумную Флоренцию и вернулся опять в свой скромный домик на одной из уютных улочек Винчи. Ему казалось спокойнее работать в этом уголке Тосканы, чем в шумной Флоренции со сложными людскими отношениями, сложными тяжбами. Гордый успехами сына, он радовался, что известность Леонардо достигла родного города и создала самому нотариусу еще больший почет.
Как-то мессэр Пьеро собирался по делам во Флоренцию и велел жене распорядиться, чтобы ему оседлали мула. Он давно не виделся с сыном и решил навестить его, а кстати повидаться и со старым другом Вероккио.
— Мой Пьеро, — сказала, появляясь в дверях, синьора Франческа, — рыболов Джованни хочет тебя видеть. Он принес тебе какую-то доску и рассказывал мне что-то, да только я ничего не поняла.
— Впусти его ко мне, Франческа, да принеси мне новую шляпу.
Вошел рыболов Джованни, старый клиент мессэра Пьеро. Он держал под мышкой круглый, тщательно вырезанный и выструганный щит из масличного дерева.
— Что скажешь, друг?
Усиленно кланяясь, рыбак стал просить его милость мессэра Пьеро свезти во Флоренцию к молодому мессэру Леонардо эту доску и попросить великого художника намалевать на ней что-нибудь этакое удивительное… устрашающее, ежели можно, для вывески его брату на лавочку. Он задумал вместе с братом торговать рыбным товаром, скупая рыбу у других рыбаков.
— Что-нибудь поудивительнее, ваша милость, уж сделайте одолжение… Тогда каждому покупателю занятно будет зайти в лавку поглядеть на чудеса. Глядишь, что-нибудь и купят. Уж за ценой мы не постоим, ваша милость!
Пьеро, смеясь, согласился отвезти щит сыну.
Он не сказал, впрочем, Леонардо, для чего и кому нужен его труд, но просил, как бы для себя, намалевать на доске что-нибудь особенное, пострашнее, "чтобы мурашки по телу забегали"…
Леонардо не стал расспрашивать — мало ли какие фантазии придут в голову старику! А ему было даже занятно "намалевать" страшилище. Как только отец уехал, он принялся за щит. Молодой художник, любивший во всем совершенную отделку, снес щит к токарю, чтобы выровнять и отполировать его. То, что он решил изобразить на щите, было необычайно. Он решил написать на доске нечто такое чудовищное, что превзошло бы ужасом Медузу
[18]. И вот, верный своему правилу точно следовать природе, Леонардо начал собирать всякого рода интересных и разнообразных животных. Попали к нему кузнечик с саранчой, летучая мышь и змея, бабочка и ящерица. Всех этих животных художник расположил таким своеобразным и остроумным способом, что составилось чудовище, выползающее из мрачной расселины скалы. Казалось, дыхание этого чудовища заражало и воспламеняло воздух; черный яд вытекал из его пасти; глаза метали искры; дым клубился, выходя из широко раскрытых ноздрей. Отвратительный смрад разлагающихся животных наполнял маленькую комнату, в которой работал одиноко и упорно Леонардо. Но это не ослабляло его энергии, и он как одержимый придумывал для своего детища все более ужасный образ.
Наконец работа была окончена. Леонардо написал об этом отцу.
В одно утро в мастерскую Леонардо кто-то постучал. Послышался знакомый голос отца:
— Это я, мой Леонардо… Ну и жара!.. Открывай скорее, у меня руки полны — я привез тебе яблок из нашего сада…
— Сейчас, батюшка, одну минуту! Картину надо поставить на возвышение — будет виднее. Сейчас… Вот так… А теперь пожалуйте…
Он распахнул дверь мастерской, придвинув щит ближе к окну. Яркие лучи солнца озарили изображение во всей его поражающей чудовищности.
— Готово! — сказал Леонардо, отходя от картины с выражением торжества и улыбаясь.
Он вполне достиг того, чего хотел. Чудовище смотрело с мольберта, освещенное ослепительными солнечными лучами; казалось, вот-вот оно бросится на человека, чтобы схватить его щупальцами-когтями и задушить в своих объятиях.
Лицо нотариуса покрылось мертвенной бледностью; глаза остановились в ужасе, и, забыв, что это только картина, он начал креститься и пятиться к дверям, а потом изо всей силы пустился бежать по улице. На повороте его остановила чья-то сильная рука, прозвучал молодой, смеющийся голос:
— Остановитесь, батюшка!.. Ведь этак может разорваться сердце… Простите, что я так напугал вас… Но я достиг, чего хотел: картина возбуждает ужас… Успокойтесь же, ведь это только картина, не более… это не живое чудовище… Вернемся же ко мне за щитом — ведь вы же сами заказали мне расписать его.
Мессэр Пьеро вытер пот, обильно катившийся с его лба, и пошел за сыном, чувствуя, как ужас сменился в нем восхищением. Оправдываясь, он проговорился:
— Да ведь не могу же я теперь, увидев, как ты расписал этот щит, отдать его на вывеску для рыбной лавки этого простофили Джованни! Ну ладно, — лукаво улыбнулся нотариус, — так и отдам, как же! Найду для него что-нибудь другое!
И мессэр Пьеро пошел к старьевщику. Там среди хлама нашел он старую вывеску с пылающим сердцем, пронзенным стрелою, привез его в Винчи и послал за рыбаком.
— Видишь ли, Джованни, — сказал он внушительно, отдавая вывеску рыбаку, — сын мой не нашел удобным для вывески круглую форму. Он изобразил сердце рыбака, пронзенное стрелой, и посылает тебе в подарок, в память прежних лет, когда еще жил здесь мальчиком.
Рыбак остался очень доволен этим подарком.
Страшное же чудовище молодого художника было продано нотариусом флорентийским купцам за сто дукатов. Впрочем, купцы не остались в накладе: они получили хорошую прибыль, перепродав картину миланскому герцогу Лодовико Моро втрое дороже. Прибирая в копилку свои сто дукатов, а потом узнав о выгодной сделке купцов, мессэр Пьеро да Винчи весело повторял любимую поговорку: "Кто ничего не имеет, тот и сам ничто!"
VIII. ТРАГЕДИЯ РОДИНЫ
Время шло, отбивая свои часы, дни, недели, месяцы… Леонардо много пережил, много видел, многому научился… Он был свидетелем трагических событий, которыми была богата мятежная Флоренция.
На вилле Кареджи, около Флоренции, жил Лоренцо Медичи, прозванный за роскошь и блеск своей жизни Великолепным. Фамилия Медичи в XV веке господствовала во Флоренции, и Медичи, купцы-банкиры, стали фактически правителями республики. Такого положения они добились не только умелой и ловкой политикой, но и тем также, что заняли видное место в культурном движении своего времени.
Дед Лоренцо, Козимо Старший, приобрел громкую известность тем, что окружил себя учеными и художниками и стал изучать все вновь открытые сочинения античных авторов.
Продолжателем этого культа древности был внук Козимо — Лоренцо Великолепный. Он устроил на своей вилле настоящий храм итальянской поэзии и итальянского искусства. Оба, и дед и внук, ловкие и тонкие дипломаты, утверждали свое господство во Флоренции, оберегая интересы купцов и банкиров, только с той разницей, что Козимо был расчетлив и более или менее скромен в своих личных расходах. Лоренцо же, наоборот, ради пышности своего двора готов был чуть ли не разориться. Он продавал одно поместье за другим, влезал в долги, не брезговал никакими способами приобретения; устраивая блестящие народные празднества, старался привлечь к себе симпатии простых людей.
Лоренцо считал, что двор его должен быть обставлен, как двор просвещенного монарха, с которого будет брать пример вся Европа.
Он не жалел средств на приобретение редких античных статуй и рельефов, на содержание художественных школ, на приглашение в число придворных ученых и художников. Не мог он обойти приглашением и Леонардо да Винчи, получившего уже известность во Флоренции. Но Лоренцо не заметил его исключительного дарования и поставил в число рядовых художников виллы Кареджи, где у него были свои любимцы, занявшие это место вовсе не по праву своего дарования, а нередко благодаря умению угождать гостеприимному покровителю и помогать ему веселиться. При дворе Лоренцо часто устраивались пиры и аллегорические шествия, привлекавшие всех граждан города, бывали пышные рыцарские турниры, в которых участвовали знатные юноши Флоренции. Понятно, что такой художник, как Леонардо, не пропускал подобных зрелищ.
На всю жизнь у него остался в памяти один из таких турниров, в котором участвовал брат Лоренцо, Джулиано Медичи. Слава о ловкости, храбрости, красоте и уме этого Медичи разнеслась далеко за пределы Италии, а Сандро Боттичелли увековечил своею кистью его облик.
Нельзя было забыть это лицо, бледное, с изящными чертами, тонкой, чуть тронувшей губы улыбкой, опущенными глазами под смелым взмахом бровей и застывшим выражением собственного превосходства и легкого презрения…
Леонардо увидел его на турнире, когда еще работал в мастерской Вероккио. Большое поле для состязаний окружено местами для зрителей.
В роскошной ложе, задрапированной шелком и парчою, увитой гирляндами цветов, — семья Медичи, их друзья и придворные. На великолепных конях, в доспехах — два брата Медичи. Под Лоренцо гарцует вороной конь, а на шлеме его развеваются черные перья; он опоясан алым шарфом прекрасной Лукреции Донати, которой поклоняется. А на буланом коне, в серебряной кольчуге, с большими перьями на шлеме и голубой перевязью, — Джулиано. У него голубой шарф Симонетты Каттанео… Мог ли Леонардо тогда предвидеть, какая участь постигнет этого молодого красавца в серебряной кольчуге?
Затерявшись в толпе, Леонардо делал свои зарисовки в записной книжке и прислушивался к тому, что говорили в народе, среди простых ремесленников и солдат.
На большой поляне были приготовлены столы с угощением для народа. Многие восхищались щедростью владельцев Кареджи, но к восторженным голосам примешивались и слова осуждения:
— А налоги? Мы стонем от налогов, а в Кареджи живут и веселятся по-царски…
— Нам заткнули рты эти выскочки… Они покупают голоса, покупают власть над нами… Кто умеет пресмыкаться перед Медичи, тот живет, кто не умеет, тот помирай или беги из Флоренции.
— Флоренция стала только по имени республикой! Над нами нависли цепи тирана!
Слово "тиран", впрочем, звучало еще робко. Лоренцо Медичи устраивал свои дела при помощи разных сомнительных сделок: ухитрился выплатить жалованье флорентийским войскам при помощи своего банка, и это дало ему огромную выгоду.
До Леонардо долетали рассуждения о том, что Лоренцо простирает руку к общественному достоянию, чего никогда не делал Козимо, что он берет суммы для покрытия своих расходов не только из кассы "государственного долга", но даже не побрезговал благотворительным учреждением — "Кассой для девиц", где хранилось приданое бедных девушек Флоренции, капитал, составленный из частных сбережений. А ведь до сих пор этот капитал считался неприкосновенным…
С тяжелым чувством ушел тогда Леонардо с турнира. Потом он услышал и многое другое о Лоренцо. Во Флоренции ходили упорные слухи о том, что тиран вошел в компанию для эксплуатации богатых квасцовых рудников в городе Вольтерра как раз тогда, когда кругом говорили, что этот городок хочет расторгнуть с флорентийской компанией договор, обременительный для его населения… И все эти сомнительные сделки Лоренцо вел в глубокой тайне от граждан, при помощи преданных ему клевретов…
За Лоренцо Великолепным всюду следовала, как тень его блеска, цепь тайных соглашений, подкупов, обирание неимущих, разорение страны и кровь, кровь…
Первая кровь была пролита в 1472 году, когда за кабальным договором на разработку квасцов последовала расправа с недовольными и неслыханное разграбление города Вольтерра, а затем, через шесть лет, в апреле 1478 года, разыгрались события "кровавой обедни"…
Во Флоренции, как и во всех итальянских городах того времени, между знатными фамилиями, желавшими первенствовать, шла упорная борьба. Флорентийская фамилия Пацци давно уже враждовала с Медичи, оспаривая у последних власть и могущество в родном городе. Пацци поддерживал в Риме папа Сикст IV, и под его покровительством Пацци подготовили свой заговор. Во время богослужения, едва священник появился в царских вратах с причастною чашею, в руках приверженцев Пацци засверкали клинки, и первым упал мертвым Джулиано Медичи. Раненый Лоренцо укрылся в ризнице собора Санта-Мария дель Фьоре. Но в последовавшей резне Медичи оказались победителями. Народ в последний раз выступил на их стороне.
— Смерть собакам Пацци! Смерть гнусным заговорщикам! — неслись крики по всем улицам.
Мало кому из Пацци удалось спастись.
— Palle! Palle!
[19] — неистовствовали приверженцы Медичи, выставляя на древках шары — герб Медичи.
Леонардо был очевидцем ужасов этого дня, он видел окровавленные трупы, распростертые на мостовых, вздернутые на виселицы. Он долго не мог забыть повешенных в окне Палаццо Веккио соучастников заговора — архиепископа Сальвиати и Франческо Пацци. В предсмертных судорогах они вцепились друг в друга, да так и застыли.
В наказание папа отлучил Флоренцию от церкви. Лоренцо ответил конфискацией имущества приверженцев Пацци и добился от Синьории осуждения и изгнания многих. Было вынесено около четырехсот смертных приговоров…
*
С этого момента власть Лоренцо Медичи сделалась безгранична. В противовес враждебным действиям папы он решил вступить в тесную дружбу с неаполитанским королем, которому дал понять, что для Неаполя твердая власть Медичи во Флоренции выгоднее, чем зависящее от настроения народных масс республиканское правление. Флоренция заключила тут же с Неаполем дружеское соглашение. Папа пошел на уступки. Авторитет Лоренцо поднялся после этого на необычайную высоту. Он употреблял все усилия, чтобы поддержать свое значение. Блеском двора Медичи старался ослепить сограждан, показав свое могущество и свою благость, доказать, что он необходим Флоренции как мудрый правитель. Он привлекал городскую бедноту беспрестанными празднествами. Способный честолюбец, просвещенный тиран, он умело забирал в свои руки независимость и свободу сограждан. На вилле Кареджи принимали блестящие посольства, к Лоренцо приезжали на поклон не только итальянские вельможи, но князья и герцоги других стран Европы; ему присылали богатые дары из отдаленных стран Востока.
Раз в числе роскошных подарков от султана были присланы редкие животные: жираф и ручной лев. Лоренцо устроил на городской площади Флоренции оригинальную охоту. Дикие кабаны, лошади, быки, собаки, лев и жираф должны были вступить в смертельный бой.
В другой раз на знаменитом маскараде "Торжество Камилла", на который съехалось множество кардиналов, Лоренцо задумал пустить пыль в глаза своим гостям и попросил даже у папы для участия в празднике слона в дополнение к своей коллекции экзотических животных. Но его святейшество вместо слона прислал во Флоренцию двух леопардов и барса, сожалея при этом, что его сан не позволяет ему присутствовать на этом великолепном зрелище…
Среди этих бесконечных забав республика изнемогала, раздираемая политическими интригами, ненасытной борьбой партий и заговорами, душою которых нередко бывал и Лоренцо Великолепный, как и большинство владык, не гнушавшийся никакими средствами для достижения цели и державший соглядатаев и убийц среди своих приближенных.
Леонардо задыхался в душной атмосфере двора Медичи, где приходилось быть орудием прихотей Лоренцо. Он жаждал деятельности более широкой, но понимал, что при тогдашних условиях он не может существовать, не имея сильного покровителя. Леонардо искал могущественного человека, который предоставил бы ему простор для работы в области науки, искусства и техники, в которой он был не менее силен, на благо человечества. Огромные замыслы теснились в его мозгу, и не было выхода задуманному…
До него доходили слухи о безграничном богатстве и власти миланского герцога Лодовико Моро, который будто бы для усиления Милана поощрял разные научные открытия и технические усовершенствования. И Леонардо задумал предложить свои услуги Лодовико Моро. Необходимо только мирно расстаться с правителем Флоренции. Отпустит ли его Лоренцо?
IX. В ПУТЬ!
В тяжелом состоянии духа, все еще не зная, остаться ему или ехать, отправился Леонардо к отцу в Винчи. Он думал, что обстановка родного дома и места, где протекло его детство, подскажут ему решение. Что-то скажет отец, какой даст совет?
Вот он, старый дом, немного покосившаяся от времени ограда сада со знакомою калиткой, и старая каменная скамья, где любила сиживать вечерами бабушка, смотря на последние лучи уходящего солнца, и старый платан, на коре которого он делал ножичком зарубки, стараясь начертить какой-то фантастический профиль…
На каменной скамье — отец. Но до чего он не похож на прежнего сильного, знающего, чего он хочет, представителя закона! Стан его согнулся; он с трудом приподнимается навстречу сыну, и глаза его слезятся.
— А, это ты, мой Леонардо… А я никуда не гожусь и подготовил себе помощника… Пойдем в дом. По случаю твоего приезда я прощу мою Лукрецию… то бишь ту, которая… как бы это сказать… должна стать твоею новой матерью…
Это была новая жена нотариуса, которая после умершей Франчески должна была занять место матери Леонардо.
— Она нехозяйственная, мой Леонардо, — говорил про жену мессэр Пьеро, — вот я и заставил ее убрать сегодня все запасы в шкафах и назначил для этого время, заперев в кладовой…
И, открыв дверцу, закричал, просунув голову в щель:
— Ну, выходи… прощаю тебя по случаю приезда Леонардо… Но в другой раз не жди прощения и помни, что я взял тебя не из семьи бродяг, а из хозяйственной семьи, что ты Лукреция ди Кортеджьяни и должна знать счет каждому ливру своего мужа…
И выпустил ее из кладовки.
Желание посоветоваться с отцом исчезло. Отец постарел и ослабел, его заботы и интересы с каждым днем становятся более и более ничтожными, а он хотел говорить с ним о широком поле деятельности. И эта девочка с заплаканными глазами, в переднике, перепачканная мукою, эта Лукреция ди Кортеджьяни, — что у него общего с нею?
Отец ворчал, придирался к каждому недочету, перебирал непорядки по хозяйству… Прежде он не был так мелочен и не ввязывался в домашнее хозяйство.
Художник оставался у отца недолго. Ему надо торопиться. Отец его не задерживал и почтительно сказал:
— А, да. ведь у тебя, мой Леонардо, теперь важные дела: надо, чтобы ты умел угадывать желания великого нашего правителя… Он любит забавы, и тебе не занимать ни у кого фантазии, как развлечь такого просвещенного правителя, как наш великий Лоренцо… Ты пойдешь в гору; недаром я верен своей поговорке: "Кто ничего не имеет, тот и сам ничто". А ты уже приобрел имя знаменитого художника!
Леонардо решил просить аудиенции у правителя и отправился в Кареджи.
Массивные каменные лестницы вели к жилым покоям, довольно мрачным и неуютным, но с необычным для жилого дома убранством. Из-за колонн на темном фоне стен смотрели античные статуи — бесценные приобретения Лоренцо из произведенных на его средства раскопок; повсюду у дверей стояла стража. Издали слышались звуки лютни и хор, исполнявший знакомую песнь Лоренцо Великолепного:
О, как молодость прекрасна,
Но мгновенна!.. Пой же, смейся,
Счастлив будь, кто счастья хочет,
И на завтра не надейся…
Лоренцо был болен. Невеселые мысли угнетали его. Это был один из тех моментов, когда он начинал сомневаться в своей счастливой звезде и тогда требовал от окружающих, чтобы они выдумывали развлечения, которые заслонили бы от него призраки заговоров, разорения, войны, смерти…
Только что перед этим его забавляли необыкновенный фокусник, танцовщица-мавританка, но они вызвали у владыки только зевоту.
Сменив их, выросли словно из-под земли музыканты. Лоренцо, прищурившись, взглянул на них утомленными близорукими глазами.
И на завтра не надейся… —
прозвенели последние слова легкомысленной песни Лоренцо. Он нетерпеливо махнул рукой и откинулся на расшитые подушки своего резного золоченого кресла, похожего на трон.
— Слышишь, Леонардо, что они поют? На завтра мне нечего надеяться! Они меня заживо отпевают… Довольно…
— Но ведь это слова песни славного поэта Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным; они только повторяют эти беспечные слова…
— Не следует их повторять! Можно найти другие! — резко оборвал Лоренцо. — У тебя, — обратился он к Леонардо, — есть чудесная серебряная лютня в виде лошадиной головы, и ты поешь под рокот ее струн, как пел когда-то Орфей
[20], но сегодня я не хотел бы слушать даже твое пение. Все они, эти забавники, глупы, глупее моего шута. Я выслушаю, что ты скажешь, а потом мне предстоит беседа с кем-нибудь из моих ученых друзей или же я буду читать "Божественную комедию"… Ну, я слушаю тебя.
При первых же словах Лоренцо хор исчез. Остался один только шут, кривлявшийся на подушке у кресла своего повелителя, да застывший круг придворных.
Леонардо поклонился и спокойно проговорил:
— Я пришел просить вас, досточтимый синьор, отпустить меня.
Лоренцо нахмурился:
— Куда? Надолго?
— Я прошу разрешить мне покинуть Флоренцию и уехать в Милан.
Наступило молчание. Потом медленно прозвучал насмешливый голос:
— Не чиню тебе препятствий. Может быть, миланский герцог Лодовико Сфорца вдохновит тебя создать что-либо заме-нательное, чем ты не мог порадовать нас здесь, в моем доме… Я велю дать тебе отпускную и денег на дорогу. Кстати, ты передашь поклон моему брату, герцогу Лодовико, и, если тебе там не будет сидеться, вернешься во Флоренцию с новыми замыслами.
Этой отпускной Лоренцо Медичи ясно показывал, что не слишком дорожит художником, но, верный своей щедрости, широким жестом дает ему достаточную сумму в виде прогонных. А может быть, в голове его шевельнулась и другая мысль — отпустить в Милан в залог дружбы знаменитого художника, чтобы рассеять малейшую тень вражды? Лоренцо Медичи был лукавым и расчетливым политиком.
Леонардо готовился к отъезду в своей мастерской, на вилле Кареджи. Он писал в Милан письмо, которое должно было прийти перед его приездом:
"Приняв во внимание и рассмотрев опыты всех тех, которые величают себя учителями в искусстве изобретать военные снаряды, и найдя, что их снаряды не отличаются от общеупотребительных, я, без всякого желания унизить кого бы то ни было, постараюсь указать вашей светлости некоторые принадлежащие мне секреты, вкратце переименовав их.
Владею способами постройки легчайших и крепких мостов, которые можно без всякого труда переносить и при помощи которых можно преследовать неприятеля, а иногда бежать от него, и другие еще, стойкие и неповреждаемые огнем и сражением, легко и удобно разводимые и устанавливаемые…"
Он писал долго, перечисляя познания, касающиеся военного дела, говорил, что умеет делать пушки, мортиры, умеет копать рвы и подземные ходы без малейшего шума, умеет строить корабли и сооружать снаряды, годные для морского сражения. Потом он приступил к перечислению своих мирных занятий:
"Во времена мира считаю себя способным никому не уступить как архитектор в проектировании зданий, и общественных и частных, и в проведении воды из одного места в другое. Также буду я исполнять скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Сходно и в живописи — все, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим, кто бы он ни был. Смогу приступить к работе над бронзовой конной статуей, которая будет бессмертной славой и вечной честью блаженной памяти отца вашего и славного дома.
А если что-либо из вышеназванного показалось бы кому невозможным и невыполнимым, выражаю полную готовность сделать опыт в парке вашем или в месте, какое угодно будет вашей светлости, коей и вверяю себя всенижайше".
Это письмо не являлось письмом хвастливого человека, который не может выполнить то, что обещает. Леонардо хорошо знал свои силы, а длинный перечень его талантов как военного инженера должен был помочь художнику поступить на службу к герцогу Миланскому: разносторонность талантов и знаний должна была привлечь Лодовико Сфорца.
Отъезд был решен. Леонардо ждал только ответа из Милана. Что побуждало его переменить службу у одного тирана на службу у другого?
Только сознание большей силы второго и горькое убеждение, что без покровительства сильных мира человеку его дарований нельзя обойтись. Думая о науке и технике, в которых он был так силен, Леонардо считал, что проявить себя в этих областях для него не менее важно, чем в области искусства. Гений его был одинаково велик как в первом, так и в последнем. Во Флоренции же он чувствовал себя лишним: Лоренцо Медичи не дорожил им как художником, отдавая предпочтение другим живописцам и скульпторам, наука же и технические познания его нисколько не привлекали.
Иное дело герцог Миланский, известный под именем Лодовико Моро. Уж этот, казалось Леонардо, предоставит ему все возможности плодотворно работать. Кто же такой был этот государь? Он происходил из плебейского рода Сфорца. Родоначальники его еще в XIV веке были простыми землепашцами. Благодаря удаче и ловкости они мало-помалу достигли высших степеней почета и власти, и один из них, Франческо Сфорца, конную статую которого собирался изваять Леонардо, силою и интригами завладел герцогством после смерти своего тестя, герцога Миланского.
Франческо был умен, отважен. Многочисленные победы покорили ему сердца солдат. И эта любовь вместе с интригами отдала ему в руки и герцогство Миланское. Толпа на плечах несла из собора родоначальника своих будущих тиранов.
Франческо умер, и власть должна была перейти к развращенному до мозга костей, жестокому его сыну, Галеаццо-Мариа, слава о безумных выходках которого разнеслась далеко. Этот тиран по малейшему подозрению приговаривал к смертной казни самых близких ему людей; он не щадил человеческих сил и требовал от служивших ему людей невозможного. Так, в одну ночь заставлял расписывать фресками залы своего дворца. Любимым его зрелищем была выдуманная им же самим казнь: осужденных зарывали по шею в землю и кормили их, насильно вливая в рот нечистоты, пока приговоренные к смерти не испускали дух.
Три смелых юноши решили избавить родину от угнетателя и умертвили его в церкви. За это они поплатились мучительными пытками и мучительной, медленной смертью…
После Галеаццо-Мариа престол должен был перейти к его старшему сыну, Джан-Галеаццо. Но второй сын Франческо, Лодовико Моро, решил не уступать Милан без борьбы племяннику. Сначала, когда он сделал попытку отнять у Джан-Галеаццо власть, он потерпел неудачу и был изгнан из герцогства, но скоро приобрел себе достаточно сильных приверженцев, чтобы вернуться на родину в роли регента, правителя Милана. Он не отнял у племянника прав престолонаследия, но сделал из него послушное орудие своих замыслов.
История раздоров, смут и низких заговоров повторялась решительно во всех частях Италии. Правители самостоятельных маленьких государств полуострова, связанных между собою общим языком, а часто и одинаковыми обычаями, смотрели друг на друга, как на заклятых врагов, и в междоусобных войнах постоянно призывали на помощь иноземцев. Дело кончалось нередко тем, что иноземцы грабили не только противников, но и союзников. Никто из князей и тиранов не думал о единстве ослабленной страны. Изнеженность и жажда роскоши охватывали Италию. Папы не отставали от простых смертных и не соблюдали условной святости своего сана. Покупалось всё: слава, почести, право на папскую тиару
[21]. Именем бога папские индульгенции, продаваемые монахами, отпускали самые страшные грехи, даже еще только готовящиеся убийства. В ходу было циничное присловие: "Милосердный бог не желает смерти грешников, — пусть они платят и живут".
Лодовико Моро обладал всеми пороками своего века и своей страны: двоедушием, предательством, изнеженностью, властолюбием, жестокостью. Для достижения своих личных целей он не останавливался ни перед каким преступлением. Но таковы были и другие тираны, его соседи, как, например, поэт, философ, покровитель художников, восстановитель античного искусства — просвещенный флорентийский банкир и правитель Лоренцо Великолепный. Таковы были властелины, от которых зависела судьба художников и ученых. Не все ли равно, служить Лоренцо или Лодовико, лишь бы дали работать. Один тиран стоит другого — весь вопрос только, на службе у кого можно достигнуть больших результатов.
"Государь, — говорил Моро, — должен быть умен. Он не смеет бездействовать, он должен неустанно заботиться о благе своих подданных. Слава — это его святыня. Государь должен стремиться к великим делам".
И вот, стремясь сделать Милан средоточием умственной жизни Италии, этот правитель окружал себя учеными, инженерами, художниками. Университет в принадлежащем Милану городе Павии стал при Моро одним из главных центров итальянской образованности. Поэты прославляли величие Моро. Талантливые музыканты услаждали его слух, и в эти минуты Лодовико даже становился доступен благородным чувствам. Этот двойственный человек, проникнутый искренней любовью к искусствам, таил в душе жестокого и алчного зверя.
Глубокий ум Леонардо хорошо видел эти две души, когда задумал отдать свою судьбу в руки Лодовико Моро. Не холодный расчет руководил им, не честолюбие. Ему казалось, что нельзя найти в Италии лучшего властелина, который в жажде славы так пылко интересовался бы науками и техникой. Леонардо прежде всего хотел деятельности — он знал, что сделается необходимым для Моро.


Часть вторая
МИЛАН
I. СЕРЕБРЯНАЯ ЛЮТНЯ
Милан — ключ к Италии для Франции и Германии; Милан привлекает к себе выделкой металлов; Милан — сторож Италии, помеха для европейских соседей, простирающих руки к Италии. Милан — поле для деятельности Леонардо, жаждавшего творчества в научной области.
Настал вечер, в который Леонардо должен был явиться ко Двору Лодовико Моро на состязание музыкантов и импровизаторов. Слава о его превосходстве в этом искусстве достигла ушей герцога, а о звучности удивительной лютни, сделанной им самим, Лодовико прожужжали все уши досужие придворные. Состязанием Лодовико собирался щегольнуть перед французским посольством, и уже заранее было известно, что славный флорентийский художник Леонардо да Винчи, изящный и прекрасный собою, будет петь и играть на серебряной лютне странной формы, отлитой им самим в виде лошадиной головы. Музыканты толковали между собой, что эта форма придает особенную мелодичность звукам.
Леонардо направлялся своей легкой походкой по узким улицам к герцогскому замку, и скоро впереди вырисовались неприступные зубчатые башни, к которым вел первый подъемный мост. Мрачно было это жилище повелителя Милана, рассчитанное на то, чтобы быть прочным убежищем, защитой от врагов, так часто делавших набеги на соседние владения. На массивных стенах и башнях день и ночь стояли дозорные. Наполненные водою глубокие рвы с подъемными мостами окружали замок кольцом. На этот раз все мосты были спущены; на замке развевались веселые пестрые флаги среди цветочных гирлянд и тысяч огней. В купах пиний, кипарисов и померанцевых деревьев, окружающих замок, были скрыты праздничные сюрпризы, которыми герцог хотел удивить гостей: статуй, фонтаны и фейерверки в рамке цветочных арок и беседок.
Художник прошел по второму мосту и очутился на внутренней площади, Марсовом поле, обыкновенно молчаливом и пустынном. Но теперь площадь была битком набита народом; слышались шутки, смех, радостные восклицания. Поправив перевязь затейливой лютни, Леонардо смешался с толпой, подвигавшейся к замку.
Он ловил на себе любопытные взгляды; несколько дам позади него перешептывались, узнав в нем по покрою его длинного плаща и по лютне приезжего флорентийца, о талантах которого и о сегодняшнем музыкальном выступлении говорили в Милане. Черный бархатный костюм еще резче оттенял спокойную красоту его лица с густой русой бородою и золотистыми мягкими кудрями по плечам, выбивавшимися из-под черного берета со скромной серебряной пряжкой.
Леонардо легко взбежал по ступеням лестницы и встретил на площадке дурачка Диоду с лицом плута и прихлебателя. С шутовской фамильярностью он схватил художника за рукав и пронзительно закричал, потрясая бубенчиками колпака:
— Вот и ты, приятель! Сегодня мы с тобой разопьем кубок вина за дружбу! Мы будем вместе развлекать его светлость: ты — вот этой бренчалкой, своей лошадью, а я — кувырканьем, — каждый как умеет! Здесь все мы развлекаем великого герцога кто во что горазд: поэты — стихами, певцы — песнями, художники — картинами и эмблемами его славы для площадей, а шуты — прыжками да смехом, а порою и метким словцом. Кто лучше забавляет, тот слаще ест!
Он залился громким, нахальным смехом, ударяя хлопушкой с бубенчиками по спинам проходивших гостей. И, подпрыгивая и мельтеша своим пестрым костюмом, он кричал:
— Дураку все позволено, все можно!
Первое впечатление у Леонардо было тяжелое, хотя то, что он видел, было обычным при дворах вельмож. И все же больно ударила его мысль, что и здесь, очевидно, ему готовы отвести роль забавника наряду с шутом… Хорошее начало… Но ни единым жестом Леонардо не выказал своего отвращения и смолчал даже на новую грубую шутку Диоды, теребившего длинные уши своего колпака:
— Ха-ха! У шута по форме ослиные уши, куманек, но зато этому ослу Диоде не нужно, как любому из вельмож, просить докладывать о себе. Диода может входить в спальню герцога когда вздумает! А герцог зорок, он все видит, не то что флорентийские купцы, безглазые Медичи, которые не могли отличить бриллианта Леонардо от простой стекляшки и отпустили его в Милан! Знаем мы, все Медичи слепы!
Он грубо польстил молчавшему Леонардо, назвав его бриллиантом и упомянув о природной близорукости всей фамилии Медичи.
Художник бросил ему пренебрежительно:
— Ты притворяешься глупым, чтобы скрыть плутовство. Но мой совет — не быть таким близоруким и не примерять каждому свой колпак с ослиными ушами.
Кругом раздался смех. Леонардо спокойно пошел вперед, высокий, стройный, заметный в своей длинной одежде, сшитой по флорентийской моде, среди миланцев в коротких плащах.
Большая зала для увеселений расписана фресками с аллегорическим содержанием и фигурками древних богов Олимпа. Позолоченные потолки украшены гирляндами живых цветов, аромат которых смешивается с пряным ароматом, поднимающимся из высоких курильниц. У стен — редкие растения, лари с драгоценностями, отделанные резною слоновою костью, чеканным серебром и золотом, резные стулья с шелковыми подушками, статуи, мозаичные столы, на стенах — мраморные доски, портреты в дорогих рамах. Все говорит о любви хозяина к роскоши.
Зала для увеселений полна гостей. Бархат плащей и камзолов, перья и аграфы
[22] на шляпах — все это сливается с блеском позолоты и пестротою гирлянд.
Из толпы выступил плешивый горбатый старичок с длинным красным носом и слезящимися глазами; на нем потертый плащ и шляпа с длинным пером.
— Мой почтительнейший привет знаменитому мессэру Леонардо да Винчи, — сказал он с подобострастной улыбкой, весь извиваясь перед художником, — красе и гордости Флоренции… от Бернардо Беллинчони, придворного стихотворца и импровизатора славнейшего дома миланских герцогов Сфорца, к вашим услугам. Счел приятным долгом представиться и заслужить расположение вашей милости.
На губах Леонардо скользнула улыбка. А ведь этот старик как раз под стать шуту с ослиными ушами! И, изысканно поклонившись, он отвечал в тон Беллинчони:
— К вашим услугам, мессэр Беллинчони.
Художник в точности скопировал церемонные и жеманные движения стихотворца.
Вокруг засмеялись, и поэт постарался скрыться в толпе.
Леонардо подвигался вперед под шум разговора, бряцанье шпор и шпаг и дробную болтовню буффоне — шутов и уродов.
Перед Леонардо возвышалась сцена — площадка-подмостки, покрытая шелком, без всякого намека на занавес, с местами для герцогской семьи, убранными цветами, коврами и восточными тканями.
Толпа расступилась, пропуская юношу с мечтательным взглядом и хрупкой, недоразвившейся фигурой мальчика; в лице его не было ни кровинки. За ним твердым шагом шел роскошно одетый вельможа, которого Леонардо уже видел на улице в религиозной процессии и знал, что это и есть Лодовико Моро. Лицо надменное, жестокое; взгляд холодный, презрительный. А тот, полуюноша-полуребенок, — настоящий наследник трона, Джан-Галеаццо Сфорца…
Герцогская семья заняла места. Раздались звуки дудки и органчика, и на возвышении появился человек в ярко-красном костюме. Он начал скучнейший и длиннейший пролог
[23], впрочем изобиловавший всеми тонкостями и изяществом придворного красноречия. Моро благосклонно кивал головою, а Джан-Галеаццо, видимо, скучал, слыша давно всем известные и набившие оскомину восхваления рода Сфорца, особенно величия его дяди, и смотрел на кривляния шута Диоды, у ног Лодовико копировавшего декламатора.
На эстраде появились актеры, разодетые в аллегорические костюмы. Тут были и златокудрый Аполлон, и крылатый Меркурий, и стройная Диана, и лукавый Амур, и нежная Психея
[24].
Перед глазами Леонардо была декорация синего неба с перистыми кронами пальм, написанная лучшими художниками. Начались морески — представление, сопровождаемое медлительными, плавными танцами богов и богинь. Между актами давалась музыкальная интермедия
[25] на дудках, — волынках, рожках, виолах, лютнях и маленьком органе.
Лодовико Моро всей своей фигурой выражал самодовольство и гордость хозяина роскошного праздника, а его племянник не переставал блаженно улыбаться. По шепоту придворных сплетников, по коротким замечаниям, сказанным под сурдинку, по перемигиваниям Леонардо понял, что дядя с племянником не в ладах и выставляет Джан-Галеаццо слабоумным, стремясь из регента превратиться в неограниченного монарха.
Знатные французские рыцари, бывшие в Милане гостями, смеялись от души над веселым балетом с акробатическими фокусами жонглеров, появлявшихся среди танцовщиц.
Кончились морески, и началось состязание музыкантов. Некоторые из них давно уже прославились как искусные певцы и стихотворцы и состояли даже на жалованье при герцогском дворе. В группе разряженных импровизаторов Леонардо заметно выделялся благородной простотой скромного флорентийского костюма и своеобразной серебряной — лютней. Со спокойным достоинством ждал он своей очереди.
Царицей праздника была красавица Цецилия Галлерани. Она сидела на возвышении, как на троне, под золотым балдахином, и два пажа обмахивали ее белыми страусовыми опахалами. Она сияла бриллиантовой диадемой и самовлюбленно-благосклонной улыбкой.
Певцы пели о славе, о любви к родине, о подвигах в честь нее, о величии Лодовико Моро и рода Сфорца, о молодости Джан-Галеаццо, о красоте и добродетели моны Цецилии.
Но вот выступает вперед и Леонардо. Среди воцарившейся тишины мелодично прозвучал первый аккорд лютни. Струны прозвенели жалобно и нежно. Леонардо не воспевал ни небесной красоты Цецилии, ни доблестей Моро, ни молодости Джан-Галеаццо. Он говорил о вечной, нетленной красоте и могуществе Вселенной, о силе человеческого духа и творческой мысли. Песнь его звучала страстно, и он видел, как затуманилось грустью лицо Цецилии, как глубоко задумался Моро, а на глазах у Джан-Галеаццо выступили слезы. Отовсюду на него были устремлены растроганные и удивленные взгляды…
Когда певец кончил, о нем дружно заговорили, как о славном победителе в состязаниях. Собравшихся привлекала не одна песня и прекрасный голос, но и прекрасное лицо, и скромная, благородная одежда, и серебряная лютня необычайной формы.
По знаку Цецилии певец приблизился и опустился на одно колено перед ее троном. Цецилия сняла с плеч драгоценный шарф, затканный золотом и серебром, окутала им Леонардо и, взяв от церемониймейстера, секретаря герцога Лодовико, Бартоломео Калько, лавровый венок, возложила его на голову победителя.
Леонардо почтительно приложился к ее руке.
Улыбаясь, Цецилия сказала, что избирает Леонардо своим рыцарем. Это считалось большой честью при дворе, и флорентийский художник заметил, как лица его соперников по музыкальному состязанию сделались завистливы и злобны.
Моро ласково подозвал к себе Леонардо. Он сразу понял, какое перед ним богатое и разностороннее дарование, и решил всецело завладеть им.
Глаза флорентийца встретились с глазами Джан-Галеаццо, и в них он прочел восторг, робкий и молчаливый. Юноша прошептал, наклонившись к певцу:
— О мессэр Леонардо… мне хотелось бы вас слышать часто… мне…
И осекся, встретив ледяной взгляд дяди.
Праздник кончился пиром, танцами и играми. За столом подавали артишоки, присланные от самого султана, и бесконечное число затейливо приготовленных блюд с разными пряностями, заморскую зелень и фрукты, фалернское и кипрское вино. Но что было всего замечательнее — это паштет, обложенный овощами и изображавший Рим с его Ватиканом, замком святого Ангела и Колизеем, даже катакомбами. В замке святого Ангела играла заунывная музыка, точно при вечернем обходе стражи этой тюрьмы. В игрушечном Ватикане гулко били часы и раздавались звуки органа.
За столом много ели, много пили, читались придуманные на этот случай стихи, а шуты Янакки и Диода кривлялись, соревнуясь в своем умении смешить людей. Моро хохотал во все горло, обнаруживая пристрастие к грубым и плоским шуткам; за ним смеялись французские рыцари и весь двор. Про Джан-Галеаццо, остававшимся безучастным, говорили:
— Больной… Ах, очень, очень больной…
А после пира танцевали в саду, ярко иллюминированном, под нежную музыку и шум фонтанов. Потом началась распространенная в Италии игра в шары, в которой особенно ярко проявлялись сила и ловкость молодежи. Потом играли в любимую игру миланских дам — "слепую муху" (жмурки). И во всех состязаниях, где требовались сила и ловкость, первым оказывался флорентийский художник.
Поздно кончился праздник. Уже побледнели звезды; на востоке прорезала небо кроваво-красная полоса утренней зари.
На прощание герцог Лодовико Моро сказал Леонардо:
— Завтра ты явишься ко мне.
На другое утро, когда художник в назначенный час явился в замок, Лодовико был необычайно важен, как будто хотел подавить своим величием. Леонардо чуть заметно улыбнулся, увидев драгоценности, нацепленные на монархе, и герцог вспыхнул, уловив насмешливый огонек в его глазах. Инстинктивно он чувствовал непобедимую душевную силу флорентийца.
— Ты предлагал мне поставить конную статую моего отца, — начал регент. — Эта мысль мне нравится. Но только сумеешь ли ты сделать нечто грандиозное, величественное, что могло бы действительно прославить великого Франческо Сфорца?
— Я уверен, ваша светлость, — спокойно отвечал Леонардо, — но для этого мне необходимы материал, помещение и помощники, а следовательно, прежде всего нужны деньги.
— За деньгами дело не станет, если надо прославить фамилию Сфорца, — произнес высокомерно Моро.
В этих словах сказалась вся тщеславная натура выскочки, старавшегося во что бы то ни стало прослыть великим.
— Я представлю вашей светлости смету расходов и попрошу поскорее отвести мне помещение под мастерскую, — сказал Леонардо, откланиваясь.
II. ГЕРЦОГСКИЕ ПРИЧУДЫ
Моро приказал отвести флорентийскому художнику землю в предместье Милана, между крепостью и монастырем Санта-Марии делле Грацие. Это было обширное поле, окруженное огородами; с одной стороны его возвышались стройные стены обители, сооружение молодого гениального архитектора Браманте, состоявшего одно время на службе при миланском дворе. Кирпичное розовое здание монастырского собора с широким куполом, с лепными украшениями из обожженной глины было созданием вдохновенной фантазии, и каждый раз, проходя мимо него, Леонардо останавливался, любуясь красотой и гармонией этого сооружения.
Здесь, в предместье Верчельских ворот, Леонардо построил довольно обширный дом. Он должен был вместить мастерскую, помещение для самого художника и другое — для его учеников и помощников. В глубине сада с вечно запертой калиткой было выстроено маленькое здание — лаборатория Леонардо для научных опытов. Отдаваясь искусству, он не забывал уроков Тосканелли и других ученых Флоренции; его не переставали увлекать математика и химия, анатомия, ботаника и геология. Не забывая изобретений в области техники, он создавал новые химические соединения и делал смелые выводы, и в наши дни ценные для науки.
Но мастерская в предместье Милана оказалась мала для сооружения грандиозной статуи Франческо Сфорца, прозванной самим Леонардо "великим колоссом". Она должна была иметь восемь метров в высоту, и на отливку ее требовалось сто тысяч фунтов бронзы. Моро отвел для скульптурной мастерской помещение в самом замке.
Началась спешная работа. Художник целыми днями чертил углем бесчисленные наброски конной статуи.
У него было два варианта, между которыми он долго колебался: на одном — спокойно выступающая лошадь, несущая на себе гордого победителя; на другом — вздыбленный конь над поверженным врагом. Он выбрал в конце концов спокойно выступающего всадника.
Сохранившиеся наброски приоткрывают нам искания Леонардо. Здесь и галопирующий конь, и стоящий неподвижно, в спокойной позе. Здесь целый ряд зарисовок с самой тщательной отделкой деталей, зарисовки отдельных частей лошади, ее крупа, ног, морды в различных смелых поворотах.
Он работал над набросками для будущего памятника с неутомимою настойчивостью, и в них все совершеннее, все глубже вырисовывался образ. Месяцы проходили незаметно; художник чувствовал, что работа затянется не на один год, но это могло пугать только нетерпеливого заказчика, а не творца "великого колосса", — он должен достигнуть возможного совершенства в передаче движения.
Памятник изображал коня и человека, и образ человека был очень сложен. Ведь это Сфорца — грубый солдат без совести и чести, готовый продать лучшего друга; Сфорца — хитрый, как лиса, достигший власти отвагою и злодеяниями, авантюрист и осторожный правитель, тиран, надевавший когда надо личину благодетеля страны и народа. Эта двойственность натуры увлекла художника.
Леонардо постигал всю силу талантливого разбойника, и в душе его родились одновременно два образа Франческо Сфорца: один — величественный полководец, спокойно проезжающий с сознанием собственной силы после славной победы под восторженные крики солдат, и это был первый проект памятника.
Другой проект — более смелый, и Леонардо, первый наездник Италии, с особенной любовью останавливался на нем. Франческо должен был не спокойно гарцевать на коне, а нестись в самый центр сражения. Рассвирепевший конь и разгоряченный битвою всадник — как бы одно существо — летят вперед со страшной стремительностью. Лицо Сфорца — огонь; он весь — порыв, как и его пламенный конь. Вперед, все вперед, попирая поверженного врага, уносясь навстречу новой битве!
Нужно было самому обладать исполинской выдержкой, обладать исключительным философским спокойствием и ненарушимым хладнокровием, чтобы выносить беспрерывные требования Лодовико Моро. Часто Леонардо казалось, что было бы лучше, если бы этот миланский повелитель поменьше проявлял к нему свою благосклонность. Казалось, тиран не может без него жить — флорентийский художник был ему необходим каждую минуту.
Кроме регента, его терзал герцог Джан-Галеаццо. Больной и жалкий в своем бессилии, постоянно пренебрегаемый всесильным дядей, он хватался за Леонардо, как за единственное спасение:
— О мессэре, вы для меня — как свет во мраке… Вы один постигаете тайны природы, смысл жизни и тайны человеческой души… Поддержите меня… научите, как жить, как быть отважным и решительным… Я боюсь дяди, боюсь своих слуг, друзей, кажущихся мне затаенными врагами, я всюду вижу измену и стремление меня извести…
И Джан-Галеаццо, чтобы забыться и отвести душу, приходил к Леонардо, смотрел его работы, расспрашивал о планах, интересовался, как устроил свое жилище флорентийский мастер.
Нельзя ни на миг быть уверенным, что удастся без помехи работать. Совершенно неожиданно и в любой час являлся к Леонардо посланный от Лодовико Моро:
— Извольте следовать за мною к его светлости, мессэре… Опять "его светлость"!
Художник с досадою бросал начатое дело и шел во внутренние покои дворца. Ну конечно, опять разговоры о празднике… Ни одно празднество не могло обойтись без флорентийского художника. Леонардо должен был придумывать костюмы для моресок, балета и карнавального торжества, расписывать декорации и триумфальные арки, сочинять канцоны
[26] и услаждать герцогский слух игрой на лютне. Лодовико находил его ум оригинальным, его беседы — интересными. Никто не мог заменить ему Леонардо. И художник стал, помимо своей воли, необходимым герцогу…
Был мрачный зимний вечер. За окном рабочей комнаты Леонардо бушевала буря. Уныло шумели деревья замкового сада. Регент прислал за Леонардо, несмотря на поздний час. Художник застал его в одиночестве. У двери дремал дежурный паж… Лодовико сидел, опустив голову на руки. Он поднял голову, услышав шаги, и устало сказал:
— А, это ты… а я приготовился к отпору…
И показал на кинжал. Лицо его было страшно: глаза налились кровью, он весь дрожал. Перед ним стоял золотой рог с вином, но он, очевидно, не притронулся к вину. Пламя светильника озаряло его искаженное страхом лицо, и, несмотря на выражение слабости, Леонардо уловил в этом лице сходство с тем Франческо Сфорца, которого знал по портрету.
Дрожа как в лихорадке, регент сказал:
— Ветер стучит в окна, как человек… зловещий стук… Так было, когда умирал мой отец, великий герцог… Ты не находишь, что здесь холодно? Или я болен? Где твоя чудесная лошадиная голова, серебряная, с серебристым звоном? Принес?.. Постой, я не могу слушать даже ее… Кругом меня негодяи, которые хотят сбросить меня, сильного и великого правителя, унаследовавшего мудрость отца, ради этого труса, дряблого, чуть живого мальчишки, а тот исподтишка старается умертвить меня… Тебе это не удастся, слабоумный наследник герцогского трона!.. Я родился, когда Франческо Сфорца был уже герцогом Миланским, а отец этого мальчишки родился, когда Сфорца был еще простым солдатом. Света, еще света — здесь слишком темно, а по углам прячутся крысы с острыми зубами.
С ковра у дверей вскочил задремавший паж и внес еще один канделябр.
— Иди, — коротко приказал Моро, — и хорошо стереги вход в покои своего государя…
Когда паж исчез, он наклонился к Леонардо и зашептал:
— Слуга, который мне принес вино, мог влить в него яд по приказу мальчишки… У него дрожали руки, когда он принес мне этот рог. Погоди, я сейчас проверю…
Он хлопнул в ладоши. Прибежал паж.
— Пусть мне принесут еще бокал старого кипрского вина, да скорее! А ты смотри на его лицо, мессэр Леонардо.
Явился старый слуга с кубком вина. Лодовико хрипло заговорил:
— Признайся, это вино из погребов молодого герцога, моего племянника? Не от него? Но почему ты так бледен? Тебе приказали молчать? Признайся, или я повешу тебя перед окнами твоего светлейшего господина, герцога Джан-Галеаццо, моего племянника…
Несчастный смотрел с ужасом не мигая. Леонардо выступил вперед.
— Ваша светлость, — сказал он спокойно, — я ручаюсь, что это то вино, которого вы хотели.
— Что ты думаешь этим сказать? — прошептал Моро, нахмурившись.
— Это вино дает здоровье, ваша светлость.
— Чем ты докажешь?
— Я отолью немного в другой кубок и выпью. Отопью и то, что принесено раньше.
Он взял со стола золотой рог, налил из него в пустой кубок, выпил, потом налил нового и вновь отпил глоток.
Слуга посмотрел на художника благодарными глазами.
— Иди… — приказал регент.
Лодовико выпил вино, но это не ободрило его. Мрачное выражение не исчезло с его лица.
— Не хочет ли ваша светлость, чтобы я сыграл на моей лютне?
— Играй!
Леонардо провел рукой по струнам серебряной лютни, и лошадиная голова запела, зазвенела нежными переливами, напоминающими рокот ручья. И жестокое выражение мало-помалу стало исчезать с лица владыки Милана; оно сменилось выражением глубокого страдания.
После таких тяжелых сцен в покоях регента Леонардо всегда тянуло к юмору.
"Изображая смешное, — говорил он, — надо заставить смеяться даже мертвецов".
В Милане, как и во Флоренции, Леонардо не оставлял своей привычки бродить по улицам и площадям с записной книжкой и зарисовывать интересные лица прохожих. Иной раз, зарисовав на ходу особенно интересное лицо или фигуру, он этим не ограничивался. Итальянцы народ общительный, и Леонардо пользовался этой особенностью своего народа. Приподняв шляпу, он любезно говорил какому-нибудь незнакомцу:
— Синьор, вероятно, не обидится, если скромный живописец пригласит его распить стаканчик доброго вина вон там, в ближней таверне? Мне симпатична ваша наружность: она напоминает моего лучшего друга, уехавшего в далекое путешествие…
Незнакомец принимал приглашение, и художник за стаканом вина в ближайшем кабачке вытаскивал из-за пояса записную книжку и делал в ней наброски.
Иногда такая охота была особенно удачна. На рынке между торговцами попадались любопытные лица. Стоило поглядеть на них, когда, торгуясь, они расхваливали свой товар или ссорились с покупателями! Следя за этими сценками, Леонардо думал, что интересно было бы вызвать на эти подвижные лица смех, неудержимый смех, граничащий с безумием.
Он задерживался возле крестьянских возов с товаром и начинал рассказывать небылицы, одну забавнее другой, и видел, как наивные слушатели корчатся от смеха. Вокруг собиралась толпа; смех разрастался по мере того, как разыгрывалась фантазия рассказчика, и записная книжка наполнялась хохочущими лицами.
Но художнику нужно было не только интересное уродство и яркое выражение смеха, но и выражение страха. Посреди рассказа он вдруг замолкал, вытягивая шею, и глаза его выражали смертельный ужас. Слушатели, не спускавшие с художника взгляда, мгновенно переставали смеяться; лица их вытягивались, и ужас передавался им моментально.
— Синьор, — говорил шепотом Леонардо стоявшему возле него и только что от души хохотавшему торговцу, — вы взгляните, что я снял с вашей спины…
И он что-то необычайное клал на воз, на большую светло-желтую тыкву. Торговец отскакивал в ужасе. Что это такое ползет по тыкве? Он в жизни не видел ничего подобного… Это не может быть порождением земли — это исчадие ада, рожденное ведьмою и дьяволом, послано ему за грехи, чтобы опоганить его товар и наслать страшные болезни, верно, за то, что он на прошлой неделе надул подслеповатую старуху, отпуская ей провизию… Теперь надо звать священника и кропить святой водой и воз и себя, да и жилище в деревне, пожалуй…
На самом деле страшилище было сделано Леонардо из воска и наполнено ртутью, которая приводила фантастическое существо в движение.
Подобные фигуры "исчадий ада" художник приносил и в таверну, куда зазывал случайных уличных знакомых.
— Смотрите, что это за ужас! — вскрикивал он, указывая на стол, где шевелилось что-то огромное, похожее на гигантского червя или змею.
То были просто птичьи внутренности, наполненные воздухом. Они принимали чудовищные размеры и, казалось, готовы были заполнить всю комнату, выползая из-под стола. Простоватые зрители, во главе с трактирщиком, в ужасе разбегались, пятились к дверям и наконец пускались вон без оглядки.
А записная книжка наполнялась зарисовками лиц, искаженных страхом и отчаянием.
III. В РАБОТЕ
Полдень. В предместье Верчельских ворот, на четырехугольном, залитом солнцем дворе Леонардо тишина. Ее нарушает только плеск воды фонтана да несносное жужжание шмеля, залетевшего из сада. Чей-то свежий юношеский голос лениво тянет слова страстной песни:
Скажи мне, женщина ль она, богиня или солнце?
Ты увидишь ее, гордую, милую…
И зевок, громкий, ленивый зевок:
— Эх, когда-то маэстро освободится из своей лаборатории? Кто там таскает воду для него? Значит, долго еще его ждать. А придет — за ним явится посланный от герцога… Это ты, Чезаре? Эх, уже удрал…
Из-за забора сада, примыкавшего ко двору, показалось женственно-миловидное лицо, окруженное спутанными красновато-золотистыми кудрями, и любимый ученик Леонардо, Джакомо Капротис, прозванный "Салаино", появился верхом на изгороди. Он был самым молодым из его учеников. Леонардо взял его с улицы, в Милане, вместе с другим Джакомо, маленьким мальчиком-сиротой; оба не помнили своих родителей.
— Никого нет. Слава богу, никто не тащит ведер в лабораторию для опытов… "Скажи мне, женщина ль она…" Ну до чего сегодня жарко и какая лень! А маэстро готов хоть к черту в пасть для своих опытов и парит, парит в печи свои котлы и тигли…
Он говорил громко, сам с собой. Ему наскучила тишина. Однообразный плеск воды в фонтане и скрип колодца за выступом дома, где кто-то брал воду, нагоняли на него сон.
Колесо скрипит уныло. Отсюда видно, как служанка полощет белье… Салаино потянулся и безнадежно посмотрел на потертые локти своего когда-то щегольского камзола. Этот веселый и самый юный ученик Леонардо имел пристрастие к хорошей одежде, как и вообще ко всему красивому. Ему было досадно, что обстоятельства заставляли его отказывать себе часто в том, что казалось ему необходимым, а необходимыми были для него пирушки в компании молодых повес. Если бы не любовь его к учителю, он перешел бы к другому, кто умеет зашибать деньгу, не разбрасываясь, как Леонардо, в занятиях и не добиваясь какой-то непреложной истины.
Салаино с тоскою взглянул на окно лаборатории. Его нисколько не занимали в эту минуту не только таинственные опыты учителя, но и мольберты, стоявшие в мастерской. Он думал: "Мы едим одну только сухую джьюнкатту, как погонщики ослов, вот и весь завтрак… А скажи маэстро — он засмеется: "Да ведь это самое здоровое кушанье — творог!"
— О чем ты так тяжело вздыхаешь, сын мой? Уж не о тощей ли джьюнкатте? — раздался голос из раскрытого окна лаборатории.
Вот чародей маэстро — он читает мысли!
Салаино засмеялся, покраснев до корней волос, и соскочил с забора. Перед ним в окне стоял учитель в своей обычной спокойной позе.
Юноша смущенно забормотал:
— Но, маэстро… его светлость… перестал вам что-либо жаловать из дворца… Отчего вы им не скажете, что это не годится такому великому мастеру, как вы? Сегодня этот дрянной мальчишка Джакомо кричит, что зеленщики, рыбные торговцы и даже торговцы красками — все грозят подать на вас в суд. Мне же обидно это слышать, маэстро: на вас, с кем не сравнится ни один художник на свете, — в суд!
Салаино говорил с искренним возмущением привязанного к учителю ученика, и говорил правду: вот уже несколько месяцев, как Лодовико Моро точно охладел к своей затее — конной статуе отца, и скупо, с вечными затяжками, с неприятными разговорами выдавал на нее деньги, и Леонардо приходилось затрачивать на статую Сфорца часть своего жалованья. Нередко случалось, что в доме не было ни гроша, и тогда даже любимые ученики начинали роптать. Даже Джакомо, маленький бездомный бродяга, подобранный им из жалости на улице, и тот дерзко кричит: "У мессэра Леонардо свистит в кармане! Скоро он всех нас распустит, и учеников и слуг…"
— Успокойся, — сказал, помолчав, Леонардо, — сегодня я схожу в замок и достану денег. Тогда и тебе куплю новый камзол. Я вижу хорошо, что тебя заставляет волноваться.
Салаино с видом ребенка, которому обещали новую игрушку, весело посмотрел на учителя.
А бесенок Джакомо, выглянув из дверей кухни, весь в саже, потому что чистил трубу, закричал с хохотом:
— Тезка любуется собою, точно девчонка! А дело и забыл. Мессэре, за вами опять присылали из дворца, и слуга выболтал, что мадонна Цецилия хочет заказать вам свой портрет.
Мадонна Цецилия Галлерани, красавица, возлюбленная Лодовико Моро, та, которая на состязании музыкантов повязала его своим шарфом и назвала своим рыцарем… И регент никому из художников не поручает ее портрет, кроме него, Леонардо… Большая честь…
Но, к изумлению Салаино, учитель не обрадовался, а хмуро сказал:
— Это мне не совсем по душе, сын мой. Герцог вечно торопит, отрывает от одной работы для другой. Я долго работал над проектом каналов, чтобы осушить его владения, а он от меня беспрестанно требовал рисунков и пустых выдумок для иллюминации, моресок, процессий, вечных праздников… Меня постоянно отрывают от научных изысканий. Иногда мне кажется, что празднества и удовольствия делают для него всю мою работу над памятником его отца нежеланной… Теперь новая прихоть — портрет прекрасной мадонны Цецилии… А я сделал чертежи крыльев летучей мыши и горлинки и заказал достать мне еще ястреба… Что-то скажет теперь мой Зороастро? Зачем я заставил его хлопотать попусту?
Зороастро — ремесленник из цеха кузнецов, работающий в мастерских скульпторов и серьезно считающий себя творцом их произведений, — интересный человек. Его привез с собой Леонардо из Флоренции; огромный, с широкими сильными руками и громоподобным голосом, одноглазый (другой глаз выжгла искра из горна), он был предан своему хозяину до самозабвения. "Зороастро" — его прозвище; Леонардо говорил, что кузнеца надо бы по-настоящему назвать Вулканом — он точно вышел из недр земли, этот великан. К своей кличке кузнец так привык, что забыл имя, данное ему при крещении, и порою прибавлял к кличке "Винчи", показывая, что он составляет как бы одно с мастером.
Леонардо стоял посреди лаборатории и рассматривал распростертую на полу огромную птицу, принесенную Зороастро. Кузнец хохотал довольным смехом:
— Ястреб, как просил маэстро. Я подкараулил, когда этот дьявол собирался унести цыпленка от наседки. Тут я его и подшиб камнем из рогатки. Крылья — ох, и крылья! Как хотела ваша милость. Это не чета вашим летучим мышам и филинам!
Могучая птица, распростертая у ног художника, все еще казалась гордой. Солнечный луч, падавший из окна, зажигал огнем ее светлые глаза, и они горели.
— Ну, теперь больше не понадобятся птицы? — спросил Зороастро.
Леонардо, задумавшись, не ответил. Он умер в небе, совершив свой последний свободный полет, этот хищник… Каков размах его крыльев и какая в них сила? Сегодня он будет препарировать ястреба и делать измерения крыльев, а потом сравнительный чертеж… Он добьется тайны летательной машины…
Зороастро смотрел на мастера с укором.
— Теперь всю ночь будет ковырять дохлятину!.. — проворчал кузнец и вдруг заговорил сердитым голосом старой няньки. — Видно, вашей милости по душе сидеть в этой проклятой дыре без всякого толка! Проклятый Милан! Ведь вот сколько живу на свете, а не видел такого бестолкового города! Работаешь, а все не двигаешься с места, и на все один разговор: "Некогда, денег нет!" Воля ваша, мессэр, а я отправляюсь восвояси, на родину!
Леонардо поднял голову и улыбнулся:
— Не бунтуй хоть ты! Сегодня я принесу денег.
— Да чего бунтовать? Не я один — все ученики: и Чезаре да Сесто, и Джованни Больтрафио, и Марко д’Оджоно, и даже этот мальчишка Салаино, — все говорят одно и то же: "Учитель себя не ценит, так больше нельзя жить"… Проклятый Милан… Стыд какой: дурак Диода мне кричал сегодня на улице: "Эй, дядя, не продает ли твой хозяин свои штаны? Ведь, поди, который день сидите на шиполатте
[27] или варите летучих мышей. Твой хозяин колдун!"
Леонардо рассеянно отозвался:
— Мне жаль, что ты, мой Зороастро, потерял свой глаз: лучше бы ты оглох, чтобы не слышать болтовни шута! Я достану денег, подождите…
Зороастро ушел, но Леонардо не отправился во дворец за деньгами, как хотел. Его привлекала распростертая на полу птица. Ему не хотелось оставить эту любимую комнату, где он провел столько блаженных часов, дней, месяцев, что-то находя, чего-то добиваясь, что-то вновь замышляя, наблюдая и тысячу раз проверяя, эту лабораторию — свидетельницу его побед, его открытий, его счастья.
— Движение есть причина всякого проявления жизни, — сказал он громко, принимаясь за скальпель.
Ему не хотелось откладывать работу. Интересен скелет ястреба, важны размеры крыльев…
Лаборатория, эта странная, с виду неряшливая громадная комната с горном, каменным полом, множеством столов и полок, заваленных в одном месте чертежами и математическими выкладками, в другом — порошками в чашках, ступках, колбах; реторты, банки, бутыли, перегонные трубки; глядящие со стен безглазые чучела; скелет обезьяны в углу; множество скелетов мелких животных, прибитые на стене летучие мыши и крылья разных птиц… Маленький Джакомо безумно боялся лаборатории, и в то же время его тянуло в нее, как тянет слушать страшную сказку, от которой замирает сердце; он был в душе уверен, что соседи и лавочники не совсем неправы, распуская слух, будто мессэр Леонардо знается с нечистою силой. Тут есть доля правды, но только доля: он, наверно, немножко знается со всякой нечистью, сколько ему нужно для его чудной и непонятной науки "укротить природу", запрячь ее для службы человеку, как упрямого и горячего коня. Он не идет войною против бога, хотя не ходит в церковь и не кропит святою водою жилище, не требует и того, чтобы живущие у него не пропускали мессы и аккуратно ходили к исповеди и причастию. Беда будет, если на это обратят внимание монахи и кто-нибудь из сплетников станет их подзуживать, — тогда мессэра Леонардо, такого доброго и милосердного, папа отлучит от церкви, а кличка "колдун" заставит даже посадить его в тюрьму — ведь колдунов судят и даже сжигают живыми… Ох, и хочется же знать, что делает маэстро и чего добивается! Ведь его занятия в лаборатории, как слышно, не по душе герцогу; он даже сердится, что они отрывают маэстро от памятника, от картин, от изготовления разных украшений для дворцовых увеселений… Об этом все говорят. Герцог сердится — ему, как слышно, по душе только изобретения маэстро для войны, а уж эти крылья птиц, и камни, и растения, — к чему это? Пустая трата времени… И почему мессэр не обращает внимания на то, что герцог недоволен? Вот он и не дает мессэру денег…
Леонардо почти не дотронулся до принесенного ему обеда и весь день провел в лаборатории, тщательно препарируя ястреба.
Он усердно занимался анатомией, что делали тогда немногие из художников. В шкафу у него — несколько пачек анатомических рисунков и скелет обезьяны, дело его рук. Как можно правильно изображать человека, не зная, какие у него кости, мускулы, при помощи чего он двигается?
Наука, наука… Усовершенствование и облегчение труда рабочих и ремесленников, умение овладеть силами природы… Вот он недавний набросок двора арсенала, ряды голых работников, тянущих руками длинный рычаг, упирающийся ногами, чтобы увеличить тягу; здесь видно напряжение их мускулов, поднимающих страшную машину, — они стараются рассчитанными движениями поднять лежащую на двух колесах ось, медленно, тяжело поднимающуюся… Он схватил единство усилий в этих напряженных телах, единство одного и того же усилия, уловил это согласное движение множества тел, как бы единую линию напряженных мускулов.
Это уже не античная красота гладиаторов — это страшная симфония тяжелого труда.
Леонардо коснулся карандашом правды жизни, и в ней была своя красота. И эти наблюдения труда человеческого натолкнули Леонардо на изучение свойства рычага — простейшей универсальной машины, а потом и на его усовершенствования.
Здесь, в Милане, он продолжал ряд начатых во Флоренции и не оцененных Лоренцо Медичи работ: чертежи мельниц, сукновальных машин и приборов, которые пускались бы в действие силою воды.
Знакомясь с трудом ремесленников прославленного в Европе флорентийского цеха изделий из шерсти, он сделал проект механической самопрялки.
Еще во Флоренции Леонардо разработал и проект системы каналов, которые соединили бы Флоренцию с Пизой, облегчив перевалку грузов на морские суда и снабжение Флоренции сырьем.
Теперь он работал над проектом каналов в окрестностях Милана…
Мечты уносили его далеко: надо использовать силы воды, ветра, солнца. Он производил без конца опыты над растениями, изучая влияние на их развитие воды, солнца и почвы…
Целый угол лаборатории был завален образцами почвы и горных пород. Найденные в них окаменелости натолкнули его на важное геологическое открытие: здесь, на месте Италии, очевидно, было когда-то море — об этом свидетельствуют окаменелые раковины, обитатели морской пучины…
Но что за дело до науки повелителю Милана?
День кончился; с последним угаснувшим лучом солнца наступила сразу тьма. Зороастро внес в лабораторию светильник, и по громадной комнате поползли причудливые тени: на окне зеленые питомцы Леонардо — ростки, слившиеся побегами с деревянными подпорками, и реторты с отводными трубками — казались сказочными, фантастическими существами; скелет обезьяны улыбался и скалил зубы. Ожил громадный ворох чертежей, похожий на грозного великана в остроконечной шапке; а на полу, в круге света, отбрасываемого лампой, краснела отпрепарированная кровавая птица.
Леонардо развернул чертеж летательной машины, сделанный с математической точностью, и глубокая нежность охватила его душу. Он вспомнил своих двух учителей — Тосканелли и Бенедетто дель Абако — и закрыл глаза, точно слышал их голоса и слова о том, что математика — основа всех наук. Да, эти учителя навеки оставили пламя в его душе… Тихо, благоговейно, в точных и коротких словах определял он то, что сложилось в его душе на основе их идей:
— Нет никакой достоверности там, где не находит приложения одна из математических наук, или там, где применяются науки, не связанные с математическими.
Учителя его юности… И еще один — Карло Мармокки, исследователь неба и земли, географ и астроном… Леонардо взглянул в раскрытое окно. Перед ним была темная бездна, сиявшая светлыми, лучезарными точками. Губы шептали:
— Вся философия начертана в той книге без конца и границ, которая постоянно лежит раскрытая перед нашими взорами и говорит о мироздании…
Как страшно одинок он был здесь, в Милане, в городе, где правитель интересуется только пушками, охраняющими его власть, да бронями и клинками, которыми славится этот город! И даже с людьми одного цеха с ним — художниками — он не мог найти общий язык: в большинстве случаев это были люди, замкнувшиеся в своей специальности, невежды в науках, питавших душу Леонардо.
В лаборатории кто-то был, кроме него. Леонардо обернулся:
— А, это ты, Зороастро? Ты опять на меня ворчишь? Я знаю: сегодня опять мне не пришлось попросить денег. Потерпи, старина, — даю слово, что завтра я их добуду.
Зороастро мрачно буркнул:
— Станет вам герцог платить за ваши опыты! Вот уйду от вас! Что мне тут делать? Ну как: отливку памятника черти записали в аду?..
Он часто грозил уходом, но, если бы Леонардо ослеп, он готов был бы добывать ему пропитание, только бы не расставаться.
— Завтра!.. — повторил он угрюмо. — Обещали завтра. Aspetta cavallo che l'еrbа cresca!
[28]
Одноглазый любил поговорки.
— Завтра… — повторил Леонардо ласково и подумал: "В самом деле, я небрежен к моей семье, а ведь это моя настоящая семья, с которой я крепко слит… Завтра я начну писать портрет Цецилии Галлерани по заказу герцога, и у меня появятся Деньги".
IV. ЛЮДИ, БОГИ И АНГЕЛЫ
Прекрасная Цецилия Галлерани полулежала на восточных коврах и расшитых шелками и золотом подушках в открытой, выходившей в сад галерее своего палаццо. В полукруге аркады, между колоннами, виднелось море роз. Тонкая веточка вьющегося растения, брошенная порывом легкого ветерка, ласкала обнаженную шею Цецилии. Сидевший на маленькой пунцовой розе мотылек взлетел, трепеща крыльями, и привлек внимание ручного горностая, прикорнувшего на коленях у мадонны. Он поднял голову и насторожился как кошка. Смеясь, Цецилия слегка ударила его по головке. Он присмирел. Красавица сказала:
— Я жду продолжения беседы, друзья мои… Меня занимает последнее объяснение этого стиха Данте.
И она внятно и звучно продекламировала две строки начала "Божественной комедии", обращаясь к окружающему ее обществу синьоров и дам.
Цецилия Галлерани была одной из тех образованных женщин, знавших латынь, понимавших искусство, поэзию и интересовавшихся философией, какие в ту пору попадались не так редко среди знати. В ее дворце часто собиралось большое общество; декламировались стихи, велись беседы о памятниках латинской и греческой литературы, как было и в этот день, или устраивались концерты. На веранде вокруг Цецилии собрался ее обычный кружок — несколько мужчин и две близкие подруги. Слуги разносили прохладительное питье, сладости и фрукты.
Не успел прозвучать ответ на вопрос хозяйки дома, как в дверях появился паж с докладом:
— Мессэр Леонардо да Винчи, художник его светлости…
Лицо Цецилии осветилось улыбкой.
— Добро пожаловать, дорогой маэстро! — сказала она, когда Леонардо вошел. — Герцог нездоров и не мог быть сегодня на нашей беседе, но обещал мне, что вы придете писать мой портрет… Мы прекратим разбор великого Данте — ведь вы, к сожалению, не присутствовали при разговоре с самого начала, и лучше послушаем игру на виоле нашего славного музыканта, регента собора маэстро Франкино Гаффурио. Мессэр Гаффурио сыграет нам пьесу собственного сочинения, которую он написал по заказу герцога для ожидаемого праздника тела господня… Усаживайтесь поудобнее все, и прошу внимания.
На середину веранды вышел человек в черном бархатном костюме, отороченном коричневой тесьмою. Его наружность заинтересовала Леонардо. Лицо мужественное; глаза, полные мысли; высокий лоб, обрамленный густыми, падающими до плеч каштановыми кудрями. Он провел смычком по струнам и заиграл. "Неплохо играет, и мелодия ласкает слух". — подумал Леонардо. Но не мелодия привлекала внимание художника. Она ничем не отличалась от мелодий других музыкантов, слышанных им когда-то на состязании.
Привлекало внимание выражение лица хозяйки дома. Глаза ее устремились туда, откуда слышались звуки, и вся она, казалось, была полна восторга.
Леонардо вытащил из-за пояса записную книжку и набросал на двух страницах музыканта и слушающую его красавицу. Цецилия повернулась и заметила, что он рисует.
— Что это, маэстро? — кивнула она на книжку.
— Святая Цецилия слушает небесную музыку сфер, — спокойно отвечал художник и прибавил: — Не соблаговолит ли мадонна Галлерани назначить мне день, когда я смогу запечатлеть ее прекрасный образ красками? Но я попрошу, если возможно, в той же обстановке, с тем же маленьким зверьком на коленях…
Беседа продолжалась. Уходя, Леонардо сказал музыканту:
— Если маэстро соблаговолит, я сочту для себя за большое удовольствие изобразить и его черты после окончания портрета синьоры…
Художественная семья Леонардо, с мрачным Зороастро во главе, была довольна: в доме появились деньги; счета лавочникам были оплачены, герцог перестал сердиться, — по крайней мере, придворные сплетники не передавали его раздраженных и обидных словечек. Художник работал над портретом Цецилии Галлерани. Зороастро теперь весело поддерживал огонь в горне, когда Леонардо появлялся в лаборатории, и раздувал бодро мехи: мессэр Леонардо опять стал уделять свободные минуты желанному усовершенствованию вододействующих машин, а попутно и изобретению механизма для освещения дворца.
Художник охотно работал над портретом герцогской фаворитки. Он изобразил ее, как задумал первоначально, прислушивающейся к чему-то, что ее волнует, и перебирающей рассеянно пальцами шерстку ручного горностая. Она на портрете живет, как живет зверек, у которого так естествен на картине каждый волосок его белоснежной шкурки. И в зверьке и в женщине метко схвачена кошачья ласковость. Поразительно написана рука совершенной красоты, поглаживающая горностая.
Франкино Гаффурио, любимец Цецилии, часто играл ей на виоле. Лицо его продолжало интересовать Леонардо, и он хотел изучить его. Для этого лучше всего было понаблюдать музыканта в соборе, где он управлял хором и играл на органе.
Встречая выходящего из церкви художника, соседи начинали сомневаться: так ли уж мессэр Леонардо да Винчи подпал под власть нечистой силы, если не чуждается божьего храма, и это отчасти отвело от него угрозу доноса епископу.
Цецилия хотела иметь портрет своего любимого музыканта, и, закончив писать картину "Дама с горностаем", Леонардо стал у нее же писать портрет Гаффурио.
Ему нравилось это серьезное, умное лицо в рамке густых каштановых волос. Он писал музыканта в том самом черном бархатном костюме, в каком встретил в первый раз. Желто-коричневая отделка костюма составляла приятную гармоничную гамму с цветом волос и глаз…
Лицо на портрете было вполне закончено, но работу пришлось бросить из-за новых, не терпящих отлагательства заказов: в Милане только и говорили, что о флорентийском художнике, и всем знатным дамам непременно хотелось иметь свой портрет или картины кисти этого замечательного мастера. Другой красавице, знатной миланской даме Лукреции Кривелли, во что бы то ни стало требовалось заказать свой портрет Леонардо, и он, только докончив писать лицо Франкино Гаффурио и не завершив портрета, должен был отправиться работать в палаццо Лукреции Кривелли.
Новый портрет увлек художника. В лице Лукреции он уловил простодушие здоровой молодой женщины, не успевшей еще испортиться в кругу придворных дам и кавалеров. Она не была признанной красавицей, как Цецилия. Художник подчеркнул в своем изображении непосредственность молодой женщины, ее жизнерадостность, отсутствие в ней надлома, который чувствовался в фаворитке герцога.
Цецилия Галлерани была восхищена своим портретом. Она мечтала окружить себя произведениями Леонардо. Ей хотелось иметь мадонну с младенцем его кисти. Может быть, втайне она лелеяла мысль, что моделью для богоматери послужит она, красавица, любимая герцогом…
И Леонардо написал "Мадонну Литта", находящуюся ныне в числе художественных сокровищ Эрмитажа, в Ленинграде. В ней отображена тема материнства, как некогда в "Мадонне с цветком". Мать кормит грудью пышащего здоровьем кудрявого младенца и радостно смотрит на него. Четко вырисовывается фигура Марии на темном фоне стены с двумя окнами.
Но живопись не погасила в Леонардо страстного стремления к раскрытию тайн природы, которое он познал, еще будучи учеником покойного Тосканелли. Он занимался теперь анатомией с молодым, но уже известным павийским врачом Маркантонио делла Торре. Обыкновенно Маркантонио резал труп, а Леонардо рисовал пером и сангиной
[29] мускулы и кости.
У него набралась целая папка замечательных анатомических рисунков, где он сопоставляет в общих чертах сходных животных, впервые в истории науки намечая начала сравнительной анатомии.
"Опиши внутренности у человека, обезьяны, — говорил он, — и подобных им животных, смотри за тем, какой вид они принимают у львиной породы, затем у рогатого скота и наконец у птиц".
С улыбкой смотрел великий мыслитель на усилия мессэра Амброджо да Розате, придворного звездочета Моро, пытавшегося по созвездиям объяснить Лодовико судьбу дома Сфорца.
Мессэр Амброджо жил в одной из высоких четырехугольных замковых башен, окруженный астрономическими приборами, создававшими ему ореол таинственности и обеспечивавшими особенный почет при герцогском дворе.
Как-то раз Леонардо забрался на башню Амброджо и застал там обоих Сфорца. Лицо Лодовико было мрачно, как всегда, когда он появлялся в таинственном жилище астролога
[30]. Джан-Галеаццо, бледный и трепещущий от страха, жадно следил глазами за неподвижной фигурой Амброджо, смотревшего на небо через бойницу башни. По словам астролога, знаки созвездий соединились, предвещая что-то недоброе, и Леонардо в этот день как-то особенно было жалко бесхарактерного и запуганного правителем-дядей юношу.
Амброджо хмурился и отрывисто изрекал недосказанные, непонятные, но страшные предсказания. Лодовико стал темнее тучи. Он глухим голосом спросил:
— Что ты на это скажешь, Леонардо?
Художник спокойно, с оттенком насмешки отозвался:
— Если бы все это было истиной, то тайная наука мессэра Амброджо давала бы человеку огромную силу.
— Что ты этим хочешь сказать? — спросил опять Моро.
А племянник его с тоскою и надеждою вскинул глаза на художника.
— Я могу пояснить свою мысль: если бы все это было истиной, то человек мог бы вызывать гром, повелевать ветрами, в одно мгновение уничтожать армии и крепости, открывать все сокровища, скрытые в недрах земли, мог бы моментально перелететь с востока на запад, — словом, для человека не было бы ничего невозможного, за исключением, может быть, избавления от смерти, — прибавил он, засмеявшись.
Джан-Галеаццо посмотрел на художника благодарным взглядом.
— Астрология и волшебство вздор! — продолжал Леонардо, точно говоря сам с собою. — И я это утверждаю, ваша светлость, потому что вы от меня требовали правдивого ответа. Искатели философского камня
[31], открывающего тайны природы! К чему вы морочите бедных доверчивых людей? — И добавил с той же иронией — И хотел бы я знать, ваша светлость, так ли уж обрадовались бы властители государств и богачи, если бы алхимикам удалась их затея. Не думаете ли вы, что тогда возликовали бы бедняки? Их богатством, и богатством надежным, не разрушимым, был бы их труд, их сильные и умелые руки. А что останется у богача, когда его золото перестанет цениться?
На Лодовико глядели светлые глаза художника с обычным холодным спокойствием.
Амброджо смотрел настороженно и молчал.
Леонардо говорил об алхимиках, которые в ослеплении посвящали всю жизнь отысканию таинственного философского камня и жизненного эликсира, способного дать человеку бессмертие; вслепую бились над непонятными им химическими соединениями, стараясь добыть настоящее золото. Но, несмотря на всю неосновательность утверждений алхимиков, Леонардо предвидел возможность появления впоследствии — из опытов и попыток алхимиков — великой точной науки — химии.
Поздно простился Леонардо с герцогами и Амброджо.
— Мне необходимо поговорить с тобою по поводу одного предполагаемого мною праздника, — сказал ему на прощание Моро.
— Я хотел бы попросить вашу светлость позволить мне заняться сегодня моею летательной машиной, о которой я имел честь доложить.
Эта просьба по решительному тону скорее походила на приказание. Моро, сдвинув брови, отвечал сухо:
— Я зайду на нее посмотреть.
V. НАУКА ДЛЯ СИЯТЕЛЬНОЙ ЗАБАВЫ
Салаино любил цветы, как прекрасное создание природы, и нередко украшал себя венками, зная, как это идет к его золотистым кудрям. Он не довольствовался цветами в саду дома у Верчельских ворот и любил бродить за стенами города, где раскинулась благодатная земля Ломбардии. Глядя на всю эту красоту, он с гордостью думал:
"Ведь немалая доля этого существует благодаря гению моего учителя, прорезавшего каналами еще недавно сухую, бесплодную почву".
В этот ясный, солнечный день он особенно нежно любил учителя, сознавая его гений, его великодушие, его мощь.
Бродя часто по оврагу, где паслось стадо овец, он слушал наивный напев дудки пастуха, почти не нарушавший тишину. Здесь встретил он старуху знахарку, собиравшую лечебные травы, и в первый раз увидел редкое растение, над которым она склонилась, произнося какие-то заклинания. Он заметил странное движение круглого листа, на котором сидела зеленая блестящая мушка. Лист шевелился, вернее, шевелились тонкие ворсинки, передвигая насекомое к центру; потом лист захлопнулся: муха попала в ловушку.
Старуха, увешанная пучками трав, заворчала:
— Вот оно, дьявольское семя!.. Я давно его ищу… Только надо брать его с наговором… Посмотри, сынок: дьявольское растение питается мухами и букашками, и в его соке кровь, как у зверей…
Салаино вытащил нож и выкопал загадочное растение, эту "мухоловку", вместе с большим куском земли.
Вот-то порадуется маэстро!
Он не ждал, что, принеся растение, вызовет в неизменно спокойном художнике глубокое волнение.
Тоска, непривычная тоска сжала сердце Леонардо, и вызвал ее свежий, знакомый, милый запах рыхлой, напоенной водами земли. Этот запах напомнил ему Флоренцию, напомнил чудесный маленький городок Винчи, где он родился, сад и огород, где он когда-то ребенком ловил букашек, мух, пауков, откапывал из-под камня червей…
Тогда он был беспечен и свободен, как птица на воле… Тогда никто не мог вызвать его в палаццо светлейших герцогов, чтобы он делал для них замысловатые игрушки.
Леонардо отошел от окна лаборатории, где помещались у него ящики с растениями. Кругом — чертежи, модели из глины и проволоки, сделанные ради пользы края и ради увеселений его правителя. И между ними множество моделей летательной машины, каждая из которых была шагом вперед на трудном пути исканий и усовершенствования…
Вот четкий чертеж, и под ним подпись:
"Перчатка из ткани в виде растопыренной руки для плавания в море. Ту же роль выполняет птица крыльями и хвостом в воздухе, какую пловец руками и ногами в воде".
Это начало размышлений о летательной машине.
Леонардо помнил, как еще в детстве, увлекаясь мыслью раскрыть тайну полета, он стал изучать строение крыльев разных птиц. Он измерял их, думал над ними, чертил детской рукой как умел, вычислял, снова измерял… Если тяжелый орел держится на крыльях в разреженном воздухе гор, почему не может рассекать воздух большими крыльями человек, овладеть ветром и подняться на высоту победителем? Он упорно работал, пока не дошел до мысли создать машину. Вот она, модель, — только бы хватило денег на сооружение самой машины!
Странная модель. В ней крылья состоят из пяти пальцев, сухожилия сделаны из ремней и шелковых шнурков, с рычагом и шейкой, соединяющей пальцы. Накрахмаленная тафта, не пропускающая воздуха, распускается и сжимается, как перепонка на гусиной лапе. Четыре крыла двигаются, откидываясь назад и давая ход вперед, потом опускаются, поднимая машину вверх. Человек стоя должен вдевать ноги в стремена, приводящие в движение крылья посредством шнуров, блоков и рычагов. Движения головы управляют большим рулем с перьями, похожими на птичий хвост. Две тростниковые лесенки заменяют в приборе птичьи лапки.
Да, достанет ли денег на сооружение машины?
Чтобы отвлечь себя от несносных денежных расчетов, Леонардо пошел из лаборатории в мастерскую, к ученикам, по дороге решив посмотреть на свой птичий двор.
Герцог Лодовико Моро застал его за неожиданным занятием, за которым он никак не представлял себе этого серьезного, замкнутого ученого и художника: Леонардо — и это было одним из его любимых занятий — кормил во дворе животных. Вельможе было странно видеть, как этот мыслитель, вооружившись миской с полентой
[32], заботливо разливает её по маленьким корытцам, а многочисленные собаки рядом с любимою рыжею кошкой трутся у его ног. Тут же, вокруг художника, — на земле несколько клеток с птицами: художник сегодня купил их у торговца на площади. Завидев кошку, птицы стали биться о прутья клеток под оглушительный лай собак. И Моро видел, как стоявший к нему спиной художник одну за другой поднимал клетки и открывал дверцы. Пернатые затворницы бросались в отверстия своих темниц и, вспорхнув, тонули в воздухе…
Когда последняя птица была выпущена, послышался густой голос герцога:
— Ты не скучаешь без меня, Леонардо! Ты видишь, я иду к тебе один, без свиты, чтобы застать тебя врасплох. Ого, да какой ты свободолюбивый — не выносишь тюрьмы даже для птиц! А все-таки тебе придется пожертвовать для меня своей свободой и заняться моими нуждами. Впрочем, я еще хотел поговорить о недостроенных каналах. Я боюсь ливней. Ведь сколько дней шел дождь, и хоть сегодня выглянуло солнце, но на горизонте повисли предательские тучи.
Леонардо спокойно отвечал, стряхивая с себя зерна, которые обсыпали грудь:
— Я уже предлагал вашей светлости устроить такие пушки, которые могли бы метать разрывные снаряды в облака.
— Тогда я боюсь засухи, Леонардо.
— От засухи спасают каналы, и их уже немало сооружено. Но, чтобы докончить задуманное, нужны деньги, а ваша светлость не дает разрешения на необходимые затраты. Ваша светлость уже изволили отклонить мой план верхнего и нижнего города, а ведь это была, как вы изволили сами сказать, "недурная мысль", которая избавляла города от их скученности и создавала простор площадям и улицам. В Милане теперь так много жителей, что они, как овцы, жмутся друг к другу, наполняя воздух смрадом и распространяя зародыши чумы и других смертоносных болезней. Надо было создать больше каналов, чтобы по ним можно было подплывать на лодках к домам и погребам, или построить верхний и нижний города. Нижний город служил бы Для складов со съестными припасами, для вьючного скота, а верхний, более чистый, — для благоустроенных жилищ. Город Должен быть расположен у моря или у большой реки, чтобы нечистоты, увлекаемые водой, уносились далеко. Разве не хороша была бы столица, этот новый город, построенный на удивление всему миру? Но ваша светлость изволили отвергнуть мой план.
— Химера! — брюзгливо опустил углы губ герцог.
— Химера… — повторил горько Леонардо. — Все, что ново, в чем человек является провидцем, — химера!.. Но теперь я, пожалуй, не очень-то угодил и планом новых каналов? Ваша светлость, взгляните!
И он показал рукою на открывающиеся за распахнутой калиткой цветущие равнины Ломеллины, перерезанные ручейками, серебристыми и прозрачными, как стекло. Роскошная зелень одевала эту благодатную страну до Альп, голубые громады которых вырисовывались на горизонте своими серебряными вершинами. Это было изобилие, которое создал Леонардо да Винчи благодаря многочисленным каналам, исчертившим всю местность вдоль и поперек.
— Орошение — великое сокровище, которое спасает человека от нищеты… — сказал Леонардо.
Лодовико зевнул и, видимо утомленный наскучившим разговором, резко оборвал его:
— Ты мне когда-нибудь докончишь свою фантазию. У меня нет сейчас для нее достаточно свободных денег, деньги мне нужны на другое. И ты мне нужен для другого. У нас, правителей, иные заботы, более важные, чем борьба с нищетою тех, кто для нее рожден. Мы должны укреплять государство дружескими связями с соседями, обеспечивая себе их помощь на случай нападения врагов. Оттого мы так заботимся о приемах посольств и о пышности двора, внушающей почтение и восторг.
— Ваша светлость соблаговолит ли пройти ко мне в мастерскую?.. — начал Леонардо, видя, что за калиткой мелькает герцогская свита.
— Нет, — резко отвечал Лодовико, — я и свиту не взял с собою. Я уже сказал, что хотел застать тебя врасплох, хотел посмотреть, как ты трудишься над усовершенствованием моего жилища, — моего, а не каменщика и лодочника! Мне неинтересно смотреть на мазню твоих учеников. Ведь ты сам ничего еще не сделал нового для украшения палаццо герцогов Сфорца? Ну, к делу, ближе к делу. Мы готовимся к блестящему празднику по случаю свадьбы моего племянника, и здесь потребуется вся твоя выдумка. Разными мудреными механизмами, на которые, мой Леонардо, ты такой мастер, надо затмить блеск дворов тех почетных гостей, которые у меня соберутся. Они думают, что перещеголяют меня, миланского герцога Лодовико Сфорца! Какое заблуждение! Вот на это я не откажусь отпустить тебе любые суммы. Прощай… Изобретай… Выдумывай…
Свита точно по волшебству выросла на дворе. Герцог исчез за парчовым пологом носилок…
Глядя ему вслед, Леонардо думал: почему за ним укрепилось прозвище "Моро" — шелковичное дерево? Вероятно, потому, что как это дерево растит в своих ветвях червей, поедающих его листья, так он лелеет сонм бездельников — прихлебателей, которые, объедая страну, устилают ему путь мягким шелком и ласкают слух льстивыми, подобострастными восхвалениями.
Пойти отогреть душу, пока еще не придавили новые причуды тирана… В мастерской, среди учеников, он отведет душу…
Из раскрытого окна лаборатории одноглазый Зороастро наблюдал всю сцену разговора мастера с герцогом. Перед этим он приносил клетки с птицами на двор и поленту для собак. Он понял свидание хозяина с владыкою по-своему.
Почесывая в затылке и вздыхая, он подумал:
"Деньги сами собою лезут в кошелек маэстро, а он упрямится. Чего ему не хватает? Выдумки ему не занимать: разбуди его среди ночи, он, не продравши еще со сна глаза, выдумает такой механизм, что удивит всех чертей. Ему хочется заниматься наукой или рисовать. Скажите пожалуйста! Нельзя ли повременить и сперва сделать то, что повыгоднее, чтобы зашибить хорошую деньгу? Эх, видно, с ним нельзя забыть старую поговорку: "Ждет лошадь, что трава вырастет".
VI. ОТДЫХ ОТ МУКИ
В мастерской стоял гул голосов. Ученики среди повседневной работы, выполняя задания мастера, не могли удержаться от горячих споров. Спорили о последних преподанных им Леонардо правилах для живописцев, толкуя его слова каждый по-своему,
делали примерные наброски перспективы углем на полу. Тут же они напевали смешную песенку, подхваченную на улице, и вспоминали, что в эти жаркие дни перед праздником святого Иоанна Крестителя делается на родине, во Флоренции. Ведь там особенно чтят этот веселый летний праздник. Какие сейчас процессии идут по улицам! Все мостовые засыпаны цветами, что бросают жители под ноги молодым девушкам и детям, идущим за крестом с пением гимнов! Вспоминали и веселые пляски на лужайках за городом. У кого из них осталась во Флоренции невеста, у кого просто приглянувшаяся девушка. Шумные разговоры нарушил маленький Джакомо, влетевший в мастерскую, как пушечное ядро, с криком:
— Маэстро говорил во дворе с герцогом, а сейчас идет сюда! Герцог ему что-то приказал делать!
Появление учителя положило конец веселому смеху и спорам, но не потому, что они боялись его, а потому, что они дорожили каждым его словом. Он кончал свою замечательную картину "Мадонна в гроте" и обещал показать ее ученикам.
Художник вошел, и по лицу его ученики сразу увидели, как он утомлен и как смутно у него на душе. Глубокий вздох вырвался у Леонардо из груди, вздох облегчения. Вот его отдых от миланской муки… Он внимательно просмотрит работы каждого, вникнет в них, пожурит Джакомо за то, как он растирает краски, попеняет за лень: можно ли оставлять нерастертыми комочки…
У висевшего на стене листа, исписанного четким почерком Больтрафио, с заголовком "Правила", стоял Салаино и читал вслух.
При входе учителя Салаино остановился. Очевидно, он хотел выучить текст наизусть:
"Если все кажется легким — это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и что работа выше его разумения".
— А вот еще, маэстро, — сказал он тоном балованного ребенка, поймав на себе пристальный взгляд художника, — я с этим не совсем согласен: неужели суждения рыночных торговцев правильнее, чем художника, написавшего картину? А в "Правилах" говорится: "Суждения врагов приносят более пользы, чем восторженные похвалы друзей. Друзья только покрывают позолотой наши недостатки".
В ответ зазвучал смех товарищей;
— Почему ты говоришь о рыночных торговцах?
— Разве они враги?
— Ну и выбрал врагов!
— А как же не враги? Они и лавочники. Попробуй-ка прийти к ним кто-нибудь из нас, когда в животе урчит, — а у нас частенько так бывает по герцогской милости, — они не только не верят в долг, но нарочно выставляют самый привлекательный товар: жирных каплунов, свиные мозги и телячьи ножки… бр-р!
Взрыв хохота покрыл эти слова. Смеялся и Леонардо. Салаино весело прибавил:
— Но и этот голод не заставит нас покинуть нашего маэстро! Никогда, никогда!
Художник сказал:
— Вы разбирали мои правила. Продолжайте. Это так же нужно, как и мои поправки в ваших работах. Что там еще, Салаино?
Звонкий голос продолжал:
— "Люди, предающиеся быстрой, легкой практике, не изучив достаточно теории, подобны морякам, пускающимся на судне, не имеющем ни руля, ни компаса.
Художник, рабски подражающий другому художнику, закрывает дверь для истины, потому что его призвание не в том, чтобы умножать дела других людей, а в том, чтобы умножать дела природы.
В ночной тишине старайтесь вспоминать то, что вы изучили. Рисуйте умственно контуры фигур, которые вы наблюдали в течение дня. Где мысль не работает вместе с рукой, там нет художника".
— Я еще скажу, — добавил Леонардо, — и особенно прошу запомнить это тебя, Салаино, — ведь ты, как никто, имеешь пристрастие к внешнему блеску, и ты моложе всех моих учеников, — не ссылайся на свою бедность и невежество, не говори, что ты юн и не успел выучиться и тебе трудно постигнуть искусство художника. Сколько было примеров, что философы, рожденные в роскоши, отказывались от нее, чтобы не отвлекаться от размышления. Вспомни мои рассказы о Диогене
[33].
Он подошел к мольберту Салаино с начатой работой и стал поправлять ее. Ученик внимательно следил за кистью в руках Леонардо.
— Видно, что стараешься, но не надо злоупотреблять тенью. Контрасты хороши в меру. И потом, не всегда прикованность к мольберту идет на пользу работе. Время от времени надо от него отходить — тогда виднее промахи. Весьма полезно иной раз оставлять мольберт и немного рассеяться. После перерыва ум становится свободнее. Чрезмерное прилежание и излишняя усидчивость отягощают ум, порождая бессонницу… Ты что-то хочешь мне сказать, Марко?
Он обращался к старшему из своих учеников, Марко д’Оджоно, и подошел взглянуть на его работу.
— Марко, — говорил художник, — и все вы, когда пишете картину, где должна быть видна растительность, тщательно изучайте ее в природе и не избегайте на картине, где она нужна. Сейчас я вам кое-что покажу.
Он повел их к своей картине, которую еще никому не показывал. Она была помещена особняком, в отдельной мастерской, где он запирался, когда хотел работать без посторонних глаз и без лишних расспросов. Здесь, наедине, он продумывал свои образы.
К мастерской вела лестница из темного дерева, с резными перилами. Поднимаясь по ней, Салаино весело говорил, ероша копну красноватых кудрей:
— Ишь как славно поскрипывают ступени! И они поют славу учителю!
Ученики гурьбою вошли в эту святая святых и с нетерпением ждали, когда художник откинет завесу над картиною.
Вот она, "Мадонна в гроте"! Воцарилась тишина. Слышался вначале только шорох отдергиваемого занавеса, потом сдерживаемые вздохи.
Перед глазами учеников было чудо, так им, по крайней мере, казалось. Учитель взял сюжет, обычный в то время: мадонну, Иисуса и Иоанна Крестителя. На эту тему писалось немало картин другими художниками. Но с какой простотой и естественностью подошел он к этому сюжету! Мария, как и в "Мадонне Литта", воплощает идеал материнства, но здесь это не мать, кормящая свое дитя и любующаяся им, — она охраняет его, простирая руку над его курчавой головкой.
Впервые в искусстве живописи была создана группа человеческих фигур, не просто выделяющаяся на пейзажном фоне, а окруженная пейзажем; впервые он играл такую большую роль, и это придавало особую поэтическую прелесть картине. Здесь были и скалистые уступы грота с острыми сталактитами, и роскошные заросли ирисов, анемонов, фиалок и папоротников.
Глубокая тишина в мастерской. Слышно, как муха жужжит снаружи окна, выходящего на север, куда обычно выходят окна мастерских художников. Ученики столпились возле мольберта, боясь проронить хоть одно слово, боясь дохнуть. Какая мягкость, нежность в выражении лиц на картине, какая простота! Какое совершенство форм… И эта тончайшая светотень… А пейзаж, пейзаж! Невиданное новшество — окружить фигуры пейзажем, и еще таким, как этот… Какая красота, и как цветущая природа естественно связана с фигурами, и какой уют в этом гроте… Как замечательно расположены эти синеватые просветы, особенно оттеняющие фигуры… И какая гармония в композиции, в этой пирамиде, вершина которой — голова мадонны…
Глядя на взволнованные лица учеников, Леонардо растрогался. Право, похвалы всех миланских вельмож, считающихся знатоками искусства, и даже художников ничто рядом с волнением этих детей природы, подобранных часто на улице, не знающих неискренних слов и лести…
Несдержанный, самый юный из учеников, Салаино, пробормотал со слезами на глазах:
— Маэстро… вы… сами приблизились к божеству, создав это… это…
Леонардо засмеялся:
— Ну, друг, за твое волнение я опять произвожу тебя из Джакомо Капротис в Джакомо Салаино, забыв, что ты на нарядные пуговицы для твоего камзола без спроса истратил из денег, которые я тебе дал на краски…
Салаино частенько вызывал неудовольствие Леонардо своим легкомыслием и чрезмерной любовью к нарядам, и тогда художник наказывал его, называя официально: Джакомо Капротис, а не просто прозвищем Салаино.
Художник увидел пристально устремленный на него взгляд Больтрафио, лучшего своего ученика. Молодой, красивый, но замкнутый, он мало говорил, никогда не восторгался, но большие, прекрасные глаза его выдавали глубокое волнение.
И Леонардо сказал ему от всего сердца:
— А ты, Джованни, скоро заставишь нас радоваться на своих мадонн, как радуетесь теперь вы, мои дети, на мою "Мадонну в гроте".
Он оказался до некоторой степени прорицателем: впоследствии Больтрафио создал картины, которые отличались своею самостоятельностью и оригинальностью от так называемых "лео-нардесок" — подделок под Леонардо да Винчи, одно время заполнивших музеи.
Приближался день свадьбы Джан-Галеаццо. Леонардо был завален герцогскими заказами. Говорили и о предстоящей помолвке герцога Лодовико, и Цецилия Галлерани, чувствуя близость своей отставки, задаривала церкви вкладами и даже просила Леонардо написать образ одного из особо чтимых святых. Но от этого заказа он должен был отказаться. Леонардо и без того изнемогал от обременительных требований, предъявляемых к нему герцогским двором. Для герцогского увеселения он, сообразно складу своего ума соединив науку с фантазией, обдумывал механизм для представления во дворце под названием "Рай".
Огромный круг изображал небесную сферу. Каждая планета имела образ древнеримского божества, имя которого носила; описывая свой круг, она появлялась перед невестой под аккомпанемент стихов, прославляющих герцогскую чету. Стихи написал для этого мессэр Бернардо Беллинчони.
Никогда не был так великолепно иллюминован и украшен замок, как теперь. Возле него точно выросли замысловатые триумфальные арки из цветов, лент, позументов и фигурных лепных украшений, под которыми должна была проследовать эта чета: болезненный, приниженный Галеаццо и гордая Изабелла, соединенные ради политических расчетов. Они ехали на богато убранных белоснежных конях, осыпаемые цветами.
Леонардо прошел в замок мимо рядов арбалетчиков и телохранителей, закованных в латы и стоявших с поднятыми алебардами. Герольд с двумя трубачами громко возвестил имя великого мастера его светлости, художника и архитектора. Мессэр Леонардо да Винчи, флорентиец, был в числе других именитых гостей. В большой зале столпились пышно разодетые кавалеры и дамы. Музыканты настроили инструменты; полилась медленная, тихая, почти печальная музыка; кавалеры и дамы плавно, ритмично задвигались в церемонном танце: тяжелые парчовые платья, осыпанные драгоценными камнями, не допускали быстрых движений. А Леонардо вспоминалась веселая, легкая пляска на лугу в маленьком городке Винчи, в которой он мальчиком принимал участие…
За танцами следовала такая же тяжеловесная пантомима
[34], тоже под плавную и почти печальную музыку…
За одной свадьбой последовала другая. Лодовико Моро ввел в свои покои шестнадцатилетнюю герцогиню Беатриче д’Эсте.
Новой герцогине тоже был беспрестанно нужен искусный флорентийский художник, и она посылала за ним мальчика-пажа.
Обыкновенно она принимала его во время туалета, когда служанка золотила, по моде того времени, ее темные волосы и умащала её лицо и руки всевозможными душистыми эмульсиями.
— Мессэр, — капризно бросила она, — вы слишком медлите с устройством моих новых бань, и раздевальня по плану вашему не так роскошна, как я бы хотела… В чем затруднение? Лодовико не пожалеет для этого средств…
Молодая красивая девушка неосторожно потянула, расправляя ее волосы, и нечаянно сделала ей больно; она изо всей силы толкнула ее ногою так, что та скорчилась от боли. Беатриче засмеялась:
— Вот неженка! Посмотрите, мессэре, с этой гримасой она похожа на обезьяну!
Леонардо встал:
— Когда обезьяне нанесен смертельный удар, ваше сиятельство… Позвольте мне идти работать над планом бань…
У Беатриче было бездумно веселое лицо сытой хищницы. Возможно, до нее не дошла ирония художника.
Леонардо приходилось бросать рисунок костюма для карнавала и придумывать новое снадобье для придания большего блеска волосам герцогини Беатриче, а потом погружаться в планы усовершенствования ее розовых бань с белой мраморной ванной, украшенной фигурой Психеи, с кранами в виде головок дельфинов. Затеям новой герцогини не было конца, как не было конца ее жестоким капризам в обращении со всеми служащими герцога.
Настал 1493 год, и миланцы наконец могли увидеть статую Франческо Сфорца. Открытие было торжественное. Под триумфальной аркой поставили колосса, и изо всех уголков Италии съезжались на него взглянуть. Статуя все еще была из глины — герцог скупился на бронзу, и внизу Леонардо нацарапал своею рукою:
Expectant animi: molemque futuram
Suspiciant; fluat aes; vox erit: ecce deus"
[35].
Леонардо пришлось быть свидетелем преступных ухищрений герцога Лодовико, старавшегося сохранить во что бы то ни стало свое положение. Сознавая шаткость власти, незаконно отнятой у племянника, Моро вступил в союз с французским королем Карлом VIII. Одержав первые победы над итальянскими государствами, союзники-французы явились в Милан, и Лодовико почувствовал трепет: он боялся, что в конце концов они завладеют Миланом.
Надвигались события, от которых зависела судьба Милана… Ходили слухи, что Изабелла, жена Галеаццо, ищет поддержки у государя Неаполя от тирании дяди, захватившего престол ее мужа, и что эти тайные сношения дошли до слуха Моро. Несомненно, он будет жестоко мстить…
У Леонардо был сад, где росло много персиковых деревьев. Проводя опыты, он впрыснул в одно дерево сильно действующий яд. Никому, кроме своих близких учеников, не позволял Леонардо ходить в этот загороженный угол сада. Он боялся, что плоды дерева могут быть ядовитыми. И вдруг по всему Милану разнесся упорный слух, что герцог Джан-Галеаццо тяжело болен, потому что Леонардо да Винчи, флорентийский художник, отравил молодого герцога своими ядовитыми персиками.
Этот слух возмутил людей, расположенных к Леонардо, и особенно его учеников. Но сам Леонардо отнесся к нему с тем философским спокойствием, с каким встречал выдумки болтунов, называвших его колдуном, знающимся с нечистою силою, и боялся только, что басне поверит больной, несчастный Галеаццо…
Галеаццо медленно умирал, отравленный дядей и его женою, сдружившейся с Изабеллой Джан-Галеаццо. Никому не была известна причина, которая уносила жизнь герцога.
Когда он скончался, город оделся в траур, и во всех миланских церквах по приказу Моро служили без конца заупокойные мессы. Меж тем Беатриче для удовлетворения своих причуд затеяла новые заказы "великому чародею", как она называла Леонардо. И художник с тоскою смотрел на лабораторию с начатыми и незаконченными работами. Он думал о проектах технических сооружений, о химических опытах, о не доведенных до конца записях ботанических наблюдений и, как влюбленный, мечтал о своей все еще не вполне завершенной "Мадонне в гроте".
VII. "ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ"
Давно уже пропели третьи петухи; давно уже румяный луч восходящего солнца упал на стол и страницы развернутой книги зажглись золотом, но Леонардо не выходил из маленького рабочего кабинета — уголка возле огромной лаборатории. Половину ночи он читал со старым другом Лукою Пачоли свои записки о живописи, потом вспоминали юность, Флоренцию и напоследок развернули любимого Данте. Не хотелось кончать беседу, не хотелось расставаться.
В своих записях Леонардо свел воедино многое, что передумал за эти годы, начав записывать свои мысли и наблюдения еще на родине. Старый друг иной раз не понимал чего-либо и требовал разъяснения, иной раз не соглашался и спорил, а иной раз подсказывал то, над чем еще думал сам Леонардо.
Начали с определения, можно ли назвать живопись наукой, и сразу зазвучала убежденная речь Леонардо, в которой слышалось его постоянное увлечение точной наукой — математикой:
— Постой, Пачоли, не торопись делать выводы. Вот что я тебе скажу: никакое человеческое исследование не может быть названо истинной наукой, если оно не проходит через математические доказательства. И если ты скажешь, что науки, которые начинаются и кончаются в душе, обладают истиной, то следует это подвергнуть сомнению по многим основаниям. И прежде всего потому, что в таких умозрительных рассуждениях отсутствует опыт, без которого ни в чем не может быть достоверности.
Они говорили много, и Леонардо нередко подкреплял свои рассуждения чертежами; он говорил о соответствии между частями тела животных и человека или о механизме движения. Потом он перешел на любимую тему — о птицах и летательном приспособлении для человека. И тут чертежам не было конца.
Пачоли, разгоряченный, вдруг сказал растроганным голосом:
— Как ты думаешь, друг, если бы тебя со всем этим кладом твоих мыслей, наблюдений, знаний перенесли в нашу Флоренцию лет пятьдесят назад на площадь Синьории, в заветную книжную лавку Веспасиано Бистичи, в кружок, собиравшийся там, что бы сказали все эти светлые головы с мессэром Никколо Никколи во главе?
Леонардо улыбнулся:
— Они сказали бы, что я безумец…
— И безбожник, чернокнижник, что ты хочешь быть равен ангелам, выдумывая безумный аппарат — крылья, что ты хочешь идти впереди веков…
— Впереди веков… — повторил художник. — Если бы ты знал, как сладко, мелодично звучат для меня эти два слова: впереди веко в!..
Лампа, потухая, чадила. Чуть брезжил свет. Во дворе кудахтали куры. Но Пачоли не хотелось уходить.
— Слушай, Лука, — тихо сказал Леонардо, — если бы ты знал, как меня потянуло на родину…
Никогда еще Пачоли не слышал такой грусти в голосе друга. Он обрадовался возможности говорить о милом городе, о лугах и долинах Тосканы, о цветущих уголках между отрогами Апеннин и Арно и о шуме и движении там, на городских площадях.
— Ах, эта лавка с драгоценным товаром мессэра Веспасиано Бистичи! — сказал он, и молодо прозвучал его голос. — Знаешь ли ты, Леонардо, что там было, когда ты еще не родился, лет шестьдесят назад? Мой отец мне рассказывал. Он-то уж знал! Там собирались ученые — цвет Флоренции; в лавку заходил и сам канцлер республики, твой тезка, Леонардо Бруни, "который все на свете знает", говорил отец, и другой, что тоже "все на свете знает", — мессэр Никколо Никколи, самый просвещенный из наших сограждан, истративший все свое огромное состояние на покупку книг и разных древностей. Заходил и сам Козимо Медичи. Ты подумай, какая тройка! Ты знаешь, какую он собрал коллекцию книг и древностей, этот Никколи! Лоренцо, пожалуй, забыл, что многое, чем он хвалился, досталось ему от Никколи, у которого все скупил его дед. Зато Козимо открыл неограниченный кредит Никколи в своем банке и сказал: "Все в моем доме — твое…" Лоренцо Великолепному далеко до своего скромного с виду деда…
Леонардо закрыл глаза. Ему ясно представилась лавка, заваленная рукописями, полная редкостных образцов античного искусства, и среди всего этого — диспут, три фигуры: внушительный Никколо Никколи, красавец Бруни в пурпурном одеянии, живописными складками облегавшем его стройную фигуру, и скромно одетый властелин Козимо Медичи… Ведут диспут.
Его потянуло туда, во Флоренцию, в атмосферу науки, которая была чужой здесь, в Милане…
Заметив тень, пробежавшую по лицу друга, Пачоли предложил:
— Уже светает. Давай прочтем на прощание еще несколько строк. И нечего тосковать о том, чего нет. Во Флоренции, Леонардо, забыли науку…
Он открыл книгу и начал:
…Чужда была она
Безумной роскоши и бурного веселья,
Там не виднелися на женах ожерелья
И драгоценные венки и пояса…
Остановившись, Пачоли перевернул несколько страниц, еще, еще и прочел:
— "Рим! Камни стен твоих достойны почитания, и земля, на которой стоишь ты, достойна его более, чем может выразить человечество".
В окно брызнуло солнце и затопило комнату. Пачоли стал прощаться:
— Тебе надо заснуть, Леонардо.
Художник покачал головой:
— Сейчас я иду в монастырь Марии делле Грацие, но по дороге задержусь на площадях и улицах и поищу нужные мне лица…
Пачоли не стал ему противоречить, уговаривать отдохнуть, не стал и расспрашивать: он знал, что Леонардо увлечен работой над "Тайной вечерей", которую пишет на стене трапезной монастыря делле Грацие.
Он шел на свою художественную охоту. Заглянул в арсенал, где когда-то делал рисунки. Здесь собраны люди труда, такие же простые, как те апостолы, которых он должен изобразить, здесь такое разнообразие лиц и возрастов. Но многое уводит и прочь от нужного образа. Натруженные до последней степени мускулы рук и лица… Нет, нет, с них можно писать титанов в кузнице Гефеста
[36] или рабов, изнемогающих под бичом владельца. Печать страдания лежит на лицах даже и в том дворе, у горна, где делают прославленные в Италии клинки. И здесь недостает покоя, размышления, которые надо ему изобразить в последней беседе учителя со своими учениками… Нет ни одного подходящего лица и среди монахов монастыря делле Грацие… Всё больше истомленные фигуры с заученными благочестивыми минами…
Надо искать на площадях и за чертою города, среди рыбаков, пастухов, землепашцев… Некоторых он уже зарисовал в записной книжке…
На площади было, как всегда в утренние часы, шумно. Торговки хлопотали у возов с привезенными овощами; у булочных, где так аппетитно пахло свежим горячим хлебом, толпились хозяйки с корзинами, и дети уплетали маленькие миланские булочки с тмином; любопытные глазели на привезенную с морского побережья огромную рыбу; возле маленькой лавчонки колбасника мальчишка драл горло, расхваливая товар — белую колбасу из мозгов:
— Горячая червелата! Прямо с вертела! Покупайте, покупайте скорее, а то у хозяина не хватит на весь город! Эй, кому червелаты! Продаем не на вес, а на меру длины!
Почему-то вспомнились рассказы о великом философе Сократе, также бродившем по площадям — с проповедью истины. Он тоже проповедник — образами. Но нигде ни одного лица, привлекающего внимание… Не этого же забавного длинноногого торговца червелатой он пришел сюда искать, и не этого смешного толстого булочника, или этого крикливого парня, раскрывающего на потеху толпе огромную зубастую пасть морской рыбы? Все это было бы хорошо для карикатур. Как хороша была бы для ангела та вон цветочница с ручным голубком на плече, протягивающая с улыбкой свои ароматные букетики!..
А ему надо другое: лица сосредоточенные, полные благородной мысли, и среди них два лица: одно — совершенство, отрешение от жизни и бесконечная любовь… И другое — полная противоположность: предательство и корыстолюбие…
Работа над фреской затягивается, а приор
[37] монастыря, видя, как он, Леонардо, стоит по целым часам над картиной, не делая ни одного мазка, косится на него лукавыми, умеющими принимать смиренное выражение глазами и довольно внятно вздыхает.
Леонардо зашел в таверну. В соседней комнате, у хозяина, куда приходили почесать язык некоторые завсегдатаи, шел разговор о художниках. Стенка была тонкая, не доходившая до потолка, и Леонардо было все слышно. Он разобрал свое имя.
— Леонардо да Винчи, флорентиец? О, мессэре, этот замечательный художник имеет свои недостатки. Он разносторонен по своим талантам, это правда, — в чем только он не может получить пальму первенства! — но у него есть свои особенности: он начинает много, но никогда ничего не кончает, так как, по его мнению, рукой человеческой нельзя довести до совершенства художественное произведение, что сделать это не в силах никакие человеческие руки. Его причудам нет конца: ведь он занимается изучением природы и чего только не касается; он пытается, кроме тайн Земли, проникнуть в тайны небесных сфер, наблюдая за круговращением неба, бегом Луны и пятнами на Солнце, объясняя его затмение и падение звезд…
Голос прервался легким смешком слушателей.
— Верьте мне, обо всем этом мы не раз толковали с художниками, известными достаточно в Милане и приближенными к герцогу, и они удивляются, что герцог так милостив к этому флорентийцу. Он записывает для чего-то всякие сведения… Благодарю вас, мессэре, превосходное, выдержанное вино, — я не пивал такого и в Риме! Однако мне пора идти. Служба… Ах, вот что еще: ведь Леонардо затеял теперь грандиозную фреску "Тайная вечеря" в монастыре Марии делле Грацие и, конечно, не не кончит… Бегу, бегу… У меня дела по горло… Говорят, больна герцогиня… болтают разное… Ох, подозрительна эта изящная фигура художника и ученого на все руки!
Говоривший ушел, хлопнув дверью.
Леонардо увидел в окно двух приятелей, идущих по улице, и в одном узнал герцогского секретаря Бартоломео Канко.
Герцогиня Беатриче заболела после бала, где она до самозабвения танцевала, и умерла под тяжелыми занавесями над своей пышной кроватью. Перед смертью ей вспомнились многие невинные люди чем-либо ей не угодившие, которых она отправила на тот свет. Боясь смерти и ада, которым ее с детства пугали монахи, жалея о жизни, такой блестящей, полной наслаждений, она посылала в монастырь Марии делле Грацие богатые дары. Монахи служили без конца молебны о выздоровлении герцогини. Прошло немного времени, и миланские колокола возвестили протяжным звоном о ее кончине. Лодовико был безутешен. Он рыдал как безумный, потеряв это маленькое грациозное создание, наделенное коварством, злобою и так к нему подходившее…
Пышно похоронили Беатриче д’Эсте, герцогиню Сфорца. Впереди несли знамена из черного шелка. Всадники с траурными хоругвями, с опущенными забралами, на конях, покрытых черными бархатными попонами, тянулись во главе мрачного торжественного шествия. Монахи несли в дорогих шандалах тяжелые, шестифунтовые свечи, повязанные черными лентами. На похоронах присутствовал весь двор, все знатные чужеземцы, находившиеся в Милане.
Беатриче была похоронена в фамильном склепе Сфорца, на кладбище монастыря Марии делле Грацие.
После похорон Моро не принимал пищи и не хотел никого видеть, кроме Леонардо.
Когда Леонардо явился на его зов, он застал Лодовико в постели, худого, страшно изменившегося, с шафранно-желтым лицом. Рыдая, герцог бормотал:
— О Леонардо, только ты один можешь создать ей достойный мавзолей! Прошу тебя, не жалей средств и как можно скорее его закончи! Ах да, монастырь… ты там пишешь "Тайную вечерю"… я приду посмотреть… заставлю отнести себя даже умирающего…
Но, подумав, он велел себя одеть и пошел без свиты, вдвоем с художником, в монастырь.
Они прошли тихо в трапезную, где на стене находилась эта незаконченная замечательная картина, завешенная грубым холстом. Кругом были неубранные леса. Встретившийся монах не узнал герцога, закрывшегося плащом, и угрюмо посмотрел на художника: монахам давно уже надоели эти неубранные леса. Герцог вслед за Леонардо взобрался на стропила. Художник отдернул холст.
Моро замер, не отрывая глаз от того, что увидел. Перед ним были стол и стена, стена, хотя и написанная кистью художника, но казавшаяся прямым продолжением трапезной. За столом — Христос и двенадцать апостолов. Последняя, по евангельской легенде, трапеза Христа со своими учениками.
Леонардо выбрал кульминационный момент тайной вечери, когда Христос говорит ученикам: "Один из вас предаст меня".
Перед художником стояла задача изобразить при этих страшных словах душевные движения всех присутствующих двенадцати апостолов, людей, совершенно различных, и не впасть в однообразие, не повторить себя.
Прекрасно передано впечатление от "Тайной вечери" Леонардо академиком В. Н. Лазаревым, тонко описавшим переживания каждого из сидящих за столом апостолов:
"Подобно брошенному в воду камню, порождающему все более широко расходящиеся по поверхности круги, слова Христа, упавшие среди мертвой тишины, вызывают величайшее движение в собрании, за минуту до того пребывавшем в состоянии полного покоя. Особенно импульсивно откликаются на слова Христа те три апостола, которые сидят по его левую руку. Они образуют неразрывную группу, проникнутую единой волей и единым движением. Молодой Филипп вскочил с места, обращаясь с недоуменным вопросом к Христу. Иаков, старший, в возмущении развел руками и откинулся несколько назад. Фома поднял руку вверх, как бы стремясь отдать себе отчет в происходящем. Группа, расположенная с другой стороны от Христа, проникнута совершенно иным духом. Отделенная от центральной фигуры значительным интервалом, она отличается несравненно большей сдержанностью жестов. Представленный в резком повороте Иуда судорожно сжимает кошель с сребрениками
[38] и со страхом смотрит на Христа; его затененный уродливый, грубый профиль контрастно противопоставлен ярко освещенному прекрасному лицу Иоанна, безвольно опустившего голову на плечо и спокойно сложившего руки на столе. Между Иудой и Иоанном вклинилась голова Петра; наклонившись к Иоанну и опершись левой рукой о его плечо, он что-то шепчет ему на ухо, в то время как его правая рука решительно схватилась за меч, которым он хочет защитить своего учителя. Сидящие около Петра три других апостола повернуты в профиль. Пристально смотря на Христа, они вопрошают его о виновнике предательства. На противоположном конце стола представлена последняя группа из трех фигур. Вытянувший по направлению к Христу руки Матфей с возмущением обращается к пожилому Фаддею, как бы желая получить от него разъяснение всего происходящего. Однако недоуменный жест последнего ясно показывает, что и тот остается в неведении".
Герцог не мог оторвать глаз от фрески, но он был, разумеется, не в силах оценить, как оценил бы художник, все ее значение, оценить передачу евангельского сюжета в сложнейших жизненных психологических подробностях, как не мог оценить и совершенство ее композиции.
И все же, не будучи знатоком, герцог был потрясен.
— Как это замечательно! — вырвалось у Моро. — Теперь понятно, почему ты так долго работал над фрескою, и нечего было монаху ворчать и жаловаться на тебя.
Он говорил о настоятеле монастыря. Леонардо усмехнулся: — А сейчас он недоволен, что я кончил, ваша светлость.
— Это почему? Что-нибудь вышло не по его указке? Он, верно, думал, что ты напишешь Христа в виде бесплотного духа с предвидением крестных мук на челе, а ты дал образ любви и милосердия. И это для приора слишком просто.
— У меня долго оставалось чистое поле стены на месте лика Христа, — сказал Леонардо, — но не это вызвало гнев у его преподобия. Разве вашей светлости ничего не бросилось в глаза? Я говорю об апостолах.
Пристально вглядевшись в лица учеников Христа, герцог вдруг засмеялся:
— Иуда! Явное сходство с приором! Ловко же ты отомстил ему за то, что он не давал тебе покоя, мешая работать! Ну и пусть себе остается за этим столом навеки. Кстати, он так же жадно сжимает свой кошель и скупится развязывать его для детей своей обители, и монахи частенько стонут от его скаредности.
VIII. СУДЬБА МИЛАНА И МОРО
Слава Леонардо была в полном зените. Но эта слава не изменила условий его жизни. Жилось ему очень тяжело; он с трудом сводил концы с концами. После смерти жены герцог, чтобы забыться, делал всякие безумные траты. Расходы его значительно превышали доходы. Он увеличивал налоги; голод и нищета росли с каждым днем. Страна изнемогала, и всюду слышались жалобы, а порою и угрозы по адресу тирана.
Нужда сжимала тисками художника. У него был полный дом учеников, помощников, а денег на содержание не хватало. Наконец он решил послать Моро письмо, которое писать было тяжело и обидно. Леонардо писал, зачеркивал, рвал бумагу, писал снова:
"Я не хочу отказаться от своего искусства… хоть бы давало оно какую-нибудь одежду, хоть некоторую сумму денег… если бы я осмеливался… зная, государь, что ум вашей светлости занят… напомнить вашей светлости мои дела и заброшенное искусство… Моя жизнь на вашей службе… О конной статуе ничего не скажу, ибо понимаю обстоятельства… Мне остается получить жалованье за два года… С двумя мастерами, которые все время были заняты и жили на мой счет… Славные произведения, которыми я мог бы показать грядущим поколениям, чем я был…"
Чтобы заработать хоть немного на жизнь с целым штатом учеников и помощников, Леонардо нередко приходилось посылать в один из монастырей какую-либо наскоро написанную картину.
Наконец, в 1499 году Леонардо получил из дворца грамоту с печатями, которую торжественно привез ему секретарь Моро, Бартоломео Канко, и с церемонным поклоном вручил художнику:
— Поздравляю с великой наградой, щедростью его сиятельства, мессэр Леонардо.
В этих словах слышалась явная насмешка. Два года не платить жалованье и говорить о милости! Леонардо молча развернул бумагу. Это была грамота с дарственной записью:
"Мы, Лодовико Мариа Сфорца, герцог Миланский, удостоверяя гениальность флорентийца Леонардо да Винчи, знаменитейшего живописца, не уступающего как по нашему мнению, так и по мнению всех наиболее сведущих людей никому из живших до нас живописцев, начавшему по нашему повелению разного рода произведения, которые могли бы еще с большим блеском свидетельствовать о несравненном искусстве художника, если бы были окончены, мы сознаем, что если не сделаем ему какого-нибудь подарка, то погрешим против себя самих".
А дальше следовало описание подарка:
"Шестнадцать пертик земли с виноградником, приобретенным у монастыря святого Виктора, именуемым Подгородным, что у Верчельских ворот, жалуем".
Очевидно, Моро почувствовал, что неловко присылать дарственную грамоту, не платя долга, — он прислал с казначеем и задержанное жалованье за два года. Впрочем, дело объяснялось просто: Милан готовился выдержать осаду французских войск, и герцог не жалел денег, чтобы задобрить окружающих.
Статуя же "Колосса" так и осталась неотлитой. "Пусть льется медь!" — было начертано на глине рукой самого Леонардо, но медь и не думала плавиться… У герцога не хватало денег на памятник отцу, и глиняная статуя трескалась, облупливалась на дворцовой площади, губительное время разрушало ее.
Летом, в том же году, когда Леонардо получил дарственную, в Ломбардию ворвались войска французского короля Людовика XII. Их привел изгнанник Тривульцио, личный враг Моро, поставивший своей целью отомстить ему.
2 сентября Леонардо в последний раз, и то издали, на улице, видел герцога. Он шел один, без свиты, в монастырь Марии делле Грацие, вероятно ко гробу Беатриче. А на другой день весь город уже знал, что Моро бежал из Милана в Тироль, к императору Максимилиану
[39].
Немного более чем через три недели французы овладели Миланом. Бернардино да Корте, комендант замка, предательски отдал его во власть неприятеля, войдя в сношения с Тривульцио, находившимся во французских войсках.
Гасконцы, составлявшие немалую часть войск французского короля, с дикими криками лавиной потекли по миланским улицам. Миланцы открывали им двери своих домов и с восторгом встречали как освободителей от тирана, крича:
— Долой Моро, долой угнетателя, запятнавшего себя кровью герцога Джан-Галеаццо! А нас он душил налогами! Да здравствуют наши освободители французы! Да здравствует король Людовик Двенадцатый!
Лязг оружия, победные крики, топот лошадиных копыт, беспорядочные дикие вопли, стоны раненых и умирающих, хохот, кривляние шутов, свистящих на волынках, — все слилось в один оглушительный рев…
Победители творили в городе, так легко им доставшемся, всевозможные бесчинства. Много людей, толпившихся на площади, было потоптано копытами всадников. Французы хозяйничали в лавках и жилищах и именем своего короля грабили и убивали. По улицам беспрепятственно расхаживали шайки бродяг, безнаказанно совершавших насилия и грабежи.
В центре города, на площади, без разбора была свалена дорогая мебель, золотые вещи и шелковые ткани, ядра, пушки, алебарды, копья и сабли, винные бочонки, съестные припасы и мертвецы; валялись разбитые двери, груды рухляди, картины… Ради потехи французские солдаты поджигали дома; улицы наполнял черный дым, и нечем было дышать…
Настала ночь, и сквозь дым на темном пологе неба тускло светила луна, и не было видно звезд; разгромленные улицы и площади освещали только многочисленные костры.
Леонардо пробрался на площадь перед замком. Там толкались беспорядочные толпы пьяных солдат и бродяг. Спокойный, невозмутимый взгляд его светлых проницательных глаз искал предмета для своих наблюдений. Яркое пламя горящих домов давало зловещий свет, и в этом красном свете особенно величественным казался его глиняный "Колосс", гордо галопирующий на великолепном коне.
Солдаты забавлялись тем, что по очереди стреляли в статую, стараясь попасть в лицо Франческо Сфорца.
Художник видел, как на глине остаются глубокие шрамы, как, откалываясь, она осыпается, обнажая гигантский железный остов. Дикая толпа уничтожала великое произведение искусства так же спокойно, как громила только что таверны или питейные дома; она уничтожала "Колосса" в присутствии его творца. Леонардо молча, холодно смотрел на происходившее. Ему на плечо опустилась чья-то дрожащая рука. Он так же равнодушно и устало обернулся назад. Перед ним стоял бледный, трепещущий от негодования Салаино.
— Что случилось, друг мой?
— "Случилось"! — закричал юноша высоким, как у девушки, голосом. — Да как вы можете смотреть на это дьявольское издевательство над статуей! Вы точно не видите ничего, маэстро.
— Ах, ты про это… Ну вижу, все вижу…
— Не понять мне вас, учитель! Вы смотрите совершенно равнодушно…
— Нет, мальчик, очень внимательно и хочу знать, до чего может довести человека опьянение… А что же я, по-твоему, должен был бы делать? Разве не лучшее оружие против неизбежности — спокойствие? Что бы делал ты, если бы был на моем месте?
— Я бы кричал, я бы бросился драться, я бы…
— И ты думаешь, что французские арбалетчики
[40] обратили бы внимание на твой детский гнев и бессильное заступничество? Они только изменили бы мишень и заменили "Колосса" тобою, чтобы потом все-таки прикончить статую бывшего правителя завоеванного города.
На лице Леонардо, бледном и сосредоточенном, застыла обычная непроницаемая улыбка. Салаино опустил голову. Он растерялся: учитель какой-то особенный, непонятный в эту минуту…
Это было прекрасно и страшно.
И, угадывая мысли юноши, художник проговорил тихо, почти шепотом:
— Чем больше чувства, тем сильнее страдание.
Леонардо с учеником вошли в студиоло — маленькую рабочую комнату, где он писал свои заметки о природе и живописи и делал технические чертежи. Их встретил нетерпеливо поджидавший хозяина Зороастро. Салаино еще с большим удивлением, почти со страхом посмотрел на учителя. Лицо художника не только было спокойно — оно казалось радостным, светилось ясной улыбкой. Зороастро с торжеством развернул перед ним огромное крыло летательной машины, которое перевалилось через порог в соседнюю мастерскую, и хохотал заразительным смехом, потрясавшим его массивное тело:
— А ну-ка, показать это французишкам — они со страха дадут тяги, побоятся, что маэстро колдун и нашлет на них мор! Кабы не измена, разве они победили бы наших? Я их всех бы…
Он крепко выругался.
Леонардо с любовью внимательно разглядывал свое изобретение, потом перевел тот же внимательный и нежный взгляд на стол, заваленный бумагами. Здесь было им столько сделано, записано столько мыслей — здесь переживал он великое счастье творчества.
Легкомысленный Салаино, этот вечный ребенок, с ужасом покосился на рабочий стол учителя, за который Леонардо уселся спокойно, как всегда. В огненном зареве слышались крики победителей, там, за окном, шло разрушение, а он готов углубиться в чертежи, вычисления, записи. Юноша не мог понять, как вся эта борьба, победа, унижение и слава, — все это казалось Леонардо ничтожным перед неустанной работой его мысли, перед незыблемо вечными законами природы, которые открывались ей.
Побежденный Милан со дня на день ожидал своего нового владыку — короля французского. Наконец Людовик въехал в город. Тщедушный, с морщинистым, желтым, как пергамент, лицом, он не был похож на могущественного завоевателя. Его окружали принцы, герцоги, блестящие послы Генуи и Венеции. За ним потянулись и страшные войска Цезаря Борджиа, герцога Валентинуа — сына папы Александра VI. Слава о них разнеслась далеко за пределами Италии. Их громадные зубчатые копья напоминали вооружение древних римлян; на плащах, вокруг папского герба, был вышит знаменитый дерзкий девиз их честолюбивого полководца, герцога Валентинуа: "Aut Caesar aut nihil!"
[41] Это войско прославилось своей жестокостью и храбростью. Цезарь набрал в него наиболее свирепых и воинственных солдат из всех наемных армий, воевавших в Италии, предпочитая в особенности тех, которые из-за своих преступлений были изгнаны из рядов собственного войска. Один только Цезарь Борджиа умел справляться с этим скопищем бродяг и негодяев. Он, казалось, был создан, чтобы управлять завзятыми убийцами, одно упоминание о которых наводило ужас на Италию. Наружность их полководца была необычна: лицо его поражало бледностью, от которой блеск громадных черных глаз, загадочных и режущих своим взглядом, как ножами, казался особенно ярким.
"Цезаря можно отличить в какой угодно толпе по глазам, — говорили про него современники. — Ни у кого в мире нет таких страшных глаз, как у герцога Валентинуа".
Цезарь был союзником французского короля.
…На другой день после появления в Милане французский король спрашивал у своей свиты о достопримечательностях Милана.
— В монастыре доминиканцев, — отвечали ему приближенные, — в трапезной Санта Мария делле Грацие, находится знаменитая фреска флорентийского художника Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Если угодно вашему величеству…
— Да, конечно, конечно, я хочу ее видеть.
Торжественно, окруженный пышною свитою и послами, отправился Людовик в монастырь. В свите среди принцев и герцогов находился и Цезарь Борджиа.
Монахи, смиренно кланяясь, проводили знатных гостей в трапезную. Перед ними была она, эта замечательная фреска. На них со стены смотрели лики апостолов и Христа во всей своей жизненной правде. Людовик не мог оторвать глаз от зрелища.
— Великолепно! — вырвалось у него. — Не правда ли, герцог? — обратился он к Цезарю Борджиа. — Но вот что скажите: нельзя ли выломать эту стену, увезти ее
во Францию?
— Невозможно, ваше величество! — воскликнул Цезарь, и тонкие губы его сложились в едва заметную презрительную улыбку.
Людовик слегка нахмурился и надменно сказал:
— Спросите-ка лучше об этом самого художника.
Немедленно послали за Леонардо. Он, конечно, отверг эту затею, спокойно доказав всю ее нелепость. Фреска так и осталась в монастыре Мария делле Грацие.
Судьба, впрочем, не пощадила "Тайной вечери". Она очень плохо сохранилась до нашего времени. Реставрации, не так давно производившиеся для укрепления живописи, мало помогали.
Написанная масляными красками роспись начала разрушаться уже вскоре после ее создания. Неумение предохранить от сырости, от случавшихся наводнений, наконец время сделали эти разрушения катастрофическими.
В Милане шепотом передавали слух, что Лодовико Моро готовится вновь овладеть своей столицей. Настроение миланцев изменилось. Бесчинства, насилия и жестокость пришельцев затмили былой гнет и тиранию герцога. Сначала миланцы восклицали: "Да здравствует Людовик!" — видя во французском короле избавителя от тирана, но потом пожары и разорение города заставили их отыскивать "добро" в правлении герцога Сфорца. Все чаще стали раздаваться возгласы: "Долой французов! Да здравствует наш законный великий государь, герцог Лодовико Сфорца!"
И в Милане снова полилась кровь: миланцы с ожесточением набросились на победителей. Французы заперлись в крепости и оттуда ожесточенно отстреливались.
А Лодовико Моро в это время собирал войско. В лице Цезаря Борджиа он имел яркий образец для подражания и, подобно ему, окружил себя сбродом искателей приключений, состоящих из немецких и швейцарских наемников. Когда армия, думалось ему, была уже готова, он двинулся на Милан. Французы не ожидали этого внезапного нападения, и Моро, поддерживаемый народом, овладел столицей…
Казалось, ликованию не будет конца. Но счастье Моро было непрочно. Не прошло и двух месяцев, как французы снова овладели Миланом. Швейцарец из Люцерна, по имени Шаттенхальб, находившийся на службе у Моро, предал его за несколько тысяч дукатов. На этот раз Лодовико лишился не только имущества, но и свободы… Среди победных криков и ликованья французских войск герцога везли, связанного по рукам и ногам, в клетке, точно зверя. С выражением тупой и бессильной ярости смотрел Моро на глумящуюся толпу.
Бывшего миланского властелина везли из Италии в одну из французских тюрем, и теперь уже навсегда.
Зороастро благодаря своему огромному росту и силе удалось пробраться сквозь толпу, окружавшую повозку с клеткой. Он услышал свистки и наглую песню, которую пели уличные мальчишки. Среди них был и сорванец Джакомо. Приплясывая, мальчишки выкрикивали звонкими голосами:
У нашего Лодовико
Нынче слава невелика:
Плохо дело, спал он с тела,
И корона улетела…
Кто сочинил эту песню — сами ли мальчишки или их научили взрослые, — никому не было известно.
К своему удивлению, Одноглазый увидел, что у самой клетки на носилках, покоившихся на плечах дюжих солдат, лежала пышно одетая дама. В просвете откинутых занавесок мелькнула прекрасная обнаженная рука, золотистый локон, показалась красивая голова. Боже мой, мадонна Цецилия Галле-рани, дом которой после прихода завоевателей был разграблен, а она сама где-то скрывалась!
Красавица наклонилась и крикнула у самых прутьев клетки:
— Эй, герцог без короны, слышишь песенку миланцев? Видишь, как сильна и счастлива Цецилия Галлерани, в то время как Беатриче д’Эсте давно в могиле… Я узнаю, что сделает с тобой мой друг Цезарь Борджиа, герцог Валентинуа…


Часть третья
СКИТАНИЯ
I. НАЧАЛО СКИТАНИЙ
Леонардо спешно собирался в дорогу. Зороастро с учениками укладывали его одежду в дорожные кожаные мешки, и Зороастро ворчал: куда уложить все, что относится к науке и к живописи, — это не запихнешь в мешки, где все мнется. Разглядывая сильно поношенные камзолы и плащи хозяина, он качал головою. Удивительное дело: у маэстро частенько не было денег, чтобы сделать себе необходимое новое платье, но он до сих пор сохранил стройность юноши и так умеет носить одежду, что и не заметишь потертых мест. Зато у него выпрашивает последние деньги на свои наряды эта девчонка в штанах, Джакомо Салаино. Он и теперь боится что-нибудь забыть из своих тряпок в Милане, только и знает, что разглаживает камзолы, колеты и плащи. Вся надежда на Бельтрафио: он усердно возится с картинами и набросками, собирает рисунки и помогает учителю сложить бумаги с чертежами и научными записями, распоряжается, как командир, коротко и ясно, и Марко д’Оджоно, этот тиходум, едва успевает помогать. А мальчишка Джакомо-младший, конечно, удрал бродяжничать с теми, с кем сочинил песенку о герцоге Лодовико: он ни за что не хочет уезжать из Милана. Маэстро когда-то подобрал его на улице, на улицу он теперь и возвратился, ничему не научившись — ни науке, ни живописи, ни толком кузнечному ремеслу от него, Зороастро. Станет бродягой. А Салаино, ох уж этот Салаино! И Зороастро кричит:
— Эй, Салаино, то бишь мессэр Джованни Атонио Капротис, убери свои сорочки!
Все ученики, кроме младшего Джакомо, отправлялись с учителем. Куда их гнала судьба из разгромленного, никем не управляемого города, отданного на разграбление чужеземцам? Они и сами не знают. Пока они все едут на родину, во Флоренцию. С ними и Лука Пачоли, верный друг Леонардо да Винчи.
Как неуютно стало в гнезде, укрывавшем Леонардо с его "выводком"! Повсюду разбросаны битые горшочки от красок, старые кисти; в окно смотрит уныло старое шелковичное дерево, глядя на которое Леонардо размышлял о Моро, и то, другое, персиковое, к которому он прививал яд и не успел добиться результатов опытов. Шелковичное дерево с огромным дуплом стало сохнуть от старости, оно напоминает судьбу изжившего себя тирана Лодовико. Расшатались и скрипят ступеньки лестницы, ведущей в маленькую мастерскую, где была написана "Мадонна в гроте", и мыши бегают взапуски, не боясь людей, шмыгая у них прямо под ногами.
Он выглянул на улицу. Разгром. Зияющие пасти выбитых окон, выломанных рам; двери висят на вывороченных петлях… Только статуя мадонны у Верчельских ворот стоит по-старому, неприкосновенная: грабители, такие же католики, как и миланцы, не решились ее разбить.
А его "Колосс"? А "Тайная вечеря"? Хорошо, что ее нельзя увезти вместе со стеною…
Перед отъездом Леонардо посетил своих миланских друзей Мельци, живших в живописной вилле Ваприо. Эта вилла находилась в пяти часах езды от Милана, на левом, крутом берегу быстрой реки Адды, у подножия величественных Альп. Джироламо Мельци с почтением и любовью относился к Леонардо. Образованный, глубоко интересующийся наукой и искусством, он любил рассуждать о вопросах философии, понимал живопись и скульптуру и разбирался в политике. У него был маленький сын — Франческо. Приезды художника Леонардо да Винчи являлись для маленького Мельци настоящим праздником, и в это последнее свидание мальчик был в отчаянии, поняв, что мудрый, ласковый и хотя не совсем понятный для него, но великий, притягивающий к себе какою-то загадочностью человек оставляет его навсегда. И Леонардо платил нежностью за эту привязанность.
Когда он приезжал в Ваприо, Франческо следовал за ним всюду. Они вместе бродили по берегу Адды и, глядя в ее прозрачные воды, прислушивались к шуму волн в бурю и ловили в нем музыку. Дорогой Леонардо отбивал от утесов небольшие куски и показывал ребенку их строение. В пещерах у подножия гор, где не было никакого намека на существовавшее здесь когда-то море, Леонардо находил раковины и окаменелости морских животных. Ученые того времени не могли объяснить происхождения этих следов моря и довольствовались странным предположением, будто все это явилось в горах благодаря волшебному действию звезд.
— При чем тут звезды? — говорил Леонардо. — Там, мой Франческо, где теперь суша и горы, прежде было дно океана. Природа вечно создает и вечно разрушает. Это круговорот, в котором нет и не может быть конца. Исследование этих маленьких, ничтожных с виду животных может впоследствии дать начало науке о Земле, о ее прошлом и будущем.
Художник любил Ваприо. Здесь, на берегу Адды, под впечатлением от раскинутых там и сям пещер, у него впервые стал складываться пейзаж для его картины "Мадонна в гроте".
Франческо слушал, боясь проронить хоть единое слово. Все это было так ново, так страшно и прекрасно! И он представлял себе былое Ваприо, когда на месте гор и диких уступов Альп расстилалось безбрежное море…
Леонардо старался объяснить все как можно проще и понятнее.
Франческо познакомился благодаря Леонардо и с новым прибором, который его старший друг придумал для измерения влажности воздуха. Леонардо знакомил его со строением животных и растений. Он все знал, этот великий человек, и обо всем умел замечательно рассказать. Но еще больше привязался к нему Франческо в ту пору, когда он задумал написать картину. Тут уж Франческо старался не отходить от него ни на час. С восторгом следил Франческо, как рука художника набрасывала знакомые ему скалы, пещеру, куда они любили заходить во время солнечного зноя, любуясь изящными сталактитами. Это был эскиз будущей картины, о которой он еще не рассказал мальчику.
— Учитель, — сказал как-то раз неожиданно Франческо, — когда я немного подрасту, возьмите меня к себе в ученики, как взяли Джакомо Капротиса, что зовете Салаино; я люблю рисовать и буду учиться всему, чему вы учите своих учеников. И, кроме рисования, подле вас я узнаю еще очень много важного, потому что лучше, умнее и ученее вас нет никого на свете!
И как раз в это время в комнату Леонардо вошел приехавший с ним в Ваприо Салаино. В руках его были листы с набросками углем, сделанные детски неуверенной рукою. На них были ангелы с аккуратно выведенными на крыльях перышками, мадонна с тарелкообразным сиянием; тут же растения, зверьки, раковины… Все было неуклюже, наивно, неверно, но во всем сказывалась наблюдательность.
— Вот рисунки Франческо, — объявил со смехом Салаино, — он прятал их.
Леонардо внимательно посмотрел на рисунки.
— Ты еще мал, — сказал он, — но ты любишь искусство и наблюдателен. Ты обо многом думаешь. Подрасти немного, и, если у тебя не отпадет охота, я возьму тебя в свои ученики.
Леонардо собрался уезжать. За прощальным обедом гостеприимный Мельци говорил:
— Ты едешь в мятежную страну, любезный друг. Я должен сказать правду про твою родину — ведь я хорошо знаю Флоренцию, потому что постоянно имею дело с ее банкирами и купцами при отправке шерстяных тканей из Флоренции за границу. Там нельзя быть спокойным ни за один день. Сегодня царят Медичи, завтра их называют тиранами, и народ, возбужденный монахом Савонаролой
[42], гонит их, а потом разочаровывается и в Савонароле и позволяет сжечь его. До того ли этому народу, чтобы поддерживать искусство! Художникам, по-моему, там невеселое житье. Не забывай, что в Ваприо ты свой человек, желанный гость.
Леонардо тихо отвечал:
— У меня нет слов для благодарности. А Флоренция, а тираны и ораторы, которых сжигают… Надо помнить, что одному человеку не истребить пороков всего мира…
II. ОПЯТЬ НА РОДИНЕ
Флоренция… Нет, это уже не тот город искусств и нищеты, замаскированной весельем — подачкой тирана, который был так хорошо знаком Леонардо. Исчезли причуды Лоренцо Медичи, а с ними и крупные заказы тянувшихся за Лоренцо Великолепным меценатов
[43]. Многих знакомых зданий и домов он не нашел. На месте лавки мессэра Веспасиано, на которой когда-то гордо красовалось живописное изображение груды книг и свертков старых рукописей, помещалась банкирская контора.
Леонардо начал жить с семьей учеников, сократив свои потребности как только мог, все-таки надеясь получить заказ на украшение одного из монастырей или церквей города. Большего заказа, пожалуй, в данный момент он и не желал: слишком много отдал душевных сил на "Тайную вечерю" и сейчас он увлечен научными изысканиями.
В тесном помещении снова появились колбы, реторты, перегонные трубки и даже горн, на столе — чертежи и записки с математическими формулами. Может быть, разумнее было переехать в Винчи? Он и поехал в Винчи проведать отца и поговорить с ним о плане своего устройства на родине. Но первое же свидание показало художнику, что дороги его с отцом давно разошлись и он не найдет у него ни совета, ни поддержки.
Одряхлевший старик встретил его за столом, где к обеду собралась вся его семья. Леонардо было бы трудно запомнить имена своих братьев и сестер, так их было много. Мачеха, плохо причесанная, небрежно одетая, раздраженная, грубо кричала на детей и на служанку. Отец разводил руками:
— Видишь, сынок, как мы живем… А ты ко мне за советом… Какой я теперь советчик? Я взял себе помощника — сдал все книги, знай подписываю свою фамилию, когда он мне подготовит дело… Хе-хе… Зато больше отдыхаю и копаюсь в саду… Славные я выращиваю артишоки — первые в округе… А деньги? Денег как будто хватает… — Он вздохнул. — Только помочь я тебе не могу — мне бы самому свести концы с концами… Вот жив был бы Вероккио, тогда иное дело — он бы посоветовал; смерть унесла его, поди, уж лет двенадцать… да, точно двенадцать лет… Я же что? Хе-хе, знаешь: "Кто ничего не имеет, тот и сам ничто". Добывай себе сам судьбу, сынок, а я… я что… ты видел…
Жена покрикивала на мессэра Пьеро да Винчи.
Что было общего у Леонардо с этой семьей? Он уехал с тяжелым сердцем.
Взяв в аренду тесное помещение на одной из центральных улиц Флоренции, Леонардо открыл мастерскую и получил скоро кое-какие маленькие заказы: писал для часовни на могиле одного из разбогатевших купцов маленькую мадонну да выполнил для новой картины большой подготовительный рисунок — картон с изображением Анны с ее дочерью Марией, внуком Иисусом и Иоанном Крестителем. Этот картон был поставлен посреди мастерской, и Леонардо хотел, чтобы каждый из учеников что-либо сказал о нем.
Марко д’Оджоно восхищался, как всегда чрезмерно, всем, говоря общими фразами. Больтрафио тихо, вдумчиво заметил нежность и мягкость улыбок, особенно у Марии, а Салаино, слыша, как перед этим хвалил картон зашедший к Леонардо художник Филиппино Липпи, повторял его слова по памяти:
— Удивительная, тончайшая светотень… какая композиция!..
— Какая? — спросил Леонардо.
Салаино смешался:
— Живописная… ну, удивительная…
Художник улыбнулся.
— Вы смеетесь… — пробормотал Салаино, — а ведь так сказал мессэр Филиппино Липпи.
— Друг мой, — добродушно проговорил Леонардо, потрепав Салаино по плечу, — кто ссылается только на авторитет, тот применяет не свой ум, а скорее свою память.
Приход Филиппино Липпи навел Леонардо на воспоминания о милом старом времени, когда он вращался в кругу тогдашних молодых флорентийских художников. Вспомнилась жизнь у Вероккио, Лоренцо Креди, кроткий, женственный и остроумный Сандро Боттичелли, на язычок которого не попадись. Однажды, когда тот только обзаводился своей мастерской, возле него поселился суконщик и, имея восемь станков, работал на них сразу и так шумел, что сотрясал весь дом и невозможно было ни рисовать, ни писать кистью. Сколько ни просил суконщика художник, ответ был один:
"Я хозяин своей жизни и волен делать, как мне вздумается".
Тогда Боттичелли надумал проучить его. Он влез на крышу своего дома, стена которого была выше стены суконщика, и приволок с собою огромный камень. Укрепив его на самом краю так, что в любую минуту он мог упасть на дом суконщика, он стал следить, что будет делать его сосед. Увидев все это, суконщик смекнул, что, если он пустит в ход все свои восемь станков, камень сорвется от сотрясения и раздавит его домишко. Он стал просить художника убрать камень.
— Я хозяин своего дома и волен делать что хочу, — отвечал Сандро.
Пришлось суконщику поступиться своими восемью станками, и камень исчез с крыши.
Леонардо захотелось увидать своего старого знакомца.
Судьба точно подслушала его желание.
Как-то во время прогулки художника остановил чей-то знакомый голос, который тихо, меланхолично и грустно произносил вслух стихи Данте.
У одного из выступов церкви Санта-Мария дель Фьоре стоял согбенный человек, лицо которого показалось Леонардо знакомым. Человек поднял голову, и Леонардо отшатнулся: это был Сандро Боттичелли. Но как он страшно изменился! Ведь он только на семь лет старше самого Леонардо, ему нет еще и пятидесяти пяти лет, а он кажется глубоким стариком. Это морщинистое лицо, выражение муки в глазах, изможденное тело, седые пряди, беспорядочно повисшие вокруг впавших щек, эта бледность мертвеца… И все-таки это Сандро, шутник Сандро…
— Друг мой, — проговорил с трудом Леонардо, чувствуя, что горло его сжимает спазма, — так вот при каких обстоятельствах нам приходится встретиться!
Глаза Боттичелли не изменили выражения, только губы слегка дрогнули.
— С тех пор как великий пророк Джироламо Савонарола умер, — сказал он глухо, — я не нахожу для себя другого занятия, как чтение "Божественной комедии"… Я сделал к ней рисунки… говорят, они чересчур мрачны для такого веселого человека, каким я был… Я не забросил и живописи. Образы святых мучеников вдохновляют меня… я только сжег в огне фра Джироламо то, что подсказано мне было грехом… Но его уже нет, его уже нет с нами, великого пророка!
— А Креди? — спросил Леонардо. — Что сталось с Креди?
— Ты хочешь его видеть? Он сейчас там.
Сандро благоговейно указал на видневшиеся вдали мрачные очертания монастыря Сан-Марко, настоятелем которого был еще так недавно Савонарола.
— Молитва не мешает ему писать небесные видения… А Баччо делла Порта, ты знаешь, принял монашество в Сан-Марко. Сегодня Креди будет у него. Он звал и меня… Они часто видятся друг с другом. Хочешь, я проведу тебя к ним? — И Боттичелли поднялся.
Эти два когда-то близко знакомых человека теперь шли рядом как чужие и испытывали неловкость, не зная, о чем говорить.
Так молча прошли они несколько улиц и вошли в калитку монастыря. Привратник впустил их в длинный коридор. Они прошли мимо кельи Савонаролы, где все убранство было в точности сохранено, оберегаемое монахами. Боттичелли не ошибся: Лоренцо Креди сидел в тесной келье Баччо делла Порта, который теперь назывался фра Бартоломео. В своем непривычном для Леонардо доминиканском белом куколе фра Бартоломео казался необычайно строгим. Келья носила явные следы почитания памяти казненного пророка — всюду были его вещи: старый куколь, вериги, обрывок рукописи, ладанка с пеплом от страшного костра, а на одной из стен висел портрет Савонаролы, резкий профиль которого должен был постоянно напоминать фра Бартоломео о его монашеском обете.
Фра Бартоломео сидел в своей келье, а Креди медленно и прочувствованно читал вслух проповеди Савонаролы. Заметив вошедших, он сказал:
— Сейчас кончу. "Алтарь стал для духовенства лавочкой…" Ах, Леонардо, нас начинают называть плаксами за печальный напев наших песнопений…
Это был все тот же Креди, мягкий и чувствительный. Он обрадовался Леонардо и просто сказал:
— А мы с ним… с Баччо… с братом Бартоломео, пишем для обители.
Креди говорил мало, сильно волнуясь, и, видимо, его останавливало то, что Леонардо пришел как чужак, не бывший свидетелем страшных событий во Флоренции.
С грустным чувством покинул Леонардо монастырь и вернулся домой.
Подойдя к дому, где он поселился, Леонардо услышал хохот, крики и какие-то необычайные звуки, не похожие на человеческие голоса. Выделялся громоподобный бас Зороастро:
— А, чертова образина, погоди, я тебе покажу, как таскать со стола маэстро трубки!
Сквозь взрывы хохота Салаино прорвался беспомощносерьезный окрик Больтрафио:
— Не испугайте ее, чтобы она не испортила опыта учителя! Она может сломать трубку!
Когда Леонардо вошел в мастерскую, он увидел странную картину: ученики во главе с Зороастро столпились около полок, где лежали свертки его чертежей, а на верхней из них сидела маленькая обезьянка. Она вертела похищенную с рабочего стола стеклянную трубку и внимательно ее рассматривала.
— Потише, друзья, — раздался голос, и из-за мольберта выступила знакомая фигура художника, который в последнее время жил и работал в Сьене и только наезжал во Флоренцию.
Имя его было Джованантонио Бацци, по прозванию Содома, из-за его беспорядочной, безалаберной жизни. Привычки эти, очевидно, создались в раннем детстве, и примером послужил отец Бацци, Очень зажиточный сапожный мастер, имевший большое дело и державший много подмастерьев. Притеснять своих учеников, если они у него будут, Джованантонио не собирался, ведь он и сам недавно числился учеником, но сорить деньгами и потакать своим причудам, как отец, у него вошло в привычку.
Ему не было еще и двадцати пяти лет; одевался он весьма неряшливо, но, видимо, костюм с застегнутыми неправильно пуговицами сшил хороший портной и из дорогого материала, а пуговицы на камзоле Содомы были из смарагдов. С необычайной живостью он побежал навстречу Леонардо:
— Умоляю простить меня и мою маленькую шалунью Летти, с которой я не люблю расставаться и осмелился привезти к вам, великому учителю всех нас, живописцев… Уж очень хотелось мне увидеть вас после этого разгрома Милана, которого и я был свидетелем… У меня в Сьене в доме целый зверинец, но я не решился взять с собою даже любимого своего барсучка Пеппо… Летти, ко мне! Осторожно, моя красавица! Дай мне трубочку! Не жалей для меня — ведь я тебя люблю!
Крошечная мартышка, услышав ласковые слова хозяина, осторожно спустилась с полки, подбежала к нему, прыгнула на плечо и, отдав ему трубку, обвила его шею, нежно прижавшись к растрепанной голове.
Леонардо, смеясь, попросил гостя садиться и, найдя на окне апельсин, протянул его зверьку.
Ученики и Зороастро ушли, не желая мешать разговору художников.
Леонардо был рад гостю. Он ценил талант этого оригинального человека и нисколько не осуждал его чудачества.
— Меня зовут Содома, и я не обижаюсь, а монахи Сан-Монте Оливетто, куда я ездил по приглашению их настоятеля расписывать церковь, прозвали меня Матаччо… Что такое Матаччо, маэстро? Пустое слово, но, очевидно, насмешка, и я, если выполню заказ, насмеюсь над ними вволю… даже, возможно, намалюю их грешниками в аду!
Он говорил о своих фресках для церкви в Монте Оливетто, работая над которыми не мог удержаться, чтобы не насолить монахам, — ведь он натерпелся довольно от их скаредности и ханжества. Приняв заказ на фреску "Изгнание куртизанок", он решил наказать монахов и написал женские фигуры нагими, что привело в смущение святых отцов. Но, когда они стали просить переделать фреску, озорник Содома закричал: "Хорошо, но за одежду платят портному — извольте-ка заплатить и Матаччо, он даром работать не станет".
И монахи, кряхтя, прибавили ему.
Он болтал без умолку:
— Если бы вы побывали у меня в доме в Сьене, вы бы увидели такое, что вам и не снится; в моем Ноевом ковчеге
[44] много всяких животных.
— Каких же? — смеясь, спросил Леонардо.
— Летти — первая, — перечислял Джованантонио, загибая пальцы, — барсучок Пеппо — второй, потом ослик, потом несколько белок — ужасно они плодовиты, потом лошадки, малютки пони с острова Эльба, а еще индийские голуби и карликовые куры, и то, что вызывает зависть у соседей, и я боюсь, что у меня его украдут, — ворон, удивительная птица: он разговаривает и понимает меня, передразнивает, совершенно подражая моему голосу. Я иногда пользуюсь этим, желая кого-нибудь напугать… Ох, я у вас засиделся, а мне надо еще тут у многих побывать.
Он что-то мялся и не уходил, рассматривая развернутый анатомический рисунок, потом взглянул выразительно на Леонардо и лукаво прищурился. В глазах запрыгали бесовские огоньки озорника Матаччо. Леонардо не подозревал, что гость мысленно оценивает, на чем основаны слухи о колдовстве и безбожии великого художника, распространявшиеся упорно в Милане. И вдруг он сказал каким-то вызывающим тоном:
— На прощание я оставлю вам кое-что, маэстро, весьма интересное и редкое, что мне удалось найти в Милане, вращаясь среди монахов и тех, кто является их пересмешниками… Только, ради бога, заприте под замок и никому ни слова, а то попадешь под папское проклятье или и того хуже. Я за этим завтра зайду.
III. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Джованантонио ушел, а Леонардо долго сидел задумавшись. Сегодня перед ним прошли образы товарищей по профессии, совершенно различных по своему духовному складу, и по своей судьбе, и по возрасту.
Снова он вспомнил, что Боттичелли бросил в "костер покаяния" свои замечательные картины, казавшиеся ему греховными в пылу увлечения проповедью Савонаролы, и это тяжело отозвалось в душе Леонардо. Он хорошо знал его прекрасные произведения, особенно любил "Поклонение волхвов", где среди пришедших к яслям поклониться Иисусу были изображены два брата Медичи — Лоренцо и Джулиано. Ах, Джулиано, погибший от руки Пацци в церкви! Невозможно забыть это лицо, увековеченное на портрете Сандро, это бледное лицо с тонкими чертами и опущенными ресницами под смелым взмахом бровей, и эту улыбку, чуть приподнявшую углы губ. Что он думает, этот баловень природы? Какая загадка в этих опущенных веках и какая бездна страсти, желаний, отваги и пороков в глубине этих скрытых глаз?
А "Весна" Боттичелли, с сопровождающими ее зефирами и грациями, которую когда-то он писал для виллы Козимо Медичи, и другие, где он не боялся снять покровы с прекрасного, совершенного тела, как делали это древние греки!
А вот Содома иной. В смелых набросках и фресках он успел показать свой незаурядный талант. Уж этот не боится показать на картине обнаженное тело и, учась у греков с их поклонением природе, не хочет признавать ханжеские поповские каноны. Он смело говорит кистью то, чего просит душа, и не прочь посмеяться над монашескими бреднями.
Что такое он принес, о чем не следует говорить, что могут не только осудить, но и отметить, как преступление?
Леонардо развернул свертки. Гравюры. Но какие! Откуда их взял этот молодой, озорной художник? Леонардо никогда еще не попадались эти еретические гравюры, очевидно ходившие по рукам среди свободомыслящих граждан Италии, ненавидевших монашеские россказни и ханжество.
Вспомнились папские буллы, индульгенции, разрешающие грехи, вплоть до убийства, — содеянные и те, что только еще будут содеяны… Что же все-таки принес этот чарующий безумец, прозванный Содомой?.. Посмотрим, посмотрим…
Первою попалась огромная гравюра: папская тиара венчает пирамиду, построенную из множества перевившихся между собою змей.
На других листах король, целующий ногу у папы, веселящийся Ватикан… Но вот опять замечательная карикатура: "Духовенство в аду".
Карикатуры заинтересовали Леонардо, даже разогнали тяжелое настроение, навеянное посещением монастыря Сан-Марко. Молодец этот озорник Бацци Содома!
Но что всего больше понравилось ему — это немецкая карикатура, очевидно недавнего происхождения. Откуда взял ее Содома? Вероятно, еретики побывали в Италии. Может быть, это были купцы с какими-нибудь товарами. Но где на них набрел проказник Бацци? Впрочем, на ловца и зверь бежит.
— И то, — сказал вслух Леонардо. — Chi сегса — trova!
[45]Это самая тонкая, самая замечательная карикатура, не только по замыслу, но и по рисунку. На ней была изображейа исповедальня и на месте духовника — сидящий с глубокомысленным видом монах, подперший рукою свое лицо — нет, не лицо, а морду волка. К нему стремятся овцы, выстроившиеся гуськом и покорно ожидая своей очереди, и одна из них доверчиво шепчет в волчье ухо свои невинные овечьи грехи, положив передние ножки ему на колени, а святой отец-волк, очевидно, обдумывает, как лучше освежевать свою духовную дочь.
Нет, этот проказник Бацци вовсе не такой пустой человек, как о нем идет молва!
Рука Леонардо в раздумье водила карандашом по листу бумаги. Из-под карандаша выходила странная фигура монаха в лодке. Монашеское смиренное одеяние, куколь на голове, и из него выглядывает волчья морда, хищная морда с жадным и хитрым выражением глаз. Куда плывет этот волк-монах? Для чего?
Волны безбрежного моря несут его вдаль, чтобы захватывать овец всего мира в волчью пасть, называемую католическою церковью.
Он был провидец: пройдет несколько десятков лет, и в Риме родится новое учреждение — страшная волчья западня инквизиции, которая будет ловить свои жертвы хоть на краю света.
Но, видно, во Флоренции не так-то легко теперь получить хороший заказ на живописную работу, иначе в августе 1502 года не было бы такого печального беспорядка в скромной квартире Леонардо да Винчи, знаменитого итальянского художника. Собрав все, что у него было от прежних сбережений, он оставил деньги Больтрафио, как самому разумному, и советовал сохранить мастерскую и принимать заказы на живописные произведения, а сам "до лучших времен" "пустился в плавание", как говорил насмешник Салаино.
Из всей его "семьи" с ним пускался в неведомый путь только один Зороастро, который не мог себе представить жизнь без маэстро.
А ехали они на службу к самому страшному, вероломному и жестокому из всех правителей итальянских государств — к самому Цезарю Борджиа.
Цезарь Борджиа, собрав большие силы наемников, шел в свой третий по счету поход на Романью, и ему нужен был военный инженер. Он вспомнил о Леонардо и написал приказ: всем кастелянам, капитанам, кондотьерам и солдатам давать свободный пропуск и оказывать всякое содействие "архитектору и генеральному инженеру Леонардо да Винчи".
И Леонардо отправился в поход.
"Если нельзя заниматься тем, к чему тянет, то не все ли равно, — думал он, — кому из них служить, если все, от кого зависит существование художника, похожи на тех волков, которые изображены на немецкой гравюре, будь они герцоги, короли или папы…" Так, по крайней мере, думает и его спутник, кузнец Зороастро. Он говорит:
— Чужой хлеб везде горек, а свой еще не созрел.
Когда же он созреет для знаменитого, известного в каждом уголке Италии мессэра Леонардо да Винчи?
Впрочем, эти чертежи укреплений и постройка осадных орудий, эти военные походы с Цезарем Борджиа были недолги. Леонардо не мог примириться с его разбойничьими набегами. Кроме того, он искал более широкого поля деятельности. Поэтому, как только представилась возможность, приняв предложение гонфалоньера
[46] Флорентийской республики Содерини, он вернулся во Флоренцию, чтобы принять участие в осаде отложившейся от Флоренции Пизы, взяв на себя обязанности военного инженера…
У Леонардо бывали моменты раздумья, когда он подводил итоги пройденной жизни. Об этом последнем периоде жизни, начиная с Милана, он писал в своей записной книжке:
"Герцог потерял жизнь, имущество, свободу, и ничего из предпринятого им не было закончено".
Он говорил, конечно, о Лодовико Сфорца. Но немногим лучше была судьба Цезаря Борджиа. После разгрома Милана он возомнил себя способным завоевать чуть ли не все земли Италии, опираясь на покровительство своего отца, всесильного папы Александра VI. Но внезапная смерть папы, выпившего по ошибке яд, приготовленный им для убийства кардиналов, привела к падению и могущества семьи Борджиа; Цезарю пришлось укрыться в Испании, где он вел жизнь простого искателя приключений и был убит при осаде одной из крепостей.
IV. ВЕЛИКИЕ РАБОТЫ
С возвращением Леонардо в его мастерской по-прежнему целыми днями слышался то грохот молота и визг пилы, то оживленные голоса, казалось прорывающиеся во все щели наружу; в окнах мелькали веселые лица учеников, в мастерской же на подоконниках сушились растения, а порою и распластанные, отпрепарированные части мелких животных. И снова густой дым поднимался над крышей: Зороастро разжигал горн — мало ли что понадобится мессэру Леонардо для его опытов. И, любя поговорки, Одноглазый весело повторял: Anche la disgrazia giova a qualche cosa…
[47]
Под несчастьем он понимал отсутствие маэстро.
Добравшись до своего угла, стосковавшись в скитаниях с Цезарем Борджиа по привычным занятиям, Леонардо со страстью набросился на науку. Он погрузился в математику и астрономию, проверял свои физические приборы, взялся попутно за геометрические выкладки и чертежи летательной машины.
— Человек должен победить воздух, как он победил воду, построив огромные, могучие корабли, не боящиеся бесконечного морского пространства.
Договор с Содерини не мешал Леонардо заниматься наукой: гонфалоньер не требовал, как Цезарь, постоянного участия в походах. Более того — Леонардо было поручено расписать одну из стен залы Большого совета в Палаццо Веккио. Сюжетом для росписи являлся эпизод из войны флорентийцев с ломбардцами, окончившийся победою флорентийцев, — "Битва при Ангиари". Работа должна была затянуться не на один год; значит, в ближайшее время не предвиделось скитаний, и это радовало Леонардо.
Синьория решила заказать фрески в зале Большого совета одновременно двум знаменитым художникам Италии — Леонардо да Винчи и Микеланджело. Оба были флорентийцы, оба прославились и как живописцы и как скульпторы. Вскоре после того как "Колосс" Леонардо был расстрелян французскими арбалетчиками, во Флоренции особая комиссия, в которую вошел и Леонардо, обсуждала план установки на площади законченной Микеланджело статуи Давида.
Во Флоренции только и было разговора, что о заказе для залы Большого совета. Два художника, получивших этот заказ, пользовались в Италии равной известностью: старший годами Леонардо прославился в Милане "Тайной вечерею", о которой рассказывали небылицы. Французский король будто бы велел отрубить голову архитектору, сказавшему, что выполнить королевское желание и увезти во Францию стену монастыря невозможно. Да мало ли еще ходило басен вокруг имени Леонардо да Винчи! Загадочной казалась и сама фигура его, в любимом розовом длинном одеянии, немножко старомодном, но изящном, и выражение спокойствия и сосредоточенности, и его научные занятия…
Другой знаменитый художник, Микеланджело, был совсем иного склада. Его "Давид", еще скрытый дощатой оградой от любопытных взоров, скоро украсит одну из городских площадей, и говорят, что это удивительная скульптура; имя Микеланджело широко известно в Италии как имя патриота, готового отдать жизнь за республику и ненавидящего ее тиранов, друга простого народа, познавшего нужду и не гнушавшегося сидеть за одним столом со своими краскотерами. Недаром он был воспитан в каменоломнях близ Сеттиньяно, в семье простого каменотеса. У него и характер иной, чем у Леонардо: он вспыльчив, резок, часто кажется грубым благодаря своей прямоте. Разные по характеру и привычкам, эти два гения не любили друг друга.
Вся Флоренция с нетерпением ждала, как встретятся эти два величайших мастера и чье произведение окажется сильнее.
И вот художники приступили к работе. Леонардо заранее знал, что не только роспись, но и самая подготовка к исполнению фрески возьмет у него очень много времени. Так и вышло: картон, с которого он должен был писать фреску, занял у него почти два года.
Сначала Леонардо хотел дать широкую картину сражения. На стене залы должны были предстать несколько эпизодов этой памятной битвы, дающих в целом полное о ней представление. Но чем больше он углублялся в работу, тем больше думал о ее упрощении. Конечно, ему, как всегда, необходимо найти удовлетворяющую его по своей цельности композицию, которая в то же время давала бы ясное представление о горячности битвы, об отваге сражающихся. Лучше всего, решил художник, дать центральным эпизодом борьбу всадников из-за знамени. На картоне появились две фигуры на разъяренных лошадях; они бросаются вперед, чтобы отбить знамя. Оно в руках у знаменосца, крепко ухватившегося за древко. К знаменосцу спешит на помощь товарищ; закованный в латы, он поднимает тяжелый меч. Вот два спешившихся воина под конями, поднявшимися на дыбы; они уже на земле, но и, умирая, в последней схватке готовятся поразить один другого последним ударом. Справа — воин, прикрывающийся щитом. В картине боя выдержана цельность, напряжение борьбы до последнего вздоха и такое разнообразие движений, передающих психологию сражающихся, что этот отдельный эпизод должен был дать представление обо всей битве.
Окончив картон, Леонардо должен был приступить к росписи, но прежде гонфалоньер захотел показать Флоренции законченные композиции двух величайших итальянских мастеров.
На своем картоне Микеланджело изобразил эпизод Кашинской битвы под Пизой в XIV веке. Пизанцы попытались захватить флорентийцев врасплох, когда солдаты купались в реке Арно. В лагере забили только что тревогу… Художник с необычайным мастерством показал разнообразные движения купающихся: одни спешат выбраться из воды, другие вооружаются: кто пристегивает панцирь, кто схватился за оружие.
Картон Леонардо не сохранился, как и его роспись. Впрочем, сохранились замечательные подготовительные наброски и этюды. Существует также несколько старых копий и гравюр с картона Леонардо.
Палаццо Веккио широко распахнуло свои двери для зрителей, желающих взглянуть на замечательные картоны.
Уже давно по Флоренции шла о них молва, и разговорам не было конца.
У Леонардо была изображена со всей беспощадной правдой ярость людских страстей в момент битвы. У Микеланджело были живые, реальные люди; реальны были в мельчайших подробностях все их движения, вызванные внезапной военной тревогою.
Насколько мадонны Леонардо привлекали своею нежностью и грацией, настолько картон вызывал ужас. Но Леонардо и хотел, чтобы эта его работа вызывала у зрителей волнение и страх. Оставаясь спокойным и уравновешенным, он мог изобразить страшное еще тогда, когда почти ребенком написал для отца на круглом щите голову Медузы; он разрабатывал свои произведения во всех мельчайших тонкостях.
"Сделай так, — говорил Леонардо, — чтобы дым от пушек смешивался в воздухе с пылью, поднимаемой движением лошадей сражающихся. Чем больше сражающиеся вовлечены в этот вихрь, тем менее они видны и тем менее заметна резкая разница между их частями, находящимися на солнце и в тени. Если ты изображаешь упавшего человека, то сделай так, чтобы видно было, как он скользит по пыли, образующей кровавую грязь. Где почва менее залита кровью, там должны быть видны отпечатки лошадиных и человеческих шагов. Если победители устремляются вперед, их волосы и другие легкие предметы должны развеваться ветром, брови должны быть нахмурены; все противолежащие части должны соответствовать друг другу своими соразмерными движениями. Побежденные бледны; их брови около носа приподняты; лбы их покрыты глубокими морщинами; носы пересечены складками".
Слава об удивительных картонах давно уже разнеслась по всей Италии, и художники из разных городов приезжали, чтобы увидеть наконец их.
В Палаццо Веккио явился молодой Рафаэль и восторженными глазами смотрел на оба произведения. И, когда Перуджино — "патриарх", учитель уже прославленного Рафаэля, спросил, который из картонов ему больше нравится, юноша глубоко задумался; на его прекрасное лицо с ясным, "солнечным" выражением набежала тень. Тряхнув густыми каштановыми кудрями, молодой художник прямо посмотрел в глаза Перуджино и горячо сказал:
— Оба, оба, маэстро, уверяю вас! Я говорю это от чистого сердца и был бы огорчен, если бы мое преклонение перед личными достоинствами мессэра Леонардо да Винчи заставило меня быть несправедливым к мессэру Буонарроти.
Не было двух людей, менее похожих друг на друга, чем Леонардо и Микеланджело. Разносторонние научные интересы и таланты исследователя отвлекали Леонардо от искусства и заставляли его быть сосредоточенно-замкнутым. Рожденный и воспитанный в состоятельной семье, взлелеянный, как нежное растение, заботливыми женскими руками, красивый, изящный, он хорошо одевался и отличался хорошими манерами. Иным был Микеланджело. Некрасивый, нескладный, с грубоватыми манерами, он мало считался с тем, что называлось "умением держать себя", привык говорить правду в глаза и ради деликатности ни за что бы не покривил душою. Он не уживался ни при каком дворе, ни при герцогском, ни при папском, и чувствовал себя хорошо только с простыми людьми — с товарищами по работе или со скарпеллино — каменотесами и другими ремесленниками.
Все эти качества заставляли его избегать общества изящного Леонардо и чувствовать к нему неприязнь, основанную только на его внешнем превосходстве. Эта неприязнь заставила Микеланджело нарочно явиться в Палаццо Веккио одетым в самый плохой, поношенный костюм и в заштопанном темном плаще.
Рафаэля, мягкого, привыкшего всюду чувствовать себя же-данным, отталкивала резкость Микеланджело, — его тянуло к уравновешенному и приятному собеседнику Леонардо да Винчи, с которым можно было говорить на многие темы, чуждые Микеланджело.
Никто не вышел победителем из этого художественного турнира, вернее — оба художника победили друг друга, так хороши были картоны.
Теперь оставалось выполнить фрески.
Леонардо, начав работу над стенною живописью, наткнулся на помеху: его не удовлетворяли краски, которыми он до сих пор работал, и он отдался опытам, изобретая всё новые и новые соединения.
Не начал фрески и Микеланджело по многим сложным обстоятельствам. Картон его не дошел до нас. Говорят, он сделался жертвою низкой зависти. Во время одной из смут, частых в беспокойной Флоренции, известный художник Бандинелли тайно проник в залу собрания и кинжалом изрезал в куски произведение Буонарроти.
V. МОНА ЛИЗА
Еще перед самым началом работы в Палаццо Веккио Леонардо получил письмо от очень почитаемого во Флоренции банкира Франческо делле Джокондо, известного своим богатством и щедрыми взносами на общественные нужды и нужды церкви. Письмо было написано затейливо-пышным языком, в выражениях не только почтительных, но и полных благоговения к высокому дарованию и известности единственного и несравненного мессэра Леонардо да Винчи. После всех этих пышных эпитетов следовало почтительнейшее
приглашение зайти в дом покорного слуги маэстро, мессэра Джокондо.
Слыша, как Леонардо, смеясь, читал вслух ученикам полученное письмо, Зороастро изрек:
— Asino che ha fame mangia d’ogni strame…
[48]
Эта пословица не сходила с языка Одноглазого, слишком наголодавшегося в пору неудач мастера и не верившего в хорошие заказы.
И он продолжал:
— Ежели и закажет синьор Джокондо, то, уж наверно, предложит какой-нибудь пустяк. Эти богачи скорее опорожнят свой кошелек в карман падре, чтобы тот усерднее молился за спасение их грешной души, чем заплатят как следует зна-ме-ни-тей-ше-му во всем ми-ре художнику Леонардо да Винчи.
Эта воркотня вызвала смех учеников и рассеянную улыбку у Леонардо. Он сказал, потрепав по плечу Зороастро:
— Ладно, старик, подай-ка мне лучше мой новый костюм, да не забудь плащ. Я иду.
В красивом доме Джокондо, с фонтаном в виде художественно исполненных дельфинов, что виднелся за аркой, на фоне цветущих деревьев, Леонардо приняли с почетом. В кабинете, заваленном счетными книгами, появились слуги с большим подносом, заставленным сладостями и напитками, и два синьора угощали пришедшего: мессэр Джокондо, человек лет сорока пяти, с благообразным лицом и уже порядочной лысиной, и почтенный старик, его тесть.
— Мы ждали вас с нетерпением, мессэр Леонардо, — начал заискивающим тоном Джокондо, — я и отец. У нас величайшая к вам просьба: мы хотим иметь портрет одной молодой дамы… то есть я хотел сказать, той, которая удостоила меня счастьем назвать ее своею супругой…
— …и которая является моей единственной и горячо любимой дочерью, мессэр Леонардо, — добавил старик, поглаживая длинную и узкую белую бороду. — Мое утешение, мессэр Леонардо, и отрада моей старости.
— Нам хочется, чтобы портрет вышел как можно лучше, и мы не жалеем на это денег, уверенные, что только вы один можете нас удовлетворить, один во всем мире, — говорил с воодушевлением синьор Джокондо, — и мы хотим, чтобы вы взяли за него задаток… тогда для нас будет вернее…
Банкир назвал огромную сумму за выполнение заказа и прибавил:
— Но, ежели этого мало, мы, разумеется, увеличим плату.
Леонардо сказал:
— Я охотно стану работать, но мне хотелось бы видеть ту, которую я буду писать.
— Сейчас, — засуетился банкир и шепнул что-то подававшему угощение слуге.
Тот исчез, и через короткое время в кабинет тихо вошла молодая женщина. На ней было дорогое платье и волосы причесаны по моде того времени — с локонами, спускавшимися на плечи. Была ли она красавица? Нет, нисколько, во Флоренции многие женщины были куда красивее ее. Но вполне развившаяся фигура ее была совершенна, и особенно совершенной формы были ее выхоленные руки. Но что было в ней замечательно, несмотря на богатство, выщипанные по моде брови, румяна и массу драгоценностей на руках и на шее, — это простота и естественность, разлитые во всем ее облике. Под дугами бровей, близко к ним, сияли небольшие, но необыкновенно ясные, живые глаза. Войдя, она сконфузилась, видимо пораженная серьезной, необыкновенной внешностью художника, столь не схожей с наружностью бывавших в их доме банкиров и купцов с их резкими манерами и резкими голосами, громко спорящих из-за процентов и сроков векселей.
Отец с любовью сказал:
— Вот она, наша мона Лиза, вот чей портрет мы оба жаждем видеть…
От этих слов она покраснела, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой и стало необычайно привлекательным для художника — смущенным и немножко лукавым, словно к нему вернулась утраченная шаловливость юности и что-то затаенное в глубине души, неразгаданное…
— Я согласен начать работу, — сказал Леонардо, поклонившись моне Лизе, — но хочу предупредить: я буду писать долго, может быть, очень долго, чтобы вышло так, как мне это нужно. И еще я попрошу вашу милость о необходимом для меня условии: писать портрет не у вас в палаццо, а в моей мастерской. Там у меня наиболее подходящие условия… для этого портрета, для спокойной, длительной работы. Я на этом настаиваю.
Он произнес последнюю фразу, когда увидел, что на лице моны Лизы появилось выражение скуки. Она даже тихонько зевнула, просто прикрывая рот рукою. В этот момент лицо ее показалось художнику скучным, неинтересным. Она испугалась, очевидно, когда он упомянул о продолжительном сроке работы. "Нельзя допустить, — подумал он, — чтобы эта модель скучала во время сеансов. Тогда ничего не получится, кроме мертвенной передачи более или менее сходных с оригиналом черт лица…"
— Слушай, Салаино, ты бываешь всюду, где смех и веселье. Скажи, знаешь ли ты каких-нибудь музыкантов, умеющих хорошо играть на лютне, хотя бы для уличных гуляний? Вообще что-нибудь веселое, очень веселое?
Удивительный разговор затеял учитель с Салаино. Он заинтересовал и Зороастро, который ведь тоже любил уличные гулянки. Великан вмешался, хотя его и не спрашивали:
— Шуты бывают веселее музыкантов! Я знаю одного, Якопо Бескостного; он кривлялся, как угорь, точно у него нет костей; он может и петь… Ну, знаете, когда он на гулянке, то все животики надорвешь от смеха.
Леонардо кивнул головою:
— Понадобятся, возможно, и шуты, твой угорь Якопо… Бескостный…
После этого Салаино и Зороастро стали рыскать по городу, чтобы найти шутов и музыкантов повеселее. Может быть, поискать еще искусных жонглеров? Узнать бы, для чего все это маэстро…
Дело немножко прояснилось, когда после переговоров с приходившими певцами и плясунами художник объявил, что завтра не пойдет в Синьорию и начнет работать дома и что "для натуры" ему нужны "весельчаки". Какую же картину он затевает? Но, по-видимому, имеется заказ, и, должно быть, крупный. Зороастро изрек в присутствии учеников:
— Трава уже, видно, прибыла для лошади.
Вся улица была заинтересована и даже встревожена, когда у дверей дома, где жил Леонардо да Винчи, нарядные носильщики поставили паланкин, из-за раздвинутых занавесок которого показалась молодая женщина. К ней склонился ехавший рядом на коне известный всей Флоренции глава цеха купцов мессэр Джокондо, явившийся в сопровождении целой свиты, как какой-то владетельный герцог. Пока синьор Джокондо галантно помогал молодой даме выйти из носилок, один из его слуг принялся изо всей силы колотить молотком, привешенным снаружи, в запертые двери.
Скоро мессэр Франческо делле Джокондо с женою и сопровождавшей ее служанкой были в мастерской знаменитого художника.
Мона Лиза конфузилась и была недовольна этим нелепым, как ей казалось, путешествием, предвидя скуку сидеть неподвижно; лицо ее предательски выражало ощущение безнадежности, но потом ее заинтересовала обстановка мастерской: фигура закованного в латы рыцаря рядом с мольбертами и среди них — этот серьезный человек с длинной бородою, который должен был увековечить на полотне ее образ. Как это так — сидеть не шелохнувшись, смотреть в одну точку, а с тебя кто-то чужой не будет спускать глаз…
А Леонардо, глядя на это будто потухшее лицо, думал:
"Нет, если нельзя сейчас, то со следующего раза непременно нужны шуты и весельчаки".
Он вспомнил почему-то и Бацци Содома. Вот кто мог бы позабавить ее рассказами, понятно не о монахах и их проделках — ведь она, надо думать, истово религиозна. А если бы он еще пришел со своею обезьянкой, веселое настроение модели было бы обеспечено. Но пока что надо дать ей освоиться.
И после первых приветствий, распорядившись, чтобы на стол был поставлен поднос со сластями, фруктами и напитками, Леонардо занялся приготовлением к сеансу. Пока он выдвигал мольберт, мона Лиза, чуть нахмурившись, рассматривала комнату и мелькавших в дверях подмастерьев и слуг художника. Златокудрая голова Салаино, а рядом огромная фигура одноглазого Зороастро заинтересовали ее.
Леонардо, подойдя ближе к моне Лизе, снова обратил внимание на ее руки. Она положила их одну на другую в позе благонравной девочки, ожидающей выговора старших. До чего были прекрасны эти руки!
Художник сказал с обычной мягкостью:
— Мне бы хотелось, если синьора ничего не имеет против, изобразить эти руки без всяких украшений, а шею — без ожерелья.
Мессэр Джокондо взглянул на мастера с удивлением, но ничего не возразил. Мона Лиза торопливо сняла с рук кольца, сняла с шеи ожерелье из жемчуга и положила все рядом на край стола.
— Благодарю синьору, — проговорил Леонардо. — И, если возможно, не меняйте позы.
Она была такою, какою ему хотелось ее написать: ни единого украшения, сама простота — открытая шея, и по ней бегут локоны.
Он начал набросок серебряным штифтом.
А в это время мессэр Джокондо, освоившийся с обстановкой, отведал густого красного вина, сверкавшего в хрустале графина.
Теперь у него был благодушный и самодовольный вид. Казалось, он был в восторге, что его жена будет увековечена кистью знаменитого Леонардо да Винчи. Он говорил с простодушной откровенностью:
— И жениться мне удалось, мессэр Леонардо, как нельзя лучше. Отец ее был другом моего отца, и капиталы наши соединились. А невеста хоть и привыкла к вечным развлечениям в богатой семье, но воспитана в строгости и целомудрии.
Моне Лизе понравилось ездить в мастерскую Леонардо. И новые люди, и незнакомая обстановка с чучелами птиц, со скелетами ящериц, змей и каких-то зверьков, и странная лабораторная посуда, и мольберты с палитрой, с характерным запахом скипидара, и, наконец, растирание красок — все было так интересно и так ново! Ведь дома ее окружали только счетные книги и вечные разговоры о ссудах, оборотах и возможных прибылях. Правда, здесь и там были шуты, старавшиеся развеселить ее, но там, дома, она к ним привыкла и, кажется, знала все их шутки наизусть, а здесь было что-то совсем новое. Занятно также смотреть, как ты начинаешь оживать на полотне, точно рождаешься. Сначала что-то смутное, потом все яснее и яснее, и кажется, что эта нарисованная мона Лиза заговорит…
Леонардо работал упорно, со всем увлечением, на какое был способен, и внимательно следил за настроением своей модели. Ему так важно было разбудить эту застывшую в своем равнодушии, апатичную женщину, усыпленную скучным обиходом банкирского дома с его однообразным благополучием!
Музыка не совсем удовлетворяла модель. Лютнист, с которым он уговорился, был, очевидно, не очень искусен. Она слушала эти всем известные мотивы со скучающим лицом и частенько не удерживалась от зевоты. Не очень-то оживлял ее и фокусник-жонглер, подкидывавший ножи и ловивший их остриями или проделывавший разные манипуляции с шариками, стоя на голове. Пожалуй, ее больше заняли пестрые костюмы шута и жонглера. Оживилась она совсем неожиданно.
В перерыв, когда художник давал своей модели отдохнуть, она завтракала, и служанка, старая ее нянька, прислуживала в мастерской за столом: резала цыпленка, чистила апельсины и гранаты. Старуха все еще немножко боялась манекена в латах и шлеме в углу, черепа на столике, отпрепарированных распластанных животных, змей в банке и даже анатомических рисунков черепа. Дома она пробовала убедить свою воспитанницу, что Леонардо — колдун и в дружбе с самим дьяволом.
В один из таких перерывов внимание моны Лизы было привлечено зарисовкой лапы с перепонками, принадлежащей плавающей птице, и рядом — человеческой руки. Тут же лежал рисунок крыла летучей мыши.
— Зачем это вам, маэстро? — с удивлением спросила молодая женщина.
Леонардо стал объяснять ей законы плавания и летания, заговорил о сходстве плавательных и летательных органов и о том, как это сходство навело его на мысль о механизме для полетов.
Он видел, как в ее небольших и таких маловыразительных глазах загорелся огонек. Она слушала с большим интересом. Это ведь совсем новое, не то, что приходится обычно слышать дома — вечные разговоры о прибылях: сукновалы, заграничная отправка, не досчитался куска самого лучшего; сосед перебил заказ… Аршины, деньги, барки, таможенный налог, станки, выделка, сырье… И так изо дня в день, а развлечения — наряды, золочение волос, новая мода прически, цирюльник, который умеет удивительно подбривать брови, новый танец, привезенный из Рима… И сплетни, сплетни: сплетни флорентийские, сплетни сьенские, сплетни миланские, болонские, венецианские, ватиканские, заграничные — на все вкусы… А здесь совсем другое…
Заметив огонек в глазах моны Лизы, Леонардо почувствовал, как дрогнуло его сердце: такой же огонек загорался в глазах мамы Альбьеры там, дома, в благословенном уголке маленького городка Винчи, когда он мальчиком находил в саду букашку или какого-нибудь красивого жука, мотылька, цветок, приносил домой и рассматривал с нею вместе, дивясь его окраске и строению…
Леонардо казалось, что модель все более и более заинтересовывается его наблюдениями над природой; это радовало и волновало его, и в моменты отдыха он показывал моне Лизе то, над чем работал, стараясь как можно понятнее и проще все объяснить и говоря с большим воодушевлением.
Иногда паланкин ее долго не появлялся у дверей его мастерской; являлся слуга или нянька с объяснением, что она больна или что мессэр Франческо делле Джокондо решил, что жене надо сделать передышку и посидеть дома, особенно когда приехали из Сьены родственники, с которыми связывали его коммерческие расчеты.
Тогда Леонардо чувствовал, что чего-то не хватает в его жизни…
Ее неожиданный отклик на задушевные интересы самого Леонардо натолкнул его на мысль выполнить заказ иначе, чем он ранее задумал: он решил превратить портрет в картину. Здесь нужен пейзаж, непременно пейзаж. Ведь портрет, писанный на заказ, не требует пейзажа. От художника ждут только сходства с оригиналом или, самое большее, кроме сходства, характерных черт человека. Но Леонардо решил дать среду, которая бы гармонировала с настроением, с душевной жизнью моны Лизы, и для этого он хотел поместить ее среди той природы, к которой она проявляла все больший и больший интерес.
Да, он напишет позади ее фигуры пейзаж. Пейзаж, неясный, окутанный воздушной дымкой, уходящий в беспредельную даль; он гармонически связан с легким покрывалом, прозрачной вуалью, наброшенной небрежно на голову…
…Модель, большею частью молчаливая и робеющая перед этим высоким человеком с серо-голубыми глазами, полными глубокой, проницательной мысли, однажды заговорила. Она стала спрашивать об уме человека творящего, как, например, художник, поэт или изобретатель, и о разуме, который бывает у людей дела и который нужен только для повседневной жизни, наконец, об уме животных, которые порою жертвовали жизнью для спасения своих детей, а собаки, например, — даже и для спасения человека. Она бросила неопределенный вопрос:
— Я не знаю, как это и почему это… на свете много непонятного, интересного… и… и как понять и оценить человека? Есть люди, которых не понимают окружающие, а они понимают многое… Есть даже предсказатели погоды… и совсем верно предсказывают… я таких видела…
Леонардо чуть усмехнулся, а потом сказал серьезно:
— Если синьора хочет, я расскажу ей сказку…
"Сказку? Вот странно!" — подумала мона Лиза.
Она кивнула утвердительно головой и приготовилась слушать.
А Леонардо вспомнил любимую сказку бабушки Лючии. Это как раз подойдет. Сказка старая, с налетом монашеского благочестия, но он немножко переиначит ее, сделает из монаха мудреца — провидца природы, ведь рассказывают же ее в разных местностях по-разному. Говорят, будто она залетела даже в Турцию и там монаха превратили в колдуна…
— Ну, синьора, прошу съесть этот сладкий миндаль в сиропе и не очень соскучиться моей стародавней небылицей. Случилось это очень давно, когда еще не было положено ни одного камешка в постройки нашей Флоренции, не было и Рима. Жил-был один бедный человек, и у него было четыре сына: три умных, а один и так и сяк, ни ума, ни глупости. Да, впрочем, о его уме не могли судить как следует — он больше молчал и любил ходить в поле, к морю, смотреть, слушать и думать про себя; любил и ночью смотреть на звезды. И вот пришла за отцом смерть. Перед тем как расстаться с жизнью, он призвал к себе детей и говорит:
"Сыны мои, скоро я умру. Как только вы меня схороните, заприте хижину и идите на край света добывать себе счастье. Пусть каждый чему-нибудь научится, чтобы мог кормить сам себя".
Отец умер, а сыновья, похоронив его, пошли на край света добывать свое счастье и сговорились, что через три года вернутся на полянку родной рощи, куда ходили за валежником, и расскажут друг другу, кто чему выучился за эти три года.
Ну вот, прошло три года, и, помня уговор, вернулись братья с края света на полянку родной рощи. Пришел первый брат, что научился плотничать. От скуки срубил дерево и обтесал его, сделал из него женщину. Отошел немного и ждет. Вернулся второй брат, увидел деревянную женщину, и так как он был портной, то решил одеть ее и тут же в одну минуту, как искусный мастер, сделал ей красивую шелковую одежду. Пришел третий сын, украсил деревянную девушку золотом и драгоценными камнями — ведь он был ювелир и сумел накопить большое богатство.
И пришел четвертый брат. Он не умел ни плотничать, ни шить — он умел только слушать, что говорит земля, говорят деревья, травы, звери и птицы, знал ход небесных планет и еще умел петь чудесные песни. Он увидел деревянную девушку в роскошной одежде, в золоте и драгоценных камнях. Но она была глуха и нема и не шевелилась. Тогда он собрал все свое искусство — ведь он научился разговаривать со всем, что есть на земле, научился и оживлять своею песней камни… И он запел прекрасную песню, от которой плакали притаившиеся за кустами братья, и песней этой вдунул душу в деревянную женщину. И она улыбнулась и вздохнула…
Тогда братья бросились к ней, и каждый кричал одно и то же:
"Я тебя создал, ты должна быть моей женою!"
"Ты должна быть моей женою, я тебя, голую и несчастную, одел!"
"Я тебя сделал богатой, ты должна быть моей женою!"
Но женщина отвечала:
"Ты меня создал — будь мне отцом. Ты меня одел, а ты украсил — будьте мне братьями. А ты, что вдохнул в меня душу и научил радоваться жизни, ты один будешь мне мужем на всю жизнь…"
И деревья, и цветы, и вся земля вместе с пташками запели им гимн любви…
Кончив сказку, Леонардо взглянул на мону Лизу. Что сделалось с ее лицом! Оно точно озарилось светом; глаза сияли… Потом, точно пробудившись от сна, она вздохнула, провела по лицу рукою и без слов пошла и села на свое место, сложила руки и приняла обычную позу.
Но дело было сделано — художник пробудил равнодушную статую: улыбка блаженства, медленно исчезая с ее лица, осталась в углах рта и трепетала, придавая лицу изумительное, загадочное и чуть лукавое выражение, как у человека, который узнал тайну и, бережно храня ее, не может сдержать торжество…
И Леонардо молча работал, боясь упустить этот момент, этот луч солнца, осветивший его скучную модель…
Может быть, художник полюбил жену банкира Джокондо — он так растягивал выполнение заказа! Но ведь он был занят огромной работой для Палаццо Веккио, и не мудрено, что писание портрета затянулось на годы. И все же такая медлительность мало свойственна работе над портретами. А искания художника? Но разве не безумие искать без конца какого-то особенного выражения?..
Да, он по-своему любил мону Лизу. Разве нельзя любить модель, как образ, как идею? Разве нельзя искать в теме всё новые и новые раскрытия? Мало того, эта женщина как будто вошла в его жизнь и стала в ней радостью, украшением, как редкая прекрасная птица или цветок. Писать мону Лизу было для него наслаждением. Он не знал такого чувства, когда писал портрет Цецилии Галлерани. Потому, что то был портрет синьоры, искушенной жизнью светской дамы, которая, в сущности, всю жизнь позировала, всю жизнь играла роль… И это был портрет, а на изображение моны Лизы он не смотрит, как на простой портрет.
Шуты и жонглеры по-прежнему появлялись в мастерской Леонардо во время сеансов, но их часто отсылали домой, оставляя для развлечения моны Лизы одного только музыканта, а под музыку все чаще и чаще чарующая загадочная улыбка застывала на губах модели. В этой улыбке посторонний глаз не угадывал мечтаний…
О чем могла мечтать эта уже не девочка, а зрелая женщина, много лет прожившая в обстановке достатка и довольства с человеком, не знавшим мечтаний, не думавшим ни о чем, кроме наживы? Вряд ли кто мог бы догадаться, что в ее душу глубоко западали рассказы художника с наружностью мудреца, невольно притягивающего к себе. Гениальность Леонардо пронизала ее дремавший мозг и коснулась спящего сердца. Она слушала его голос, как музыку, слова — как откровение. Он дал впервые пищу ее любознательности, усыпленной обеспеченным и бездумным существованием. Ей захотелось больше знать, лучше понимать окружающее. Но может ли она что-либо сделать со своей прочно вошедшей в русло жизнью?
Однажды мессэр Леонардо рассказал ей другую сказку, сказку-правду о том, что лет пятьдесят назад в Вероне жили сестры Ногарола, которым их почти безграмотная мать дала возможность учиться, и они постигли премудрости тогдашнего образования: изучили латинский язык, читали древних поэтов и философов, хорошо знали Данте и Петрарку
[49]. Одна из них, Изотта, наиболее даровитая, была прекрасным оратором и блестяще писала; полученными от нее письмами гордились многие высокообразованные люди страны. Изотта даже выступила с речью, обращенной к папе Пию II, в которой настаивала на необходимости крестового похода против турок.
Эта история Изотты Ногарола из Вероны долго не давала покоя моне Лизе. Изотта снилась ей, ей казалось, что она сама принимает ее образ… Но днем, в повседневной суете банкирского дома Джокондо, гасли, умирали эти мечты, и не было сил что-либо изменить, что-то сделать, найти новую жизнь; мечты, зародившиеся в странной, необычной обстановке мастерской великого художника, там и кончались.
Навещавшие иногда Леонардо художники и любители искусства видели "Джоконду" и приходили в восторг:
— Каким чародейским мастерством обладает мессэр Леонардо, изображая этот живой блеск, эту влажность глаз!
— Она точно дышит…
— Она сейчас засмеется…
— Какая у нее странная улыбка! Точно она думает о чем-то и не досказывает…
Кто-то заметил:
— За нее доскажет Леонардо…
Они говорили о глубоком знании Леонардо строения человеческого лица, благодаря которому ему удалось уловить эту неопределенную, как бы загадочную улыбку; говорили о выразительности отдельных частей картины и о пейзаже, небывалом спутнике портрета, толковали о естественности выражения, о простоте позы, о красоте рук.
— Ведь почти ощущаешь живую кожу этого прелестного лица… Кажется, что в углублении шеи можно видеть биение пульса…
Художник сделал еще небывалое: на картине изображен воздух, пронизанный влажными испарениями, он окутывает фигуру прозрачной дымкой… Живая мона Лиза, только притягивающая к себе чем-то непонятным, загадочным…
Несмотря на успех, Леонардо был мрачен. Он все чаще говорил ученикам, что пора собирать пожитки и готовиться к отъезду. Не помогали и напоминания о нахлынувших заказах, от которых теперь ему приходилось отбиваться. Положение во Флоренции казалось художнику тягостным.
Его, Леонардо, с виду горделивое спокойствие иной раз возмущало флорентийцев. Они не могли простить художнику его тяги к Милану, не могли простить и расположения к нему герцога Лодовико Сфорца. Они обвиняли Леонардо в отсутствии любви к родине, и он чувствовал себя на родине чужим, одиноким, затерянным. Душой он оставался в Милане, где его все же умели ценить, где он работал плодотворно, где создана была его "Тайная вечеря".
Но из Флоренции его не пускали принятые на себя обязательства. Он заключил два договора: с Синьорией на роспись стены в зале Большого совета и еще раньше — с попечительством церкви Санта-Аннунциата на картину "Святая Анна". И, несмотря на эти договоры, Леонардо решил покинуть Флоренцию.
Обе работы не были закончены. "Святой Анне" помешал договор с Синьорией, Синьории — увлечение картиной-портретом Джоконды, и обеим — тяга куда-то, в неведомое пространство, но дальше от стен негостеприимного, когда-то любимого им города. Необходимо только получить отпуск, отсрочку договоров.
В Синьории художник объяснил, что должен уехать, чтобы найти способ изготовления лучшего состава красок. Здесь, во Флоренции, у него не получается при его исследованиях необходимого состава. То, что у него под рукою, никуда не годится, краски будут тускнеть, фреска непременно станет трескаться и осыпаться. А он хочет добиться неувядаемой свежести. То же относится и к лаку, и к кистям: кисти для деталей работы во Флоренции недостаточно тонки. Все это он будет искать…
Легче было сговориться с монахами церкви Санта-Аннунциата, и в конце концов оба договора были продлены, и Леонардо собрался в дорогу. Он объявил, что пока берет с собою Салаино, своего "сына", и Зороастро, а мастерскую оставляет на попечение остальных учеников.
VI. КУДА?
Исчез у дома, где жил Леонардо да Винчи, нарядный паланкин Джокондо; на кухне перестали чесать языки его носильщики, в мастерской у двери перестала дремать под звуки лютни старая нянька; исчез с мольберта портрет, с которого смотрело лицо моны Лизы, и Леонардо показалось, что с исчезновением всего этого ускользнул из его мастерской солнечный луч…
А была весна 1506 года, благодатная тосканская весна, когда распускается листва ее рощ и садов, когда цветут миндальные деревья и манят глаз крошечные ароматные фиалки… Но его не оживлял праздник природы, — Леонардо тосковал, бродя по берегу Арно и смотря, как суетятся около барж корабельщики, как снуют по реке рыбачьи лодки, а детвора бродит вдоль берега, шлепая по воде босыми ногами… Он тосковал, и не так, как вообще тоскует художник, чувствуя пустоту после оконченной работы, а тосковал в разлуке с образом моны Лизы, по ее удивительной, притягивающей улыбке, по одному из лучших своих созданий. В этой уравновешенной душе поселилось непривычное смятение.
Он уезжает… Но куда, в сущности, ехать? Конечно, в Милан.
В монастыре Мария делле Грацие "Тайная вечеря" сияла по-прежнему нетленной красотой. Там не забыли Леонардо.
И вот неожиданно Леонардо получил от французского наместника Шарля д’Амбуаза приглашение приехать в Милан для исполнения некоторых работ. Между прочим, он просил художника написать свой портрет.
Леонардо точно ожил. Снова увидеть город, где протекли его лучшие, плодотворные годы, где его помнили и любили!..
Перед отъездом ему вдруг стало жалко расстаться с Флоренцией. Вспомнились детство и юность, захотелось проститься с милыми сердцу местами.
Продавец красок, постоянный поставщик Леонардо, сидевший у порога лавки, с изумлением смотрел, как знаменитый художник входит в Баптистерий. Что ему там надо, этому безбожнику? О чем ему хлопотать — о крестинах или венчании?
А Леонардо своим неторопливым, четким шагом прошел внутрь старого здания. На него сразу пахнуло знакомым с детства запахом — смеси воска, ладана и застоявшегося воздуха. Особенно в ризнице его охватила атмосфера, пропитавшаяся запахом наваленных церковных книг, кадильниц, старого священнического одеяния и всякой церковной утвари. Сторожу он сказал, что зашел узнать, когда в последний раз расписывался в церковных книгах его отец, нотариус. Получив в руку монету, сторож спокойно задремал на стуле в притворе.
Леонардо обошел все места, где играл в детстве, зашел даже туда, где был когда-то пустырь с сокровищами для ребенка — остатками мрамора для скульптурных работ, и увидел, что от развесистой пинии, на которой было гнездо дроздов, остались лишь одни корни; заглянул во двор, прилегающий к мастерской Вероккио; когда-то здесь он вел горячие беседы с Лоренцо Креди и Сандро Боттичелли. Вероккио давно умер, и на месте его мастерской была латинская школа. Надо было еще зайти для делового свидания в церковь Санта-Аннунциата. Хмуро встре-тил его здесь низкорослый, весь заросший черной бородою, подслеповатый фра Заккария, и всегда-то не отличавшийся разговорчивостью и приветливостью. Он молча указал Леонардо на картон "Святой Анны" и на раму, приготовленную для картины.
Леонардо пожал плечами.
— Когда же? — лаконично спросил монах.
— Как только устроюсь в Милане и отдохну от Флоренции, фра Заккария.
Голос художника звучал спокойно и твердо. Монах не стал возражать. Он только заметил:
— Мы заказали раму лучшему мастеру и торопили его. Он сделал в срок.
Пыль поднималась столбом из-под копыт взмыленных лошадей. Леонардо в сопровождении Салаино и Зороастро приближался к Милану. Но прежде решено было заехать на виллу Ваприо, к старому другу Джироламо Мельци. Особенно хотелось художнику видеть маленького Франческо.
Франческо вместе с отцом был в саду, когда слуга доложил о приезде гостей. Мельци и Франческо меньше всего ожидали увидеть теперь Леонардо, и Франческо чувствовал, что от радости у него выпрыгнет из груди сердце. Но каким, каким стал за эти годы мессэр Леонардо!
Перед Франческо стоял немолодой синьор в черном костюме ученого, с длинной шелковистой бородой и ясным взглядом спокойных голубых глаз, показавшихся мальчику холодными. И все же это он, он, о ком Франческо так часто мечтал…
— Мессэр… мессэр Леонардо…
Больше ничего не мог сказать Франческо от переполнявших его чувств. И милый, такой гармоничный голос ласково-спокойно зазвучал после первых приветствий, обращенных к синьору Мельци:
— Вот я и опять с тобою, мой Франческо. И я опять увижу Милан. Французы захотели, чтобы я снова вернулся на мою вторую родину, и Флоренция отпустила меня. А у вас все по-старому в саду, разве только что оливы поредели да ты, бедняга Джироламо, нельзя сказать что помолодел.
За веселым ужином начались бесконечные рассказы о пережитом. Мессэр Джироламо забыл все темное во время правления Моро и говорил с ненавистью о пришельцах-французах.
После ужина, когда все разошлись, кто-то робко постучал в дверь к Леонардо. Художник разбирал свои вещи и сказал, не оборачиваясь:
— Войдите…
Не слыша голоса вошедшего, он повернул голову:
— А, это ты, Франческо… еще не спишь?
В ответ ему прозвучал вопрос, произнесенный тихо, но твердо:
— Мессэр Леонардо, вы помните свое обещание? Вы возьмете меня в ученики, мессэр Леонардо? Я ведь теперь уже взрослый, но ваши слова врезались в мою память на всю жизнь. Я помню все, что вы мне говорили, и о том, что "надо понимать язык природы". Я много думал и как умел учился понимать природу… Я учился рисовать, вспоминая то, что видел у вас, учился и наблюдал природу — других учителей у меня не было…
Глаза юноши, полные мольбы, были обращены к худож-. нику.
Леонардо ласково сказал:
— Покажи-ка мне, дорогой, свои рисунки.
Франческо притащил целую груду рисунков и чертежей. Они были сделаны неумело и неправильно, но в набросках пейзажа и отдельных зарисовках животных и растений Леонардо нашел проблески дарования.
— Хорошо, — решил Леонардо, — я возьму тебя в ученики, если согласится твой отец. А теперь иди спать, да и мне не мешает отдохнуть с дороги.
Джироламо Мельци охотно согласился на предложение Леонардо, и через несколько дней художник и трое его спутников отправились в Милан. Леонардо вез с собою небольшую картину — "Мадонна с веретеном". Младенец Иисус наступает ножкой на корзину с шерстью. Улыбаясь, хватает он веретено и, шаля, старается отнять его у матери. "Мадонна с веретеном" была написана во Флоренции, по заказу любимца Людовика XII, его статс-секретаря Роберта. Картина имела в Милане большой успех.
Леонардо забросали заказами, и художник принимал их, оттягивая свое возвращение во Флоренцию. Он отдыхал душою в Милане, особенно часто навещая гостеприимную виллу Ваприо.
А в Палаццо Веккио оставалась неоконченная фреска и в церкви Санта-Аннунциата — неначатый образ. Мастика в зале Большого совета трескалась; художник же и не думал о работе над улучшением состава красок.
Шарль д’Амбуаз, над портретом которого работал Леонардо, послал во Флоренцию письмо:
"Мы еще нуждаемся в Леонардо да Винчи для окончания работ, поэтому просим вас продолжить данный вышеуказанному Леонардо отпуск, чтобы он мог еще некоторое время остаться в Милане".
Это письмо рассердило канцлера республики синьора Соде-рини.
Злые языки со всех сторон нашептывали ему о недостойном поведении Леонардо, работавшего не для Флоренции, а для "миланских мошенников", как называли флорентийцы миланцев. Синьор Содерини резко ответил в Милан:
"Леонардо поступил с республикой не так, как бы следовало. Он получил значительную сумму денег и только начал свое великое произведение. Он поистине поступил как изменник".
Это письмо вывело художника из обычного спокойствия, возмутило незаслуженным осуждением. Он изменник, изменник из-за того только, что просрочил отпуск!..
— Салаино, — сказал Леонардо ученику, сидящему за работой, — ступай-ка распорядись, чтобы мне был оседлан конь. Я сейчас же еду в Ваприо.
Из-за мольберта показалась кудрявая рыжая голова в новом красном берете. Он все так же, как девчонка, любил наряды. Лицо у Салаино было надутое. Он замечал, что учитель оказывает особое внимание этому мальчишке Франческо, не умеющему еще как следует держать кисти. И он буркнул в ответ:
— Почему маэстро не прикажет идти к конюху Франческо?
Леонардо нахмурился:
— Потому что я хочу, чтобы пошел в конюшню синьор Джакомо де Капротис. Ему полезнее размять кости, в то время как Франческо Мельци будет учиться держать кисти.
Он и теперь, как прежде, называл Салаино его настоящим полным именем, когда был им недоволен.
Салаино сорвался с места и побежал исполнять приказание учителя, проглотив обиду.
Но, прежде чем вернулся Салаино, Франческо, оторвавшись от своего эскиза, подбежал к Леонардо:
— Что с вами, маэстро? Я слышу по голосу, что-то случилось…
— Дело простое, Франческо. Флоренции я нужен, и потому меня можно назвать изменником в бумаге из Синьории… Вот, читай… У меня в эту минуту нет денег, а надо отослать их немедленно. Поэтому я хочу ехать в Ваприо и просить их у твоего отца.
— О учитель, — горячо заговорил Франческо, — вам нечего просить и нечего волноваться! Все, до последнего флорина, который я имею, принадлежит вам, как и моя жизнь. У меня есть деньги, которые мне подарил отец на мои забавы… Вы доставите мне счастье, если возьмете их и освободите себя от упреков и несправедливостей…
— Благодарю тебя, мальчик, я ими воспользуюсь, если мне понадобится, но сейчас мне нужны не только деньги, но и совет. Хочешь, поедем вместе?
И они отправились в Ваприо.
Франческо горячо любил учителя. Он не смел сказать ему, как ненавидит оскорбившего маэстро гонфалоньера Содерини, ненавидит до того, что готов убить его. Франческо ведь итальянец и сын своего века, а в эту эпоху месть в его стране считалась делом обычным. За честь мастера отвечали ученики. Самой ничтожной причины бывало достаточно, чтобы убить человека. И люди привыкли легко относиться к смерти. Никого не удивляло, если ночью на темных улицах города обнаруживали изуродованный труп…
Немало таких трупов вынесли мутные воды каналов Венеции, воды Арно, улицы Рима, Болоньи и Перуджи. Бездна реки Тибр навеки скрыла тайну коварного и жестокого Цезаря Борджиа, убившего своего родного брата, герцога Гандиа, и даже сам папа не мог доискаться в этом деле истины.
Губернатор Милана Тривульцио собственноручно покончил с несколькими мясниками только за то, что они отказались заплатить штраф.
В Ваприо Леонардо легко получил у Джироламо Мельци необходимую сумму денег и направил их во Флоренцию. Пристыженный Содерини отослал их обратно с письмом. В нем говорилось:
"Республика настолько богата, чтобы иметь возможность не отнимать денег у искусства".
VII. НА МИЛАНСКОМ ПЕРЕПУТЬЕ
Леонардо не суждено было вернуться во Флоренцию.
У Людовика XII в Блуа
[50] был пышный прием послов. Кругом трона в две шеренги выстроились рыцари и вельможи, ожидая очереди представиться его христианнейшему величеству. Король сделал знак флорентийскому послу Пандольфини.
— Ваши правители, — сказал король, — должны оказать мне услугу. Напишите им, что я желаю взять на службу их живописца мессэра Леонард Авинси, живущего теперь у меня в Милане. Я хочу заставить его работать для меня.
— Сочту для себя счастьем, — отвечал подобострастно Пандольфини, — передать желание вашего величества Флорентийской республике. Но, если позволите узнать, чем бы мог быть полезен наш Леонардо да Винчи?
— Я хочу, чтобы ваш Леонард Авинси написал мне несколько изображений мадонны, — сказал небрежно король, — вроде присланной им сюда для моего Роберта. Может быть, я закажу ему также и свой портрет.
И он тут же вручил Пандольфини собственноручное письмо к властям Флорентийской республики. Это было письмо, характерное для того времени, когда тираны и вельможи смотрели на художников, музыкантов, поэтов не как на свободных представителей искусства, а как на своих слуг, которые самой судьбою назначены для их увеселения, прославления сильных мира сего. И это письмо дышало смесью восхищения и приказания.
"Любезнейшие и великие друзья! Так как нам весьма необходим художник Леонард Авинси, живописец из вашего города Флоренции, а потому, что нам необходимо заказать ему кое-какую работу, когда мы будем в Милане, что случится с божьей помощью очень скоро, мы вас просим так любезно, как только можем, чтобы вы постарались прислать нам означенного художника Леонардо и чтобы вы ему написали быть в Милане и не тронуться с места, ожидая, пока ему не закажем работу. Напишите ему, чтобы он ни за что не уезжал из этого города до нашего приезда, как я сказал вашему послу, прося написать вам, и вы нам доставите огромное удовольствие, сделав так. Дорогие и великие друзья, наш господь да хранит вас".
Флорентийская республика дорожила расположением французского короля, как своего могущественного союзника, а потому позволила остаться художнику "Авинси" в Милане, хотя, правда, и неохотно. Только страх перед Людовиком XII заставил Флоренцию уступить ему.
Старый замок миланских герцогов вызвал в памяти Леонардо вереницу воспоминаний. Здесь когда-то он пел и играл на лютне в виде серебряной лошадиной головы, а красавица Цецилия Галлерани увенчала его венком победителя состязания. Здесь видел он беспомощного герцога Джан-Галеаццо Сфорца; здесь же стоял гроб коварной герцогини Беатриче и обезумевший Моро, рыдая, проклинал жизнь, разлучившую его с подругой…
Теперь здесь новые владыки, и Леонардо должен работать для них.
Разносторонние таланты синьора "Авинси" хорошо были известны королю; он знал, что проведение каналов и вопросы земледелия живо занимают ум флорентийца, и по поручению Людовика XII Леонардо деятельно занялся этим делом: отыскивал удобные способы копать колодцы для орошения ломбардских лугов и пашен, устраивал шлюзы в канале святого Христофора. Им была создана целая система каналов, разносящих всюду плодородие и жизнь. В это же время он иллюстрировал и редактировал последнюю часть математического труда Луки Пачоли "О божественной пропорции".
Могучий ум Леонардо по-прежнему покорял миланцев. Король называл его своим "дорогим", "возлюбленным" и жаждал его общества. Шарль д’Амбуаз говорил о нем восторженно: "Я любил его по его произведениям, но когда я с ним познакомился лично, то убедился, что он еще более велик, чем его слава". Старый друг Пачоли не покидал художника, как бы войдя вместе со всеми учениками — Мельци, Салаино и вызванными из Флоренции Больтрафио и Марко д’Оджоно — в дружную семью, завершаемую преданным Зороастро.
В Милане творческое горение не оставляло Леонардо. Его давно интересовала тема древнего мифа о Леде, столь прекрасной, что она привлекла внимание самого бога Зевса, принявшего образ лебедя. Эту тему он с интересом разрабатывал и оставил много вариантов в рисунках.
Вернулся он и к теме "Святая Анна", картон которой остался в церкви Санта-Аннунциата во Флоренции, и создал теперь замечательное произведение. Эта картина увлекала всех его учеников, и некоторые из них приняли в ней участие, как и в другой его картине того же времени — "Иоанн Креститель".
В "Святой Анне" художник развил свою старую тему "Мадонны в гроте". Он показывает здесь три поколения, связанных между собою: старшее — Анна, сохранившая, несмотря на годы, вечную юность души, выраженную в ее улыбке на неувядающем лице. Та же улыбка освещает и лицо Марии. Это настоящее и прошлое, под опекою которого будущее — младенец Иисус. Он играет с ягненком, и в этом по-своему проявляется живая связь человека с природой…
Картина заставляла задуматься. Одни видели в ней прекрасные образы святых и богочеловека с символом его заклания за грехи людей — ягненком; другие искали более философского объяснения — жизнеутверждающего, победного начала. Но все обращали внимание на улыбку Анны и Марии, свойственную кисти одного только Леонардо да Винчи и оставшуюся неуловимой для множества его подражателей.
Характерная улыбка проглядывает и в другой замечательной картине Леонардо тех же лет — в "Иоанне Крестителе".
Не было ли это некоторым отражением "Моны Лизы"?
Король назначил Леонардо пенсию, дал ему звание "королевского живописца" и разрешал несколько раз поездки во Флоренцию, хотя эти поездки не подвинули работ художника ни в Палаццо Веккио, ни в церкви Санта-Аннунциата.
В Милане снова было неспокойно. Преемник свирепого и распутного папы Александра VI, Юлий II, этот воинственный первосвященник, испугался влияния и могущества французского короля, союзником которого раньше был, и решил так или иначе изгнать его из Милана.
В 1511 году образовался обширный союз против французов. В нем приняли участие: Фердинанд Арагонский, Генрих VIII, император Максимилиан, Венеция и Швейцария. Французы не могли устоять перед этим объединенным врагом.
На горизонте Милана загоралось новое солнце: сын покойного Лодовико Моро, Максимилиан Сфорца, двинулся на родной город с двадцатью тысячами швейцарцев, разбил французов и завладел наследием своего рода.
В Милане он нашел Леонардо да Винчи, у которого ребенком часто сиживал на коленях, слушая сказки и напевы серебряной затейной лютни.
Тогда это был полный сил молодой художник, со стройной, гибкой фигурой искусного
наездника; теперь — седой, величественный старец. Максимилиан мечтал, что вместе с Леонардо он закончит когда-то начатые проекты своего отца как для благоустройства Милана, так и для его украшения.
В мастерской Леонардо герцог Максимилиан увидел небольшую статуэтку, отлитую из бронзы, — обнаженный всадник, с трудом удерживающий могучего вздыбленного коня. Это была миниатюрная модель памятника маршалу Тривульцио, отлитая Леонардо с Зороастро в его собственной мастерской.
Замечательная работа горьким упреком отозвалась в сердце герцога: он вспомнил, как была безжалостно расстреляна французскими арбалетчиками другая гениальная работа Леонардо, на отливку которой, в увековечение памяти Сфорца, у Лодовико Моро никогда не было денег.
Он видел и рисунки, по которым предполагалось создать статую для надгробия Тривульцио. Их с гордостью показывали ему ученики художника.
Леонардо думал, что с возвращением Максимилиана Сфорца в Милан войне и смутам настанет конец, но он жестоко ошибся. Ломбардия изнемогала, разоренная постоянными набегами иноземцев. Их шайки убивали и грабили направо и налево. Миланцев охватило отчаяние; они бросали на произвол дома — ведь все равно враг не сегодня-завтра разграбит имущество побежденных. Незачем сеять хлеб, который будут топтать лошадиные копыта; незачем разводить скот — его все равно угонит неприятель; незачем запирать дверь, которую все равно выломает или подожжет враг.
Леонардо в его годы было уже не под силу подвергать свою жизнь новым переменам. Максимилиан то падал в борьбе, то поднимался. Пришлые швейцарцы расположились в Милане, как у себя дома.
Долго раздумывал художник о своем положении и наконец собрал всю свою семью у себя в студии, чтобы объявить окончательное решение.
— Дети, — заговорил Леонардо спокойно и значительно, когда все собрались, — нехорошо нам стало жить в Милане. Город служит больше для потехи пьяных солдат и грабителей, чем для мирных жителей. Какое дело разнузданной толпе до нашего искусства?
— Вот это правда так правда! — подхватил Зороастро. — Какое им дело до нашего искусства, мастер!
— Как можем мы быть уверены, — продолжал Леонардо, — что наши картины, произведения нашего ума и сердца, не станут снова мишенью, как когда-то статуя Сфорца? Ведь повторяется то же, что и тогда, когда мы в первый раз покидали этот город. Что мы будем делать, друзья мои?
Ученики молчали.
— Ну, так скажу вам я. — Голос Леонардо звучал решительно. — Я уезжаю из Милана. Кто хочет следовать за мною? Ведь вы — моя семья.
Отовсюду раздались голоса:
— Разве я могу оставить своего учителя?
— И я!
— А я разве не решусь? Или я не ученик?
Это сказал Франческо.
Салаино тряхнул красными кудрями:
— Веселиться, горевать и голодать, как и помирать, можно везде, только не везде найдешь великого маэстро Леонардо да Винчи!
— Не будь я Одноглазый, — спокойно отозвался кузнец, — если не везде сено найдется для лошади. — Он не забывал любимую поговорку, перевертывая ее на все лады.
— Что я нынче — Капротис или Салаино, маэстро? — В голосе Салаино звучала лукавая веселость. — Я ведь предвидел, что придется отсюда дать тягу, и собрал все рисунки…
— Ты Салаино в квадрате, — засмеялся Леонардо, — а вот насчет Франческо надо бы узнать у его отца…
— Я поеду с вами всюду, — твердо проговорил Мельци. — Это давно уже решено, и отец не станет меня удерживать.
Леонардо был тронут.
— Я думаю, дети, теперь благоразумнее всего отправиться в Рим. Рим велик, и в нем найдется место всякому, кто хочет работать. А кстати, я получил оттуда приглашение. Джулио Медичи всегда любил меня, когда я еще жил в былое время во Флоренции при дворе Лоренцо. Тогда он был маленький мальчик. Он интересовался моими опытами и задавал мне немало вопросов о явлениях природы. Теперь он кардинал
[51] и зовет меня в Рим.
После смерти воинственного и грозного папы Юлия II папский престол достался сыну Лоренцо Великолепного, Джованни Медичи, принявшему сан под именем Льва X. Это значило, что в Ватикане и Риме фамилия Медичи имела большой вес.
— Кардинал Джулио Медичи пишет, что папа будет выдавать мне пенсию в сто дукатов. Торопитесь, друзья, со сборами.
Начались торопливые сборы. Салаино следил, чтобы не оставить ничего из рисунков учителя. Ему попались листы карикатур — бесконечные наброски уродливых лиц с непропорциональными лбами и челюстями, большеголовых уродов, часто напоминающих каких-нибудь животных, и среди них — характерные, интересные лица. Ему понравились больше других два рисунка углем, закрепленные им же, Салаино, особым составом, чтобы не стерся уголь. Но то были не уроды. На одном листе широким размахом была изображена прекрасная голова старца Америго Веспуччи, на другом — безобразное молодое лицо с наглым взглядом огромных черных глаз, с плотоядно толстыми губами, обрамленное спутанными в беспорядке черными кудрями.
— А, Скарамуччо! — закричал весело Салаино. — Погоди же, тебя еще ждет виселица!
Это был Скарамуччо, цыганский атаман, вечно пьяный и разнузданный.
И Салаино бережно уложил обоих рядом в почетный ящик самых дорогих рисунков учителя.
VIII. РИМ
Вот и двинулись целой кавалькадой в Рим. Слуги погоняли навьюченных мулов.
Миновали дикие ущелья Апеннинских гор и спустились в долину Нерви. Соракт блестел на солнце, как огромная глыба серебра, и Леонардо тихо продекламировал стихи латинского поэта Горация:
— "Взгляните, как белым сияющим снегом поднялся Соракт…"
Художник залюбовался величественным видом, но взглянул в сторону, и легкая тень скользнула по его лицу.
— Помнишь, Джованни, — сказал он ехавшему рядом Больтрафио, — помнишь Цезаря Борджиа? Вот мы и перед одним из его замков. Теперь уже этот некогда могущественный герцог Валентинуа не может распоряжаться в нем и наводить трепет на Италию. А как, как недавно еще это было и как грозно он начал! Такова судьба всего временного, случайного, судьба химеры…
На высоком лесистом холме среди полей, орошаемых Тибром, гордо возвышаются зубчатые башни замка Борджиа. Сколько злодейств еще недавно видели эти стены! По дороге встречалось немало пилигримов, идущих в Рим поклониться новому папе. Они были с ног до головы защищены сталью и крепкою кожей, вооружены рапирами, мечами и пищалями, у некоторых на шляпах зеленели веточки дрока с красными цветочками, что отличало английских паломников; шляпы испанцев украшали раковины, так называемые "раковинки святого Иакова", их патрона. Некоторые изуверы в диком упоении хлестали себя по обнаженным спинам плетьми и пели громко "Аллилуйю".
Леонардо почувствовал прежний юношеский задор и желание подшутить над фанатиками. Вынув из походной сумки легкие фигурки различных животных, полые и надутые воздухом, он бросал их перед самоистязателями. Уродливые существа некоторое время держались в воздухе, а суеверные люди в ужасе пятились, творя крестное знамение. То были первые опыты с воздушными шарами.
Раз Леонардо подшутил над виноградарем, у которого остановился на ночлег. Салаино, любивший всякие проказы, помогал учителю. Вместе поймали они большую зеленую ящерицу и прикрепили к ней полые крылья с ртутью. Голову ящерицы тоже загримировали, прикрепив рога, большие круглые глаза-пуговки и бороду. Вышло необычайное чудовище.
— Точь-в-точь сам сатана, — хохотал Салаино. — Страшнее не придумаешь!
Но вот животное поползло… Ртуть двигалась в полых крыльях, и они, усаженные перьями, шевелились, шуршали и хлопали.
Виноградарь в ужасе кричал:
— О святая Мария, матерь божья!.. Не знаю, путник, кто ты — посланник неба или преисподней, но только молю тебя, отгони от нас эту нечистую силу!
И Леонардо отгонял от перепуганного хозяина "нечистую силу", делая вид, что шепчет волшебные заклинания.
Скоро путники достигли мрачной Кампаньи, покрытой сухою, побуревшею от солнца травой и тростником на низких, топких местах. Кое-где встречались чахлые леса вокруг болот с удушливыми вредными испарениями. По этой безотрадной пустыне нёс свои мутные воды Тибр. Нигде не встречалось человеческого жилья; изредка попадались могильные памятники и полуразбитые колонны. Дикие буйволы, пасшиеся в этом царстве смерти, оглашали воздух неистовым ревом.
Но вот наконец и "Вечный город" — Рим. Вдали ясно вырисовывается на синем безоблачном небе одинокая могила Нерона, в то время уже — крепость Франджипани. Вот ясно видны красноватые стены города; вот приземистые башни замка святого Ангела — мрачное место, тюрьма, где томится столько невинных. На замке развевается знамя с вышитыми двумя ключами, так называемыми "ключами святого Петра", патрона Рима
[52]. А вверху безбрежная высь неба блистает в вечернем сумраке бледно-золотыми искрами звезд…
Был канун торжественного выхода папы к народу. Глава католической церкви праздновал один из многочисленных семейных праздников рода Медичи. Рим был украшен цветочными арками и иллюминирован; Тибр покрыт золочеными галерами с разноцветными флагами; на мосту возвышалась арка, украшенная копьями и серебряными трубами, переплетенными лавровыми ветвями. По улицам двигались процессии: кардиналы в красных одеждах верхом на мулах, римская знать в золоченых доспехах, прелаты в пышных церковных одеждах, папская гвардия из дюжих швейцарцев, нарядно одетые пажи и слуги.
Трудно было пробраться сквозь толпу, сплошь заполнявшую улицы, сквозь пышную свиту иностранных послов со знаменами, на которых красовались гербы их государств, мимо герольдов с блестящими трубами. Запыленные пилигримы дерзко влились в эту расцвеченную всеми красками праздничную толпу, стараясь приблизиться к пышной фигуре прелата с белым знаменем…
Леонардо с семьею учеников держался окольных путей и остановился в первой попавшейся таверне, чтобы привести себя в порядок с дороги. Словоохотливый хозяин сейчас же посвятил его во все новости. Он говорил, наливая художнику стакан доброго вина:
— С тех пор как его святейшество вступил на престол, у нас не затихает веселье, и вина в городе идет куда больше, чем прежде. В Ватикане так шумно, как будто там вечный карнавал. Когда происходили выбора на престол первосвященника, будущего папу принесли из Флоренции на носилках с больными ногами, но теперь, слава богу, все прошло. Наш папа любит художников, музыкантов, поэтов… Всем им найдется теплое местечко в Ватикане. Но особенно любит его святейшество Рафаэля. Вы посмотрите только на святого отца завтра в полном облачении, когда он будет благословлять народ. Вот уж действительно есть на что поглядеть!
На другой день Леонардо отправился к Ватикану. Там уже собралась несметная толпа. Шум от восторженных оваций был оглушительным. Но вдруг толпа разом притихла. Взоры всех обратились в ту сторону, где появились золоченые носилки папы. Одежда папы поражала своею пышностью. Золотая тиара была усыпана драгоценными каменьями; в левой руке он держал золотые ключи святого Петра, правую протянул для благословения; на туфлях горел красный рубиновый крест. Пажи несли над ним золотой балдахин с тяжелой блестящей бахромою. Высоко над балдахином поднимались два опахала из белых страусовых перьев…
Леонардо рассмотрел толстое, дряблое лицо, большую голову с выпуклыми оловянными глазами, которые папа щурил, видимо, от близорукости; массивная фигура с огромным животом выдавала натуру изнеженную и пресыщенную. Таков был глава церкви, владыка Рима, пастырь католического стада.
В толпе мелькнуло знакомое лицо Джованантонио Бацци. Что-то. Содома теперь думает про этого эпикурейца в рясе! И вспомнились острые карикатуры, которые приносил Бацци ему во Флоренции, позабавившие его в минуту печали. Вот они, овцы, пришедшие лобызать следы волков в папской тиаре…
Папа широко простер руку… Все присутствующие преклонили колени. Пробормотав наскоро благословение, он продолжал шествие дальше, по направлению к собору. Но собор не мог вместить громадной толпы, и двери были открыты настежь, чтобы те, кто стоял за папертью, на площади, могли хоть издали видеть торжество. Из храма слышались густые звуки большого, прекрасного органа и стройное пение… Ступени церкви, колонны, двери — все было украшено цветами…
Утром папа присутствовал в церкви; в полдень — на охоте, а вечером должен был почтить своим посещением могущественного римского банкира Агостино Киджи.
Леонардо интересовали эти превращения, и он провел весь день на улицах Рима, наблюдая за происходившим, видел, как в полдень Лев X выехал из Ватикана на белом коне, разукрашенном блестками, цветами и лентами. Его сопровождала большая кавалькада придворных; были здесь и дамы и шуты. Папу окружали псари, стремянные, сокольничьи, доезжачие, за ним несли охотничьих соколов…
Подвижной, везде поспевающий Содома нашел-таки на другой день в таверне Леонардо да Винчи. Его зоркий глаз запомнил два лица из тех, что он видел во Флоренции в мастерской у "великого учителя", как он называл Леонардо; одноглазого Зороастро и красивого рыжего Салаино — "яркие образы уродства и красоты". От них он и узнал о пребывании в Риме Леонардо и неожиданно чуть свет поднял его с постели. Он влетел, шумный и жизнерадостный, с беспечным смехом, как всегда, только на этот раз без обезьянки или какого-нибудь из своих питомцев, и закричал с порога:
— Имею счастье приветствовать великого маэстро в Риме и в такие дни, в такие дни, когда Рим перевернут вверх дном во славу флорентийского рода Медичи! Встретил на улице воскресших Аполлона и Вулкана и узнал от них о местопребывании великого учителя. И поверьте, маэстро, я не забыл вовремя сообщить о сем также самому приятному и самому доброжелательному из художников, любимцу богов и владык земли, Рафаэлю Санти! А это значит доложить самому папе! Будьте любезны, достоуважаемый великий маэстро, приготовьтесь: с минуты на минуту вас посетит посол его святейшества с приглашением явиться на прием в Ватикан…
Эта речь, которую без передышки выпалил Содома, привела в некоторое замешательство уравновешенного художника. Надо было приготовиться к приему и тщательно обдумать не только костюм, но и свой будущий разговор с папой.
Пока Леонардо одевался, Содома бесцеремонно уселся на скамейку возле кровати и без умолку говорил:
— Ах, мессэр Леонардо, великий учитель! До чего же я рад, что вы в Риме! Здесь можно и пожить весело и поработать. Но чем вы только подарите здесь мир? Здесь для вашего слуги Джованантонио из Верчели широкое поле для веселья, здесь богиня счастья дает мне не только развлекаться, но и богатеть. Вот и вчера… — Он говорил, захлебываясь от переполнявших его чувств. — Вчера я пробрался вечером на виллу мессэра Агостино Киджи, где папа пировал после охоты. Ведь нашему брату художнику на пирах у богачей всегда место. Я, знаете, краешком-краешком — ухо за столом у вельможи, ухо за столом в поварне… Зато все вижу и все знаю. Пока вы оденетесь и подкрепитесь добрым завтраком, я расскажу вам про этот пир. Я и не спрошу: угодно ли будет меня слушать?
— Угодно, угодно, — отвечали за Леонардо столпившиеся на пороге ученики.
Леонардо, улыбаясь, кивнул головою:
— Облегчи, сын мой, свою переполненную впечатлениями память. Начинай.
— Ох, что это был за пир! Наместник Христа на земле восседает за столом, убранным золотою и серебряною посудою. Воздух напоен благовонными курениями. Покои украшены прекрасными статуями богов и богинь древних ваятелей. Правда, изредка попадаются и изображения Христа и святых нашей единой католической церкви. Таково же, как вы увидите, убранство и в Ватикане. А за столом, ах, боги Олимпа мне свидетели, чего только там не было! Я видел еще, как проносили блюда, и знал, сколько поваров надрывались на поварне, а один сошел с ума и сидит в подвале за замком из-за того, что в блюдо соловьиных языков попал язык какой-то другой пичуги… Я, впрочем, немного перепутал спьяна, языки были попугаев — это еще хуже, чем перепутать пичугу с соловьем. Были на золотых блюдах и разукрашенные фазаны, и рыба, привезенная из Азии, и мудреные африканские фрукты, и пироги в виде башен и пирамид, с водопадами и всякой чепухой, придуманной нашими художниками, теми, кому не удавалось получить заказы на картины. Ох, разве все вспомнишь… А вин-то, вин! Все названия и не запомнишь, уж на что я не дурак выпить. И святой отец, и кардиналы все пили на славу и были веселы и довольны, особенно любимец святейшего отца — кардинал Бембо… Ох, уж этот веселый и приятный Бембо! До чего он всех смешил, расхваливая перед папою своего любимца Рафаэля! У него едва ворочался язык! — Он захохотал, вспоминая кругленького венецианца-кардинала. — И как он декламировал, запинаясь, стихи Петрарки об амуре: "Жестокосердный мальчик с луком в руке и со стрелами на бедре".
Леонардо, чтобы поддразнить Бацци, сказал:
— Что ты, сын мой! Приличествует ли папе слушать стихи о маленьком лукавом боге любви язычников?
— И еще как, видимо, приличествует, маэстро! Папа смеялся и грозил пальцем Рафаэлю, а этот красавец обнимал девушку, одетую в хитон, — ведь этот Адонис
[53], сводящий с ума наших римлянок, и сам не пропустит ни одной красавицы, порядочный он гуляка!
Содома перевел дух и продолжал описание пира на вилле Агостино Киджи:
— За Бембо настала очередь папских придворных музыкантов Брандолино и Мороне, услаждавших его святейшество игрою на лютне. Римские красавицы сочиняли тут же стихи, смеялись, шутили, пели и веселились до упаду вместе со святыми отцами церкви. — Содома лукаво прищурился и напомнил осторожно Леонардо: — Маэстро помнит, может быть, благочестивые рисунки, принесенные мною ему во Флоренции?
Леонардо кивнул головою.
— Остается еще досказать о чудесном празднике у мессэра Агостино Киджи. Здесь были на одном конце стола и споры на отвлеченные темы. Святые отцы кардиналы могли блеснуть своими богословскими познаниями. Племянник папы кардинал Джованни Сальвиати, недовольный чересчур веселым характером праздника, старался повернуть его в другое русло и спрашивал: "Каким путем человек делается разумным? Каким путем в него вселяется разумная душа? Чем, наконец, он становится по смерти тела?" Тут, маэстро, поднялись нескончаемые споры, причем каждый старался выразиться как можно мудренее и щегольнуть латинскими цитатами. Но спор кончился, как только раздался томный и нежный голос красавицы мадонны Порции, жены брата хозяина, Джисмондо Киджи. Она пела прекрасную песню, которую я так люблю, маэстро: "Вы, милые духи, склонные к любви, хотите ли увидеть рай?" Потом появились обычные фокусники, шуты и забавники. Фокусник Пеллегрино в угоду святому отцу вертелся колесом с такою быстротою, что невозможно было уследить, как его ноги касаются земли; казалось, будто это молнии мелькают в воздухе. Его святейшество изволил смеяться. Пеллегрино изгибался на маленьком столике так, будто у него вместо костей веревки. Уставив острие лезвия ножа и сабли, он ужом извивался между ними в пестром костюме паяца. Богобоязненные монахи решили, что тут дело не может обойтись без дьявольского наваждения. Папа был доволен. Он любит говорить: "Раз бог нас сделал папой, мы постараемся этим воспользоваться". Но что я хотел еще сказать: я слышал разговор между кардиналом Джулио Медичи и Рафаэлем о вас, маэстро, и из него узнал, что вам сегодня назначено быть на приеме в Ватикане. А, вы уже готовы, и вам принесли завтрак. Я рад, что успел все рассказать. Благодарю вас, я не в силах разделить вашу трапезу: видеть не могу еще ни вина, ни пищи после пира…
IX. ТА ЖЕ ИСТОРИЯ НА НОВЫЙ ЛАД
И вот Леонардо в Ватикане; в резиденции папы, дворце с бесчисленными дворами и покоями, пышностью и роскошью которых глава католической церкви хотел заткнуть за пояс самого могущественного короля. Кардинал Джулио Медичи представляет художника своему брату, папе Льву X. Он хорошо помнит этого приветливого ученого-художника при дворе своего отца, когда он, мальчиком, любил забираться к Леонардо в мастерскую и смотреть его опыты, казавшиеся ему чем-то вроде фокусов.
Папа принял Леонардо весьма благосклонно и, допустив приложиться к рубиновому кресту на своей туфле, что было обязательно, поднял его и поцеловал.
— Ты будешь нам полезен, — сказал он своим вкрадчивым тоном, — ведь ты и великий ученый и великий художник, а у нас в почете и то и другое. Вот Браманте, мой бедный славный архитектор, становится слаб здоровьем и просит назначить ему помощников для сооружения храма святого Петра, а Микеланджело теперь в Карраре
[54] на ломках мрамора для нового фасада церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Ты флорентиец и знаешь, как мы дорожим нашим фамильным склепом. У нас остается только один наш Рафаэль. Работай у нас во славу божию, Италии, папского престола и твою собственную. Когда ты будешь нам нужен, мы призовем тебя. А пока живи и прими наше милостивое благословение.
Опять преклонение колен, благостно протянутая пухлая рука, украшенная перстнями, и Леонардо свободен.
Отпущенный пока папою, Леонардо устроился с помещением для себя и своей семьи и целиком отдался любимым работам: науке и искусству. Никогда еще, кажется, не сочетались так гармонически оба эти направления в его работе. Занимаясь, например, анатомией, изучая человеческое тело как ученый, он восхищается совершенством пропорций, красотою формы, как в ботанике восторгается раскраской и причудливостью цветов. В природе он видит "учительницу учителей", требующую вечного изучения, обладающую необъятной мощью. Он безгранично любит жизнь во всех ее проявлениях и говорит в своих записях:
"Подумай же, как бесконечно ужасно отнимать жизнь у человека, строение которого представляется тебе столь изумительным. Не желай же, чтобы гнев твой или злоба разрушали такую жизнь, ибо тот, кто ее не уважает, не заслуживает ее".
Но он и предостерегал художников от чрезмерного увлечения анатомией:
"О живописец-анатом, поберегись, чтобы слишком большое знание костей, связок и мускулов не было для тебя причиной стать деревянным живописцем при желании показать на своих обнаженных фигурах все их чувства".
И он советует художникам уделять больше внимания изучению жестов и мимики:
"Делай фигуры с такими жестами, которые достаточно показывали бы, что творится в душе фигуры, иначе твое искусство не будет достойно похвалы".
Он придает особое значение изучению пропорций и, останавливаясь на существе творчества художника и предостерегая его от подражания, требует, "чтобы в произведение не попала ничего такого, что не было бы как следует обсуждено в соответствии с разумом и явлениями природы".
Что касается композиции, то живописец, который не владеет ею, "подобен оратору, который не умеет пользоваться своими словами".
"Не делай мускулов резко очерченными, — говорит он неопытным художникам, — но пусть мягкие света неощутимо переходят в приятные и очаровательные тени; этим обусловливается прелесть и красота".
Живопись Леонардо ценил особенно высоко за ее наглядность и достоверность, считал ее такою же дочерью природы и опыта, как наука. Он делал, как в науке опыты, в живописи — зарисовки, этюды; рисовал пейзажи, головы, руки, ноги, отдельные предметы, драпировки и оставил обширное сочинение о живописи и множество рисунков, сделанных пером, серебряным штифтом, сангиной или итальянским карандашом
[55]. Рисунки эти замечательны и отличаются огромным разнообразием.
…Папа как будто заинтересовался научными опытами Леонардо да Винчи, а может быть, не столько самими опытами и их научной стороной, сколько возможностью их применения для всяких причудливых забав и выдумок, на которые был щедр разносторонний гений Леонардо; впрочем, под покровом "причуд" Леонардо нередко таились глубокие идеи.
Век Льва X порою называли "золотым веком" науки и искусства, но, в сущности, это неверное определение. При Льве X, правда, особенно подвинулись изыскания древностей. Рафаэль, например, руководил большими раскопками в катакомбах древнего Рима, открывая памятники глубокой старины. Но наука не пользовалась особенным почетом при папском дворе, как не пользовалась когда-то и в Милане — при герцогском. Даже особенно поощряемая папой поэзия была искусственной и бедной.
Ее губило слепое подражание древним образцам. Тот, кто лучше подражал латинским поэтам, считался великим стихотворцем, "любимцем бога Аполлона". Но таким подражанием достигалась только правильность языка и убивалась душа, свободный полет мысли.
Предшественник Льва X, Юлий II, поднял значение папской власти на небывалую высоту и затмил своим величием королевские престолы. Папы сделались сильными светскими владыками.
Папы могли не только разрешать грехи, впускать в рай и ввергать в ад живых и мертвых, но были грозными владыками, покорявшими мечом города и села.
И строгий Юлий II, требуя от кардиналов чистоты жизни, благочестия и святости, сам давал немало поводов и оснований для своего осуждения.
Не таков был Лев X. Страсть к наслаждению составляла его сущность. Он смотрел сквозь пальцы на злоупотребления подчиненного ему духовенства, раз оно ему лично угождало; в Ватикане царило взяточничество: папа допускал продажу церковных должностей, от места священника до кардинальской шапки.
Благодаря прежним связям он очутился на папском престоле как бы в плену у своих родственников, близких и дальних, требовавших у него выгодных мест и денег. И тогда правдою и неправдою выдвигались всюду папские родственники и любимцы. Льву X, сыну и наследнику расточительного Лоренцо Великолепного, нужны были огромные суммы.
И вот под предлогом недостатка средств для постройки храма святого Петра папа разрешил продажу индульгенций — грамот об отпущении грехов.
Папа вступил на опасный путь. Грехи стали предметом торговли — на них была особая такса. Разгоралась алчность духовенства, оно всячески изощрялось в извлечении доходов.
Рим был опасным местом для человека искусства. Нигде в Италии не было тогда такой вражды партий и такой зависти, как около папского престола. Здесь была группа людей, имевших преимущественное влияние на его святейшество. Одним из таких любимцев был Браманте. Лев X называл его своим лучшим другом и советником. Браманте любил Рафаэля, но враждовал с другим гением — Микеланджело, а Микеланджело не любил Леонардо да Винчи. Другой любимец папы, юный Рафаэль, преклонялся перед Леонардо, но, по своей мягкой натуре, едва ли смог упрочить положение в Ватикане чуждого здесь всем художника.
Резко враждебно встретил Микеланджело своего товарища и соперника по росписи в Палаццо Веккио, когда в первый раз столкнулся с ним в Ватикане.
— Мини, — сказал он бывшему около него ученику, — посмотри: вон идет миланский лютнист. Ему нечего делать в Милане, с тех пор как оттуда изгнали его покровителей — французов. Как удобно иметь такую растяжимую душу!
Микеланджело говорил негромко, но слова его долетели до Леонардо. На портике перед дворцом было особенно тихо в эту пору: когда папа почивал, в Ватикане замирала жизнь.
Леонардо спокойно прошел мимо говоривших, как будто ничего не слышал.
С этих пор Микеланджело не переставал везде открыто упрекать Леонардо за дружбу с французами, грабителями Милана. Леонардо высоко ставил художественный талант Микеланджело Буонарроти, и ему были тяжелы его обвинения.
— Он везде приспособится, этот ловкий Леонардо, — говорил Микеланджело, — он и здесь готов играть роль шута, забавляя папу игрушками.
Нелепые слухи о его дружбе с французами, распространявшиеся в Риме, создавали Леонардо много врагов. Рафаэль сожалел об этом, но заступиться за него не сумел, и Леонардо оставался одинок в стране врагов, интригующих против него. К тому же он был уже стар; силы оставляли его. Наплыв в Рим флорентийцев породил по отношению к ним пренебрежительную кличку "флорентийская нация", и это тоже неприятно задевало Леонардо.
…Леонардо усиленно работал над изобретением особенно прочной краски, зная, как потрескалась, потемнела и даже покрылась кое-где плесенью в Милане его "Тайная вечеря", и постоянно делал пробы нового лака.
Все ученики должны были принимать участие в варке этой мастики-лака, задыхаясь от чада, копоти, вредных паров. У него созревал замысел большой работы для папы.
А папа торопил художника и изводил его своими напоминаниями.
Наконец Леонардо это надоело, он сказал папскому посланному, мессэру Бальдассаре Турини, с необычайной твердостью и резкостью:
— Я брошу совсем кисть и уеду из Рима.
— Но ради бога, — вскричал мессэр Бальдассаре, — высокочтимый, любезнейший, великий маэстро! Разве вы хотите, чтобы вашему покорному слуге была заказана дорога в Ватикан? Сделайте что-нибудь для его святейшества, хоть маленькую, самую маленькую мадонну.
И, складывая руки, как на молитву, синьор Бальдассаре делал такое лицо, какое бывает у плачущих детей.
Однажды Бальдассаре нашел художника погруженным в какие-то химические опыты.
Леонардо сказал:
— Я попрошу вас, мессэре, подождать, пока я доведу эту жидкость до кипения; я не могу отойти от колбы.
— Но что же вы делаете? — спросил Турини, боявшийся химических опытов, как действия нечистой силы.
— Из различных трав я стараюсь получить лак, более чистый и наименее вредный для красок. Масляные краски имеют свойство при высыхании изменять цвет и трескаться.
Он говорил размеренно, спокойно, объясняя свойства хороших красок и искусство их приготовления.
— А картина? — спросил наконец Турини.
— Будет вам и картина, но, чтобы написать произведение для его святейшества, надо торопиться медленно. Поспешность часто губит дело.
Турини донес обо всем папе, и Лев X, потеряв терпение, гневно закричал:
— Вот человек, от которого мы никогда не добьемся толку!
"Скульптура — механическое искусство, — говорил Леонардо, — работа скульптора — чисто ручная и требует по преимуществу физического усилия".
В дневниках он развивал свою мысль, доказывая всю трудность, тонкость работы живописца — игры света и тени, бесконечных капризных линий, доказывая все это спокойно, с достоинством.
Не так рассуждал Микеланджело. Отдавая предпочтение скульптуре, он в конце концов говорил, что оба искусства равны, но кончал желчным, несправедливым выпадом по адресу Леонардо:
"Я скажу еще, что автор, который вздумал дать живописи преимущество, ровно ничего не смыслит в этом деле. Моя служанка лучше бы могла решить этот вопрос, если бы вмешалась в спор".
Он не переставал преследовать насмешками Леонардо за его службу Людовику XII.
Папа мало-помалу отдалял от себя художника, которого встретил так радостно. В конце концов он не нашел ничего лучшего, как поручить ему монетное дело, и Леонардо должен был посвятить все свое время механизму для штамповки медалей и монет.
Но и тут ему пришлось терпеть мелкие обиды при столкновениях со ставленниками папы, которые, почуяв, что Леонардо впадает в немилость у его святейшества, старались всячески мешать одному из представителей навязчивой "флорентийской нации".
Все это должно было разразиться, естественно, какой-нибудь катастрофой. Так и случилось.
Раз Леонардо сидел в своей лаборатории за чертежами машины для скорейшего выбивания монеты. У него было плохое настроение: он хотел послать за материалом помощника, данного ему кардиналом Джулио, немца Георга, но тот ушел давно и все не возвращался. В сущности, так было почти ежедневно, и Леонардо отлично знал, что плут расхаживает теперь с папскими швейцарцами, стреляя птиц, играя в кости, делая тысячи глупостей. Часто Георг возвращался поздно ночью, полупьяный, и Леонардо знал, что лентяй пьет на его деньги, ловко выкраденные из кошелька хозяина.
Послышался шум в соседней комнате.
— Георг! — позвал Леонардо.
Ответа не последовало.
— Георг! Джорджо! Негодяй!
Отворив дверь в соседнюю комнату, Леонардо убедился, что она пуста. Он стоял некоторое время в раздумье. Вдруг под окном послышался смех и дерзкий голос произнес:
— Добрый вечер, синьор монетчик его святейшества, мессэр Леонардо!
Перед художником стоял товарищ Георга, немец Иоганн Зеркальщик. Он ни с того ни с сего вообразил, что Леонардо лишил его расположения Джулио Медичи, и старался за это всячески ему повредить.
Опираясь на руку Зеркальщика, нахально крутившего ус, стоял Георг. Он был совсем пьян.
— Мы пришли за вещами Георга, мессэре, — заявил Иоганн, — довольно уже ему здесь толочь воду в ступе, да-а…
Леонардо не удивился — он привык к выходкам Георга.
— Пусть их забирает, — сказал он. — Сегодня он думает уйти? Собирай вещи да проваливай поскорее, помощник монетчика его святейшества.
Георг был искусным работником, и художник сначала полюбил его, но вечные отлучки, мелкие кражи вместе с подстрекательством Зеркальщика до того ему надоели, что он был рад избавиться от немца.
Зеркальщик, нагло насвистывая уличную песенку, помогал приятелю собирать вещи и, взвалив их потом на плечи и не сказав ни слова, зашагал с ними по улице. Пьяный Георг тащился следом.
Леонардо обошел помещение, где вместе с Зороастро жил Георг, и заметил, что в одном из ларей, где у него хранились модели машин, испорчен замок. Внезапно он понял все: негодяй Иоганн подговорил глупого Георга украсть модели и переслать их в Германию, чтобы там воспользоваться его изобретениями. К счастью, это ему не удалось: Леонардо случайно убрал накануне все из этого ларя.
Скоро Леонардо убедился, что Зеркальщик продолжает вредить ему.
Художник и в Риме, несмотря на другие занятия, изучал анатомию и работал над препарированием трупов, которые доставляла ему городская стража, нередко находившая их утром в глухих углах Рима. Он также занимался в госпитале святого Петра, тайно от всех. Но эта тайна не укрылась от Георга, а от Георга стала известна Иоганну. Они подсмотрели, когда художник с тусклым фонариком пробирался к госпиталю. В следующую ночь Иоганн взял с собою одного из папских гвардейцев и притаился с ним за углом соседней с госпиталем церкви Санта-Мария делле Транспонтина.
Когда неподалеку мелькнул слабый огонек знакомого фонаря, Иоганн прошептал:
— Вот он идет резать мертвецов. Смотри не пропусти ничего мимо ушей и глаз. Ему нужна человечина для его снадобий, особенно сердца детей. Ведь он колдун и безбожник. Никто из живущих не видел, чтобы он шел к исповеди или кропил святой водою дом. У него и в помине нет, чтобы позвать к себе святых падре из приходской церкви и попросить отслужить молебен, а от мессы
[56], если ему про нее намекнуть, он весь корчится. Он готовит зелье, чтобы извести его святейшество…
У несчастного гвардейца, который к тому же вместе с Зеркальщиком хватил в таверне через край, не попадал зуб на зуб, и он твердил в ужасе:
— О матерь божья! О святой Зиновий!
— А души усопших, — продолжал нашептывать Иоганн, — бродят, отыскивая свои сердца. Говорят, этот безбожник заставляет мертвецов шевелить руками и ногами и даже учит их плясать.
Он говорил о том, как художник сгибал и разгибал руки и ноги покойников, наблюдая механизм действия сухожилия и мускулов.
От ужаса гвардеец сперва заорал благим матом и затем грохнулся в канаву, где и заснул богатырским сном.
Наутро, проспавшись, он доложил по начальству, что безбожник Леонардо да Винчи, состоявший прежде на службе у проклятых французов, вынимает сердца у покойников для страшного преступления.
— Проклятый еретик… Ох, страшно вымолвить, я сам видел, как он варил похлебку из человеческого жира, будто для закрепления краски, чтобы писать святые иконы… А Иоганн Зеркальщик видел, как у него плясали мертвецы…
Начальник папской стражи нашел возможным, чтобы гвардеец повторил свои басни самому его святейшеству. И, когда на коленях, дрожа и плача, тот бормотал свой вздор, Лев X все выслушал, поник головою, задумался и отвечал со своею тонкою улыбкой:
— Поди, друг, довольно…
Конечно, папа ни на одну минуту не поверил нелепой сказке о мертвецах — он отлично знал о занятиях художников и ученых, в том числе и Леонардо, препарированием трупов, но церковь, церковь, все эти рясы, белые, черные, фиолетовые и красные, где суеверие свило себе прочное гнездо… Нехорошо уже то, что Леонардо подал повод к глупым сплетням в Риме.
Нелепая сказка была подхвачена кумушками и разглашена. Рим заговорил о колдовстве Леонардо да Винчи. Настоятель госпиталя не на шутку струсил и запретил художнику работать у него над трупами умерших больных.
Тяжелым ударом для Леонардо была неожиданная смерть Зороастро, которого он очень любил. Зороастро умер в схватке со Скарамуччо, который, напившись, похвалялся в таверне, что флорентиец рисовал его в Милане и когда рисовал, то заодно показал, как варит из человечьих сердец колдовское зелье.
Защищая репутацию хозяина, Зороастро бросился на Скарамуччо со своими увесистыми кулаками и упал, смертельно раненный ножом.
Его место у Леонардо занял ученик Вилланис, здоровый, сильный, знающий кузнечное дело.
Положение художника в Риме сделалось невыносимым. А тут еще единственный покровитель его, кардинал Джулио Медичи, покинул на продолжительный срок "вечный город".
X. КОРОЛЬ И ПАПА
Король Франциск I, наследовавший престол после Людовика XII, не переставал жалеть о том, что Милан не принадлежит больше Франции. Он считал это герцогство своей неотъемлемой собственностью, незаконно отнятой у него папою и Максимилианом Сфорца. Но вот Венеция и Генуя снова привлекли его в Италию. Он перешел Альпы, окруженный штатом из влиятельнейших людей страны. Тогда короли не имели постоянной резиденции и разъезжали по стране с многочисленной блестящей свитой.
Около Франциска I толпилась знать, стремившаяся попасть ко двору, блеск которого заставлял его покидать прадедовские замки. Глаза всех были устремлены на короля; всякий чувствовал свою зависимость от его расположения даже в своих частных делах, тем более что от короля в любую минуту можно было ждать наград и отличий.
Франциском I была одержана победа над Миланом, Пармой и Пьяченцей. Он победил и папу Льва X. Битва была кровопролитная. На поле брани осталось шестнадцать тысяч убитыми и ранеными. Король, проходя мимо груды изуродованных тел, воскликнул:
— Великий боже! Как тяжело, как скорбно видеть, сколько погибло храбрых, славных людей!
Попав в Милан, Франциск, подобно своему предшественнику, захотел самым тщательным образом осмотреть город.
Прежде всего он посетил монастырь Мария делле Грацие, где увидел "Тайную вечерю". И, подобно Людовику, Франциско сказал:
— Я хочу, чтобы эта картина была на моей родине, хотя бы для этого пришлось перевезти всю церковь. Подумайте хорошенько над способами перевозки, а я не поскуплюсь на издержки.
Архитекторы и инженеры не спали ночей над решением этой задачи и не могли ничего придумать.
— Всехристианнейший король, — доложили Франциску, — стену и церковь перевезти невозможно.
— Невозможно! Но если невозможно увезти картину, то я возьму с собою художника. Он напишет мне другие, столь же гениальные произведения — ведь он все еще значится художником французского короля. Слушай, — обратился он к своему секретарю, — ты сейчас же отправишь письмо мессэру Леонардо да Винчи с выражением нашей благосклонности и непременным желанием видеть его в Милане.
Но Леонардо и сам рвался из Рима и до получения королевского приглашения уже собирался покинуть "вечный город" в сопровождении Мельци и Вилланиса. С остальными учениками он расстался: некоторые захотели открыть собственные мастерские, Больтрафио, выказавшего большой талант и опытность, Леонардо сам уговорил работать самостоятельно.
Встреча с королем была назначена в Павии.
Лишь только художник ступил на землю Павии, к нему явились выборные от городских властей. Униженно кланяясь, эти синьоры просили мессэра Леонардо поскорее придумать что-либо для устраиваемого городом в честь короля праздника.
Он в первый раз видел Франциска, и король произвел на него впечатление осанкой, звучным голосом, величественными жестами.
Леонардо недаром, впервые увидев Франциска, сделал зарисовку львиной головы в своей записной книжке. Эта зарисовка вскоре пригодилась ему для выполнения королевского заказа к торжественному празднику явления нового властелина народу.
Едва король появился на площади, как к нему подошел лев-автомат; двигаясь медленно и важно, он раскрыл свое сердце, из которого к ногам Франциска упал букет белых лилий — цветов, входивших в герб французских королей.
Выдумка художника произвела эффект. Король довольно улыбался.
Леонардо стоял перед ним в своем черном одеянии, с длинными седыми волосами, придававшими ему вид патриарха, и смотрел на него пытливо ясными голубыми глазами. И под влиянием этого мудрого взгляда король Франциск, может быть первый из государей, не решился обратиться к художнику на "ты".
— Мессэр Леонардо, — обратился он к художнику почтительно, — надеюсь, что вы будете сопровождать меня в Болонью?
Леонардо не выразил ни изумления, ни радости.
— Если будет угодно вашему величеству, — отвечал он равнодушным тоном, кланяясь королю.
Леонардо должен был отправиться вместе с французским королевским двором в Болонью, куда ждали Льва X для переговоров о мире.
Снова увидел Леонардо изнеженную, дряблую фигуру римского преосвященника. Но теперь это не был посылавший гром и молнии владыка, сыпавший проклятия и дававший отпущение грехов. Смиренный, заискивающий, смотрел он на французского короля, которого ненавидел, боялся и от которого ждал милостей.
Как недоставало среди карикатур, когда-то очутившихся в руках Леонардо, такой, которая бы отразила этот новый момент в жизни наместника Христа на земле!..
Франциск знал, какую незначительную роль играл Леонардо при папском дворе, и, желая уколоть Льва X, нарочно обратился особенно почтительно к Леонардо:
— Любезнейший мессэр Леонардо, великий маэстро… Я хочу особенно горячо поблагодарить его святейшество за то, что он осчастливил меня вашим присутствием…
Сколько было в этом обращении едкой насмешки! И эта подчеркнутая почтительность к художнику, которого он
назвал "великим маэстро", и эта благодарность покоренному от покорителя, перед которым трепетала вся Италия!
Папа, улыбаясь, отвечал в тон Франциску:
— Я весьма счастлив, что наш друг христианнейший король находит удовольствие в обществе этого почтеннейшего из всех художников Италии. Я всегда любил его, как сына.
И лукавый взгляд мягко, почти любовно остановился на Леонардо, которого он еще так недавно низвел до службы на монетном дворе.
— Я не забываю милостей его святейшества, — прозвучал голос художника с легким оттенком иронии.
Лев X слегка покраснел, закусив губу.
Леонардо изучал лицо папы, стараясь запечатлеть в памяти то жалкое и в то же время злое, что было в этом мягком, дряблом лице, в близоруких выпуклых глазах и заискивающей улыбке, в этой любезности затаенного бешенства. И рука его незаметно занесла в записную книжку несколько смелых штрихов. Франциск, улыбаясь, следил за рукою художника.
Когда кончилась аудиенция и Лев X удалился, король весело сказал:
— Мессэр Леонардо, а ну, познакомьте нас со святым отцом, наместником Христа, в образе просителя. Уверен, что вы не упустили такого благодарного случая.
Леонардо молча раскрыл записную книжку. Франциск долго смотрел на листы, испещренные рисунками. Перед ним появился смело нарисованный набросок, образ уродливый, отталкивающий и в то же время притягивающий своим уродством. В записной книжке папа фигурировал в разных позах, очевидно как результат неоднократных наблюдений. Были тонко подмечены самые различные душевные проявления этого человека в пышной одежде и тиаре. В одном месте был изображен ханжа, поднимающий к небу сладенькие глазки; в другом — съежившийся и перепуганный человек, подбирающий рясу; в третьем — мягкие черты приобрели неестественную жесткость из-за злобно сощуренных глаз. Франциск залился громким смехом.
Король скоро уехал во Францию, в Амбуаз. Леонардо некоторое время погостил у Джироламо Мельци на вилле Ваприо и последовал в Амбуаз, согласно королевскому приглашению.
Если бы был жив бедняга Зороастро, он, наверно, сказал бы:
"Авось и на французской земле для лошади будет достаточно сена…"
XI. ФРАНЦИЯ
Амбуаз прилегал к болотистой, нездоровой местности, бедной и печальной, но в нем жилось очень весело, по крайней мере в королевском дворце. Король и супруга его, королева Клод, были окружены пышным двором; одних лошадей насчитывалось при дворе около восемнадцати тысяч. Король любил веселиться, а вместе с ним веселились и все окружающие.
В Амбуазе Леонардо встретили как дорогого, желанного гостя. Всем было известно, как высоко чтит король флорентийского художника; из уст в уста передавался слух, что его величество отнесся к художнику необычно милостиво. Придворным после этого все казалось во флорентийце обаятельным: и его мягкая, неспешная речь, и холодный сосредоточенный взгляд, и простое, изящное, хотя и чуждое французскому вкусу платье. Он был уже старик, но обращал на себя внимание в толпе молодых своим благородным, величественным видом. И молодые дворяне стали перенимать у Леонардо да Винчи не только привычки, манеры, речь, но и самую одежду старинного флорентийского покроя. Так Леонардо переменил в Амбуазе моду; портные были завалены заказами на розовые и темно-красные плащи с прямыми складками — "плащи синьора Леонардо да Винчи, королевского живописца".
"Ах, этот великий художник похож на Юпитера!" — говорили томно придворные дамы, а кавалеры, чтобы заслужить их благосклонность, подражали медлительной походке Леонардо, его осанке, прическе, даже пробовали отпускать длинные бороды…
Леонардо все видел, все замечал и смеялся от души.
— Смотри, Франческо, — говорил он Мельци, — а что, если я шутки ради начну делать глупости, одну хуже другой? Увидишь тогда, как эти придворные куклы станут из кожи лезть, чтобы мне подражать. Вот будет потеха! Но что скажут обладательницы их сердец? Неужели они и тогда найдут повод для восхищения?
Король назначил Леонардо пенсию в сто золотых экю и подарил ему маленький замок Клу. Здесь Леонардо должен был доживать последние годы своей жизни. Старость подкралась незаметно и овладела им решительно и крепко, поразив физической слабостью и недугами.
Напрасно король ждал от художника новых произведений; казалось, Леонардо оставил все свое вдохновение за Альпами, в той благодатной стране, которую не переставал любить и по которой тосковал, несмотря на все перенесенные там невзгоды… Как мало осталось у него сил для Франции, привязанностью к которой его несправедливо упрекали соотечественники! Эти творческие силы он отдал главным образом Милану, второй своей родине.
Но он не оставался в Амбуазе праздным. Король хотел, чтобы французский двор служил образцом изящного вкуса и образованности для других европейских государств. Леонардо был у него и архитектором, и живописцем, и декоратором, и механиком. Без указаний флорентийца не обходилось ни одно торжество, начиная от крещения дофина — королевского сына — и кончая бракосочетанием Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, с дочерью одного из родственников короля, герцога Бурбонского. На этой свадьбе был устроен блестящий маскарад и турнир с осадой сооруженной из дерева крепости. Осада длилась целых шесть недель, и во время нее на земле осталось немало убитых и затоптанных лошадьми.
Франциск I очень любил подобные увеселения, не обходящиеся без человеческих жертв, что было тогда не в диковинку, любил он и всякие физические упражнения, развивающие силу и ловкость. И сам он был силен и ловок. Надолго врезались в память Леонардо и его учеников эти увеселения — турниры, наследие средневековья, и пышные охоты…
Эта шумная жизнь в Амбуазе тяготила Леонардо. Он чувствовал, что у него не остается сил на что-нибудь серьезное. И вдруг паралич отнял у него правую руку…
Все более грустным становилось существование старого художника. Сидя у окна своей мастерской в Клу, он часто целыми часами молча смотрел на живописную долину, на ряды тополей и яркую зелень виноградников. Зимою за окном выл ветер; холодный туман окутывал белою пеленою поля, деревья, виноградники, погребая жизнь и радость. Густой белый туман ложился на землю, как саван…
В такие часы около художника старался быть Франческо, как молчаливая тень, не нарушающая его раздумья.
Вилланис хлопотал по дому и помогал Матюрине, нанятой здесь служанке-француженке, а Мельци оставался с учителем. Он больше других понимал его и тогда, когда он работал кистью, и тогда, когда предавался философским размышлениям. Леонардо научил его любить и понимать Данте, Петрарку и Боккаччо
[57]. И, когда Франческо читал новеллы Боккаччо, так ярко обнажающие ханжество попов и монахов, Леонардо жалел, что ученик не видел карикатур, которые приносил ему во Флоренции Содома. Особенно после того, как Франческо однажды сказал:
— А что, маэстро, надо сказать, здесь, во Франции, легче жить тем, кто не так хорошо помнит все обязательные церковные службы и забывает, какой день посвящен какому святому и какой божьей матери.
Леонардо засмеялся:
— Ты, Франческо, пожалуй, сейчас стал вольнодумцем. А помнишь, в Милане, ты не забывал ни амулета, привезенного из Ваприо, ни сделать "рожки" нечистой силе, чтобы отогнать ее подальше. — И он показал рукою характерный итальянский жест, сжав пальцы в кулак и выставив рожками два — большой и мизинец. — Скажи, какие у тебя остались на шее амулеты — из коралла или из перламутра?
— Все, все бросил, — смеялся Мельци.
Он все больше и больше сближался с учителем. Леонардо показывал ему свои записи о живописи, пояснял свои философские и научные мысли, занесенные в дневники, читал свои так называемые "басни", "загадки" и "предсказания".
Эти записи были мудреные, и Салаино бы их не понял, но Мельци еще ребенком посвятил свою жизнь Леонардо и рано научился его понимать.
Салаино, конечно, сказал бы:
"Учитель, на какую ничтожную роль вы обрекаете человека, если думать, что со всех сторон его обступают силы природы, когда он — владыка земли, поставленный над нею самим господом богом?"
И что же он должен был бы ответить этому парню, взращенному на поучениях монахов? А Мельци он мог сказать:
"Человек — не кумир, у ног которого должна лежать природа. Человек сам часть этой природы, и жизнь его — это борьба с нею. Человек должен употребить много усилий, чтобы стать хозяином природы. А мои загадки и предсказания — это свод наблюдений и рассуждений. Я исследую человека в обществе и на природе".
Он рассказал Мельци две свои басни.
В одной говорилось о ласке, которая бросилась на мышь, но появилась кошка и сожрала ласку. Мышь радовалась, только недолго: кошка сожрала и ее…
В другой басне шла речь о дрозде и кизиловом дереве. Дрозд величался перед кизиловым деревом, но его словили и посадили в клетку из кизиловых веток, и кизиловое дерево смеялось над хвастуном.
Мельци понял сатиру: Леонардо, переживший столько войн и столько властителей, помнил, как вчерашние союзники делались врагами.
Перелистывая свои записи, Леонардо говорил:
— Как часто преподобные отцы строго осуждают тех, кто в праздник рисует или изучает божие творение!.. Нетрудно в таком случае получить кличку — еретик, безбожник, слуга дьявола…
Мельци разделял взгляды учителя, как разделял его труд и досуг, и старался теперь, когда Леонардо лишился возможности рисовать, развлечь художника. Мельци хорошо играл на лютне, и, случалось прежде, они составляли дуэт, но теперь ученик играл один на сохранившейся старой лютне Леонардо — серебряной лошадиной голове.
В туманный неприветливый день художник сидел на своем обычном месте у окна, а Франческо Мельци, как всегда, поместился с лютней у его ног на мягкой подушке. И, как встарь, Франческо запел знакомую милую песню:
Как хорошо это синее небо,
Что смеется в блеске дня…
— А здесь белый туман, — проговорил задумчиво Леонардо, — сегодня белый туман, завтра белый туман… Все серо, мрачно, бледно и однотонно… — продолжал он, помолчав. — Тебе очень скучно… то есть я хотел сказать — очень тяжело здесь? Ты часто вспоминаешь синее небо Милана?
— Вспоминаю, учитель, — отвечал Франческо просто.
— Поезжай в Милан, к отцу, — сказал Леонардо со странным выражением безнадежности, которой раньше Мельци у него не замечал. — Поезжай себе в Милан. Твой учитель все равно ничего больше не создаст в Амбуазе.
— Я не поеду на родину, маэстро, пока не поедете и вы. Ведь вы же знаете, что ни я, ни Вилланис не покинем вас до самой смерти.
— До смерти! — повторил, усмехаясь, Леонардо. — А ведь она, пожалуй, и близко, мой Франческо! Помнишь мальчика Джакомо? Славный, озорной был мальчишка, хоть порядочный плут и бестия. Но он все же по-своему любил меня, обкрадывал порою, а все же любил. Он бесчисленно много безобразил, но готов был отколотить кого угодно, кто только посмеет сказать при нем обо мне что-нибудь дурное. Он хорошо пел уличные песенки. И его нет со мной… нет и верного Зороастро… Что же ты перестал? Пой еще, пой!
Художник задумчиво гладил длинную шелковистую бороду, и неподвижный взгляд его был прикован к окну.
пел тихим голосом Мельци и с грустью смотрел на учителя. Он знал, что Леонардо глубоко страдает, тоскуя по родине.
В дверь постучали.
— Это ты, Вилланис? — спросил Леонардо.
Голос был усталый.
В двери показалась голова Матюрины.
— Что скажешь, друг? Завтрак подан? Хорошо. А потом, после завтрака, мы пойдем гулять.
Матюрина подавала скромный завтрак. Обыкновенно он состоял из зелени, фруктов, молочного и мучного. Десятки лет Леонардо не брал в рот мяса.
— Великое зверство, — говорил художник ученикам, — поедать живые существа, которых мы не в состоянии создать. Разве природа для того подняла человека разумом над животными, чтобы он стал более свирепым, чем дикие звери?
XII. ОТКЛИК С РОДИНЫ
Леонардо был на прогулке вместе с Мельци, которого он охотно брал с собою, когда не чувствовал потребности в одиночестве. Они поднимались на зеленеющие холмы, и глаза Леонардо были устремлены на равнину внизу; широким жестом указал он на красивый пейзаж поля и луга с извилинами серебряной ленты реки и сказал в раздумии:
— Смотри, мой Франческо, смотри и учись у великой нашей учительницы — природы. В ней красота и мудрость. Смотри, как незаметны и тонки переходы от света к тени. Нигде нет грубых и резких очертаний. Все гармонично, нежно, воздушно; все постепенно переходит от света к тени. — Он вздохнул. — Но здесь нет такой прозрачности воздуха, как у нас, в Италии…
Легкая тень омрачила высокий лоб художника. Он провел по нему рукою, как бы отгоняя дурные, тяжелые мысли, точно отвечал сам себе:
— Если хочешь быть художником, оставь всякую печаль и заботу, кроме искусства. Пусть душа твоя будет как зеркало, которое отражает все предметы, все движения, само оставаясь неподвижным и ясным. А как разнообразен чистый родник природы! Не только у каждого дерева, но и у каждого из листьев особенная, единственная, более никогда в природе не повторяющаяся форма, как у каждого человека — свое лицо.
Леонардо спустился с холма и задумчиво побрел домой. Мельци молча следовал за учителем. Приближаясь к калитке, он услышал торопливый стук деревянных башмаков и увидел Матюрину, массивная фигура которой вся колыхалась от быстрого бега. Белая косынка на ее голове совсем съехала на сторону. Она бормотала, задыхаясь:
— Скорее, мессэре, скорее… гости из Италии… Его эминенция
[58] святой отец кардинал… и с ним секретарь… знаменитейшие, преславные, дорогие гости из Италии!
Лицо художника разом прояснилось, как будто его озарило солнечным светом. Гости с родины, и кардинал, — это необычайно! Взглянув на Леонардо, ученик подумал, до чего глупы и мелочны были враги учителя, обвинявшие его в том, что он предался французам и забыл родину. Лицо Леонардо говорило яснее слов. Вот приехал гость с далекой родины, которая не нашла ему достойного применения, не оценила его гения, и одна эта весть, одно живое напоминание об отчизне заставили его расцвести, помолодеть на десять лет; бодрой, совсем юношеской походкой пошел он навстречу нежданным гостям.
Приехал кардинал Луиджи Арагонский со свитою. Заметив радость художника, он впервые задумался о странной судьбе человека, ради которого он решил посетить проездом замок Клу.
Ему внезапно захотелось узнать, зачем это судьба заставила художника бросить любимую родину и отдать последние годы жизни чужбине.
После первых приветствий кардинал обратился к Леонардо с просьбой познакомить его с трудами "знаменитейшего живописца", слава которого привлекла его в замок Клу.
Леонардо охотно повел гостей в мастерскую и стал отдергивать один за другим холсты с мольбертов, открывая картины. Это было изображение Иоанна Крестителя и группа: святая Анна, держащая на коленях свою дочь Марию, которая тянется к Христу-младенцу, играющему с ягненком. Старая тема картона для флорентийской церкви, неоконченная картина, которую Леонардо здесь хотел закончить.
Кардинал стоял любуясь. Вот два поколения с улыбкой смотрят на третье, ожидая от него свершения подвигов в будущем и желая охранить его от скорби… И этот молодой предтеча Иисуса, отшельник, как бы живущий одной жизнью с природой, — все это так удивительно, так необычно, не встречается ни у одного из известных кардиналу художников. И какие изумительные переходы от тени к свету…
— Моего государя интересует один замечательный портрет… — сказал кардинал значительно.
Леонардо подошел к третьему мольберту и отдернул с него тафту.
— Это все, что мне осталось от родины, ваша эминенция…
Голос его звучал глухо. На мольберте была "Джоконда", "Мона Лиза", как чаще ее называли. Она умерла во цвете лет, умер и ее муж, Франческо Джокондо, уже старик, а наследники продали замечательный портрет за четыре тысячи золотых королю Франциску I, прослышавшему об этом произведении. Король отдал портрет Леонардо для реставрации, но расстаться с "Моной Лизой" Леонардо было тяжело: она оставалась единственным памятником той вдохновенной работы, того незабываемого времени — расцвета его творчества, и он оттягивал разлуку с картиной.
Эти глаза, эта улыбка держали его в плену. Что было в чувстве гениального живописца, когда он с первым лучом солнца пробирался в мастерскую и не отрываясь смотрел на милое лицо, унесшее в могилу загадку — причину своей смерти? Быть может, он, разбудивший душу в этой женщине, застывшей среди банкирских книг и конторок, разбудил несбыточную мечту об иной жизни, разрушительную мечту, которая скосила ее во цвете лет? Никто не рассказал ему ни о ее думах, ни о кончине… Но образ ее, это его детище, создание его гения, жил в нем; с этим образом он сроднился, по нему тосковал, его любил… И, может быть, один Франческо Мельци смутно понимал, почему иной раз учитель в бессонные ночи с лампой ходил в мастерскую к портрету, уклончиво объясняя проснувшемуся Мельци:
— Когда не спится, старикам лезут в голову всякие мысли… У нас развелись мыши… не испортили бы картин… — И добавлял совсем тихо: — Когда я ее писал, у меня были в порядке обе руки.
С многими, самыми разнородными ощущениями кардинал отошел от картины.
Окинув взглядом суровую обстановку студиоло, Луиджи не выдержал и спросил художника:
— Как можете вы мириться с этим одиночеством?
— Я позволю себе на это рассказать вашей эминенции одну пришедшую мне на ум басенку, как раз применимую к данному случаю. Камень, обнаженный потоком, лежал на горе, под которой проходила дорога, вблизи прелестной цветущей рощицы. И он сказал себе: "Зачем я нахожусь среди этих красот? Лучше мне жить между моих братьев — камней". И он скатился на дорогу. С тех пор он жил среди вечных мучений, попираемый колесами телег и подковами коней, покрытый навозом и грязью, и тщетно глядел на место, откуда пришел, место безмятежного и уединенного покоя. То же бывает с теми, кто покидает уединенную и созерцательную жизнь ради жизни в городах, среди исполненных бесконечным тщеславием людей. Здесь этого не может быть. У меня, впрочем, есть и семья — мои ученики, и мои дорогие замыслы, и вот эти немые друзья. — И он указал рукою на рабочий стол, заваленный чертежами и тетрадями.
Он стал открывать одну за другою свои заветные записные книжки, объяснять чертежи. Кардинал с изумлением смотрел и слушал, убеждаясь, что Леонардо не только великий художник, но и великий мыслитель, великий ученый. Казалось, нет конца его познаниям. Все, что он писал, было изложено простым, ясным и точным языком.
Где-то в его записной книжке, под миниатюрным чертежом летательного снаряда, было написано:
"Человек, как великая птица, примет свой первый полет на спине благородного лебедя, приведя в изумление весь мир, наполняя все книги молвой о себе, доставляя своей родине вечную славу!"
В этих словах вылился могучий восторг поэтической души Леонардо, предвидевшей, что человек овладеет тайной полета.
Через четыре столетия протягивает он руку исследователю наших дней. Вполне ясно сознает он несостоятельность учения о неподвижности Земли, как и о ее положении в центре мироздания. И, хотя написанное им не было опубликовано и для современников исследования его пропали, имя его осталось бессмертным в летописях науки.
Перед Луиджи Арагонским были чертежи первого гигрометра — прибора для определения влажности воздуха, — разных насосов, стекла для усиления света ламп, водолазных шлемов, летательных снарядов, первого плавательного пояса, первого парашюта, первой камеры-обскуры…
Было уже поздно, когда кардинал покинул студиоло Леонардо, чтобы отправиться ко двору французского короля. Леонардо долго помнил его восторженно-благодарный взгляд, удивительный для представителя католической церкви. Ведь кардинал, вероятно, отлично отдавал себе отчет в степени благочестия флорентийского художника. Прощаясь, он крепко обнял Леонардо, говоря:
— Какая ужасная потеря! Такого человека, как Леонардо да Винчи, лишилась родина!
И услышал спокойный ответ:
— Этот человек скоро совсем покинет землю.
В сумраке ночи, в молчании, при красноватом свете фонаря, он пошел проводить гостя с его свитою до ворот своего маленького замка.
Франческо Мельци стоял один перед мольбертами учителя. Пламя масляной лампы тускло озаряло лицо Иоанна Крестителя. У Иоанна, как у языческого бога, была неопределенная, даже, может быть, лукавая улыбка. Что ею хотел сказать художник? Мельци казалось, что этот проповедник нового учения любви и братства скорее похож на языческого бога Вакха… Но Мельци постарался отогнать от себя эти мысли… Да, конечно, Иоанн изображен в тот период жизни, когда юная душа стремится к общению с природой, когда он полон восторга от своей идеи, — отсюда и улыбка и поднятый палец: он прислушивается к тому, что говорит ручей, шепчет над головою листва развесистых дубов…
И тут же рядом, задернутая тафтою, — другая улыбка, которая так часто притягивала к мольберту бросившего кисти учителя, образ, давно ушедшей из жизни женщины, истинную душу которой сумел найти много лет назад великий художник…
В замке Клу с отъездом кардинала жизнь потекла по-прежнему размеренно, но Мельци заметил, что напоминание о родине взбудоражило маэстро, как бы нарушило его внутреннее равновесие, а в эти годы каждое волнение оставляет глубокий след.
Силы Леонардо слабели; тоска по родине подтачивала его. Франческо догадывался, что в памяти учителя все чаще воскресают воспоминания о более деятельном времени, когда он создавал свои лучшие произведения и когда записная книжка его быстро наполнялась меткими зарисовками и меткими рассуждениями. Все это осталось позади… А впереди… впереди… ведь и великих, гениальных людей не обходит естественное явление — старость, слабость, а в итоге — смерть…
Как часто теперь маэстро посещают приступы необъяснимой тоски, когда он часами сидит или лежит неподвижно и кажется, что он уже никогда не встанет.
Вскоре после отъезда кардинала он заболел и лежал в постели, около окна, чтобы лучше видеть природу в момент вешнего пробуждения. Весна радовала его даже здесь, на чужбине. Смотря на бледно-зеленые луга Франции, он думал о долинах Тосканы… Он чувствовал, что умирает.
И, лежа в постели, он говорил вслух, вспоминая прежние мысли, прежние записи:
— Старые люди, живущие во здравии, умирают от недостаточности питания, вызываемого тем, что доступ ему в жилы бражжейки все стесняется от постепенного утолщения стенок жил вплоть до волосных сосудов, которые первые закупориваются совершенно, и от этого происходит, что старые больше боятся холода… И эта оболочка жил производит у человека то же, что у померанцев, у которых кожура делается тем более толстой, а мясо тем более скудным, чем они старше становятся. И если бы ты сказал, что загустевшая кровь не бежит больше по жилам, то это неверно, потому что кровь в жилах совсем не густеет, непрестанно умирая и обновляясь…
Он лежал с открытыми глазами, устремленными в одну точку, как будто что-то читал.
XIII. КОНЕЦ
Утро 23 апреля 1519 года было чудесное. На листьях ползучей розы, обвивавшей окно, блестели радугой капли росы, и чашечки ипомей, что закрываются с полдневным жаром, светились, как фонарики.
Франческо Мельци, как всегда, зашел к учителю узнать, как он провел ночь и не будет ли у него каких распоряжений. В последние годы он незаметно для себя слил все свои интересы, все желания с интересами Леонардо.
Он застал художника в возбужденном состоянии, видимо давно уже бодрствующим. Спустив ноги с кровати, Леонардо читал свои записи, читал вслух, что иногда делал, тихим, размеренным голосом, как будто подводя итоги жизни:
— "Хорошо знаю, что некоторым гордецам, потому что я не начитан, покажется, что они вправе порицать меня… я мог бы так ответить им, говоря: "Вы, что украсили себя чужими трудами, вы не хотите признать за мною права на мои собственные…" Не знают они, что мои предметы более, чем из чужих слов, почерпнуты из опыта… и я беру его себе в наставники и во всех случаях буду на него ссылаться".
И, помолчав:
— "Наука — капитан и практика — солдаты". "Нет действия в природе без причины; постигни причину, и тебе не нужен опыт".
Он кивнул приветливо головою, увидев ученика:
— А, Франческо! Открой пошире окно, впусти ко мне солнце! Земля оживает; могучие соки поднимаются по стеблям… Тысячи букашек просыпаются для жизни… А я — человек — умираю. Но в этом нет ничего ужасного, мой Франческо, потому что это неизбежно. И, если ты будешь мне возражать, это прозвучит, как фальшивая нота. Смерть для меня неизбежна; я не уверен ни в одном дне, ни в одном часе. И вот что, друг мой: не пугай никого, никому ничего не говори, отправляйся поскорее к нотариусу, мессэру Буро, призови его сюда, чтобы я мог продиктовать ему мою последнюю волю.
Мельци беспрекословно пошел за нотариусом.
Солнце еще не высоко поднялось, когда господин Буро подъехал к замку на своем сытом караковом жеребце. Перед ним был дом знаменитого итальянского художника, с водосточными трубами в виде волчьих голов, из раскрытых пастей которых струилась вода после весеннего дождя. Буро с благоговением поднялся по массивной лестнице.
Он вошел в мастерскую, стены которой были испещрены рисунками художника и его учеников. Среди уродливых, забавных карикатур бросались в глаза бешено летающие саламандры на золотом фоне работы Мельци.
Художник полуспал у окна, и нотариуса удивило спокойное выражение лица умирающего. Он точно прислушивался с любопытством к той внутренней работе, которая в нем происходила.
— Добрый день, господин Буро, — сказал приветливо Леонардо. — Не откажите взять на себя труд записать мою последнюю волю.
Буро вдруг стало почему-то неловко, хотя он давно уже привык к исполнению этой печальной обязанности. Он откашлялся, сел к столу и приготовился писать. Перо скрипело, выводя букву за буквой слова завещателя. Художник торжественно диктовал:
— "Поручаю мою душу всемогущему богу… Пречистой Марии, заступнику святому Михаилу, всем ангелам-хранителям и всем святым рая!"
Это было обычное в ту пору вступление к завещанию.
Голос Леонардо звучал ровно. Он обдумал все до мелочей, даже свои похороны… Он дарует, оставляя мессэру Франческо Мельци, миланскому дворянину, в благодарность за услуги и расположение, оказанные ему доныне, все книги, которые находятся теперь в его собственности, и другие принадлежности и рисунки, относящиеся к его искусству и занятиям в качестве художника.
Дальше следовало распоряжение об имуществе, не забыт был Баттиста Вилланис, больше слуга, чем ученик. Ему он оставлял половину сада за стенами Милана, а вторую половину — Салаино.
В завещании была упомянута и Матюрина, которая должна была получить часть одежды Леонардо да Винчи и часть денег. И, возвращаясь опять к любимому ученику, он завещает ему одежду, находящуюся при нем, и остаток своей пенсии.
В завещании все было предусмотрено, даже число свечей на погребении — ведь король захочет его хоронить с пышностью, согласно положению, и он не желает, чтобы за него расплачивались, как за неимущего; он назначил даже оплату всех, кто будет нанят для участия в погребальной процессии.
Кончив диктовать, Леонардо замолчал, откинулся на подушки и закрыл глаза.
Завещание утомило его, и Мельци сделал знак нотариусу, любившему поболтать, сказав шепотом:
— Учитель утомлен, господин Буро, и ему трудно будет продолжать с вами беседу. Смотрите, как он бледен…
Но художник открыл глаза, и в них появился прежний огонек внезапной мысли, а на лбу — легкая морщинка, как в те минуты, когда он что-то припоминал. Его взгляд остановился на Буро, теплый, почти нежный. Мельци подумал, что учитель, глядя на огромную книгу, разложенную возле него, мог вспомнить детство и отца, раскрывавшего при нем часто такие же объемистые нотариальные книги.
Он услышал тихий голос; совсем тихо, как шелест, прозвучали слова:
— Необходимость — наставница и пестунья природы и ее же узда…
Как часто слышал Франческо эти слова о необходимости — логике и законе жизни, которая приносит с собой жизнь рождающемуся и смерть отслужившему свой срок организму!
Он попробовал остановить учителя, напомнить, что доктор не позволяет ни говорить, ни волноваться, когда человек утомлен, а маэстро утомлен завещанием.
Леонардо усмехнулся и снова сказал тихо и ласково старые, памятные слова:
— Милый друг, кто спорит, ссылаясь на авторитет, тот применяет не свой ум, а скорее память.
И замолчал, закрыв глаза.
Буро отыскал плащ, плотнее надвинул на лоб черную круглую шапочку и на цыпочках вышел из комнаты. Его слуга нёс за ним толстую книгу с завещанием.
Тихо было в комнате. Леонардо хорошо сознавал, что умирает, и это не пугало его, потому что было неизбежностью. Мельци стоял в стороне, откуда ему видно было прекрасное лицо с высоким лбом мудреца, обрамленное белыми шелковистыми волосами.
И вдруг услышал снова дорогой голос:
— Признайся, мой Франческо, мой ученик, мой сын, мысль от моей мысли, ты ведь думаешь, что я, несмотря на всю твою любовь, на весь почет, которым я здесь окружен, и на все, что я сделал и продумал, схожу в могилу с горьким сознанием своего одиночества?
Он перевел дух и продолжал задушевно:
— Нет, нет и тысячу раз нет… Я сделал что мог. Правда, не все, кто учился у меня, оправдали мои надежды. Но Больтрафио пойдет далеко и сделает что надо… А из других, как Салаино, выйдут посредственные живописцы, — что из этого? А ты — мой сын, моя рука, моя душа, мысль от мысли, знающий всю мою тревожную жизнь, ты не только сохранишь, но и разберешь и приведешь в порядок все, над чем я думал всю жизнь… А теперь поди к себе. Я устал.
Мельци тихо вышел в соседнюю комнату.
2 мая Леонардо сделалось особенно плохо. Придворный врач не отходил от его постели. Все составлявшие его семью были налицо, боясь не увидеть в последние минуты любимого учителя и друга. От слабости художник не мог сидеть, не мог даже говорить.
Вдруг все тело его начало неметь; мускулы холодели и сокращались…
— Франческо… друзья мои… — прошелестел его слабый голос, — я умираю и прошу простить мне… не сделал… что хотел…
Голова умирающего чуть дернулась и беспомощно упала на подушку. Конец…
Король со всем двором находился в этот день на увеселительной прогулке в Сен-Жермен-ан-Лэ. Когда ему сообщили о смерти его любимого художника, он закрыл лицо руками, не в силах вымолвить ни слова от охватившей его скорби. Он понял, что потерял не только художника, украшавшего его жизнь, но и великого мыслителя и лучшего из людей, которых когда-либо знал.
Друзья Леонардо занялись печальным ритуалом похорон, едва сдерживая слезы, а Матюрина все забывала, все путала и оглашала дом рыданиями.
Но больше всех страдал, конечно, Франческо Мельци. Он ведь исполнил то, что когда-то, еще мальчиком, так горячо обещал Леонардо да Винчи: отдать ему себя до самой смерти. И никто из учеников не понимал так учителя, как Мельци, недаром великий человек возложил на него трудную и ответственную обязанность — разобрать и сохранить для потомства плоды его размышлений, открытий, опытов и художественного творчества.
Разбирая архив, Мельци отложил огромное количество рисунков учителя — Целое сокровище! Здесь — вся душа художника, затаенные замыслы, догадки, пристальные наблюдения…
И среди них — набросок автопортрета, сделанного Леонардо сангиной в пору, близкую к последним годам жизни. На рисунке длинные волнистые волосы, длинная борода; открытый высокий лоб покрыт глубокими морщинами; густые брови нависли над глазами, а глаза смотрят величаво и мудро; губы же сложились в слегка скорбную усмешку.
Это голова старого орла, утомленного от слишком частого созерцания солнца.
Вилланис первое время ничем не мог помочь, он только оплакивал художника, который был так ласков с ним.
Ну что ж, придется Мельци поехать с Вилланисом в Милан и устроить там, в чудесном саду виллы Ваприо, художественную мастерскую, мастерскую учеников знаменитого флорентийского художника Леонардо да Винчи. Можно взять к себе и Матюрину; она еще не так стара и сможет вести у них хозяйство… Но чувство утраты не ослабеет. И верный ученик думал в тысячный раз:
"Потеря такого человека оплакивается всеми, потому что не во власти природы создать еще одного такого человека. И, пока я жив, я буду постоянно чувствовать это горе".
Это же горе и заставляло его действовать во имя лучшего из людей. Лучшего — это поняли не только современники, поняли люди иных веков, иных понятий, потому что Леонардо был провозвестник грядущего.
В 1952 году во всем мире праздновалось пятисотлетие со дня рождения Леонардо да Винчи, одного из тех светочей эпохи Возрождения, чьи великие творения указали путь позднейшим людям искусства и мысли.
23 декабря 1955 г.

Под знаменем "Башмака"

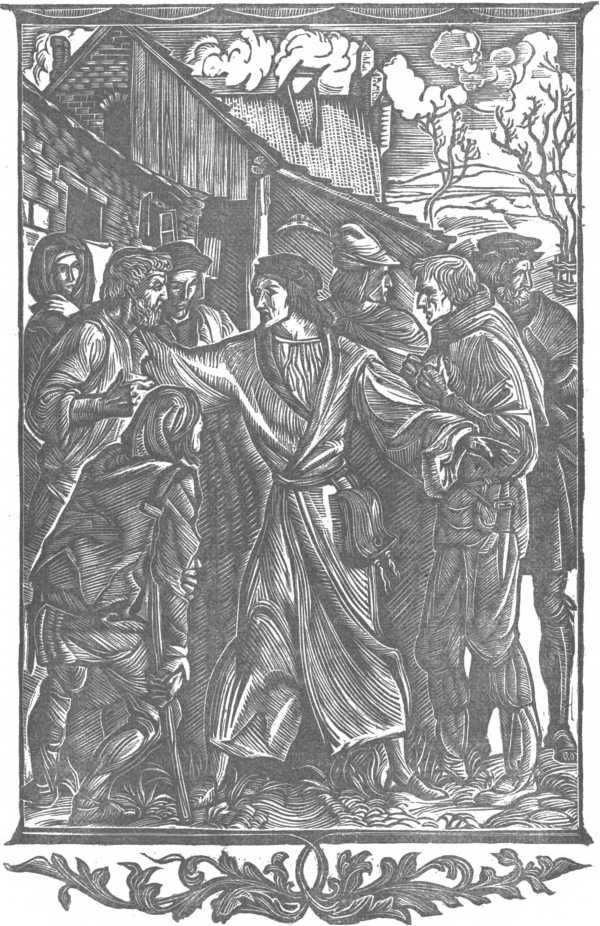
 Моему старому товарищу и другу Алексею Ивановичу Свирскому посвящаю
Автор
Моему старому товарищу и другу Алексею Ивановичу Свирскому посвящаю
Автор
Часть первая
I. В СТАРОМ ШТОЛЬБЕРГЕ
Мягкие очертания Гарца точно застыли в сладкой дреме. Облака тихо скользили над вершинами, сиявшими золотом и пурпуром в лучах заходящего солнца. Горы, покрытые старым лесом, погружались в таинственную и нежную дымку вечера. В зеленой чаще слабо позвякивали бубенчики спускающегося с горных склонов стада; грустно и сладко пела свирель пастуха. Стада возвращались в окрестные селения и пятнами мелькали в зелени леса, оставляя после себя теплый, приятный запах молока.
Позади большого стада лениво плелся молодой пастух, изредка похлопывая бичом. На минуту он остановился, чтобы поправить развязавшийся башмак, и присел на камень.
— Добрый вечер, Куэнтлен
[59], добрый вечер, приятель Коонц! — раздалось у него за спиной. И из-за деревьев показалась статная фигура молодого человека лет тридцати, державшего на поводу лошадь. — Как поживаешь, товарищ?
Пастух поднял голову и с изумлением посмотрел на незнакомца в изящном коричневом камзоле с зеленой отделкой и высоких сапогах со шпорами, какие носили знатные рейтеры
[60].
— Откуда вы знаете, что меня зовут Куэнтлен, господин?
На красивом лице рейтера появилась добродушная улыбка.
— Ах, теперь большинство людей в стране зовется Куэнтленами, или Коонцами, по крайней мере между бедняками.
Пастух ничего не отвечал, продолжая спокойно обматывать вокруг ноги ремни своего башмака.
— Всякий, кто носит башмак с ремнями, может назваться бедным Коонцем, — многозначительно повторил незнакомец, особенно напирая на последние слова.
Пастух посмотрел на всадника недоумевающими глазами. Голос его был звучен, как музыка. И Коонц простодушно отвечал, показывая на ремень:
— Нельзя же, чтобы у бедняков, как у господ, были вот вместо этого шпоры.
— А ты никогда не думал, что на свете должна быть справедливость, о которой так сладко поют священники в церквах?
Пастух застыл в изумленной позе и потом вдруг расхохотался:
— Так мало ли что говорят священники! Они говорят о справедливости, правде и равенстве всех, но когда богатый господин входит в церковь, слуги расталкивают перед ним толпу.
— А ты пробовал говорить со священником?
— Ха-ха! С графским священником? Да он выгонит, а то и отдерет в графской конюшне… или посадит в тюрьму… Священники говорят, что мы принадлежим господам, власть которых поставлена над нами самим богом, и заикнуться о равенстве — это значит идти против бога.
— Ну, а ты сам как насчет этого думаешь, дружище? Согласен с ними?
Коонц подозрительно покосился на собеседника:
— Собственно, никак не думаю. Я и думать-то об этом боюсь.
— А я тебе могу рассказать, как ты должен был бы думать, чтобы найти счастье на земле. И если ты последуешь моему совету…
— Тогда я охотно бы послушал… — несмело отвечал пастух. — Но только простите, милостивый господин, мое стадо разбрелось — я должен его собрать и идти к городу. Если я потеряю хоть одну корову, мне достанется от владетельного графа.
— А граф жесток?
— Что мы только терпим от него! По правде сказать, я чувствую себя свободным только с моим стадом в лесу.
Он встал и хлопнул бичом, собираясь уйти.
— Постой! — остановил его незнакомец. — А где здесь в Штольберге харчевня старого Иоахима Шульца под названием "Веселый кубок"?
— Это у самой заставы! — весело отвечал пастух. — Туда собираются приезжие, не знающие города, и все бедняки.
— Спасибо. Приходи вечером в харчевню, потолкуем.
Пастух кивнул головой и побежал догонять разбежавшееся стадо.
— А как вас зовут, господин? — крикнул он, останавливаясь и тяжело дыша от бега.
— Все равно, приятель, как бы ни звали! Я — иностранец из Нетовой земли, Пустого округа, живу возле Голодной горы. До скорого свидания, товарищ!
Коонц, почесывая затылок, побежал за стадом, а незнакомец ловко вскочил на лошадь, дернул поводья, и скоро его статная фигура потонула в облаке пыли по дороге, ведущей к горному городку Штольбергу.
Едва он отъехал несколько метров — из-за деревьев показалась гибкая, юношеская фигура с длинными каштановыми кудрями, в простом коричневом камзоле. Юноша долго с удивлением смотрел вслед статному чужестранцу и провел рукой по лицу, как бы пробуждаясь от сна.
— И этот говорит все то же, — сказал он громко. — Всюду слышен стон от гнета… Люди, посвятившие себя служению богу, больше всего угнетают несчастных… Кто живет в роскоши, обирая свою паству? Кто… — Он остановился и с отчаянием прошептал: — Изо дня в день, уходя в лес, я готовлюсь к деятельности проповедника и чувствую себя бессильным, особенно после того, как приходится слышать речь настоящего избранника. Кто это был здесь сейчас? Он говорил немного, но в его словах слышалась непобедимая сила. И я перед ним — ребенок.
С опущенной головой, медленной, вялой походкой пошел он к городским стенам.
Тропинка вилась по горному склону и спускалась в долину. Юноше пришлось проходить мимо унылых рудников. В темной пасти земли добывались здесь медь и железо. Около развороченных глыб земли копошились люди, черные от грязи, молчаливые, измученные каторжным трудом. Они ни о чем не мечтали, кроме отдыха.
"Рабы!" — подумал юноша, остановившись на минуту.
Ему было тяжело смотреть на этих несчастных людей, прикованных нуждой к тачке.
Он остановился, снял шляпу почти благоговейно, как будто встретил мучеников, и крикнул рудокопам во всю полноту груди:
— Добрый вечер, братья!
Но никто ему не ответил, и на мрачных лицах рудокопов он не прочел ничего: они по-прежнему торопились кончать работу, чтобы разбрестись по жалким лачужкам, и вовсе не были расположены любезничать с этим прилично одетым, сытым горожанином.
Он пошел дальше.
В лучах заходящего солнца впереди слабо синела долина, и на ней желтым пятном выделялась городская стена с воротами. Невдалеке на уступе гордо стоял великолепный замок графа Штольберга. Его зубчатые стены расцветились флагами, на главной башне развевался самый большой — с графским гербом; фасад сиял бесконечными огнями; разноцветные бенгальские огни и ракеты ярко освещали темную глубь старого замкового парка. В этот день со всей страны съезжались в Штольберг гости на серебряную свадьбу графа, и ржанье рыцарских лошадей разносилось далеко по окрестности.
По дороге к городу юноша всюду видел рудокопов, возвращавшихся с работы домой. Ему встретился роскошный рыдван епископа, запряженный четверкой отличных лошадей. Епископ также спешил в замок. Темные фигуры рудокопов, и без того сгорбленные, склонялись чуть не до земли при встрече с его эминенцией, который на своей земле обременял этих нищих непомерными налогами. Юноша с досадой отвернулся и ускорил шаги.
— Харчевня "Веселый кубок", — прошептал он, невольно вспомнив слова незнакомца в лесу.
Он знал эту харчевню, находившуюся около заставы, — старый Иоахим частенько заходил к его отцу. Проходя мимо дверей, откуда несло луковой похлебкой, он невольно замедлил шаги и заглянул в открытое окно. Из окна слышались крики и песни; харчевня была битком набита народом. В переплете окна показалась голова Иоахима.
— А вот идет Томас Мюнцер! Эй, ваша милость! — крикнул старик. — Послушайте, господин учитель! Добро пожаловать! В самом деле, Томас, не зайдешь ли ты распить кружечку-другую пива?
Томас Мюнцер остановился и, подумав, решил войти, чтобы увидеть в "Веселом кубке" заинтересовавшего его незнакомца.
За столом в харчевне спорили рудокопы, в уголках сгруппировались кучки людей, распивавших пиво или игравших в кости.
Мюнцер увидел у стойки знакомую фигуру в коричневом камзоле с зеленой отделкой. Рейтер вполголоса разговаривал с хозяином; при имени "Мюнцер" он внимательно посмотрел на юношу и спросил его пониженным голосом:
— Сегодня я хотел быть у вас. Ваш батюшка дома?
— Скоро уже ночь, — отвечал Томас, — батюшка ложится рано и…
— Не бойтесь, ваш отец примет меня и ночью! — засмеялся незнакдмец. — Но если вы придете домой раньше меня, скажите, что брат Фриц, торговец шерстью, просит у него ночлега, так как завтра чуть свет должен покинуть Штольберг. У меня тоже есть к нему кое-какие дела.
— Фриц? — переспросил Мюнцер. — А ваша фамилия, господин?
— Брат Фриц, больше ничего не надо! — тихо рассмеялся незнакомец и вдруг оживился, взглянув в окно.
Трактирщик подал Мюнцеру кружку пива, и юноша уселся с нею к столу. Он видел в окно, как у харчевни остановился стройный рыцарь на великолепном коне, с белоснежной гривой которого сливался его белый плащ. Молодое, почти юношеское лицо рыцаря сияло отвагой, а белокурые кудри блестели на плечах, как золото. Их необыкновенная красота особенно оттенялась черной шляпой с длинным белым пером.
Едва рыцарь соскочил с коня, небрежно бросив поводья на руку
Иоахима, Фриц подошел к нему с низким, почтительным поклоном и пробормотал:
— Я здесь уже около часа ожидаю вашу светлость… Быть может, ваша светлость мне простит… Я заблудился в лесу и не мог выехать навстречу…
Рыцарь слегка сдвинул брови и крикнул Шульцу:
— Хозяин, распорядились ли вы приготовить мне и моему рейтеру приличный обед?
— Я приготовил для вашей светлости комнату… Здесь грязно и…
— Это потом… Я люблю иногда потолкаться среди простого люда. Подайте мне обед вон к тому столу!
Хозяин засуетился, стараясь угодить гостю, а Фриц осторожно шепнул рыцарю:
— Не бойся, Штофель, хозяина: он свой человек. А вот сидит за столом сын нашего приятеля Мюнцера. Придется подождать: Иероним еще не пришел.
Трактирщик принес обед на отдельный столик. Фриц и Штофель принялись за еду, разговаривая вполголоса и изредка поглядывая на дверь, в которую входили и выходили посетители.
К стойке подошли несколько бродяг. У одного из них в руках была флейта; он вздрагивал всем телом, подпрыгивал, будто был сделан из резины, кривлялся и сыпал направо и налево насмешками и шутками. Сопровождавшие его оборванцы заливались громким смехом. Жадные до развлечений рудокопы окружили уличного скомороха и хохотали, задевая его грубыми шутками. Он не оставался у них в долгу и подпевал:
Там, в замках, любят мягко спать.
У рудокопов вкус получше…
Зачем к перине привыкать,
Когда спокойнее лежать
В могиле рудника вонючей!
Там, в замках, любят белый хлеб.
У рудокопов вкус получше…
Зачем им к булкам привыкать,
Когда дешевле набивать
В могиле рот песком сыпучим!
Скоморох незаметно переглянулся с Фрицем и Штофелем и продолжал, подыгрывая на флейте:
Собралися господа
О делах подумать…
Говорили мужики:
"Надо их прижать!
Надо их прижать!"
Господа ушли домой,
Вот где стали трусить!
— "Вот где стали трусить!" — повторили дружно рудокопы, поднимая вверх руки, как будто угрожали кому-то.
Скоморох вытянул флейту, как ружье, и щелкнул языком: — Пли! Мужики стали стрелять в господ. Они искали пулями у них блох или чего-то другого… А господам пришлось плохо.
— И еще как! — загоготали рудокопы.
— Отлично накачивает их Иероним, — шепнул Штофель Фрицу.
Фриц поманил к себе скомороха и сказал ему покровительственно:
— Вот тебе деньги, выпей за здоровье моего господина да спой нам что-нибудь посмешнее про этих глупых мужиков!
Мюнцер удивленно следил за этой сценой. Ему казалось, что Фриц играет какую-то комедию.
А скоморох Иероним, подыгрывая на флейте, гримасничал:
— Мужики глупы! Они похожи на улиток, которые ни за что не хотят понять, что их царство — тесная раковинка, где им надо все время сжиматься и не высовывать рожки, иначе их кто-нибудь — чик! — и отхватит вот этак! Они не хотят понять, что хозяин должен их перетягивать арапником, как собак, чтобы они не бесились!
По толпе пробежал ропот. Рудокопы бросали свои кружки с пивом и придвигались к Иерониму. Глаза их смотрели угрюмо.
— Надо почаще учить их арапником, — продолжал Иероним. — Что выдумали они! Говорить о каких-то правах и о древних вольностях! Разве у мужиков есть право на что-либо, кроме плети? Стегайте же их усерднее, могущественные господа!
По харчевне волной прокатился глухой ропот. Иероним продолжал:
— Негодяи рабы осмеливаются жениться на свободных девушках и думают, что жены батраков могут оставаться свободными! Хе-хе… Тут опять выгадали господа: жена принадлежит мужу; муж принадлежит господину вместе со своими поросятами!.. Молчите! — крикнул Иероним на возбужденную толпу. — Скоморох — свободный человек и поет свободные песни! Слушайте:
Свободная дочь городского ткача
Обвенчалася с графским рабом.
После свадьбы не смела и думать она
Не рабыней войти к мужу в дом.
И хотела свободной остаться она,
Но затей этих граф невзлюбил:
Чтоб смирить ее, мужа на цепь посадил —
И упрямицы гордость сломил.
Тише, тише! Пойдем дальше! Ну!.. Глупые мужики не понимают, что отцы епископы — святые люди! На них почиет божья, благодать, и потому они должны пользоваться роскошью, а мужики — отдавать на подстилку им свои толстые мужицкие шкуры и благодарить, что тело пастыря покоится на них. Кто противится — того на эшафот!
— Долой епископа! Смерть! — кричали разъяренные рудокопы.
Иероним остановил толпу повелительным жестом руки:
— Скоморох еще не кончил! Глупые мужики не понимают, что дворянам хочется роскошнее и роскошнее жить. Ткачи придумывают все лучшие и лучшие ткани для модниц, труженики добывают для господ и их жен золото и серебро, ни одной крупицы которых не останется на их пальцах, — господам нужно все больше и больше золота! Откуда его взять? А налоги! Да здравствуют налоги! Скоморох пьет за налоги! Налоги на все: на мясо, на муку, на вино, которое смеет пить мужик. Это приучит мужика к бережливости. А так как мужик не имеет возможности часто есть мясо и пить вино, то на его долю немного падет пошлин. И мужик станет есть вместо мяса солому и станет трезвым, как его овцы. Но зато, кто только может кушать мясо, приготовляй скорее своему господину по три шиллинга с каждого центнера мяса да еще развешенного на фальшивых весах, введенных правительством. Господам нужны деньги: ведь они не умеют ни работать, ни хозяйничать, да им и неприлично это делать. Кормить и наряжать их — обязанность простого виллана
[61], которому приказал это делать бог… Тише, тише!
Иероним вскочил, держа перед собой стул. Он был, кажется, готов размозжить голову всякому, кто вздумает его ударить, и подвижное лицо его дерзко и язвительно смеялось. А толпа, с трудом удерживаемая трактирщиком, уже готова была перевернуть стойку.
— В судах заседают дворяне и господа! — звенел голос скомороха. — Тише, друзья! Еще немного терпения! В сомнительных случаях эти судьи должны решать тяжбу виллана с господином в пользу господина. Таков закон, и сейм постановил, что собака-виллан может подавать жалобы только на постороннего владельца, а не на своего… Ха-ха! Дела должны решать в пользу того, кто может платить!
При последних словах стойка была почти опрокинута, и несколько дюжих рук схватило Иеронима за плечи. Извиваясь, как уж, он быстро выскользнул, наклонился, снял с ноги башмак с длинными ремнями — башмак раба, которым господин привязывает его к земле, — и, взяв его на палку, высоко поднял над головой.
— А если кто недоволен своею жизнью, — крикнул он злорадно, — если кто не хочет быть рабом, подними за мной этот башмак — символ восстания!..
[62] Вперед!
Разъяренная толпа отхлынула от Иеронима, как волна.
— Башмак! Башмак! — крикнул кто-то с ужасом.
И только маленький внук трактирщика Эрик, сжившийся с сутолокой и скандалами харчевни, размахивал в воздухе снятым с ноги башмаком и весело кричал:
— Башмак! Башмак! Вперед!
Толпа неистовствовала. Возгласы удивления сменялись восторгом. Иероним стоял с высоко поднятым на палке башмаком, улыбающийся, торжествующий, но бледный как смерть.
Рыцарь Штофель со своим приятелем переглянулись.
— Пойдем, Иоссфриц
[63], — сказал шепотом Штофель. — Пока нам надо быть осторожными и не выдавать себя. Теперь мы знаем кое-что о настроении народа… А и молодец же этот Иероним!
Иосс и Штофель ушли в комнату, приготовленную для них трактирщиком, шепнув Иоахиму, чтобы он привел к ним попозднее Иеронима.
А Иероним уже вербовал повстанцев среди рудокопов, и дело его, кажется, шло успешно. В пылу успеха он не заметил, как пастух Коонц, давно стоявший у притолоки и слушавший его речи, убежал из харчевни, дрожа от ужаса.
Светлые кудряшки тряслись на плечах маленького Эрика. Он скакал по харчевне, хохотал и, подбрасывая вверх башмак, подпевал:
— Мы пойдем по всем улицам Штольберга с башмаком! А наш пастух Коонц так испугался башмака, как будто это Броккенское привидение
[64]. Вы не видели, как он весь трясся и повторял: "Боже мой, боже мой!" А потом он побежал, точно за ним в самом деле гналось привидение… Дедушка, а дедушка, скоро ли мы пойдем по улицам с башмаком? Где же ты, дедушка?
Мальчик побежал отыскивать деда. Никто не обратил внимания на слова ребенка.
Томас тихо вышел из харчевни. Он был поражен и не мог еще разобраться в происшедшем.
Это был знаменитый 1512 год. Народ долго терпел; недовольство его становилось все сильнее, и наконец он восстал. Восстания поднимались в разных местах.
Крестьяне стонали под гнетом своих владельцев. Особенно страдали жители некоторых местностей, где с давних пор свободные крестьяне стали мало-помалу утрачивать свои вольности из-за произвола баронов и духовенства. И постепенно они должны были забыть о своих древних правах и сделаться монастырскими крепостными. От притеснений многие бежали в Швейцарию. Чтобы не дать духу свободы распространиться за Рейн, немецкое дворянство организовало между собой союзы.
Непомерные поборы, обманы и грабительство духовенства, а также отказ его участвовать в платеже налогов главным образом и побудили народ к восстанию.
Чтобы удовлетворить роскошь, к которой привыкло духовенство, у народа отнимали последнее имущество. Служители церкви в тяжелые годы голода, войны и страшных эпидемий отказывались от всякого участия в налогах на том основании, что светские и духовные законы и священное писание строжайше запрещают обременять их податями. Отказываясь помогать народу во время бедствий, духовные лица без зазрения совести отбирали у крестьян заработок, занимались торговлей, открывали харчевни и кабаки и наживались, спаивая окрестное население.
Дворяне старались перещеголять блеском бюргеров — горожан. Обедневшему дворянству трудно было соперничать с богатыми бюргерами. Дворяне не обращали внимания на сельское хозяйство и разоряли свои огромные поместья; многие считали расточительность необходимой для поддержания дворянской чести.
В конце XV века наиболее умные из дворян стали понимать очевидную опасность, грозившую им со стороны народа, если они не прекратят своих насилий. Но сознавало это меньшинство; остальные держались прежнего образа действий.
С каждым днем налоги все увеличивались, хотя их нечем было платить, и с каждым часом увеличивались притеснения. Егеря и охотники господ топтали лошадьми и собаками поля и виноградники крестьян, а дикие звери, особенно кабаны, которых на потеху господам выгоняли на поля из лесов загонщики, наносили большой вред крестьянскому хозяйству. Осенью птицы опустошали виноградники, но за истребление птиц и хищных зверей крестьян строго наказывали.
В Швабии крестьянский союз "Бедный Конрад" требовал освобождения крестьян и горожан от ига князей, епископов, рыцарей и уничтожения всех податей, налогов, повинностей; он требовал для крестьян полной свободы. "Бедный Конрад" решил отобрать у монастырей и богатых землевладельцев излишки имущества, чтобы улучшить быт бедняков.
Образованием крестьянских союзов занимались люди, посвятившие этому делу всю свою жизнь. Такие люди были и среди священников — странствующих проповедников, переходивших из страны в страну. Они разъясняли тяжелое положение народа, критиковали права как светских, так и духовных властей и проповедовали гражданскую свободу.
Но и среди самих крестьян были люди, посвятившие себя освобождению народа. К числу таких людей принадлежали Фриц Иосс и его друг Штофель. Иосс был старостой швабской деревни Леэн; Штофель не имел определенных занятий и переходил из трактира в трактир как странствующий рыцарь. У них были помощники, раскинувшие свою деятельность широкой сетью по всей стране. Одним из видных помощников Иосс считал тирольца Иеронима, булочного подмастерья, преданного ему всей душой. Нередко они пользовались услугами нищих и бродяг, служивших им гонцами, рассыльными и агентами.
Граф Штольберг считался одним из самых жестоких германских владельцев. Томас Мюнцер с детства насмотрелся на произвол и притеснения на родине и рано дошел до сознания, что так жить нельзя. Он стал искать причину бедствий, а потом выход. Получив суровое, строго религиозное воспитание, он искал в религии объяснения всех несчастий и противоречий. Все свои надежды Томас Мюнцер возлагал на горячие проповеди, которые должны были очистить нравы духовенства. Он был юношей-мечтателем и с раннего детства слышал в доме отца, угрюмого и мрачного человека, проклятия и жалобы бедняков соседей на господ-притеснителей.
И Томас стал стремиться к деятельности проповедника. Он много читал, изучал Библию и сочинения многих богословов, упорно занимался искусством красноречия; уходя в леса и поля, бродил по целым часам, обдумывал и говорил длинные и пламенные речи. Юный мечтатель страстно верил, что его слово пересоздаст мир.
В маленьком городке Галле, где Мюнцер был учителем в латинской школе, он основал тайное общество противников Эрнста II, архиепископа магдебургского, с целью преобразования духовенства. Число членов этого общества было, впрочем, незначительно. Общество занималось мирной пропагандой религиозных идей и не задавалось целью поднять среди крестьян восстание. Поэтому понятно, что председателя его, приехавшего на побывку к отцу, поразило неожиданное открытие в кабачке "Веселый кубок" и заставило задуматься над словами мнимого скомороха. Он вернулся домой далеко не спокойным.
Старик Мюнцер писал реестр каких-то товаров, а старый единственный слуга копался у его ног в темноте кладовой, вытаскивая куски меди, грудами сваленной на полу. Фрау Мюнцер суетилась в кухне, служившей семье в то же время и столовой. В очаге пылал огонь; было душно, и пахло жареным салом.
При входе Томаса мать обернулась, и пламя осветило ее еще не старое, добродушное лицо. Она приветливо улыбнулась сыну и, качая головой, слегка пожурила его:
— Вот опять бродил целый день по полям голодный. Отец был в отлучке по делам, недавно вернулся, ты — тоже. А я все одна. Мне надоело поддерживать огонь в очаге. Да и лепешки засохли, а были отличные, со свежим салом!
Она не на шутку была огорчена и теперь вознаграждала себя, накладывая сыну на тарелку целый ворох лепешек.
Скоро вся семья сидела за ужином: и отец, и Томас, и старый слуга Иоганн, и даже седой, дряхлый пес Тор примостился у ног хозяина. Кругленькая фигурка фрау Мюнцер хлопотливо сновала от очага к столу.
Томас был рассеян и едва отвечал на вопросы. Только после ужина, когда мать убирала посуду и Иоганн пошел во двор задать корм лошади, а отец закурил свою обычную трубку, он робко заметил:
— В округе, отец, неспокойно.
Мюнцер, попыхивая трубкой, равнодушно процедил сквозь зубы:
— А что? Я, проезжая, ничего не видел…
— Я говорю: в нашем городе неспокойно, отец. Земляки недовольны графом. Недовольство все растет и…
— И растет, и растет, — закивал седой головой Мюнцер. — А ты что думаешь? Всюду недовольство растет. Мы зажиточны, другой беден. Когда с нас тянут налоги, до разорения еще далеко, а бедняка разорить легко. Это называется тянуть с нищего последнюю шкуру… Так-то, сынок! Вот они, — он кивнул головой в окно, откуда виднелся графский замок, — вот они пируют: праздник сменяется праздником. А спроси: на какие деньги? — Старик отхлебнул глоток пива и продолжал: — Они пируют на наши деньги, вот что я тебе скажу и сейчас докажу это.
И с обычной медлительностью он перечислял, заглядывая в записную книжку, в которой было нацарапано что-то каракулями:
— В год твоего рождения, Томас, в замок взяли у меня, ничтожного Мюнцера, столько-то шиллингов… да еще спустя два месяца столько-то… В следующий год еще… Потом, перед отправлением в поход молодого графа, через меня достали у старого ростовщика столько-то по десять процентов. По их желанию я этот долг перевел на себя… Да что там! Они живут на наш счет, Томас! Чего ты на меня уставился? Я говорю мало: я не люблю попусту болтать, но когда начинаю, то всегда говорю правду и не боюсь ее… Они живут на наш счет. Они пьют, едят и бражничают, ничего не делая… А где ты был сегодня, Томас?
— В "Веселом кубке", отец. Тебе кланяется Шульц.
Старик нахмурился и подозрительно посмотрел на сына. Неужели тихого и скромного Томаса стали привлекать вино и игра в кости?
— Я зашел туда случайно, отец, мне было интересно послушать, что говорят проезжие…
И, понизив голос, чтобы кто-нибудь не подслушал под окном, Томас рассказал отцу все, что видел и слышал в харчевне. Он прибавил, что брат Фриц собирается прийти сегодня к ним.
— Брат Фриц? — переспросил радостно Мюнцер. — Побольше бы таких людей! Если бы я не был стар, я сам бы пошел за ним. Но мои лета не таковы, чтобы ввязываться в эту кашу, но если уж придется вмешаться, то трусить не буду. Во время моих поездок я много слышал про "Башмак".
При последних его словах послышался торопливый стук в дверь, лай собаки и шамкающий голос Иоганна.
— Эй, кто там, Иоганн? И чего лает Тор?.. Ты говоришь, что это путники просят ночлега? Ну что же, я никогда не отказываю в ночлеге доброму человеку. Входите!
Дверь распахнулась, и в ней показались два незнакомца, закутанные в дорожные плащи. Из-за спин незнакомцев выглядывало добродушно-плутоватое лицо трактирщика Шульца.
— Ага, старый приятель Иоахим! — сказал, вставая, Мюнцер. — Добро пожаловать! Что привело тебя ко мне в такой поздний час? Да, полежим, сегодня в замке веселятся всю ночь, так и горожане следуют примеру рыцарей! А кто это с тобой, Иоахим? — И, прежде чем Шульц ответил, старик крикнул жене: — А ну-ка, собери на стол гостям!
Фрау Мюнцер с недовольным видом засуетилась около стола. Это было ужасно, что она не знала о приходе гостей. Старый Шульц не осудит, а вот приезжий рыцарь будет голоден: похлебка простая, да и та остыла, и очаг погас.
— Не хлопочите, пожалуйста, добрая фрау, — раздался звучный голос одного из незнакомцев, — мы совершенно сыты да и не привыкли к разносолам. А вот стаканчик пива я бы охотно выпил, если он у вас найдется… Да и ты не прочь, Штофель?
Другой незнакомец, с белокурыми кудрями, кивнул головой.
Шульц что-то шепнул Мюнцеру, и тот сказал жене, поставившей на стол кувшин с пивом и стаканы для гостей:
— Иди спать. Мы еще долго просидим. Постели гостям в горнице.
Томас с недоумением смотрел на гостей и не понимал, зачем они пришли к отцу. Мюнцер, очевидно, не узнавал "брата Фрица" и напряженно вглядывался в его строгое лицо, стараясь что-то припомнить.
Тогда Иосс с усмешкой показал ему на свою грудь. По красному суконному лоскутку, нашитому на нагруднике, было вышито латинское "Н". Этот знак давал возможность членам "Башмака" узнавать друг друга.
— И у меня такой же знак, — сказал белокурый рыцарь, показывая на свой рукав, на котором красовался прорез в виде буквы "Н".
Лицо Мюнцера просветлело; он закивал головой и протянул гостю обе руки:
— Да ведь вы же тот самый брат Фриц, чудные речи которого заставили меня когда-то на границе Шварцвальда сразу почувствовать себя молодым и сильным! А это ваш товарищ? Но тогда, брат Фриц, у вас была длинная борода и длинные волосы. Теперь же вы кажетесь настоящим барончиком.
— Это-то мне и надо в Штольберге! — засмеялся Иосс. — Особенно теперь, когда Иероним наделал столько шуму в харчевне.
Штофель недоверчиво покосился на Томаса.
— Не бойтесь, — успокоил его Шульц, — этот мальчик — могила.
Иосс стал рассказывать Мюнцеру о том, какой переполох поднял Иероним своими зажигательными речами в кабачке. После этих речей Иосс решил скрыться из харчевни, чтобы не навлечь на себя подозрения.
— Я вернусь туда ночевать, — сказал Штофель. — Мое положение не так опасно: меня никто не знает здесь, я не успел еще ни с кем обменяться и двумя словами. Кроме того, я больше Иосса похож на рыцаря. Ну, а если я и попадусь — не такая беда! Иоссу надо больше беречься: у него слишком важное дело, чтобы рисковать.
Иосс улыбнулся, строгие черты его лица смягчились, глаза приняли мечтательное выражение. Рука осторожно нащупывала что-то на груди.
Пиво выпивалось стакан за стаканом, и под звон посуды лилась горячая беседа четырех людей. Томас сидел молча, опершись на локти, и жадно слушал. Иосс говорил больше всех и посвящал Мюнцера в свои планы.
— Мы хотим установить на земле новое царство, — горячо говорил он, — все будут судиться местным судом; духовным судам предоставляются только духовные дела; все оброки, платившиеся так долго, отменяются, и все векселя и заемные письма объявляются недействительными; бедные и богатые будут сообща пользоваться рыбной ловлей, лесом и сенокосом; священники не должны иметь больше одного прихода; число монастырей будет ограничено; лишнее монастырское имущество будет отобрано, и из него составится военная касса общества: все несправедливые налоги и пошлины прекратятся. Вступающие в общество будут страховать свою жизнь и имущество. Но для создания такого общества необходимо народное восстание. "Башмак" должен овладеть хорошим городом, чтобы иметь там опору.
Он посмотрел на Мюнцера загоревшимися глазами и ждал его ответа.
— Это прекрасно… — сказал медленно и задумчиво Мюнцер. — Все это прекрасно, если только исполнимо.
— Для этого нужно восстание! — прошептал восторженно Штофель.
— И ты думаешь, народ к нему готов?
— Он готов! — подхватил Иосс. — Тысячами маленьких огоньков вспыхнут восстания то тут, то там и ярким заревом отразятся в отдаленнейших местах Германии. И вся страна запылает. Для этого необходимо только одно: народу нужно знамя, и я принес его. Я ходил за ним в разные города и села, но до сих пор ни один художник не согласился разрисовать мне его, и часто я рисковал свободой и даже жизнью… Перед знаменем свободы народ преклонит колени и пойдет за ним отвоевывать свое право жить или доблестно умереть! — Иосс радостно кивнул головой.
— Есть у тебя семья, брат Фриц? — спросил Мюнцер.
Иосс улыбнулся:
— Есть, есть, как не быть!
— Жена?
— Молодая жена!
— А если тебя не станет, брат Фриц, что будет делать она?
— Она похоронит меня. А пока я еще не умер, моя Эльза сама с радостной улыбкой подаст мне оружие и сама понесет знамя свободы впереди, иначе она не могла бы быть женой Иоссфрица!
Он расстегнул пуговицы своего кафтана, бережно достал с груди лоскут из голубого шелка с изображением башмака и торжественно развернул его.
Иосс с благоговением смотрел на знамя. Глаза его сияли, а суровое лицо светилось счастьем.
— Наконец-то я его приобрел, — прошептал он улыбаясь, — и теперь понесу в родную деревню Леэн. Но мне хочется узнать, что думают и делают крестьяне по всей стране. Я заказал знамя в Гейльбронне
[65] и долго должен был сбивать с толку живописца разными баснями. Я говорил ему, что мой отец имеет башмачную мастерскую в Штейне, в Швейцарии, и на вывеске у него башмак. Поэтому и мне хочется изобразить на шелке вывеску своего отца, чтобы все знали, кем оно пожертвовано, а жертвовать я его хочу богородице в Аахене, куда иду пешком на богомолье. Я рассказал ему про бой, во время которого мне явилась аахенская богородица и спасла меня от руки врагов. И, говоря это, я прикинулся таким простодушным дурачком, что он мне поверил. А то беда! Такие остолопы боятся "Башмака" больше, чем черной смерти
[66].
В то время как все с любопытством рассматривали знамя, Иосс, часто взглядывавший на задумчивое лицо Томаса, неожиданно спросил его:
— А что, юноша, тебя не манит знамя "Башмака"?
Трактирщик добродушно рассмеялся:
— Ах, Фриц, ты еще не успел приглядеться к нашему мальчику: его тянет к себе ряса!
— Ряса? — с недоумением переспросил Иосс.
Томас густо покраснел, встал, выпрямился и твердо сказал:
— Меня влечет знамя любви и сострадания ко всему, что унижено и обездолено. Но восстание, кровь, смерть… Нет! Мне кажется, что еще есть возможность создать царство правды огненным словом, бичеванием пороков, пробуждением сознания, но не мечом!
II. ЗНАМЯ "БАШМАКА"
На другой день с раннего утра штольбергские улицы кишели народом. На площади, возле церкви, раскинулась ярмарка; здесь же были устроены у театральных подмостков места для почетных гостей из горожан. Плотники еще спешно кончали сколачивание скамеек и навесов, где должны были красоваться всевозможные ярмарочные товары. И торопливый стук молотков раздавался по всем улицам, прилегающим к площади. Торговцы и торговки спешно убирали свои лавочки. Возле груд разнообразных мехов пестрели шелковые, атласные и парчовые материи, золотые галуны и бахрома, кушаки, ленты, бархат и атлас. От всего этого у штольбергских модниц рябило в глазах и кружилась голова. Сапожные лавки были завалены красивыми разноцветными башмаками с острыми, загнутыми кверху носками и так называемыми "коровьими мордами" — широкой и неуклюжей обувью для простолюдинов. Над грудами сластей носился рой ос, а вокруг вертелись уличные мальчишки, с жадностью поглядывавшие на лакомства.
Но больше всего любопытных привлекала та часть площади, где продавались драгоценности, игрушки и часы. И здесь торговцам следовало быть особенно зоркими: один из охранявших ярмарку ландскнехтов
[67] уже успел поймать маленького воришку, укравшего деревянный волчок.
Высокая колокольня старой церкви пестрела гирляндами. Священник спешил к обедне, смиренно опустив голову и не успевая отвечать на поклоны благочестивых фрау. Жидкие, дребезжащие колокола звонили. Колокольный звон будил жителей Штольберга. Томас Мюнцер вышел на улицу, когда все в доме еще спали.
Солнце всходило, и в его золотисто-розовых лучах на широких створчатых окошках хлебопекарни медные листы так и блестели; проворные руки молоденькой булочницы раскладывали на них теплые румяные хлебцы. Цирюльник посыпал опилками комнату, где брились. Хорошенькие горожанки в белоснежных чепчиках ставили около своих ворот праздничные березки. Фрау Мюнцер поднялась, услышав шаги сына; побежала за ворота и хотела остановить его:
— Томас! Томас! Сегодня у графа праздник, и я думала, что ты, как ученый, будешь читать у него стихи…
Но, заметив проходившего мимо монаха, она бросилась к нему под благословение, не окончив фразы. Томас видел, как она накладывала в мешок монаха всевозможные праздничные печенья, и знал, что она думает, будто день, начатый "благочестивым" подаянием, принесет ей счастье. Ему стало тяжело при виде этого суеверия; он ускорил шаги и направился к церкви.
Под высокими сводами было полутемно. В клубах кадильного дыма тускло мигали язычки свечек и лампад; на старой деревянной статуе мадонны во все стороны топорщилось парчовое платье, аляповато обшитое золотым галуном. Было душно, и пахло розами, которыми девушки убрали всю церковь.
Томас пробрался в темный уголок и опустился на колени.
Толпа вдруг отхлынула, расступилась, толкая и давя друг друга, и Томас чуть не упал.
Толпа шарахнулась, уступая дорогу графской семье. Высоко держал голову граф Штольберг. Гордо смотрели из-под его нахмуренных бровей суровые глаза. Пурпурный бархатный камзол был вышит золотом. От громадного берилла, блестевшего на шляпе, исходил яркий свет. И рядом с графом особенно ничтожной казалась маленькая, тщедушная графиня Эмилия, путавшаяся в тяжелых складках своего роскошного платья, расшитого золотом.
Но зато как великолепна была молодая графиня Кристофина, следовавшая за родителями в сопровождении своего жениха, сурового и напыщенного, как и отец, графа Теодульфа Гогенлоэ! На ней было платье со шлейфом из голубого атласа, затканное серебром.
Толпа расступилась перед ними, и молодая графиня надменно прошла вперед. Впрочем, зоркие глаза ее успели рассмотреть наряды горожанок, сидевших на скамейках.
В это время священник кротким, плачущим голосом говорил о смирении гордыни, о равенстве всех людей перед богом, а сам незаметно делал знаки церковному сторожу, чтобы тот скорее поправил сиденья на возвышении, предназначенном для графской семьи.
Томас не находил себе места.
— Блаженны нищие духом… — раздавался смиренный голос священника.
И Томасу слышались в нем лицемерно-заискивающие ноты. Томас не мог больше выносить этого гнусавого голоса и вышел из церкви. На душе у него было темно. У дверей ему бросилась в глаза коленопреклоненная фигура соседки, жены пекаря. Она горько плакала и по временам била себя в грудь кулаком.
— О чем вы, тетушка Берта?
Она знала Томаса с рождения и любила, как сына, а потому сейчас же поделилась своим горем:
— О боже мой, я так несчастна! Я так грешна, Томми! Много дней подряд, когда моему мальчику было худо, я молилась перед его постелью…
— Молились, тетушка? Да разве это грех?
— А как же! Я молилась своими словами, забыв, что у нас для всякого случая жизни есть латинские молитвы, назначенные нам святой церковью… И я подумала, Томми, что оттого моему мальчику стало хуже. Бог наказал меня. Святой отец, знаменитейший проповедник, который приехал сюда по случаю графской серебряной свадьбы, будет поучать нас после обедни. Я хочу просить у него исповеди и покаяться, чтобы не быть еретичкой. Ты ученый человек, Томми, скажи, как думаешь, он меня простит?
Она с такой наивно-детской верой ждала его ответа, что он с состраданием серьезно сказал:
— О, конечно, простит, тетушка Берта!
И Томас ускорил шаги, чтобы поскорее избавиться от этих противоречий и лицемерия.
Но на этот раз ему суждено было вдоволь насмотреться на возмутительные вещи.
Недалеко от церкви около маленькой ручной тележки стояла толпа нищих монахов, торговавших "святынями". В тележке были навалены груды костей, сухих бесформенных комочков в маленьких коробочках, бутылочек с мутной жидкостью, гнилушек и всевозможных ладанок. Простодушные штольбергцы, особенно женщины, покупали на последние деньги эти "сокровища", а монахи наперебой выкрикивали слезливыми голосами:
— Мощи святого Петра-келейника, простоявшего двадцать лет на скале, над морской бездной… За талер спасение души и избавление от болезней! Купите, благочестивые фрау!
Монахи торговались, бранились, грозили Страшным судом и, забыв даже о простом приличии и внешнем благочестии, колотили костями "святых" друг друга… Тут же врачевали недуги какой-то всеисцеляющей мазью и давали советы, как лучше избавиться от грехов. Какой-то проповедник, торгующий индульгенциями
[68], посвящал богомолок в особую благодать исповеди.
Монахи кричали во все горло, что отпущение греха воровства стоит столько-то, убийства — столько-то, а богохульства — значительно дороже, и нагло советовали запасаться возможно большим количеством индульгенций, отпускающих самые страшные грехи на будущее время, так как, когда святой отец, уполномоченный папой, уедет, индульгенций уже негде будет взять.
Томас пустился бежать с ярмарочного поля, как будто оно было очагом чумы или проказы.
— Стой! — крикнул кто-то, схватив его за руку. — Вот уже два часа, как я всюду ищу тебя!
Перед Томасом был его товарищ из Галле, молодой ткач Фриц Вольф.
— Что-нибудь случилось, Фриц?
— И даже очень! Примас тяжело болен. Пожалуй, дни его сочтены. Желая попасть в святые, он напоследок стал кормить у себя на кухне нищих и посылать подачки в монастыри и богадельни. Подачки-то невелики, но они уже наделали немало шуму. И в народе многие рабы готовы простить ему прежние жестокости, забыть подземелья его дворца, в которых сгнило немало их родичей. Сторонников у примаса становится все больше, и даже члены нашего общества уже не так ретиво нападают на него.
— Надо же разоблачить волка в овечьей шкуре! — гневно вскричал Томас.
— А что я говорю! И потому тебе необходимо немедленно отправиться в Галле.
Вместо ответа Томас быстро зашагал к дому отца. Фриц был прав: необходимо показать деятелям Галле настоящий облик примаса Германии, архиепископа магдебургского Эрнста II, который, чтобы смягчить народную ненависть, творил дешевые дела милосердия.
Дома Томас застал в сборе всю семью. Мать жарила рыбу. Старый Иоганн возился тут же с редким товаром — тюками перца и гвоздики, — который доставали в Штольберге только через Мюнцера. Мюнцер с видом знатока осматривал Иосса.
Принарядившийся Иосс поворачивался перед ним во все стороны и, смеясь, говорил:
— А чем плох богатый французский торговец благовонными товарами?
Он был неузнаваем в изящном черном камзоле и плаще французского покроя, в белых штанах и красивых сапогах с отворотами.
Томас взволнованно подошел к отцу.
— Батюшка, — сказал он, — дела призывают меня в Галле. Вы не будете сердиться и отпустите меня, я знаю. Я уеду с ним, — указал Томас на вошедшего товарища и начал вместе с Вольфом рассказывать о событиях в Галле.
— Жаль, — коротко отозвался Мюнцер, сдвинув брови, — но раз надо, так надо. Ступай себе и, когда все уляжется в Галле, если останется время до начала занятий в школе, не забудь родной дом, Томми. Вот мать будет огорчена. Скажи ей, чтобы накормила тебя и твоего товарища да собрала вам кое-что на дорогу.
У фрау Мюнцер задрожали губы, когда сын объявил ей об отъезде. Собирая ему и Фрицу Вольфу завтрак, она шепотом твердила, чтобы не услышал муж:
— Недавно три раза пропела петухом курица. Это не к добру. Соседка говорит, что это предзнаменование. Тсс! Не смейся, Томми, — нехорошо, если отец нас услышит.
И когда Томас, закинув дорожную сумку за плечи, пошел по тропинке, вьющейся по горе между мелким кустарником, она долго смотрела ему вслед полными слез глазами. Он так мало жил дома, этот Томми, и у него была слишком горячая голова… Разве под силу мальчику затевать борьбу с могущественным примасом? Если бы отец был построже, он не позволил бы ему губить себя и заниматься такими еретическими делами, но у старика самого порой бывают сумасбродные мысли.
Ярмарка была в полном разгаре, когда туда явился Иосс с тюками благовонных товаров у седла. Он зорко следил за шнырявшими взад и вперед нищими, которые были его агентами, и искал глазами Иеронима. Он нашел его среди фигляров
[69], устанавливавших подмостки для уличной комедии.
Сцена была устроена на двух скамейках и наложенных сверху досках; громадная заштопанная простыня заменяла занавес. Иероним, с набеленным лицом, расстилал на скамейках, приготовленных для почетных гостей, великолепные ковры.
Выйдя из церкви, графиня Кристофина сказала отцу, капризно улыбаясь:
— Я хочу посмотреть на кривлянье фигляров.
Жених ее нахмурился, а граф Штольберг презрительно отвечал:
— Дитя мое Финеле, нас ждет великолепная охота, а ты хочешь смотреть на забавы вилланов.
Кристофина была сердита. Она насмотрелась в церкви на удивительные наряды богатых горожанок и теперь видела, как жена городского судьи, ушедшая раньше из церкви, плыла через толпу в роскошном парчовом платье, а на головном уборе ее блестели огромные изумруды. Какая дерзость — переодеваться по нескольку раз в день! А какие изумруды! Таких не было даже у нее, графини Штольберг! Она до крови закусила нижнюю губу и, пожав плечами, сердито отвечала отцу:
— Разве я виновата, если праздник вилланов интереснее графской охоты!
И Кристофина решительно направилась к подмосткам. Она уселась на виду у всех под шелковым балдахином. Графские гости — рыцари и дамы — последовали ее примеру.
На почетных местах под балдахином собралось блестящее общество. Казалось, это была выставка всех самых редкостных драгоценностей и тканей. Пышно одеты были графские гости, но им не уступали и горожанки. И глаза красавицы Кристофины сверкали, а тонкие ноздри трепетали от гнева каждый раз, когда она взглядывала на богатых простолюдинок.
Жена городского советника толкнула в бок жену судьи и фыркнула:
— Смотри, она нам завидует!
Долетел ли до девушки этот шепот, но только она резко повернулась к горожанкам и, смерив их с ног до головы пылающим взглядом, обратилась к отцу:
— Разве можно позволять так расфуфыриваться всякой дряни!
Эти слова не остались неуслышанными.
Незнакомый рыцарь в белом плаще внимательно посмотрел на разгневанную графиню. Он ожидал от нее еще большего негодования, когда начнется представление, и тонкая улыбка скользила по его губам.
На подмостках показался Иероним. Он изображал человека, который работает в поле, и размахивал косой. Через минуту явился человек с длинной цепью и, обмотав ее вокруг пояса Иеронима, сделал вид, будто бьет его кнутом. И под ударами кнута Иероним продолжал размахивать косой. Пришел второй косец, и тот, кто играл хозяина, посадил и его на цепь.
Кристофина не спускала глаз со сцены и вдруг резко повернулась к графу Гогенлоэ:
— Что они делают, граф Теодульф?
Он пожал плечами. А люди продолжали работать на цепи в гробовом молчании, и новые приходили, и снова их обвивали цепью, и в этом молчаливом движении и в звоне цепей было что-то зловещее.
— Право, это скучно… — жалобно и робко протянула старая графиня Эмилия.
— Наоборот, наоборот! — живо возразила Кристофина, вся перегибаясь вперед, и на лице ее выступил румянец.
Вдруг случилось что-то непостижимое. Явился еще человек, которого хозяин хотел посадить на цепь, но этот человек единым взмахом руки перервал опутавшую его цепь с злорадным криком торжества. За ним стали рвать цепи и остальные, а потом они крепко скрутили бывшего хозяина по рукам и ногам. Подскочив к самому краю подмостков и размахивая косой, Иероним закричал, и голос его был полон ненависти и злорадства:
— Так будет со всеми тиранами, начиная с нашего графа, угнетающими беззащитных людей!
Бледнее смерти поднялась Кристофина. Она видела кругом смятение; толпой овладела паника. Люди неслись, давя друг друга, опрокидывая лотки, роняя товары… Слова Иеронима были кличем к народному восстанию. Но Иероним не рассчитал сил и ошибся: в то время как незначительная часть горожан — большей частью рудокопы — ринулась на графские места, остальная часть или бросилась врассыпную, или остановилась, приготовившись защищаться. Восставшие, оттесняя толпу, пробирались к графской семье. Еще момент — и над головой графини Эмилии поднялся тяжелый молот. В следующий миг кто-то отчаянным усилием отвел удар и повелительно крикнул:
— Ни с места!
Неожиданный окрик на минуту удержал рудокопа.
Он с изумлением смотрел на молодое девичье лицо, обрамленное растрепавшимися черными кудрями. Это была Кристофина. Но, опомнившись, рудокоп бросился к девушке. Она вскрикнула; кто-то подхватил ее на руки. Она была без чувств. Когда рука рудокопа уже замахнулась над головой графской дочери, его остановил звучный окрик:
— Не тронь во имя знамени "Башмака"!
Этот окрик заставил рудокопа остановиться. В толпе произошла замешательство, которого было достаточно, чтобы растерявшиеся рыцари, окружавшие графскую семью, оправились и кинулись к нападавшим.
Горсть восставших рудокопов бросилась врассыпную; за ней бежали перепуганные горожане.
Площадь опустела. Она представляла теперь печальное зрелище: всюду валялись опрокинутые лотки, сломанные скамейки, битая посуда. Ландскнехты пробовали привести все в порядок.
Кристофина лежала на руках незнакомого рыцаря, и лицо ее было очень бледно. Но когда, очнувшись, она встретилась взглядом с голубыми глазами рыцаря, густая краска залила ее щеки.
— Слава богу, вы очнулись, дорогая моя! — раздался над нею голос жениха.
Она скользнула взглядом по его сухому, холодному лицу и отвела от него глаза с выражением величайшего презрения. Опустив ресницы, дрожащим, ласковым голосом сказала она златокудрому незнакомцу:
— Благодарю вас.
И, не взглянув больше на жениха, опираясь на руку незнакомого рыцаря, пошла к отцу, а Теодульф так и остался с протянутой рукой, весь красный от злобы и смущения.
Через минуту граф Штольберг подошел к, незнакомому рыцарю, поблагодарил его за помощь, оказанную дочери, и просил пожаловать в замок.
Штофель, назвавший себя швейцарским рыцарем Генрихом, согласился. Храбрость девушки покорила его. Он забыл, что она принадлежит к ненавистной ему семье угнетателей народа.
Старый граф нахмурил брови, заметив резкое обращение Кристофины с Теодульфом. Он боготворил дочь и исполнял до сих пор все ее прихоти. Ему нравилась ее беспокойная, мятежная душа, толкавшая ее на самые отчаянные поступки: то на опасную охоту, то на скачку на горячих лошадях, то на прогулки по самым крутым тропинкам Гарца. Она была отчасти причиной разорения отца. Доходов с поместий уже не хватало графу для его широкой жизни, особенно когда потребовалось содержать сына в войске императора Макса, а прихотливая натура Кристофины не знала удержу желаниям… Единственным выходом представлялась для старого графа свадьба дочери с графом Теодульфом Гогенлоэ, которому он много задолжал. И Штольберг был приятно поражен, что Кристофина согласилась на этот брак. Она не любила графа Теодульфа, но отлично понимала выгоду этого брака.
Граф Штольберг в первый раз заговорил строгим голосом с дочерью, когда та поднималась по лестнице, ведущей на женскую половину:
— Остановись на минутку, Финеле! Ты ведешь себя странно и забываешь, что такое обращение с женихом неприлично.
Она повернулась к отцу и, закинув голову, отвечала ледяным тоном:
— У графини Штольберг, лучшей наездницы и охотницы во всем Гарце, не может быть труса-жениха. Граф Теодульф чужой мне: он не сумел даже защитить мою родную мать.
Рядом со смелым рыцарем — трусливый, жалкий Теодульф… А что значило знамя "Башмака"?
Граф Штольберг пробормотал дрожащим голосом:
— Кристофина… ты… ты шутишь плохие шутки… Без графа Теодульфа мы — нищие, Кристофина!
В голосе графа слышалась угроза.
Она повернулась к нему, выдержала его стальной взгляд и отвечала с тем же ледяным спокойствием:
— Я не знала, отец, что граф Штольберг может заниматься торговлей и товаром ему будет служить родная дочь. И все-таки Теодульфу нужно уезжать восвояси.
С этими словами она решительно стала подниматься наверх.
III.КРИСТОФИНА
У старого графа уходила почва из-под ног. Он избегал объяснений с Теодульфом. И вдруг лицо его просветлело. Он нашел выход. Своенравная дочь была с утра рассержена наглостью горожанок, переодевавшихся по нескольку раз в день. И надо сознаться, изумруды у жены судьи были великолепны. Если подарить Кристофине кое-что получше этих камешков, достав денег хотя бы у Мюнцера или ростовщика, она, пожалуй, передумает и сменит гнев на милость. С этими мыслями он прошел к себе в спальню, приказав слуге привести Мюнцера.
"Старик Мюнцер — разумный, ловкий человек; уж, верно, он мне сладит это дельце да, пожалуй, и изумруды перекупит у жены судьи".
Наверху Кристофина оставила мать в слезах. Старая графиня пришла в ужас от разлада с Теодульфом. Но дочь была непреклонна. Когда она сказала матери, что всю жизнь будет благодарна рыцарю Генриху за его заступничество, мать уловила в ее голосе особенную, ласковую дрожь.
Кристофина сошла вниз без малейшего признака волнения. Волноваться при посторонних могли только "простые, дурно воспитанные люди"; графиня должна уметь владеть собой. Но, встретившись глазами со Штофелем, она все-таки слегка покраснела.
В свою очередь, Штофель пристально смотрел на Кристофину. Почему он помешал свершиться народному суду, почему он ее спас? Потому что он не мог видеть, как убивают беззащитных? Глядя на смелый взмах ее бровей и соколиный взгляд, на решительное, почти мужское выражение ее безукоризненного рта, он говорил себе, что это существо родилось по ошибке под сводами старого замка, в его затхлой атмосфере. Она должна была высоко держать знамя свободы. Ей нужно было родиться в бедной хижине рудокопа, где суровая жизнь с ранних лет дает тяжелый молот в руки… чтобы ковать ее, эту жизнь! Но было еще и другое: он остался в гостях у графа и для того, чтобы узнать, какие средства применит Штольберг для расследования бунта и какая опасность грозит его друзьям. Больше всего он боялся за судьбу вождя "Башмака" Иосса и за его знамя. Жаль было и Иеронима: он отлично умел вербовать новых членов в братский союз. Во всяком случае, при помощи спасенной им Кристофины Штофель лучше всего мог помочь друзьям. А Кристофине Штофель казался могучим и прекрасным героем.
Торжественно сияли свечи в высоких подсвечниках, озаряя тяжелую, несколько аляповатую роскошь штольбергского зала. Веселые блики скользили по стенам, обитым великолепными фландрскими обоями, скользили и по потолку, на котором блестели птицы в золотой оправе. Но особенно ярко сиял в свете восковых свечей старый, затейливый герб Штольбергов, украшавший огромный камин с остывшей золой.
Кристофина, проходя мимо большого венецианского зеркала, взглянула в него и увидела свое счастливое лицо. Такой счастливой делала ее мимолетная близость с рыцарем Генрихом, две-три фразы, которыми они перекинулись между собой во время церемонной паванны
[70].
И, откинувшись на спинку стула, отделанного слоновой костью и перламутром тончайшей мавританской работы, Кристофина закрыла глаза и блаженно улыбнулась, думая о прошлом швейцарского рыцаря, которое ей хотелось угадать.
А отец ее вел в это время пространную беседу с Теодульфом, скрывшись от гостей в своей спальне и проклиная в душе день и час, когда сумасбродной Кристофине пришло в голову пойти на ярмарочную площадь. Историю с отказом Теодульфу нужно было во что бы то ни стало поправить, хотя графу казалось и не совсем удобным покидать в этот момент гостей.
Граф Штольберг играл с Теодульфом комедию. До сих пор он не решался сказать ему всей правды относительно плачевного положения своих дел.
В комнату вошел Мюнцер и, поклонившись графу, спокойно остановился у дверей. Граф начал неестественно шутливым тоном:
— А что, мой милый, как наши дела с поставщиком? Имеешь ли ты от него известия из Аахена? Пожалуй, придется еще порастрясли этого скрягу: мне нужны деньги.
Мюнцер, глядя спокойно в глаза графу, отвечал:
— В Аахене никто не даст, всемилостивейший граф, — все требуют немедлейной уплаты по старым счетам.
— Но в таком случае, — вспылил граф, — для чего же служишь ты?
Мюнцер молчал.
— Но в таком случае, говорю я, — все больше и больше раздражался граф, — дашь мне ты!
— Я не могу, господин граф: у меня нет денег.
Граф ударил кулаком по столу:
— У тебя нет денег? Думаешь, поверю я? Ты отказываешь, когда должен был бы считать за счастье, что твой господин обратился к тебе! Ты слышишь, Теодульф?
Теодульф молчал. Он давно понимал положение своего будущего тестя и решил на нем ковать свое счастье. Мюнцер тоже хранил гробовое молчание.
Граф в бессильной злобе мерял большими шагами свою великолепную спальню. Вдруг, круто повернувшись на каблуках, он гневно сказал:
— Вот что, Мюнцер: если у тебя нет денег и в Аахене нельзя их достать, то, может быть, мы найдем другой способ их получить? Я говорю об увеличении налогов, а ты, как умный человек и старожил, наверное, посоветуешь мне, на что лучше всего их повысить…
Мюнцер побледнел, и в глазах его, устремленных на графа в упор, вспыхнул недобрый огонек.
— Ваше сиятельство изволит забывать, — прозвучал его холодный, насмешливый голос, — у штольбергцев обложено налогами все, что только можно было обложить, и налоги так повышены, как только можно было их повысить. Ваши подданные не могут платить новых налогов: они и без того до крайности обременены ими. Притом в Штольберге много свободных, да и для несвободных существует древний обычай, который запрещает владельцам взыскивать с подданных что-либо сверх обыкновенных оброков.
Речь Мюнцера могла бы показаться дерзкой, если бы она не была произнесена с таким хладнокровием.
Граф Штольберг опешил. Он с недоумением смотрел на Мюнцера, наконец опомнился и пробормотал:
— Ты… ты считаешь себя вольным и потому… первый отказываешься платить мне новый налог?
Мюнцер презрительно пожал плечами:
— Первый? Речь идет не обо мне. Я говорю обо всех подданных вашего сиятельства и предупреждаю вас, что новый налог может быть причиной очень печальных событий.
— Какие еще печальные события имеешь ты в виду?
— Народное восстание.
Граф вздрогнул, побагровел и стукнул кулаком по столу так, что с него попадали дорогие кубки из цветного хрусталя и разбились вдребезги.
— А… эта кучка вилланов, мужицкой дряни, как сегодня! Но мне стоит выслать дюжину ландскнехтов, чтобы они ползали предо мной, как черви! Скажи, известно ли тебе что-нибудь о сегодняшнем бунте?
Мюнцер отрицательно покачал головой.
— Ты говоришь так смело, что мне сдается, будто ты знаком с заговорщиками.
Мюнцер едва не вздрогнул, но сдержался и холодно отвечал:
— Речь моя ни смела, ни дерзка. Она только правдива. А я достаточно пожил, чтобы не бояться сказать правду.
Граф тяжело дышал. С минуту он и Мюнцер пристально смотрели друг на друга.
— Ступай, — вдруг выговорил тихо граф, — ты мне больше не нужен, а относительно новых налогов твои советы излишни. Я обойдусь и без этих советов.
Мюнцер поклонился и вышел. Граф Штольберг долго ходил молча по комнате, потом круто повернулся к Теодульфу:
— Что ты молчишь, Теодульф?
Теодульф, слегка прищурившись, пристально смотрел на графа, и в его маленьких зеленых глазках граф прочел насмешку.
— Ваша дочь, дорогой граф, сегодня нарушила данное мне слово. Я слишком люблю ее и вашу семью и потому охотно забуду ее отказ, с радостью помогу в вашем затруднительном положении. Но для этого мне необходима ваша откровенность: вы должны посвятить меня во все ваши дела до мельчайших подробностей, а молодая графиня сама должна сообщить мне о своем решении.
Граф провел рукой по лицу и беспомощно посмотрел на Теодульфа. Он сознавал, что находится всецело в руках жениха Кристофины. Нужно было переменить тактику, раскрыть карты. Конечно, Теодульф даст ему немало денег для предстоящих расходов и снаряжения сына в новый поход, но долги… громадные долги молодого графа, проигравшего в кости несметные суммы при королевском дворе…
Унылым голосом он начал рассказывать историю своего разорения и раскрывал перед будущим зятем все то, что так тщательно до сих пор от него скрывал.
IV. ПУТИ РАЗОШЛИСЬ
В это время в замковой кухне творилось что-то необычайное. На земляном полу у очага сидел пастух Коонц и говорил, что бог его покарает, если он не сообщит здесь друзьям про одно важное дело.
Вокруг пастуха собралась вся дворня.
Коонц, размахивая руками, бессвязно рассказывал о том, что слышал от знатного рейтера в лесу, когда возвращался со стадом в замок, как потом, по его приглашению, был в харчевне "Веселый кубок" и что там узнал. Мысли пастуха прыгали, складываясь в бестолковую речь о новой жизни для счастья бедняка и о справедливости, которую уничтожили всесильные господа. В рассказе не было стройности, но было изумление, вера в возможность лучшей жизни, в счастье всех, кто был обижен судьбой. Улыбаясь, Коонц повторял прерывистым от волнения голосом:
— Господь покарает меня, если я не расскажу, как надо добыть себе свободную жизнь и не голодать!
Он не заметил в дверях притаившуюся фигуру графского камердинера.
Повар налил Коонцу полную миску похлебки, выловив ему лучшие куски мяса и сала. Но не успел пастух доесть до конца, как камердинер потребовал его к графу, а скоро после этого прибежала в кухню горничная и сказала:
— Ох, я слышала, как из спальни графа раздаются крики и плач. Верно, граф бьет Коонца и громко спрашивает: "Говори, кто с тобой слушал бунтовщические речи в харчевне? Назови имена бунтовщиков".
— Ну, и Коонц назвал? — спрашивали со всех сторон горничную.
— Какое там! Он сказал: "Бунтовщиков не было… Только говорил заезжий торговец, да разные люди из города, да скоморох, шут… ей-богу! И шут пел песню про господ и рудокопов… только я не запомнил… ей-богу, не запомнил… А шут — бродячий… кто его знает, откуда он…" И как граф на него ни топал ногами, больше ничего не добился.
В кухне шепотом толковали, что граф выбьет из Коонца подробности разговоров в харчевне или его повесит.
Но граф Коонца не повесил, а приказал запереть до расследования дела. К гостям он не вышел, сказавшись больным, и послал в зал Теодульфа. В тот же вечер был схвачен старый Мюнцер и заключен в одну из замковых башен.
На другой день рано утром граф позвал к себе дочь. Здесь была уже графиня Эмилия, расстроенная, с красными от слез глазами. Граф, такой чопорный в обществе, был груб и жесток в семье, и слуги говорили, что безответная графиня Эмилия часто возвращалась после разговора с мужем в синяках.
Граф, не глядя на дочь, рассказал ей о своих денежных делах, объяснив, что семья находится на краю гибели и погибнет, если Финеле не спасет их и не выйдет замуж за Теодульфа. Теодульф — добряк; он готов забыть оскорбление невесты и помочь им, а если ещё будет казнен зачинщик бунта Мюнцер и штольбергцам увеличен налог, то совсем можно будет зажить припеваючи. В душе граф лелеял мысль, что со смертью Мюнцера погасится сама собой огромная часть его долга. Смерть Мюнцера была необходима для благосостояния семьи Штольберга. И можно было разделаться с ним, придравшись к тому, что он собирал под своей кровлей бунтовщиков. Последнюю часть объяснения Кристофина слушала рассеянно. Когда граф кончил, она гордо выпрямилась, и отец прочел на ее лице новое выражение, совершенно ему непонятное. На губах ее играла самая беззаботная, блаженная улыбка.
— На этот раз вы ошиблись, — сказала она, отчеканивая каждое слово, — вы ошиблись, когда предположили, что, продав дочь, купите благосостояние Штольбергов. Сажайте в темницы и казните себе ваших вилланов, сколько хотите и как хотите увеличивайте налоги, но оставьте мне мою свободу и скажите это графу Теодульфу!
И она с хохотом убежала.
Прошел день. К вечеру уже некоторые из близких соседей разъехались; другие рано ушли спать, утомившись охотой. Охота была удачная, и молодая графиня проявила храбрость, вонзив нож по рукоятку в щетинистую грудь кабана.
Она вся сияла от счастья, возвращаясь с охоты домой, и молодой швейцарский рыцарь не спускал с нее задумчивого взгляда, пока они обедали на полянке в роскошном шатре. К вечеру ясное небо все покрылось седыми тучами и задул страшный ветер. Охотники шумно возвращались в замок, и только одна молодая графиня вдруг вся точно поблекла, осунулась и хранила гробовое молчание, пугливо косясь на небо.
— Сегодня ты опять не заснешь, — сказала мать со вздохом, целуя ее перед сном. — Ночью будет гроза, Финеле… — Графиня Эмилия остановилась на пороге и робко прошептала. — А Теодульф завтра уедет в полдень.
На это вместо ответа послышался долгий зевок.
Когда графиня Эмилия ушла, Кристофина села, напряженно вглядываясь в темноту и прислушиваясь. За дверью на каменном полу стучали грубые башмаки служанок. Где-то хлопнула дверь, еще, еще… потом все стихло. И замок погрузился в гробовую тишину.
Кристофина решительно вскочила, вынула из-под подушки алый цветок, подаренный ей швейцарским рыцарем, тихо и нежно прижала его к губам и стала торопливо одеваться.
— Дерзкий! — шепнула она, ласково улыбаясь. — Разве он смеет назначать свидание мне, благородной дочери графа Штольберга! — На минуту она зажмурила глаза. — И все-таки я пойду! Будет страшно, а я пойду!
И она переступила порог.
Мрачная темнота коридора окутала ее, и ощупью брели ее ноги по знакомым переходам к большому пустынному залу.
Швейцарский рыцарь уже ждал ее. В мягком свете чуть тлеющих угольев камина перед Кристофиной сияли глаза, полные бесконечного восторга.
— Вы звали меня… — прошептала Кристофина после долгого смущенного молчания. — Я не хотела приходить — и все-таки пришла. Вчера и сегодня после охоты вы говорили мне такие удивительные вещи, и чудные речи ваши запали мне глубоко в душу. И мне показалось прекрасным это новое царство, о котором вы мне говорили, и… я даже мечтала о нем. И после того как вы пробудили во мне душу, вы хотите уехать отсюда, рыцарь Генрих, и оставить меня в тесных стенах этого замка, где все для меня так постыло…
И гордая графиня Кристофина, закрыв лицо руками, заплакала.
Штофель отвел ее руки от лица и нежно сказал:
— В вас таится прекрасная душа, великая душа! Если бы вы родились мужчиной и не здесь, а на воле лесов и полей, из вас вышел бы герой и вашим именем гордилась бы страна. Но теперь… — Он наклонился к ней ближе и горячо прошептал: — Если бы вы послушались меня и омыли кровь, пролитую вашими предками, с ваших маленьких невинных рук! Лучше уйдите со мной отсюда!
— С вами? — вся замирая, прошептала Кристофина.
— Со мной, милая, прекрасная, смелая девушка, со мной!
— В ваш замок, в дальнюю Швейцарию?
— О нет, гораздо ближе, в несчастную, хмурую Швабию, в Шварцвальд, в леса Гарца, где стонут люди от непосильного гнета… Пойдем вместе на труд, на лишения, на кочевую жизнь бездомника, у которого родина — весь страждущий мир! Поднимите знамя "Башмака"!
Кристофина отняла руки от лица, и вдруг краска сбежала с ее щек. Она вглядывалась в его лицо широко раскрытыми глазами и, задыхаясь, повторяла:
— Но ведь вы рыцарь, рыцарь из Швейцарии, Генрих?
— Я не рыцарь, Финеле, нет! Я простой виллан, как и те, которые так страстно добиваются свободы. Моя одежда обманула вас… Я служу знамени "Башмака" и охотно умру за него. Я люблю вас и сложил о вас песню:
Тебя я одену, как фею лесную,
Тебе улыбнутся светлей небеса,
Всех будешь богаче, моя дорогая,
А царство получишь — родные леса…
И тебе, своей жене, я вручу наше знамя.
Она молчала, упорно молчала. А Штофель продолжал:
— Финеле! Там, в угловой башне, сидит человек, которому мы многим обязаны. Он дал приют лучшему моему другу и за это брошен в темницу. И кто знает, быть может, его ждет смерть. Его судьба в ваших руках. Вы можете спасти его. Стража знает вас, и никто в целом замке не посмеет ослушаться дочери графа Штольберга. Умоляю вас, пойдите и именем отца прикажите выпустить его, а потом мы втроем бежим… О Финеле, не бойтесь, ведь вы смелая! И к утру мы будем далеко отсюда.
Кристофина тихо отвела руку Штофеля от своего плеча. Штофель не узнал ее холодного, чужого голоса:
— Теперь я все поняла. Как я ошиблась! Я принимала вас за равного себе, за рыцаря, а вы только… виллан. Виллан! Что может быть общего у дочери графа Штольберга с вилланом? Кроме того, вы бунтовщик, потому что поднимаете народ против нас, против тех, кто исстари самим богом поставлен править простым народом. Я слушала вас, но не понимала, что такое "Башмак". Я думала — это мирное, святое дело, а это призыв к кровавому бунту! Вы бунтовщик, и я могла бы жестоко наказать вас.
Кристофина остановилась и перевела дух. На минуту голос ее задрожал от злых слез, и в нем ясно зазвучали нотки обиды, но она овладела собой и продолжала спокойно, с оттенком легкого презрения:
— Но вы спасли мне жизнь, и я хочу вас отблагодарить. Поэтому я даю вам возможность скрыться. Никто не будет вас преследовать — за это я вам ручаюсь! — но чтобы завтра утром вас не было в замке!.. Что же касается этого Мюнцера, — неприятно прозвучал сухой голос Кристофины, — то он бунтовщик, и отец мой справедливо наказывает его. Если его казнят, то это будет отличный урок вилланам, чтобы впредь никто не давал приюта бунтовщикам. Итак, мы квиты: третьего дня вы спасли мне жизнь, я спасаю ее вам сегодня. Счастливого пути, "швейцарский рыцарь Генрих"!
V. БОРЬБА НАЧИНАЕТСЯ
Прошло более восьми лет. Кристофина стала женой могущественного графа Теодульфа Гогенлоэ. Уязвленное самолюбие ее не могло примириться с тем, что когда-то она ошиблась и полюбила простого виллана, приняв его за благородного рыцаря. Несчастный брак озлобил ее — она сделалась владетельницей более жестокой, чем был ее отец. Говорили, что она подписывается на официальных бумагах не иначе, как "графиня Кристофина фон Гогенлоэ, ненавистница вилланов".
Старого Мюнцера повесили, а через несколько лет после его казни умерла и его жена. Томас возненавидел родной Штольберг. Кровь старика отца громко взывала к мести. Он еще не выработал определенного плана действий, но беспокойная душа влекла его к подвигам во имя угнетенных. Он решил уехать и сделаться проповедником.
В те темные, смутные времена никто не имел такого влияния на массы, как духовенство. Обездоленный труженик шел к священнику изливать свою душу; от священника он ждал разрешения своих сомнений. С церковной кафедры удобнее всего было руководить толпой. Томас Мюнцер сделался священником женского монастыря в Фрозе, близ Ашерслебена. Здесь, столкнувшись близко с подлинной жизнью духовенства, он почувствовал себя не на месте и через два года поступил учителем в брауншвейгскую гимназию. Но и оттуда ему скоро пришлось уйти "из-за беспокойного нрава". Около двух лет он скитался по стране и жил трудом своих рук. Эта жизнь сблизила его с трудовым народом и многому научила. В Ашерслебене и в Лейпциге, стоя за печатным станком, он много перечитал и натолкнулся на брошюрки нового проповедника Мартина Лютера.
Сын народа, из семьи простого рудокопа, сделавшись священником и задавшись целью пересоздать современную церковь, Лютер громил с кафедры папу и монахов, торговавших индульгенциями, говорил, что благочестивее давать деньги нищим, чем платить за индульгенции. В течение трех лет он не переставал громить духовенство с папой во главе; он раскрывал народу глаза на суеверия и злоупотребления, которыми духовенство старалось опутать темные массы, чтобы скрыть от них свои пороки. К 1520 году слава виттенбергского священника Мартина Лютера уже гремела далеко за пределами Германии; вокруг него толпилось много ярых приверженцев.
Молодой Томас Мюнцер преклонялся перед этим человеком. Вращаясь в обществе книгоиздателей, он жадно ловил все, что говорилось о виттенбергском проповеднике, читал каждую строку, написанную им. Ему казалось, что Лютер перевернет мир. Он восхищался даже резкостью и грубостью выражений своего кумира.
— Этой грубой манерой Лютер становится ближе и понятнее простолюдину, — говорил Мюнцер.
Дело пошло иначе, когда Мюнцеру стало известно, что Лютер восстает только против папы и его тирании и в то же время возмущается попытками крепостных сбросить с себя рабские оковы. Тогда Мюнцер решительно стал в ряды противников вит-тенбергского монаха. Им было не по пути.
У печатного станка он снова стал мечтать о кафедре и представлял себе высокие стрельчатые своды, под которыми мощно звучит его голос, зовущий вилланов к свободе.
И Мюнцер решился снова надеть рясу. После долгих напрасных поисков ему было предложено место духовника в женском монастыре бернардинок в Бейтице, близ Вейсенфельда.
В Бейтице жизнь снова столкнула его с монахами, обирающими обнищавших прихожан. Он видел, как они забивали темный ум крестьян длинными россказнями о грехе, божьем суде и дьяволе и этими россказнями держали они народ в полном рабстве. Мюнцер тотчас же стал во враждебные отношения к товарищам церковнослужителям и в особенности к начальству — пышным прелатам римской церкви. Святые отцы нехорошо отзывались о нем: говорили, что он вольнодумец, еретик; говорили, что он не почитает старших по церковному чину, что он проповедует невозможные вещи и даже переделывает по-своему церковную службу. Поводом к подобным слухам было то, что он ввел в богослужение большую простоту, как и в обращении с прихожанами. Его не боялись, а любили. Сплетни и интриги наконец надоели молодому проповеднику, и он бросил Бейтиц.
В 1520 году Мюнцер принял приглашение общинного совета саксонского города Цвикау и сделался там священником в кафедральном соборе святой Марии. Лютер горячо приветствовал его. Он в это время вел войну не на живот, а на смерть с папой и бросил решительный вызов германскому духовенству. Он требовал уничтожения или преобразования монастырей, отмены налогов, взимаемых в пользу папы, прекращения его светской власти и изгнания из Германии его посольства.
В ясное, солнечное утро, после воскресной обедни, за оградой цвикауской церкви святой Екатерины собралась толпа ткачей. На убогих могилках, отмеченных только старыми, покосившимися крестами, пестрели их праздничные наряды. Слышалось пение молитв.
Томас Мюнцер задумчиво шел между могилами и, остановившись около одной старой плиты, вросшей в землю, ждал, пока ткачи кончат петь, и разбирал полустершуюся надпись. Когда последние звуки молитвы замерли в воздухе, отовсюду раздались сердечные оклики:
— Отец Томас… Доброе утро, отец Томас! Идите к нам: у нас найдется немало о чем поговорить с вами!
Из толпы вышел суконщик Никлас Шторх, широкоплечий, громадный, с энергичным лицом и пламенными глазами, и приветливо сказал Мюнцеру:
— Простите, отец Томас, но нам кажется, что вам тяжело живется в Цвикау и с каждым днем делается тяжелее. Мы слышали, что лицемерный патер Эгранус с монахом Тибурциусом уже обратились в городскую думу с жалобой на вас, за то, что вы будто бы смущаете народ… И ратманы
[71] довольно благосклонно слушают эти жалобы. Ну, а во время вашей сегодняшней проповеди шайка монахов нарочно подняла такой шум, что вы не могли докончить. Это не предвещает ничего хорошего, и ратманы доконают вас, уж поверьте мне…
Шторха перебил юноша с тонкими чертами лица и изящной осанкой, одетый, так же как и его товарищи, в белую рубаху из грубого холста, — Маркус Штюбнер. Виттенбергский студент Штюбнер бросил университет и присоединился к братству так называемых "цвикауских пророков", главой и основателем которого был Шторх.
— Могу еще прибавить, — сказал Штюбнер, — что несколько дней тому назад слышал я от слуги Эгрануса, будто ратманы, подбиваемые монахами, только и ждут малейшего повода для доноса на вас герцогу Иоанну
[72].
Мюнцер слегка нахмурился, но потом беспечно тряхнул головой.
— Будет то, что бывало, — усмехнулся он, — придется снова вскинуть котомку на спину и уйти из Цвикау.
— Вот этого-то мы и не хотим! — живо возразил Шторх.
— Мы придумали для вас выход! — пробасил небольшой, приземистый товарищ Шторха, третий вождь цвикауского братства, суконщик Маркус Томэ.
Окружив Мюнцера, все трое стали развивать перед ним свой план борьбы с местным духовенством.
— Если вас и не вышлют из Цвикау, — говорил Шторх, — то вы непременно лишитесь места в соборе святой Марии, и тогда вам все равно придется покинуть наш город, а нам жаль лишиться такого проповедника. Лучше самому уйти из Мариинского храма и переменить место работы до поры до времени. Пока двери церкви святой Екатерины еще открыты для вас. Правда, не много дохода будет иметь проповедник от бедняков ткачей — прихожан этой церкви, но с голоду не умрет, а ведь вы и не собираетесь, кажется, набить себе карман, как делают это Тибурциус и Эгранус.
Мюнцеру предлагали теперь место в церкви цвикауских ткачей, где давно уже нуждались в таком проповеднике.
С самых первых дней своей деятельности в соборе святой Марии Мюнцер нажил себе много врагов. Он открыто осуждал богатых монахов, думающих не о религии, а об удовлетворении своей ненасытной алчности и обирающих население.
Его горячие речи собирали в соборе святой Марии громадные толпы простого народа, и монахи стали бояться молодого проповедника, возбуждавшего народ против духовенства. В проповедях Мюнцер часто делал ссылки на евангелие. Тогда монахи, с Тибурциусом во главе, заговорили с кафедры:
— Нельзя в церкви проповедовать евангелие без установленных нашей католической церковью пояснений и дополнений. Например, если бы мы стали проповедовать евангельскую бедность, то князья и прочие господа не могли бы присвоить мирские сокровища: им пришлось бы сделаться нищими.
Эти речи нравились богатому населению города. И если до сих пор зажиточные горожане со слезами сочувствия на глазах слушали огненные речи Мюнцера, бичующие пороки, то теперь, едва хитрый монах объяснил им, что слова "глашатая нищей братии" грозят их туго набитому кошельку, они сразу ополчились против Мюнцера. Ополчился против Мюнцера и священник того же собора святой Марии — Иоанн Вильденауэр из Эгера, называемый в простонародии Эгранусом. Больше всего раздражали Эгрануса нападки Мюнцера на укоренившийся среди духовенства обычай брать плату за помин души богатых граждан — обычай, противный евангельским заветам.
Возвращаясь с проповедей Мюнцера, простой народ стал поговаривать:
— Папы продают разрешения не ходить в церковь и право совершать разные преступления. За деньги папа избавляет души грешников от ада. Богатым все можно: и сладко жить на земле и грешить, и все-таки они попадут в рай. А бедный, как ни старайся, уж не минет ада. Если духовенство в самом деле обладает такой властью, то ведь оно состоит из страшных злодеев, допускающих несчастных до таких страданий… Но как же выкупиться мужицким душам?
Ложь и злоупотребления духовенства отталкивали простой народ от католической церкви, он собирался в тайные общества, или секты; такой сектой было и братство "цвикауских пророков", или анабаптистов. Так как для детей вера недоступна, то анабаптисты говорили, что крещение должно совершаться только над взрослыми, и сами перекрещивались, отчего и получили название анабаптистов, или перекрещенцев. На своих собраниях они проповедовали о скором разрушении мира и приближении Страшного суда, который истребит нечестных и безбожных, очистит мир кровью и пощадит только добрых; затем, говорили они, начнется царство бога на земле и будет одно крещение, одна вера.
Лютер не разделял этого мнения и восторженное возбуждение "пророков" считал "сатанинским наваждением". И Мюнцер с большим сомнением относился к пророческому дару цвикаусцев. Но когда в тяжелую минуту Шторх и его товарищи протянули ему руку помощи, он не оттолкнул ее.
Молодой проповедник и не собирался всецело отдаться учению "добрых братьев", но ему хотелось сблизиться с ними. Это означало связаться с ткачами, бедняками Цвикау: к секте "пророков" принадлежала большая часть бедного городского населения.
Уже в это время Мюнцер, продолжавший преклоняться перед Лютером, начал во многом расходиться с ним. В своих убеждениях он шел гораздо дальше Лютера. Его задачи были шире. Он ненавидел папу и светского властелина потому, что они оба были тиранами миллионов рабов; Мюнцер ненавидел то положение, которое они занимали; он понимал, что церковный переворот должен повести к перевороту государственному. Он стремился стать во главе угнетенных масс, чтобы завоевать им свободу, поставил это себе задачей и потому обрадовался приглашению "цвикауских пророков", так как оно давало ему возможность теснее сблизиться с народом.
В ясное, солнечное утро Мюнцер дал на кладбище обещание проповедовать цвикауским рабочим в церкви святой Екатерины и обещал в тот же день прийти на их собрание. Он вышел с кладбища вместе с толпой и у ворот, на могильной плите, заметил унылую фигуру, с головы до ног укутанную в грубый домотканый плащ. Незнакомец поднялся при его приближении и, напряженно вглядываясь в его лицо, спросил:
— Не согласится ли отец Томас уделить мне немного времени? У меня есть к нему поручение.
Мюнцер с недоумением разглядывал незнакомое лицо со строгими, хотя и женственными чертами, и думал, сколько может быть лет этому юноше с такими измоченными глазами и решительной складкой у губ. Он предложил ему следовать за собой.
Едва они переступили порог убогой каморки Мюнцера, незнакомец сбросил плащ и утомленно опустился на стул.
— Прежде всего дайте мне кружку воды и кусок хлеба, — прошептал он, задыхаясь, — я умираю от голода и жажды.
Мюнцер принес кружку молока и миску с неприхотливой похлебкой, которую ему варил церковный сторож на обед. Незнакомец с жадностью набросился на еду, и на бледном лице его мало-помалу появилась краска.
— Теперь я могу рассказывать, отец Томас. Я — Эльза Иосс, жена Фрица…
Мюнцер вздрогнул.
— Иосс… Фриц Иосс… — повторял он. — Брат Фриц…
Смутное и невыносимо тяжелое воспоминание воскресло в его памяти, и в глазах появилось выражение мучительной боли. Серебряная свадьба графов Штольберг… ночлег Иосса в их доме… и потом виселица… и на ней — его отец… И он, вернувшийся в Штольберг только для того, чтобы увидеть могилу отца.
Так вот она, Эльза Иосс, решительная женщина, которая уже не раз благодаря своей ловкости избегнула казни и у которой, несмотря на угрозы, ничего не могли добиться в тюрьме относительно тайного общества "Башмак".
Так вот она, эта Эльза, которая после бегства Иосса в Швейцарию нашла в себе достаточно мужества поддерживать пламя восстания: она переходила из области в область, из деревни в деревню в мужском костюме, в роли бродячего музыканта, цирюльника или нищего.
Мюнцер вскочил и во все глаза смотрел на удивительную женщину, рассказы о которой долетали до него давно. Эльза не обратила внимания на его взгляд; она смотрела в одну точку и, казалось, была под властью неотвязной мысли. Брови ее сурово сдвинулись, и между ними на лбу легла глубокая складка.
— И вот я у вас, — сказала она отрывисто. — Час освобождения близится; я исполнила свою задачу. Несколько лет я посвятила на то, чтобы поддерживать старые знакомства и не дать рухнуть заветам "Башмака". И вспомнилось мне, что ваш отец когда-то приютил моего мужа и поплатился за это жизнью. Честь и слава вашему отцу, исполнившему свой долг перед родиной! Вспомнив об отце, я подумала и о сыне. О вас так много говорят в округе. Я убедилась, что вы стоите своего отца. Вам необходимо увидеться с моим Иоссом. Завтра или послезавтра он будет в Цвикау. Вы дадите ему приют у себя?
— Конечно! — живо ответил Мюнцер. — А вас я могу устроить хорошо в…
— Обо мне не беспокойтесь. Мне некогда засиживаться в Цвикау; я подкрепилась пищей и теперь пойду предупредить о вас Фрица, а потом зашагаю дальше разузнавать о старых знакомых. Фриц через день будет у вас. Я была уверена, что вы его приютите. Это мне сказало ваше лицо там, в ограде. У вас хорошее, честное лицо! Ну, а теперь я пойду. Мне пора!
Она быстро закуталась в плащ и резким, почти мужским движением протянула Мюнцеру руку:
— Прощайте. Спасибо.
Вдруг это суровое лицо осветилось восторженной, почти детски простодушной улыбкой; в глазах заблестел веселый задорный огонек, и она звонко проговорила:
— А ведь народ поднимается, народ не спит, господин магистр!
[73] Фриц расскажет вам это, а я должна идти. О, если бы у меня были крылья, я облетела бы весь мир и среди всех рабов зажгла бы пламя восстания! Особенно надеется Фриц на чехов… Они еще помнят речи своего мученика Гуса, сожженного на костре папскими приспешниками.
Она ушла, а Мюнцер долго еще сидел, пораженный.
Через два дня, в глухую полночь, к Мюнцеру постучался Иоссфриц. Он сильно переменился за это время: его стройный стан сгорбился, глаза ввалились, морщины избороздили лицо, волосы поседели, но именно поэтому лицо его приобрело что-то бесконечно притягивающее к себе, и в голосе звучали новые, могучие нотки.
— Мой плащ износился, — сказал он, указывая Мюнцеру на свой ветхий, порыжевший плащ французского покроя, — износился, ха-ха! У Иоссфрица уже нет и в помине прежнего щегольства, но душа не износилась, нет!
Тускло светила масляная лампа в убогой каморке Мюнцера; за печкой, в уголке, пел сверчок; за окном звенела вешняя капель. И Иосс, тяжело опершись головой на руку, рассказывал Мюнцеру удивительные вещи. Оба они не спали всю ночь, и на их бледных лицах сияли полные воодушевления глаза.
Иосс рассказывал Мюнцеру о восстаниях в Швабии и Шварцвальде, которые кончились неудачей только потому, что восставшие не были достаточно организованы.
Иосс ударил кулаком по столу.
— Тысяча чертей! — крикнул он. — Этот народ не сумел быть твердым! А как славно начал. Сначала вожаки схватили за узду лошадь вюртембергского герцога Ульриха с криком: "Стреляй в этого негодяя, не то он удерет!" Народ хохотал над властью дворян и открыто читал на площадях воззвание: "А что делают турнирщики, игроки и обжоры? За жир их платим мы, наши жены и малые ребята! Оттого и нет у нас ни хлеба, ни соли, ни сала. Где они? Надо добраться до них. Да будут прокляты они со своим распутством и грабежами! Где тираны и изверги, позволяющие им брать с нас налоги, пошлины и поборы, которые они позорно и преступно проматывают, уверяя, что все идет на пользу стране? А попробуй-ка не послушаться их! Они поступят с тобой, как с изменником: начнется вешанье, резанье, четвертованье; убьют, как бешеную собаку! В какой главе священного писания вычитали они, что бог дал им подобную власть? Какая тут воля божья?"
Иоссфриц свернул листок, по которому читал народное воззвание, и продолжал с горечью:
— А потом этот народ, брат Томас, этот народ испугался слуха, что герцог Ульрих хочет послать на него иностранные войска! Страх заставил восставших пуститься в бегство, и им не стыдно было, что городские советники Штутгарта писали с презрением герцогскому правительству: "Народ этот жалок, напуган, труслив и озабочен". И все пошло назад… Правительство, почувствовав под собой почву, обмануло народ коварными обещаниями, и только. И так везде: неорганизованность ведет к виселицам, расстрелу, пыткам.
Иосс поник головой. Он много видел на своем веку. Бежав после неудачи в Штольберге, он бродил короткое время по Швабии и снова вынужден был бежать в Швейцарию. В этой стране, где приютилось много беглецов, приготовился он к борьбе. И теперь настал момент, когда по всей Германии должен зазвучать голос набата, грозно и властно призывающий к восстанию. Вспышки то тут, то там… Тюрингия, Франкония готовы подняться… Нужно только уметь вовремя воспользоваться настроением масс. И если отдельные вспышки пожара сольются в одно огромное пламя, то Германия сбросит с себя кандалы…
Когда Иосс говорил о близкой победе, лицо его сияло от счастья, но вдруг глаза потухли и стали глубже, темнее. Он прибавил тихо и печально:
— Как жаль, что бедняга Штофель не дожил до этого дня! Он был бы счастлив еще раз умереть за любимое дело.
— Штофель? — переспросил Мюнцер, хмурясь и напрягая память.
— Ну да, тот самый Штофель, которого вы видели в кабачке приятеля Шульца в Штольберге и знали, быть может, под именем рыцаря Генриха. Бедняга наивно мечтал сделать членом нашего союза дочь графа Штольберга. Штофель был мечтателем и часто рисковал собой. Он и погиб на одной из "вылазок", как он выражался. Его нашли в лесу мертвым. Враги убили его, но мы отомстим за эту смерть…
Чуть светало. В окно был виден край неба, горевший рубином. На церковном дворе запел петух, и слышно было, как в курятнике закудахтали куры, захлопали крыльями и подняли возню гуси.
— Уже день, а я все болтаю, — сказал Иосс. Он распахнул окно, и в комнату ворвалась бодрящая утренняя свежесть. — Смотрите, какой чудесный день! Что-то он обещает? На листьях блестит роса… Надо идти.
Он встал, пожал руку Мюнцеру и взялся за ручку двери.
— Вы не отдохнули… не спали всю ночь, — сказал Мюнцер.
Иосс презрительно усмехнулся:
— Разве это первая ночь! А между тем я бодр. Мне не следовало бы напоминать вам, что вы должны делать и чего я от вас жду. Это понятно само собой. Земля напоена кровью. Ее прольется еще больше. Пускай! На этой крови взойдут всходы и пышно расцветет свобода. Я приходил к вам, Томас, чтобы вы здесь приготовили почву для всходов. Даете вы мне слово служить одному со мной делу?
Мюнцер молча протянул ему руку.
— Постойте, — проговорил он после минутного молчания, — брат Фриц, куда вы хотите меня послать?
— Послать?.. На это у меня еще есть Иероним и другие. Вы и здесь на месте. У вас громадная сила — ткачи Цвикау. И вы — их проповедник. Да, они поднимутся, как один человек! Они сдвинут горы. Это не темная масса крестьян, у которых есть имущество, а потому — и страх потерять его. Ткачу нечего терять, а потому нечего и бояться… Итак, до скорого свидания, друг!
Он ушел, а Мюнцер долго ходил взад и вперед по комнате, раздумывая над его словами.
Проходили дни за днями. Мюнцер громил с кафедры духовные и светские власти и находил поддержку у цвикауских ткачей. Они опубликовали его письмо к Эгранусу. Это было беспощадно злое письмо.
"Достопочтимому и высокоученому Эгерцу, — говорилось в нем, — богохульнику и грешнику, предназначается это письмо… Ты раб толстых пфеннигов, потому тебе хорошо живется…"
Мюнцер подливал масла в огонь: он резко протестовал против существовавшего в то время мнения, будто священное писание могут понимать и толковать только ученые богословы. Духовенство говорило это, для того чтобы навсегда завязать глаза темному люду и всецело захватить его в свои руки.
Мюнцер яростно нападал на проповедников собора святой Марии, а простого суконщика Никласа Шторха называл знатоком священного писания, умеющим хорошо разъяснять его простому народу.
Цвикауские братья с Мюнцером во главе окончательно добили Эгрануса. Он вынужден был бросить место и уехать из города.
Пламя разгоралось. Мюнцер уже чуял близость новой жизни и заранее торжествовал победу трудового народа. Против тирании он готовил огненную речь. Он не спал две ночи, согнувшись над рабочим столом, и писал без передышки, а потом читал, рвал в клочки рукопись и снова писал.
Прочтя в последний раз, он бессильно откинулся на высокую спинку стула и довольно улыбнулся. Теперь он мог отдохнуть перед серьезным боем.
Раздался торопливый громкий стук в дверь. Мюнцер пошел отворять и отступил в недоумении: перед ним стоял бледный, дрожащий человек в изорванной рубахе, какие носили ткачи.
— Брат Томас, — пробормотал он, — у нас плохо…
— У кого?
— Вы, верно, не знаете меня. Я суконщик Ортель и недавно вступил в братство. Сейчас у нас было собрание на площади Бурггассе. Все шло мирно, как вдруг дом был окружен вооруженными ратманами. Как мы ни защищались, они все же выломали двери и ворвались внутрь. Многих арестовали; остальные, в том числе и я, успели убежать. Что это было! Дрались, бросались в окна, прыгали с балконов… Я не знаю, кто именно арестован, но, должно быть, многие… Я прибежал предупредить вас, магистр Томас, остерегайтесь, вас могут обвинить в том, что вы руководили нами, а нас они обвиняют в бунте. Я сам слышал, как вас искали среди суконщиков. Прощайте, бегу, я слышу шаги…
Он оперся на подоконник и прыгнул в окно, а через минуту в комнату Мюнцера входил судья в сопровождении стражи.
Мюнцер спокойно встретил нежданных гостей. Свеженаписанные листы и спокойный вид проповедника доказывали им, что он не был на собрании и сейчас его оторвали от работы.
На дворе накрапывал дождь, а ноги Мюнцера были сухи, и на это должны были обратить внимание почтенные представители власти.
Судья сурово сказал Мюнцеру на прощанье:
— Не думайте, что вы легко отделаетесь от правосудия. Своими проповедями вы так возбудили ткачей, что они затеяли бунт и теперь арестованы. На первом же заседании городской думы будет обсуждаться ваше поведение и решится ваша судьба.
Они ушли. Мюнцер пожал плечами, проводил их взглядом и опустился на стул, погрузившись в размышления. Почти целый год работы пропал даром — надежда цвикауских ткачей уничтожена сегодняшним арестом собрания.
Цвикау принял мрачный вид. Опустели дома суконщиков, и шумная Бурггассе изменилась: не звенели, как всегда, веселый смех и песни учеников и подмастерьев; не слышно было стука челноков, снующих по основе затейливой ткани.
Город казался большим кладбищем с мрачными гробницами-домами. Только колокол церкви святой Екатерины часто уныло звонил по покойнике да за кладбищенской оградой вырастали с каждым днем все новые холмики, и много было пролито слез осиротевшими людьми…
А у цвикауского палача с каждым днем поправлялись дела. Говорили, что он даст дочке хорошее приданое, если в Цвикау вспыхнут еще два-три таких бунта.
…Мюнцер бродил между свежими холмиками, в глазах его дрожали слезы. Вон они спят в могилах — все те, которые слишком верили в свои силы. А другие томятся в высоких серых крепостных башнях, и, быть может, через день, через два или неделю их притащат сюда, как падаль, и зароют тайком, под пьяную, непристойную песню могильщика… А колокола для бедных будут завтра
звонить, как и сегодня; бом, бом, бом; и птицы станут тихо щебетать, и шелестеть серебристые ивы, как будто этим мертвецам не все равно, будут ли над ними звонить, петь, шептаться или плакать!
Необходимо бежать в Богемию, решил он, на родину великого страдальца за людей Яна Гуса, погибшего на костре за то, что он осмелился сказать правду лицемерным лжеучителям, обманывавшим открыто народ… В Богемию! Там еще живы заветы последователей Гуса, поклявшихся мстить за кровь любимого учителя и отстаивать права угнетенного народа. Правда, и ученики Гуса спят под могильными холмами, окончив жизнь, как и этот мученик, под ударами палача, но народ, который так дружно поднялся когда-то, не мог не оставить своим потомкам страстной любви к свободе. И он, Мюнцер, разбудит этот дремлющий, порабощенный народ… Разбудит!
Городской совет выгоняет его из Цвикау как зачинщика бунта. Пускай! Можно жить и работать и в Богемии.
Подняв высоко голову, гневный и уверенный, Мюнцер пошел прочь с кладбища.
Настала ночь, последняя ночь, проведенная Мюнцером в Цвикау.
Небо бледнело, звезды таяли. Скоро край неба ярко вспыхнет алой зарей, а с зарей Мюнцер вскинет котомку за плечи и покинет Цвикау.
Дикий, неудержимый гнев овладел им. Он трясся в каком-то безумном припадке и не мог сдержаться. А что, если напугать этих жирных, храпящих на пуховиках советников, ратманов, судей, торгашей, попов и бездельников? Вот будет потеха, когда они схватятся за свои толстые сумки, будут подбирать длинные полы своих кафтанов и ряс и вытаскивать из домов серебро и другую драгоценную утварь…
Он высунулся из окна и во всю силу своих легких закричал:
— Э, эй! Горим! Спасайся, кто может!
Нестройный гул разнесся по городу. Забил набат. Сонные люди выскакивали на улицу с криками о помощи. Всюду поднялась страшная суматоха и давка. Жители спрашивали друг друга:
— Где горит? Кто горит?
И долго еще не мог успокоиться вспугнутый город.
Темная фигура с котомкой за плечами широко шагала уже за городской заставой.
VI. В БОГЕМИЮ
Истомленный, голодный, без денег, добрался Мюнцер до богемского городка Заатца. Его тянуло в столицу Богемии — шумную Прагу. Там сосредоточилась промышленность страны, а следовательно, и немало рабочих, среди которых имеются последователи Гуса. О них-то и вспоминала Эльза. И ее слова подали Мюнцеру мысль искать среди чехов единомышленников.
Маленькие, жалкие "халупы" — домишки предместья Заатца — окутывал вечерний сумрак, когда Мюнцер подходил к городу. В некоторых окнах зажигались огни; на задворках звучал тихий смех и сдержанный шепот. За крайней избой послышался взрыв хохота, и толпа смеющихся молодых девушек, поднимая пыль, промчалась мимо путника. Это был канун 1 мая — ночь, когда молодежь до рассвета не спит и гадает.
И Мюнцер видел, как над полями в вечернем тумане слабыми силуэтами поднимались загадочные тени девушек, собирающих травы. И когда они склонялись над лугами, длинные "заплетки" — ленты — ползли, как змеи, с их кос. Мимо Мюнцера торопливой походкой прошли парни с видом заговорщиков. Он почти не знал чешского языка и обратился к ним по-немецки:
— А что, друзья, не знаете, где здесь можно переночевать?
Парни пожали плечами, переглянулись, засмеялись и пошли дальше — очевидно, они ничего не поняли.
Мюнцер в недоумении остановился около маленькой, невзрачной халупы; он по опыту знал, что между бедняками больше добрых людей, чем между богачами. У дверей хлева пастух накладывал высокий порог из густого цветущего дерна. Это был старый чешский обычай — охранять домашний скот от колдуна и маленьких светящихся полевых духов. Пастух сосредоточенно трудился и, наложив достаточно высокий порог, с довольным видом оглядывал свою работу.
— Теперь уж не пройдут! — весело проговорил он. — Трава густая, как шерсть у овцы.
Когда Мюнцер обратился к нему, прося ночлега, пастух уставился на него и, бормоча что-то непонятное, поманил за собой в халупу. Там было убого, но чисто; по случаю праздника весь пол был ровно усыпан песком. Пожилая женщина укачивала в люльке ребенка и напевала чешскую колыбельную песню:
Я качаю тебя, я баюкаю…
Спи, мой милый ангел!
Коли ж ты не будешь спать,
Коль не будешь глаз смыкать,
Будешь поколочен.
Баю-бай, баю-бай!
Спи, мой милый ангел!
Когда пастух сказал ей о приходе гостя, она крикнула, повернувшись к постели:
— Эй, Войтех, подойди, пожалуйста! Я не понимаю, что этому человеку надо. Я не знаю по-немецки.
С постели слез муж ее Войтех, бывавший в Германии и говоривший по-немецки.
— Он просит ночлега, — угрюмо сказал Войтех жене, и Мюнцер уловил в его голосе враждебные нотки. — Не люблю пускать неведомо кого.
— Что ж, — робко проговорила жена, — пусть остается. Мы никогда не прогоняли путников. Пусть остается; скоро будем ужинать.
Мюнцер положил котомку и опустился на лавку. Миром и тишиной повеяло на него от этого дома. Чисто вымытые лавки блестели, и на жене Войтеха белела накрахмаленная косынка. В халупе было тихо; только сверчок стрекотал за печкой да слышался скрип колыбели.
Вдруг тишину нарушили визг, лай и хрюканье, сливавшиеся в один бессмысленно дикий гул: гул несся с улицы. Пастух, вышедший перед тем, вернулся и проговорил:
— То высококняжеские свиньи… Панский пастух забыл их запереть в хлеву, и они выскочили, а теперь на них напали деревенские собаки. Беда!
— Ах, беда! — всплеснула руками жена Войтеха. — Придется нам всем платить штраф пану!
— Будь прокляты эти высококняжеские свиньи, а с ними и сам князь-пан! Дышать стало трудно от этих панов! — закричал Войтех по-чешски, ударив кулаком по столу.
Жена с ужасом схватила его за руку и показала глазами на незнакомого путника.
Во время дороги Мюнцер научился кое-как отдельным чешским словам и потому, в общем, понял негодующую речь Войтеха. Он обернулся к нему и сказал искренне:
— Так и Богемия — страна, где нисколько не легче живется, чем у нас, на моей родине? По-прежнему пан — владыка, а холоп — раб! Недаром, значит, я пришел к своим чешским братьям.
Войтех с недоумением посмотрел на гостя.
— А чем вы занимаетесь? — спросил он.
— Я проповедник, изгнанный за то, что учил бедняков быть гордыми и требовать от богачей то, что принадлежит по праву трудящимся.
Глаза Войтеха загорелись, и он ближе подвинулся к чудесному гостю, а жена его с недоумением смотрела на перемену, происшедшую в муже. В это время в хату вбежала перепуганная дочка Войтеха, молоденькая Зденка.
При беге бочкары
[74] чуть не свалились с ее ног. Грудь Зденки высоко вздымалась, глаза были полны слез, в судорожно сжатых руках торчал пучок цветущих трав.
— Чего ты? — спросила ее мать.
— Меня чуть не съели панские собаки, — задыхаясь, проговорила девушка. — Панские конюхи выпустили их на деревню, чтобы нагнать на нас страху… за свиней. Собаки топчут наши поля и поломали наши ветки, которыми мы украшали поля на праздник…
В голосе девушки, когда она говорила о ветках, слышалась грусть, и Войтех с ласковой укоризной сказал:
— Вот они, девушки, им больше жаль веток, чем посевов! Прибери волосы, Зденка, да готовь нам ужин. Что же ты не сказала "здравствуй" нашему гостю?
Зденка застенчиво поклонилась Мюнцеру и, отвернувшись, торопливо стала приглаживать распустившиеся густые черные косы.
Долго в эту тихую весеннюю ночь в халупе никто не спал. После ужина жена Войтеха прибирала халупу; Войтех же вел длинную беседу с гостем и слушал его как очарованный. Сам он унылым голосом жаловался на то, как немецкие паны, покорившие Богемию, притесняют бедных халупников, а чешские паны, чтобы угодить завоевателям, перестали говорить на родном языке; а их дочки, панночки, отплясывая на балах в Праге, говорят с гримасой: "Фу, да разве же можно знать этот холопский чешский язык!"
Говоря это, старый Войтех плакал и, показывая на колыбель, где лежал его маленький сын, с горечью говорил:
— Ох, отец Томас, хоть вы и немец, но понимаете наше житье! Подумайте: зачем родился этот бедняга на склоне моих лет? Чтобы, как его отец, терпеть притеснения от панов и не сметь даже молиться, как учил нас святой Ян Гус, этот мученик, сожженный папой на костре?
— Нет, — отвечал сурово Мюнцер, — он родился для того, чтобы отстоять ваши права.
Войтех вздохнул.
Всю ночь проговорили они, мешая немецкий язык с чешским, и только к утру Войтех растянулся на жесткой кровати.
Но Мюнцеру не спалось. Он обдумывал все, о чем говорил с чехом. Войтех вполне сочувствовал его идеям; мало того, Войтех обещал всячески помочь ему добраться до Праги и сказал, что завтра соберет ему в предместье денег на дорогу.
Наутро жена Войтеха громко причитала:
— Да и бессовестный же ты, Войтех! Куда тебя несет? Бросить дом, пашню, покос и идти с чужим человеком в проклятую Прагу, где королевские слуги режут за смелое слово и настоящую веру!
— Эк развезло бабу! — с досадой отвечал Войтех. — И правда, когда баба начнет, конца не будет: язык без костей! Никто не режет в Праге языки, успокойся.
Войтех с деревянной чашкой, как нищий, обошел все бедные халупы предместья. Вдохновенно, горячо говорил он о правде и о свободе, которую несет с собой Мюнцер, и просил братьев поддержать его деньгами. Войтех не только собрал деньги для гостя, но еще предложил быть его провожатым и переводчиком. Жена была права: он жертвовал полевыми работами во имя великой идеи народного освобождения. Он ушел из родного Заатца, оставив жене немного денег на наем работника.
Путники направились к юго-востоку. Бодро миновали они долины и горы, не переставая говорить в городах и деревушках о народных правах и о новом царстве правды. На горах, в тенистых местах, кое-где виднелся еще снег; по скатам и трещинам с ревом неслись в зеленеющие долины грозные потоки. Лил дождь, и трудно было пробираться по скатам гор.
По дороге им встречались торговцы, едущие на рынок или на ярмарку, богомольцы, поселяне и мастеровые, крестьяне с границ Баварии в длинных черных плащах и пестрых рубахах. Они недоверчиво оглядывали своего соотечественника, но, выслушав его речь, говорили, что его дело доброе, и давали на дорогу Мюнцеру маленькие темные хлебцы с тмином и жесткие сырные лепешки. Подходя к деревушкам, путники вечером видели иногда, как молодежь танцует на зеленой лужайке любимый чешский хороводный танец "коло".
И обрывались веселые звуки волынки, когда Мюнцер начинал говорить, а Войтех переводил его слова на чешский язык. Мюнцер замечал, несмотря на свою восторженность, насколько теряет его проповедь от перевода. Войтех словно отнимал от нее живую душу. Но, несмотря на это, слова Мюнцера все-таки действовали на бедняков, у которых еще живы были заветы Гуса.
Путники шли дальше. Из шумной деревушки они вступали в свободную прохладу леса, где только изредка попадался им охотник, преследовавший зверя, да дикие козули с большими пугливыми глазами. Мюнцер говорил везде, где только встречал людей. Дорогой он приготовил страстное воззвание к пражцам.
Подходя к воротам богемской столицы, он приготовился к преследованиям пражских властей. Через Войтеха завел Мюнцер в Праге знакомство с книготорговцами и наборщиками и скоро издал воззвание, написанное на латинском и немецком языках.
"Я хочу вместе с Яном Гусом, — говорилось в этом воззвании, — огласить своды храма новым гимном. Долго голодали и жаждали люди святой справедливости. "Дети просили хлеба, и никто не дал им его". Но возрадуйтесь: всходы ваших пашен побелели и готовы к жатве. Небо наняло меня в поденщики по грошу в день, и я точу мой серп, чтобы жать колосья. Голос мой возвестит высшую истину…"
Воззвание было длинно, и Мюнцер напитал его ядом негодования как против угнетателей "чешских братьев", так и против вообще угнетателей простого, обиженного люда всех стран.
К несчастью, он не рассчитал своих сил. Он не знал чешского языка и потому не мог быть хорошо понят простым народом, для которого слагал свои речи. Войтех же не в силах был облегчить ему встречи с рабочими, хотя он и желал этого от всего сердца. Мюнцер оставался здесь чужим. Когда его воззвание привлекло внимание духовенства, над ним был назначен полицейский надзор. Четыре стражника не отходили от проповедника. Прожив в Праге полгода, Мюнцер был приговорен городским советом к изгнанию. Весной 1522 года он покинул богемскую столицу.
VII. БЕГСТВО ИЗ МОНАСТЫРЯ
Май 1522 года уже застал Мюнцера в тюрингенском городке Альтштедте. Прошло лето, наступила осень. Шел сильный дождь. И Томас, альтштедтский проповедник, возвращаясь из церкви после обедни, тщательно выбирал места посуше, чтобы не промочить ног. Богомольцы густой толпой шли за ним, громко разговаривая и взволнованно передавая друг другу впечатления от проповеди.
Мюнцеру пересекла дорогу небольшая женская фигура, выбежавшая из соседнего переулка. Вся дрожа, остановилась она перед проповедником.
— Что случилось, дитя? — спросил ласково Мюнцер.
Девушка молчала. Черное прозрачное покрывало было жгутом свернуто на ее шее, а из-под грубой белой косынки выбивались светлые пряди вьющихся волос. Ее лицо было бледным, истомленным, с неопределенными чертами, голубые глаза смотрели испуганно, а губы дрожали от сдерживаемых слез.
Мюнцер спросил её снова:
— О чем ты и откуда?
Из бессвязных слов девушки он узнал, что кто-то гнался за ней, когда она шла из церкви. Она искала Мюнцера.
— Брат Томас, да ведь это же монахиня!
Девушка задрожала с ног до головы, как будто ее ударили хлыстом, а Мюнцер решительно обернулся к толпе:
— Послушайте, друзья мои, девочка испугана, и вряд ли мы добьемся от нее чего-нибудь при таком шуме. Расходитесь потихоньку — я попробую расспросить ее.
Толпа без возражений стала расходиться.
— Послушай, — обратился он к девушке, — незачем отворачиваться от меня и молчать. Ведь ты искала меня, значит, уверена, что я не сделаю тебе дурного. Скажи: что случилось, кто тебя напугал и чем я могу помочь?
Она с тоской посмотрела на Мюнцера:
— Это правда: я монахиня и убежала из ближнего монастыря Видерштеттена. В обители меня нарекли Мариею, но настоящее мое имя Оттилия фон Герзен. И я хочу, чтобы меня снова звали так, как прежде, в детстве…
Она перевела дух и продолжала:
— Я сирота. После смерти родных маленькой девочкой отвезли меня в монастырь, и с тех пор я уже не видела ничего, кроме монастырских стен. А как там было уныло, даже в тенистом саду, где не позволяли ни бегать, ни смеяться! Старые монахини подслушивали на всех дорожках, за всеми кустами… За смех, за резкий прыжок нас, девочек, нещадно били линейкой по рукам, ставили на колени или накладывали эпитимию
[75] — бесконечное количество земных поклонов. И, знаете, мы ненавидели эти поклоны. А теперь за мной гонятся.
Мюнцер только теперь спохватился. Дождь лил не переставая, и белое платье девушки имело очень жалкий вид; креповое покрывало висело как тряпка, с него ручьями стекала вода.
— Не бойся… Вернемся в церковь, — сказал он, — там ты докончишь свой рассказ; нельзя же здесь мокнуть.
Девушка послушно последовала за Мюнцером. Когда он вошел в церковь, где возился убиравший ризницы сторож, и хотел послать его за платьем для монахини, она удержала Мюнцера:
— После, а то у меня пройдет желание рассказывать, я замолчу и буду долго молчать: я ведь боюсь людей…
Мюнцер только теперь заметил, что на ее бледных щеках горят два красных, ярких пятна, а глаза лихорадочно блестят.
Она была в сильном нервном возбуждении, когда хочется говорить без конца, высказать все, что есть на душе; за этим возбуждением должны были последовать бурные рыдания и долгое молчание.
— Говори, — сказал он коротко, как будто исповедовал ее, и показал на скамейку, где сидели за несколько минут перед тем прихожане.
Опустившись на скамью, монахиня порывисто продолжала:
— Ах, отец Томас! Нас там били, нас заставляли следить друг за другом и доносить настоятельнице и монахиням. Потом, когда мы стали постарше, нас заставляли доносить на монахинь. Мы должны были наушничать настоятельнице на казначейшу, казначейше — на настоятельницу… Кто не делал этого, того истязали, морили голодом. Мы должны были прислушиваться к тому, что у нас делается в душе, что говорило наше собственное сердце, и каждый день каяться и терпеть наказания. Мы всего боялись и были злы и жестоки. Мы много там узнали… О жестокости и продажности монахинь… — Она задыхалась. — Потом я узнала и святых отцов… епископов, которых мы должны были почитать. Один из них замучил до смерти семью моей подруги за то, что отец ее не заплатил ему подати. А тому нечего было есть.
Она замолчала, и горячие слезы закапали на ее сложенные на коленях руки.
— Одна из молоденьких монахинь нашей обители, славная такая, отец Томас, — она скоро умерла, зачахла, — так вот эта самая монахиня раз пожалела меня. И я просила ее называть меня Оттилией. Она так ласково говорила: "Оттилия!" Я любила ее и горько плакала, когда она умерла. Эта монахиня сказала мне, что слышала знаменитого монаха и профессора Мартина Лютера. Он проповедовал о новой церкви, смеялся над суевериями, осуждал папу и монастыри. И одни монастыри закрывались, а из других бежали монахини и монахи… Свои проповеди Лютер говорил по-немецки и открыто заявил, что богослужение должно совершаться не на латинском, а на всем понятном, родном языке. После его проповедей любимая мной монахиня хотела убежать из монастыря, но скоро заболела и умерла.
Губы Оттилии дрогнули, легкая тень промелькнула по лицу. Она продолжала со вздохом:
— После ее смерти мне случилось раз быть в Альтштедте, и я тогда услышала вас в церкви. Ваша проповедь глубоко запала мне в душу. Что это был за день! В ваших словах я слышала столько нового и чудесного! Вы открыли мне гораздо больше правды, чем покойной сестре профессор Мартин Лютер. Мир показался мне таким прекрасным, а стены монастыря такими постылыми… И я решила бежать. И я бежала, всю ночь скиталась по дороге, пока не пришла в Альтштедт. Но теперь я не знаю, что мне делать. Я не подумала, что я одинока, а мир велик…
Мюнцер с состраданием взглянул на эту девочку в намокшем платье, с прилипшими к вискам волосами.
— Прежде всего надо надеть сухое платье, поесть и согреться… — сказал он и пошел к ризнице. — Клаус, — обратился он к старику сторожу, подметавшему пол, — нет ли у твоей сестры или племянницы лишнего платья для этой бедной девочки, которая сидит там, на скамейке? Да не возьмут ли они ее на время к себе? Ступай спроси дома, а я тебе за все заплачу.
Сторож тотчас же привел в церковь свою сестру, которая попросила в сторожку магистра Томаса и девушку. Здесь Оттилия переоделась. Когда она вышла из-за перегородки, ее трудно было узнать в простом, будничном платье Польди, племянницы Клауса. Старушка Эмма ни за что не соглашалась взять за платье с магистра Томаса деньги и радушно предложила Оттилии остаться пока у нее. Бывшая монахиня согласилась, и бойкая, веселая Польди взяла ее под свое покровительство.
Дни потекли обычной чередой. Мюнцер был всецело поглощен своей деятельностью и только изредка навещал Оттилию. Эти редкие посещения были настоящим праздником для девушки. Ей здесь жилось недурно. С семьей сторожа она сразу подружилась; неутомимо работала она за ткацким станком, помогала женщинам в хозяйстве и часто убирала за старого Клауса церковь. Впрочем, она несколько раз порывалась уйти, когда слышала жалобы Эммы на дороговизну хлеба, но старики и слушать об этом не хотели:
— Ты сидишь у нас на шее? Ты объедаешь нас? Да разве твои руки не заработали на твое пропитание?
Когда приходил Мюнцер, Оттилии казалось, что в тесной каморке церковного сторожа, превращенной женщинами в ткацкую мастерскую, становится светлее.
Вскоре старик стал спрашивать, куда это ходит по воскресеньям Оттилия. Иногда вместе с нею стала пропадать и бойкая Польди. Сначала Оттилия молчала, а Польди, смеясь, говорила, что они ходят на лужайку, где по праздникам веселится молодежь, но потом обе признались, что записались в тайное общество, основанное Мюнцером.
Общество, главой которого был Мюнцер, росло с каждым днем. Члены его собирались в маленьких квартирах рабочего люда, свободно говорили о своих нуждах и жадно слушали пламенные речи наставника. Мюнцер, в сущности, всегда говорил об одном и том же: о необходимости завоевать для народа свободу и основать новое царство, царство братского равенства, уничтожить все, что угнетает народ, влечет его к бедствиям и нищете.
Мюнцер горячо работал в Альтштедте. Чтобы расширить деятельность своего общества, он посылал во все концы Германии доверенных лиц, вербовавших новых членов. Они являлись в города и деревни под видом нищих, разносчиков и поденщиков и всюду сеяли семена мюнцеровского учения. Чтобы печатать свои сочинения, брошюры и воззвания, Мюнцер держал в Эйленбурге типографа. Летучие листки разбирались простым народом нарасхват.
Но вот в Альтштедте случилось одно событие, имевшее громадное влияние на дальнейшую жизнь Мюнцера. В деревне Мел-лербахе, недалеко от Альтштедта, находилась в часовне икона божьей матери, которая, по словам монахов, была чудотворной.
Монахи, как всегда, старались извлечь из иконы возможно больше дохода и выманивали у невежественных людей их последние сбережения. Скоро Мюнцеру пришлось выступить на борьбу с этим обманом.
Раз, зайдя в сторожку, он нашел семью Клауса в большом волнении.
— Дядя Клаус поссорился со своей старушкой, — шепнула ему Оттилия.
Эмма плакала, а Клаус ворчал:
— Виданное ли это дело, господин магистр? Скажите-ка вы, пожалуйста, сами этой глупой бабе, хорошо ли делает она, когда тащит монахам последний грош, который они выманивают у нее в Меллербахе! У них животы давно уже раздулись от наших грошей, а у меня нет денег, чтобы купить себе на зиму теплое платье.
Клаус сердито отвернулся, а Эмма начала оправдываться:
— Я не могла же не дать, когда все дают, господин магистр. Подумайте: соседка Гертруда снесла в дар богоматери пелену, вышитую серебром, а я… принесла ей совсем простую, да и за ту мне досталось! А потом, Клаус тут говорит о деньгах… Так вот: я дала их потому, что монах пристыдил меня. Он сказал, что скупость наказывается адскими муками, и показал мне их на картине Страшного суда… Я дала ему деньги — это правда, но зато он подарил мне лоскуточек от пелены, на которую упали слезы, — ведь слезы сочатся из глаз чудотворной иконы, господин магистр. Он обещал мне, что наш дом минует всякая беда, если я сделаю пожертвование.
Клаус безнадежно махнул рукой, а она продолжала, воодушевляясь все более и более:
— О господин магистр! Вы бы посмотрели, как украсилась теперь часовня! До чего блестит икона в золотой ризе, осыпанной бриллиантами! А кругом — статуи… Молодые жены и дочери рыцарей сами приходят одевать статуи святых и богоматери в драгоценные одежды, и каждый день одежды на них переменяются…
Клаус ушел, громко хлопнув дверью, а девушки, ткавшие за станком, переглянулись и тихо засмеялись.
Мюнцер, улыбаясь, сказал:
— Я был в меллербахской часовне, тетушка Эмма, и скажу вам о ней много нового, если вы придете в следующее воскресенье в церковь послушать мою проповедь, а теперь мне некогда.
Он поклонился и ушел, а фрау Эмма одобрительно закивала головой.
В следующее воскресенье она явилась в церковь одной из первых.
Мюнцер резко осуждал паломничество в меллербахскую часовню и доказывал, что неправильно делает тот, кто одевает статуи в роскошные платья, навешивает на иконы золото, серебро и драгоценности, которые могут удовлетворить насущные нужды бедняков, и говорил, что поклоняться дереву — преступление.
Эмма ушла с проповеди со смутой в душе: ее вера была поколеблена.
Много раз громил Мюнцер идолопоклонство и вымогательство монахов. Эти речи все более и более возбуждали толпу. После одной проповеди послышались угрозы и клятвы разнести меллербахскую часовню. Разъяренные, негодующие голоса выкрикивали:
— Не надо нам обмана!
— Разгромим часовню до основания!
— Довольно нам вымогательств монахов!
— В Меллербах! В Меллербах!
Мюнцер позвал к себе сторожа.
— Клаус, — сказал он, — сходи, пожалуйста, поскорее в часовню и предупреди келейника, не то его убьют. А смерть его навлечет на всех бедных альтштедтцев грозу со стороны властей, светских и духовных.
Клаус быстро направился к Меллербаху и успел предупредить келейника.
А альтштедтцы толпами пошли громить часовню…
Выходя из церкви, Мюнцер встретил у ворот Оттилию. Ее лицо было очень бледно и расстроенно, глаза блуждали.
— Оттилия, — спросил Мюнцер, — что с тобой?
— Ничего, господин магистр, — отвечала застенчиво девушка. — Я ждала вас.
— Меня?
Вместо ответа она протянула дрожащую руку в том направлении, куда заворачивала улица.
— Вы слышите, какой шум? Они идут в Меллербах! — прошептала с ужасом Оттилия.
— Тебя это пугает?
Она покачала головой и печально посмотрела на Мюнцера:
— О нет, господин магистр, не пугает, но ужасает…
— Да где же разница между ужасом и страхом?
— Мне страшно за вас.
Оттилия потупилась и, не говоря больше ни слова, скрылась в каморке церковного сторожа. Мюнцер задумчиво посмотрел ей вслед и ждал, не покажется ли у калитки ее милый профиль. Но калитка была пуста. Отчего в эту минуту ему так страстно захотелось увидеть полудетскую фигурку с печальным личиком, окруженным светлыми кудрями? Отчего так мучительно хотелось ему услышать ее тихий, грудной голос?
Она выдала волнением и безумным страхом свою привязанность к нему…
Оттилии было чего бояться: суконщики-иконоборцы разбили образа в Меллербахе и часовню обратили в груду обгорелых развалин.
Рентмейстер
[76] Ганс Цейс, ходивший чуть не ежедневно к Мюнцеру и называвший себя его другом и почитателем, струсил. В сущности, он с одинаковым вниманием прислушивался к пылким речам Томаса Мюнцера и к злобным выпадам против трудового народа Мартина Лютера. И Лютер на этот раз победил. Цейс донес обо всем случившемся в меллербахской часовне герцогу Иоанну.
Угрозы герцога Иоанна избить иконоборцев привели альтштедтцев в смятение. Старшина и несколько граждан были вытребованы в Веймар к герцогскому двору, но они побоялись и не поехали. Мюнцер ответил за них длинным посланием герцогу, в котором просил последнего не трогать народ, писал, что граждане готовы пострадать за то, что было сделано в Меллербахе, но говорят, что не хотят поклоняться "меллербахскому дьяволу" и отвечать за тех, кто разрушил его.
Казалось, гроза пронеслась мимо; иконоборцы были наказаны только денежными штрафами, да и этот сбор взыскивался кое-как; многие из сборщиков сочувствовали оштрафованным. Даже трусливый Ганс Цейс твердил герцогским чиновникам, что штраф нужно взимать осторожно, иначе народ может опять взбунтоваться. Враги Мюнцера — духовенство и альтштедтские богачи — поклялись избить "зачинщика бунтов". Вот их мести боялась Оттилия, и недаром: число врагов Мюнцера увеличивалось с каждым днем.
Видеть Оттилию сделалось для Мюнцера потребностью, и он почти ежедневно, хоть на минуту, заходил к церковному сторожу. Раз — это было вскоре после доноса Цейса — он застал Оттилию одну. Она чистила клетку с чижами.
— Наших нет дома, господин магистр, — сказала Оттилия, — они отправились к знакомым, но я осталась дома. Я не люблю ходить в гости.
— А отчего у тебя такие красные глаза? И отчего ты так бледна? Ты, вероятно, слишком много работаешь? Неужели добряки Клаус и Эмма заставляют тебя работать через силу?
Она горячо возразила и даже замахала руками:
— Что вы, что вы, господин магистр! Но съестные припасы так дороги, за работу платят так мало… Ведь и тетушка Эмма и Польди работают, как и я, по ночам.
— По ночам! Все вы работаете по ночам… Бедная маленькая Оттилия, — он взял ее за руку, — неужели твоя жизнь ничем не скрасится?
— И у меня есть свои радости… Я так счастлива, когда слышу ваши проповеди… когда вижу вас здоровым, в безопасности… — Оттилия решительно заговорила. — Я слежу за вами тайком… Я смотрю, как вы выходите утром из дому и какой у вас вид. У меня ноет душа, когда я вижу вас печальным. А ночи я не сплю, прислушиваясь: мне все кажется, что злые советники герцога идут арестовывать вас, и… и тогда сердце мое сжимается, точно клещами. Я… я была бы счастлива умереть за вас.
Он держал ее за руку, растроганный и счастливый.
— Это говоришь ты мне, милая Оттилия? — сказал он.
Она тихонько высвободила свою руку и печально сказала:
— Но это пустяки… Вы уйдете отсюда скоро. Ваш путь широк. А я останусь за станком.
— Разве ты не пошла бы за мной?
Она горько усмехнулась и покачала головой:
— Я видела раз, господин магистр, еще в монастыре, как орел опустился на жалкий придорожный камень. Это было всего на минуту… Орел улетел, а камень остался лежать в пыли… Я такая маленькая, ничтожная перед вами. Будет смешно, если я поверю, что могу идти за вами в широкий мир.
— Вот именно потому, что ты такая маленькая и несчастная, я и люблю тебя! В тебе я люблю страдания человечества; в тебе я люблю свою идею, которая обрекла меня на борьбу! Я хочу, чтобы твои глаза смотрели веселее.
VIII. УДАР МОЛОТА
Оттилия была уже женой Мюнцера, когда над Альтштедтом разразилась гроза. Этой грозой был гнев герцога Иоанна.
Долго собирали штрафы с иконоборцев. Наконец герцоги Фридрих и Иоанн Саксонские прибыли лично в Альтштедт.
Из замка прискакал гонец с приказом, чтобы Мюнцер произнес проповедь в присутствии герцогов.
— И ты будешь говорить в замке? — спросила с тревогой Оттилия, когда гонец ушел.
Мюнцер спокойно кивнул головой и уселся за стол, чтобы набросать содержание проповеди. Поздно ночью прочел он ее жене. Каждое слово этой блестящей, огненной речи было резко, как удар молота. Его обвиняли в подстрекательстве к мятежу, а он, вместо того чтобы оправдываться, сам нападал: обвинял своих судей и грозил им близким народным восстанием.
Он кончил. Оттилия молчала.
— Приготовься, дорогая. Завтра я иду к угнетателям народа открыто возвестить им правду и, может быть, не вернусь оттуда.
— Я не боюсь, я горжусь тобой!
Больше они ничего не сказали друг другу, но после этих слов Мюнцер почувствовал себя необыкновенно сильным. Он смотрел на жену и с восторгом думал, как она мужественна и терпелива.
На следующий день Мюнцер направился к герцогскому замку в своем обычном старом, заштопанном платье. Когда он вошел под высокие своды замкового зала и очутился лицом к лицу с герцогами Саксонскими, окруженными пышной свитой и гостями, он ничуть не растерялся и, непринужденно поклонившись собранию, спокойно стал перед герцогскими креслами.
Герцог Иоанн сделал нетерпеливый жест рукой и, презрительно сощурившись, приготовился слушать. Мюнцер начал свою обличительную речь.
— Земля полна тщеславными лицемерами, — гремел его голос, — и нет ни одного смелого человека, который решился бы высказать истину. Господа — главные лихоимцы, воры и грабители; они присваивают себе все создания, всякую тварь — рыбу в воде, птицу в воздухе, растения на земле; все должно принадлежать им. Бедным они говорят о божьих заповедях. "Бог повелел, — говорят они, — не воровать!" Но они считают, что к ним самим эта заповедь не относится; поэтому они дерут шкуру с бедного — поселянина, работника и всех, кто живет под их властью.
Герцог Иоанн переглянулся с герцогом Фридрихом; последний нахмурился.
Среди свиты пробежал ропот негодования:
— Он, кажется, с ума сошел! Говорить такие вещи прямо в глаза государям!
Но Мюнцер продолжал, не обращая никакого внимания на этот ропот:
— Если кто воспротивится, того отправляют на виселицу… Господа сами виноваты в том, что крестьяне становятся их врагами: они и не думают устранить причину мятежей… Какого же добра ждать? Да, я прямо говорю вам: теперь я становлюсь в ряды бунтовщиков! А сейчас прощайте!
Он неловко поклонился, круто повернулся и ушел, прежде чем кто-нибудь успел опомниться.
— Какая дерзость! — пронеслось в толпе. — Он за это поплатится!
А герцоги сидели растерянные, не зная, на что решиться.
У ворот замка из-за густого клена навстречу Мюнцеру метнулась знакомая женская фигура в грубом платье ткачихи.
— А, Оттилия! — сказал ласково Мюнцер. — Ну и отпел я им отходную! Ты боялась за меня, скажи правду?
Она покачала головой:
— Я тобой гордилась!
Они вернулись домой счастливые, точно победители. В колыбели тихо спал их крошечный сын.
— А за него ты не боишься? — спросил Мюнцер, наклоняясь к колыбели.
— Он пойдет, Томас, по дороге отца.
Потирая руки и улыбаясь, Мюнцер подошел к столу. У него было много дел: необходимо приготовить к печати только что произнесенную речь. Проработав всю ночь, он утром отвез рукопись в Эйленбург, к своему типографу.
Речь появилась в печати и, конечно, вызвала гнев герцога.
Типограф был изгнан из пределов Саксонии, а все сочинения Мюнцера стали отныне подвергаться строгой саксонской цензуре. Мюнцер принужден был печатать их в императорском городе Мюльгаузене, где саксонское правительство было бессильно. Здесь он издал одно из пламенных своих сочинений, в заглавии которого называл себя Томасом Мюнцером "с молотом". Его речь в самом деле была грозным ударом молота.
"Знай, — писал он, — что я говорю твоими устами, что я поставил тебя нынче над людьми и над царствами, чтобы ты колол, разбивал, рассеивал и опустошал, сооружал и сеял. Воздвигнута железная стена против царей, князей, жрецов — на защиту народа. Пусть воюют они: победа чудесным образом погубит сильного безбожного тирана…
…Миру придется выдержать великий удар, — заканчивал он свое воззвание, — начнется игра, которая ниспровергнет безбожных с престола и возвысит униженных".
Этот "удар молота" был чересчур чувствительным для многих. Лютер первый не пожелал вынести его.
Он давно уже был недоволен Мюнцером; теперь Лютер боялся, что грозная волна, поднятая проповедником, погубит мирное дело церковного преобразования. Он тотчас же послал "Письмо саксонским князьям о духе возмущения", советуя им энергичнее противиться мятежу и изгнать из Саксонии "бунтовщика" и ложного "пророка".
Каждый день прибавлял Мюнцеру новых и новых врагов. Одним из них явился герцог Георг Саксонский. За герцогом поднялись все дворяне, богатые горожане и торгаши: Мюнцер выступал против них. У герцога Георга, у Фридриха фон Вицлебена, у графа Мансфельда — у всех он собирал подданных: каменотесов, рудокопов и крестьян, уговаривая их твердо стоять за право союзов.
Наступило тревожное время. 1 августа 1524 года Мюнцера вновь вызвали в Веймарский замок. В этот раз Оттилия созналась, что боится за мужа.
Мюнцер уехал.
Спокойно переступил он порог замка и бесстрашно остановился перед курфюрстом и герцогом Иоанном. Государи с любопытством смотрели на его мужественное лицо, бледное от многих бессонных ночей. Казалось, страх был незнаком этому человеку.
Приглашенный для диспута с Мюнцером доктор Штраус начал запутанный богословский спор. Мюнцер резко отвечал:
— Я пришел говорить не об этом и не на это отвечать. Я молчу о церковных служителях. Если Лютер и его товарищи не хотят идти. дальше нападок на священников и монахов, то им не к чему было браться за дело.
Он отбивал удары Штрауса, но сладить с последним было трудно. Штраус долго готовился к спору, а для Мюнцера он был неожиданным. Вдруг герцог Иоанн, заметив, что нападки Штрауса все-таки истощаются, крикнул:
— Ты враг государства и порядка, Томас Мюнцер! Такого бунтовщика не должно больше терпеть в стране!
Мюнцер повернулся и вышел из замка.
Через две недели курфюрст издал приказ об изгнании Мюнцера.
В этот тяжелый момент Мюнцер понял, насколько он беспомощен и одинок. Ему не на кого было опереться: друзья — бедные суконщики и каменотесы — были бессильны, а магистрат, который мог заступиться за проповедника, объявил, что более уважает свои обязанности, чем правду.
За несколько дней до объявления приговора, поздно вечером, друзья принесли Мюнцеру панцирь, шлем, щит и алебарду. Вооруженный, он подошел к жене:
— В таких же доспехах, Оттилия, мои братья хотят оберегать меня все время, пока не выяснится мое положение. Они говорят, что в Альтштедте все возможно, даже нападение ночью врасплох на мирных граждан!
Она молча смотрела на него.
— Что ты будешь делать одна с ребенком теперь, когда я должен променять слово пастыря на оружие?
Оттилия казалась очень измученной; на худом, бледном лице глаза горели лихорадочным огнем. Много ночей она не спала, думала о судьбе мужа и сына. Она сделала усилие и встала:
— Не мучь себя, Томми, попусту: я буду помогать тебе нести это оружие.


Часть вторая
I. ГРОЗА СОБИРАЕТСЯ
— Еще немного, Оттилия, и мы придем, — сказал Мюнцер, поддерживая под руку жену.
Она остановилась и с мольбой посмотрела на него.
— Отдохнем, если хочешь…
И Мюнцер первым опустился на придорожный камень. Оттилия стала кормить проснувшегося ребенка.
Она очень устала. Погруженный в свои мысли, Мюнцер шагал так быстро, что она должна была почти бежать за ним.
— Видишь колокольню? — спросил Мюнцер.
— Это облако, Томми.
— А я говорю, что это колокольня Мюльгаузена и мы мигом доберемся до города. В Мюльгаузене я сразу попаду на верную дорогу: там уже готов горючий материал, — я буду искрой, которая зажжет пламя народного восстания во имя самого справедливого закона — права человека на жизнь.
Он весь сиял, указывая рукой вперед, где умирало вечернее солнце, а рядом с ним сидела бледная, измученная женщина с тощим ребенком. Кругом раскинулись необъятные поля со сжатым хлебом. Вдали жалобно скрипели возы. Девушки с венками из последних колосьев шли за телегами, наполненными хлебом, и пели старинную благодарственную песню фее Гольде, будто бы пославшей им урожай. Их молодые голоса нежно и трогательно звучали в вечерней тишине. А парни старались выхватить из венков девушек то колосок, то синий василек.
Взглянув на понурую фигуру жены, Мюнцер ласково сказал:
— У тебя больной вид. Сейчас мы придем…
И снова они двинулись вперед.
Мюнцер оказался прав: скоро показались постройки предместья. Путники остановились около крайнего жалкого домика с черепичной крышей, окруженного покосившимся частоколом. Среди огорода на шесте победоносно торчал пучок розог, протягивая во все стороны голые суковатые прутья. Пожилая женщина сидела у частокола и, держа за вихор мальчика, визгливо кричала:
— Видишь ты эти розги? У твоего отца на огороде их нет, а? И ты скажешь, что не знаешь, как у нас спокон века принято охранять посевы этим знаком? А ты, нечисть тебя возьми, скачешь, как заяц по капусте…
Заглядевшись на прохожих, она выпустила вихор мальчика, и он задал тягу. Вслед ему полетели слова увесистой ругани. Хозяйка сердито взглянула на пришельцев.
— У заставы постоялый двор, не здесь, — сказала она.
— Позвольте у вас немного отдохнуть и выпить воды, — проговорил Мюнцер.
— Пожалуй. Глотка воды не жалко.
Бедная лачужка с глиняным полом показалась Оттилии роскошнее дворца. Она жадно приникла к кружке с водой.
— Будьте добры, — обратился Мюнцер к хозяйке, — позвольте нам переночевать у вас.
По одежде хозяйка приняла его за ландскнехта и подумала: "У них всегда водятся деньги — пускай ночуют".
Она молча приготовила для Оттилии постель в углу на лавке и принялась накрывать на стол. Через несколько минут вернулся домой ее муж — здоровый крестьянин с тупым загорелым лицом.
— Это ландскнехт, Ганс, с женой и ребенком, — сказала хозяйка мужу. — Не бойся, он нам заплатит по чести.
Ложка выпала из рук Оттилии; она испуганно посмотрела на Мюнцера.
— Ошибаетесь, тетушка, — спокойно произнес Мюнцер, — я не ландскнехт, а проповедник, и, кроме спасибо, мне нечем заплатить вам.
Женщина всплеснула руками:
— Ах я бедная! Думала, это честный ландскнехт! Да разве бы я иначе пустила! У меня своих шестеро голодных ртов!.. Эмми, Фриц, Лина, Густав, Альма, Роза! — закричала вдруг пронзительно женщина, подбоченясь. — Идите все сюда! Пусть-ка поглядят эти славные, достопочтенные гости, кого они пришли объедать! Надо же потешить гостей и показать им выставку голодных ртов! Идите, идите!
Со всех углов избушки — с широкой кровати, с печки, с лавок — отовсюду, точно мышата из щелей, вылезали ребятишки, заспанные и недовольные.
Они терли себе мордочки кулачками и всхлипывали, думая, что рассвирепевшая мать разбудила их для того, чтобы угостить доброй порцией розог.
— Молчать! — закричала на детей крестьянка. — Станьте все в ряд, пусть-ка эти почтенные люди полюбуются на голую нищету…" Да что ты застыл, Ганс? Он говорит — "проповедник", а где ряса? Не к чему нам кормить попов, когда они и так кругом обирают бедный народ!
Ганс наконец вникнул в дело и тупо повторил слова жены:
— Да, шестеро голодных ртов, жена седьмая, прах ее возьми! А тут еще город отобрал у меня здоровый кусок поля и выдал мне проклятую бумагу, а я не знаю даже, где тут конец, где начало. Только мое дело правое.
Он держал вверх ногами бумагу из суда на конфискацию его земли и ворчал:
— Знаем мы этих проповедников: чешут они языки и льнут к горожанам, а у нас подвело животы от голодухи и без проповеди.
— Покажите-ка бумагу, — сказал Мюнцер.
— А, да, я забыл, что он грамотный, — оживился Ганс. — Жена, пускай он поест да толком объяснит, что тут написано. А проповедей нам не надо, ваша милость, не надо!
Жена сердито подвинула Мюнцеру миску с мучной похлебкой и отошла к очагу. Она была зла, обманувшись в своих ожиданиях насчет дохода с ландскнехта.
Мюнцер читал и удивлялся искусству судейских крючкотворов, отобравших в пользу города землю Ганса. А практичный Ганс продолжал:
— Я говорю: не надо нам проповедей — из них шубу не сошьешь. А пока попы будут говорить, судейские из черного сделают белое, а из белого — черное. Всякий ходит по воскресеньям в церковь
слушать попов, а они говорят, что делать добро — это отнимать кусок хлеба у своих голодных детей и класть в карман попу… — Он хлопнул Мюнцера по плечу и лукаво ему подмигнул: — Вот хоть бы проповедник Генрих Пфейффер! Не хочет ли он разделить все поровну? Я работаю и стараюсь припасти что-нибудь про черный день, и отец мой, работая, кое-что нажил. А другой жил век свой лодырем и получил от родителей бесхвостую свинью да разбитое корыто. С какой стати я буду с ним делиться? Мне давай мое, да и баста. А делиться с рванью я не желаю!
Мюнцер видел, что этот человек, так крепко отстаивающий понятия "твое" и "мое", очевидно, не поймет его, но, согласно обещанию, он указал Гансу на судейскую ошибку и за это получил от жены Ганса хороший кусок свиного сала и кувшин с ячменным соком.
Наутро Мюнцер ушел, сказав Оттилии, что вернется, когда побеседует с мюльгаузенским проповедником Генрихом Пфейффером… Но проходили долгие часы, а он не возвращался, и Оттилия с сыном на руках пошла отыскивать его.
День клонился к вечеру; торговцы и мастеровые закрывали свои лавки и мастерские. Мимо молодой женщины прошли шумной гурьбой ткачи; прошли с молотками за поясом каменщики; рабочие густыми толпами спешили куда-то, смеясь и споря; с ближней колокольни раздался призыв набата; навстречу ему рвался зловещий рев толпы.
Оттилия остановилась и с ужасом прислушивалась к крикам. Ей казалось, что это ревет толпа, готовая растерзать Томаса за смелые речи. Она бессильно прислонилась спиной к статуе богоматери, окруженной железной решеткой.
Гул становился ближе, и вдруг толпа ринулась волной в тесный переулок и окружила статую богоматери. Оттилия крепче прижала к груди ребенка. Люди в кожаных фартуках, с перепачканными сажей и углем лицами, ткачи в блузах, булочники с колпаками на головах размахивали перед ней лопатами, молотками, топорами, палками, а сзади прибывали все новые толпы…
— Заклинаю вас, друзья и братья, пощадите женщину!
Бледное лицо мужчины склонилось к Оттилии; чьи-то сильные руки подхватили ее и вытащили из толпы. Но едва она сделала несколько шагов, как услышала треск чугунной решетки, окружавшей статую богоматери, и удары молотков, разбивающих вдребезги статую. Статуя рухнула под ударами иконоборцев, а вместо нее осталась в переулке бесформенная глыба белоснежного мрамора.
Ребенок громко плакал. Оттилия бессвязно бормотала, что мужа ее, проповедника Томаса Мюнцера, наверно, убили в этой свалке.
— Я тоже проповедник, — сказал ей спасший ее незнакомец, — я сам руководил толпой, уничтожавшей идолов. Я видел твоего мужа. Поверни направо — там, на площади, Мюнцер говорит с народом.
Он оставил молодую женщину и пустился догонять толпу, а Оттилия направилась к площади.
Вся площадь была битком набита народом. В раскрытом окне стоял Томас Мюнцер. Глаза его сияли. Правая рука была протянута к толпе. Оттилия стояла в толпе и внимательно слушала.
Он кончил, и слова его были покрыты восторженными криками. Сотни рук протянулись вперед, чтобы помочь ему спрыгнуть с окна. И он, улыбаясь, жал эти руки. Казалось, между ним и народом существовала какая-то таинственная связь.
Оттилия затаив дыхание следила за мужем. К ней подошел высокий человек в простой черной одежде горожанина. Это был спасший ее незнакомец.
— Вот и Пфейффер, — сказал кто-то возле Оттилии.
Пфейффер с Мюнцером пошли рядом среди расступившейся перед ними толпы.
— Спасибо, товарищ, — произнес Пфейффер. — Я не умею говорить, как вы, — я гораздо лучше думаю и сочиняю проекты. А теперь более чем когда-нибудь необходима ваша помощь: я боюсь, что мне грозит изгнание.
— Оттилия, — сказал Мюнцер, увидев жену, — ты здесь? Убедительно ли я говорил? Идем заберем наши пожитки и перекочуем к новым друзьям. У меня их теперь много в Мюльгаузене! А вот один из них — Генрих Пфейффер.
Он взял у нее сына и в порыве радостного возбуждения высоко подбросил его вверх, а потом понес на руках до предместья.
Когда Оттилия собирала свои скромные пожитки, под окном домика Ганса раздался жалобный голос:
— По-дайте кусочек хлеба!
— Нету! Самим не хватает, — буркнула хозяйка.
— Кто это? — спросила Оттилия.
— Это слепая Куни. Она теперь бродит из дома в дом. Когда умер ее приемный отец, сосед наш, то городской совет отобрал у нее землю и дом и пустил по миру.
— Так почему же вы не дали ей кусочка хлеба, когда сами потерпели от несправедливости городских судей?
Вместо ответа крестьянка повернулась к Оттилии спиной.
Оттилия тихонько сняла с шеи янтарную нитку — одну из двух, подаренных ей Клаусом и Эммой к свадьбе, — и, открыв окошко, протянула ожерелье слепой:
— Возьми! Продай и купи себе хлеба.
— Да хоть бы ты унял эту безумную! — всплеснула руками крестьянка, обращаясь к Мюнцеру. — Отдает чужим последнее достояние!
Мюнцер только рассмеялся.
Оттилия сдержанно поблагодарила хозяйку за ночлег и, сложив на тележку скудное имущество, вышла на улицу вслед за мужем.
Новые друзья Мюнцера в Мюльгаузене были те же, что и в Альтштедте: бедняки. Суконщики, которых немало нашлось в этом промышленном городе, наперерыв зазывали его к себе. Он выбрал дом Каспара Фербера в предместье на Плобах. Этот дом часто служил приютом для друзей народа, и в нем не так давно раздавалась речь знаменитого мейстера
[77] Гильдебранда, впервые обратившего внимание на заброшенные предместья Мюльгаузена. Каспар всей душой был предан интересам обездоленных братьев и горячо говорил Мюнцеру, ударяя кулаком по столу:
— Вы думаете, что мало найдется сочувствующих вам среди состоятельных горожан? Да я первый отдам все, что у меня есть, когда будет равная дележка! Брат мой тоже все отдаст и пойдет в другие страны с волынкой, чтобы в песнях рассказать другим людям про горе и несчастье их братьев и просить защиты… Правда, Руди?
Белокурый юноша, подросток Рудольф, улыбался и кивал головой, а мечтательные глаза его загорались каким-то тихим, внутренним светом.
Славная семья была у Фербера, и Оттилия сразу почувствовала доверие и к Каспару и к его кроткой, ласковой жене; понравились ей и Руди и веселые дети Каспара.
На другой день утром пришел Пфейффер.
— Дела плохи, — сказал он мрачно. — И тебе, Томас, предстоит немало работы. Я гораздо лучше владею пером, чем живой речью, — одним словом, ни к черту не гожусь в практической жизни, а совет грозит изгнанием и мне и моим приверженцам.
Они долго сидели у Фербера, обсуждая положение дел, а в полдень Пфейффер увел Мюнцера и Каспара с собой.
Генрих Пфейффер был прежде монахом и увлекся идеями Лютера. Сделавшись жертвой гонения со стороны духовенства, он отправился из монастыря в родной город Мюльгаузен и здесь стал проповедником. Яростно бичевал он пороки церковнослужителей. И хотя говорил далеко не так красноречиво, как Мюнцер, но пороки духовенства были до того очевидны, что он скоро нашел сочувствие у мюльгаузенских граждан. Новое учение благодаря Пфейфферу широко распространилось в вольном имперском городе. Но городская аристократия крепко держалась за старые порядки: преобразование церкви вредило ее личным интересам. В то время Мюльгаузен, подобно другим городам, находился под гнетом аристократии, и в городские советники выбирались люди знатные, которые деспотически обращались с простыми гражданами. Городской совет противился церковным преобразованиям, но препятствия не испугали Пфейффера, а только озлобили. Озлобление делает людей настойчивее, и Пфейффер, которому запрещали говорить религиозные речи в центре города, начал проповедовать на окраинах, открывая мюльгаузенцам глаза на все недостатки их общественного строя. Заодно с ним действовали и другие монахи.
Целью Пфейффера было преобразовать совет, но не передать власть в руки народа. Он обращал внимание только на граждан города, а не предместий и совершенно забывал крестьян из округа; в этом была его глубокая ошибка. Совет пошел на уступки, но лишь временно. Полная победа над советом могла быть обеспечена для партии Пфейффера только с помощью мещан и горожан. Старые советники, боясь, что сила окажется на стороне Пфейффера, стали уже склоняться к уступкам, рассчитывая сохранить свое положение в магистрате. Но, оправившись в 1523 году, городская администрация приговорила Пфейффера к изгнанию. Впрочем, в конце этого года он вернулся. Совет продолжал вести против него борьбу, и ко времени прибытия Мюнцера дела стали принимать для Пфейффера дурной оборот.
Только три дня прожил Мюнцер у Каспара Фербера, как по городу разнеслись печальные вести: народ уступил требованию городского совета об изгнании Пфейффера. Перед отъездом Пфейффер зашел к Мюнцеру, мрачный и решительный.
— Генрих, — сказал ему Мюнцер, — спроси у своего рассудка, какую ты сделал ошибку, — ведь это было в твоих руках!
Он широким взмахом руки показал в окно на перепутанные улицы предместья, где лепились друг около друга жалкие лачужки суконщиков и рабочих других цехов.
— Ты забыл о них, а между тем их много, и в них — сила: они угнетены гораздо больше, чем горожане. Неказисты их дома и они сами, но, когда соединятся, это будет самая сильная армия. Правду я говорю, Каспар?
Фербер тряхнул косматой головой и сжал изо всей силы руку Мюнцера:
— Правда, мейстер Томас, истинная правда!
— Помоги мне, помоги! — прошептал почти беззвучно Пфейффер. — Ведь не то обидно, что я изгнанник, а то, что гибнет дело.
— Ты никуда не уедешь, — решительно заявил Мюнцер. — Бедняки Мюльгаузена спрячут тебя до того времени, когда ты выступишь, чтобы сражаться за их человеческие права.
Прошло еще три дня.
На широком лугу возле леса собралась толпа, вооруженная чем попало. Загорелые лица, серпы и косы выдавали в собравшихся крестьян. Небольшая группа мастеровых Мюльгаузена держалась отдельно.
День выдался на редкость ясный, в воздухе стоял запах земли и прелых листьев; на голубом небе Трогательно выделялась печальная листва осени, пурпурная и желтая; тихий шелест деревьев заглушался громкими голосами.
Группа мастеровых выступила вперед во главе с Мюнцером и Пфейффером. Глаза Мюнцера ярко блестели; краска возбуждения появилась на его лице. Пфейффер казался необыкновенно напряженным и торжественным. Один из суконщиков сделал два шага вперед и поднял руку, приглашая толпу к молчанию. Все замерло. В тишине зазвучал взволнованный голос Пфейффера:
— Братья-крестьяне, обездоленные мещане и рабочие города не хотят более оставаться без прав! Почва готова к восстанию!.. Братья-крестьяне, и мы хотим жить!.. Предместье святого Николая дружно поднялось. Совет зовет вас из окрестных деревень к себе на помощь, зовет усмирить бунтовщиков, то есть бить своих братьев за то, что они хотят жить, как люди, а не как звери. Но ведь и вы тоже хотите быть людьми. Скажите же нам, депутатам предместья, идете ли вы за нас или против нас.
Толпа всколыхнулась, и все голоса слились в неясный гул. Жестянщик изо всей силы забил палкой в железный таз, служивший здесь колоколом. Толпа затихла. Раздались отдельные голоса:
— Кто идет против себя?
— За вас! За вас!
— Мы все — братья! Да будут прокляты тираны!
Мюнцер требовал голосования. Дружно поднялись руки:
— За вас! За вас!
— Итак, — сказал Мюнцер, радостно выступая вперед, — да здравствует победа, друзья! Сейчас я вам прочту наши требования совету. Если кто не согласен, пусть выскажется.
Он взял из рук Пфейффера сложенный лист, развернул его и, взбежав с юношеской легкостью на высокий холмик, где была устроена кафедра, стал читать:
— "…Должно продать все поля, виноградники и луга, принадлежащие церкви, и все монастырское имущество и подчинить их законным повинностям.
Всякие повинности, отправляемые графам и дворянам, должны быть отменены.
Должно отменить также все подати, десятины
[78] и барщины как светские, так и духовные, исключая тех, которые существуют более двухсот лет.
Пруды, пастбища и охотничьи промыслы должны быть собственностью общин, и каждый может пользоваться ими по мере надобности.
Горожан и крестьян не должно подвергать аресту и каким бы то ни было насилиям, кроме тех случаев, где совершено уголовное преступление.
Но и виновных следует наказывать кротко и человечно.
Не должно никого брать под арест в его доме.
Городской совет будет избираться и утверждаться только гражданами, которые могут смещать его; в совете будут заседать депутаты от граждан, и правительственные дела будут решаться только с согласия депутатов".
Мюнцер кончил читать среди гробовой тишины и обвел глазами толпу.
Снова сотни рук поднялись вверх, и лужайка огласилась криками:
— Согласны! Все согласны!
— Так двинемся же в предместье святого Николая! — крикнул Мюнцер. — Но прежде дадим знать товарищам, что мы идем поддержать их.
Он снял с шеи широкий белый шарф и поднял его вверх. Ветер подхватил концы, и белая лента взвилась над морем голов.
Крестьяне замахали платками, поясами, шляпами. В ответ на это с колокольни церкви предместья святого Николая раздался призывный звон набата.
Колокола звонили радостно, торжественно, как в праздник, и толпа бодро двинулась вперед.
Это был день победы над городским советом, и беднота Мюльгаузена долго помнила его. Старая партия приняла требования и была сломлена — только надолго ли? Граждане центральной части города, имевшие здесь собственность, испугались волнений "голышей".
Вмешательство Мюнцера подлило масла в огонь. Среди богачей он пользовался плохой славой.
Уступив раз народной партии, совет собрался с силами и послал императору жалобу на "беспокойных людей, смущающих народ".
Скоро от императора пришло повеление об изгнании Мюнцера с Пфейффером.
Был вечер конца сентября, когда Мюнцер объявил жене о своем изгнании.
Она слегка побледнела и коротко спросила:
— А через сколько дней в путь, Томми?
— Сегодня.
— Видишь ли, Томми, — прошептала Оттилия, — мальчик горит… Не знаю, что с ним: боюсь, не горячка ли это. Если бы на несколько дней отсрочить — быть может, он и поправится…
С состраданием склонился Мюнцер к ребенку. Куда тащить его по дорогам Германии в глухую осень?
— Каспар, — сказал Мюнцер Ферберу дрогнувшим голосом, — позаботишься ли ты до наступления лучших дней о моей жене с сыном?
— Я иду с тобой, — отвечал Каспар, — а фрау Мюнцер может остаться у меня в доме с моей женой, пока мы не вернемся. Ведь немало мюльгаузенцев покидает сегодня городские стены, чтобы идти за тобой и братом Генрихом.
Угрюмое лицо Мюнцера оживилось, и он стал вслух мечтать о деятельности на чужбине. С этими же мечтами он бодро готовился к походу. Оттилия двигалась молча, как тень. Вдруг в окно кто-то громко постучал.
— Ступай, Руди, отопри, — сказал Каспар. — На дворе ни зги не видать, а за воем ветра и дождем не слышно, кто говорит.
В своем дорожном костюме, с волынкой Руди походил на бродячего музыканта. Он тоже следовал за Мюнцером в изгнание.
Когда Руди отворил дверь, комната наполнилась звуками веселого женского смеха.
— Польди! — вскричала Оттилия. — Боже мой, Польди!
Вошедшая девушка сбросила с себя мокрый от дождя плащ. Из-за ее плеча выглядывала седая голова дяди Клауса.
— Да, Польди! — закричала племянница старого церковного сторожа. — Ну, и устали же мы тащиться по этой грязи! Не начинай рассказывать, дядя Клаус, — я сейчас все расскажу, и лучше тебя. — Обнимая Оттилию, она так и сыпала словами: — С тех пор как вы уехали, мейстер Томас, на дядю косились в Альтштедте… Матушка умерла две недели назад, ну, а дядя ничего не мог лучше придумать, как сказать мне: "Я, Польди, пойду разыскивать мейстера Томаса. Мне надоело слушать брань здешнего священника. А ты выходи скорее замуж за рыжего булочника, который к тебе сватался перед смертью твоей матери".
— Ну, понесла! — махнул рукой Клаус.
— И понесла! А я тогда сказала дяде: "Шалишь, не хочу за рыжего булочника, пойду и я к мейстеру Томасу и Оттилии — может быть, и я на что-нибудь пригожусь".
Она нисколько не смутилась, когда узнала о положении вещей.
— Выступать сегодня? Ты останешься, Оттилия, конечно! Что за беда! Я пойду вместо тебя и буду заботиться о твоем муже… А ты, дядя Клаус, способен еще двигаться?
— Баба я, что ли! — буркнул Клаус.
После некоторых приготовлений Мюнцер решительно встал. Он очень торопился во Франконию, где уже, по слухам, началось народное движение. Он торопливо обнял жену. Оттилия побледнела:
— Что, если он умрет без тебя, Томми, наш мальчик? А ты… в такую ночь, изгнанник…
Лицо Мюнцера сделалось суровым.
— Слушай, — сказал он тихо, — есть у меня нечто, что дороже жены и ребенка, что выше всех привязанностей в мире. Судьба всех обездоленных дороже твоей судьбы с сыном, и, если бы для них понадобилось пожертвовать жизнью твоей и его, я бы ни на минуту не задумался. Не дрожи так, Оттилия, — я люблю и тебя и сына, но мир люблю еще больше. Не плачь! Не бедным изгнанником я выступаю из Мюльгаузена, а победителем. Видишь, среди ночного мрака в окне блестят огни факелов? Сколько их! Это всё мои друзья, мои братья. Их бодрые голоса будят всех сонных и себялюбивых. И они идут со мной на смерть, на победу, на завоевание справедливости! Я не несчастен — я горд, Оттилия!
И, еще раз обняв жену, он выбежал на улицу.
Его поглотил мрак.
II. ДВЕ СЕСТРЫ
Чудесный денек выдался в швабской деревне Беккинген в половине октября 1524 года. Был полдень, и беккингенцы, бросив работу, обедали. В саду крестьянина Яклейна Рорбаха шла спешная уборка. Яклейн был одинок — недавно он похоронил мать, и две рослые девушки-соседки помогали очищать виноградник от засохших побегов и свозили их в тачках в одну большую кучу. Одна из девушек несколько раз нетерпеливо крикнула:
— Гретель, да пойдешь ли ты наконец обедать?
Девочка, лежавшая на куче сухих листьев запрокинув беспечно голову, вскочила, отряхивая с густых рыжих волос сухие листья:
— Не сердись, Луиза, я засмотрелась на небо…
Гретель чинно уселась перед разостланной на траве салфеткой, на которой лежали хлеб, пареная тыква и стояла миска с похлебкой, подбеленной молоком. Ее сестра Кетерле резала хлеб, а Гретель внимательно рассматривала ее лицо, темное, какое бывает на старинных иконах, с гладко зачесанными волосами и большими мрачными глазами. Как это лицо не подходило к веселой лазури неба!
Кончив обед, девушки снова взялись за метлы.
— Работай, Гретель, работай, — сказала Кетерле, — не ленись…
— Виноградник почти вычищен, — робко заметила Гретель. — А вот идет и Яклейн.
При этом имени Кетерле покраснела и еще усерднее принялась скрести дорожки.
Яклейн Рорбах, в белой холщовой рубашке и поярковой крестьянской шляпе, шел к ним с громадными кистями винограда в руках. Молодой, энергичный, он казался особенно веселым в этот ясный день.
— Я принес вам винограду за то, что выдался хороший денек, — сказал он девушкам и, отдавая последнюю кисть Гретель, ласково улыбнулся.
— И охота тебе здесь киснуть, Гретель, в такую погоду!.. Отпусти ее, Кетерле.
Гретель выбежала за околицу, обкусывая ягоды с виноградной кисти, и направилась к зеленеющему берегу Неккара. По дороге, на опушке рощи, она набрала целый ворох красных и золотистых листьев и, усевшись в кустах, около мостков, где обыкновенно женщины полоскали белье, стала плести из листьев гирлянды. Рыжеватые ее волосы были перевиты золотом и пурпуром и блестели на солнце; по плечам, корсажу и юбочке к босым ногам сбегали, как змеи, каскады цепей.
Склонившись к реке, Гретель смотрела в ее зеркальную поверхность.
И слабым, но чистым детским голосом она запела:
В клетке сидит за решеткой
Гретель, как пташка больная;
Снится ей поле и речка,
Снится ей чаща лесная!
Так бы она и летала
С черными теми грачами,
Так бы сломала решетку
И посмеялась над вами!
Девочка подняла голову вверх.
— Журавли или грачи? — печально прошептала она, вглядываясь в длинную цепь черных точек на ясной лазури.
И в ответ на ее вздох раздался долгий, тягучий звук волынки. Гретель вытянула шею, и радостная улыбка заиграла на ее губах.
На маленьком выступе берега, там, где ветви склонились к самой воде, сидел юноша и играл на волынке, не замечая присутствия Гретель. Это был Рудольф Фербер, или просто Руди.
Боготворя Мюнцера за его идеи, он долго упрашивал "брата Томаса" дать ему какое-нибудь ответственное поручение. И Мюнцер послал его бродить по всей стране в качестве странствующего музыканта, наблюдать и приносить ему известия. Руди было этого мало — он решил в песнях говорить людям правду. Но часто, когда он слагал эти песни, непослушная волынка под неопытной, полудетской рукой подыгрывала веселые плясовые напевы, особенно когда он видел в деревнях на лужайках и в городах на площадях, как танцует молодежь. Теперь заунывные звуки сразу оборвались, потом веселые и яркие брызнули из-под его пальцев и полились искрометным дождем по широкой глади реки…
Гретель вскочила, тряхнула головой и, держа в руке виноградную кисть, закружилась по зеленой лужайке, направляясь к музыканту. И вдруг звуки оборвались.
— Эй, музыкант, что же ты не играешь?
Руди молчал и не двигался. Она подбежала ближе и снова, смеясь, повторила свой вопрос:
— Что же ты не играешь?
— А… а ты… не чародейка? — прошептал Руди.
В ответ ему на колени упала тяжелая виноградная кисть, наполовину объеденная, и раздался хохот:
— Вот тебе за игру виноград из сада Яклейна Рорбаха!
Руди приподнялся:
— А вот его-то, Яклейна Рорбаха, мне и нужно видеть!
Гретель кивнула головой.
— Сходи к нему, сходи! — сказала она с жаром. — Если бы ты знал, как у нас в деревне его любят! В этом году он славно отделал монастырского викария
[79], который живет вон за тем пригорком, в Вимпфене. Господин Рорбах задолжал викарию оброк, ну и заспорил, что тот несправедливо много с него требует. Викарий подал на него жалобу, и уже назначен был день суда. Ну, а Яклейн подкараулил его за кустом, побежал за ним с тремя товарищами и кричал: "Поп, поп, не ленись, я тоже не ленюсь; собери своих товарищей и близких, я медлить не буду!" Ну, поехал викарий в суд, в город, но на постоялом дворе услышал шум. Ха-ха-ха! Хозяин постоялого двора сказал ему, что это шумит народ, что он идет на помощь к Яклейну Рорбаху, с которого поп требует несправедливо недоимку, и попу несдобровать. Ха-ха! Викарий сейчас же уехал обратно: ведь за Рорбаха пошла бы вся деревня, да какое вся деревня — весь округ! У него в доме собир…
Гретель испуганно посмотрела на Руди:
— Я что-то выболтала?
Руди тряхнул головой:
— Так вот какой у вас замечательный Яклейн Рорбах!
Гретель улыбнулась:
— И он такой добрый, этот Яклейн! Он дает мне свежие пышки, позволяет играть со своими собаками, кататься на его лошадях, подарил мне ручного журавля… А какой он смелый и умный! Он всегда выигрывает дела в суде, потому что никому не дает поблажки и не боится начальства. И он за всех заступается. В этом году кто-то убил приходского старосту… Судьи показали на Яклейна, будто это он. Ну, он отвертелся, в деревне же говорили: "Если это Яклейн, честь ему и слава: он убил врага народа". А мне страшно.
Гретель вскочила.
— Прощай, — сказала она торопливо. — Я заболталась с тобой.
Сделав несколько шагов по откосу, она остановилась и звонко крикнула:
— Как тебя зовут?
— Руди! Рудольф Фербер из Мюльгаузена!
— Ты приходи сюда к реке почаще играть на волынке!
Она побежала, но опять остановилась и шаловливо крикнула:
— А меня зовут Гретель Гафен! Нет, лучше просто Гретель…
Когда Гретель завернула к деревне, у крайней, полуразвалившейся лачужки она увидела Кетерле. Залитая лучами заходящего солнца, Кетерле казалась необычайно суровой. Какая-то угроза лежала в складках ее резко очерченного рта, а большие черные глаза пылали гневом.
— Гретель, — сказала с упреком Кетерле, — зачем ты разукрасила себя? Не смей осквернять этим нарядом дом. Разве ты забыла, что все мы должны одеваться просто? Мы принадлежим к святому братству, которое считает великим пороком суетность нарядов, — ведь все наши мысли должны быть обращены на труд и помощь друг другу для общего дела освобождения.
Девочка потупилась и молча глотала слезы.
— Ступай сними эти перья тщеславия.
Гретель сбросила с себя гирлянды и начала топтать их ногами, а потом с плачем убежала домой.
Черноволосая девушка взяла ведро и пошла за водой к маленькому колодцу у забора. Гретель лежала под окном на скамейке и горько плакала над своей разбитой детской радостью. Она думала: "Разве земля не украшает себя цветами и не создает птиц с пестрыми, красивыми перьями? Почему же это запрещать человеку?" Как темно и неуютно было в маленьком домишке, который в холодные дни со всех сторон пронизывало ветром и где предстояло провести долгую зиму вдвоем с Кетерле!
Девочка видела в окно, как сестра хмуро вытащила ведро из колодца и поставила на край сруба, видела, как она вздрогнула и покраснела, когда к колодцу подошел Яклейн Рорбах.
— Кетерле, — говорил Рорбах, — теперь кончилась вся работа в моем винограднике, а зима длинна. Чем ты прокормишь себя и Гретель?
— Уйду в город, — отвечала девушка, не глядя на Рорбаха.
— Снова работать в золотошвейне? Но ведь ты проклинала гейльброннских горожанок и уже раз бросила эту работу, потому что она была тебе не по душе.
Глаза Кетерле вспыхнули:
— Еще бы! Я хотела бы подрезать платья их милостям, гейльброннским барыням, чтобы они походили на ощипанных гусынь, а не то что своими руками готовить им расшитые золотом одежды! Я еще не забыла того дня, Яклейн, — горько засмеялась она, — когда у нашей бедной деревенской общины гейльброннцы отняли луга… Они, — она указала рукой на неясные очертания городских стен, — они должны всё снова возвратить Беккингену.
— Ну, разве можно, Кетерле, с такой злобой идти в Гейльбронн? — В голосе Яклейна зазвучали теплые нотки.
— Тогда пойду в Вимпфен.
— Ты шутишь, Кетерле: из Вимпфена ты ушла, побранившись с викарием, когда тот сказал, что я вор и убийца. И тогда я взял тебя к себе на виноградник.
Кетерле вдруг вскипела:
— Так что же мне делать, по-твоему? Перестань меня пытать: я не хочу сердиться.
Она отвернулась, и на лицо ее легла тень суровой печали.
— Кетерле, — сказал тихо Рорбах и взял девушку за руку, — тебе незачем сердиться и незачем голодать. Я одинок, и мне нужна хозяйка. Выходи за меня замуж, будем работать вместе и растить Гретель.
Кетерле вспыхнула, но краска моментально отхлынула с ее Щек:
— Яклейн… я должна отказаться. И мне очень тяжело! Я люблю тебя. Слушай же раз навсегда! Я должна принести себя в жертву. Кто-нибудь из нас, Гретель или я, спасет от мук наших братьев. И для спасения их мы должны посвятить себя делу, а не выходить замуж, Яклейн. Никогда не жить для себя… Мы должны спасти народ…
Она задыхалась, и крупные слезы капали у нее из глаз на худые смуглые руки.
— По правде сказать, Яклейн, мне кажется, что именно я, Кетерле, и призвана спасти свой народ!
Рорбах молчал. Она положила ему руку на плечо и сказала уверенным материнским тоном, от которого у него похолодело сердце:
— А тебе, Яклейн, надо жениться. У тебя все идет вверх дном, и уныло в твоем доме. Ты оттого и хмурый, что не с кем слова сказать.
— Это правда, Кетерле.
— Женись на Луизе — она славная девушка и будет тебе доброй подругой.
— Я лучше подождал бы тебя…
Рорбах не успел докончить фразы, как из дверей стремительно выскочила Гретель и бросилась на шею Кетерле.
— Выходи замуж, — рыдала она, — выходи за Яклейна Рорбаха, а я… я буду делать все, что вы хотите от меня.
Кетерле подхватила плачущую сестренку и увела в дом, а Рорбах, поникнув головой, поплелся к трактирщику Вольфу Лейгейму.
Гретель скоро вернулась. Когда она сидела на скамейке, прислонившись спиной к стене дома, к ней подошел ручной журавль, подарок Рорбаха. Он подкрался к ней сзади, с уморительной важностью поднимая тонкие ноги, и положил ей на плечо голову с длинным острым клювом.
— Журка, — сказала грустно Гретель, — знаешь ли ты, что такое "нельзя"? Нельзя любить солнце, любить воздух; нельзя любить прыгать, бегать… Это говорит Кетерле. Нельзя, Журка, и петь… Хочешь улететь вместе с черными грачами, Журенька?
Она развязала ему спутанные ноги:
— Лети!
Но журавль не улетел. Он стоял все так же неподвижно, потому что привык к неволе.
Кетерле не пришлось зимовать в своей холодной избушке. Рорбах устроил ее служанкой к адвокату Венделю Гиплеру в соседний Вимпфен. Здесь на долю Кетерле немало досталось работы: у Гиплера была большая практика в округе. Гретель жила вместе с Кетерле. Гретель с утра до ночи носилась по дому адвоката, открывая и закрывая двери за посетителями.
— Тебе нравится твой хозяин? — спрашивал Рорбах Кетерле.
— Хозяин как хозяин. Белоручки-хозяева, все они хороши. Яклейн захохотал:
— Вот так белоручка! Днем рыскает по судам, толкуя о делах с бедняками, а фрау Гиплер не отрывается от иголки, перешивая старое белье голодным крестьянским детям.
Кетерле промолчала.
Она часто отправлялась с корзиной в Гейльбронн на рынок. Раз на рыночной площади Кетерле наткнулась на толпу народа. Это была сходка горожан. Она так ненавидела городских советников-аристократов, заседавших в магистрате, что сейчас же приняла близко к сердцу интересы простых горожан. На площади стоял гул, и трудно было разобрать отдельные голоса. Но когда на опрокинутой бочке появилась суровая фигура беккингенской крестьянки, которая в гневе размахивала руками, изумленная толпа притихла.
— Стыдно вам! — крикнула Кетерле во всю силу своих легких. — Малодушные! Ведь черное никогда не бывает белым, а белое — черным! Вы поступаете справедливо, отстаивая свои права перед магистратом. Что хорошо для богатого, неплохо и для бедного, и наоборот. Станем же отстаивать свои права!
В толпе раздался смех.
— Что она там болтает! Нам ли бороться с магистратом?
— Уступить!
— Кто будет держать сторону магистрата, тот враг народа! — гневно крикнула Кетерле, потрясая сильным кулаком.
Она сразу постигла все сложные претензии гейльброннцев и горячо убеждала их постоять за себя. И она победила. Уходя, Кетерле заметила в толпе крестьянина с желтым, преждевременно состарившимся лицом, зоркими серыми глазами и тонкой насмешливой улыбкой. Она могла поклясться, что это переодетый Бендель Гиплер.
Когда Кетерле с покупками вернулась домой, Гиплер с лукавым видом пожурил ее:
— Фрау сердится. Нехорошо, Кетерле, не исполнять аккуратно своих обязанностей.
— А вы-то сами где были? — грубо отвечала она. Но в этой грубости слышалась уже доля задушевности.
Адвокат засмеялся.
Гретель жила в Вимпфене с сестрой и часто там видела Руди. Помня обещание, данное сестре, Гретель при виде Руди опрометью убегала, чтобы не заслушаться волынки.
Руди часто приносил с собой ворох каких-то листков и исчезал с ними в кабинете Гиплера. Раз Гретель не выдержала и, впуская Руди, спросила его:
— Куда ты носишь листки и что с ними делаешь?
Руди принял таинственный вид и оглянулся:
— А ты не выдашь меня?
— Клянусь тебе!
— Я ношу секретные листки, — прошептал волынщик. — Ношу я их к господину Гиплеру и потом раздаю на площадях, рынках и ярмарках.
— А что в этих листках?
— Призыв народа к восстанию.
— Постой… — Глаза Гретель широко раскрылись. — Это против господ. И я знаю — все будут идти с алебардами, вилами, топорами… Да? И все будут громко кричать, петь, оружие будет блестеть на солнце?
— Да, да!
— И ты… пойдешь, Руди?
Он гордо кивнул головой.
— Но… тебя могут убить!
Руди засмеялся:
— Только девочки трусят; мужчина всегда готов отдать жизнь за свое дело!
— Я это понимаю, — грустно прошептала Гретель. — За свое дело…
— Гретель, где ты? Фрау Гиплер зовет!
Это был голос Кетерле, и девочка со всех ног помчалась к сестре.
Через два дня Кетерле и Гретель отправились в Гейльбронн по поручению Гиплера. Им пришлось идти по полю, мимо лобного места, за городской стеной.
— Постой, — сказала Гретель, останавливаясь и жадно смотря вперед. — Что это за толпа?
— Идем скорее. Это казнят какого-нибудь вора.
Но Гретель не двигалась. Она так редко видела толпу. Толпа с гулом заколыхалась. В воздухе сверкнули алебарды ландскнехтов: человек в длинном белом балахоне опустился на колени на помост. Но едва палач в красной рубахе высоко взмахнул над его головой топором, Гретель зашаталась и закрыла глаза. Когда она очнулась, Кетерле оттирала ей виски снегом уже далеко от лобного места.
В первый же раз, как Гретель увидела после этого Руди, она сказала ему:
— Не ходи на площадь… Не ходи туда, где льется кровь. Это так ужасно — этого никогда нельзя забыть, всю жизнь…
Руди застрял в Беккингене, откладывая свой дальнейший путь на неопределенное время. Но с этого дня та, из-за которой он сидел в Беккингене, как будто избегала его: он не встречал ее ни на деревенских пирушках, ни в доме Гиплера. А он не переставал мечтать о Гретель и, бродя около дома адвоката, посматривал беспрестанно на окна, не покажется ли в одном из них девочка.
Раз пришлось ему заночевать у Гиплера. Дом давно уже погрузился в ночное безмолвие, но Руди не спалось. Он услышал, как стукнула калитка. Кто-то шел через сад… Только странно: почему не лаяла собака? Руди вскочил и тихонько пробрался в сени. Входная дверь была не заперта, к калитке вели свежие следы ног, а в конце улицы двигались две темные фигуры — одна высокая, прямая, другая маленькая, точно скорчившаяся от холода. Руди пошел за ними и скоро узнал Кетерле и Гретель.
Они шли молча, торопливо, миновали околицу и бесстрашно вступили в лес. В лесу слышался таинственный треск. С деревьев на сестер сыпались пушистые хлопья снега. И ноги их тонули в сугробах. Когда месяц выглядывал из-за серебряных туч, в чаще леса делалось еще таинственнее и снежная пелена зажигалась голубоватым светом. А они всё шли.
Вот залаяла собака, показалась лачужка угольщика. Сестры юркнули в ее низкую дверь. В лачужке был свет. Волынщик притаился под окном.
В единственной убогой комнате угольщика было нестерпимо душно, пахло потом, прокислой похлебкой. В углу коптила масляная лампа. Хозяин лачужки, весь еще черный от угля, сидел на лавке, окруженный толпой жадно слушавших его людей. Здесь собрались женщины и мужчины из рабочих кварталов Гейльбронна и ближних деревень — члены преследуемой секты перекрещенцев, главой которой в этих местах был Мельхиор Гофман.
Кетерле с порога тихо проговорила обычное приветствие:
— Мир с вами!
— Аминь, и с тобой также.
Гретель робко повторила приветствие сестры и уселась вместе с ней в кружок.
Приходили все новые и новые люди; наконец кружок посреди сидящих стал совсем маленьким. Ждали на собрание самого Гофмана, но он был в другом округе по делам секты и передал свои полномочия семье угольщика. Старый угольщик тихим, монотонным голосом продолжал говорить о том, что нужно уметь серьезно верить, любить, терпеть мучения и смерть ради того, во что веришь.
— И тогда, — плакал голос старика, — и тогда настанет царство правды, а те, кто мешают ему, падут, поверженные во прах…
— А кто мешает? — спросила жена угольщика. — Нет ли жалоб, которые можно было бы разобрать здесь, на братском, истинном суде? Не предавался ли кто излишествам в пище и питье, не сквернословил ли, не обманывал ли? Пусть раскается…
Настала гробовая тишина. Никто не каялся. Все эти люди жили, как пустынники. Тогда над сидящими поднялась темная высокая фигура и зазвенел вдохновенный голос.
— Иоганн Гут из Нюрнберга, — прошептала Кетерле младшей сестре. — Он торгует книжками. Великий, умный человек. Он приехал сюда с поручением от Томаса Мюнцера. И мало кто знает его имя… Слушай хорошенько!
Он произнес имя Мюнцера, собиравшего повсюду крепостных крестьян и угнетаемых богатыми горожанами ремесленников, из которых составлял трудовые братства-коммуны.
Масляная лампа освещала худое лицо с зачесанными кверху белокурыми волосами, маленькую бородку и высокую фигуру в черном кафтане, с широкополой серой шляпой в руках.
Гретель не могла оторваться от его глаз, менявших постоянно выражение — то простодушных, то повелительных, странно блестевших в полумраке.
— "Царство правды"! — повторил Гут обещание угольщика полунасмешливо-полугрустно. — А в чем она, эта правда? Вы всё ждете, когда на земле воцарится высшая справедливость! Она сама не придет! Беритесь за меч! Отстаивайте свои права, отнимайте мечом власть у господ!
В это время в сенях послышалась возня, дверь распахнулась, и вновь вошедшие втащили Руди:
— Мы его поймали около окна. Чужой!
— Я не смел войти, — пробормотал волынщик.
— Он говорил, что знает брата Томаса Мюнцера, — продолжали голоса вошедших.
Гут обернулся и кивнул головой:
— Пустите его, это волынщик из Мюльгаузена. Садись, брат, и не мешай слушать.
Жена угольщика поправила щепкой нагар на светильне; пламя вспыхнуло ярче и озарило красноватым светом лицо Гута. Его взгляд встретился со взглядом Гретель. Она тяжело дышала, и голова ее кружилась.
А Гут продолжал свою пламенную речь. Он говорил, что всюду, где есть бедный и богатый, поднимается меч против тиранов и нужно уметь нести этот меч и умереть с радостью за народное дело.
Кетерле взглянула на Гретель. Ее поразил неподвижный взгляд девочки на бледном, без кровинки, лице. Глаза, не отрываясь, пристально смотрели на Гута; она дрожала как в лихорадке. Вдруг Гретель поднялась и стала рядом с Гутом. Она тяжело дышала и неожиданно заговорила тонким прерывистым голосом:
Братия! Братия!
Великая сила в нас,
Просветляющая,
Укрепляющая!
Мы — борцы за мир
И понесем по всей земле
Наше знамя!
Кетерле с восторгом смотрела на сестру, а угольщик благоговейно склонил голову.
— Правда говорит её устами, — прошептала Кетерле, — ей нести наше святое знамя борьбы!
— Ей нести наше знамя! — торжественно промолвил Иоганн Гут из Нюрнберга.
Но Гретель не пришлось нести знамя "борцов за мир". После собрания у угольщика Гретель, очнувшись, замолчала. Потрясение было для нее не по силам. И с этой ночи она стала слабеть: почти не прикасалась к пище, худела, бледнела и тосковала. Кетерле слышала, что часто "слабые души", как она говорила, на самом же деле чрезмерно нервные люди, не выдерживают возбуждения.
Потрясенная всем, что она видела и слышала, Гретель все о чем-то думала, чего-то не могла понять. Какое знамя борьбы должна нести она, маленькая девочка Гретель? Куда она с ним пойдет?
Раз она сказала сестре:
— Причеши меня, у меня дрожат руки.
Кетерле собрала в большой узел ее густые волосы. Гретель улыбнулась и сказала:
— Кетерле, я уйду погулять.
И, не сказав больше ни слова, она пошла бродить по улице. Белая пелена снега казалась бесконечной. Гретель шла через пустые виноградники и огороды…
Разрумянившаяся и повеселевшая, с рассыпавшимися по плечам волосами, вбежала она в первый попавшийся дом и бросилась к хозяйке, сидевшей возле прялки. Однообразно жужжало колесо прялки. Пряха мурлыкала немудреные песни. Вдруг кто-то порывисто отодвинул от нее прялку:
— Приближаются "Двенадцать зимних ночей", фея Гольда
[80]идет навестить хозяек. Бросай прясть, тетушка, если не хочешь, чтобы она перепутала тебе пряжу!
И Гретель со смехом убежала в соседнюю избу.
Придя домой, она повисла на шее у сестры.
— Ты вся в снегу и, наверно, отморозила ноги, простудилась, — со страхом сказала Кетерле, укладывая девочку в постель.
В этот вечер Рорбах до поздней ночи сидел в кабачке. Он угощал приятелей:
— Пей, Христиан Ширер, пей, Иорк Мартин, пей, Ганс, и ты, дядя Вольф. Пейте, друзья! Скоро мы все бросим свои дома и виноградники и пойдем в поход!..
Рорбах кивал головой и наливал кружку за кружкой:
— Через неделю, друзья, я женюсь на Луизе! Не на Кетерле, а на Луизе! И на свадьбу позову адвоката… Что? Что ты болтаешь, Христиан? Вендель Гиплер — не ровня нам, он барин? Вендель Гиплер — наш; он сам потерпел от господ, графов Гогенлоэ, которые из него пробовали вить веревки, когда он у них служил при дворе! Он знает, где господская правда: у свиньи в хлеву, когда она сожрет собственных поросят, — вот где господская правда! Вендель Гиплер судился в прошлом посту с графами Гогенлоэ, защищая их крестьян.
— Да мы ничего не говорим, Яклейн…
— То-то, ничего! А что бы вы могли сказать плохого против Венделя Гиплера?
Он встал, вышел из кабачка и побрел к околице, где начиналась дорога в Вимпфен. Ночь была светлая, и снег казался голубым при лунном сиянии. Рорбах смотрел на огоньки Вимпфена и горько смеялся над своим разбитым счастьем.
— Господи Иисусе! — раздался чей-то испуганный голос.
И лошадь, выехавшая с санями из-под горы, остановилась как вкопанная.
То были лошадь и сани самого викария.
— Ага! Попался ты мне, поповская ряса! — закричал Яклейн, вскочил на лошадь и, выхватив у кучера вожжи, стегнул ее что было силы.
Лошадь сломя голову помчалась по снежной равнине. Храпя, вся в мыле, неслась она вперед, а викарий, уцепившись за сани, стонал и причитал:
— Что за сатанинская пляска? Куда несет меня этот колдун?
Покружив викария вволю, Рорбах подкатил к монастырю, соскочил с лошади, бросил поводья и вежливо снял шляпу перед попом, промолвив с изысканной учтивостью:
— Пусть не прогневается святой отец, ведь до сих пор мне не приходилось еще служить в епископских кучерах. Сегодня я справляю свое обручение.
Через неделю он женился на подруге Кетерле — Луизе.
А Руди все еще жил в Беккингене и часто виделся с Гретель. Кетерле боялась, что Гретель умрет. Гретель продолжала болеть. Она таяла с каждым днем.
Однажды Руди объявил Гретель, что должен идти дальше, во Франконию.
— Мы увидимся с тобой на поле сражения! — говорил он бодро, и глаза его сияли. — Это будет скоро, Гретель.
Она покачала головой и усмехнулась:
— Весной мне минет пятнадцать лет. Я выйду за тебя замуж, Руди… На поле сражения буду стоять рядом с тобою… Руди, рядом с тобою…
Проходили дни за днями. Повеяло весной.
Кетерле кипела, как в котле. Вендель Гиплер в это время уже был во владениях графов Гогенлоэ и подготовлял там народное восстание. А Кетерле работала в Беккингене, рука об руку с Яклейном, и чуть не каждый день бегала к Вольфу Лейгейму на собрания крестьянского союза.
На пятой неделе поста, в субботу, в булочной собралось много заговорщиков. Здесь были и женщины, в их числе Кетерле и Луиза, жена Рорбаха. Перед ними стояло блюдо с остатками недоеденной рыбы и бутылка вина.
Рорбах встал.
— Братья, — сказал он решительно, — теперь мы начнем жить по-другому: мы соберем войско из крестьян и затеем такую игру, что о ней все заговорят… Мы возьмемся и за попов! — стукнул по столу кулаком Яклейн. — Мы казним и господ! Их дома должны принадлежать нам.
— Ну нет! — возразил горячо булочник. — Так, пожалуй, вы и мой возьмете.
— Не бойся, тебя мы не тронем, — послышались голоса. — Ты славный товарищ и будешь на нашей стороне. Мы потешимся в виноградниках, которые сделаются нашими, как только мы соединимся вместе. Приходи завтра к нам во Флейн — там соберется много своих. Мы созовем туда всех крестьян из округа, мы и твою булочную сделаем местом для наших собраний.
Кетерле встала и крикнула:
— Если гейльброннцы будут вам чем-нибудь мешать или делать что-нибудь дурное, не щадите их! Тяжело проливать кровь своих братьев, но будьте тверды.
Рорбах с удивлением посмотрел на говорившую. Кетерле стояла, гордо выпрямившись, сильная и безжалостная, и ему показалось, что в ней уже ничего не осталось от прежней Кетерле. Яклейн не узнавал даже ее голоса: в нем появился новый, повелительный тон, жестокость.
— Ну, так до свиданья… во Флейне! — весело крикнул Рорбах, поднимаясь. — Ах да, я совсем забыл: Вендель Гиплер присоединяется к нам со своими друзьями.
Скоро булочная опустела. В ту же ночь Рорбах широко шагал по дороге к Флейну.
Кетерле вернулась поздно.
Гретель лежала у окна. В комнате было чересчур свежо.
— Ты сумасшедшая, Гретель! Открыть окно!
При свете лампы девочка казалась мертвенно-бледной.
— Я открыла окно, — прошептала больная. — Сегодня первое апреля… весна… Мне душно, а с неба смотрят звезды.
Гретель приподнялась и жадно вдыхала чистый воздух.
— Сестра, — сказала она с тоской, — скоро весна… Вы развернете знамя восстания… А я усну…
Она бормотала что-то бессвязное всю ночь и казалась Кетерле беспомощной и жалкой, как маленький ребенок.
Когда первые солнечные лучи брызнули на землю и озарили чуть заметный зеленый пух всходов, Гретель прошептала:
— Солнце, Кетерле! Я вижу его. Я так рада, что еще раз вижу! Я умру. А ты… пойдешь… со знаменем… И вы победите…
Голос Гретель оборвался. Она закрыла глаза. Из-под длинных золотистых ресниц катились слезы, а губы радостно улыбались. Когда Кетерле взяла ее за руку, рука не шевельнулась.
Много часов просидела Кетерле неподвижно над телом сестры. Её вывел из оцепенения голос Яклейна:
— Кетерле! Да слушай же, Кетерле! Я вернулся и привел с собой триста вооруженных товарищей. Они выбрали меня своим предводителем. А старшину я посадил под замок: он хотел поднять против меня гейльброннцев. Иди скорее, Кетерле…
Кетерле высунулась в окно и спокойно сказала Яклейну:
— Не кричи так! Я приду к вам, только сперва помоги мне схоронить Гретель.
Рорбах вздрогнул. В черных волосах Кетерле сверкали кое-где серебряные нити; за один день она постарела на несколько лет.
III. СЛАВА РЫЦАРЯ
Вальтер Фогель закинул за плечи дорожную сумку и зашагал по пыльной дороге. В сумке у него лежала только смена белья, нарядное платье, виола
[81] да кусок хлеба. Небо было чисто, солнце на горизонте тонуло в огненном море, и старые липы по дороге стояли в золоте осенних листьев.
Вальтеру было весело. Он громко закричал во всю полноту своей молодой груди:
— Ого-го! Птица долгоносик, сорока-белогрудка, где замок благородного рыцаря графа Ульриха фон Вейлер, того Ульриха, отца и деда которого воспевали мои отец и дед? Ого-го!
И запел песню:
В праздник, в будни я всегда
Весел и здоров.
Лес зеленый для меня
Верный кров.
Стало темнеть. На швабских дорогах в это время ходить не всегда безопасно, но Вальтер ничего не боялся: ему нечего было терять.
Впрочем, он вздумал было переночевать "по-людски" и, когда встретил возвращающееся стадо, пошел за пастухом в деревушку.
Коровы оставляли после себя теплый, приятный запах, и ему захотелось парного молока.
Вальтер постучал в окно одной избушки.
Он начал с краю и обошел всю деревню, но ему везде кричали в ответ:
— Убирайся подобру-поздорову!
— Знаем мы вас: недавно у меня ночевал один фосс
[82], так после него в кладовой опустели все полки.
— Уходи, уходи! Сказано — не пущу!
И Вальтер зашагал дальше.
"Придется мне здесь заночевать", — подумал он и растянулся под деревом, недалеко от дороги, подложив под голову сумку.
Скоро он захрапел. Ему снился замок, залитый огнями, куда он шел, и страшный сторож при замковых воротах. Вальтер попросил сторожа впустить его по подъемному мосту, но сторож грубо крикнул: "Знаем мы вас, бродяг! Ату его, ату!" И свора собак окружила Вальтера, а одна из них, громадный дог с кроваво-красной пастью, вскочила ему на грудь и стала душить за горло…
Вальтер почувствовал, как в самом деле кто-то сдавил его горло, и вскочил.
Чуть брезжил свет. Перед Вальтером мелькнуло лицо в кожаном шлеме. Это был ландскнехт.
— Молчи, щенок, — крикнул ландскнехт Вальтеру, — и давай свою сумку! Погляжу я, нет ли в ней чем поживиться. Иногда у таких прохожих молодчиков припрятаны сокровища их господ.
Крик Вальтера оборвался и смолк. Он захрипел под огромной лапой ландскнехта и упал в придорожную канаву.
— Стой, ты, грабитель проезжих дорог! Никак, ты убил мальчишку? Ну-ну, моя дубинка не хуже твоей лапы, а твой меч, не будь я Клаус Мюллер из "Золотого улья", ты забыл в кабаке, пьяная рожа!
Ландскнехт, оставивший на самом деле в кабаке меч, был пьян, и крестьянину, вооруженному увесистой дубиной, нетрудно было повалить его.
— Не хочу убивать, — сказал Клаус Мюллер, добродушно толкая ландскнехта ногой в канаву. — Лежи себе, пока не проспишься… А ты, парень, вставай! — И он помог Вальтеру выбраться из канавы. — Ну, счастье твое, что я шел мимо, а то бы тебе лежать здесь вечно, — сказал он. — Собирай сумку, да не бойся — цела. Идем со мной. В другой раз не будешь спать по дорогам!
И крестьянин повернул на узкую тропинку через виноградник.
По веселой швабской долине и реке бежали золотыми каскадами виноградные побеги. Проходя мимо, Мюллер с любовью поправил несколько купавшихся в пыли гроздей винограда.
Вальтер шел за своим спасителем бледный, тяжело дыша.
— Спасибо тебе, дядя! — наконец вымолвил он. — Без тебя было бы мне плохо. Нынче ты единственный человек, который предложил мне кров. Все боятся бродячего менестреля
[83].
— Пожалуй, ты и прав. Между бродячими людьми завелось немало воров. Ну да ладно… Хорошо, говорю, что я остался ночевать в городе, куда носил подать, чтобы не терять рабочего дня… А вот под горой мой домишко, на краю деревни. Сейчас и дома…
Клаусу Мюллеру отворил дверь двенадцатилетний мальчик и повис у него на шее:
— Наконец-то ты пришел, батюшка! А мы с мамой так боялись, что тебя убили дорогой, мы с вечера долго не ложились и…
— Это чуть не убили не меня, Мартин, а вот этого молодца. Впусти его да дай скорее перекусить.
Мартин исподлобья покосился на менестреля и побежал вперед, к матери, которая выпускала на пастбище корову. А через час подкрепившийся пищей Вальтер работал рядом с Мартином на винограднике, помогал ему свозить в тачке сухие побеги и обрезать созревшие лозы.
Мальчик весело болтал и просил гостя:
— Ты менестрель — значит, помнишь много песен. Спой мне вечером, когда кончим работу, самую лучшую песню, а за это…
— А за это, Мартин?..
— А за это я сорву для тебя самую лучшую кисть винограда и дам тебе под голову, когда ты ляжешь спать, мою щечную
[84] подушку, и ты будешь спать, как рыцарь, на орлином пуху.
Пламя очага ярко пылало. Возле него в ожидании ужина собралась вся семья Клауса Мюллера: старый его отец Ганс, Мартин и большая серая кошка. Тут же сидел Вальтер и рассказывал, пока маленькая коренастая фрау Мюллер мешала ложкой похлебку в котле, у очага.
Вальтер говорил:
— Так вот, дядя Клаус, я иду искать замок великого благородного рыцаря графа Ульриха фон Вейлера, того Ульриха, род которого воспевали мои деды и прадеды.
В это время дверь открылась, и с порога зазвучал густой голос:
— Стоит ли воспевать рыцарей, дружище! На то ли дана лютня менестрелю?
Вальтер перестал перебирать струны виолы и обернулся.
— Добро пожаловать, сосед Яклейн Рорбах! — встретил гостя Клаус. — Садись к нашему столу. Хорошему человеку мы всегда рады. А что до графа Ульриха фон Вейлера, то это мой исконный господин, которого я обязан почитать и любить, как его покорный виллан.
— Спасибо за привет! — отвечал Рорбах. — Я к тебе на перепутье. Нынче в ночь мне надо быть в Гейльбронне, и я зашел только попросить у тебя напиться.
Клаус Мюллер замахал руками:
— И охота тебе ходить в Гейльбронн! Там нынче бунтари поднимают народ и толкуют невесть что: не надо, мол, повиноваться господам, платить налоги да мало ли еще что!.. С твоей горячей головой скажешь лишнее слово — и попадешь в беду.
— Я не очень-то из трусливого десятка, — отвечал Рорбах, допивая кружку с водой и садясь на скамью. — А ну-ка, занятно, чем так пленил менестреля Ульрих фон Вейлер? Впрочем, молодец говорит, что и его деды и прадеды воспевали славный род Вейлеров — и деды и прадеды были куплены благородными господами. Надо же прислужиться…
Вальтер вспыхнул и вскочил.
— Мы свободны! — запальчиво крикнул он. — Еще не было в нашем роду таких, что прислуживаются. Мы пели кому хотели и о чем хотели; мы бродили по всему свету и кормились песней; мы служили у знаменитейших миннезингеров и трубадуров
[85]и знали наизусть творения самых славных, самых знаменитых. Мы выучивали их. От отца к сыну переходили славные песни, и среди них было много о чудесных подвигах благородных рыцарей фон Вейлеров. Но мы пели о них не потому, что были подкуплены, — наша душа просила этих песен. Вот постой, я спою тебе о славном отце рыцаря Ульриха фон Вейлера. Слушай;
В светлом шлеме на коне могучем
Ты летишь, как громовая туча.
Гнев твой страшен для врагов, мой рыцарь,
Налетаешь ты на них быстрее птицы.
Взгляд твой страшен тем, кто честь твою затронул.
В небе ждет тебя нетленная корона…
Ты спасаешь, рыцарь, всех невинных,
И на знамени твоем старинном
Вышит герб искусною рукою
Дамы нежной и прекрасною собою.
И на нем есть надпись в золоченой раме:
"Верность клятве — рыцарю и даме".
Старый Ганс Мюллер стер скатившуюся слезу.
— Немного-то я понял… А жалостно, — прошамкал он. — Эх, хорошо, сынок, хорошо ты поешь! Помню, брат мой положил голову за покойного батюшку нынешнего господина, когда тот поссорился из-за наследства со своим двоюродным братом. Да, так помирали мы за своих господ. Так уж испокон веков установлено.
Клаус тихо сказал:
— Честный виллан должен служить верой и правдой своему господину, и между Мюллерами не было изменников.
Рорбах поднялся.
— Эх, вы! — презрительно вырвалось у него. — Меня не удивляет, что добрая половина наших крестьян забыла о своих правах, привыкнув к господской плетке. Они ведь только тогда опомнятся, эти безумцы, когда их уж очень крепко заденет господская плетка. А вот что свободный человек идет отыскивать себе золоченый кнут — это забавно! Прощайте. У нас песни другие, и мы их поем громко и весело, когда идем поднимать мужиков против господ. Мы поем:
Много нас, смелых и вольных,
Дружно пойдет на врагов!
Много, отвагою полны,
Скосим мы барских голов!..
Фрау Мюллер оторвалась от очага и с ужасом крикнула:
— Клаус, не слушай его, не слушай! Мы были всегда верными своим господам.
Рорбах засмеялся с порога:
— Прощайте!.. А когда из твоей головы выскочит рыцарская дурь, менестрель, поищи народное Ясное ополчение Яклейна Рорбаха и приходи подбодрять товарищей, только другими песнями.
В замке графа фон Вейлера с раннего утра толпятся гости. Один за другим подъезжают рыцари и дамы на великолепных лошадях в драгоценной сбруе. На замковом дворе слышится лай спущенных охотничьих собак, звуки охотничьего рога и крики доезжачих. Сам граф в зеленом бархатном костюме гарцует на коне рядом с прекрасной дамой. Шарф этой дамы он носит на древке своего знамени, ради нее он поклялся отдать жизнь.
— Что это там? Посмотрите, граф, — говорит прекрасная дама и показывает рукой в длинной перчатке на стоящую неподвижно у замковой стены фигуру юноши в поношенном дорожном костюме. — Это менестрель… У него виола. Я люблю менестрелей. И он красив. У него голубые глаза и золотые кудри, как у девочки. Я люблю менестрелей. Пусть он споет сегодня на вашем празднике, граф…
— Все будет, как мне приказала прекрасная баронесса Альгейда… Эй, кто там! Проводи менестреля, угости на славу, не жалея ничего: дай ему отдохнуть на мягкой постели, дай лучшее платье из платьев моих менестрелей, и пусть он готовит новую песню в честь прекрасной баронессы Альгейды.
Кавалькада охотников пронеслась по мосту и скрылась за воротами замка, а Вальтер Фогель пошел за дворецким в замок.
Он думал о том, как добр и щедр граф Вейлер и как прекрасна баронесса Альгейда.
Вечером был пир вернувшихся с охоты рыцарей.
Вальтер в ярко-красном бархатном костюме стоял перед столом, на котором блестело золото и серебро блюд и кубков, среди зала, залитого ярким светом восковых свечей. Он получил кубок крепкого вина из нежных рук прекрасной баронессы Альгейды и, перебирая струны виолы, запел.
Вальтер пел о том, что баронесса Альгейда прекраснее всех женщин на свете, что из своих золотых кудрей выдернула она тонкие, как шелк, нити и вышила знамя для славного рыцаря Ульриха Вейлера, что с этим знаменем он пойдет в поход на неверных сарацинов
[86] и победа будет за ним, потому что каждый волос из волшебных кудрей прекрасной дамы приносит победу…
Рыцари кричали от восторга, а баронесса Альгейда дала Вальтеру в награду застежку с рубиновым глазком из своей перевязи.
Граф сказал, чтобы Вальтер остался у него пожить, обещая ему жалованье и подарки.
Вальтер смотрел, как танцевали гости, вдыхал аромат их духов, слышал шелест шелка и бархата их платьев, и голова его кружилась.
Когда баронесса Альгейда ушла, утомившись от танцев, а за нею покинули залу другие дамы, пир не кончился. В зале остались одни мужчины и продолжали пить.
Тут уже Вальтер увидел другое. В залу ввалились карлы, шуты, уродцы и, кривляясь, подняли вой, пляску и безобразное мяуканье. Высокородные гости смеялись, но один из уродцев, прыгая, споткнулся и налетел на рыцаря. И тот ударил его ногой так, что все лицо уродца залило кровью.
Шут отошел, вытирая кровь, и выплюнул изо рта несколько зубов.
Гости смеялись и продолжали веселиться.
Граф ничего не сказал, даже не пожалел обиженного. Он только досадливо крикнул:
— Пшел! Убрать его… У, увалень! Он запачкал кровью пол!
Шут ушел, утирая слезы. Рыцари удивлялись: разве шуты плачут? Ведь на их уродливых лицах навсегда застыла улыбка. Их обязанность — улыбаться.
К утру Вальтер увидел, как изящные рыцари, а с ними и цвет рыцарства — граф Ульрих фон Вейлер, валялись под столом пьяные и слуги уносили их на перины из орлиного пуха.
— Ты что-то выдохся, точно флакон с духами, Вальтер, — говорил недовольно граф. — Твои песни стали вялые, однообразные, скучные. Скажи, я тебе плохо плачу?
Он сидел у окна и смотрел в долину, где за горизонтом пряталось солнце, а менестрель поместился, как всегда, на подушке у его ног.
— Я всем доволен, но я разучился здесь слагать свои песни… Должно быть, я соскучился по долине, ваша милость, или стал плохим менестрелем. Отпустите меня.
— Но я не хочу, чтобы ты уходил! Ты понравился баронессе Альгейде, а все, что ей нравится, должно быть в моем замке.
Вальтер вздохнул, уныло посмотрел на небо, где реяли свободные ласточки, и взял жалобный аккорд на виоле. Граф молча слушал его.
А когда зашло солнце и рыцарь отпустил его, он пошел в подвал, где собирались слуги.
Стряпуха, чистившая рыбу к ужину, сердито говорила:
— Знаем мы, как он добр и благороден, наш господин! Знаем мы, как он любит баронессу Альгейду! То же было и с покойной графинюшкой, которую я выкормила своей грудью. Пока не женился на ней, носил ее шарф на своем знамени, портреты на груди, а как женился — точил, что ржа железо, пока не свел в могилу… И померла-то она потому, что испугалась, когда он ворвался к ней пьяный, с перепачканными кровью руками и принес ей отрубленную голову своего двоюродного брата, который был раньше ее женихом. А спросите-ка у Иоганна-егеря, как граф разорил за налоги всю его деревню… Там продавали последнюю скотину.
Повар, укладывавший рыбу на большую сковороду, заметил Вальтера на лестнице подвала и со страхом прошептал:
— Тсс, менестрель…
Прислуга боялась, что Вальтер донесет о слышанном. Он вспыхнул и запальчиво крикнул:
— Менестрели не были доносчиками, приятель!
— В самом деле, — вмешался конюх Филипп, — сколько раз он слышал здесь наши речи о господине и никогда не доносил…
Тогда Вальтер страстно заговорил:
— Я вольный певец и никогда не запятнаю совести доносом. Но поймите… Я шел сюда поклониться могучему рыцарю фон Вейлеру, которого привык чтить с детства, и я узнаю такие вещи, от которых хочется бежать сломя голову.
— И тебе лучше скорее бежать, — печально сказал Филипп. — Видел ты там, на замковой стене, башню с широкими зубцами, где наверху большая выбоина, а над нею гнезда стрижей? Если бы ты знал, сколько менестрелей, попробовавших говорить правду или просто не угодивших гордому графу, погибло там! Все стены этой башни исчерчены их песнями. Здесь в замке, нельзя говорить правду, Вальтер Фогель, а ты хочешь петь свободно, как птица… Недаром же ты и зовешься Фогель
[87]. Улетай отсюда — и скорее!
— Но ворота замка на запоре, и я здесь пленник, — прошептал Вальтер. — Граф добровольно не отпустит меня.
Конюх наклонился к нему и шепнул чуть слышно:
— Когда захочешь бежать, скажи мне — и я тебе помогу.
Вальтер кивнул головой.
Филипп рассказал ему про набеги рыцарей фон Вейлер на соседей; про то, как некоторые из рыцарей даже разбойничают по дорогам; про то, что делалось в долине. Филипп указал в сторону маленьких домиков внизу.
— Не проходит ни одного года, чтобы в долине не были смяты крестьянские поля барской охотой. И еще этой осенью благородный рыцарь травил лисиц на виноградниках "Золотого улья". Смяли дочиста…
В замковом дворе, за конюшнями, шумела толпа. Собиралась вся челядь, в ворота вводили кого-то. И сразу двор наполнился стонами и воплями.
— Вот еще, — сказал Филипп, — привели. Вчера в "Золотом улье" у реки поймали мальчишку, а мальчишка, оказалось, словил с десяток раков
[88]. Граф велел схватить отца мальчишки и запороть его до смерти на площади в Гейльбронне, чтобы все в округе помнили, как вилланы едят раков. А судьи ему отказали. Видишь ли, за десяток раков даже продажные судьи не хотели убивать человека. Верно, теперь сюда привели его на расправу. Эх, кабы всем нам уйти в Ясное ополчение к Рорбаху!
Это Филипп сказал совсем шепотом. Вальтер второй раз уже слышал о Ясном ополчении Рорбаха. Но сейчас он не думал над словами Филиппа — он бежал вместе с графской челядью к колодцу, из которого брали воду для скотины.
На мощенном камнем дворе собралась толпа. Из замка вышел граф и неторопливой, величавой поступью подошел к колодцу. Толпа челяди расступилась. Вальтер остолбенел… Перед ним на камнях двора, со скрученными назад руками, на коленях, был Клаус Мюллер, с его загорелым лицом, на котором ясным светом сияли честные, детски простодушные глаза.
Граф подошел к нему вплотную и засмеялся.
— А ну, покажите, где этот лакомка, что не может сесть за стол без ракового соуса! — сказал он. — Иди сюда, ближе!
И он потянул Клауса за бороду. Вальтер бросился вперед.
— Ваша милость, — закричал он, — да ведь это Клаус, честный Клаус, что спас меня от смерти и дал мне приют, когда меня все гнали! Простите его, и я спою песню о вашем великодушии.
Но граф расхохотался:
— Ты споешь мне песню о моих подвигах на войне — менестрели не слагают песен о рыцарях и вилланах, да я и не нуждаюсь в таких песнях… Эй ты, лакомка! Об тебя не захотели пачкать свои руки гейльброннские палачи, на тебя не хотел тратить время городской судья, так я тебя поручу моим людишкам.
Лицо у Клауса было белее его рубахи, губы тряслись, а из груди вырывались полуслова-полустоны.
Граф хлопнул в ладоши:
— Эй вы, псари, кто там есть! В колодец его! Там он половит славных раков. Назло городским судьям. Они узнают, какова воля графа фон Вейлера.
Здоровенный детина-егерь подтащил упиравшегося Клауса к краю колодца; за ним подъехал доезжачий, и они столкнули Клауса в черную яму. Слышны были стон да бульканье воды. В момент падения глаза Клауса и Вальтера встретились, и этот взгляд для Вальтера был хуже упрека.
Он закрыл лицо руками и бросился бежать в конюшню. Там, зарывшись в солому, Вальтер пролежал до ночи, и ему все слышались бульканье воды и стоны.
Ночью его нашел в соломе Филипп. Он понял все без слов. Филипп принес сумку Вальтера, которую взял в его каморке.
— Вот тебе твои вещи, товарищ. Здесь виола… Собирайся в путь! На заре мы уйдем вместе. Я поведу с тобой коней к кузнецу. Тебе придется надеть вот эту рубаху.
И он бросил менестрелю рубаху своего помощника.
— Куда мы пойдем?
— В Ясное ополчение. Там пригодятся графские кони. Говорят, Рорбах поклялся не оставить камня на камне в рыцарских гнездах.
На заре они ушли из замка… Сначала зашли в "Золотой улей", в избу Мюллеров. Они застали всю семью в сборе, возле потухшего очага. Старый Мюллер повторял:
— За что? Ведь мой родной брат сложил голову за графа! Ох, уж лучше бы меня, старого, меня…
А Мартин плакал:
— Это из-за меня убили отца, мама!
Все вздрогнули, когда открылась дверь. Неужели это граф прислал за мальчиком? Срубив дерево, надо было покончить и с побегами…
Вальтер крикнул с порога своим звонким голосом.
— Не бойтесь, добрые люди! Это я, Вальтер Фогель, менестрель. Я пришел за вами. Вам уже не жить больше в этих местах, вас сгубит гнев вашего графа… А ты, мальчик, послужил невольной причиной смерти отца. Иди за нами в Ясное ополчение Яклейна Рорбаха — там вы все найдете защиту.
В тот же день они двинулись по дороге в Гейльбронн, а две лошади везли жалкий деревенский скарб. Вальтер держал за руку Мартина. У Мартина было решительное выражение лица. И казалось, он сразу сделался взрослым. Позади, опустив голову, покорно плелся старый Ганс Мюллер, опираясь на руку невестки.
Вальтер поднял глаза к небу и запел:
Слава тем, кто смело встал
Против гнета и насилья,
Кто сквозь бурю и грозу
Мчится ввысь, расправив крылья!
IV. ЗЕМЛЯ ЗАГОВОРИЛА
В суровый осенний день армия изгнанников, с Мюнцером и Пфейффером во главе, подходила к столице Франконии — Нюрнбергу. По дороге, на постоялых дворах и кабачках — всюду встречались им возбужденные толпы крестьян, толковавшие о народной мести. Они бродили по всей Германии, поднимая народ к восстанию.
В Нюрнберге Мюнцер остановился у книжного торговца Иоганна Гута; товарищей его приютили другие анабаптисты. Едва появился в Нюрнберге Мюнцер, как к нему стали стекаться массы крестьян, жаждавших проповеди, но он объявил, что пришел в Нюрнберг не проповедовать, а издавать свои сочинения. На первых же порах он выпустил послание Лютеру.
"Ты сам еще слеп, а хочешь руководить миром, — писал ему Мюнцер. — Ты смешал христианство с разными лжеучениями, а потому не можешь судить о нем; оттого-то ты и лицемеришь перед государями. Ты думаешь, что все уже прекрасно оттого, что ты приобрел себе славу, но знаешь ли, что ты усилил власть безбожных злодеев и помог им держаться на старом пути?.."
Все экземпляры этого сочинения, изданного Гутом, были отобраны по распоряжению нюрнбергского совета; подмастерье, печатавший его, был посажен в тюрьму, и Мюнцеру пришлось покинуть город. Вместе с Пфейффером и некоторыми товарищами он направился в Эльзас и в Швейцарию, оттуда — в Шварцвальд и в Верхнюю Германию, всюду распространяя свое учение при помощи горячих приверженцев — анабаптистов.
Кровь и слезы лились по всей Германии. Жизнь угнетенного стала цениться дешево: он мог лишиться ее за малейшую безделицу.
С 1518 до 1523 года в Шварцвальде и в Верхней Швабии разразился целый ряд крестьянских бунтов; особенно угрожающие размеры приняли они с весны 1524 года. Крестьяне графства Штюлинген решительно отказались платить подати и большими отрядами направились к городу Вальдсгуту. Здесь они объединились в союз с горожанами. Союз разослал по всей Германии гонцов, вербовавших ему новых членов.
Восстание распространялось все шире и шире. Дворян охватил ужас. Все сколько-нибудь значительные военные отряды верхнешвабских дворян были отправлены в Италию, где император вел войну с французским королем Франциском I. Дворяне остались без денег и без солдат и вынуждены были прибегнуть к мирным переговорам с крестьянами, чтобы выиграть время и собраться с силами. Крестьяне дали слово не начинать наступательных действий. А в это время эрцгерцог Фердинанд писал своим комиссарам:
"Следует, где только можно, хватать крестьян и непослушных подданных, поднимать на дыбу и пытать иными способами… без милосердия опустошать, разрушать и жечь их дома, имения и имущества, а у беглых зачинщиков мятежа, не ограничиваясь истреблением имущества, выгонять из страны их жен и детей".
Швабский союз дворян предлагал крестьянам свое посредничество, продолжая на деле также угнетать подвластные им народные массы. Впрочем, крестьянские войска разбрелись в ожидании третейского суда, предварительно заявив о своих правах. Они требовали упразднения охоты, портящей их посевы, барщины, стеснительных податей и вообще барских привилегий, защиты от произвольного заключения в тюрьму, от несправедливости судей.
Но дворянство до решения третейского суда не ослабило своей тирании. Тогда крестьяне снова восстали. Герцог Ульрих Опальный, изгнанный в 1519 году из Вюртемберга, решил при помощи крестьян вернуть свое герцогство. В январе уже вся страна от Дуная до Рейна и Леха была объята пламенем восстания. Крестьяне, последовавшие за Ульрихом благодаря его громким обещаниям, скоро убедились, что он вовсе не думает об отмене крепостной зависимости и вообще совершенно пренебрегает их интересами, и покинули его. Покинули его также и наемные швейцарцы, которым Ульриху нечем было платить.
В это время дворяне собрали деньги и значительное войско. Глава швабского союза Георг Трухзес был выбран главнокомандующим. Он поспешил успокоить письменными обещаниями некоторые крестьянские общины, поклялся дать полное прощение всем восставшим и защитить тех, кого притесняют господа. В то же время он послал молодого графа Людвига фон Гельфенштейна занять вюртембергскую столицу Штутгарт и не допустить туда Ульриха. Ульриху пришлось бежать, распустив последние остатки своего войска.
А восстания не утихали… Недостаток организованности и продовольствия сильно вредил народному делу. Вполне сознательных людей, принадлежащих к мюнцеровской партии, было меньшинство. Если большая часть крестьян действительно искала только освобождения и улучшения своей жалкой участи, то в крестьянском лагере было немало и таких искателей приключений, которых привлекали бродячая жизнь и грабеж; они мешали дисциплине, вносили разлад в крестьянское войско и так же внезапно покидали его, как и приходили. Да и лучшая часть крестьянства нередко бросала свои отряды, готовая войти в переговоры с господами из-за ничтожной приманки. Только последователи Мюнцера были тверды, и там, где они деятельно работали, крестьяне держались стойко.
Швабский союз обманул крестьян и нарушил мир — войска двигались на подавление мятежа. А мятеж рос с каждым днем: он вспыхнул в Шварцвальде; зарево его показалось на берегах Дуная; во второй половине марта вспыхнули Вюртемберг и побережье Неккара; наконец, Оденвальд, Нижняя и Средняя Франкония. На 2 апреля было назначено всеобщее восстание.
Мятеж в Оденвальде был делом рук адвоката Венделя Гиплера с группой товарищей. Пришло время, когда он мог выместить свою обиду и обиду своих доверителей-крестьян на заносчивых и жестоких графах Гогенлоэ.
В долину Таубера, к гогенлоэвскому графству, со всех сторон потянулись толпы вооруженных крестьян. Во главе войска стал содержатель гостиницы в Беленберге, решительный Георг Метцлер, в кабачке которого собирались заговорщики.
Другим пунктом для оденвальдских заговорщиков был дом мясника Клауса Сальва в городе Эрингене, где Вендель Гиплер, вербуя союзников, старался привлечь в крестьянский лагерь дворян как сильных и искусных воинов.
2 апреля союзники-крестьяне справляли в доме горожанина Леонарда пир. Во время пира было сказано немало зажигательных речей о предстоящем выступлении. Едва настала следующая ночь, шпионы собрались известить о случившемся графов Гогенлоэ, находившихся в отлучке, но восставшие схватили посла, отобрали у него ключ от ворот, а графских ключника и старосту заперли в свином хлеву.
Среди ночного мрака прозвучал первый удар набата. Графский трубач затрубил тревогу; из городских ворот потянулись темные фигуры с дымящимися факелами, призрачные огоньки которых призывали окрестных жителей в Эринген. На рассвете к городской заставе со всех ближайших деревень повалили густые толпы народа. Члены крестьянского союза приступили к выработке требований. Они были очень умеренны.
Графы прочли бумагу и расхохотались. Они не подозревали, что восстанием руководил умный Гиплер, и считали его вздорной вспышкой, которую легко подавить.
Графский секретарь вместо ответа высокомерно потребовал, чтобы бунтовщики возвратили ему ключи и немедленно разошлись по домам. Тогда крестьяне заговорили другим языком. Их мирные переговоры превратились в решительные требования; теперь им уже не страшен был графский гнев, когда они с часу на час ждали подкрепления из неккарской долины.
Ясное ополчение Яклейна Рорбаха победоносно подвигалось к Эрингену. На пути в старинном монастыре Шонтале Метцлер со своим войском устроил главную квартиру. Здесь он поджидал отряды из долины Таубера, гогенлоэвского графства, неккарской долины и Вюртемберга.
Товарищи Метцлера беспечно пировали в кельях и на монастырском дворе, забрав брошенное бежавшими аббатом и монахами имущество. Крестьяне пили из золотой и серебряной церковной посуды, нарядившись в богатые церковные облачения, и эти наряды придавали пирушке маскарадный характер. Метцлер с благодушной улыбкой наливал товарищам вино, как делал это в былое время в своем кабачке, а монастырские крестьяне, присоединившиеся к его отряду, лихорадочно отыскивали в бумагах оброчные книги, чтобы уничтожить их.
— Не трудитесь, — робко сказал им служка, — эти книги увезены настоятелем.
Крестьяне бросились на него; служка пустился наутек.
— Охота гоняться за такой мелкой дичью! — засмеялся Метцлер. — Просто выгоните лежебоков из Шонталя — и делу конец.
С хохотом и криком восставшие крестьяне стали выгонять монахов за монастырские ворота.
Среди рева толпы звенели разбиваемые стекла в готических окнах церкви; этот шум заглушался резкими звуками разбиваемого органа; бестолково звонили колокола.
Крестьяне смеялись:
— Звони сильнее — "бедный Коонц" сегодня празднует победу над тиранами!
— Смотрите! — крикнул один из звонарей, переполнявших тесную колокольню. — Вот всадник с холма машет нам шляпой. Ландскнехт ли это, который ищет выгодной службы, или крестьянин соседней деревушки, рассчитывающий у нас дешево купить монастырское вино?
Звон сразу оборвался. По зеленому скату, покрытому виноградником, от берега реки ехал рыцарь в шлеме с огненными перьями. Впереди себя в седле он держал связанную девушку. Бросив поводья одному из сторожевых крестьян, он сказал:
— Я рыцарь Гец фон Берлихинген. Где ваш начальник?
И вот они стояли посреди монастырского двора друг против друга — громадный, могучий Гец фон Берлихинген и коренастый Георг Метцлер, и между ними было что-то общее: оба они казались воплощением большой физической силы.
— Гец фон Берлихинген Железная Рука! — многозначительно пояснил рыцарь и вытянул левую руку с искусственной кистью из железа.
— Вижу, — не без любопытства отвечал Георг Метцлер. — Ну, а что вам угодно от мужиков, благородный рыцарь?
Гец громко расхохотался и хлопнул Метцлера по плечу:
— Брось болтать пустое! Да давай скорее вина — промочить горло! И гостеприимен же ты!
Он разом выпил поднесенное ему вино.
— Пожалуй, выпив из этого монастырского ковша, я сразу сделаюсь святым! — весело смеялся рыцарь. — А ведь мы всегда жили в мире, я и народ, а? Я не меньше, чем вы, ненавижу князей-епископов, оттого и не побоялся явиться к вам, один, без защиты друзей или слуг. — Он потряс руку Метцлера и продолжал. — Я уверен, что вы оставите в покое замки моих братьев, хотя наши крепостные и вступили в ваше войско. Впрочем, я не препятствую им. Отчего бы не поиграть с копьем! Во всяком случае, из дружбы, я уверен, вы оставите в покое могилы моих предков, а в задаток дружбы я привез вам молодую девицу, которую поймал в своем саду. Должно быть, эта черноглазая плутовка сбила с толку немало моих слуг, склоняя их в сторону мятежа. А ну-ка, развяжите ее. Да не узнает ли ее кто-нибудь из здешних людей?
Развязанная девушка смело выступила вперед:
— Меня зовут Польди; я из Альтштедта и, по приказанию брата Томаса Мюнцера, ходила из страны в страну, вербуя решительных людей для восстания.
— Это наша! — весело крикнул Метцлер. — Оставайся, Польди, или как там тебя зовут… Отчего бы, в самом деле, девушке не сражаться наряду с мужчинами!.. Ну, а вам я вот что скажу, господин рыцарь Железная Рука: мы не тронем ваших замков, но только и вы должны нам помогать. Брат народа — так брат!
Гец подумал и тряхнул головой:
— Ладно! Гец фон Берлихинген никогда не отказывался от боевой потехи! За мной поедет немало товарищей рыцарей. Но только, друзья, мне нужно собраться и кликнуть боевой клич. Я для вас сейчас лишний. Когда вы стянете все свои силы, придите за рыцарем Железная Рука, он пойдет с вами.
И, вскочив на коня, он дал ему шпоры, долго еще оглядываясь назад.
Гец фон Берлихинген, вечно враждовавший с князьями и духовенством, искатель приключений, не прочь был заступиться за крестьян, хотя на первом плане ставил интересы своего сословия. Без войны он не мог жить. Когда много лет назад в одном сражении ему отрубили кисть левой руки, он чуть не умер от тоски и ожил, придумав механизм для искусственной железной руки.
Дав согласие крестьянам присоединиться к их войску, он в душе лелеял мечту получить при помощи вилланов как можно больше выгоды для себя. Он уже мечтал, как во всей Германии будет свергнута власть князей и духовенства и восторжествует рыцарство…
Первыми пришли в Шонталь соседние галльские крестьяне. Они совершенно не умели обращаться с оружием и тащили его за собой на повозках вместе с хлебом, крупой, курами и мешками муки.
Вслед за галльскими крестьянами к Шонталю спешило Ясное ополчение Яклейна Рорбаха. В стройном порядке подступило оно к полям крепости Гибельштадта. Приставив руку к глазам, Рорбах вглядывался в сторожевую башню на зубчатых стенах Гибельштадта.
— Смотри, Кетерле, — сказал он взволнованно, — видишь, на башне поднят наш флаг!
— Вижу, — спокойно отвечала девушка, — и ворота открыты настежь. Это ловушка.
— А если там свои? Подумай, Кетерле: завладеть сильной крепостью — ведь это было бы для нас счастьем!
Кетерле недоверчиво покачала головой:
— Почему же свои не выслали нам гонцов навстречу?
Когда Ясное ополчение по спущенному мосту вошло в ворота крепости, навстречу ему вышел владелец Гибельштадта Флориан Гейер, предки которого с незапамятных времен владели крепостью.
— Ага, рыцарь! — крикнул задорно Яклейн. — Небось струсил? А ну-ка, попробуем, крепкий ли у тебя панцирь!
Он прицелился в Гейера.
Презрительная усмешка показалась на губах рыцаря.
— Стреляй, — сказал он спокойно. — Но мне жаль тебя: тебе придется горько раскаиваться в своем поступке.
Рука Рорбаха невольно опустилась, хотя он все еще вызывающе смотрел на стройную, горделивую фигуру рыцаря.
— Чего медлишь? — гневно крикнула Кетерле и прицелилась.
Рорбах удержал ее руку:
— Постой, Кетерле. Посмотрим, что нам скажет "благородный" владелец замка.
— Твои шутки не остры, — пожал плечами Гейер. — Поверь, что носить твою войлочную шляпу гораздо легче, чем мой панцирь, хотя знаю, что вы ненавидите его.
Рорбах молчал, не находя слов. Кетерле побледнела от гнева.
— Ступай за мной, — сказал Флориан повелительно. — Ты найдешь в замке хорошо вооруженных людей, моих бывших крепостных, которых я, услышав клич восстания, стал готовить для завоевания вашей свободы. Ступай и спроси, обременял ли их Флориан Гейер податями, роскошествовал ли он; спроси, что он ел и пил и на что тратил долгие бессонные ночи… Постой! Как долго Флориан Гейер держал у себя искусных оружейников Нюрнберга и сколько ему стоила броня, изготовленная для народного дела?..
Рорбах сконфуженно опустил голову. А Кетерле отвернулась.
— Хочешь видеть, как я знатен и горд дворянством? — продолжал Флориан. — Пойди и взгляни на стены моего замка, на щит у сторожевой башни. Видишь ли ты, как усердно работал Флориан Гейер, чтобы стереть следы своего высокого рождения?.. Вон там даже обвалились кирпичи, когда мы разрушали герб Гейеров. Спроси, кстати, у моих людей, как я торжественно отрекался от своего звания, потому что только равный способен стать вам настоящим братом; спроси, как я клялся умереть за свободу обездоленных. Впрочем, я забыл — я виноват, я был убийцей: я повесил одного из моих воинов за то, что он пропил свой меч в кабаке. А за все это застрели меня.
На Рорбаха смотрели спокойные карие глаза рыцаря. Он не мог вынести этого прямого взгляда и смущенно мял в руках шляпу.
Флориан первый протянул руку, и на его смуглом лице, изборожденном глубокими преждевременными морщинами, появилась ясная, почти юношеская улыбка.
— Полно, товарищ, — сказал он бодро, — с какой стати мы перед выступлением начнем препираться? Пойдем, я покажу тебе мой Черный полк.
И он весело повел Рорбаха показывать свой отряд, а вскоре отправился вместе с Ясным ополчением Рорбаха к Шонталю.
Флориан Гейер в это время был уже далеко не молод. Большую часть своей жизни он провел в битвах. Когда волна народного движения прокатилась по всей Германии, он решил отдать остаток жизни на борьбу с угнетателями меньших братьев. По мере того как вспыхивали мятежи, он все лихорадочнее собирал войско и обучал его военным приемам. Но прямая, страстная натура Флориана была чужда половинчатых решений. Чтобы стать братом крестьян, он добровольно сбросил с себя рыцарское звание и отказался от всех его привилегий. Подъехав к Шонталю, Флориан узнал, что Гец фон Берлихинген обещал присоединиться к народному ополчению. Его лицо сделалось мрачным.
— Знаю я этого Геца, — сказал он Рорбаху. — Сегодня он готов служить вам, а завтра — вашим врагам. Он ищет только приключений и забавной боевой потехи. Не надо народу таких защитников. Народу нужны только те, которые за его права отдадут все без остатка — свободу, честь, жизнь. За что идет сражаться Гец? Я его знавал когда-то… Он хочет пересадить вас из одной клетки в другую: вырвать из рук князей и духовенства и бросить в железные руки рыцарства… Посмотрим, пойдет ли он, если ему скажут, что его имущество будет разделено поровну между вами и что ваше дело есть, в конце концов, дело полного освобождения не только от князей и попов, но и от господ вообще! Мы не остановимся на полдороге, друзья! Свергнув власть земных владык, мы вслед за этим свергнем и власть людей, которые порабощают вас благодаря своему золоту! Тогда не будет ни богатого, ни бедного, ни князя, ни холопа. Будет славная, лучезарная, как солнце, великая свобода и братство, и эту свободу должны отвоевать только те, кто в ней заинтересован, а не случайные покровители, как Гец фон Берлихинген!
В ответ на эту горячую речь послышались тихие рыдания.
То плакала девушка, слушавшая рыцаря вместе с крестьянами, толпившимися во дворе Шонталя.
— Кто это? — с удивлением спросил Гейер. — У нее длинные волосы, девичье лицо, а на голове шлем и манерка
[89] у пояса… Что надо в лагере этой девушке?
— Это Польди из Альтштедта, — отвечал, усмехнувшись, Метцлер. — Нужда заставит и девушек сражаться!
Польди отерла глаза, и они засверкали задором на раскрасневшемся от волнения лице.
— Клянусь, — крикнула она во всю полноту своего звонкого, молодого голоса, — клянусь, что я честно понесу меч за святое дело, раз с нами идут такие люди! Они готовы за нас жертвовать всем, что до сих пор казалось им таким заманчивым.
И, тряхнув головой, она побежала за оружием, которое раздавал Рорбах.
Почти в это самое время в зале гогенлоэвского замка Лангенбург сидела у окна жена графа Альбрехта, молодая графиня Гогенлоэ, в пышном атласном платье, и,
брезгливо опустив углы губ, смотрела на сумерки, легкой синевой занавешивавшие окно.
— Этого никогда не будет! — сердито говорила она своей гостье, родственнице, графине Кристофине Гогенлоэ.
— Однако уже было у нас, кузина, — мрачно отвечала Кристофина.
— Еще бы, у твоего Теодульфа! — пробормотала хозяйка, намекая на ничтожество мужа кузины, но спохватилась, встретив ее грозный взгляд.
— Он предпочел лучше протянуть руку крапивникам, чем доблестно умереть, — все так же мрачно говорила Кристофина, — а я… Штольберги никогда не кланялись вилланам. Но довольно обо мне и о Теодульфе. Я бежала — дело просто… Скажи, что будешь делать ты, если мужики придут сюда?
— Вот глупости! Ты знаешь, как смеялись над этими мятежниками Альбрехт и Георг!
Кристофина отвернулась и молча стала смотреть в окно, где сгущались голубые сумерки.
— Холодно, — сказала она, нервно поводя плечами.
— Я сейчас велю протопить.
Но никто не явился на неоднократный зов жены графа Альбрехта Гогенлоэ.
— Что это? — закричала она. — Они точно все с ума сошли! Недоставало еще, чтобы графиня стала сама топить камин!
Кристофина вдруг поднялась, бледная как смерть, указывая в окно:
— Послушай… это они… клянусь тебе! Ты слышишь рев толпы?
В ответ раздались оглушительные крики; замковые ворота распахнулись после первого требования предводителей крестьянского войска. Обе женщины бросились навстречу ворвавшейся толпе.
Стоя перед крестьянскими предводителями, жена графа Альбрехта растерянно бормотала:
— О боже мой, что вам здесь нужно? Как смеете вы врываться сюда против права и закона?.. Ганс, Фридрих, Никлас, что же вы не заступаетесь за меня? Мои родственники, высокородные…
— Знаем мы вас, высокородных! Все мы одинаково высокородные!..
Тогда она стала молить. Она обещала им, что ее муж, возвратившись из Нейнштейна, простит им мятеж и…
Яклейн Рорбах со смехом крикнул:
— А ну, братья, скрутим немного ее сиятельство мочальным поясом; жаль, что не запаслись шелковым!
— Подожди, Яклейн, — остановил его Гейер, — она не уйдет и так.
Графиня плакала.
— Пленные будут на вашей ответственности, — сказал Гейер бывшему члену эрингенского магистрата, вступившему в крестьянское войско.
В это время из ниши отделилась мрачная фигура Кристофины в трауре, который она носила по гибнувшему дворянству. Дрожа от гнева, она бросилась к Гейеру:
— Рыцарь Флориан Гейер! Ха-ха! Я вижу вас в избранном обществе!
Яклейн хотел кинуться на Кристофину, но Флориан спокойно удержал его за руку:
— Не надо, Яклейн. Мы не хотим лишней крови, графиня. Позвольте вывести вас за ворота и отправить с пропускной грамотой отсюда.
Жена графа Альбрехта, все еще не понимая истинного положения, начала говорить, как ее муж проучит бунтовщиков, и умоляла Гейера покончить мнимую вражду с Альбрехтом — прогнать "крапивников".
Ей не удалось насладиться местью. Напротив, ей довелось видеть и слышать еще немало страшных вещей. Пришлось наконец поверить в силу вилланов. "Мужики" осмелились предложить надменным графам вступить в их братство, подписав предварительно все требования. Рорбах, "этот дьявол" с берегов Нек-кара, кричал хохоча:
— Эй, брат Альбрехт и брат Георг, снимите-ка лучше перчатки, а то вам будет трудновато с барскими привычками подписать мужицкий договор! Мы скорее поставим на нем свои кресты: у нас перчатки природные!
При общем смехе графы сняли с белых рук перчатки, подписали договор и приказали выдать бунтовщикам из замка порох и пушки.
Крестьянское ополчение двинулось дальше, к Эрингену, и соединилось с отрядами Венделя Гиплера, направляясь к замку Левенштейн. Здесь крестьяне захватили братьев Левенштейн и принудили их вступить в свои ряды. В крестьянской одежде, с посохами в руках, печально шагали они, окруженные толпой.
Народное ополчение старалось теперь привлечь на свою сторону деревушки по Неккару, чтобы вся местность Вюртемберга присоединилась к союзу прежде, чем крестьянские отряды вступят во Франконию. Там решено было нанести решительный удар тирании.
V. В ЗАМКЕ ГЕЛЬФЕНШТЕЙН
Молодая графиня Маргарита фон Гельфенштейн оторвалась от колыбели сына, которого забавляла погремушкой, и сказала маленькому кудрявому пажу:
— Ступай, Берти, на башню и посмотри, не едет ли граф… да скорее!
Паж со всех ног побежал исполнять приказание, а она вынула зеркальце из расшитого мешочка, висевшего у пояса, и, улыбаясь, стала в него смотреться:
— Хорошо я причесалась, Лэелин? Хорошо, няня Марта?
— Прекрасно, прекрасно, — подхватила с умилением старая нянька, — настоящая королева. Царственная кровь-то всегда видна!
Графиня Маргарита довольно улыбнулась: она была дочерью покойного императора Максимилиана.
Оторвавшись от зеркала, графиня внимательно посмотрела на молоденькую сестру мужа — Лэелин. Почему она всегда становится печальной, когда поет свои песни Мельхиор Ноннермахер, и говорит, что они доходят до глубины ее сердца? А вчера сказала, что если бы Мельхиор родился в знатной семье, он бы считался самым красивым рыцарем.
— Знаешь, Лэелин, — сказала графиня Маргарита девушке, — какие новости рассказывает шут Кнопф? Будто рыцарь Флориан Гейер вступил в войско бунтовщиков и проповедует, что все люди равны. Смешно! Значит, он, благородный рыцарь, может породниться со свинопасом, мужиком, а Мельхиор Ноннермахер может смело просить руки графини фон Гельфенштейн!
Лэелин вспыхнула, но промолчала.
— Едут! — звонко крикнул Берти, вбегая в комнату.
Графиня оставила колыбель и поспешила навстречу мужу, который приехал домой из соседнего Вейнсберга. По предписанию военного совета он должен был охранять этот город. Рог возвестил о прибытии графа Людвига. С ним были гости — рыцари.
Под звуки музыки длинная процессия направилась в зал к обеденному столу. В числе гостей не было дам, но зато было несколько рыцарей, охранявших в союзе с наместником Вейнсберг. Когда все уселись за стол, шут Кнопф (Пуговица), маленький и уродливый, уселся у ног хозяина дома и стал преуморительно перебирать бесконечные колокольчики, которыми был увешан его пестрый костюм.
Графский обед отличался изысканностью блюд — Гельфенштейны славились своей расточительностью. Во время обеда вейнсбергские охранители оживленно рассказывали о новостях; разговор вертелся главным образом вокруг крестьянских волнений.
— Мятеж не утихает? — спрашивала графиня Маргарита.
— Не стоит пугаться, дорогая, — отвечал граф, — он скоро прекратится. Трухзес справляется с этой дрянью умелой рукой.
— Еще бы! — подхватил один из рыцарей. — Он ненавидит их всей душой и решительно выжигает крестьянские селения, а жителей предает смерти. Особенно достается зачинщикам мятежа и проповедникам. Проклятое отродье бунтарей! У него, как у стоглавой гидры, едва отрубят одну голову, вырастает другая, а то и две, да еще зубастее! Но это ничего не значит…
— Конечно, — кивнул головой граф Людвиг, — при Вурцахе наши зарезали семь тысяч негодяев! А много они взяли со своим герцогом Ульрихом?
Он весело смеялся, показывая белые крепкие зубы, и серебряные четки, с которыми он никогда не расставался, звенели от смеха. Граф Дидрих фон Вейлер, друг графа Гельфенштейна, лукаво подмигнул ему:
— Нечего скромничать, Людвиг… Вы спросите, графиня, как он сам строг, справедлив и храбр.
— Ха-ха! — засмеялся самодовольно граф Гельфенштейн, крутя свои красивые усы. — Недаром же наш канцлер говорил: "Мы скоро так расправимся с крестьянами, что их еретическое евангелие пропадет в несколько дней". Мне противна братская любовь, о которой толкует мужичье. Я и с родными-то, кровными братьями неохотно поделился, а тут извольте делиться с чужими, да еще с хамами!
Взрыв одобрительного смеха был ответом на эти слова.
— Вешать, резать, душить, жечь, — продолжал Гельфенштейн, — вот песенка, которую поют постоянно мои палачи. У меня, как у наместника-усмирителя, много работы!
— Правда ли, что это делалось и во время переговоров с крестьянами? — наивно спросила графиня Маргарита.
— Какие могут быть переговоры с крестьянами! — презрительно пожал плечами Гельфенштейн и начал рассказывать подробности казней, но скоро остановился, заметив недовольное выражение на лицах женщин.
— Я забыл, что женщины не любят военных рассказов, — сказал снисходительно граф Людвиг. — Лучше займемся музыкой. Эй, Кнопф, тащи сюда Мельхиора!
Мелочно-честолюбивый шут жаждал быть везде незаменимой забавой и ревновал своего хозяина ко всем музыкантам, ко всем забавникам. Через минуту он притащил за полу музыканта Мельхиора Ноннермахера и от злости тихонько пощипывал ему ногу.
— Ага, Мельхиор! — ласково сказал музыканту граф. — Сыграй нам что-нибудь.
Гибкие пальцы Мельхиора быстро забегали по отверстиям флейты, наигрывая веселый, отрывистый напев. И когда, отрывая губы от флейты, он скороговоркой произносил отдельные фразы — боевой призыв, хвалу геройским подвигам победителя против неверных сарацинов, — Гельфенштейн улыбался. Мельхиор кончил. Граф протянул ему серебряный кубок, полный вина:
— Спасибо, Мельхиор. Возьми себе кубок на память за песню и ступай.
Мельхиор выпил, раскраснелся и, кланяясь, бросил робкий взгляд на Лэелин. Он пел только для нее.
Граф Людвиг был в ударе, пил, хохотал, а потом увел многих гостей в соседнюю комнату играть в кости. Граф Дидрих фон Вейлер нашептывал в это время графине пошлые любезности, говорил о предстоящих после окончания поста балах в городе и у соседей и смеялся над теми, кто повесил нос и лишает себя удовольствий из-за бунта ничтожных "мужиков".
Лэелин незаметно вышла из зала и все думала о том, что сказала ей графиня Маргарита о Флориане Гейере.
Она прошла мимо детской. Там было темно, только у огромного киота теплилась лампада. Ребенок спал. В соседней гардеробной слышался шепот. Она узнала голос няньки. Другой был сдержанный, переходный голос подростка. При слабом свете лампады Лэелин разглядела внука няни, молоденького трубача Ганса.
— Ты толкуешь глупости, Ганс, — шептала старуха.
— Вот увидишь сама, бабушка. И я пришел тебя предупредить. Вся страна поднялась! Уходи отсюда, пока не поздно…
— Нет, ты рехнулся, внучек! Куда я пойду от своих природных господ? Ведь ты же сам слышал в церкви, что власть господам дана от бога.
Трубач засмеялся:
— Слышать-то слышал, оттого и решил наплевать на свою службу и быть вольным.
Лэелин, притаившаяся за тяжелой портьерой, услышала крик возмущения:
— Великий грех берешь ты на душу, Ганс!
Старуха заплакала.
— А он… — прошептал злобно внук, — он не берет великого греха на душу, когда вешает, душит и режет, когда гноит и пытает до смерти живых людей там, в подвалах и башнях замка? В эту ночь, — продолжал шептать прерывисто трубач, — он собирается покончить со всеми, кто сидит в темницах. Он говорит, что надо очистить тюрьмы, чтобы на днях наполнить их снова и усмирить казнью бунтовщиков. Только… только граф Гельфенштейн скоро сам будет там сидеть!
— Ганс! Ганс!.. Прости, господи, раба, восставшего на своего господина!
— В угловой башне сидит твой родной брат, старый Маттерн, бабка… и отец Мельхиора, музыканта.
Старуха беспомощно заплакала:
— Враг человеческий и им отуманил разум.
— От сырости, говорил тюремщик, у них выкрошились зубы. От мрака они почти ослепли.
— Нет сил слушать, Ганс… Я буду молиться всю ночь об их душах…
В это время из детской послышался плач ребенка, и нянька бросилась к нему, а трубач ушел.
У Лэелин кружилась голова. Отец Мельхиора слепнет в башне… Бедный Мельхиор! Как тень, металась она по всему замку. Проходя снова мимо детской, увидела няньку, укачивающую сына своего тирана под ласковые звуки старой колыбельной песни:
Спи, усни, малютка мой!
Ходит козлик под горой.
Котик песенку поет,
Золотую нить прядет…
Спи, усни, малютка мой!
Скоро вырастешь большой:
Будешь шлем литой носить,
Как траву врагов косить.
Спи, усни, малютка мой!
Ходит козлик под горой…
Глотая слезы, Лэелин побежала дальше. Она машинально спустилась вниз по лестнице, ведущей в нижний этаж замка, где помещалась многочисленная графская челядь. Может быть, она встретит Мельхиора… но зачем? Зачем? Что может она сделать? Мельхиор… Гейер… А что, если бунтари победят и она сможет как равного признать Мельхиора? Он так смотрел на нее. Он пел только для нее… И она… она любит его.
В раскрытую дверь ей был виден пылающий огромный очаг. Повара с поварятами возились у кастрюль и котлов; девушки чистили овощи и огрызались на шутки собравшейся дворни. Здесь были и бравый оруженосец графа Людвига, и маленький паж Берти с веселыми, плутовскими глазами и ямочками на щеках, и трубач Ганс, и Мослинг, юродивый из Вейнсберга, с рыбьими глазами и вечно раскрытым ртом; был здесь и он, юный музыкант Мельхиор Ноннермахер.
Все они толпились вокруг молоденького волынщика Руди. Он наигрывал веселые песенки, в такт которым служанки приплясывали с кухонными ножами в руках.
— А ну, сыграй, брат, что ты играл мне у городской стены, — попросил Ганс.
Руди улыбнулся и, проиграв на волынке какой-то грозный, боевой мотив, начал петь:
Раз мужичонок ледащий в ручье благородного князя
Раков поймал на обед свой с десяток.
У благородных душа — что одуванчик на поле:
Всякий пустой ветерок в ней вызывает досаду.
Гневался князь — тотчас велел отнять у ослушника раков.
Но, увы, где ж воскресить переваренных раков из брюха виллана?
Он совет городской попросил казнить недостойного вора.
А совет отказал голову снять человеку за рака.
Тут бы песне конец, но придумал князь мудрый расправу:
И, наняв палача, он велел без суда ему с дерзким прикончить…
— Ха-ха! — засмеялся Ганс-трубач. — И за это князю поднесут хорошую свечку и высокие качели, с которых попадают прямо на небо…
— Молчи! — перебил насмешливо Мельхиор. — Пожалуй, я не должен слушать твои издевательства, потому что получил от высокородного графа Гельфенштейна награду — кубок.
— Этого бы не дали мне за мою песенку! — ответил Руди. Дворня покрыла его слова веселым смехом.
— А ну-ка, Руди, сыграй еще, — послышались голоса, — да позабористей!
— Чего еще забористее этих раков! — сказал Мельхиор. — Каждый из нас может ждать себе такую награду.
Но волынка мальчика затянула печальную, нежную песнь о Гретель — дочери нужды и горя. И чистый, звонкий голос выговаривал:
В дымной хате родилась
С горем и нуждою
И красоткой поднялась
С золотой косою.
В голосе Руди слышалась глубокая тоска:
С бедным, голодным, несчастным
Людом сроднилась она…
Он оборвал песню и опустил волынку.
— Чего ж ты не поешь? — спросил повар.
— Всего не споешь, что на сердце.
Мельхиор со вздохом поднялся. Он думал о другой красотке с золотой косой, ради которой пел на пире. Поднимаясь по лестнице, он натолкнулся на Лэелин. Оба растерялись и с волнением смотрели друг на друга. У Лэелин вдруг вырвалось неожиданно:
— Я все слышала. Я все знаю… И… и тебе нечего бояться за себя, Мельхиор… С вами рыцарь Флориан Гейер, и ты станешь рыцарем добра и правды, а я… я никогда не оставлю тебя. Ты будешь рыцарем, равным мне, хоть и рожденным "в хате горя и нужды", потому что сделаешь так, что нигде не будет ни нужды, ни горя, ни насилия…
— А пока что, — вырвалось горько у Мельхиора, — моего отца повесят сегодня ночью вместе с теми, кто сидит в угловой башне.
Лэелин закрыла лицо руками, потом отняла их и стала торопливо снимать с себя драгоценности: браслет, кольца, ожерелье из жемчуга.
— На, возьми, отдай тюремщику вместе с твоим кубком, что получил от моего брата… Он пойдет на подкуп и выпустит их всех или хоть одного твоего отца: тюремщики очень жадны. Иди, иди! Скоро ничто не разлучит нас. Я верю в рыцаря Флориана Гейера!
Она убежала, услышав шаги на лестнице.
Пробили часы. Скоро полночь.
В замке было темно. Приезжие рыцари спали. Огонь виднелся только в спальне графини Маргариты. Перед сном она разговаривала с мужем, но он слушал ее рассеянно, думая о том, исполнит ли в точности его приказание палач.
В это время послышался торопливый стук, и Гельфенштейн, отворив дверь, с удивлением увидел шута Кнопфа.
*
А внизу, на замковом дворе, две тихие, безмолвные тени ползли вдоль стены по направлению к угловой башне.
Впрочем, это было не редкостью: здесь часто бродили родственники заключенных, стараясь что-нибудь узнать о судьбе несчастных, живших на дне подвалов или затравленных собаками.
На колокольне Вейнсберга гулко пробил час. В два часа начинало светать, а с рассветом работа палача должна быть кончена.
Мельхиор пробрался к башенной лестнице внутренним ходом, известным только некоторым обитателям замка. Здесь была каморка тюремщика.
Мельхиор молча выложил на стол открывшего ему дверь старика мешок и вытряхнул из него драгоценности. При тусклом свете фонаря среди матового сияния жемчужных ниток ожерелья и золота засияли, переливаясь чудным блеском, самоцветные камни браслета и колец. Тюремщик таращил глаза на сокровища.
— Это что? — вырвалось у него глухо. Голос дрожал от волнения.
Мельхиор решительно и быстро заговорил:
— Это все тебе, дядя. Подумай, ты будешь настоящий богач!
— За что это? Ведь ты еще не сидишь у меня под замком.
— А это не за меня, а за всех, кто у тебя на попечении, в том числе и за моего отца. За одного, пожалуй, было бы слишком много.
Тюремщик молчал.
— Нечего думать. Станешь много размышлять — ничего не получишь. Ведь ты не дурак, не глухой и не слепой и, верно, знаешь о крестьянском войске, которое не сегодня-завтра обложит замок, и тогда тебя первого вздернут на веревке. Соглашайся скорее. Убери эти вещички, дай мне ключ от темницы и веревку: пожалуй, на всякий случай, следует тебя связать, как будто ты ни за что не соглашался отпустить на волю узников. Я запутаю тебя веревкой так, что тебе будет легко из нее вылезть. Ну, что, по рукам?
Тюремщик, недолго раздумывая, достал ключ и нырнул в черную бездну за узниками. Скоро в гробовом молчании он вывел около двадцати заключенных. Страж был хорошо осведомлен о положении дел в крестьянском лагере и, вероятно, сам не отказался бы дать тягу, чтобы присоединиться к евангелическому братству; к тому же на драгоценности Мельхиора он мог бы безбедно прожить остаток жизни.
Вдруг из глубины лестницы послышались голоса, и оба они — тюремщик и Мельхиор — узнали голос графа. Огни факелов замелькали близко, у самого поворота в башне. Впереди шел граф Людвиг, окруженный охраной — толпой алебардщиков, а позади — палач.
— Что здесь происходит? — раздался голос Гельфенштейна.
Он окинул глазами всю группу и крикнул тюремщику, побагровев от гнева:
— Назад, назад — и сам иди с ними! Я расправлюсь с тобой после!.. Ступай, — сказал он палачу, — сегодня не будет казни… А вы все идите за мной в вестибюль замка! Запри этих негодяев покрепче, — обратился он к одному из алебардщиков. — Я узнаю, в чем дело. Откуда эти драгоценности? Я буду беспощаден к тому, кто придумал это! Заговор против меня… против меня!..
В вестибюле замка граф чинил суд и расправу над тюремщиком и Мельхиором. На столе перед ним лежали захваченные на месте преступления драгоценности. Он их внимательно рассматривал и сразу узнал украшения Лэелин. На браслете с брильянтами был медальон с гербом Гельфенштейнов — его подарок сестре.
Он сурово сказал тюремщику:
— Ты пойдешь за дворецким, и он посадит тебя в подвал, где еще нет ни одного человека, никого, кроме крыс, а ключ от него, как и от башни, будет у меня. Пусть они все умрут голодной смертью — меньше работы палачу. За него их прикончит голод… А тебя, — он обратился к Мельхиору, — я посажу отдельно. Мне надо будет тебя, неблагодарная скотина, кое о чем порасспросить… как ты обокрал мою сестру, графиню?
Он сказал последнюю фразу раздельно, упирая на каждое слово, желая этим показать, что у ничтожного виллана не могли появиться драгоценности иным способом, кроме кражи. И крикнул вслед уходившему с тюремщиком дворецкому:
— Новый кафтан Пуговице за преданность! Он все видит, все слышит — он глаза и уши своего господина!
Да, Кнопф-Пуговица все слышал и видел и вовремя донес графу.
С Лэелин было у Гельфенштейна иное объяснение, решительное и короткое:
— Унизительно даже и предполагать, что благородная девушка может заметить виллана, хотя бы он и замечательно пел, а потому я тебя ни о чем не расспрашиваю. У меня ты была слишком свободна, а это не годится. С зарей тебя увезут в монастырь к твоей тетке — сестре Агате, подальше, в монастырь под Штутгарт. Там ты будешь отмаливать свой грех — идти против родного брата…
— Да нет же, Людвиг, я только…
— Ни слова больше. Сестра Агата — строгой святости и сумеет тебя обуздать.
— Но Мельхиор не виноват…
— Молчать, бесстыдница!
Через час закрытая повозка увезла Лэелин в монастырь. Мельхиора посадили под стражу в одинокую темницу.
Графиня Маргарита, заплаканная, дрожащая, глядя в окно, за которым скрылся возок с Лэелин, говорила мужу, сложив на груди с мольбой руки:
— Ты жесток, Людвиг, о, как ты жесток! Ты заживо скрыл в могилу, монастырь, Лэелин, а теперь посадил в темницу Мельхиора — Мельхиора с таким божественным голосом! Но подумай — это мой любимый музыкант, а ты хочешь оставить меня без музыки! Берти тоже плачет: Мельхиор начал учить его играть на виоле…
Берти утирал глаза кулаком.
Вместо ответа граф хлопнул в ладоши. Появился Пуговица и, кривляясь, подполз к ногам графа.
— Розог ему, этому Берти, любезный дурак! — крикнул в бешенстве Гельфенштейн.
Кнопф с хохотом потащил из вестибюля бедного ребенка.
В это время графу доложили, что из Вейнсберга прискакал гонец. В окрестностях было неспокойно, и требовались распоряжения наместника.
Графиня Маргарита побледнела.
— Не бойся, дорогая, — сказал граф, обнимая жену, — стены дома крепки… Эргард, — обратился он к старому дворецкому, — я поручаю тебе графиню и весь замок.
И он быстро сбежал по ступенькам во двор, где его ждала оседланная лошадь.
Никто в замке не знал, что делалось в это время в окрестностях. Восемь тысяч крестьян, вооруженных тремя тысячами ружей, с пушками и огромным обозом приближались к Вейнсбергу. Граф первым открыл военные действия, напав врасплох на передовой отряд Ясного ополчения. Тогда Яклейн Рорбах сказал товарищам:
— Отныне мщение будет нашим лозунгом!
Среди жителей Вейнсберга ходили даже преувеличенные слухи о силах крестьян, и уверенность в непобедимости графа Людвига начала здесь сильно колебаться.
Польди нашла способ связаться с городом. Она провела в лагерь одну горожанку, которая успела хитростью проскочить через крепко охраняемые ворота. Горожанка сказала, что в Вейнсберге многие стоят за ополчение и просят не покидать своих вейнсбергских братьев. Потом в лагерь явился солевар. Он умолял крестьян скорее двинуться в город и клялся, что замок охраняют только восемь вооруженных людей.
15 апреля в сумерки лазутчик донес графу, что крестьяне решили взять замок и город. Граф все еще не верил в силы осаждающих, но на всякий случай отдал спешные распоряжения для защиты. О замке он не заботился.
На другой день, в то время как граф Людвиг слушал мессу, богослужение было прервано известием, что несколько крестьянских отрядов показалось уже на Скамеечной горе — возвышенности, лежащей против Вейнсберга, — а впереди двигаются еще большие отряды. Бледный и взволнованный граф просил стороживших ворота и бойницы быть мужественными. Наконец показались два герольда от крестьян с шапкой, надетой на длинную палку. Они требовали сдачи Вейнсберга.
— Откройте огонь по этим бунтовщикам! — презрительно крикнул граф.
Один из герольдов после этого приказания был ранен, но все же оба добрались до своих отрядов.
Гельфенштейн ждал подкрепления из Штутгарта. Он видел с городской стены, как длинной черной цепью двигалось крестьянское войско; видел впереди высокую женщину со знаменем в руках.
С презрительной улыбкой крикнул граф по адресу Флориана Гейера:
— Вон свиной рыцарь!
— Он направился со своим отрядом к замку, — проговорил Дидрих фон Вейлер.
Теперь и граф Гельфенштейн вздрогнул, вспомнив о жене и сыне.
В то время как Гейер шел к замку, ополчение Яклейна Рорбаха атаковало Вейнсберг. Со стен на атакующих летел целый град камней; из отверстий бойниц их осыпали пулями и ядрами. Рорбаху показалось, что его войско дрогнуло.
— Мы погибнем, Кетерле, потому что бегство хуже смерти, а они готовы бежать…
— Ха-ха! Вы струсили, ребята? — крикнула грозно Кетерле. — Я заклинаю вас: ни одна неприятельская пуля не повредит вам! От нее падут только недостойные! Вперед! А ты, Яклейн, не должен бросать начатого дела.
В ответ на новый приступ был пущен сильный залп пуль и камней.
Тра-та-та, тра-та-ра-ра-та! — трещала дробь барабана.
— Смотрите, — крикнул трубач с городской стены, — на башне замка развеваются неприятельские знамена!
— Знамена Гейера… — пробормотал граф Людвиг. — Замок в его руках!
Бюргеры бросили охранять стены и бежали с бойниц; толпа женщин окружила графа Людвига и, рыдая, молила его сдаться. Яклейн Рорбах грозил предать город огню и мечу.
Наконец граф должен был вступить в переговоры с Рорбахом.
— Горожанам нечего бояться за свою жизнь, — отвечали крестьяне, — но рыцари все погибнут.
Священник просил пощадить графа Людвига. Ему отвечали со смехом;
— Не будет ему пощады, хотя бы он нас озолотил!
Все горожане, в том числе и граф, пытались бежать; женщины с воплями спешили отворить городские ворота. Бежать было поздно. Юродивый Мослинг давно уже разглядывал своими бесцветными, но зоркими глазами осаждавших, толпившихся у стены около госпиталя. Он кричал барабанщику:
— Ступай, братец, сюда потарахтеть на барабане! Я выкопал тебе норку!
Он работал ломом и отвалил еще несколько кирпичей от стены. Сквозь дыру устремились победители.
Уже со всех сторон в раскрытые ворота хлынули потоки крестьянского войска.
А в это время Черный полк Флориана Гейера уже находился в замке.
До последней минуты старая няня Марта не верила в возможность нападения на замок, и когда оглушительный стук ружейных прикладов раздался у самых входных дверей, она сказала графине Маргарите:
— И шумят же наши слуги, того и гляди, разбудят младенца. Не думают, что спит графское дитя!
Но не успела она еще кончить свою негодующую речь, как в детскую вошел Флориан Гейер. Старуха, сжимая кулаки, бросилась на него:
— С ума ты сошел, благородный рыцарь, связываться с крапивниками! Как смеешь ты приводить их сюда? Разве забыл, что графиня императорской крови?
Флориан приказал графине следовать за собой, и старуха, прижимая к груди плачущего мальчика, поплелась за госпожой.
Люди Гейера уже успели выпустить заключенных, которые сейчас же присоединились к крестьянскому войску.
Флориан приводил в порядок свой отряд, чтобы присоединиться к Ясному ополчению Рорбаха.
В Вейнсберге между тем шел народный суд. Горожане были арестованы, но многие рыцари, в том числе и граф Вейлер, уже были расстреляны. Гельфенштейна приговорили к самой жестокой казни: прогнать сквозь строй.
Графа Людвига вывели на луг, против нижних городских ворот. Около него стояла графиня с сыном на руках, несколько рыцарей, оруженосцев, конюхов и шут Кнопф. Рорбах прочел приговор. При фразе "прогнать сквозь строй" лицо графа покрылось мертвенной бледностью. Графиня Маргарита упала на колени перед Рорбахом и, протягивая к нему ребенка, простонала:
— Пощадите… ради ребенка! Только не этот позор…
Униженная мольба графини тронула многих из отряда Рорбаха, но Кетерле повелительно крикнула:
— Мщение за кровь семи тысяч наших братьев, погибших при Вурцахе!
Граф был третьим по счету из казненных. За ним упали и остальные, в числе их и забавник графский, ненавистный замковым слугам Кнопф-Пуговица.
Толпой овладела жажда мести, копившаяся столькими годами жестокости, унижения и рабства.
Графиня села на грязную повозку, а с нею рядом уселась и плачущая нянька. Старый слуга Эргард, верный слову, данному Гельфенштейну, не покидал графиню и шел за повозкой, понурив голову.
Когда кончились казни под стенами Вейнсберга, Яклейна Рорбаха окружили вернувшиеся из замка товарищи. Они ничего не знали о том, что здесь произошло.
Флориан Гейер, узнав о казнях, сказал резко:
— Я пришел, чтобы отвоевать вам человеческие права, а вы устроили расправу над врагами без суда. Напрасно было торопиться. Ваши мучители никуда бы не ушли от справедливой мести. А вы рубите направо и налево и позволяете безумцам жадно грабить из замка народное достояние, которое должно пойти на дело вашего освобождения, вы…
Ему не дали договорить. Из толпы раздались грозные голоса:
— Ты заступаешься за дворян!
— Ты хочешь сам стать на место тирана!
И вдруг прокатилось:
— Вон мы видим знамена Геца фон Берлихингена! Он наш, он крестьянский вождь, вождь и заступник! Он с нами будет пить и делить добычу!
— Нам не нужно тебя — у тебя слишком чистые, холеные руки!
Уже совсем близко были знамена Геца. Уже слышались крики его отряда, и грубый голос самого Геца донесся до Гейера:
— Славную чарку мы разопьем в гнезде Гельфенштейна! Разоряйте его, друзья!
— Ура! Да здравствует Гец фон Берлихинген!
— Прощайте, — спокойно сказал Флориан Гейер. — Я ухожу и буду искать со своим Черным полком иной правды среди таких же, как вы, которые не пойдут на поводу у рыцаря Железная Рука.
Когда Флориан ушел, в войске Яклейна Рорбаха начали говорить о скором присоединении Геца.
Яклейн Рорбах повел свои отряды на Гейльбронн. Скоро гейльброннские ворота открылись перед ними; крестьяне овладели городом и приняли гейльброннцев в братство.
Победители не трогали простых граждан; их гнев обрушился всецело только на духовенство и рыцарей. Женщины и дети сновали по улицам, таская вино, овес, полотно, серебро и домашнюю утварь. Рорбах устроил на дворе замка немецкого рыцарского ордена рынок, где продавал добытые в замке вещи. Горожане покупали священнические одежды и выкраивали из них платья.
В это время Лэелин в келье игуменьи Агаты со слезами каялась в своем страшном грехе — любви к врагу ее брата, благородного графа Гельфенштейна, "ничтожному виллану", которому она отдала свое сердце.
VI. НЕУДАЧИ
Был солнечный день в середине марта. Старый францисканский монастырь "Босоногих" в Мюльгаузене гудел, как улей. Жизнь в этом монастыре сильно изменилась с тех пор, как здесь хозяйничал Мюнцер со своими приверженцами.
Еще в декабре Пфейффер вернулся в Мюльгаузен благодаря хлопотам друзей; к весне приехал и Мюнцер. Сторонники Мюнцера изгнали из монастыря монахов, завладели запасами продовольствия, сукна и платья.
— Отныне у нас все общее, — сказал Мюнцер монастырской братии. — Хотите, оставайтесь здесь и работайте с нами сообща.
Одни остались, другие ушли.
В этот мартовский день в обители собралось большое общество. В громадном зале — форестериуме
[90], где прежде монахи с трепетом дожидались строгого настоятеля, теперь слышались бодрые голоса мужчин и женщин. Свежий воздух волной врывался в открытые настежь окна; солнце яркими бликами ложилось на мрачный каменный пол и весело играло в цветных стеклах верхних окон.
На длинных монастырских столах лежали груды церковных облачений. Многие женщины кроили из холста и сукна одежду для народного ополчения. Между ними была и жена Мюнцера. Молодые люди сортировали кожу и мех для сапог и верхних кафтанов, а в раскрытую дверь виднелась монастырская кузница.
Весь черный от угля и гари, в кожаном фартуке, вышел из кузницы Мюнцер и, потирая руки, весело сказал:
— Мир вам, дорогие братья и сестры! Работа идет хорошо. Мы славно научили раздувать мехи бывших белоручек-монахов. Мы выковали много мечей, исправили немало ружей, а вон в другом горне остывает вылитая нами пушка. — Он звонко крикнул в дверь кузницы. — Эй, братья, тащите оружие в исповедальню!
И в маленькой, унылой исповедальне вскоре ярко заблестела сталь оружия.
— Оружие есть, друзья, — сказал Мюнцер работавшим в форестериуме. — Оно будет омыто теплой алой кровью — и не только кровью врагов, но и нашей.
Он протянул руку вперед, где на безоблачном небе сияло солнце.
— Солнце светит ярко, оно дает жизнь и счастье. Идите к нему! Вся Германия поднялась, — продолжал Мюнцер. — Наша рать прибывает с каждым днем. Злодеи струсили, как псы. Не склоняйтесь даже тогда, когда враги будут обращаться к вам с добрым словом, не верьте им! Возбуждайте села и города — мы не должны дольше спать! Бросайте в лицо угнетателям, если они будут входить с вами в сделки, что вы не хотите жить их милостями. Железо горячо — куйте! За дело! За дело! Хотел бы я так наставить всех братьев, чтобы их мужество было тверже всех замков безбожных злодеев в стране. Эта война — народная. Не за себя вы боретесь, а за поруганные права и счастье всех своих братьев. Мужайтесь — и смело вперед!
Радостные, вдохновенные голоса подхватили:
— Мы завтра выступим за правду лучшей жизни!
Спешно шли приготовления к восстанию; спешно раздавались доспехи воинству. Молодежь, старики — все выходили из исповедальни, звеня оружием, возбужденные и счастливые.
Вечером в Мюльгаузене начались беспорядки…
Пфейффер писал в одной из монастырских келий, обращенной в рабочий кабинет, когда до него долетели с улицы дикие крики. Он вскочил и громко крикнул:
— Томас! Томас!
Никто не отозвался. Только эхо печально повторяло этот крик. Пфейффер отправился на другой конец коридора, к рабочей комнате Мюнцера. Уныло звучали под каменными сводами его шаги.
Припав к широкой нише окна, Мюнцер жадно смотрел во мрак. Он обернулся, когда Пфейффер положил ему руку на плечо.
— А, это ты, Генрих. Ты слышишь, слышишь?
Он широко распахнул окно. Толпа кричала:
— Смерть ратману! Смерть синдику!
1 Смерть бургомистру!
[91]
— Они требуют негодяям смерти, — прошептал Мюнцер, бледнея. — Неужели это начало восстания?
Пфейффер кивнул головой.
— Искра брошена — явилось пламя, — задумчиво сказал Мюнцер. — И в наших руках народное дело… Надо обдумывать каждый шаг. Генрих, иногда приходится сдерживать, а не поджигать, и для этого часто нужно больше мужества!
Пфейффер презрительно пожал плечами.
— Я боюсь, что они рано поднялись, — осторожно сказал Мюнцер.
— Время покажет, брат Томас.
Что такое говорит он? И почему так странно, чуждо звучит его голос? Почему в нем слышна острая насмешка? В этот момент Мюнцер почувствовал с ужасом, что между ним и Пфейффером начинает расти стена непонимания.
И он низко опустил голову; сердце его сжалось тоской и болью.
А за окнами не смолкали громкие крики.
Все время в Мюльгаузене шла непрерывная борьба между старой аристократической партией и партией сторонников Пфейффера и Мюнцера. Молодая партия решила упразднить старый совет и выбрать новый, которому Пфейффер дал название "вечного совета".
В эту ночь "вечный совет" победил. Многие граждане, которым разъяренная толпа выкрикивала смертные приговоры, спешили рано утром покинуть город, а оставшиеся вступили в переговоры с "вечным советом". Когда же народ, окружив ратушу, грозил ее разрушить, они отказались от участия в городском управлении. Со старым советом рухнуло последнее препятствие для Пфейффера и Мюнцера — город был в их руках. Но Пфейффер и Мюнцер, в сущности, стремились к разным целям: Мюнцер был защитником неимущих, плебеев; Пфейффер, как и прежде, тяготел к мелким собственникам.
Чтобы идти рука об руку с Пфейффером, Мюнцер должен был соглашаться на уступки, а уступки были ненавистны его прямой натуре. Попав в "вечный совет", Мюнцер почувствовал под ногами пропасть. Он перерос свой век, но немногие доросли до идей Мюнцера; немногим был понятен тот общественный строй, где все блага жизни и труд должны быть равными и общими.
Мюнцер не хотел еще сознаться себе, что жизнь обманула его, что люди гораздо более темны и невежественны, чем он предполагал. И он старался отогнать назойливые думы, которые не давали ему ночи напролет сомкнуть глаз, а чтобы забыться, писал пламенные воззвания. Он рассылал эти воззвания по всей Тюрингии, по Франконии, Швабии и жил в вечной лихорадке, стараясь обмануть себя новой иллюзией. Эти минуты были ужасны.
Пфейффер же, казалось, был вполне доволен.
Время шло. Пфейффер с недоумением замечал, что его товарищ худеет день ото дня. А пламя восстания, вспыхнувшее в Тюрингии, все сильнее охватывало эту страну. На всем расстоянии между Гарцем и Вюрцбургом возник уже целый ряд крестьянских лагерей.
Пфейффер торопил Мюнцера с выступлением, а Мюнцер, к его удивлению, старался как-нибудь это выступление оттянуть.
В тихую апрельскую ночь Мюнцеру не спалось. Он сидел в своей келье, уронив голову на сложенные на столе руки. Перед ним стоял Пфейффер.
— Послушай, Томас, — говорил Пфейффер, — после того как ты сам подгонял их, ты медлишь, будто…
Тонкая улыбка пробежала по губам Мюнцера.
— Будто трусишь? Ты это хотел сказать, Генрих? Ты сам знаешь, что болтаешь пустяки.
Он встал и несколько раз прошелся по комнате:
— Выслушай меня внимательно, Генрих, и дай искренний ответ себе в душе. Кто пойдет за нами?
— Как — кто? Народ!
— Тюрингенский народ… А знаешь ли ты этот народ? Это не воинственные швабы, выросшие среди сражений; не франконцы, организованные рыцарем Флорианом Гейером; не отважные и ловкие стрелки с Альп и из Эльзаса, — это мирные землепашцы. Всю жизнь, с младенческих лет, как кроты, рылись они в земле, в потемках, и молили выбросить им милостиво крупицу счастья — молили, а не требовали, несмотря на свой каторжный труд!
— А теперь будут требовать! — упрямо возразил Пфейффер.
— Нет, ты плохо знаешь тюрингенцев. Это не бездомные рудокопы, которым нечего терять, кроме своих потемок под землею. Тюрингенцы дрожат за свою собственность, за скудный, бесплодный кусок земли, политый их кровью и потом… Еще вопрос: надолго ли у них хватит энергии для борьбы и не станет ли для них хлеб тормозом к достижению свободы? Малейшая подачка со стороны правителей — и возможно, что они упадут к ногам ненавистных тиранов.
Пфейффер злыми глазами заглянул в лицо товарища:
— Ты с ума сошел, Томас, или бредишь! Ведь у тебя… у тебя это — измена своему делу!
Мюнцер выпрямился, густая краска залила его лицо.
— Нет не измена, — горячо возразил он, — а глубокая преданность! Я не хочу губить дело. Взгляни на Тюрингию: где в ней масса замков, разгромом которых мы могли бы приобрести себе оружие? За порохом мы должны будем посылать в Нюрнберг, доверяясь людям, которых может погубить простая случайность. С чем выйдет наше войско в поход? У нас мало оружия. Или нам достаточно лопат в грубых руках рудокопов?
Пфейффер презрительно пожал плечами:
— Мне жаль тебя, Томас, ты малодушно оставляешь поле сражения. Не ты ли радовался, когда здесь, в монастыре, лили пушки? Или это была забава и теперь мы должны распустить дураков, которые поверили нашим глупым басням?
Мюнцер дрожал от гнева:
— Какой вздор, Генрих! Не распустить, а подождать я прошу! Мы должны ждать, пока к нам на подмогу придут швабские и франконские братья. Только соединение всех недовольных под одно знамя даст победу! Разрозненные кучки недовольных слишком слабы, чтобы сломить организованного, сильного врага. Надо быть готовым к бою и при первом призыве вступить в него, но обдуманно, чтобы не погубить дела. Подумай: стоит только провалиться тюрингенцам — упадет энергия восставших в других странах и возрастет вера в успех у врагов всего мира.
Пфейффер сухо заметил:
— Ну, Томас, если мы будем мечтать о мировых победах, мы прозеваем призрак своей!
— "Призрак"! Я не хочу призрака. Я живу для настоящей победы, но не для бедняков Тюрингии, а бедняков всего мира! Я смотрю на это восстание как на раскат волны, которая пройдет по всему миру, поднявшись здесь.
Пфейффер пожал плечами, ничего не сказал и быстро вышел.
На другое утро на монастырском дворе было собрание. Мюнцера и Пфейффера окружила большая толпа.
— Братья, — говорил Пфейффер, — сегодня я видел пророческий сон. Мне казалось, будто я в полном вооружении стою посреди большого амбара и меня окружила стая мышей. Мыши сновали всюду и точили крепкими зубами мешки, полные золотистого зерна. С мечом в руке бросился я на прожорливое полчище и мигом разогнал его. Проснувшись, я не понимал значения сна, как вдруг предо мной воздух стал колебаться и показалось чудное видение, от которого исходили лучи света. Я не спал, я видел их. И они, светлые лучи, сказали мне: "Веди свой народ. Этот народ победит угнетателей, и рассеются мыши, и золотистые зерна полных житниц посыплются в рабочие руки твоих детей!"
Ошеломленные слушатели ждали слова от Мюнцера. Он стоял бледнее смерти и молчал. Зачем Пфейфферу понадобилась эта сказка?
— Ты молчишь? — прошептал Пфейффер, и глаза его блеснули недобрым огоньком. — Послушай: если ты сейчас не скажешь им напутственного слова, я крикну, что ты изменник, и они поверят мне, потому что жаждут восстания… — И, обратясь к толпе, он крикнул вызывающим тоном. — Наш вождь, брат Томас, поведет нас на борьбу с мышами наших житниц!
— Что с тобой? — прошептал Каспар Фербер. — Ты шатаешься… Ты болен? Неужели ты сомневаешься?
— Восстание! Восстание! — гудела толпа.
Мюнцер выступил вперед и поднял вверх руку. В этом жесте была угроза.
— Восстание за хлеб, за свободу, за человеческую жизнь, братья! Победа за нами!
Фербер с сияющим лицом протянул Мюнцеру руку; в толпе обнимались и плакали от радости.
Неверными шагами вошел Мюнцер к себе в келью и бессильно упал на скамью, шепча:
— Если моя смерть нужна, я с радостью пойду на нее…
А со двора неслись ликующие крики:
— Да будет благословен день выступления!
— Друзья, победа за нами!
— Да здравствуют наши славные вожди — брат Томас и брат Генрих!
— Народ верит, — прошептал с тоской Мюнцер, — народ хочет, и потому надо идти. Если я откажусь, они пойдут без меня, и некому будет поддержать их в трудную минуту…
Когда вошла Оттилия в келью мужа, он лежал ничком на каменных плитах, широко раскинув руки, в глубоком обмороке.
С этого дня в монастыре "Босоногих" стали готовиться к походу. Пфейффер торжествовал, одержав победу над товарищем. Он видел в мюльгаузенском восстании чисто местное дело, которое дало бы возможность тюрингенцам поднять свое личное благосостояние. Ему были теперь совершенно непонятны широкие идеи Мюнцера.
В конце апреля вожди во главе своих отрядов покинули Мюльгаузен. За Мюнцером следовало триста человек.
С 30 апреля по 12 мая вся плодородная долина от подошвы Гарца до самого Фрейбурга "в силу священной войны" была присоединена к братству, и многие монастыри и замки были преданы огню.
Испуганные владельцы замков вступали в братский союз крестьян.
Так поступил и граф Штольберг, осажденный в своем замке, сын того самого, уже умершего в то время, Штольберга, который повесил когда-то отца Мюнцера.
Пфейффер со своим отрядом принимал участие в некоторых набегах на соседние с Мюльгаузеном католические области, но не шел дальше мелких столкновений.
Пламенные письма Мюнцера подняли мансфельдских рудокопов. Он вложил в эти письма всю силу своего отчаяния, зажигая в них безумную ярость и ненависть к господствующим классам, и это нашло отклик в измученных сердцах рудокопов. Огромные толпы собирались около Мансфельда; многие бросали свои рудники, дома и пастбища и уходили в горы, "к братьям". 12 мая Мюнцер прибыл в знаменитый соляными копями город Франкенгаузен, к мансфельдским товарищам.
Он собирался стянуть сюда все силы, рассчитывал здесь на помощь многочисленных вооруженных рабочих мансфельдских солеварен и кликнул громкий клич, сзывая друзей в франкенгау-зенский военный лагерь. Из горных мансфельдских селений собирались люди, воодушевленные призывом тюрингенского пророка; но соседние эрфуртцы и даже большинство мюльгаузенцев оставались глухи к призывам Мюнцера.
То здесь, то там шли разговоры, что бюргерам свободного имперского города нет дела до чужих крестьян и рабочих, и Пфейффер поддерживал их.
В это время поднялись собравшиеся с силами князья. В конце апреля Трухзес фон Вальдбург успел уже во многих местах усмирить швабское восстание, а ландграфу
[92] Филиппу удалось подавить восставших в Гессене.
В Тюрингию и Франконию были отправлены многочисленные войска.
Немало перемен было и в Ясном ополчении.
На совете в Гейльбронне было решено пригласить полководцем вместо Гейера — Геца фон Берлихингена. Рыцарь Железная Рука, в сущности не желавший этой чести, должен был сделаться начальником отряда, который был назван Светлым полком, в отличие от Черного полка Флориана. Но Гец был в крестьянском лагере скорее пленником, чем начальником; подчиненные очень зорко за ним присматривали и тщательно взвешивали все его распоряжения. Несмотря на это, Берлихингену удалось получить у крестьян некоторые уступки для дворянства.
Выпросили для дворян уступки и другие рыцари, принятые в крестьянское братство. Мало-помалу им удалось внушить крестьянам, что не следует раздражать дворян разгромами, а подвергать этому только имущество духовенства. Этой мысли стал сочувствовать и Вендель Гиплер, заседавший в крестьянском совете. Здесь уже не было "неистового" Рорбаха, он отделился от товарищей вскоре после взятия Гейльбронна: беспощадный судья графа Гельфенштейна не мог больше оставаться в ополчении, которое пошло на уступки дворянам. Со своим отрядом он отправился осуществлять идею безграничного мщения.
Силы врагов росли. Трухзес поклялся жестоко мстить за смерть своего двоюродного брата Гельфенштейна. К нему присоединились многие дворяне, родственники которых погибли в Вейнсберге.
Вступив в Вюртембергскую область, Трухзес послал часть кавалерии к неккарскому городу Беблингену, где в поле был расположен лагерь Ясного ополчения. Граждане Беблингена и его фогт
[93] принадлежали к крестьянскому братству. Измена последнего была гибелью для народного ополчения. Фогт заранее обещал Трухзесу отворить перед ним городские ворота; об этом знал магистрат.
Рано утром 12 мая войска Трухзеса неожиданно окружили крестьян.
Разъединенное изменой и раздором, крестьянское ополчение представляло картину полного смятения.
Рорбах был мрачен, как ночь. Кетерле напрасно показывала ему на трехцветное знамя свободы — войска устали и возбудить их было очень трудно.
Накануне вечером Рорбах говорил Мельхиору Ноннермахеру, который присоединился к Ясному ополчению со дня взятия Вейнсберга:
— Не нравится мне что-то беблингенский фогт. Я бы турнул его хорошенько… в знак дружбы.
— С господами не к чему водить дружбу! — буркнул Мельхиор.
— Зато мы и посчитали им ребра в Вейнсберге!
В глазах Мельхиора появилось выражение острой горечи: ему припомнилось лицо Лэелин.
И он сказал дрогнувшим голосом:
— Все господа, вступающие к нам в братство, или вероломны, или слабы. Нам нужны для нашего дела люди из железа, Яклейн! А фогт ненадежен, это уж верно!
Мельхиор и Рорбах не ошиблись. Утром произошла жестокая битва между крестьянами и войсками Трухзеса. Первые три часа перевес был на стороне крестьян, но Трухзеса выручила измена беблингенцев.
Последние открыли перед ним ворота — он благополучно перевез через город свои орудия и выбил противника с выгодных позиций.
"Крестьянская смерть", как называло народное ополчение конницу, неслась со всех сторон. Центр был скоро разбит, поредел от орудий. Но знамя еще высоко качалось над головами крестьян; его крепко держали руки Кетерле. И вдруг оно заколебалось, затрепетало в воздухе, как крыло гигантской птицы, заколебалось и упало, а в последующий момент высоко, победно взвилось в руке одного из воинов Трухзеса.
Кетерле лежала, широко разметав руки, на болотистой, залитой кровью равнине.
Знаменосица, вся в крови, очнулась, когда солнце уже высоко поднялось, и увидела вдали бегущих воинов Рорбаха. Неужели и неистовый Яклейн бежал с поля битвы?
С трудом поднялась она и, шатаясь, прошла вдоль всего поля, заглядывая в глаза убитым. Тут было много мертвых, много изуродованных, но еще живых. Раненые невыносимо стонали, но Кетерле равнодушно проходила мимо. С тех пор как враг вырвал у нее из рук знамя, дело, по мнению Кетерле, должно было погибнуть. Так же равнодушно смотрела она на струившуюся у нее из руки кровь. Яклейна не было ни между мертвыми, ни между ранеными, и она пошла по дороге отыскивать его.
Трухзесу донесли, что один из палачей Гельфенштейна, Мельхиор Ноннермахер, спрятался в соседнем городе Зиндельфингене. Тогда победитель со свитой поскакал к городским воротам и крикнул страже:
— Вы скрываете у себя одного из злодеев — Мельхиора Ноннермахера! Если через полчаса он не будет приведен ко мне, я подпалю город со всех сторон и сожгу ваших жен и детей!
Улицы Зиндельфингена огласились рыданиями. Разъяренные и перепуганные женщины кричали:
— Мужчины хотят, чтобы нас сожгли, и потому скрывают этого человека! Мы поищем его сами!
И они стали рыскать по городу, заглядывая во все закоулки. Несчастного Мельхиора нашли на голубятне и поволокли на костер. Потом стали искать Рорбаха.
Беглецы разбрелись в разные стороны; многие ушли в Швейцарию.
На другой день около соседней крепости был пойман и Рорбах вместе с его товарищем-гейльброннцем.
Трухзес приказал волочить Яклейна на цепи через длинный ряд селений, расположенных по неккарской долине, мимо знакомых виноградников, а Рорбах, стиснув зубы, смотрел на поля, где когда-то мирно трудился и где теперь работала его жена.
Позади этого шествия двигалась, понурив голову, в отрепьях Кетерле — верный товарищ Яклейна. Ее принимали за нищую; трудно было узнать в этой обезумевшей женщине с растрепанными волосами мужественную знаменосицу Ясного ополчения.
Яклейна Рорбаха ждала та же казнь, что и Мельхиора: костер. Но торжество Трухзеса было омрачено выражением лица Рорбаха. Ни одной слезы не выкатилось из его широко раскрытых глаз: на лице застыла маска презрительного смеха.
Когда он рухнул в пламя, до него смутно донесся чей-то отчаянный крик:
— Яклейн! Яклейн!
Это кричала Кетерле. Солдаты Трухзеса узнали мощный голос знаменосицы. Несколько человек бросились ловить ее, но она, как вихрь, пронеслась по косогору и исчезла в соседней роще, где знала каждый камень, каждое дерево.
После казни героев "вейнсбергских ужасов" Трухзес решил, что нужно сжечь и место, где она происходила. Это будет возмездием Вейнсбергу за то, что он сдался бунтовщикам и допустил казнь наместника.
И город был сожжен дотла.
После сожжения Вейнсберга сдался Гейльбронн, а деревни по Неккару и около Гейльбронна вновь приняли присягу и поклялись отделиться от евангелического братства. Потом был покорен Эринген.
Положение восставших с каждым днем становилось тяжелее, но они не видели ни своих ошибок, ни выхода из затруднений. Вместо того чтобы действовать дружна, соединенными усилиями, каждое местечко, каждый город действовал на свой страх, преследовал свои местные выгоды. В большинстве случаев князьям достаточно было нескольких пустых обещаний, чтобы внести между восставшими раздор и тем заставить их на время успокоиться.
Таким путем князьям удалось выиграть время, собрать войска, объединиться и затем уже без всякого труда рассеять один за другим крестьянские отряды.
VII. ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ
Десять всадников в рыцарских доспехах во весь опор летели по берегу Неккара, направляясь к его низовьям. Луна светила ярко. Показались наконец зубчатые стены замка Берлихингенов — Гордберга, и скоро перед рыцарями открылись его ворота.
Гец фон Берлихинген сердито крикнул, слезая с коня:
— Берите, пентюхи, повод да поворачивайтесь живее!
С тех пор как Трухзес подавил восстание в неккарской долине, этот рыцарь вернулся к прежнему образу жизни. Снова чувствовал он себя безграничным владыкой в своем замке и обращался со слугами так же высокомерно, как и в старину.
Весело звучал за столом его раскатистый смех; этому смеху вторили звучные голоса его братьев и других рыцарей, вернувшихся из крестьянского лагеря.
Гости всё пили; лица их становились красными; громче звучали их непристойные шутки. Давно уже жена Берлихингена вышла из залы, чтобы не слышать грубых речей.
— Завтра, наверно, придет сюда Дитрих Шпет или другой уполномоченный Трухзеса, — говорил хозяин, — и мы с ним уговоримся насчет похода. Не люблю быть без дела, около бабьей юбки! А правду сказать, до смерти мне надоел лагерь крапивников-коровников! Лучше бы мне было сидеть все время пленником в турецкой крепости, чем быть у них полководцем… Эй, вина!
Пьянея все больше, Гец спросил у одного из рыцарей:
— Ну, а что ты думаешь теперь делать?
— Сначала съезжу домой, а потом, как и ты, присоединюсь к Трухзесу.
— Ха-ха! — ударил кулаком по столу другой гость. — Вот когда запляшут мужики! Как вы думаете, что я буду делать с ними?
— Да, понятно, не погладишь по головке, как и я, — отвечал ему жирный рыцарь с тупыми глазами навыкате. — Каждый из нас поступит справедливо, если убьет их, чтобы…
— Я не прочь! — засмеялся практичный Гец. — Но если они все умрут, то кто же нам будет служить и обрабатывать наши земли? Да и вид нищих сирот под окнами с их жалобными причитаниями — не скажу, чтобы был приятен!
Все засмеялись.
— Признайся, Гец, ты уже давно ведешь переговоры со Шпетом относительно перехода к Трухзесу? — спросил Бердихингена жирный рыцарь.
Гец подмигнул глазом и кивнул головой:
— Ну да! Я и поход-то, признаюсь, задумал, чтобы разъединить банды вилланов и толкнуть их в сети Трухзеса.
Он был сильно пьян и легко признавался в измене крестьянам, которым еще так недавно клялся в верности.
Теперь в своем замке Берлихинген праздновал измену. Гости пировали до рассвета и, совершенно обезумев, затеяли мерзкую игру в "Maislen": бросали друг в друга все, что попало, обливали один другого помоями, обмазывали соусом, посыпали солью и потом, потерявши человеческий облик, попадали на стол, на скамейки, на пол и заснули там как убитые. А наутро приехал уполномоченный Трухзеса с новыми радостными известиями и богатыми обещаниями Гецу фон Берлихингену.
Силы Трухзеса, поддерживаемого князьями, становились все грознее. Почти весь Ульмский край был им покорен. Где недостаточно казалось силы, там пускалась в дело хитрость, велись переговоры с крестьянами, чтобы выиграть время и бессовестно обмануть их при первом удобном случае.
Испуганное победами Трухзеса, крестьянское войско упало духом. В лагере и в совете начались интриги и ссоры. Измена некоторых рыцарей и сдача Гейльбронна заставили Венделя Гиплера бежать с остатками неккарских отрядов.
Черный полк Флориана Гейера из Вейнсберга двинулся по Неккарскому округу к Вюрцбургу, везде по дороге разрушая замки и гнезда духовенства. Забыв личные неудовольствия и обиды, Флориан Гейер соединился с Гецом фон Берлихингеном под стенами осажденного верцбургского замка Фрауэнберга. Это была неудачная осада: четыреста наилучших бойцов, преимущественно из отряда Флориана, остались в крепостных рвах убитыми или ранеными. Даже в этот серьезный момент интриги в крестьянском лагере не исчезли. И по приказу Гейера было объявлено, что всякий, кто нарушит покой и согласие братства, будет немедленно повешен.
По изменническому плану Берлихингена Флориан Гейер был отозван к Краутгейму. Он не знал, что окрестные деревни уже покорены Трухзесом.
Поняв наконец ловушку, остатки крестьянского войска двинулись дальше, к Неккарульму, преследуемые неудачами. В это время Гец фон Берлихинген бежал.
Мрачный вид представлял Шляхтберг ("Гора битвы") — возвышенность, где расположился лагерь Мюнцера. Кругом чернела пасть рва; вся возвышенность пестрела баррикадами из военных повозок среди леса алебард и копий.
В центре лагеря собралась толпа. Посреди нее стоял Мюнцер.
— Братья, — говорил он решительно, — ваш бывший повелитель герцог Альбрехт предложил вам перемирие и уступки! Я предупреждал вас, что он рассчитывает выиграть время. Я был прав. Он выиграл время и соединился с шестью союзными князьями. Он силен, но согласен вам простить то, что вы осмелились требовать у него своих прав, согласен простить вас, если вы выдадите ему живым Томаса Мюнцера, бунтовщика и зачинщика, возбуждавшего вас против поставленной богом власти…
Гробовое молчание было ему ответом.
— Вам дали три часа на размышление. В эти три часа вы должны решить судьбу Томаса, — продолжал Мюнцер. — И из них два часа уже прошло.
Толпа заволновалась. Многие плакали:
— О Томас, научи, что делать! Мы измучены этим походом, у нас нет сил… Князья все равно перебьют нас…
Мюнцер сделал несколько шагов вперед. Он был очень бледен, но спокоен:
— Я здесь, друзья мои, и готов идти за вас к князьям. Или вы думаете, быть может, что я откажусь легко от великого дела и паду к их ногам с мольбою о прощении? Или думаете, что я позабуду свои клятвы и стану сражаться в рядах войска Альбрехта, как ваши послы Штольберг и Рюкслебен?
Тогда вперед выступил Каспар Фербер, и его колоссальная фигура с гневным лицом была ужасна.
— Никто из нас не пойдет на уступки, Томас, — глухо сказал он. — Заклинаю вас, братья, пусть поднимет руку тот, кто хочет смерти трусов, предложивших согласиться на сдачу!
Почти все руки поднялись.
Толпа расступилась, выделив из себя две дрожащие фигуры. Это были рыцарь и священник. За час перед тем они говорили, что надо пожертвовать одним человеком ради спасения других и Мюнцер должен отдаться в руки князей, чтобы спасти народ.
Их казнили…
Мюнцер обвел глазами войско. Здесь было восемь тысяч необученных, объятых унынием людей, восемь пушек, для которых недоставало искусных стрелков; не было и кавалерии. И сам Мюнцер был блестящим проповедником, но не полководцем. А сражаться необходимо: Альбрехт нарушил срок перемирия и со всех сторон окружил войсками крестьянский лагерь. Против крестьян было выставлено три тысячи двести человек конницы, восемь тысяч четыреста пехоты и отличная артиллерия. Гибель была неминуема, и Мюнцера охватил безумный гнев отчаяния. Он взглянул на бледные лица своих тюрингенцев и яростно крикнул:
— Так вперед, друзья! Враг силен и не даст нам пощады! Надо собрать все свое мужество… С нами правда!
— Вперед! — подхватили нестройные голоса. — Мертвые или живые, но будем вместе… Нет пощады кровопийцам!
Мюнцер высоко поднял белое знамя с яркой радугой. По Шляхтбергу полились торжественные звуки гимна.
Дрожащие, полные слез голоса звучали трогательно и жутко. Вдруг гимн оборвался. Предательские ядра противника полетели в тюрингенцев. Все смешалось в воплях ужаса, криках и стонах умирающих, и расстроенное крестьянское войско бросилось бежать.
Сначала беглецы, пробравшись в город, пробовали защищаться, но и здесь были настигнуты врагами. В этот ужасный день на поле битвы осталось пять тысяч крестьян; триста были казнены без суда, среди последних — и Каспар Фербер. Мюнцер бежал по улице Франкенгаузена, задыхаясь от усталости. Из виска его струилась кровь и текла по белой рубашке.
Вбежав в первый попавшийся дом у Нордгаузенских ворот, брошенный перепуганными владельцами, он опомнился. Надо было спастись. Быть может, войско еще не все погибло и ищет своего вождя… Быть может, Пфейффер торопится к нему с новыми силами, и они разметут врагов и пойдут к Мансфельду, где поднимутся рудокопы, — и тогда настанет новая, светлая пора для дорогого дела… Голова у Мюнцера кружилась. Он ослабел от потери крови и сознания призрачности этой надежды, но хватался за нее как утопающий за соломинку.
Ему бросилось в глаза висевшее в кухне полотенце. Он обвязал им голову, разделся и бросился в постель. Кровь продолжала сочиться из его раны; мысли его путались; потолок двигался перед его глазами, стены плясали, а впечатления битвы заволакивались туманом.
— Эй, эй, тут кто-нибудь есть? — послышалось в сенях. Вооруженный с ног до головы ландскнехт внезапно вырос перед Томасом Мюнцером. — Что это за человек? Хозяин, что ли?
— Я болен, — отвечал Мюнцер, напрягая все силы, чтобы не выдать себя. — Я давно уже лежу без движения… в лихорадке… Я тяжело болен… Не шуми так, дай мне покой…
— Ха-ха! Я охотно оставлю тебя в покое. Мне нужно только поместить здесь моего господина, его милость люнебургского рыцаря Отто фон Эббе, — довольно грубо отвечал ландскнехт.
Мюнцер закрыл глаза и притворился дремлющим. Слуга рыцаря, по свойственной всем ландскнехтам привычке к грабежу, стал шарить по комнате, ища, чем бы поживиться.
Мюнцер сквозь опущенные веки с ужасом увидел, что ландскнехт взялся за его платье.
— Ага! — услышал он взволнованный голос. — Я кое-что смекаю в грамоте. Письмо герцога Альбрехта к крестьянам… Хорошенькую бумажку нашел я в кармане!.. Те-те-те!.. Из головы твоей сочится кровь… Так ты один из бунтовщиков? Уж не сам ли сатана вилланов — Томас Мюнцер, за голову которого князья назначили хорошую награду? Будет мне на что погулять! — И, обернувшись к двери, ландскнехт закричал. — Ваша милость, я поймал бунтовщика!
На этот крик прибежал Отто фон Эббе. Он знал Мюнцера в лицо.
— Твое счастье: ты поймал самого Томаса Мюнцера!
Мюнцер не делал попытки бежать; он слишком ослабел, да и бегство было бы теперь безумием.
Отто фон Эббе отвел его, связанного по рукам, к победителям. Приближался конец мучительной драмы.
В глубоком подземелье в оковах неподвижно сидел Мюнцер. Враги пытались его унизить как могли. Они пробовали вырвать у него раскаяние в том, что он развращал народ и вел его умышленно на смерть.
Мюнцер с достоинством отвечал, что великий дух любви к человечеству заставлял его жертвовать отдельными личностями ради общего спасения. Он рассеянно слушал речь ландграфа, тщетно старавшегося втолковать ему обязанности по отношению к правительству. Потом его подвергли пытке.
— Ага, тебе тяжело, Томас! — говорил герцог Георг, глядя на искаженное гримасой лицо узника. — Но подумай, каково было тем, которые по твоей милости погибли на поле битвы и были казнены!
Мюнцер пристально всматривался в своего врага.
— Ха-ха! — крикнул он. — Вы, только вы хотели их смерти, милостивые господа!
И снова страшные муки.
Избитого, чуть живого приковали его цепями к телеге.
Мюнцера привезли к жестокому мансфельдскому графу Эрнсту. Граф Эрнст посадил пленника в сырое подземелье Гельдрунгенской башни. Неподвижно лежал Мюнцер на скользких плитах темницы, равнодушный к мучениям и смерти. От тюремщика он знал, что в Мюльгаузене строится помост для его казни. Но не этот помост был страшен Мюнцеру, и не жалел он о жизни — его угнетало сознание, как жестоко он обманулся в своих планах; ему обидно было, что погибло дорогое дело, погибло все, для чего он жил.
На 26 мая в Мюльгаузене, теперь лишенном всех своих вольностей, назначили казнь Мюнцера. В белой, покаянной рубашке предстал он перед толпой. В толпе слышались рыдания.
Лицо его было сурово. Только в глазах стоял мучительный вопрос. Он думал о тех, кто лежал там, на поле, около Шляхт-берга; о тех, чья кровь сделала красной воду в речке, протекающей через Франкенгаузен; о тех, чьи синие трупы болтались всюду на перекладинах виселиц. Его мучила мысль, принесут ли эти тысячи смертей пользу народной свободе.
— Покайся, Томас, — услышал Мюнцер голос герцога Георга, — покайся в том, что ты отрекся от своего ордена, снял монашескую рясу и женился.
Мюнцер тихо усмехнулся, продолжая пристально смотреть на небо.
— Не в этом кайся, Мюнцер, — услышал он голос ландграфа, — покайся в том, что ты возмутил народ…
Конца этой речи Мюнцер не слышал: он поднял вверх руки и ясно, радостно улыбнулся. Вверху сияло солнце…
— Я знаю, — прошептали беззвучно его губы, — что начал великое, слишком великое дело, несоразмерное с моими силами, но теперь я верю, что это дело выполнимо и его закончат другие. Впереди свет и победа!
Мюнцер замолк, и в этот же момент палач высоко взмахнул над плахой топором.
…Мюльгаузен стал городом, подвластным саксонским князьям. Настроение восставших падало, силы слабели.
Жена Мюнцера подверглась жестоким насмешкам и издевательствам в лагере победителей.
Скоро погиб под Галле, недалеко от своего родового замка Гибельштадта, и Флориан Гейер. Он умер как герой, до последней минуты ободряя свой немногочисленный отряд. Смерть принес ему муж его дочери, Вильгельм фон Груббах, командовавший неприятельским отрядом. Перед Флорианом был лес копий; среди них зловещим светом сиял меч Грумбаха. Глаза Грумбаха смотрели с ненавистью на одинокого всадника, окруженного неприятелем. Флориан казался спокойным. Они встретились взглядами, и Гейеру вспомнилось, как еще недавно этот юноша ласково улыбался и называл его отцом…
Вильгельм вздрогнул, но не отдал приказа к отступлению, и высокая, статная фигура Флориана тяжело рухнула с лошади.
Вдруг Вильгельм фон Грумбах заметил девушку в шлеме, с манеркою у пояса, пробивающуюся сквозь ряды солдат. Солдаты пытались ее задержать, но она — высокая, стройная — вырвалась из их рук и, шепча что-то, направилась к Флориану. Распластавшись, лежал он на земле.
Это была Польди. Она старалась приподнять голову рыцаря и стащить панцирь, стягивавший ему грудь.
— Жив? — спросил Грумбах.
Она заглянула в тусклые глаза Флориана и покачала головой.
И когда поле битвы опустело и мертвая тишина окутала окрестность, Польди большим мечом Гейера все еще копала глубокую яму, где бы мог успокоиться навек рыцарь — защитник слабых и угнетенных.
Через несколько дней, в начале июня, Трухзес победоносно двигался к Вюртембергу. Ратуша тайно обещала ему открыть ворота. Трухзес принялся здесь за кровавую расправу. Приговоренных к казни было восемьдесят один человек. Один парень, когда его подвели к палачу, с наивной грустью сказал:
— Вот я уже должен умереть, а между тем я и двух раз в жизни не наедался досыта хлебом…
Особенной жестокостью отличался маркграф
[94] Казимир. Когда он подходил к Миртисгейму, то заметил двух любопытных, смотревших с высокого дерева на отступление войск. Маркграф без раздумья приказал их казнить. Вступив в город Кацинген, маркграф забыл свою клятву не притеснять жителей. Он собрал более ста горожан на площади, как будто для переговоров. Толпа ожидала речи Казимира, как вдруг он скомандовал:
— Отвести мужиков Куда-нибудь под замок!
И солдаты повели недоумевающих горожан к темнице.
— Предатель! Кровопийца! — кричали из толпы.
Перед Казимиром появилась угрожающая фигура женщины с черными седеющими волосами, в разорванной грубой одежде. На высоком шесте она несла крестьянский башмак и крикнула прямо в лицо маркграфу:
— Когда-нибудь башмак свергнет владычество Ирода!
— Кто это? — спросил, дрожа от гнева, Казимир.
— Это безумная нищая, — ответил ему один из арестованных. — Она бродит по дорогам и бормочет что-то непонятное.
— И ее в общую кучу! — захохотал Казимир. — Ха-ха, пусть же она там опомнится!
И женщину повели в тюрьму вместе с другими.
Наутро всех вывели из сырого подвала тюрьмы.
— Вы свободны, — сказал им тюремщик, — наш милостивый маркграф Казимир даровал вам жизнь.
Они разбрелись в разные стороны. Но что это была за толпа калек! Одним отрубили пальцы, другим выкололи глаза. Слепые простирали руки к Казимиру, пришедшему к тюрьме взглянуть на заключенных, — молили маркграфа о смерти.
А он смеялся:
— Нет, нет, живите! Я дарую вам самое дорогое сокровище — жизнь! Знаю, вы клялись, что глаза ваши не могут видеть меня, и я не хочу делать вас клятвопреступниками!
Несчастных отвели за десять миль от города, в поле. Казимир приказал под страхом тяжелого наказания, чтобы никто не смел ухаживать за ними. Уныло бродила между калеками высокая женщина с длинными волосами, кое-где тронутыми сединой, и кровавыми впадинами вместо глаз. Молодой волынщик шел по полю и с изумлением остановился перед нею.
— Кетерле! — крикнул он изумленно. — Неужели это ты?
— Ах, Руди, — обрадовалась Кеберле, — я сразу узнала твой голос! Ты видишь: я слепа. Это милость благодетеля — маркграфа Казимира. Жив ли еще кто-нибудь из наших?
— Я не знаю, — ответил Руди, — хотя недавно я встретил Польди. Она шла с дядей в Швейцарию искать работу. Польди совсем седая, бедняжка…
Кетерле почти не слушала.
— Руди, — сказала она страстно, — я все думала, что гожусь еще на что-нибудь! Из страны в страну ходила я и искала свое потерянное знамя. Все погибло, Руди! — простонала она. — Умер и Яклейн и наш великий Томас. Мне не для чего больше жить… Я слепая. Попрошу, чтобы кто-нибудь прикончил меня.
Волынщик внимательно посмотрел на нее.
— Нет, — сказал он, — ты должна жить, как и я. Нас не сломили, нет… У тебя не отняли голоса, когда выкололи глаза, а я хорошо помню, как ты умела говорить, как умела вливать бодрость в братьев. Ты станешь ходить вместе со мной из края в край, из лачуги в лачугу и поднимать тех, у кого упал дух, кто не верит в нашу победу. Кетерле, ведь ты же все время несла наше знамя, знамя "Башмака"! Я буду петь, а ты рассказывать о славных подвигах братьев, об их страданиях, жертвах и храбрости. И дело народное, посеянное великим Томасом, поднимется и даст богатые плоды… Брось думать о смерти…
И Руди, закинув волынку на плечо и вытирая слезы, широко зашагал по дороге, держа за руку высокую седую женщину, смотревшую вперед кровавыми впадинами вместо глаз…
Далеко разносилась его звонкая песня:
Там, под зелеными холмами,
Погибших много братьев спит;
Их чистой кровью и слезами
Наш бедный край давно омыт.
Из тех могил весною ранней
Взойдут кровавые цветы,
Чтоб разбудить на бой желанный
И к мщенью страстные мечты!

Пасынки Академии
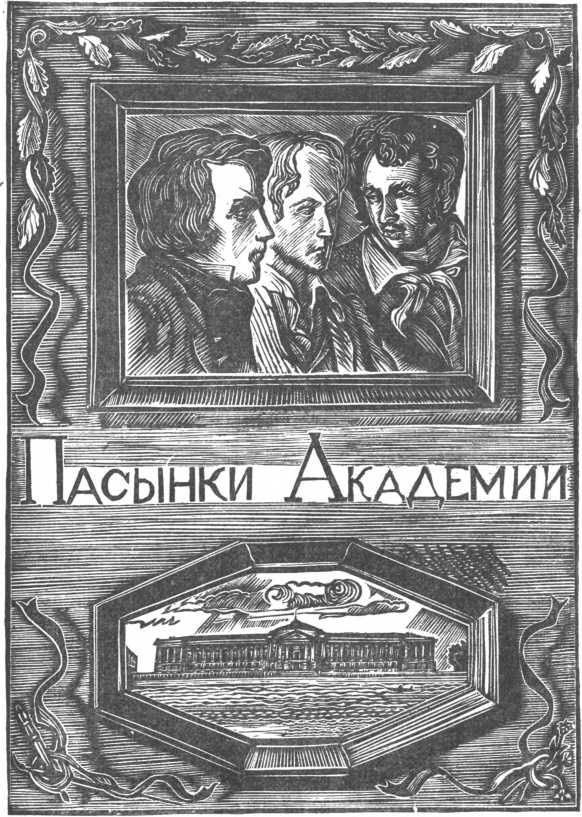


Часть первая
I. ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
Сергей Поляков, крепостной господ Благово, числился "посторонним" учеником, то есть приходящим. Как и других "посторонних", его связывали с Академией трех знатнейших художеств только уроки рисования. Все "посторонние" поступали туда достаточно взрослыми и не проходили курса общих наук, как ученики младших классов. Среди "посторонних" были люди самого разного звания.
Случалось, хоть и редко, в Академию поступали состоятельные и из знатных фамилий. Так граф Федор Петрович Толстой еще в первые годы XIX века наделал в высшем кругу много шума тем, что "обесчестил" свой род и все дворянское сословие. Он променял "благородную карьеру" на Академию.
Большинство бедняков ютилось по чердакам, подвалам и мансардам. Постоянно голодая, они прирабатывали где попало и чем попало, исполняя у крупных художников часто роль слуг, лишь бы учиться любимому искусству. Среди них находилось немало и крепостных, которых помещики, отпускали на выучку, чтобы получить впоследствии "изрядного" живописца, скульптора или архитектора.
Но Сергею повезло. Он жил на квартире у молодого преподавателя "малышей", Якова Андреевича Васильева, в здании самой Академии с четвертой линии Васильевского острова. Ему не приходилось прислуживать хозяину. За свое содержание он аккуратно платил. Васильев был душа-человек и брал с жильца пустяки. А Сергей уже зарабатывал портретами "на стороне" и даже одевался, когда ходил в гости или в театр, с некоторым щегольством.
Закончив на сегодняшний день занятия в натурном классе, он пошел домой. В Академии шли ежемесячные экзамены, и завтра он узнает судьбу своего последнего этюда. Он привык к удачам. И Васильев, понимающий толк в живописи, твердо верит в его будущность. Яков Андреевич не раз говаривал, что мечтает вырастить своего сына Егорушку похожим на Сергея. Он хотел, чтобы сын стал художником: "Таким же, как Сергей". От этой дружеской похвалы у Полякова радостно билось сердце. И ведь правда, уже теперь у него, ученика, нет отбоя от заказов. Зарабатывает он хорошо и, как равный, принят в знатных домах столицы.
Сергей открыл дверь собственным ключом.
Ужин Якова Андреевича не похож на ужин в Академии — здесь по-семейному уютно. За общим столом Сергея ждет отдельный прибор. И молодая, круглолицая Анна Дмитриевна, жена Васильева, накладывает ему тарелку верхом.
— Кушайте, голубчик, кушайте досыта, — растягивает она не по-петербургски слова.
Сергею хорошо. Он любит эту неприхотливую квартирку. Тепло, и ласковые голоса пригревают его и успокаивают тревогу.
Щуря близорукие глаза от света висящей над столом лампы, Васильев говорит жене:
— А ты, Аннушка, хоть и зоркая, а проглядела, что у Сережи тарелка уже пуста. Клади ему масла побольше, не слушай, что будто сыт. Мальчишек надо в ежовых рукавицах держать, учил мой покойный профессор. Им бы только на палитре масло, а в животе — хоть вода…
Сергей расхохотался, чуть не расплескав полную до краев кружку домашнего мятного кваса.
— Яков Андреевич, любимый вы мой хозяин, скоро вы сами станете профессором! До еды ли мне? День-то какой сегодня!
— А что? День как день. Это вы про завтрашний экзамен? Чего вам бояться? "Дело не в медали, а во внутреннем удовлетворении, в честном отношении к мастерству", — говорил всегда профессор… Ох, Аннушка, я что-то сегодня устал, а надо еще отчет в совет кончить. Академия — не кредитор, она не ждет. А насчет медали скажу вам по секрету: получите наверное.
Сергей вспыхнул.
Васильев добродушно рассмеялся:
— Да вы не смущайтесь. По мне, всякие там менуэты с барышнями танцевать куда страшнее, я к ним и по окончании Академии привычки не получил. А вы, подобно Вандику, уже портреты в знатных домах пишете, по-французски понимаете, а все робеете, как красная девица.
— Да что ты их конфузишь, Яша? — вмешалась Анна Дмитриевна. — Так они и поперхнуться могут.
— От дружеских шуток не поперхнешься, не бойся. Если бы Сережа был моим учеником, — моим произведением, годами создаваемым, как говаривал мой профессор, — разве я бы с ним так беседовал! Ведь он сейчас только еще "подмалевок"
[95]. Из него должна выйти картина, достойная истинного значения этого великого слова.
Анна Дмитриевна, опустив руки, слушала мужа, точно оракула. А он с молодым восторгом вспоминал слова учителя:
— "Я тебя, юноша, не осуждаю, — твердил постоянно профессор, — а чуть плеточкой по сердцу твоему прохаживаюсь, чтобы ты и в уме не держал работы наотмашь, то есть малевать с единственной задачей — приобрести деньги. Лучше просиди лишние год-два, а своего достигай. А ежели не хватит пороху, будь тогда порядочным рисовальным учителем, чем дрянным живописцем…" Ну и жарко же натопила, Анюта, разморило, что в бане!..
Он вытер еще не тронутый морщинами лоб и продолжал восторженно:
— "Я никому из вас, учеников, не перечу: хочешь — будь художником исторической живописи, хочешь — батальной или по написанию портретов. Хочешь — выбирай себе зверопись или живописуй цветы, становись хоть мозаичистом — все едино. Но только умей его, искусство, приголубить. Оно что птица: упустишь — не поймаешь. Я сам, с хлеба на квас перебиваясь, дошел до Академии. Главное — это не лениться сидеть "на натуре", а безнатурную отсебятину раз навсегда позабудь. Садись за бумагу или холст и бери ее, стерву-натуру, прямо за горло!"
— Чего же ты ругаешься, Яша? — запротестовала Анна Дмитриевна.
— Слово из песни, как известно, не выкидывают, Аннушка.
— А вы, Яков Андреевич, и верно, точно песню слова учителя выпеваете, — улыбнулся весело Поляков.
— А разве не наша такая-то песня, Сережа? — все более и более загорался Васильев. — "Щепетильность — мелочи там всякие — на задний план гоните, молодые коллеги. Сначала начертайте картину смелой рукой в общем размахе. А после уж оглядите, какая где пуговка, завязочка или бантик забыты. Подробности — дело сапожника, портного, шляпника, а художник охватывает все в целом. Выпишет видописец каждый листик, сугубо контуры выведет, как узор какой, и не даст общего вида — так пусть подарит свой труд на стенку в харчевню".
— Да ты, Яша, и впрямь наизусть, словно молитву, все вычитываешь.
— Это я, Аннушка, оттого, что не перед несмышленым мальчонкой из младшего класса, как обычно, говорю, а перед понимающим уже, взрослым художником.
Он положил руку на плечо Полякову:
— Сережа, верьте мне — далеко пойдете. И хочу, чтобы так же далеко пошел в свое время и мой Егорушка. Слышь, Анюта, сынок голос навспомине подает. А ты, рот разиня, нас слушаешь. Ступай, ступай к своим материнским обязанностям!
Анна Дмитриевна метнулась в соседнюю комнату, откуда доносился требовательный крик Егорушки.
— Вы, Сережа, подумайте, — продолжал Васильев, — портретная живопись верный кусок хлеба дает. Но историческая и на мой взгляд выше, куда выше! В ней простор, говорил профессор, полет для души. — Голос его звучал вдохновенно: — Я, Сережа, о вас часто думаю. Вы у нас в Академии господами своими как бы напрокат даны. Хорошо, что вы им не понадобились, позволяют развиваться таланту. А талант у вас очень большой. Помню, как вы пришли в первый раз экзамен держать по весне… Все мы любим весну, когда в Академию слетается рой "посторонних" учеников. Профессор, бывало, говорил: "Придет другой — сморчок сморчком, рваненький, совсем, казалось бы, никудышный. А сделает карандашом взмах, проведет штрих — ухватку его, почерк, силу разом и увидишь!" И верно, весна точно крылья всем дает! Нева льдом трещит, пыжится. У Академии народ толпится, на силу природы любуется. "А я, — говорил профессор, — на силу таланта человеческого…"
Он махнул рукой от избытка чувств и отодвинул тарелку.
— Про отчет-то я и вовсе забыл!
Сергей поднялся и поблагодарил хозяина за ужин.
— Не меня! Не меня! Аннушку-заботницу.
— Спокойной ночи, Яков Андреевич.
— Спокойной ночи, Сережа. Спите, набирайтесь сил для большой жизни.
II. В СТАРОЙ АКАДЕМИИ
Шесть часов вечера 1816 года. Зимняя вьюга швыряет горсти белой крупы в окна второго этажа Академии. По громадному натурному классу тоже ходит ветер. На деревянном станке два обнаженных натурщика около часа уже стынут в напряженных позах борющихся гладиаторов. Тишину нарушает лишь вой вьюги в трубе да потрескивание дров в прожорливой печи. Холод почти не уменьшается, а до звонка еще далеко.
Мерзнут и руки учеников, внимательно вглядывающихся в античную группу натуры.
Один только учитель, художник Дмитрий Миронович Ушаков, мирно дремлет на стуле, возле печной дверцы, в своем вечном, кирпичного цвета сюртуке. В кулаке у него зажата копеечная сайка. Это самый старый из учителей Академии, искусный когда-то исторический живописец, не сумевший пробить себе дорогу и быстро забытый. Бедность — постоянная его подруга. В Академии ему, вероятно, все же теплее и уютнее, чем в убогой квартире в Гавани. Иначе он не приходил бы сюда в четыре утра, еще до подъема учеников, не слушал бы воркотню швейцара, нехотя снимавшего с него потертую плисовую шубу.
В зимнее время ученики рисуют при огне. Но металлические подставки с рядами ламп тускло освещают натурщиков. Пламя коптит, распространяя удушливый чад. Не помогает и широкая железная труба, проведенная прямо на крышу. От нее несет только лишней стужей.
Наконец учитель зашевелился, с трудом открыл глаза и сделал знак. "Гладиаторы" разом вскочили и начали бегать по станку, распрямляя затекшие спины и хлопая себя по бокам. Сдвинулись скамейки, зашуршали листы бумаги, загудели голоса.
Ушаков мелкими шажками прохаживается между рядами учеников.
— Нотбек, возьми стирочку. — И, протягивая мякиш своей сайки, приговаривает. — Разве мне жалко? Смотри тут: следок-то опять не вышел. Зачем так повернул его? А тебе, Брюлло, стирать ничего не надо. Сам все давно уразумел и поправил. Не ленишься, Карлуша, что говорить! По двадцать раз перерисовываешь, милый. Профессора не нахвалятся!..
Карл удовлетворенно потягивается и щурит утомленные глаза.
Ученики старательно подправляют рисунки. Даже второй Брюлло, брат Карла, прилежный Александр, не без греха.
Перерыв быстро кончается.
— Продолжаем! — садится на свое облюбованное место Ушаков. — Ну-ка, братцы, на станок! Да позу, позу, голубчики, не забывайте. Вот и не так стоял, ай-ай-ай! Подожди, я поправлю. Нуте-с, продолжаем…
Опять холод, копоть, мертвая тишина и мучительное напряжение мускулов "натуры".
Но вот в дверях появляется дежурный со звонком. Дребезжащий, пронзительный звук возвещает окончание урока. На станке радостное оживление.
Ушаков машет руками:
— Постойте! Постойте!.. Всего четверть часика, милые! Ведь немного не доделали! Не поленитесь еще минуточку, голубчики!..
Натурщики покорно принимают прежние позы.
Когда наконец их отпускают, они, торопливо одевшись, уходят к себе в подвал, на казенную квартиру.
Снова шелест бумаг, хлопанье папок, шум отодвигаемых скамеек, возгласы, смех, чиханье простуженных. Сложив рисунки, ученики начинают очищаться от копоти, сморкаться, отплевываться, а потом гурьбой идут к умывальнику.
Кряхтя и вздыхая, Ушаков расстается с обжитым уголком и одиноко семенит в вестибюль.
Надев шубу, он опасливо скользит в полумраке по обледенелым ступеням лестницы. Руки ловят, за что бы ухватиться, но все вокруг сплошь покрыто инеем. Дверь здесь почти никогда не закрывается.
Оттирая помороженные руки, швейцар ворчливо бросает:
— Собачья жизнь!.. — И топит злобу в насмешке: — А вам, сударь, покрышечку бы новую на шубу давно сделать надобно. Вата вон торчит… Одна срамота! Я, пожалуй, и портного бы по сходной цене указал.
— Эх, милый! — шепчет безнадежно Ушаков и скрывается в снежной вьюге.
Одновременно с Ушаковым уходят учителя остальных классов и "посторонние" ученики. Их сразу можно отличить по одежде: на одном потрепанная городская бекеша, на другом бесформенная кацавейка, а вот и просто деревенский полушубок. А "казенные" выстраиваются парами, чтобы идти в столовую ужинать. Их более двухсот. Они тоже похожи на оборванцев, но только в форме: малолетние — в синих куртках и синих штанах, с пуговицами, обтянутыми сукном; на старших — короткие мундиры того же цвета и белые чулки; на башмаках пряжки; медные пуговицы с давно стершимися лирами. На куртках, штанах и мундирах нередко плохо пригнанные заплаты. От нездоровых условий жизни многие из подростков и юношей страдают базедовой болезнью и иными хроническими недомоганиями.
В коридоре, куда высыпали ученики всех классов, — теснота. Дежурит сторож Анисим. Его высокая, тощая фигура грозно возвышается над всеми. Анисима боятся и маленькие и большие. У него тяжелая рука, а бить в Академии не возбраняется даже сторожам, если сие, по мнению некоторых из начальства, "способствует воспитанию"
Вот среди младших уже кто-то ревет, получив от Анисима увесистую затрещину.
Но появляется сановитый старик в мундире с золотым шитьем на воротнике. На бритом лице его — мягкая улыбка. Глаза смотрят внимательно и ласково. Ученики любят этого восьмидесятилетнего человека, инспектора Академии Головачевского.
Двое из старших вспыхивают радостным смущением и перешептываются. Они еще не забыли, как несколько лет назад ездили вместе с третьим мальчиком на квартиру к любимому воспитателю. Там их рисовал возле Головачевского знаменитый Венецианов. Групповой портрет получился очень удачным, и все трое учеников считали себя счастливейшими избранниками судьбы.
Неторопливым, торжественным шагом инспектор проходит мимо построившихся рядов. Анисим разом сгибается и, сутулясь, прячется за
воспитанников.
Взгляды младших учеников снова настораживаются, когда к ним приближается преподаватель первоначальной грамоты Шишмарев. В парике, всегда с красным лицом и большой бородавкой на носу, он славится коварным нравом. Держа руки за спиной, грамматик нередко прячет палку и пребольно ударяет провинившегося. Воспитанники не столько слушают его наставления, сколько следят за движением его рук.
Ученики делят учителей по-своему: на злых и плохих, на строгих, но хороших и на совсем хороших. Хороших все же немало в Академии: профессора Иванов, Егоров, Шебуев, Щедрин, Угрюмов, скульптор Мартос… Хороших, хоть и строгих, ученики боятся и уважают, понимая, что получают от них серьезные знания. И благодаря им русская Академия прославлена по всей Европе.
Строг и требователен учитель русской словесности — молчаливый, сухой Предтеченский. Смешной с виду, в высокой стоячей фуражке и странном сером пальто, похожем на женский капот, он не внушает, правда, особой симпатии. Но его ценит не только высшее начальство, но и сами учащиеся.
"Этот никогда не подведет!" — говорят они между собой.
"Не допустит, чтобы кто-нибудь пришел на экзамен слабо подготовленным…"
Совет Академии постоянно выносит ему благодарность.
Зато других ученики ненавидят.
Низкорослый немец Голландо, с выпученными глазами, известен среди воспитанников звонкими оплеухами и приговорами к розгам.
Учитель русского языка Тверской — леноват. Он небрежно следит за ответами учеников, напевая что-то себе под нос, но рука его покрепче слабосильной руки Голландо.
Ненавидят и помощника инспектора Жукова.
Так рассуждали главным образом "маленькие". У старших имелись собственные страхи, обиды, огорчения. Несколько раз в году они должны были представлять свои работы на конкурс. Многим нелегко доставались "первые номера", дававшие право на медаль. И никому не хотелось попадать в отстающие.
В столовой чинный порядок расстраивался. Изголодавшиеся ученики бросались к столам.
Служитель вносил котел с кашей-размазней и растопленное масло.
Воспитанники жадно тянулись к горшку. Каждый норовил зачерпнуть побольше масла. Многие наловчились поддевать двойную порцию, слепив из хлебного мякиша на деревянной ложке второе дно. Ужин проходит быстро. Все шумно поднимаются. И отчетливый голос дежурного ученика начинает благодарственную молитву.
— Пойдемте вместе, — сговариваются младшие.
В длинном темном коридоре едва светит одинокая тусклая лампа. Мальчики с опаской жмутся к стенке, пробираясь в уборную.
Ради потехи старшие часто подстерегают их. Сейчас маленькие рады были бы даже страшному Анисиму. Они топчутся на месте, не решаясь миновать опасного поворота.
Испуганный шепот:
— Смотри, смотри!..
На заплесневелой стене появляется чья-то тень. По всему видно, их уже поджидают. Мальчики с ужасом вспоминают, что в лазарете лежит старший воспитанник Горский. Его в драке ударил шабером — граверным инструментом — ученик Глинский. Глинского, правда, исключили из Академии и назначили церковное покаяние, но Горский-то все же, говорят, умирает…
Малыши пробуют быстрее проскочить мимо. Но за одной тенью вырастает другая, третья, — проскользнуть не удастся. Крик, давка, плач…
К счастью, показывается спасительный Анисим и наводит порядок тоже "по-своему".
…Вечерами в спальне у маленьких шепот:
— Васька, а Васька, спишь?
— Да, уснешь тут! Скоро рождество, а я сиди в проклятой Академии. Мне не к кому идти в отпуск. Я сирота.
И глубокий продолжительный вздох.
— Васька, а Васька!
— Ну чего?
— А я думаю: кабы моя воля, пошел бы я мальчиком в булочную. Там плюшек сдобных, хоть лопни, ешь. Вчерась я видел булочников, по набережной шли. Сами белые, ровно пшеничные.
— А я бы лучше пошел в галантерейщики. Галантерейщик завсегда при галстуке и при часах. Голова напомажена лимонной помадой, от самого дух!.. Ух ты! А вечером в саду зефирничает. Сапоги блестят и со скрипом. Все на него заглядываются. Шуба теплая… А тут сидишь, мерзнешь над голым Аполлоном, черт бы его взял! Учитель смотрит и смеется: "Что это ты, говорит, на-ва-ра-кал, не пойму никак?"
— Не-е, в булочниках лучше, сытнее!.. До смерти надоело рисовать эти "глазки" да "кисточки".
Сонный голос снова передразнил учителя:
— "Ты, шельмец, не достоин пальца микеланджеловского раба рисовать, не то что руку али ногу. Ведь ты медвежью лапу рисуешь. А здесь — благо-род-ство!.."
Еще один уныло вмешивается:
— Что толку рисовать да рисовать? Сиди двенадцать — пятнадцать лет в Академии, а выйдешь в рисовальные учителя. Одна конфузия!.. Ходи, как наш Ушаков, в бабьем рваном салопе.
— Да что там — "двенадцать — пятнадцать"! Иордан — не нам чета, способный, а остался из-за роста на три лишних года. Мал, вишь, ты! Уж он и картон под пятку подкладывал, и на носки вставал — куда там! Мал ростом — и шабаш! Подожди, значит, еще… Впору задавиться!
— А другие любят рисовать, право слово! И что они в этом рисовании хорошего находят?! Удивительно!
— Вот, например, тот же Карлуша Брюлло. Тот не удавится.
— В нем много "гения и огня" — говорят и учителя и профессора.
С дальней койки сердито обрывают:
— Спать мешаете, балаболки! Лучше встаньте завтра пораньше да поищите пуговиц и гвоздиков. Тверской вчерась что-то хмурился и все носом хмыкал.
— Мы с Васькой и то гвоздиков набрали — хватит с него.
Голоса затихают, начинается чей-то сонный присвист, неясное бормотание, чуть слышные стоны. Васьки, Петьки и Степки, случайно попавшие в Академию, некоторое время еще мечтают о сытной карьере булочника и "блестящей" — галантерейщика. Обдумывают, как бы получше ублажить мрачного Тверского. Они открыли его слабое место — манию собирать коллекции пуговиц и гвоздей. Вот преподнесут ему завтра фунтик старых гвоздей, собранных где попало, да пуговиц, стащенных в академической пошивочной. Учитель будет расхаживать по классу, заложив руки за спину. А потом с довольным видом станет напевать, не замечая ошибок в ответах нерадивых учеников.
III. "РОЗОВЫЙ" ДОМ
Сергей тщательно оделся. Надел даже фрак, на который истратил недавно крупную сумму. Старательно причесался. Зеркальце отразило лицо с большими черными глазами и тенью пробивающихся усов.
По воскресным вечерам он почти всегда бывал у графа Федора Петровича Толстого, члена совета Академии, известного художника-медальера, с которым познакомился через Васильева. Кто не знал так называемого "розового" дома на 3-й линии Васильевского острова, в котором жил Федор Петрович… До него было рукой подать, только миновать старый длинный забор вдоль рекреационного академического двора. Там стояло три деревянных одноэтажных здания, принадлежащих Академии. В одном жил архитектор Гомзин, в другом — профессор живописи Варнек, а посредине, в красивом розовом доме с мезонином и стеклянной крышей, — Толстой.
Еще не стемнело, когда Сергей дернул звонок у подъезда. Ему открыла горничная:
— Граф еще работают.
— Я всегда раньше всех, — засмеялся Сергей. — Ничего, посижу пока у Ефремовны.
Он прошел коридорчиком, мимо парадных комнат, в каморку няни Толстого Матрены Ефремовны.
Здесь царил свой, особый порядок. На комоде, покрытом вязаной скатертью, были симметрично расставлены старые детские игрушки, какие-то раковинки, камушки, принесенные в дар няне ее питомцами. Рядом — монашеские рукоделия: коробочки и подставочки для подсвечника из семечек. У киота — вербы, свечи, раскрашенные яйца-писанки и лампадка в виде летящего голубя. На стенах — в самодельных рамках десятка полтора детских рисунков: лошадок с лихими всадниками, кораблей, цветов, диковинных птиц.
На высоко взбитых перинах сидела маленькая старушка в ватной кацавейке и, опираясь ногами в большой сундук, быстро вязала на спицах.
Улыбнувшись беззубым ртом и не бросая работы, она закивала головой:
— А ты и нынче спозаранку, дружок. Как здоров?
— Благодарю вас. Что мне делается? А как ваше здоровье?
— Бог грехи милует, видно, на тот свет мне дороги еще не приготовлены. Поживу, батюшка. Вот чулочки всем теплые к крещенским морозам кончу, а там стану вязать и на продажу.
— Для чего же на продажу?
Ефремовна подняла на Сергея глаза:
— А как же?.. Надо ж мне себя оправдать. Ем, пью, комнату занимаю, а Федюшке на всех не разорваться. Для тебя, да и для всех, он знаменитейших художеств советник, а для меня был и есть Федюшка. Я его на этих самых руках растила и штанишки первые надела. Невелики были богатства у родителей. Батюшка граф больше честью богат, чем деньгами, не умел наживать. А матушка — рукодельница, все шелками картины шила да игрушки сама делала лучше, чем в магазине… Ну, а продавать, — ни-ни, зазорно! Семья большая, у детей рты проворные, зубки крепкие, животы целый день пищу просят. Трудно растить-то было.
Она передохнула, точно вспоминая, и продолжала:
— Ну, Федюшку, известно, по графской знатности, как крестили, так в сержанты и записали. Да сразу и отпуск младенцу дали.
Сергей улыбнулся:
— Отпуск? Младенцу?
— Не веришь, голубь? Такая тогда бывала манера: родился дворянин, ну и служи царю-отечеству с малых лет. Каждый год так вот и давали отпуск, пока рос. Опосля поступил в корпус, а там и морским офицером стал.
— Слыхал я, что граф не захотел служить во флоте.
Лицо Ефремовны приняло строгое выражение.
— Как это так, в военной службе да не захотел служить?.. Нешто этак можно, ежели его в сержанты еще при крещении даже определили? Федюшка у нас до лейтенанта дослужился и на кораблях в чужих краях побывал. Только вот рисовальная глупость ему дороже жизни была. Уж я его, случалось, ругаю, ругаю. В детстве и посеку малость. А он — все за свое…
Она указала спицей на рисунки по стенам. Сергей давно знал эти детские попытки Толстого выразить неумелой еще рукой щедрость своей ребяческой фантазии.
Голос няни сделался сердитым:
— Вот он и снял мундир, дурачок. Да ты, батюшка, видно, не понимаешь, что он не вам чета. Вас — кого барин ткнул в Академию, кого казна послала, а ему каково пришлось?! Вся родня — на дыбы. Кричат: "Маляром заделался!.. Лучше иди ко двору, мы тебя камергером с ключом
[96] представим к самому государю. Ну и чины, и все прочее…" Раз дядюшка его, старый-старый, глухой и строгий, даже написал родителю Федюшки, что Федюшка сошел с ума: ходит, вишь, в курточке, в длинных волосах и, дойдя до совершенных лет, стал учиться, как маленький. А у Федюшки волосики мягкие, что шелк, — красота ангельская, и на концах вьются. Зачем их стричь? Он не солдат. И курточки я сама спервоначала шила — деньги-то у него где были? Не было. В те поры стал он гребни модные да броши на продажу делать, а я чулки вязать.
— Неужели и чулками можно было помочь графу, Ефремовна?
Она пожевала губами и пренебрежительно взглянула на гостя:
— Что ты понимаешь! Чулки! Одни чулки, думаешь? Не-ет…
И, лукаво сощурив глаза, точно запричитала певучим голосом, которым когда-то баюкала питомца:
— Я ему и говорю: "Не корись, Федюшка, не корись! Работай, батюшка, работу бог любит, хоть и противная она у тебя, надо правду сказать. Не бойся, родной, старая нянька найдет, из чего щец сварить". И взялась за свой сундук. Сперва продавала полотно, миткаль да всякую всячину, что в ихнем же толстовском доме нажила. А насчет чулок, голубь, — так знакомство по Питеру большое, ну и от покупателей нет отбою… И перчатки, и митеночки, и чулочки — все надобно, особливо зимою — теплые. Деньги же от него все отбирала на харчи…
Она гордо посмотрела на Сергея:
— И он меня бережет. Да и кого не берегли Толстые? Племянник мой Иван Кудрявый, вольноотпущенный Толстых, до сих пор каждую обедню за них свечку ставит. Барышню-полячку с приданым за себя взял, дом свой, капитал нажил, какой, может, Федюшке и не снился. А ходит сюда, к ручке господской, по старинке, прикладывается и стоит, как во фрунт вытянувшись. Федюшка же его за стол с собой сажает. А меня ох как бережет!..
Сергей знал, как относились Толстые к Ефремовне. Никогда не забывая, что у старой няньки больные ноги, они нанимали для нее каждый раз карету, когда она собиралась в церковь. А сами ходили пешком, лишние расходы были им не по средствам.
Спицы быстрее заходили в руках старушки.
— А ты что же таким козырем вырядился, голубь? И фрак, вишь, аглицкого сукна, — пощупала она материю, — и ботиночки новенькие, козловые. С Машенькой потанцевать собрался?
Сергей густо покраснел.
Она покачала головой:
— Дурачок ты, как есть дурачок. На кого глаза-то поднял?! Ты звания низкого, а она графская племянница, исконная столбовая дворянка Баратова. И маменька у нее к тому же — перец, страсть! Ты вот ее, маменьку-то, до сей поры еще не видел. Она в деревеньке своей пауком сидит, прочит дочке богача мужа. Поразмысли, глупый: ты ровно из берестяного мужичьего кузовка явился на свет, а Машенька ведь… Вот и легка на помине! Шажки ее, слышь, деликатные.
Сергей вскочил.
Дверь скрипнула, и в комнату вбежала молоденькая девушка в белом тарлатановом
[97] платье. Светлые локоны прыгали у нее по плечам. Голубые глаза радостно искрились. От порозовевшего лица, от всей легкой фигуры, с еще по-детски тонкими руками веяло морозной свежестью.
— Иди, иди, касатка! — ласково встретила её Ефремовна.
— Здравствуйте! — сказала Машенька высоким, звонким голосом. — Здравствуйте, нянечка.
И, поцеловав старушку, начала быстро рассказывать:
— Гуляли мы сейчас с тетенькой. На дворе — холод! Ужас! Квартальный у будки даже нос, говорят, отморозил. А к Гостиному навезли кучу елок… Тетенька купила мне у разносчика пряничного конька с сусальным золотом, совсем как в святки на ярмарке продавали. Тетенька говорит: грубое лакомство, деревенское. А по-моему, все деревенское — самое лучшее. Правда, нянечка?
Она говорила, а сама косилась веселыми глазами на Сергея. Потом неожиданно бросила:
— Сегодня весь вечер танцевать будем. Ваша первая кадриль, как обещала. Рады?
— Рад! — засиял Сергей.
…Машенька счастлива. Она первый год в Петербурге, и все ей здесь ново, все интересно. Росла она слабым ребенком, и мать, отчасти из-за этого, отчасти из экономии, до шестнадцати лет держала ее в маленьком тверском имении. Там Машенька радостно отдавалась деревенской жизни. Она любила и крестьянские работы, и беготню по старому, запущенному саду, и клумбы в палисаднике, и грядки в огороде, где помогала полоть женщинам потихоньку от матери. А потом прятала руки с обломанными ногтями и трещинами на пальцах, чтобы маменька не сказала: "Бесстыдница! Барышня, а руки как у мужички. Ах, срам какой, с холопами водишься!" Маменька считала крестьян чем-то вроде домашних животных. А для Машеньки они были милыми людьми, друзьями, делившими с ней счастье деревенского приволья.
И вот это ощущение счастья, которым дышало все ее существо, и любовь к деревне привлекли к ней Сергея со дня их знакомства. Из всех барышень светского круга она одна выделялась простотою и искренностью. Никто так звонко не смеялся. Ни у кого не было в глазах такого ясного света. Казалось, солнце пронизало ее всю и светилось в ее глазах, в улыбке, играло в каждом завитке ее пушистых волос.
Еще осенью, в первый раз танцуя с Сергеем у Толстых, она вдруг фыркнула:
— Посмотрите, Ксюша, горничная, в дверях. Глядит сюда, а ноги у нее так сами и ходят. Так бы и прошлась по зале. В деревне я всех девушек учила французским танцам… А вы знаете деревню?
Еще бы ему не знать деревню!..
В коротких словах он рассказал ей, что родился и вырос там.
— Ну? — обрадовалась Машенька. — Значит, и в ночное ездили? Да? Как я завидовала мальчикам! Без седла мчатся как сумасшедшие, а потом сидят у костра и пекут картошку. Этого я не могла себе позволить! У меня маменька очень строгая… А сенокос! Такая прелесть! Запах какой! А в саду в это время липа цветет… Коров любите?
— Люблю, но лошадей — больше.
— Grand rond!
[98] — кричал в это время дирижер.
Машенька засмеялась:
— Вот вы и напутали! Задумались о деревне и спутали па… А телята? — продолжала она. — Какие у них мягкие-мягкие мордочки, ресницы дли-инные, и глаза точно в душу заглядывают. Правда?
— Правда.
Она заражала его своей неиссякаемой радостью. Так они нашли общий язык.
Потом Сергей, в свою очередь, увлек ее рассказами об Академии, о своих мечтах художника, о сомнениях во время уроков, о начатой им большой картине "Геркулес и Омфала"
1, показал несколько рисунков. И удивился природному вкусу, верному, бесхитростному суждению молоденькой девушки.
Несколько раз Машенька ему позировала. И всегда она была для него какая-то новая, привлекавшая особенным, ей одной свойственным внутренним светом. Подвижное лицо ее менялось от освещения, от темы разговора, от предыдущих занятий. Но яркий внутренний свет оставался прежним, неизменным, таким несвойственным в обычных гостиных Петербурга.
Так они полюбили друг друга. А радушие и простота небогатого дома Толстых помогли их сближению. Им обоим все здесь нравилось: и сам красивый веселый Федор Петрович, которого они частенько заставали в старом, поношенном халате над работой медалей Отечественной войны из воска. Нравилась и жена его, грациозная, с тонким профилем и античной фигурой, служившая мужу постоянной натурой, помогавшая формовать барельефы из гипса и сама обшивавшая всю семью.
Вот и сегодня неприхотливое, простое общество, без намека на светское жеманство, поголовно увлечено танцами. Вон "тетя Надя", маленькая, смуглая, хорошенькая, но уже увядающая, в самодельном наряде, в паре с братом Константином, ширококостным крепышом в мундире отставного военного
[99]. И ученик Федора Петровича — смешной, добродушный немец, тоже медальер, Торстенсен, повторявший со смущенной улыбкой своей даме: "Ошеровательно!.. Ошеровательно!.." Вот и другой ученик Толстого — датчанин Кнусен. Он остался без пары и сосредоточенно копошится в уголке над ящиком с разными колесиками и пружинками, подготовляя все для любимой забавы хозяина — фокусов.
— Дядя Федя будет, наверное, делать мудреные "тур-де-форсы", — шепчет Машенька Сергею, — он такой мастер на них. А вам нравятся фокусы?
— Очень.
Сергей счастлив, как мальчик, и не находит слов. Да и нужны ли слова?
— Grande chainel
[100] — командует дирижер.
Танцующие берутся за руки и несутся в галопе к дверям.
Это очень весело. Они проскакивают через комнаты, убранные в греческом вкусе, с мебелью, сделанной простым охтенским столяром по рисунку Федора Петровича и обтянутой самой хозяйкой холстом с вышитым греческим узором. Вихрем пролетают через спальню, освещенную мраморной лампадой на высокой греческой подставке. Потом врываются в девичью и даже в нянину комнату. Старая Ефремовна, не выпуская из рук спиц, бормочет полусердито, полусмеясь:
— Угомона на вас нет! Дите в детской разбудите!
— Устала, — говорит, запыхавшись, Машенька. — Пойдемте, Сережа, к дяде. Он сегодня не танцевал, — наверное, у него почетный гость, вот он и при параде.
"При параде" — значит, сидит в кабинете, которому обыкновенно предпочитает столовую или спальню. Там и лепит из воска на кончике стола.
Дверь кабинета открыта, и Сергей говорит:
— Сегодня граф действительно при параде. Новая куртка!
Громадная комната, круглая, со стеклянным потолком и той же обстановкой в греческом стиле. Пламя нескольких свечей озаряет стройную фигуру Толстого в черной бархатной куртке. Светлые волнистые волосы падают на лоб и шею.
— Иди сюда, баловница, — увидел он Машеньку, — чего заглядываешь? Сережа, и вы здесь? Идите оба сюда.
Машенька бросается к нему на шею:
— Какой ты красивый, дядечка! Совсем Рафаэль! Недостает только берета. А где же твой старый халат?.. Сережа, знаете, дядя ни за что не снимал своего "дружка" — любимого, рваного уже халата. Ну, тетенька раз и подшутила: вместо заплаты пришила железную заслонку от печки. Вот смеху-то было.
Она расхохоталась. В ответ послышался густой, сочный бас:
— Ты чего же не здороваешься, насмешница?
Машенька вспыхнула и присела в реверансе:
— Иван Андреевич, не осудите, что я так вбежала… А это Сережа, вы ведь его знаете.
Сергей поздоровался.
Расставив широко ноги, грузно сидел в кресле баснописец Крылов, несколько небрежно одетый, с копной кудрявых спутанных волос. Он показывал скелет какой-то необыкновенной рыбы из коллекции хозяина и говорил:
— И придумал же творец этакое чудище!
— А вы напишите про него басню, — вырвалось у Сергея.
Крылов тряхнул головою:
— Тоже выдумал, батюшка, — басню! Это тебе не лисица и журавль. Ты погляди-ка хорошенько на нее, кто ж ее "душу" постигнуть может?
— Вы, Иван Андреевич, наш мудрец! Вы любую душу постигаете, — заметил многозначительно Толстой.
Крылов откинулся на спинку кресла, полузакрыл глаза, и полные плечи его заколыхались от смеха:
— Я, батенька мой, человеческих душ остерегаюсь. Боюсь, обидятся на старика. Я все больше про зверушек. Те басен читать не станут.
— А если бы умели — вот крик да вой подняли бы! Уж очень они у вас нравами на людей смахивают.
— Что вы! Что вы, батюшка, какой поклеп на незлобивого шутника возводите!..
— Знаем, знаем мы такую-то незлобивость! — смеялся Толстой. — За нее сколько уже раз цензоры прикрывали ваши издания и типографии опечатывали.
Машенька шепнула Сергею:
— Иван Андреевич только вид принимает, что ему лишь бы подремать да вкусно покушать. А на самом деле… Дядя рассказывал… Он такой умный. Все видит, все понимает…
У бильярда, на середине комнаты, кончили стучать шарами. Федор Николаевич Глинка, маленький, худенький, черненький — "совсем блошка", говорила про него смешливая Машенька, — не дал, видно, спуска своему партнеру — стихотворцу еще екатерининских времен. Федор Николаевич считал себя большим поэтом и любил всех поучать. А старик Тимофей Патрикеевич всю жизнь мастерил вирши "на случай": восшествия на престол, именин высоких особ или получения ордена… За это ему платили кто "красненькую", кто "синенькую" — рублей десять или пять, а то и "трояк", смотря по достатку, и приглашали пообедать, поужинать. Зато истинное утешение он доставлял главным образом непритязательным вдовам своими надгробными эпитафиями и очень гордился этим.
Глинка снисходительно спрашивал:
— Что же ты пишешь теперь, дружок?
— Трагедию, — тоже не без чувства собственного достоинства ответил Патрикеевич, — александрийскими стихами
[101]. Ибо стихи такого рода следует писать только во весь александрийский лист
[102].
Кругом улыбнулись такому своеобразному определению формы стихосложения.
— А сколько действий в твоей трагедии? — продолжал расспросы Глинка.
— Семь действий с… одной осьмушкой.
Машенька едва удержалась, чтобы не фыркнуть.
Крылов спокойно посмотрел на обоих из своего уголка и бросил вполголоса Толстому:
— Вот она, житейская истина. Один в благополучии, а другой, почитай что, в нищете. И оба равно плохие поэты.
— Да-с, — с гордостью проговорил Тимофей Патрикеевич, — началом сей трагедии я самим великим Державиным был отмечен в оное время.
— Ох-ох-ох! — вздохнул на весь кабинет Крылов. — И каждой-то зверушке найдется на земле место…
Он закрыл глаза и точно погрузился в привычную полудрему.
— Идите, идите поближе, солнышко наше! — напыщенно приветствовал Глинка Машеньку. — И с молодым представителем искусства вместе. Принесите мне счастье вновь побить Патрикеевича на зеленом поле бильярда.
Почти к самому ужину подъехали новые гости: красивый, стройный драгунский юнкер Александр Бестужев
[103] и чета, видимо, молодоженов. Сергей не был с ними еще знаком и поэтому разглядывал их с особым интересом.
Молодая женщина была немного бледна, худощава, но ее украшали большие выразительные глаза. Она поминутно смотрела на своего мужа.
Тот, сев за стол, заговорил приятным грудным голосом:
— Наташа еле выехала из дому — голова болела. Вот мы, простите, и запоздали. Если бы не Александр, я бы не решился так поздно.
— Я не могла не соблазниться предложением Александра Александровича, — добавила молодая женщина. — Я так люблю бывать у вас.
С детским восторгом она осмотрела новые работы Толстого, благоговейно подержала стеку
[104], удивляясь, как можно простой деревяшкой создавать такую красоту и тонкость очертаний.
За ужином пили дешевый медок, ели холодное мясо с квашеной капустой и, для праздника, сиговую кулебяку, а на десерт — домашние печеные яблоки. Специально для Крылова были приготовлены, как всегда, его любимый поросенок под хреном со сметаной и бутылка солодового кваса.
Бестужев хохотал, непринужденно напевая:
— Cito, cito! Piano, piano! Сыто, сыто! Пьяно, пьяно!
Густой бас Крылова покрывал все голоса:
— Вы, голубчики, пишите себе на здоровье, только не лабазным языком. А то с тупым языком острослов только рифмы нижет; другой — мед-медович: сладок, тошно читать; а третий в облака завьется и уж, глядишь, богу за пазуху лезет! За красавицей Метроманией
[105] волочиться стало нынче куда как модно.
Все дружно рассмеялись.
С литературы разговор незаметно перешел на живопись.
Сергею интересно слушать, но мысли его полны Машенькой. Лишь отрывками до него долетает сообщение, что в Академии предполагаются большие перемены; называлось имя известного царедворца, художника и мецената Алексея Николаевича Оленина.
Толстой рассказывал о традиционном собрании в Императорской публичной библиотеке, где директором был тот же Оленин. На эти ежегодные собрания приглашалась вся петербургская знать.
— Читался отчет о деятельности библиотеки, — говорил Федор Петрович. — А под конец, всем на радость, Иван Андреевич прочел свои новые басни.
— Вы когда-нибудь слышали, Сережа, как читает Иван Андреевич? Лучше самого лучшего артиста Александрийского театра! — восторженно шепнула Машенька.
После ужина гости стали разъезжаться. Машенька подошла к Сергею и с необычайно серьезным лицом сказала:
— Пойдемте в залу.
В полутемной уже комнате догорала последняя свеча.
— Сережа, — начала Машенька все так же серьезно. — Сегодня, глядя на молодых, на дядю с тетей, я все думала о нас с вами.
Он поднял на нее глаза, пораженный. Как она могла угадать его мысли?
— А мы с вами, Сережа? — продолжала Машенька. — Как же мы дальше… в жизни?
У Сергея дрогнуло сердце:
— Машенька!
— Если вы любите меня, как я вас… одного… на всю жизнь…
— Машенька… Машенька…
Он не мог говорить от счастья.
Она положила ему руку на грудь:
— Я люблю вас, потому что вы не такой, как все другие молодые люди. Потому что вы — большой талант. Потому что вы, как и я, росли в деревне и любите все, что люблю я. Потому что вы очень красивы, Сережа. Потому…
Он рванулся к ней. Она остановила его, потом приподнялась на цыпочки и крепко поцеловала в щеку.
— Теперь мы жених и невеста. Да?
Он припал к ее руке.
Машенька мечтательно закрыла глаза:
— Вы будете знаменитым живописцем, и мы обвенчаемся. Сергей почти застонал:
— Но ваша матушка? Она никогда не согласится. Ведь я крепостной.
— Господи, при чем тут "крепостной"? — Она открыла глаза. — Вы же прославите себя, и вас пошлют в Италию. После Академии вам сразу дадут чин и дворянство. Так мне объяснил дядя. Все дело в том, чтобы скорее кончить Академию и чтобы маменька не успела выдать меня замуж. Но я еще молодая. И дядя поможет. Я попрошу. Тсс!.. Сюда идут. Надо уходить. Прощайте!
Она убежала, а Сергей остался возле догоравшей свечи. Трепетный огонек вспыхнул, задрожал, как живой, и разом померк. Сергей, как во сне, вышел в переднюю, надел машинально шубу и сошел по ступеням во двор. В морозной полумгле слышались голоса и смех расходившихся гостей:
— Cito, cito! Piano, piano!..
По улице проезжал извозчик. На снегу темными силуэтами рисовались фигуры молодоженов. Мелодичный женский голос попросил:
— Возьми, мой друг, извозчика.
— Куда прикажете, барин?
— К Синему мосту, братец.
Зябко кутаясь в салоп, молодая женщина села в сани.
— Мороз крепчает. Дай я получше запахну полость, Наташа.
Заскрипел снег под полозьями, зачмокал на лошадь извозчик — уехали.
"Вот так бы и нам с Машенькой, — пронеслось в голове Сергея. — Вдвоем домой…"
Внизу, вдоль набережной, голубым снегом искрилась Нева и уходила широкой лентой в бескрайнюю даль. Колокол пробил одиннадцать. С Петропавловской крепости донесся протяжный окрик часового:
— Слу-ша-а-ай!..
Сергей почувствовал легкий озноб. Одинокий, унылый возглас напомнил ему о сырых, холодных казематах, где долгими годами томились словно заживо погребенные узники.
IV. К КРАСОТЕ И ПРАВДЕ
Весна пришла сразу. Подуло бурным ветром в окна. Дощатый переход по льду Невы убрали, и людям пришлось кружить через мосты.
На дворе Академии и возле круглого здания с фасадом храма Весты ученики уже в одних куртках играли в городки, в лапту и стародавнюю свайку. Звонкие голоса и смех слышались и в Академии.
Служитель Матвей Пыляев, покровительствующий тем, у кого родители были состоятельней, не раз окликал особенно бойких:
— Ужо погодите — не миновать вам карцеру!..
Вечером Сергей собрался в баню. Казенные натурщики перестали нравиться ему. Он надеялся отыскать кого-нибудь, кто согласился бы позировать ему для этюда. До сих пор он еще ни разу не встречал человека с полной гармонией частей тела. А неживые образцы классических скульптур были основательно изучены.
Сегодня, как всегда, войдя в мыльную, он остановился и стал осматривать моющихся. Остро пахло березовым веником и мятным мылом. В сплошном пару голоса звучали приглушенно. С шипением и всплесками из кранов лилась вода. С потолка падали тяжелые, крупные капли. Стены и окна запотели, и по ним сбегали ручьи.
Сергей смотрел. Вот уверенной походкой идет, тяжело дыша, толстяк. Он говорит хриплым басом:
— А ты ловок ли будешь, парень? Поддавать пар надо умеючи. Вся моя отрада — баня. А ты, видать, здоровый, сильный. Уж потрудись, не жалей себя. Отблагодарю, не обижу.
— Как прикажете, ваше степенство.
Голос молодой, симпатичный. Сергей оглянулся и замер: перед ним был живой Антиной с классическим торсом, с изумительно поставленной головой, с совершенной мускулатурой. Руки, ноги, плечи — редкая красота. И лицо…
Банщик открыл дверь в парильню и пропустил перед собою толстяка. Дверь захлопнулась.
Сергей поставил шайку на скамейку и побежал за ними.
Его охватило палящим жаром. Слышалось фырканье, оханье, хлест веников.
Чтобы не задохнуться, люди лежали на полках, засунув головы в облитые холодной водой деревянные шайки. Веники лихо взвивались и опускались на смутно белевшие тела. Банщики плескали в открытую пасть особой печурки воду, поддавая пару. Трудно было разобрать в этом сплошном жгучем облаке отдельные фигуры. Но Сергей нашел то, что искал. На глазах у изумленного толстяка он подскочил к банщику и каким-то робким голосом, почти с мольбою сказал:
— Ты, братец, после них меня вымой. Я… я как следует заплачу.
Банщик приветливо ответил:
— С превеликим удовольствием. Где изволите приказать сготовить место?
— У меня место занято в мыльной, рядом с холодным краном.
Купец недовольно буркнул:
— Молодые, могли бы и сами помыться. Я долго буду париться.
— Ничего, я подожду.
Купец парился без конца, и без конца с ним возился банщик. Потом он понес воду в раздевальню.
Наконец банщик вернулся. Остановившись перед Сергеем, он с недоумением посмотрел на него большими синими глазами. Что это так уставился на него молодой человек и почему так улыбается? Может, за знакомого признал?
— Заморил тебя купец? — спросил ласково Сергей.
— Ничего! Наше дело привычное. Как прикажете: воду попрохладнее аль погорячее?
— А ты сам-то откуда, братец? — не дослушал вопроса Сергей.
— Мы-то? Скопские мы, великолуцкие. Рокотовых господ были допреж, да на волю родитель откупился. А ныне на деревне корма плохие, недород, тятька и велел идти на промысла… Да какой промысел, что я знаю? Брат сапожничает в Великих Луках, я же к пашне приучен. Ну и пошел в банщики. Спинку потереть крепче прикажете?
Сергей сделал нетерпеливое движение, и мочалка выпала из рук банщика.
— Послушай, братец, тебе нельзя оставаться в бане. Ты сколько здесь зарабатываешь?
— Когда как, барин. По субботам, вестимо, больше и под праздники. На харчи хватает, а вот старикам домой никак не сколотишь.
— Слушай: хочешь иметь сытный обед и ужин, квартиру, казенную одежду, а жалованье станешь родителям в деревню посылать?
Парень замер с поднятой мочалкой. Хлопья мыльной пены упали Сергею на колени.
— Премного благодарен. Только тятька сказывал, отпуская в Питер: гляди, сынок, будут тебя манить и деньги большие сулить, не зарься на богатство. Можешь в грех попасть, а тогда… прокляну.
Сергей расхохотался;
— Ты меня, никак, за мошенника принял? Да не воровать я тебя толкаю, а на честный труд. В натурщики!
— Это что же такое будет, барин?
— Это в Академию. Знаешь, тут близко, на набережной? Там с тебя будут рисовать и за это деньги платить.
Банщик недоумевал:
— Нешто это работа?..
— "Натура" — работа нелегкая. Натурщик часто очень устает. А у тебя от природы красота, дар замечательный. Нарисовать тебя художнику — радость.
На Сергея в упор смотрели синие строгие глаза.
— Го-ло-го? Ай, срамота какая!
— Чудак ты, право. Какая же срамота рисовать то, что природа создала?
Банщик молчал.
— Ты подумай-ка до завтра, а я зайду за тобой. Завтра воскресенье, бани закрыты. Где ты живешь?
Тот день был особенно суматошлив. Еще накануне объявили, что в Академии назначен конкурс натурщиков.
Люди сведущие знали, что натурщик — великое дело для художника-ученика. Он неразрывно связан с ним на уроках мастерства. Натурный класс — его стихия. Обязанности его там разнообразны. Он и топит печь, и убирает после уроков. Он "сидит на натуре" часто до обморока, изображая то Геркулеса, то Дмитрия Донского. Нередко он первый узнает от профессоров о присуждении ученику медали. На выставках он гордо прохаживается среди публики, стараясь иной раз во всеуслышание заявить, что на картине изображен не кто другой, как он сам, своей персоной. А с каким достоинством держит он себя в трактире, выпивая чайник за чайником и исходя испариной, как сыплет "мудреными" словечками перед огорошенными слушателями:
"У нас, в Академии, главное — натура!.. Я, к примеру, цену себе знаю. У меня мускул богатый. И притом же я еще и пемзовать холст отменно умею…"
Кто же из них, с улицы, поймет, что пемзовать — значит протирать холст пемзой после грунтовки его краской? И что такая работа вовсе не требует особой сноровки.
В то утро солнце, казалось, особенно ярко освещало натурный класс. Оканчивающие Академию ученики и несколько профессоров окружали деревянный станок и группу обнаженных на нем людей. Как заводные, натурщики сгибали по приказу руки, вздували на них мышцы, вытягивали ноги, склонялись, поднимались, вскидывали головы. У некоторых были испуганнонедоуменные лица; у других — красные от волнения; третьи стыдливо оглядывались по сторонам. А профессора и ученики поворачивали их, ощупывали мускулы, критиковали, командовали:
— Сходи, сходи. Следующий!
Голос старшего ученика, Карла Брюлло, выделялся из общего гула звонким смехом:
— Вот уж выискали Аполлонов! Нечего сказать — антики!.. Покорно благодарю за такую натуру!
— Да ведь и ты пока что не Фидий!
[106] — поддразнивают общего любимца товарищи.
Карл с гримасой отворачивается к окну, и солнечный луч зажигает его рыжеватые кудри яркой медью.
Профессора и преподаватели расспрашивают:
— Ты откуда, любезный? Из огородников?
— Точно так. Мы вот все трое с огородов, из-за Московской заставы…
— А вот ты, братец, поди, деревенский? На щах да на хлебушке вон какой живот нарастил.
— А кромя того, что ж еще в деревне есть? — хмуро огрызнулся нескладный малый. — Сторона у нас вовсе убогая…
— Ну и не годишься. Следующий!
Слегка смущаясь, на станок ловко входит молодой парень.
В толпе знатоков затаили дыхание.
— Вот этот да-а!.. Откуда?
— Что за руки! А грудь!
— Бицепс-то, бицепс! Черт возьми! Сейчас — Антиной, а годков через пять-шесть — настоящий Геркулес… Что скажешь, Брюлло?
— Да, торс невиданный.
Кругом продолжали восклицать:
— Ноги-то, ноги! А голова!
— Смотрите, сынки, не заморите такого на натуре. А то дорветесь до красоты — о самом человеке и забудете…
Профессор исторической живописи Егоров напомнил ученикам про случай с натурщиком в скульптурном классе. Изображая божество Нила, тот упал в глубокий обморок, продержавшись несколько часов без передышки в одной позе. Его пришлось свезти в больницу, где бедняга вскоре умер.
Егоров, небольшого роста, пухлый, лет сорока пяти, с проницательным взглядом черных, немного раскосых, калмыцких глаз, в вечной кожаной ермолке, заинтересованно спросил:
— Откуда такой взялся?
Сергей Поляков счастливо заулыбался.
— Ты? — кивнул в его сторону Егоров. — Где ж ты, волшебник, в Петербурге да Элладу Праксителеву
[107] откопал?
— В бане.
По классу прокатился дружный смех. Смеялись профессора, смеялись ученики, смеялся радостно и Сергей. Натурщик окончательно сконфузился.
— Я его, Алексей Егорович, действительно в бане увидел, — рассказывал Сергей. — Банщиком он был. Едва уговорил идти сюда на просмотр. Я ему: жалованье будешь получать, квартиру и от нашего брата перепадет, если в свободное время станешь позировать. А он мне свое: "А это не зазорно, нагим стоять?"
— Истинная, правдивая красота не может быть зазорной, — произнес серьезно и проникновенно Егоров. — Стыд лишь в бесчестии человека. Запомни это, голубчик.
Банщик поднял голову и обвел всех вопрошающим взглядом.
— Ну, Поляков, — закончил профессор, обращаясь уже к Сергею, — спасибо тебе от всей Академии за твой подарок. А ты, голубчик, одевайся да переходи-ка из своей бани к нам. Чего тут толковать! Из всех сорока ты один годен. Берегите его как зеницу ока, ибо это сущий клад для искусства. А зовут-то как?
— Агафопод, — ответил банщик и легко, словно танцуя, сбежал со станка.
— Ну и имечко! Только что не Агамемнон! Эллада, батенька, одно слово — Эллада!..
Сергей не встретил в натурном классе своих друзей — молодых, но уже кончивших Академию художников Лучанинова и Тихонова. Лучанинов пять лет назад получил диплом и так быстро пошел вперед, что в том же году, кроме первой золотой медали, получил звание академика. О его картине "Благословление на ополчение в 1812 году" было много хвалебных отзывов, особенно благодаря ее теме. Но Сергей считал Тихонова талантливее, хотя любил обоих одинаково. Он восхищался Тихоновым, которому, еще совсем мальчику, четыре года назад была присуждена вторая золотая медаль за картину на такую же патриотическую тему.
Безусый, тщедушный и болезненный Миша Тихонов был Сергею ближе и понятнее Лучанинова. "Кадетского корпуса привратника сын", Лучанинов, вольный от рождения, за блестящие успехи смог скоро перевестись из вольноприходящих Академии в казенные — значит, на все готовое. А Миша, крепостной мальчик, отпущенный своими господами на время, пробивал дорогу лбом и даже не получил на руки назначенной ему золотой медали. Ему только объявили о присуждении. Два года назад он кончил полный курс, но и аттестата первой степени сразу не получил. Господа его жили за границей, в разъездах. Об освобождении от крепостной зависимости долго не у кого было хлопотать. Вольная пришла только в конце лета 1815 года. И Тихонова оставили при Академии как выдающегося ученика.
Сергей нашел друзей в "кабинете" — одной из мастерских, возле мольберта с Мишиной работой. Оторвавшись от собственного этюда, Лучанинов говорил, указывая муштабелем
[108] на огромную картину "Иоанн IV и Сильвестр":
— Ты здорово понял грозного царя. Он у тебя готов пасть к ногам своего советника и духовника. Гармония потрясенного человека и этого вот солнечного луча. Отсвет его ложится прямо на лицо Иоанна. Верь мне, с каждым днем ты совершенствуешься. Вспомни великого Рембрандта — у него всегда борются свет с тенью. Но советую, усиль блик на лице Сильвестра. Эх, если б я мог так!..
Он не договорил и махнул рукой. Неуклюжий, похожий на медведя, с массивными, широко расставленными ногами, он тяжело сел на место. Из-под упавшей на лоб шевелюры поблескивал взволнованный взгляд маленьких умных, глубоко сидящих глаз. Толстые губы улыбались.
Щуплая фигура Тихонова казалась беспомощной рядом с гигантским полотном картины. Бледно-голубые, навыкате глаза смотрели растерянно. Лицо подергивалось от волнения.
— Что это ты, Иван Васильевич, право… — бормотал он, путаясь и заикаясь. — Академик, а такое мне говоришь. Я ведь это… все, что думал об Иоанне Грозном… о чем читал… Каково ему было: царь и первый грешник… А Сильвестр — зависимый, подчиненный царский раб, можно сказать. И в то же время владыка его души, учитель. Я это так, смутно еще… И не уверен, правильно ли понял задачу…
Широкая ладонь Лучанинова легла на плечо приятеля:
— Вот, вот, и гению часто сопутствует сомнение. Смутное сознание! Догадка! Предчувствие! Откровение!.. И почти всегда верное, заметь. И чем больше ты будешь сомневаться, чем больше будешь искать, тем больше сделаешь. Спроси вот его, он-то уж не покривит в оценке.
Лучанинов показал на стоявшего в дверях друга.
— Ты где пропадал, Сергей? И чего сияешь?
— Агафопод найден! — выпалил радостно Поляков. — Вот когда начнем, братцы вы мои! Все музы возрадуются, и сам Аполлон вместе с ними. Поймите вы — класси-ическа-а-ая красота! Новый натурщик — Агафопод!
— Ах, вот оно что! Ладно, увидим. Ты лучше на Мишину картину посмотри.
Сергей подбежал к мольберту и окинул произведение друга опытным глазом. Лицо его стало серьезным и внимательным.
Он знал весь творческий путь товарища. На этот путь указывали и бесконечные наброски вокруг,
многочисленные варианты исканий.
— Ну и ну! — произнес тихо Сергей. — За несколько дней, Миша, ты еще больше усилил борьбу двух начал: силу духа и силу плоти. И что же мне сказать тебе?
Он схватил Тихонова в охапку и горячо поцеловал:
— Поздравляю!
— Задавишь, — засмеялся Тихонов. — И силен же ты, не хуже Лучанинова.
— Вот те на! — хохотал Сергей. — Я вчера Хлобыстаеву изображал в женском одеянии богиню Минерву. Денег-то у него не густо — ну, так я ему по-приятельски битых полтора часа на натуре проторчал. А ты — "не хуже Лучанинова", медведя!
Все трое уселись, стали мечтать.
Пройдет последний лед, и если весна будет дружная, не за горами и лето. Из Академии все потянутся на природу. А осенью, к сентябрю, начнут готовиться к конкурсу. Кто-то получит первую золотую медаль?.. Кому можно надеяться на заграничную поездку в Италию, в эту колыбель искусства? Конечно, только не Полякову, не Хлобыстаеву. Оба они крепостные. А может быть, и не Тихонову даже…
Перед Сергеем проплыл милый образ:
"При чем тут крепостной? Все дело в том, чтобы кончить Академию, и вас пошлют…"
Лучанинов ударил кулаком по подоконнику:
— Кабы моя воля, Миша, я бы тебя первым в Италию отправил, ей-богу!
— Меня? — Голос Тихонова прозвучал неуверенно, и он снова зябко поежился.
— А вот как будет со мной?.. — проговорил Сергей медленно. — Мои господа Благово хоть до сей поры меня и не требовали к себе, но… Кто за них поручится?
Он помолчал, потом тряхнул кудрями и улыбнулся:
— Нет, вздор все! Талант и работа должны вывести человека на широкую дорогу. В прошлом году я был в Москве на похоронах матери, так Сашенька Римская-Корсакова мне сама говорила, что Благово хвастался: вывел, дескать, своего холопа в люди — это меня, значит. И холоп, став человеком известным, будет лишь приумножать его собственную славу. Ведь и правда, лестно сказать: "Академик Поляков? Да это же наш Сережка, из наших холопов!" Много тогда Сашенька смеялась, пересмешница, ей в ту пору лет тринадцать было. Благово ей родня — сестрицей зовет. У них там, в Москве, все между собой родня, по седьмому колену, а всё "сестрица да братец".
— Да и в Питере, — пробасил Лучанинов, — и по всей дворянской России так-то! А в Москве, там всяк Сухаревой башни двоюродный подсвечник!
Сергей залился безудержным хохотом:
— Сухаревой… двоюродный… Ну и выдумал, Васильич!
На бледном лице Тихонова мелькнула улыбка — он думал о своем.
— А вы слыхали, — заговорил он взволнованно, — как с Тро-пининым поступил его барин, граф Морков? Говорят, в Малороссии, в могилевском имении, он заставил Тропинина красить каретные колеса, стены и колодцы. А уж какой великий талант Тропинин!
— Еще бы! — подхватил Лучанинов. — Только, бывало, и разговоров в Академии: "Вася Тропинин да Вася Тропинин!" Я его застал, когда еще вольноприходящим был. А все это дело рук Щукина.
— Что ты, Иван Васильевич! Щукин до сих пор поминает его своим учеником.
Лучанинов посмотрел на Сергея:
— И волк, как козленком пообедает, тоже поминает: вкусен был козленочек! А дело вот в чем, если не знаете: Тропинин учился у Щукина около пяти лет и получил две медали. Щукину заказали как-то четыре копии с портрета государя Александра Павловича. Одну он сделал сам, а три роздал ученикам. Ну и Тропинину, конечно. Тропининская копия оказалась лучшей и понравилась царю больше других.
— Так неужели из подлой зависти отомстил ученику? — в негодовании спросил Сергей.
— Да еще как отомстил-то! Щукин — профессор, а Тропинин — холоп. Разве смеет холоп перед царем стать выше учителя? Щукин и уведомил Моркова, что ежели он не хочет лишиться искусного живописца, пусть берет его скорее к себе.
Лучанинов заходил по кабинету.
— Тропинин, — продолжал он, — гордость России! Он всегда шел собственной дорогой. Не слушал и профессоров, когда внутренний голос говорил ему: надо так, а не этак. У Моркова он сначала в кондитерах ходил, а потихоньку уже рисовал. Нашел где-то учителя, а там и в Академию попал. Вот как!
Увлекшись, Лучанинов басил на всю комнату:
— Тропинин, братцы, работает особенно. Он не испугался и выговора самого профессора Лампи, перед кем все ученики трепетали. Лампи запретил ему даже вход в свою мастерскую. А все из-за того, что Тропинин выдумал собственную манеру смешивать краски прямо кистью с палитры, а не шпахтелем
[109].
— У нас и по сей день учат по лампиевской манере, — добавил Сергей. — А мой Яков Андреевич Васильев все вспоминает слова своего профессора: "Ты работай как хочешь, хоть левой ногой. И, ежели напишешь хорошо да правдиво, слава богу. Вот тебе и твоя собственная манера". Яков Андреевич тоже истинно любит искусство и учеников бережет. Вместе с Алексеем Егоровичем он и за меня Благово просил.
— Ну и как? — быстро обернулся к нему Тихонов.
— Клятвенно обещал дать вольную по окончании мною курса.
— Вот и Тропинин так же думал… — Тихонов встал, подошел к мольберту и приник к своей картине.
Лучанинов крикнул ему вдогонку:
— Зачем от солнца убегаешь? Смотри-ка в окно! Скоро оно всех нас на волю выгонит!
С улицы точно вливался поток теплого света. И на стертом, давно не крашенном полу весело играли золотистые отсветы, зажигая все, что попадалось им на пути, в яркий радостный цвет.
— Братцы! — закричал Лучанинов. — Да я вас, как только распустят на лето, обоих без всяких разговоров стащу в Псковскую губернию, к моему приятелю помещику Елагину, в Новоржевский уезд. Сегодня же напишу ему. Век будете благодарить. Там, братцы вы мои, все, что вам обоим надо: и красота, и правда, и воля!..
V. В АКАДЕМИИ ПЕРЕМЕНЫ
Промелькнули первые недели петербургской весны, с ее нежными пастелевыми красками, малиновыми зорями, холодом цветения черемухи. По Неве засновали разноцветные ялики, маня на острова послушать роговой оркестр Нарышкина и побродить в зелени над рекой.
В академическом саду зацвела сирень, а на дворе громче зазвенел смех играющих воспитанников.
Среди преподавателей и старших учеников только и говорили о предстоящих каникулах, о поездке многих "на натуру", а главное, о новом президенте Оленине. Готовились к коренным переменам в жизни Академии.
Ученики рассуждали:
— Кормить стали сытнее, что толковать. И форму крепкую дали, и белье.
По всей Академии застучали топоры, молотки, завизжали пилы: по приказу нового президента началась перестройка здания. И всюду появлялась энергичная фигура Оленина с двумя звездами на парадном сюртуке. Раздавался его властный голос:
— Везде недопустимый развал. Даже двери плотно не затворяются. А в классах копоть и затхлый воздух. К грязи и холоду, видимо, привыкли. Следует все основательно вычистить. Двери проверить, а кои и новые сделать. Позор! Даже собрания в конференц-зале иной раз отменялись из-за холода. В старшем, "третьем возрасте" плохо выбирают специальности, хотя уже давно надо бы понять, кто куда пригоден: к живописи, архитектуре или ваянию. Следует прибавить в программу обучения класс церковного пения, инструментальной музыки и танцевания. Ученики обязаны уметь прилично ходить и кланяться, чего у большинства из них я не замечаю. Но при всем том необходимо соблюдать строжайшую эко-но-мию.
Ученики разделялись во мнениях: одни ждали от Оленина "даров фортуны"; другие недоверчиво качали головами:
— Вы обратите, братцы, внимание на его хрящеватый нос. Выжига!.. Жмот!..
Маленький Иордан, умевший всех передразнивать, стал в позу и прошелся по классу твердой походкой Оленина. Товарищи покатились со смеху.
Иордан снова преобразился.
— А это кто?
— Покойный президент! Строганов!
[110] Строганов!.. — узнали некоторые.
— Как это он его запомнил? Ведь мальчишкой видел!
— Улыбочка-то! Улыбочка! Совсем графская!
С застывшей снисходительной улыбкой Строганова, подобрав слишком длинную от природы верхнюю губу, Иордан манерно протянул:
— Ах, не надо меня расстраивать… Что-о-о? Дурно пахнет в Академии? Доложите инспектору. Как было хорошо, когда наши питомцы учились у иностранцев, кои вовсе не говорили по-русски. Французы, например, без слов показывали изящество движений…
Иордан напоминал о временах, когда в Академии воспитателями и учителями были иностранцы, не говорившие по-русски. Собранные из глухих уголков России дети даже не понимали, чего от них хотят.
С новыми порядками быт в Академии действительно улучшился. Это признавали все.
Каникулы быстро приближались. Ученики запаслись на все лето красками. Каждый солнечный луч говорил им о просторе полей и лесов для видописи.
В весенние ночи Сергей любил бродить с Тихоновым и Лучаниновым по набережной. Будущее казалось ему таким заманчивым. Закончить с успехом "Геркулеса" и потом — Италия, страна искусств, с ее древними портиками и колоннами, с хранящими тайну веков античными статуями, с нежными профилями мадонн Рафаэля и могучим размахом скульптур Микеланджело… И неизменно рядом с собой Сергей представлял Машеньку с ее заразительным смехом и ясными, детскими глазами. Хороша жизнь!
Высоко-высоко — светлое небо, бескрайняя глубина и ширь. Внизу тихо и однозвучно плещется Нева. Откуда-то доносятся приглушенные окрики грузчиков на баржах и лязг якорных цепей. Правее — на фоне бледного неба мачты кораблей. А на другом берегу — строящийся Исаакий, весь в лесах, а дальше — пышная громада расстреллиевского Зимнего дворца, такого легкого и в то же время строгого в своих изящных пропорциях.
В эту ночь друзья бродили без конца — им не спалось. Долго глядели они с противоположной от Академии стороны на знакомое любимое здание.
Лучанинов оглянулся и поднял руку.
— Смотрите, — торжественно, сказал он, — сам Петр указывает нам дорогу в искусство!
Сергей расхохотался:
— Это нам-то Петр указывает дорогу? А говорят, всей России.
— России и нам… особо, — согласился, улыбаясь, Лучанинов.
Тихонов поднял голову и посмотрел на силуэт великолепной фальконетовской статуи.
— "Медный всадник", — проговорил он задумчиво. — "Медный…"
Поляков прислушался. По лицу друга он видел, что тот начнет сейчас снова говорить о своих постоянных мечтах и поисках.
— Медь набата и медь фанфар… В звуках так же, как и в красках. Всюду свет и тени. Жизнь и смерть. Все сменяет одно другое и постоянно чередуется.
— Рассуждение философическое, — пробасил Лучанинов. — А я не философ и не мечтатель. Я люблю дело. Завтра же начинайте собирать свои потроха. И если ты, Мишка, соизволишь, наконец, всерьез заняться списком всех твоих надобностей для поездки, то мы через три дня сможем пуститься в дорогу. Я подговорю лошадей до Новоржева, а то и до самого елагинского имения. Согласны?
— Со-гла-а-сны! — прозвучал дуэтом ответ.
Небо стало еще бледнее. Нева, казалось, таяла в дымке. Со взморья потянуло утренним ветром. Нежной пеленою начал подниматься туман, зарозовел, загорелся золотом, и вдруг словно брызнуло солнце.
— Здравствуй, Феб!..
[111] — Лучанинов снял шляпу и низко поклонился пылающему востоку.
Все рассмеялись.
Из-за угла, звеня жестяными кувшинами, шмыгнули две молочницы и испуганно шарахнулись от подвыпивших, по их мнению, приятелей.
— А завтра-то уже сегодня, — развел руками Лучанинов. — Спокойной но… Беспокойного утра, дружки!
И все трое разошлись в разные стороны.
Утро оказалось действительно беспокойным. В Академии друзей встретил невообразимый шум.
— Давненько не слышно было такого ора, — заметил Лучанинов. — Мальчишкам попадись любой предлог, они за него так и схватятся. Все старые обиды вспомнят. Но чем они недовольны сейчас, никак не пойму.
Старшие из учеников, собравшись в коридоре, кричали, не слушая уговоров служителей — огромного грубого Анисима и добродушно-хитренького Матвея Пыляева.
— Давай нам гувернера! Он все знает! Сам тянет горькую, теперь взялся за Александрова!
— Нет, давай лучше самого инспектора!
— А может, вам его высокопревосходительство позвать, президента, голубчики? — ехидно хихикнул Пыляев. — Ведь растолковали, кажись, вразумительно, а вы всё свое. Его высокопревосходительство, обходя вчерась вечером Академию, наткнулись на недвижимое тело. В коридорах, знамо, темновато, экономия соблюдается на горючем масле, ну и наткнулись… То было вовсе не мертвое тело, а пьяненький ученик Александров. Его и велели гувернеру убрать до времени в лазарет. Зря только шумите.
— Ведь и правда, в лазарет, а не в карцер, — пробовали уговорить взволнованных учеников трое приятелей.
— А потом все равно в карцер, на расправу! — И ученики лавиной ринулись к лазарету.
— Пойдем все Пашку Александрова выручать!
— Настоящий бунт, — заткнул уши Лучанинов. — Вот и изволь тут плодотворно работать. Скорей бы, братцы, на лоно природы, в тишину.
Ему, как уже академику, неудобно было выказывать интерес к "бунту". Да и Мишку с Сергеем следовало удержать в стороне — у обоих начаты серьезные работы.
А до них ревом доносилось:
— Освободить Па-а-вла-а!..
Ученики столпились перед лазаретом, колотя и чуть не выламывая дверь. Оттуда с опаской высунулась голова смотрителя Шелковникова.
— A-а, клистирная душа, — закричали ученики, — подавай нам Павла!
— С ума вы, что ли, сошли? Ужо, ежели его высокопревосходительство узнает… Мы вашего Павла сюда поместили вдрызг пьяного. Что еще из этого получится, неизвестно!
— Пока что получится, мы тебя всего касторкой вымажем, липучий пластырь!
— Посторонись!
Шелковников пошатнулся. Толпа хлынула внутрь лазарета. Александров лежал неподвижно в больничном колпаке и длинной рубахе, похожий на сумасшедшего.
— Разбойники, да что же вы делаете? — пробовал остановить толпу Шелковников. — Его высокопревосходительство…
— Мы тебе покажем его высокопревосходительство! Вставай, Пашка! Что смотришь как сыч?
— Ободрись, Павел! Мы несем тебе освобождение! — выкрикнул с пафосом ученик Душинский.
Кругом засмеялись. Круглое лицо Душинского, всегдашнего молчальника и скромника, залила краска волнения. Никто не ожидал от него необычной прыти.
— Трясите Павла, ребята! Трясите его, черта! — ревел грубоватый Степанов, хватая Александрова за плечи. — Эй, дьяволы, у кого есть кофе?
Степанов держал себя всегда атаманом. Он гордился тем, что мог свободно бывать в театре и с разными знаменитостями держался якобы запанибрата.
— Аберда, давай кофе, — скомандовал он. — Ты всегда жуешь кофе. Что тебе, жаль вынуть его из кармана, что ли, скареда?
В другое время калмык Аберда не стерпел бы такого предположения. Но сейчас не до обид — надо выручать товарища. Кофе — верное средство. Александров пьяница, это правда, но он талантливый художник, получивший уже две серебряные медали. Ему осталось совсем немного до окончания курса. И Аберда протягивает щепотку любимого кофе. Степанов сует кофе прямо в рот Александрову и кричит:
— Жуй, дьявол тебя возьми, жуй хорошенько! А теперь дыхни. Вот уж меньше пахнет водкой. Давайте сюда одежу болящего по воле Бахуса
[112].
Школьная форма облекает почти бесчувственное тело.
— Вставай, баталический живописец! — продолжал приказывать Степанов. — За твой талант стоит выдержать и не такую баталию!.. А ты, слабительная напасть, — вон отсюда! — И толкнул лазаретного смотрителя в шею.
В сущности, Александров — действительно подвернувшийся предлог. В сердцах взволнованных происшествием учеников всплывают давние обиды за много лет сидения в Академии. Вспоминаются кулачные расправы служителей, вспоминаются розги и оплеухи, полученные от учителей, холод и полуголодное существование. Страсти разгорались, обиды росли, множились, истина мешалась с выдумкой, воображением.
— Долой помощника инспектора Жукова!..
— Бей злодея Анисима! Укороти ему кулаки!..
— Тащи Пашку! Не дадим его на расправу. Ему к экзамену готовиться надо!..
— Да держи, держи его, чтобы не свалился!..
Инспектор с помощником Жуковым заперлись на ключ. Круша все направо и налево, ученики до них так и не добрались.
В Академии снова тишина. В тишине многое представляется в ином свете. Она наводит на размышления. Иордану до слез жалко "бунтарей". Их будут, конечно, судить.
А как испугается маменька, бедная, обремененная детьми вдова, когда он все ей расскажет! Она испугается и за него. Ведь она возлагает на старшего сына столько надежд! И так он отсидел уже лишние годы из-за своего проклятого маленького роста. А тут, как нарочно, кричал с другими, что Александрова следует выручить. Правда, он только кричал и возмущался, но даже в лазарет не заходил. Но все-таки… Что-то будет?
Иордан посмотрел искоса на заданную трудную программу: "Меркурий, усыпляющий Аргуса"
1, и у него с тоской вырвалось:
— Даю клятвенный обед — быть особенно прилежным теперь!
— Придется ли? — услышал он рядом с собою шепот.
Серые глаза всегда серьезного Нотбека, умные и печальные, говорили красноречивее слов.
Он молча показывает на вышибленное Степановым стекло в окне и на отбитый угол подоконника.
К ним подошел Брейтгорн, тихий и скромный друг Иордана.
— И неладная наша жизнь, Федя, — выдохнул он чуть слышно.
Иордан закрыл лицо руками.
— Ох, братцы, а сейчас всего хуже. Помню, бил меня проклятый немец Голландо, зол был дьявольски! А все лучше, чем эта неизвестность.
— Тсс! Кондратьев!..
Гравер Кондратьев, учитель русского языка и арифметики в младших классах, считался строгим, но справедливым.
Иордан ищет в его лице ответа на мучительный вопрос: что будет?
Голос Кондратьева звучит угрозой:
— Вы думаете, вас по головке погладят? Выгонят. Вот и пропало столько лет. Вот и утешение родителям. Вот и медали. Вот и художники. Вот и Италия. В маляры пойдете!
— Что же делать, Александр Савельевич? — поднял на него глаза Иордан.
— Повиниться.
На Иордана вдруг находит подозрение: а почему Кондратьев дружит с помощником инспектора, заведомо подлым человеком? Что может их связывать?..
— Мы сейчас толковали с конференц-секретарем Ермолаевым, — продолжал Кондратьев. — А что, ежели узнает государь?.. Всем забреют лбы. Всех — в солдаты, и Академию закроют.
Сказал и ушел, оставив учеников в полном смятении.
В классе приглушенный гул: виниться или не виниться? Просить прощения или не просить? Унизиться, спасая себя и Академию, или пусть все идет своим чередом? И можно ли верить Кондратьеву, раз он явно держит руку Жукова? И надо же было дураку Александрову напиться и упасть в коридоре!.. Вон сидит теперь, испуганный и пристыженный, хлопая на всех глазами.
…Вечер. В разбитое окно мирно светят звезды. Шелестят деревья академического сада. Двор, утоптанный множеством ног, кажется серебристо-белым в лунном сиянии.
Всех учеников требуют в конференц-залу. Она освещена, как на торжествах. Столпившимся у дверей ученикам это освещение представляется зловещим. Стол покрыт кроваво-красным сукном, а за ним — начальство: члены совета и президент Оленин.
Еще до начала собрания Кондратьев снова повторил ученикам, что для них всего лучше просить на коленях прощения.
Тишина. Медленно встает Оленин. Его голова, сжатая в висках, и хрящеватый нос напоминают голову хищной птицы с острым клювом. Пронзительны блестящие глаза. Две звезды на груди синего академического вицмундира переливаются красноватыми лучами. Рука оперлась на стол; рядом — шляпа с султаном из перьев. Он обводит взглядом залу. Тишина мучительна.
Минута, две, три… Ученики не выдерживают и, как по команде, падают на колени.
Оленин медленно вынимает из кармана сверкающий белизной платок и проводит им по глазам. Потом говорит странным, как будто дрожащим от слез голосом:
— Дети… вижу. Принимаю ваше покаяние. Значит, юные сердца ваши не покрылись еще корою своеволия и зломыслия. Торжественно, как отец, обещаю быть заступником вашим у царя…
Страшное слово вымолвлено. Так это правда — весть о "бунте" уже долетела до дворца.
Прерывающийся голос продолжал:
— Встаньте. Я вас прощаю. Требую лишь одного: подойдите сюда все, кто чувствует себя зачинщиком.
Ученики мнутся, перешептываются:
— Иди, Степанов!..
— Сам иди…
— Да все мы зачинщики.
— Идите сюда те, кто сумеет толковее рассказать, как было дело, с чего у вас началось и на что вы обижались, — призывает Оленин, и голос его кажется отечески-добрым.
Ученики выталкивают вперед троих. Это совсем не зачинщики, но они лучше других отвечают на уроках. Один, по фамилии Тверской, славится даже как декламатор. Выборные расскажут все по порядку, опишут жестокое обращение с ними некоторых учителей и Жукова, попросят президента убрать из Академии мучителей. Им, конечно, поверят: они ведь ни в чем никогда не были замечены, поведение образцовое.
— Ну начинайте, дети, — говорит ободряюще Оленин. — Говорите все без утайки, иначе я не смогу помочь вам.
И они рассказывают все по правде, дополняя друг друга в описании всех горестей академической жизни. И кончают просьбой:
— Избавьте нас, ваше высокопревосходительство, от Жукова и тех, кто нас обижает. Даем слово за всех, что будем слушаться Кирилла Ивановича Головачевского. Мы его любим.
Президент довольно кивает головой.
— Очень, очень хорошо, дети. Теперь последует небольшое наказание виновных, и вас отпустят на каникулы.
На заре следующего дня сторож Анисим стоял у скамейки в нижней проходной зале, вблизи столовой, а подле в ведре мокли розги. Вокруг собралось начальство: и ненавистный Жуков, и гувернеры. Привели "виновных", но почему именно этих, никто из учеников не понимал.
Впереди стоял Нотбек.
— Спускай штаны! — скомандовал Анисим.
Нотбек повиновался. Ни один мускул не дрогнул на его мертвенно-бледном лице. Он покорно лёг на скамейку, и мокрые розги со свистом взвились над ним.
Его сняли уже без чувств. Унижение оказалось сильнее боли — у него не хватило сил.
За ним последовали по очереди: Тверской, Слезенцев и Каракалпак.
Высекли, конечно, и Александрова, и всех пятерых навсегда исключили из Академии. Степанов каким-то чудом спасся.
Наедине с собой Оленин обсуждал происшествие так:
"Они во многом правы, эти мальчики. Но не им насаждать порядки. Жукова следует, конечно, уволить, раз он не сумел взять бразды правления в руки. Академия нуждается в серьезнейшей чистке. А до начала осенних занятий времени для этого достаточно".
Короткими вечерами и белыми ночами, не зажигая огня, президент сочинял подробнейший список придуманных им нововведений.
"В чем же главная причина злокозненных нравов? — спрашивал он себя и находил один и тот же неизменный ответ: — Зло происходит, по мнению князя Александра Николаевича Голицына, монаршею волею нынешнего министра народного просвещения, с коим мнением совпадает и мое личное, главным образом оттого, что в толщу академических стен пробились кре-пост-ны-е! Да-с, крепостные!"
VI. "НА НАТУРЕ"
До Острова ехали на извозчичьих лошадях, нанятых Лучаниновым, потом взяли парную упряжку. Тряслись, придерживая ящики с красками, и чемоданы, уложенные в ногах. Бричка с рогожным верхом поминутно подскакивала на ухабах и колдобинах — того и гляди, растеряешь поклажу.
Почесав в затылке, возница обычно горестно приговаривал:
— Эк, угораздило! Но-о, вывози, соко-о-лики!
"Соколики" безнадежно топтались на месте, облепленные слепнями, и по крупам их стекал пот.
Тогда ямщик слезал с козел и не торопясь принимался сам вытаскивать колеса из жидкой грязи.
— Чтоб вас разорвало, — дьяволы, а не кони. Этакая оказия! Подсобили бы, господа честные.
Ямщики менялись на каждой почтовой станции. Все они были почти в одинаковых заплатанных кафтанах; лошади шершавые, с клоками не слинявшей еще с зимы шерсти; ветхая, часто веревочная сбруя. Ехали шагом.
Стали надоедать остановками на постоялых дворах с огромными нечищеными самоварами, с развешанными по стенам портретами генералов и архиереев, с картинами "Страшного суда", с клопами, блохами, тараканами и назойливым писком комариных роев с вечера до утра.
Лучанинов, душа поездки, спрашивал последнего ямщика:
— А далеко ль, братец, до Петровского? Дорога ваша все кости разломила.
— До Петровского-то? Почитай, еще верст тридцать немереных. А дорога ничего. Вот ужотко осенью этим самым проселком верхами только и проедешь.
Для последнего ночлега на опушке леса выпрягли лошадей и устроились у большого луга.
Было росисто. Пахло пряным запахом моха и молодых елок со светлыми бусинками новых смолистых побегов. Острой струей врывался аромат ландыша. Куковала кукушка. Можно было бы ехать еще верст пять, но лошади сильно заморились. Дорвавшись до ручья под горою, они жадно пили.
Разложили костер. В его свете лица лежащих на траве художников казались бледными. Лучанинов спросил:
— Да ты Петровское-то хорошо ли знаешь, дядя?
— Как не знать? Мы, ямщики, езжали туда, как старый барин еще был жив. При нем по-господски там жили, а ныне — не то.
— Как это — не то?
— Лексей Петрович Елагин — барин чудной. Ни женится, ни холостым не живет. В пух и прах все имение пошло. И под началом теперь у экономки. Была она Параня, а стала Прасковья Даниловна. А угодьев вовсе немного осталось. А прежде он молодец был и богач. И-их, до чего богат!.. — Ямщик восторженно улыбнулся — Я еще парнем был. И коней имел лихих. Барин Лексей Петрович приедет, скажем это, в Остров, свою тройку отошлет домой, а меня требует: "Подать мне Семена!" Из себя он орел, в форме с апалетами, усы крутит, глазами черными водит… Вина возьмет с собой из гостиницы и гнать лошадей велит во весь дух. А коляска — своя. Лошадей замучает, зато на чай не поскупится: иной раз, как пьяный, и целковый даст. Ох, было времечко.
Стреноженные лошади бродили по лугу, и трава мерно похрустывала у них на зубах. Неожиданно Лучанинов заорал:
— О-го-го-го-го!
Художники вздрогнули.
— Господи Исусе! — отодвинулся ямщик.
— Чего ты, оголтелый? — спросил Тихонов. — Испугал до смерти.
— Мне и надо было испугать. Смотри, смотри! Эк она шарахнулась. А вон та голову как закинула. Поза-то как раз для моей баталической картины. Чего лучше: ноздри раздуваются, а глаза — пламень!
Подсев ближе к огню, он торопливо набросал в альбом контуры лошадей.
— Небольшая зарисовочка для памяти, а развить можно будет после. А ночь-то, ночь, братцы, совсем голубая!
Сергей невольно позавидовал приятелю. Не теряет времени даром. А где взять вдохновляющую натуру для "Геркулеса"? Как оживить мифологический сюжет заданной программы?
В наступившей тишине снова завел свою скрипучую музыку коростель. Потом, покрывая его однообразное кряканье, залился в ветвях цветущей рябины соловей.
Трещали сучья костра, вспыхивало и замирало пламя; валились в огонь мелкие головешки. Ямщик пек в золе картошку.
— Дай попробовать, — попросил Сергей.
И разом вспомнился милый голос:
"Как я завидовала мальчикам… Сидят у костра и пекут картошку. Этого я не могла себе позволить".
Машенька! Как близка она его душе!
А кто остался у него из родни? Никого. Отца, кузнеца, он даже не помнил. Мать, дворовую Благово, ездил хоронить сам. Золотошвея была. Умерла в Москве, вышивая для господ до последнего дня. Из Москвы Сергей проехал в деревню. Встретили там, как чужого. Двоюродные сестры над ним посмеивались, передразнивая его городскую речь. Но, когда он пошел на луг и взялся за косу, все точно изменилось. Размах его был силен, трава ложилась широко и ровно. Видно, прежняя сноровка не забылась.
"Не ударил Сергей лицом в грязь, хотя руки и стали белые", — говорили старшие.
Он чувствовал тогда, что душа его точно раздваивается: он страстно любил Петербург, привык к укладу столичного города, но всем существом тянулся к родной деревне.
Сергей одинок, как оба его товарища. У всех троих — никого в целом мире. Оттого, может, и сдружились.
Опираясь на локти, ели рассыпчатую прошлогоднюю картошку. По дороге протарахтела запоздалая телега. Заржали лошади. Им ответило из-за речки далекое ржание. Вспыхнувший искрой, там блеснул огонек.
— Мальчишки в ночном балуются, — вяло заметил ямщик. — Головни кидают. Как бы чего не подожгли. Много лесов горит об эту пору, особливо ежели засуха. А то, пожалуй, цыгане.
— Где цыгане? — встрепенулся Сергей.
— Да вон за теми кустами, на другом лугу, у ракитника. Своей волей некошеное травят.
Сергей поднялся и пошел от костра.
— Ты куда, барин?
— Хочу цыган посмотреть.
— Береги деньги, выманят.
— Выманивать-то нечего.
— И я с тобою, Сережа, — сказал Тихонов.
Зашагали рядом. Из-за кустов скоро донеслась гортанная речь и посвист. Молодые цыгане стреноживали лошадей. Кто-то сердито бранился по-цыгански.
Подошли ближе. На красноватом фоне костров все яснее и яснее обозначались фигуры. Над котелком у первого огня копошилась старуха. За ее спиной показались лохматые головы цыганят. Они с любопытством рассматривали подходивших. Старуха начала пронзительно клянчить:
— Дай, барин хороший, денежку! Позолоти, соколик! Я тебе судьбу счастливую наворожу. Будет у тебя раскрасавица жена, глазки заграничные….
Цыганята подскочили к художникам, толкая друг друга и крича, как стая галчат.
— Цыц! — прикрикнула на детей молодая цыганка с грудным ребенком на руках.
Старуха накинулась на нее с упреками, называя Аннушкой.
Сергей взглянул на молодую женщину. Смуглое, красивое лицо с едва заметными рябинками. В больших черных глазах — печаль, ласка и дума. Сергей сел подле. Прижимая к себе ребенка, она сказала спокойно, как заученную фразу:
— Хочешь, барин, спою песню?
— Спой! — обрадовался Сергей.
Она ответила приветливой улыбкой и запела низким задушевным голосом:
Отойди, не гляди,
Скройся с глаз ты моих…
Сергей подхватил:
Денег нет у меня,
Один крест на груди!
Ему стало вдруг особенно радостно. Да, денег у него мало. Но Машенька любит его. Машенька! Светлая, непохожая на других! Такая ясная, правдивая.
Перед отъездом Сергей успел забежать к Федору Петровичу Толстому попрощаться. Машенька тоже уезжала в деревню.
Кончив петь, Аннушка спросила:
— Чего смеешься, барин?
— Жить хорошо!
Старуха учила:
— Проси барина, пусть позолотит за песню.
Сергей хохотал:
Денег нет у меня,
Один крест на груди!
Художники бросили несколько медных монет детям. Старуха проворчала, что в Москве у Яра хорошие господа хор одаривали золотыми, а красивым цыганкам подносили брильянтовые сережки.
— Нет у бариночков денег, — остановила ее Аннушка, — не видишь, что ли? Не слушай ее, барин пригожий. У тебя у самого голос — цены нет. Ты бы у нас, в таборе, запевалой был.
Сергей дружески кивнул ей и обратился к приятелю:
— Миша, ты что?
Тихонов схватил его за руку.
— Вот что я ищу! Свет и тени. И контуры… Блики… Смотри — где же здесь тонкие переходы? Они все как вылеплены. Я запомню это! Непременно запомню!..
Волнуясь, он стал, как всегда, заикаться.
— Я тоже правду ищу, — подхватил Сергей, — правду и радость жизни. Видишь, она вот и здесь, эта радость. Я тоже запомню. Они такие, будто их родила сама земля, вместе с зелеными почками. Они — от земли. Смотри: Аннушка-красавица смеется. Смех-то какой! А голос — бархат. Постой! Я не умею выразить… Всюду, где жизнь и правда, там и красота. А нас все еще одними богинями в Академии пичкают. Одними классическими образцами. А я хочу писать жизнь, природу. Как ты думаешь, рассердился бы профессор Егоров, если бы я вместо Геркулеса написал вон того лохматого старика? Или привез в Академию такую картину: костер и их — этих черномазых мальчишек? Может, плеваться бы стал?
Тихонов улыбнулся:
— Может, и плевался бы. В Академии одно только "возвышенное" до сих пор ценят.
— Антики?
— Антики. А ты вдруг — черномазых!
Оба рассмеялись.
— Пора ехать, однако, — вспомнил Сергей, — а не хочется… Прощай, Аннушка!
— Прощай, барин, — мягко отозвалась цыганка, укачивая расплакавшегося ребенка.
Снова ввязалась старуха:
— Возьми корешок на счастье.
— У меня счастья и так через край! — весело бросил Сергей. — А тебя, Аннушка, я унесу в своем сердце и по памяти нарисую. Прощай! Может, когда и встретимся.
И, как вызов жизни, он пропел во весь голос:
Денег нет у меня,
Один крест на груди!
Когда товарищи вернулись, Лучанинов спал, повернувшись к огню.
— Запрягать бы, бариночки, пора. По холодку поедем, а то слепни жрут скотину, всю спину у лошадей раскровянили, проклятые.
…Завидев барскую усадьбу, ямщик стал настегивать лошадей. Задрав хвосты, они лихо влетели в березовую аллею, ведущую к подъезду.
— Но-о! Милые! Но-о-о, орлы!
Подъезд был закрыт. Ни на зов, ни на стук никто не появлялся. Ямщик почесал в затылке:
— Прасковья Даниловна сама завсегда открывает, а тут, видно, кур с барином кормит, вот и не слышит.
Он привязал лошадей к одной из берез и стал выгружать несложный багаж седоков.
Лучанинов полез в карман за кошельком.
— А вы не торопитесь, ваша милость. Здесь нашего брата, ямщика, потчуют. Такое старинное заведение: и сыт, и пьян, и нос в табаке. Напрасно я колокольца отвязал — надоели звоном, — все бы кто из слуг вышел. А вы пожалуйте туда — вон в калиточку. Направо калитка — в сад, а налево — во двор. Там он, барин, верно, и есть.
Двор обсажен стриженым ельником и кустами желтой акации. Еще издали слышится: "Цып-цып-цып!" Женскому певучему голосу вторит октавой ниже мужской: "Цыц-цып-цып…"
За кустами художники увидели множество домашней птицы. На песке точно раскинулся разноцветный ковер. В солнечных лучах переливалось черное, белое, рыжее и пестрое оперение птиц. Султаны петушиных хвостов отливали бронзою. Индюки распускали свои веера и, сердито захлебываясь, потрясали синебагровыми бородами. Утки крякали. Гуси шипели. Малоголовые, все в крапинках серые цесарки, семеня тонкими ногами, подбегали к плошкам с водой и, смешно закидываясь, пили. Поднявшись на собачью будку, пронзительно кричал павлин, а хвост его свисал до земли великолепным шлейфом в сине-зеленых и золотистых узорах.
Широко расставив ноги, посреди птичьей стаи стоял человек лет тридцати пяти, в военной фуражке, сдвинутой на затылок, в расстегнутом чекмене. Рядом с решетом, полным зерна, к птицам склонилась молодая полная женщина, с румяным круглым лицом и большими добрыми глазами. Неторопливыми движениями она бросала корм. Полуторагодовалый мальчик в одной рубашонке, уцепившись за капот матери, заливался громким смехом каждый раз, когда куры, толкая друг друга, бросались к зернам. Поодаль старуха кормила в корытах гусей и уток.
Отставной военный кричал:
— Гони ее, шельму бесхвостую, гони! От нее, лентяйки, ни одного яйца не дождешься. Ты бы ее, Паранюшка, велела зарезать. Смотри, смотри, что Сашка делает: длинношеего гусака поймать хочет.
Прасковья Даниловна с беспокойством обняла ребенка:
— Ты, Сашенька, от гусака сторонись: защиплет.
Лукаво играя смышлеными глазами, мальчик пошел прямо на шипевшего гуся. Отец перехватил его и подкинул в воздух.
— Он у нас с тобою, Параня, будет храбрым воякою! Он будет как генералиссимус Суворов. Будешь, Сашка?
Неожиданно заметив художников, он поставил мальчика на землю и расплылся в улыбке:
— Кажется, дорогие гости? И ямщик знакомый. Иван Васильевич, российский Рафаэль или там Рубенс? Вот приятная новость! И с товарищами! Добро пожаловать, друзья мои! Какую мы охоту теперь вчетвером устроим! Знаменитую Ледьку, суку мою, натаскал — чутье дьявольское. Породы немецкой, искусственной: кон-ти-нен-таль-ная легавая. И по зайцам и по птице ходит, ей-богу!
Опомнившись, он благодушно заметил:
— Что же это я?.. Прошу дорогих гостей в дом. Вот моя Параня, добрейшая душа. Эй, Ванюшка, где ты там запропастился, малый? Бери у гостей всякие там баулы да веди их пока в угловую комнату. Только там, поди, пыль — не прибрали с тех пор, как у меня из Новоржева становой гостил. Параня у меня с людей мало взыскивает, все больше сама.
Радуясь, что есть с кем поговорить, он сыпал словами, не давая гостям прийти в себя.
— Сейчас моя хозяюшка со своим птичьим царством управится и всех вас накормит и обо всем позаботится: печенье-варенье, маринады всякие. Сию минуточку! Я вам чрезвычайно рад. А ты, любезный, — обратился он к ямщику, — ступай в застольную. Знаешь, чай, где застольная. Там тебя накормят и чарочку поднесут.
VII. В ПЕТРОВСКОМ
Они жили в Петровском уже третью неделю и освоились с его укладом. На заре ходили с хозяином на охоту и сразу же убедились, что Ледька хоть и "континентальная", но бестолковая. А дичи хоть и немало в лесу и на болотах, но ее "трудно добыть — горазд она пуганая", по словам хозяйского егеря. Кто ее пугал, неизвестно, но поговорку неумелого охотника из елагинской дворни принимали на веру.
Сергей успел уже написать портрет Прасковьи Даниловны и принялся за изображение "наследника" — маленького Саши. Это оказалось не так-то легко. Мальчуган ни за что не хотел сидеть. Он вертелся, поминутно соскакивая со стула, без умолку болтал на своем непонятном языке и все старался залезть в ящик с красками.
Прасковья Даниловна смеялась, вытирая замазанные красками щеки сына:
— Ах разбойник! Углядишь ли за ним?
Елагин придумывал, чем бы подольше удержать у себя гостей. Он даже играл им на скрипке. Сначала, правда, стеснялся и играл на рассвете. Из-под спущенных жалюзи вырывались звуки, полные тоски и жалоб.
Прасковья Даниловна проходя по двору, говорила, увидав кого-нибудь из слушающих художников:
— Играет мой Алексей Петрович. Душа запечалится, вот и играет. И чего ему тосковать? Чего не хватает? Кажись, всего довольно, а тоскует. "Ангельскими вздохами" скрипку называет.
Привыкнув к гостям, Елагин иногда звал их послушать "ангельские вздохи". Приходил он и позировать. Сидел терпеливо, стараясь принять гордую позу. И было ему удивительно, почему Сергей хочет написать его в домашнем чекмене, с длинной трубкой, а не в "параде".
— Ты, друг, изобрази меня так, чтобы всем ясно стало: вот будущий фельдмаршал. И потомкам будет лестно. Я целый день кавалергардский мундир выбирал, какой получше. А Параня начищала эполеты. Те самые, в коих я перед государем на коне моем Туртукае гарцевал. А ты — чекмень!
— Да вы в нем проще, милее, Алексей Петрович! А в эполетах, в мундире — как чужой. И доброты той нет.
— Доброты нет? — обиделся Елагин. — Спроси у людей, тронул ли я кого пальцем? Солдаты "отцом-командиром" называли. Да ежели холопку до себя возвысил и люблю всем сердцем, еще ли я не прост? К венцу ее, правда, не повел, так только из уважения к родне. А поведу к венцу, непременно поведу, дай только помереть моей тетушке. Не хочу скандала Тетушка ведь — на дыбы: оконфузил весь род столбовой дворянин Елагин. Закричит, заплачет, а я наипаче смерти боюсь женских слез. Целая дивизия неприятеля для меня не так страшна, как причитания тетушки: "Ах, Алексис, какой позор! Холопку возвел в дворянское звание!" Я и Сашку выведу в люди всенепременно. Посмотрю, к чему будут у него способности и охота. На птичьем дворе сынишку не оставлю, — шалишь, тетушка!.. А ты, друг, хочешь меня увековечить в чекмене. Еще ли не новая досада для рода Елагиных?
Сергей, смеясь, обещал:
— Вот кончу вас в чекмене, обязательно напишу важным-преважным, в мундире и в эполетах, специально для тетушки.
— А все-таки… зачем понадобился тебе мой чекмень, умник?
— Хочу изобразить вас таким, какой вы на самом деле, без прикрас, по правде, как в жизни. Каким вас любят в Петровском и все, с кем судьба вас сводит. Душу вашу хочу изобразить, а не эполеты. Правду я ищу, Алексей Петрович!
— Эх, друг, какое слово вымолвил: "правду"! Да где она? По-твоему, из-за этой самой правды ты мне и Сашку с соплями под носом изобразишь? И в ландшафте на первое место навозную кучу посадишь?
— Да нет же, нет, Алексей Петрович, это все не то вы говорите! Правду и красоту жизни, радость ее, не повседневные отбросы… Милый вы наш хозяин, Алексей Петрович! Как в первый раз я вас увидел, сразу и полюбил. Поймите! Стоите вы, улыбаетесь, солнце светит, а кругом — птицы…
— Уж не с ними ли ты хочешь меня рисовать? — замахал руками Елагин. — Помилуй бог, осрамишь. Отставной кавалергардский офицер, и вдруг… с петухом или индюком. С павлином и то, пожалуй, нехорошо.
Сергей залился звонким смехом.
— Дураком меня еще никто не считал, а ты, Сережа, этакой пустяковины — о чекмене, о птицах — растолковать мне не можешь.
— Ну как мне объяснить правду в искусстве? Я в столице уже успел много портретов написать. И всегда старался показать в них то, что составляет в человеке его сущность.
— Сущ-ность? — протянул Елагин недоуменно. — В толк не возьму.
— Самое главное.
— Самое главное? В полку меня считали исполнительным и храбрым офицером, хорошим товарищем.
— Вот тут-то и есть ваша сущность: хороший, добрый товарищ. Доброта — ваша сущность, милый Алексей Петрович. И когда на дворе вы подбрасывали на воздух Сашу, боже мой, как светились ваши глаза добротой и любовью. Вот таким-то и хотелось вас изобразить.
Елагин даже привскочил:
— Да побойся бога, голубчик! С ребенком на руках? Да после этого я стану посмешищем всего уезда… Что уезда — всей губернии! Дворянство меня заклюет. А тетушка проклянет… Ох, в чекмене, с Сашкою, с индюком. Прошу покорно!..
Из угловой друзья давно перекочевали на ночлег в сенной сарай. На сене так хорошо спалось, так освежающе продувало из щелей, так весело пробивались сквозь них красноватые лучи зари! Радовал своеобразный мир: полевые мыши высовывали узенькие мордочки с умными быстрыми бусинами глаз, шуршали в углу сухими стеблями. Ласточки черными стрелками метались к висящим над головой гнездам. Курлыкали на крыше голуби. Порою какая-то птичка-невеличка, тряся серым хвостиком, усаживалась на пороге, вертела головкой и недоуменно осматривалась.
Ночью Сергей лежал против раскрытой двери и глядел в широкий квадрат, где серебрилась в паутине набегавших облаков луна. Лето кончалось. Но это — ничего. С осенними тучами, в сентябре,
придет новая жизнь. Дождем прольется счастье: медаль и путешествие в страну, где каждый камень говорит о великом искусстве… Италия! Рим! Флоренция!.. Он уже не будет носить позорную кличку "раба", "холопа", "крепостного". Академия распахнет перед ним вход в свободный мир, даст равноправие. Ведь с аттестатом он получит права свободного гражданина. Тогда он поедет на родину, чтобы взглянуть на места, где бегал мальчиком, отыскать родных, которые, может быть, нуждаются в его помощи, просить за них бывших своих господ… Голова кружилась от мечтаний.
Да, там, в калужском имении Благово, сейчас так же пахнет сеном и так же, меж легких облаков, плывет луна. Какая ночь! Вон, во всю ширь синего бархата неба, раскинулась Большая Медведица. Тонкой, едва заметной россыпью намечается Млечный Путь. Издалека доносится ржание лошади. Лениво тявкнула собака. Ледька, что ли? Потом раздался однообразный звон косы, лязгающей о точило. Сергею представилась знакомая картина: размашистый взлет косы — и трава ровной грядой падает под блестящим лезвием. Утренний ветер надувает мужицкие разноцветные рубахи. Через лапти от росы знобит ноги… Все это было когда-то таким привычным, повседневным. Но ему уже не вернуться к этому.
Вспомнилась и неоконченная картина в Академии. Фигура Геркулеса, правда, почти готова, осталось только лицо. В суетливом и беспокойном городе трудно было найти необходимое для него выражение: радости и глубокого, невозмутимого покоя. Но Омфала, возле чьей прялки отдыхает гигант Геркулес… Он писал ее с дочери дворника, худенькой швеи. На ней — белая туника, подпоясанная простым пояском. Длинные пряди волос гармонически сливаются с куделью пряжи. Но лицо никуда не годится. Какая же это античная модель — курносенькая русская девочка?.. Сергей поймал себя: он точно "процеживал" в воображении классические фигуры неподвижных гипсовых Минерв, Венер и Психей, заполнявших один из залов Академии. Сквозь условные академические формы рвались наружу живые черты. Сергея тянуло к согретым горячей кровью образам, с характерными чертами, со сменой настроений, желаний, порывов.
Он подумал и улыбнулся:
"Что богиня Минерва гневается, представить можно, но что баюкает, например, ребенка — трудновато…"
И вздрогнул от радостного предчувствия. Кто это с живым, тонким, полудетским лицом настойчиво прорывается в его душе сквозь изученные шаблоны "антиков"? Конечно, она — Машенька, любимая девушка, с радостным блеском глаз и одухотворенной лучезарной улыбкой! Он видит ее всегда ясно и не посадит другой Омфалы возле своего Геркулеса.
— Сережа, ты спишь? — слышится голос Тихонова.
Поляков поднял голову. Миша сидел скорчившись, маленький, щуплый, взъерошенный.
— Я вот все думаю: что, если я не кончу свою картину, не успею? У меня — одни искания. И написал я здесь мало. Все бродил, смотрел, пробовал, а написал мало.
Лучанинов заворочался в своем углу:
— Спать не даете с вашими "исканиями"! Какие там, братцы, искания, когда луна светит во всю ивановскую? Бросьте мудрить. Нужна натура, а она — кругом. Сколько я лошадей успел за это время зарисовать!
— Да ты, Иван Васильевич, погоди, не гуди своим басом, а выслушай, — мягко перебил Тихонов. — Ты говоришь про натуру. Верно! Но мы-то, ее изобразители, мы-то — живые ведь. Мы творцы, а не машины, слепо воспроизводящие натуру. Ты вот видишь, скажем, перья у петуха двух-трех цветов. А я, может, вижу в них целую гамму. Вижу ин-ное, с-сво-ое…
Когда Тихонов начинал горячиться, он поминутно заикался и нервно вздрагивал.
— Стой, Мишка! Уж не думаешь ли ты писать своего Сильвестра с тридцатью пальцами, с четырьмя ногами? Может, тебе так кажется, может, в глазах у тебя двоится?
— Не смейся… — В голосе Тихонова прозвучала боль. — Это вовсе не смешно. Мучительно это! Искать и, может быть, никогда не найти желанной истины. Вот, например, флейс
[113], работа с ним. После него картина теряет общее впечатление. Отдельно, скажем, рука или нога, складка одежды. Как будто и хорошо, а в общем… И нигде я не нахожу…
— Чего? — заревел Лучанинов. — Рецепта? Нет такого, понимаешь, нет еще, не придумали!
Совсем близко залаяла собака. Сергей засмеялся:
— Всех собак переполошил, ну и голосище!
Послышались шаги, и у входа выросла высокая, с кавалерийской выправкой фигура Елагина. Он был в рыжей охотничьей куртке и с полным ягдташем. У ног змеею вилась коричневая Ледька.
— Удивил братию? — молодцевато выкрикнул Алексей Петрович. — На болото было собрался, уток там — видимо-невидимо, да рано. Шут знает луну-проказницу"! От нее моей Паранюшке тоже не спится. Уж завешивала, завешивала окна, а она, глазастая, в щели да по полу скользит, точно тебе танцует… Я на охоту поднялся, а Параня, по старой привычке, конфузии не боясь, босиком пошла меня провожать по росе к леднику за сливками. А вот какие мои "сливки"!
Он вынул из ягдташа бутылку мадеры и стаканчики.
— Давайте по-братски. И закусочка найдется. Луна нам фонарем будет. Чокнемся, молодая компания, завьем горе веревочкой.
— Да какое же у вас горе, Алексей Петрович? — спросил Лучанинов, беря из рук помещика вино.
— У всякого свое, друг. Ты вот вчера тужил, что тебе каких-то особенных, средневековых, коней надо для твоих исторических картин. Ты над лошадиным хвостом и копытами плачешь, а я — над всей жизнью.
Он опрокинул в рот стаканчик и, опершись локтем о сено, с горечью продолжал:
— Все было: и балы, и марши, и походы, и чины, и солдаты, и генералы, и царь… А осталась Параня и Ледька, куры да Сашка.
Он снова налил всем.
— Была столица. Были эполеты. Был смех и шутка над мещанкой в старомодной робе, над толстоногой купчихой и над чванливой дворянкой со шлейфом и веером. Смеялся, как у старых дур с носов пудра сыпалась и на солнышке восковые зубы таяли. Как генерала под ручки тащили по зале отплясывать с дамами мазурку. Я был там с ними, со всеми. Пил. боже ты мой, как пил! И играл, и за вдовушками волочился.
Елагин выпивал один за другим стаканчики с золотистой жидкостью. Пустые бутылки отбрасывал в сторону, и они стукались о порог.
— Ты чего же не пьешь. Миша? Ты пей, а то мне скучно одному. Я вас всех полюбил. Будто опять с прежними товарищами-офицерами, только картишек недостает. Банчок бы метнуть.
Язык Елагина уже заплетался. У Сергея тоже шумело в голове. но было радостно. Он без причины смеялся. Бледное лицо Тихонова казалось лицом мученика.
— Хлипкая ты пичуга, как я посмотрю, — говорил ему Елагин. — Тебя чуть толкнешь, ты уж и ножки кверху. Один дух в тебе. А я был сильный, подковы гнул, ей-богу. В кузнице у своего кузнеца работал молотом, — силу некуда было девать. Мужики даже ахали. И жизнь была разудалая. Строгость — в строю и на парадах, а на отдыхе — удальство и веселье. И прокутил я, друзья мои, проел наследие родительское. Только одно Петровское и осталось. Оттого вышел в отставку и засел в деревне, как сыч в дупле. Пей, Миша, учись пить. Нельзя так отставать.
— Довольно бы мне, — слабо взмолился Тихонов. Рука его расплескивала вино.
— Крепче спать будешь. Куда тебе вставать с петухами? Здесь, в сарае, ни мушки. Завтрак подадут, когда вздумаете. А у меня с каждым стаканом былое вспоминается! — протянул он вдруг особенно тоскливо. — Так защемит сердце… И этим я мучаю Парашеньку. У нас с нею Сашка растет, сын, наследник. Подрастет, в город повезу. В школе товарищи станут дразнить: "Незаконный ты сын!" Он начнет плакать, злобиться, а Параня моя… Эх, за что и ей и ему этакое? За что? — В голосе Елагина слышались слезы. — Вышла бы замуж за своего парня, по плечу сломала бы дубинку. Вот была девушка! Краса деревенская, здоровая, пышная, кровь с молоком. А ныне, как говорится:
Горе, горе,
Муж Григорий.
Хоть бы худенький
Иван,
Он бы волю с меня снял…
А я и воли ей не дал, не то что снял. Воли у нее нет и мужа Ивана тоже нет. Есть один только пьяненький бывший кавалергардский ротмистр Алексей Петрович Елагин. Да ты что это, Миша?.. Смотрите, никак, он того…
Тихонов бился в припадке эпилепсии. Лицо его дергалось, глаза закатились. Сергей набросил на него одеяло, закрыв с головою, как, видел, делают в деревне с теми, у кого "родимчик".
— Пить ему никак невозможно, — с трудом ворочая языком, проговорил Лучанинов.
— Никогда больше не буду, — прошептал Елагин виновато. — Господи, и что это я? Старый кавалерист, мне привычно, а вы — "штафирки", штатские. Вам бы, особенно Мише, одного парного молочка впору… Я сейчас… сейчас за Параней…
Он скоро вернулся с Прасковьей Даниловной.
Она была простоволосая, в ситцевом капоте, босая, — забыла о шали и о туфлях. Пришла бесшумно и ловко подхватила затихшего Михаила под руки, только кивнула Лучанинову: помог бы. Параня привыкла ухаживать за часто пьяненьким Елагиным.
Уложив больного на широкий диван в гостиной, она не отходила от него ни на минуту. А когда Миша открыл глаза, с материнской лаской напевно запричитала:
— Испил бы молочка тепленького! Что птенец ты, смотрю, несмышленый… Вон у тебя и волосы что пух… Да есть ли у тебя, миленок, родная матушка? Пей, пей молочко. А я получше укрою тебя, ишь дрожишь как…
…Миша скоро заснул, и Параня пошла хлопотать по хозяйству. Ушел в конюшню рисовать лошадей и Лучанинов.
Сергей остался дома. Он сел подле мольберта с последним этюдом. Несколько других было прислонено к стене на скамейке.
Он сидел долго и неподвижно, вглядываясь в работу.
С этюдов смотрели фигуры в античных костюмах. Вот она — Омфала, пока еще без Машенькиного лица. Он ясно представил себе ее милые черты над грациозной фигурой в греческой тунике с пояском. Нет, не то, не то! Не та Машенька! Она будет походить на переодетую в маскарадный костюм.
Как же ему преодолеть условность академических навыков? Как оживить античный сюжет? Где "рецепт" этого? Или как крикнул сегодня ночью Лучанинов: "Его еще не придумали!"? Значит, искать все там же, в окружающей жизни?..
Но жизнь дает курносую Параню, ее полные губы со свежей улыбкой, простодушный взгляд больших серых глаз навыкате. И другое лицо — в растрепанных черных кудрях, с преждевременными морщинами еще красивого лица, с горькой складкой губ… Целый ряд лиц, вереницу портретов и картин, где люди с сивыми бороденками, с натруженными руками и спинами, возле шершавых, заморенных лошаденок; лапотницы в сарафанах и с вековечной скорбью-обидой во взгляде; грудные ребятишки, брошенные в корзинах на меже; курные приземистые избы; косовицы на росистой заре; дымки деревенских риг; пригожие девушки с первым снопом в руках… И дороже всего — светлый образ Машеньки!
Стало невыносимо смотреть на собственные этюды. Точно из древнего саркофага вышли эти две нарочитые фигуры и обвитые традиционным плющом и розами белые колонны, вся однообразная красота, продиктованная холодными, мертвыми правилами.
Что же ему делать, куда идти? Может быть, докончить программу портретной живописи? Может быть, именно в ней больше правды?.. Нет, нет! И не потому, что в Академии, при словах "портретный живописец", высшее начальство делает снисходительную гримасу, ставя высоко только историческую живопись. Что даст ему работа портретиста? И какую раскроет истину? Не те же ли академические формулы — "символы и эмблематика": ручей надо изображать в виде девы с бледным лицом и распущенными волосами, время — в виде старика с косою. Воин обязательно должен быть в античном шлеме, вельможа — в римской тоге, а царь — в порфире, со скипетром и теми же эмблемами — Минервой и Немезидой, в руках которой "весы правосудия".
Он вспомнил ряд пышных портретов, виденных и на выставках в Академии, и в картинных галереях знати, видел всех этих коронованных и некоронованных звездоносцев, помещиков и помещиц. И здесь та же принятая условность позы, заученная манера в расположении складок одежды, заученные улыбки, заученное наложение красок.
И определения заказчиков:
"Сделайте мне портрет под Каравака, на манер его портрета императрицы Елизаветы Петровны… Или под Лагрене, как он писал ту же Елизавету в образе покровительницы искусств, с символами…"
"А мне — под Токке, как он писал княгиню Воронцову, бесподобно…"
"Я обожаю Лампи-старшего: его Потемкина и Зубова нельзя забыть!"
И сыплют ряд имен иностранных художников, наводнявших Россию.
А он хочет быть сам собою. Ни под Токке, ни под Лампи, ни под Вуаля, Торелли или Танауэра. Даже не под прекрасного русского Левицкого, тонкого психолога, с его красивым отчетливым мазком, сумевшего перешагнуть через условности своих учителей: француза Лагрене и итальянца Джузеппе Валериани — перспективиста, одного из лучших преподавателей живописи XVIII века.
Он не хочет подражать и другим прославленным русским мастерам: ни изящному, поэтичному Рокотову, с его сдержанной манерой и "тающим" серебристым колоритом любимых овальных портретов Новосильцевой, Суровцевой, поэтов Сумарокова, Майкова. Ни Боровиковскому, кому свойственна гамма прелестных серо-зеленых, белых и тускло-желтых красок, среди которых он умел так эффектно бросить ярко-желтое или голубое пятно, ласкающее глаз. Ни Кипренскому, современному чародею, причуднику и мечтателю, которым гордится Академия, уже давшему ряд изумительных портретов в масле, акварели и карандаше.
А видопись?.. Может быть, она даст творческое удовлетворение? Нет, он хочет заглянуть не в душу ландшафтной природы, а глубоко в душу человека, разгадать трагедию человеческой природы, его извечное стремление к счастью.
Закрыв глаза, Сергей видел, как в тумане его сознания неясно плывут образы виденной им действительности. Его обступают со всех сторон эти русские мужики и бабы. И ярче других выплывает картина: сарай, лунная ночь, заглядывающая в распахнутые двери. На сене — они, художники, и перед ними, со стаканчиком в руке, со сдвинутой на затылок фуражкой, в охотничьей куртке, с залихватским выражением лица, Елагин. Он смотрит широко раскрытыми глазами, полными мучительного вопроса… И между этими несхожими людьми — лихим когда-то гвардейцем, прожегшим впустую жизнь, и только что начавшим жить юношей Мишей Тихоновым, — почудилась какая-то невидимая связь. Связь общей тоски, неудовлетворенности.
Что это? Излом слабой души? Или искание не всем понятной правды?.. Можно ли с таким, например, сюжетом ворваться в строгую, холодно-казенную систему Академии?
Сергей не находил ответа.
VIII. ГРОМ ГРЯНУЛ
Пришел конец отдыху в гостеприимном Петровском. С восстановленными силами, с запасом новых этюдов художники возвращались в начале августа в Петербург.
Извозчик привез Сергея на Васильевский остров. Вот оно — старое милое здание. Чуть брезжил свет, а у фасада, окруженного лесами, уже шла работа: неслась стукотня молотков, окрики маляров.
Сергей заглянул мимоходом в главный подъезд. Его поразил необычный вид лестницы, ее тщательно вымытые ступени, свежевыкрашенные стены и потолок.
Швейцар, заметив его, сказал:
— Ныне уж не пробиться сюда ни дождю, ни снегу. Чистота и аккуратность во всем. Да что говорить: "дом вести — не бородой трясти", разве мы не понимаем!..
В голосе старика звучала печаль, удивившая Сергея.
Он поспешил домой. На дребезжащий звонок вышла сама Анна Дмитриевна, завязывая на ходу чепец.
Сергей радостно бросился целовать у нее руку.
— Как живете, Анна Дмитриевна? Что нового? Что-то, я вижу, лицо у вас… Здоровы ли все ваши?
— Я-то здорова, что мне делается! Да вот другую неделю одна во всей квартире орудую. Сама, вот видите, и двери открываю. Анисья у меня ушла, ее новые порядки доняли. Мусор она вынести замешкалась, от президента Якову Андреевичу по сей причине выговор Новую девку порядочную, вместо Анисьи, думаете, скоро найдешь? И на Егорушку, на младенца, отец сердится: "Душу, говорит, вытянул, плачем". А ребенок весь день животиком мается… Ах, извините, не сбежал бы самовар…
Оставив вещи в передней, Сергей бросился за Анной Дмитриевной в кухню и притащил в столовую кипящий самовар.
— Спасибо вам. Яков Андреевич, сами знаете, любит, чтобы самовар был "с пеной у рта". Садитесь-ка, пейте чай. Небось с дороги проголодались. А я побегу к Егорушке — слышите, опять заплакал.
Яков Андреевич вышел насупленный, с взъерошенными волосами, и крикнул в дверь, куда ушла жена:
— Дала бы ему хорошего шлепка, он бы не капризничал. Здравствуйте, Сережа.
— Здравствуйте, Яков Андреевич. Кому шлепка?
— Да сыну моему. — Он по-прежнему широко улыбнулся. — Мальчонка объелся чем-то, скулит, а она сохнет по нем. На старуху стала похожа. — Он опять нахмурился. — Анисью отпустила, сама все делает. Порядки! Ну и порядки…
— Какие порядки, Яков Андреевич?
— Да вы ступайте сперва с дороги умойтесь, вещи разберите. За чаем поговорим. Слышите: молотки стучат? Вот и порядки. Лакеи у нас в басонах
[114] скоро станут ходить. А нас начальство в дугу согнет, тоже на манер лакеев услуживать заставит.
Сергей быстро пошел к себе в комнату и через несколько минут, свежий от холодной воды, сидел уже за стаканом чаю против Васильева.
— Ну, славно поработали? Много этюдов привезли?
— Много, Яков Андреевич.
— Небось больше видописью в деревенской глуши занимались? Исторические сюжеты забросили? А вам вашего "Геркулеса" скорее надо кончать, пока каких новых приказов не вышло. Вам не о березках с закатами, не о лаптях да овинах надо думать, а о сандалиях да классическом торсе. Геркулеса пишете, а не Авдея!
— Знаю, Яков Андреевич, — я окончу. А вот какие такие новые порядки?
— Всего разве у него, Сережа, угадаешь? У Оленина. Он все улыбается и так вежливенько раскланивается. Такие пошли французские приятности, страсть! Одной рукой гладит, другой — ерошит. И всюду нос свой высокопревосходительный сует. Собирает нас всех беспрестанно, просто замучил собраниями. Часто, впрочем, говорит и дельное: "У вас, говорит, часто фальшь рисуют. Костюмы, к примеру, не поймешь, ассирийские или греческие изображаются. А лошади все — "исторические". У нас теперь и поговорка пошла: "Такие это лошади исто-ри-че-ские!.." — Он засмеялся прежним простодушным смехом: — Что лошади у нас не живые, а "исторические", это правду говорит вельможа Оленин. Он первый и показал, что на многих картинах наших художников передние ноги лошадей бегут вскачь, а задние — рысью. На то он и меценат-художник, да еще с каким опытом!.. Но где же нам лошадей писать? Ее порой у извозчика разглядываешь, разглядываешь, да кое-как и зарисуешь.
— Правда, Яков Андреевич. Вот и Иван Васильевич Лучанинов о том же горевал.
— Специально будто бы манеж для лошадей обещал построить. Там их будут писать с натуры. И декорации. А потом и "рюсткамеру".
— А это что за штука?
— Да попросту костюмерная палата. Костюмы и оружие обещал пожертвовать из собственной коллекции. А коллекция его, слышно, велика. Для изучения древностей покупает в Академию этрусские вазы, картины, гипсовые слепки из Лондона.
— Так это же очень хорошо!..
— А кто сказал, что плохо? Чтобы тепло в Академии было, печи переделать все велел. И форму завел. — Васильев опять нахмурился. — Только хорошее-то, как цыплят, по осени считать надо. Ты его, хорошее это, сперва сделай и на деле покажи. Вот хоть бы та же ученическая форма. Иной молокосос-ученик вздумает, чтобы форменные петлицы у него, как у военного, блестели, в глаза бросались. И вместо казенного позумента чтобы настоящее золото на них было. И пойдет для того на сторону картинки стряпать, дешевку, безвкусицу… Поет-то Оленин сладко, да весеннюю порку разве забудешь? И исключение молодежи. Кого тогда исключили? Невинных. Сами вы тогда возмущались, да от всей расправы, слава богу, уехали. А мы видели…
Сергей с болью подумал, что в сборах и хлопотах по отъезду в Петровское они, все трое, как-то легкомысленно отнеслись к "бунту" младших товарищей.
Васильев продолжал:
— Может, кто и повесился от этого исключения, разве мы знаем? Нотбека высекли, а у него за всю бытность в Академии ни одного проступка не замечено. Александров тоже хоть и пьяница, а талант и кончал уже. Поговорить бы с человеком надо, может, одумался бы. На золотую медаль ведь теперь бы вышел…
Чтобы спрятать волнение, он закричал вдруг высоким фальцетом:
— Чего вы на меня так уставились, Сережа? Вам все покажется новым в Академии. И смеем ли мы осуждать вельможу, у коего ордена на голубой ленте? Кто взыскан министром народного просвещения князем Голицыным и обласкан при дворе? Монаршею волею поставленную главу Академии должно только уважать!
— Я и уважаю, Яков Андреевич, — приглядывался к необычному состоянию хозяина Сергей.
Походив по комнате, Васильев снова сел:
— А вам чего не хватает? На что можете пока жаловаться? Вы вон и сейчас шутя копеечку имеете. А скоро придете с аттестатом, при чине, мундире и шпаге. Вы без минутки чиновник четырнадцатого класса.
Оленин доканчивал свой доклад государю.
К докладу и учебному плану Академии он приготовился хорошо, разобрав по пунктам еще старый наказ императрицы Екатерины II.
"Первому приему, — говорилось в наказе, — состоять из шестидесяти мальчиков, какого бы звания они ни были, исключая одних крепостных, не имеющих от господ своих увольнения".
Вот оно — золотое слово! Его забыли, закон обошли! Его императорское величество останется доволен докладом.
И рука продолжала выводить на бумаге:
"…Ученики, взятые из крепостного состояния, не имея перед глазами ничего, кроме грубости и бесчинства, заражают своими дурными навыками в классах товарищей и через то препятствуют родителям, кои пекутся о детях своих и воспитывают их в строгих правилах, отдавать своих детей в Академию, несмотря на их способности к искусствам".
Вот оно — зло!.. Истинная язва вверенного моим трудам и заботам учреждения. Таково единодушное мнение государя, министра и мое личное. Пора, наконец, положить этому беззаконию предел!..
Он переменил гусиное перо и продолжал выводить твердой, решительной рукой:
"Какому бы помещику ни принадлежал, кровь одна, воспитание одно: холопское".
Оленин удовлетворенно просушил написанное.
"Сим строгим средством я водворю в академическом воспитательном училище тишину и порядок".
…В Академии — суматоха. Все перевернулось вверх дном. Кабинеты брошены. Старшие ученики, сбившись в кучу и перебивая друг друга, обсуждают новое распоряжение:
— Ты разве тоже попал в список?
— А хоть бы и не попал, кто за меня может платить триста, а то еще и триста шестьдесят рублей в год? Ты что же, прозевал это новшество? Плати, плати за учение!
Новый наказ, составленный президентом, подписанный министром народного просвещения и скрепленный подписью Александра I, был уже несколько дней известен в Академии. Но ученики все еще недоумевали и на что-то надеялись. Они бродили по залам и коридорам, забыв о работе, хотя приближался сентябрь с обычным годовым экзаменом.
— Ты что же это, Костин, зря лясы точишь? — говорил товарищу Карл Брюлло. — И вы тоже, два неизменных дружка — Хлобыстаев и Пустовойтов? Ведь экзамен на носу!
Все трое — крепостные. Участь их решена. Неужели Карл не понимает, не видит? Они все равно не кончат Академию, хоть и на хорошем счету. Картины их сиротливо стоят на мольбертах и напрасно ждут последних мазков.
Где-то в далеких имениях или за границей живут их владельцы. И если бы даже они согласились дать им вольную, то сколько пройдет времени, прежде чем кончатся необходимые по существующему закону формальности?.. Есть, впрочем, и счастливцы. Например, один из учеников — Демидов. За него, правда, отказалась платить владелица княгиня Волконская, но брат крепостного — любимый егерь ее мужа, министра двора, — был у Оленина. Он выручил брата, собрав последние кровные деньги на его выкуп из крепостного состояния и триста шестьдесят рублей — плату за учение.
Судьба крепостных затронула всю Академию, вплоть до служителей.
Старый швейцар сочувственно качал головой. Что-то бубнил себе под нос и Матвей Пыляев, угощая увольняемых пирогами, стащенными на кухне.
Тревога за товарищей из "подлого сословия" волновала учеников и мешала всем работать.
Один Карл Брюлло продолжал уговаривать:
— Что бы ни было дальше, братцы, а закончить свои работы, и закончить их как можно лучше, вам необходимо!
И голова его в рыжеватых кудрях снова склонялась над картоном, Возле вертелся постоянный "адъютант" Брюлло, лохматый, неряшливый Яненко, и поминутно припевал сладчайшим голосом:
— Хорошо так говорить тебе, Карлуша. Ты гений… Непостижимый гений!..
Иордана возмущала грубая лесть.
— Карлу все как с гуся вода! В пятидесятый раз рисует Меркурия. На лице спокойствие Зевса, хотя в душе, я знаю, тоже буря.
Чтобы немного развлечь товарищей, он принимал важную позу и, стуча костяшками пальцев по подоконнику, начинал, подражая Оленину:
— Я президент. И пекусь о вас, как отец. Почему вы, милые дети, избегаете посвятить себя скульптуре? Скульптура — великое искусство. Слыхали ли вы, как в 1290 году один благочестивый и талантливый ваятель Италии, имя которого, к сожалению, затерялось в веках, хотел принять участие в украшении храма в Орвиэто? Но, передвигаясь пешком, как и следует паломнику, он пришел к постройке, когда она была уже закончена. Что же оставалось ему делать? Он, милые дети, решил высечь из камня фигуру святого. Но… у него не оказалось даже байока
[115]. И достойный художник вдохновенно создал великое произведение, взяв у простого каменщика кирку. Он работал в поте и молитве, питаясь только хлебом и оливами… А вы, дети, не хотите идти по стопам этого великого ваятеля.
Мало кто рассмеялся на обычную шутку.
— Видали, — спросил неожиданно Хлобыстаев, — Ступин Александр Васильевич прошел только что по коридору? Из Арзамаса приехал просить, должно быть, его высокопревосходительство президента, чтобы не выгоняли сына за поведение. А у сынка его — орясины Рафаилушки — давно опухла рожа от пьянства. Тоже — отцовское утешеньице!..
По коридору тяжелым шагом, с уныло опущенной головой, проходил черноволосый, похожий на грека человек.
— Хорошо, что пятнадцать лет назад, когда кончал сам Ступин, в Академии не было Оленина, — хмуро буркнул Пустовойтов. — Не знавать бы нам теперешней ступинской школы на его родине, в Арзамасе! А сколько, говорят, у него талантливых учеников!
Хлобыстаев пророчески подхватил:
— Помяните, прославят Россию крепостные!
— А чего, рассказывают, не перенес Ступин, когда учился в Академии и жил у ректора Акимова! Обслуживал весь его дом, бедняга!
— Я-то знаю хорошо, — снова перебил Хлобыстаев, — сам сбежал от него к чертовой бабушке. Ступин же, говорили, все белье акимовское, бывало, переполощет на Неве в лютую стужу. Руки-то как бы мог застудить! Свело бы, точно у старой прачки. Вот и рисуй после этого!.. А он работает, а сам каждое ректорское слово об искусстве запоминает. За то и вошел к Акимову в любовь, а после и к Егорову. А вот я, — безнадежно вздохнул Хлобыстаев, — и от Акимова сбежал, и к Егорову в любовь до сих пор не вошел. Следовательно, мне — прощай, Академия!
Крепостным ученикам было официально объявлено об их увольнении.
Тихонов с Лучаниновым побежали искать Сергея Полякова. Тот забился куда-то в угол и не показывался.
По дороге Тихонова перехватил служитель: художника требовал к себе Оленин.
— Ну, а ты-то, Миша, чего бледнеешь? — старался успокоить товарища Лучанинов. — Вольную ты уже два года как получил. Тебе-то чего бояться превосходительного?
Но Тихонов еле смог ответить:
— Да… нет… Я ничего… Мне Сергея до смерти жаль. Найди его, поговори… посоветуй, Иван Васильевич… А я что?.. Я ничего… Я должен идти, коли зовут…
На лице президента играла обычная любезно-снисходительная улыбка.
— Садись, — сказал он, указывая Тихонову на стул. — Садись и слушай. Ты художник изрядный, сам знаешь, и я имею о тебе самое авантажное суждение. Но дольше держать тебя на положении пенсионера Академии, как ты числишься со времени окончания курса, не могу по причине введенной ныне строжайшей экономии. Но, с отеческим вниманием замечая твои способности к художествам и заметные успехи в оных, вот что предлагаю. Не удивляйся, а оцени мою заботу о тебе, она проистекает из того же отеческого попечения. При том же все учителя отмечают твой тихий нрав. И по сему я могу за тебя поручиться. Так вот мое особое предложение одному тебе: поезжай на шлюпе "Камчатка", коим управляет уважаемый капитан Головнин. Тебя он определит в экспедицию вокруг света в качестве видописца сего достопримечательного и познавательного путешествия и даст возможность показать твое искусство и послужить посильно твоим силам на пользу царю и отечеству.
Тихонов молчал. Из длинной витиеватой речи президента он понял только одно: власти лишают его положения пенсионера, другими словами, тоже выкидывают из Академии, предлагая взамен какой-то необычный отъезд в неведомые края, на неизвестный срок, незнакомую жизнь среди чужих людей, далеких от искусства.
— Раздумывать не время, — нетерпеливо добавил Оленин. — Радуйся, что видописец, коего ранее назначил Головнин, заболел, а шлюп через несколько дней уже должен выйти из Кронштадтской гавани. Мне еще о прошлом годе про художника Головнин говорил. Я ему хотел адресовать Александрова, да он оказался пьяницей. — Оленин презрительно выпятил губу. — В податном сословии вашем пьянство — не редкость.
— А моя картина, ваше высокопревосходительство? Она почти закончена.
— Бери ее с собой на шлюп, ежели начальство разрешит. А не разрешит, кончишь, когда вернешься. Теперь же поди, мне недосуг… Завтра дашь ответ через инспектора.
Тихонов раскланялся и вышел. А президент погрузился в подробные вычисления "экономии" по обновленной Академии:
— Гипсовую статую Минина и Пожарского надо перенести. И это сделают свои люди, нанимать не придется. Колонну Воронихина — в сад. Число учеников сократить еще. Бесплатных — ни одного. Престарелых чиновников, кои не могут нести службы, а живут все же в Академии, — выселить. Равно и тех, кои, окончив курс, живут у нас в ожидании отъезда за границу. Всех и медалистов… кроме Гальберга, Щедрина и Глинки. От них отечество может получить много, изрядные таланты.
Рука привычно взялась за перо:
"Итак, к 15 сего августа двадцати двум кандидатам должно покинуть стены Академии".
IX. В НЕВЕДОМЫЕ КРАЯ
Едва передвигая ноги, Тихонов вошел в кабинет, где над своим мольбертом уныло сидел Поляков.
— Ведь вот всего несколько дней работы, Миша, и я кончил бы. Удалось схватить живую искру… А тут — свертывайся и лети в трубу. Ты что сейчас будешь делать? Когда собираешься?
Тихонов начал перебирать книги на своей самодельной полке.
— Разберу, что взять с собою, а что можно и оставить… Вот эту возьму непременно: "Начертание художеств" Здесь говорится о строгом выборе "предмета" для картины.
— Я знаю эту книгу, — отозвался Сергей. — В ней от художника требуется, чтобы его творения служили идеям нравственности, возвышали бы и укрепляли народный дух.
— А это несколько номеров "Журнала изящных искусств". Издание почему-то оборвалось. Вот и специальная — "Предметы для художников", издания 1807 года.
— О важности тем из отечественной истории? Тоже читал. Все это верно, конечно…
Оба невесело рассмеялись.
— Вот, Сережа, "зри", как говорили древние сочинители. Издана в царствование Анны Иоанновны и императрице же посвящена. Купил случайно у старьевщика. Мысли великого философа Марка Аврелия, жившего в Древнем Риме. Хочешь, открою наугад? Ну слушай: "Паук по своей паутине подымается кверху, как он муху поймает. Человек радуется, как зайца изловит, рыбу поймает, дикую свинью или медведя застрелит. А другой веселится, что несколько пленных сарматов на цепях и в железах за собою тащит. Посмотри на их мнение, лучше ли эти люди разбойников?"
Он помолчал и добавил горько:
— И вот один такой "пленный сармат" уезжает завтра в Кронштадт. Даже в рифму вышло! А что с другим "сарматом"? И того хуже, Сережа, я понимаю…
Сергей вскинул голову:
— Другой "сармат" поедет с Лучаниновым тебя провожать.
— Спасибо. Встретимся ли когда?..
Тихонов отвернулся.
Вдруг закрыл глаза маленькой дрожащей рукой. Потом смущенно закашлялся и прошептал:
— Пыльно… от этой рухляди глаза запорошило… — И совсем уже другим, неестественно бодрым тоном, как-то визгливо, заговорил. — Шлюп, сказывали, преизрядный… Что тебе привезти из тропических стран: жемчужину, кокосовый орех или живого индейца? Поди, христианину, белому, хотя бы и крепостному, не возбраняется иметь цветного раба? Хочешь иметь собственного раба, Сережа?
— Будет балаганить, — с тоскою отозвался тот. — Покажи лучше в последний раз картину.
Он долго смотрел на знакомые фигуры Иоанна и Сильвестра Каждый мазок товарища казался ему родным. Тихонов заговорил тихо, почти шепотом:
— Куда нас, Сережа, раскидает жизнь — неизвестно…
— Да, неизвестно! — точно отмахнулся Поляков и перевел разговор. — Ты не испорти свою работу, Миша, этой манерой накладывать краски. Не сгруби натуру.
— Сгрублю! — загорелся по-старому Михаил. — А разве английская художница Робертс, что вошла теперь в моду, грубит, кладя вот так краски на своих портретах? И берет с русских за портрет во весь рост неслыханную цену — четыре-пять тысяч.
— Так то не у нас, а в Англии, Миша. За гра-ни-цей.
И снова оба замолчали. Потом Тихонов подошел к картине Сергея.
— А где твоя Омфала? Вместо лица все еще белое пятно. Тоже ищешь? Если тебе все-таки удастся остаться в Академии, не побоишься разгневать учителей? Ведь ты все больше и больше уходишь от античных моделей.
— Наш главный учитель — жизнь, Миша. И она на каждом шагу показывает нам новое.
— Я не спорю против истины. Но только сентябрь у ворот, а у тебя пусто там, где должно быть лицо.
Сергей улыбнулся. Перед ним проплыло знакомое милое лицо Машеньки.
— Я напишу ее в один присест. Я уже поймал образ. Он у меня — здесь. — Он показал на грудь и на лоб. — Ты-то успеешь ли собраться к завтрашнему дню?
— Успею! — равнодушно махнул рукой Тихонов. — Ночую у Лучанинова. Ну, не прощаюсь… Ты ведь приедешь чуть свет? Буду ждать… не-пре-мен-н-но…
Лицо у него было бледное, жалкое, губы кривились.
Сергей посидел еще у своей картины. Потом встал, чтобы приготовиться к вечеру у Федора Петровича Толстого. Мучительно хотелось повидать вернувшуюся из деревни Машеньку. Но раздумал. С такою тяжестью на душе разве можно встречаться со своим счастьем?
Чтобы убить время, он пошел домой помочь Анне Дмитриевне по хозяйству. В десятый раз раздул самовар к приходу из Академии Якова Андреевича и даже пробовал качать в колыбели маленького Егорушку. Анна Дмитриевна жаловалась:
— Надоело мне, Сереженька, без девки. Да и трудно одной везде поспеть. Взять с улицы боюсь. Томление какое-то нынче и скука одолевают. И Яков Андреевич что-то долго сегодня не идет, самовар, поди, весь выкипел. А с вами что будет, голубчик вы наш, не придумаю. Ведь вы нам как родной! Выхлопочет ли профессор Егоров милости для вас? Мой Яков Андреевич уж так сокрушается…
Васильев вернулся прямо из академического совета, мрачный и сердитый.
Анна Дмитриевна испуганно вскинула на него глаза.
— Ничего не вышло! Мокрый я весь, до того вспотел, бегавши по профессорам. В одиночку все за вас, Сережа, а на совете — молчок. Были и такие, что мне даже пеняли: "Гуманерию разводите. Свободы захотели для холопского сословия. Вольнодумец вы, безбожник!.."
— Ах они бессовестные! — возмутилась Анна Дмитриевна.
— Да что я? — освежая лицо водой, говорил Васильев. — Алексея Егоровича, вашего профессора, не послушали. Федор Петрович Толстой тоже за вас горой: и так и этак умасливал Оленина. А тот, как каменный, все свое: "Крепостные — язва Академии, и ни одному из них нельзя делать исключения. Пусть просит своего господина выдать ему вольную. Так и быть, две недели подождем".
— Всего две недели! — всплеснула руками Анна Дмитриевна. — А господа-то его, кажись, за границей!
— Ну, это только говорится, две недели. Можно будет, верно, и оттянуть… Кончилось тем, что вынесли особое постановление для всех членов Академии: не принимать в ученики даже частным образом людей крепостного состояния без обязательства от помещика давать вольную в случае получения ими академических наград. Вам, Сережа, остается одно: написать своему помещику. Я, с своей стороны, тоже ему напишу. Алексей Егорович и Федор Петрович, конечно, тоже напишут… Да нет ли еще у кого связей с вашим Благово? Толковали: Благово, Римские-Корсаковы и Толстые будто бы родня между собой. На Москве титулованные кумушки уверяют, что они все между собой родня, потому от Адама с Евой произошли. А крепостные, по их определению, — от обезьяны… Подите, Сережа, пишите скорее письмо. Завтра и отправим, зачем откладывать?
Сергей встрепенулся. Он напишет не только своему барину, но и Сашеньке Римской-Корсаковой. А Сашенька упросит мать.
Знаменитая Мария Ивановна Римская-Корсакова всей Москве известна и дама внушительная. Если примется за дело, никому не устоять. Благово ее послушается.
Письма были написаны ночью. Утром Сергей шагал на пристань завода Берда, к устью Невы. Оттуда на мелком паруснике предстояло отправиться в Кронштадт.
Дул ветер. Плавучая дощатая пристань качалась на волнах. Тихонов с Лучаниновым были уже там. Чтобы подбодрить уезжавшего друга, Лучанинов сыпал шутками-прибаутками. Увидев Сергея, он еще издали закричал:
— Здорово! Сережка! Развесели хоть ты сию неутешную вдову Микаэлу! Посмотри поближе, совсем убит. А мало ли людей позавидует ему? Кругосветное путешествие! Шутка ли? И выбор на него одного пал. Счастливец!..
Тихонов сидел на чемодане и казался особенно маленьким возле груды свертков с папками и книгами, у своей картины на подрамнике, зашитой в мешковину.
Лучанинов уговаривал:
— И проводим тебя, Миша, и встретим честь честью, совсем как когда-то меня провожали из дома в Академию. Только меня везли не на твоем нарядном шлюпе, а в простой рыбачьей лодке. Отец, помню, дал мне пятак на пряники, а бабка, на попечении коей я рос, последний грош… Ну полезай, ребята! Билеты я уже взял.
Парусник качался. Трап под ногами плясал. Потом зашуршал канат, и судно стало медленно отчаливать.
— А твои как дела, Сережа? — спросил Тихонов.
— Хлопочут все: и Яков Андреевич, и граф Толстой, и профессор Егоров… Да пока толку мало. Помещику написали.
Парусник проходил через Усть-Невские мели. Петербург убегал назад, таял, как призрак. Только шпиль Петропавловской крепости все еще сверкал вдали, пронизанный солнечными лучами. Правый берег залива, суровый и дикий, всплывал синей полосой, а левый, усеянный дачами и деревнями, казался веселым и заманчивым в своих садах, рощах и перелесках… Проплыли мимо Сергиевской пустыни с купами монастырских деревьев и высокой колокольней; промелькнула Стрельна с легкими очертаниями дворца; показался пышный петергофский парк, потом — Ораниенбаум. И он утонул в беспредельной пелене моря. За бортом бежали белые барашки.
На корме кто-то громко заявил:
— Отселева, братцы, до Кронштадта рукой подать, верст восемь.
Беспрестанно встречались суда с развевающимися на ветру флагами. Небо было без облачка. Солнце палило, как летом. В его лучах все на море представлялось радостным и праздничным!
Лучанинов потрепал Тихонова по плечу:
— Славно угостимся на берегу, Миша. Выпьешь на дорогу один посошок в "Итальянском" трактире. Ничего с тобой не будет на этот раз. Там и переночуем. А завтра чуть свет — счастливого пути!
Кронштадт. Длинный ряд пушек на стенах крепости.
— Серьезный городок! Шутить не любит, — торжественно изрек Лучанинов.
— Да, пушки шутить не любят, — отозвался Сергей.
— Ишь как грозно нахмурились! А вон мачты выстроились, что лес.
— Где только зелень в этом голом лесу? — уныло спросил Тихонов.
— Тебе все теперь неладно, отшельник! Ты лучше полюбуйся на флаги: все цвета радуги. Я-то ничего в них не смыслю, какой к чему. А ты по этой части скоро у нас профессором станешь. Смотри привези мне живого носорога. Я на нем по Питеру ездить стану. Вот смеху-то будет!
Гавань пестрела от трепетавших в воздухе флагов. Сеть бесчисленных мачт чертила небо. И среди них были одни — мачты того "заветного" корабля, о котором грезили все художники. Он мог увезти их в Любек, в эту первую остановку по пути к желанному раю — Италии. Удастся ли когда-нибудь ступить на его палубу трем подъезжавшим к Кронштадту друзьям?..
Корабли стояли тесно, но в определенном порядке, красивые и стройные, как стая невиданных птиц. Отдельно от других сверкал новой, ярко вычищенной медью великолепный шлюп. И с борта его будто кричала огромная надпись: "Камчатка".
— На каком ты судне поедешь, Миша! — заметил Лучанинов восторженно. — Год целый строили. Ну вылезай, ребята! — И, подражая команде штурманов-финнов, закричал. — То-о-оп, машина! Сат-ний код!
Высадились у гауптвахты и вдоль крепостной стены прошли в город.
"Итальянский" трактир ничем не напоминал Италию. Там шипел обычный гигантский самовар. А у стойки в буфете, как во всех трактирах, продавал водку, вино и всякие закуски хозяин в розовой рубашке и жилетке. Половые с салфетками на руке сновали между столиками. В углу надрывался хриплый орган с изображением девицы, целующей голубка. За дощатой стеной раздавался стук бильярдных шаров и мужские голоса.
— А ну, детки, — начал бодро Лучанинов, — дернем по рюмочке-другой, вспомним Елагина и доброе время, проведенное в благословенном Петровском. Итак, за здоровье добрейшего Алексея Петровича и всех сродников его!
В трактире собралось немало всякого народу. Посреди залы плясали, обнявшись, подвыпивший русский мичман с английским, пили и целовались, объясняясь в любви друг к другу. Рядом, собравшись тесной группой, опоражнивали пузатые чайники купцы и, вытирая пот пестрыми платками, торговались с двумя немцами-коммивояжерами. В соседней комнате кутили молодые морские офицеры, и матросы бегом носились через залу к стойке, заказывая хозяину новые порции вина и закусок.
Друзья посидели чинно за столиком, выпили мадеры, пошатались по городу и вернулись в трактир только к вечеру.
Спали они на скверных кроватях, на жестких
подушках с сомнительными ситцевыми наволочками.
Заря чуть полоснула небо, когда они были уже на ногах и сейчас же отправились на набережную.
Тихонов растерялся и чуть не забыл чемодан. Сергею пришлось бежать за ним в трактир. Схватив свои вещи, Тихонов с видом бросающегося в пропасть ступил на трап.
На палубе толпились военные. Матросы мелькали взад и вперед: тащили тюки и ящики, катили бочонки, лазали по мачтам, прилаживали паруса, подтягивали канаты. В этой суете чувствовалось что-то бодрое, зовущее. Становилось весело от яркого солнца, от блеска его на поверхности моря, от волн, плескавшихся о борта шлюпа, от окриков команды…
Среди общего оживления выделялась понурая фигура Тихонова с бледным, осунувшимся лицом.
Высокий плотный капитан — начальник экспедиции Головнин — прощался с друзьями и объяснял иностранным гостям — англичанам и шведам:
— Шлюп отправляется на северо-восток. Мы должны доставить на Камчатку нужные для сей области нашего государства припасы, обозреть там колонии Российско-Американской компании и определить географическое положение тех островов и мест Российских владений, кои не были доселе определены астрономическими способами. Нам предстоит также посредством малых судов осмотреть и описать северо-западные берега Америки, к которым, по причине мелководья, капитан Кук не смог приблизиться.
— Весьма интересное путешествие!
— Олл райт! — любезно поддакивал англичанин.
Гордо улыбаясь, Головнин смотрел на нарядное детище своих долгих забот. От канатов приятно пахло смолой. Всюду сверкали металлические части. В кубрике слышались голоса и стук поварских ножей. В солнечных лучах паруса казались белоснежными.
— А сколько на шлюпе экипажа, господин капитан?
— Сто тридцать, и все, как на подбор, славные ребята. Господин президент Академии тайный советник Алексей Николаевич Оленин, сверх морских чиновников, определил ко мне молодого, но изрядного уже живописца с самой авантажной адресацией. Я очень рад. Вот он пробирается сюда со своими вещами. Э, молодой человек, ваши вещи мог бы отнести матрос!..
Тихонов пробормотал что-то несвязное. Головнин покачал головой и снисходительно заметил:
— Сложения субтильного живописец, но, надеюсь, на морском воздухе окрепнет. В морских путешествиях искусный живописец весьма нужен. В отдаленных частях света есть много предметов, образцы коих привезти невозможно. И даже подробнейшее описание не может дать о них надлежащего понятия.
Головнин говорил, а взгляд его зорко следил за приготовлениями к отплытию. Солнце слепило. Он отдал честь гостям:
— Сейчас снимаемся с якоря, господа! Провожающих прошу сойти на берег.
Тихонов обнял товарищей.
— Прощайте! — сдавленным голосом вырвалось у него. — Увидимся ли?
— Еще что выдумал! — сказал Сергей, преодолевая комок в горле. — Как еще похвастаемся друг другу своими новыми работами — вот увидишь!
Лучанинов шутливо погрозил пальцем:
— Ты, Миша, смотри не измени дружбе и не останься под тропиками совсем. Да не женись на женщине с кольцом в носу.
— Брось паясничать, — рассердился вдруг Тихонов, но спохватился и бросился на шею товарищу.
Трап подняли. Шлюп медленно, точно собираясь с силами, начал рассекать волны, отодвигаясь от пристани. Паруса запылали в солнечном блеске и на безоблачном, голубом небе стали казаться огромными крыльями. Облокотившись на перила, Тихонов не отрываясь смотрел на уходящий берег и на два белых платка в руках товарищей, которые трепал ветер.
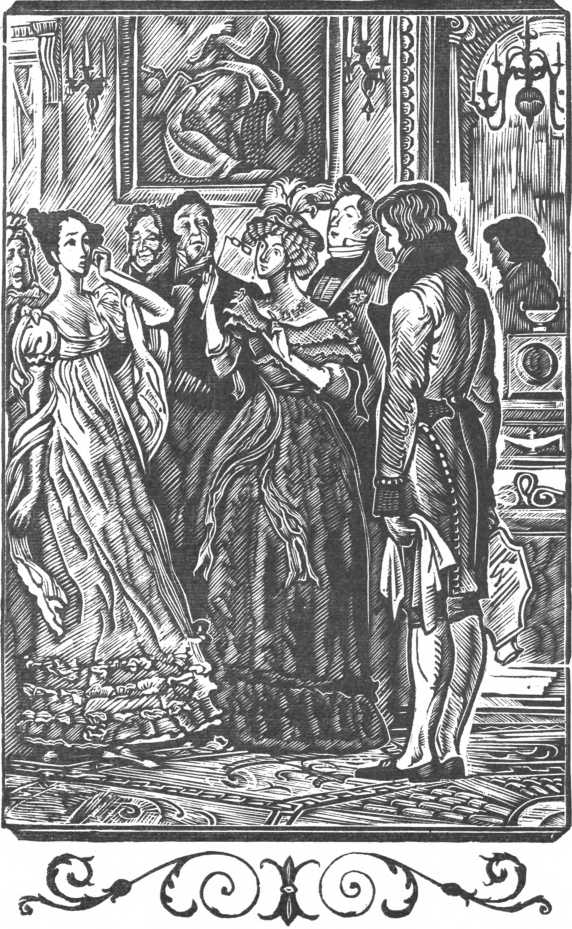

Часть вторая
I. ГОСПОДА
На Малой Морской отделывался по последней моде барский особняк. Из-за границы выписали красного дерева ампирную мебель, зеркала в золоченых рамках, фигурные часы. Целыми днями уставляли оранжерейными цветами анфиладу комнат с лепными потолками и со статуями в нишах. Вешали драпри, занавеси, разбирали ковры, французские, турецкие, персидские. Потом навезли мебели из карельской березы, вдобавок к заграничной, и стали натирать полы.
Всем распоряжался Ганс Карлович, немец, "мажордом", как приказано было дворне величать его. Крепостные слуги толпились в передней, в коридорах, в людских, на лестнице, в кухне и во дворе. Там усиленно выколачивали вещи, пользуясь редкими солнечными днями петербургской мокрой осени. Лакеи были в новых ливреях, светло-коричневых, хорошего "аглицкого" сукна, с басонами, в мягких, бесшумных туфлях с пряжками. Немец, со строгим красным лицом, с брюзгливо оттопыренной губой, царствовал без господ самовластно. Ломаным русским языком он покрикивал на людей, рыжий парик со взбитым коком на его лысой голове поминутно съезжал на редкие седеющие баки. Водянистые глаза шныряли по всем углам, выискивая предлог для выговора.
Ждали из Москвы молодых господ — Петра Андреевича Благово с женой. Они должны были приехать сразу после венца. Петр Андреевич получил назначение в Коллегию иностранных дел, а молодая жена его грезила о придворных балах и столичной роскошной жизни.
В особняк несколько дней подряд приходил Яков Андреевич Васильев справляться о приезде Благово. И мажордом всякий раз невозмутимо отвечал:
— О, mein Gott!..
[116] Ишо не приехаль. Полюшен только депеш: готовь ожидаль каштый дэнь.
Яков Андреевич кивал головою и уходил, а дома говорил Сергею:
— Потерпите еще немного, Сережа. Все уладится. Немец ждет господ со дня на день. Вот мы и напустим на вашего барина Федора Петровича Толстого. Он граф, свой брат, ужли ж ему откажет? Добрейшей души человек Федор Петрович! Сам взялся переговорить и сказал, что Толстые с Благово давно в родстве, еще через пращуров
[117] Римских-Корсаковых… Фамилия, говорит, историческая. Ну, утро вечера мудренее, и нос вешать пока нечего. Завтра опять схожу. Вы к немцу сами-то не суйтесь, как бы не оставил до приезда господ и не натянул бы на плечи кофейную ливрею. У них там полным-полно коричневых лакеев. А цвет, я вам скажу, замечательный! Я давно такой тон подбираю для одной фигуры на моей картине: "Посольство к царю Борису Годунову". Замечательно теплый тон! Ну, а вы не тужите, Сережа, и кончайте спокойненько своего "Геркулеса". Я вам уголок славный в столовой отделил, там света порядочно. Работайте, работайте!..
…Федор Петрович Толстой отправился к приехавшему наконец Благово.
Родственник, седьмая вода на киселе, принял его любезно в "голубой" гостиной и представил жене. Молодая женщина тоже была вся в голубом, в волнах кружев и голубых лент на воздушном корнете
[118] поверх светлых льняных кудряшек. Она улыбалась, вскрикивала в детском, казалось, восхищении и поминутно повторяла:
— О, c’est charmant!..
[119]Приходите к нам почаще, в наше гнездышко, cher cousin!..
[120]
После нескольких общих фраз Федор Петрович перешел к делу и стал рассказывать об успехах их молодого талантливого крепостного в Академии, о его почти законченной картине, о том, что он непременно будет послан за границу. Только нужно будет дать ему вольную для получения аттестата. Женщина плохо слушала про неинтересные ей "аттестат", "вольную" и "Академию", зато жадно ловила описание работ своего крепостного.
— C’est charmant!.. Он рисует и портреты?..
Голубенькие глазки смотрели на Толстого приветливо. Губы улыбались невинной улыбкой. Ребячливым жестом она потянула мужа за рукав:
— Пьер, это прелестно! У нас будет свой Рафаэль. Он еще, говорите вы, cousin, не кончил этой большой картины?.. "Геркулес и Омфала", так, кажется? Ну так пусть он напишет "Омфалу" с меня. И мой портрет тоже отдельно. И ваш, Пьер, ваш — в новом мундире. А я — в блондах, как в облаке, на фоне неба и вокруг чтобы мотыльки и бабочки…
— Вы ангел, Лиз! Ну конечно, ваш милый образ среди голубого неба, как мадонна… этого, как его, я забыл…
— Рафаэль, Мурильо, Грёз… — подсказывала жена.
— Вот именно, именно! — целовал он ее детские ручки.
Толстой легко угадал, что первую скрипку в этой чете играет жена, и любезно спросил:
— Так как же рассудите, Елизавета Ивановна, насчет Полякова?
Маленькие ручки захлопали в ладоши.
— О, благодарю вас, cousin, за сообщение. Je suis enchanted
[121] Для меня это крайне, крайне интересно. У нас с Пьером как раз недостает художника и деликатного лакея… с некоторыми манерами. А вы говорите, что он воспитан и танцует даже экосез и мазурку… знает языки и держится, как дворянин?..
— Он принят в лучших домах столицы, сударыня.
— Charmant! Charmant! — щебетала Елизавета Ивановна.
— Так как же рассудите, Петр Андреевич? — добивался определенного ответа Толстой.
Благово вопросительно обернулся к жене:
— Что вы скажете, Лиз?
— О чем, мой друг?
— О вольной для вашего крепостного, — подсказал Толстой. Голубенькие глазки были полны удивления:
— О во-оль-но-ой?! Зачем? О Пьер! Зачем ему вольная? Я его буду держать при своей собственной персоне. Он будет моим выездным лакеем. Всюду со мной, со своей барыней… И пищу я стану посылать ему со своего стола. Никакой грязной работы. Всем обеспечен. Он будет счастлив. Зачем ему… вольная?
Толстой пробовал объяснить, снова повторял об экзамене, об аттестате, о медали и поездке в Италию.
Детское личико исказилось, готовое заплакать.
— Пьер, скажите же, скажите, что нам самим нужен этот крепостной!
— Конечно, конечно, мой ангел, — бросился к ней Благово. — Вы видите сами, дорогой Федор Петрович, что ваше ходатайство невозможно. К тому же мы с Лиз имеем похвальный пример в лице нашего, а тем самым и вашего, родственника. Изволите знать генерал-майора и камергера Ивана Николаевича Римского-Корсакова?
Толстой наклонил голову в знак подтверждения. Кто же не знал неумного, бездарного фаворита Екатерины II, выдвинувшегося на короткое время благодаря своей красивой внешности!
— Так вот, — продолжал Благово, — этот наш с вами родственник Иван Николаевич, ему уже шестьдесят три года, но держится он крепко в родовых правилах: поднимать фамильную гордость всем, чем только можно. В подобном же случае он наотрез отказался дать вольную своему художнику-архитектору Простакову, которого знала вся Москва. Сколько раз холоп умолял о вольной, предлагая за себя большой выкуп. Но ответ неизменно бывал один: "Ты и искусен-то, чтобы прославить своего господина. Сиди пока, работай, а понадобишься мне, выпишу немедля". Да что!.. Сам государь обратился однажды к Ивану Николаевичу о вольной Простакову. И знаете, что ответил непреклонный старик? "Ежели что хорошо, то оно мне тем паче, ваше величество, надобно. Добром не отпущу. А будет ваше на то высочайшее повеление, не токмо его, но и все имущество мое и даже жизнь повергну к стопам своего монарха…" Ну государь, конечно, не присудил конфискации имущества достойного вельможи. И Простаков вольной не получил… Вы что-то хотели сказать, mon ange?
1 — услужливо оборвал себя Благово.
— Я хотела сказать, — снова сияя улыбкой, протянула Елизавета Ивановна, — что вам, cousin, напротив, должно только радоваться за вашего протеже. Мы с Пьером всемерно прославим его. Мы дадим ему разрешение расписать наше гнездышко, подобно… шереметевскому Останкину в миниатюре. Это будет настоящая бонбоньерка
[122]. Игрушка! Если он искусен, мы будем его поощрять, и под нашим покровительством он станет… как это… совершенствоваться. Ничего грубого, вульгарного. Все изящно, тонко, эфирно. Не правда ли, мой друг?
Благово был в восхищении:
— Ваша головка, Лиз, не только очаровательна, но и полна рассудительности!..
Толстой с печалью видел, что все его доводы рушились о каприз избалованной женщины, что его перестали уже слушать и ждали лишь светской болтовни.
Он встал и попрощался.
"Розовый" дом показался Федору Петровичу вдруг унылым и холодным, убранство комнат в греческом стиле навязчиво-неуютным. Он быстро прошел к себе в кабинет и опустился в кресло, не зажигая огня.
"Что можно сделать еще? — мучительно думал он. — Как вырвать из хищных маленьких рук Елизаветы Благово выдающийся талант?.."
Прошение "на высочайшее имя"? Но на это уже заранее получен ответ в рассказе о крепостном архитекторе екатерининского вельможи. Благово дословно повторят всю его историю. Случай однородный.
Случай? Но разве случаи изменят общее положение? Мысль Толстого коснулась того, о чем говорилось уже давно и не раз среди лучших людей России. Говорилось чаще в строжайшей тайне. "Случаи" становились общим вопросом. И вопрос назревал, как желанный плод, и лучшие умы ждали его, готовились к нему…
А пока, что будет с Сергеем Поляковым? А Машенька? Невыносимо тяжело видеть ее испуганные, вопрошающие глаза. Она ведь ничего не знает. Сергей так и не был у них после летних каникул.
В тесной каморке под лестницей, отведенной ему для жилья, Сергей в первый раз надевал коричневую ливрею господ Благово. Он должен был носить ее теперь постоянно. Руки не слушались его и дрожали, поправляя на плече басоны.
В передней мажордом осмотрел нового лакея с головы до ног:
— Гут! Фигюр карош!
Он поставил Сергея у дверей, рядом с казачком, лукаво поглядывавшим на новичка. Мальчик успел уже приобрести кое-какой навык среди "челяди" и спросил быстрым шепотком:
— Во что играешь? В орлянку или шашки?
Сергей не ответил. Казачок заметил:
— Здесь со скуки сдохнешь, коли не играть в орлянку либо в шашки.
Сергей продолжал молчать.
Мажордом вернулся, и мальчик сделал невинное лицо.
— К барине, Сереж!
Елизавета Ивановна сидела в фисташковом будуаре среди оборок нежно-розового капота. Голова ее была в папильотках. С острым любопытством она оглядела Сергея и осталась довольна.
— Ну вот… — начала Благово покровительственно. — С сегодняшнего дня ты будешь служить только мне. Ты рад? Я добрая, снисходительная барыня. Что же ты молчишь?
Сергей с трудом выдавил из себя:
— Что прикажете, сударыня?
Елизавета Ивановна почти кокетливо защебетала:
— Прежде всего прикажу… веселого лица, а не такого, как у тебя сейчас! Такое выражение у слуги действует на нервы. Это вредно, понимаешь, вре-едно-о! А твоя обязанность — беречь свою барыню. Ты мой выездной лакей, доверенный слуга. Понимаешь?
Слушаю-с…
Елизавета Ивановна надула губки. Какой скучный холоп!
— Почитай мне, — приказала она нетерпеливо. — Ты, говорят, читаешь по-французски. Вон там, на канапе, книжка. Читай, а Марфуша станет меня причесывать.
Она позвонила в колокольчик в виде ландыша, и в будуар вбежала смуглолицая, черноглазая девушка, с вздернутым носом и полными яркими губами.
— Что прикажете, сударыня?
— Причеши, — протянула Елизавета Ивановна и откинулась на фисташковый шелк кресла.
В зеркало ей было видно, как быстрый взгляд Марфуши скользнул по фигуре нового лакея, как девушка вся вспыхнула и потупилась. Елизавета Ивановна улыбнулась. Она предчувствовала какие-то забавные для себя возможности от встречи этих двух холопов.
"Хотя, — подумала она, — эти люди так грубы, так развращены. В них нет ничего возвышенного, никаких тонких чувств. Ах, лакей уже читает, а я задумалась и не слышала начала. Скажите, у него прекрасное произношение… прононс. Вот неожиданность! Нет, он мил, положительно мил, этот… как его… Сергей. Только следует переименовать его на французский лад. Русские имена ужасно вульгарны!.."
— Се-ерж! — оборвала она на полу фразе. — Сегодня, после завтрака, я поеду за покупками. Ты поедешь со мной. А свою картину поторопись кончить. Повесишь ее в картинную галерею, которую мы устраиваем с барином. Мажордом укажет тебе место для нее. Впрочем, я распоряжусь сама. А потом сразу же начнешь мой портрет и затем — твоего барина… Ты должен угодить нам портретами, слышишь? Иначе… иначе я тебя продам, — решила она "припугнуть" на всякий случай.
Марфуша не спускала с Полякова глаз. Первое впечатление восхищения сменилось у нее вдруг чувством непонятной ей самой жалости.
…В гостином дворе Сергей торопливо соскакивал с запяток и помогал барыне выйти из кареты. У знаменитой модистки держал шубку барыни. Потом, весь увешанный свертками, снова откидывал подножку и усаживал Елизавету Ивановну в карету.
На следующий день барыня потребовала начать ее портрет. Но сидеть ей надоело, и портрет отложили. Сергею приказали кончать "Омфалу" и нарисовать в ней барыню по памяти.
Потом Елизавета Ивановна пожелала учиться рисованию.
— Только я не хочу этим противным карандашом, Серж, — сказала она. — Карандаш грязнит руки. Можно рисовать сразу акварелью что-нибудь такое… изящное… Светская дама должна все понимать и многое уметь.
Еще в девичестве Елизавета Ивановна училась петь у итальянца, но это ей давно прискучило. При гостях она все же охотно распевала высоким голоском незатейливые рулады из модных арий. Теперь она решила заняться рисунками. Вырезала из иностранных журналов картинки и копировала с них пастушков и пастушек в кругу овечек, похожих на куски ваты, плакучие ветви деревьев, с четко вырисованными листочками, склоненные к голубым водоемам, над которыми курчавились бело-розовые облака.
Благово, как всегда, был в восторге и всюду превозносил замечательный талант жены.
Случалось, надоедала и эта забава. Тогда барыня топала туфелькой и разрывала свое изделие в клочки, заливаясь капризными слезами.
— Я не была еще в Лондоне, — говорила после таких минут Елизавета Ивановна, — но петербургские туманы, право, наводят на меня лондонский сплин. Этот туман проникает даже сюда, в наше гнездышко, Пьер. В эти дни мне хочется только плакать и молиться…
Благово терял голову, не зная, чем утешить жену. Он сознавал, что, будь у него более солидное состояние, Лиз меньше бы хандрила. Их "гнездышко" все еще требовало хлопот и затрат, чтобы идти в ногу с вельможной столицей. Ах, Москва куда проще и спокойнее!
В доме появились вдруг какие-то монашки и странницы. Но и они быстро надоели, от них пахло "чем-то простым", деревенским, холопским. Их сменил надушенный ксендз в черном длинном одеянии, с тонзурой — выбритым кружком на макушке — и смиренно опущенными глазами. Увлечение католицизмом было тогда модным в большом свете Петербурга. Несколько великосветских дам стали выдавать себя за ярых католичек. Даже в ветхозаветную Москву одно время начало проникать это увлечение.
— Тоску по прекрасному, — шептала, полулежа на фисташковом канапе, Елизавета Ивановна, — так смягчают звуки органа! Вся эта таинственность и пышность католического богослужения, когда кругом статуи, кружева, цветы и благоухание…
В такие дни Сергея оставляли в покое. И он рисовал, напряженно ища в любимой работе забвения от былой мечты, от воспоминаний.
Но краски словно тускнели на его палитре. Взамен былых поисков и надежд оставались пустота и холод. И это убивало творчество. Задыхаясь в нарядном особняке, битком набитом чужими, далекими по развитию, по вкусам и привычкам людьми, он не находил себе места. Но идти на улицу было еще невыносимее. Ливрея жгла ему плечи. Казалось, что ни один глаз не пропускает "мягкого тона" его коричневой формы. В каждом встречном чудился недавний знакомый, который вот-вот оглянется и спросит:
"Помилуйте, Сергей Васильевич, что за маскарад?!"
Мучительны были и выезды с господами в театр или в гости. Он должен был сидеть, сторожа их шубы, в театральном вестибюле или в передней и слушать, как другие лакеи перемывают кости своих господ. Он молчал, сторонился, и за это новые товарищи невзлюбили его.
— Гордец! — доносилось до него. — Уж будто у его барина больше всех наших в мешке!
— Особняк, вишь ты, построили на Морской, вот невидаль! У моей княгини дом во-о какая махина! И кажинный день карет, карет к подъезду подкатывает. Сам государь намедни приезжал.
— А у нашего графа имениев и не счесть!
— Благово-то хоть и дворянский род, старинный, да все же не графы и не князья.
Всего хуже было сопровождать господ на балы. Кучера оставались на улице и утешались тем, что грелись вынесенным им "пенником" — водкой. Но лакеи, раздев господ, должны были проходить в лакейскую, где судачили, пока господа танцевали и веселились. Эти лакейские становились для Сергея камерой пыток. Никогда не мог он забыть своего первого там унижения.
Вечер у Салтыковых, почти рядом, на той же Малой Морской. Но господа все же отправились "для приличия" в карете. Подножка откинута — барыня выпорхнула на руки выездного. За нею, изогнув стан, вышел барин. Когда, сняв с обоих шубы, Сергей передал их швейцару, тот поднял на него удивленный взгляд. Старый, седой, больше полувека знавший по себе крепостную кабалу, он не мог ни злорадствовать, ни шутить как другие.
Едва Елизавета Ивановна, шелестя шелком легкого бального наряда и опираясь на руку мужа, поднялась на несколько ступенек, он пригнулся к самому уху Сергея и сокрушенно зашептал:
— Сергей Васильевич… батюшка… как же это? Да как же так? Господи, боже мой!..
Он знал Сергея хорошо. В этом доме Поляков бывал часто, и так же часто старик принимал или подавал его верхнее платье, прощаясь, снова вручал трость, шляпу. Он знал, что художника принимали здесь как равного, что портреты работы Сергея считались украшением комнат, и вдруг…
Сергей, задыхаясь, пробормотал:
— Покажи мне, Трофимыч, как пройти… в лакейскую.
И вот она, лакейская. Среди духоты и дыма от дешевых сигар и табака калистра — говор, смех, вольные шутки… Даже какое-то угощение. Салтыковы — господа нескупые. Слуги едят из общей тарелки, пьют вино, стащенное в буфете. Чешут языки, перебивая друг друга, залезают в барские кабинеты, считают в господских карманах, перебирают всю их родню…
Сергей сел в угол, чувствуя, что на него все смотрят. На минуту в комнате воцарилось молчание. Потом послышался насмешливый голос лакея князя Волконского, министра двора:
— Чтой-то, братцы, у меня в глазах рябит или чудится… Кажись, мадеры немного еще выпито. Да ведь это Сергей Васильевич, художник отменный! Заблудился, что ли? Ему, кажись, в гостиной быть надо бы и бланманжеи с морожеными кушать, оршадами да шампанскими запивая, и ножками шаркать в бальных башмачках, по зале с графинями носясь в обнимку. А он, вишь ты, в лакейскую к нам не побрезгал забрел!
Раздался общий смех.
— Не почистить ли метелочкой вашу шляпу, Сергей Васильевич? Не прикажете ли обтереть ножки?
И опять смех. А потом голос старшего лакея Салтыковых, полунасмешливый, полусочувствующий:
— А ты, Серега, плюнь на них, пра-слово! Садись к столу да угощайся! И впрямь не брезгай нашим угощеньем. Такова, братец, ныне твоя планида. Видно, господь тебе счастья забыл положить под подушку, когда ты родился, а старуха судьба сунула котомку с горем горьким…
Сергей не шевельнулся.
— Ну и черт с тобою, когда так! — рассердился лакей Салтыковых. — Смотри какой пан!
— Сам с усам и при себе с часам! — подхватил слуга Волконского.
И снова дружный хохот.
Начался разъезд. Подавая шубы своим господам, Сергей увидел вдруг Машеньку Баратову. Она его не заметила, зябко кутаясь в мех и сбегая по ступенькам лестницы в бальных туфельках с перекрещенными на подъеме ленточками. Сзади шла, вероятно, ее мать и сварливым голосом говорила:
— Не спеши, Мари. За тобою не поспеешь. И что тебе здесь не мило? Бывало, не увезешь, а теперь… Барон, дайте мне вашу руку и проводите нас.
В морозном воздухе прозвучал четкий окрик:
— Каре-ету Ба-ра-то-вых!
Машенька быстро скользнула в дверцу. За нею вползла маменька, поддерживаемая тощим бароном. И карета унесла их.
После бала у Салтыковых Сергей затосковал еще сильнее, похудел, осунулся, чувствовал себя совсем больным.
Елизавета Ивановна, увлеченная чем-то новым, редко требовала его к себе. И в свободные минуты можно было бы сходить куда-нибудь. Но проклятая ливрея держала его, как на цепи. Сергей тосковал об уютной семье Васильевых, о шумном Лучанинове. Думать о "розовом" доме Толстых он не решался.
Иной раз вечером с позволения мажордома Сергей все же выходил, чтобы побродить по улицам. Шел на Благовещенскую площадь, подставляя снегу разгоряченное лицо, ловил жадным ртом белые ледяные звездочки, раскрывал грудь навстречу поднявшейся метели, стараясь продрогнуть, чтобы свалиться в тяжелом недуге и забыть все.
Останавливался у памятника Петру, зовущему вперед, к корабельным верфям, к морю, на запад, откуда шел свет в глухую темень старой закопченной России. Поднимал голову и среди снежного вихря громко спрашивал:
— Ты, который вытащил на вершину жизни простого пирожника, Меншикова, научи, как же быть мне — художнику, не могущему жить без настоящего искусства?..
Бронзовый Петр молчал, указывая широким жестом в бескрайнюю даль, затуманенную снежной вьюгой.
Вялым шагом Сергей переходил Благовещенский мост — обычный путь прогулок трех друзей еще так недавно. Знакомая набережная Васильевского острова. Нет камня, которого бы не касались их ноги. Темнеет громада родного здания. Академия!.. Здесь столько лет жил Сергей! Знакомый купол, знакомый фасад, знакомый подъезд… И заветная дверь, — она теперь на запоре для него навсегда. Но сбоку, с 4-й линии, он ведь может войти когда угодно. Уверен, что будет по-прежнему желанным.
Сергей пробрался к квартире Васильева. Как вор, прильнул к окну. Хорошая хозяйка Анна Дмитриевна, стекла у нее всегда протерты. Сергею видна вся столовая. Обычно самовар "с разговором" обдает низкий потолок паром. На руках у Анны Дмитриевны Егорушка в одной рубашонке. Выросший и пополневший мальчик пляшет и хохочет. Зеленая тень абажура от подсвечника падает на пышную шевелюру Якова Андреевича, склоненную особенно низко над очередным "отчетом". Еще бы! Оленин взыскателен; попробуй не угоди-ка ему! Лицо Васильева осунулось. Несмотря на теплый халат, он ежится точно от холода. Уж не занемог ли?
Если бы Сергею занемочь! Да нет, здоровье железное…
Войти или не войти?.. Дернуть за ручку звонка? Постучать в окно? Примут, обрадуются. Расспросам не будет конца. Придется рассказывать все, обнажать душу, говорить о лакейских… Нет, не хватит сил…
И он пошел прочь, теряясь в снежной мгле.
II. СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РАФАЭЛЬ
Зима уходила. Уже падали с крыш сосульки. Пела весенняя капель. Громко бурлили пенистые потоки, вырываясь из жестяных водосточных желобов, и бежали вдоль улиц на соблазн дворовым ребятишкам, пускавшим кораблики-щепки…
В один из солнечных дней конца марта Елизавета Ивановна Благово принимали гостей, празднуя свое рождение. Накануне она потребовала Сергея, расспрашивала об именах знаменитых иностранных художников, об их "особенностях" и отмеченных знатоками картинах.
Сегодня в бархатном бледно-зеленом платье с вырезом, открывавшим анемичные плечи, в жемчужном колье и кокетливом корнете с лентами морской волны, она отвечала на поздравления петербургских визитеров. Но чувствовала себя созданной для жизни в иных широтах.
— Ах, душечка, к моему дню рождения судьба подарила прелестную погоду. В такую пору хочется совершить вояж куда-нибудь подальше… к солнышку, к цветам, к благоухающим дубравам… Я мечтаю об Италии… Пьер, когда мы поедем в Италию?
— Как только прикажете, мой друг!
Благово наслаждался: они с женой сидели в гостиной нежной парой, а вокруг жужжал рой голосов. Хозяйка щебетала громче всех:
— Я мечтаю об Италии! Страна истинных искусств! Мы с Пьером собираемся привезти оттуда статуй и картин для нашей картинной галереи. Я обожаю картины! J’adore! Они отвлекают от прозы будничных дней…
Лавируя среди столиков с вазами, в которых стояли цветы — подарок хозяйке от новых столичных знакомых, — Сергей разносил на подносе шоколад и бисквиты. Возле пожилой обрюзгшей дамы он неожиданно увидел Машеньку. Она сидела, опустив голову, безучастная ко всем этим нарядным гостям. Побледнев, с трясущимися руками, Сергей подошел к матери и дочери.
Машенька, не поднимая глаз, взяла нехотя чашку.
Сергей смотрел на похудевшее любимое лицо, с новым для него выражением тоски, с пятнами болезненного румянца. Прозрачные тонкие пальцы держали чашку и рассеянно помешивали дымящийся шоколад. Все внимание девушки, казалось, было сосредоточено на этом легком, чуть заметном паре, тающем в воздухе.
Машеньке действительно представлялось, что и вся ее жизнь, короткая и светлая до сих пор, похожа на этот пар над сладким напитком. Едва поднявшись, уже тает и исчезает…
Днем и ночью думала о Сергее. Что случилось? Почему он не бывает у Толстых, где его принимали, как родного? Почему не ищет с ней встречи? Он точно умер. И ни дядя Федор Петрович, ни тетя Аннет, ни няня — никто ничего ей не говорит, не объясняет. Неужели и они ничего не знают о нем? Но почему тогда не пробуют узнать? Болен Сережа или уехал и забыл ее?.. Почему все так странно получилось: сначала радость и любовь, беззаботность и покой, а потом эта неизвестность, предчувствие беды, бессонные ночи одиноких тревожных мыслей? Почему ей так трудно примениться к этой сложной жизни после свободного раздолья в глухом уголке Тверской губернии, где она росла? После чудесного знакомства с человеком, близким ей по вкусам и радостным мечтам? С человеком, таким красивым, талантливым и любящим? Детство кончилось, юность улыбнулась несколькими месяцами счастья, а теперь… эта страшная неопределенность.
Сергей задержался, пока мамаша Баратова выбирала сухарик.
Хозяйка дома заливалась, как канарейка:
— Ах, Флоренция! Микеланджело! Это… как говорится… мощь духа… Его сибиллы и пророки в Риме, во дворце святого отца папы — Ватикане и в Сикстовой капелле! Но Рафаэль ближе моей женской душе. В нем — нежность! Его мадонны… Ах, его мадонны! Вы бы показали наше последнее приобретение, Пьер.
— Да, да, мой друг, весьма удачная копия, — вскочил Благово.
Елизавета Ивановна тоже встала.
— Не хотите ли взглянуть на нашу картинную галерею?.. Шоколад нам принесут туда. Серж! Ах, да… Между прочим, мы владеем собственным "Рафаэлем", учившимся в Академии и получившим медаль. Вот адресую: мой выездной лакей, Поляков. Его картина "Отдыхающий Геркулес" не сегодня-завтра будет тоже повешена в галерее.
Гости шумно обернулись.
Машенька подняла голову, и легкий вскрик ее смешался со звоном выпавшей из рук чашки. Она замерла, как пораженная столбняком, побледневшая, не замечая забрызганного шоколадом платья.
Мать зашипела на нее:
— Какая неловкость! И все это твоя нелепая задумчивость последнего времени! Это становится просто неприлично!
Елизавета Ивановна сочувственно обняла Машеньку:
— Не огорчайтесь, дружочек, осколки сейчас уберут, а ваш наряд приведут в порядок… Серж, проводи барышню в мой будуар и позови Марфушу, — и отошла к группе гостей, приготовившихся любоваться картинами.
— Картинная галерея — это так модно!
— Скажите, лакей и вдруг — художник!
— Простой мужик, а смыслит в искусстве? Удивительно!
Голоса замерли в конце анфилады комнат. Раздосадованная мамаша Баратова уплыла, увлеченная общим любопытством.
Машенька стояла лицом к лицу с Сергеем и, прижимая руки к сердцу, шептала:
— Сережа!.. Как же это?.. Сережа!..
Он не отвечал. Что мог он сказать?
Машенька разом поняла все: его неожиданное исчезновение, ужас его судьбы, безвыходность их положения, их любви, их будущего. Значит, Академия не дала ему свободы? Лишила одного из своих лучших учеников равноправия, славы, любви, счастья? Не защитила его таланта? Не уберегла? Может быть, сама столкнула вниз, в лакейскую?..
Машенька вдруг вспомнила: дядя Федор Петрович говорил о новых порядках в Академии. Сережа, будущая знаменитость, которым гордилась бы родина, ее жених, ее веселый любимый друг, на всю жизнь — крепостной. Его могут продать за деньги или обменять, как вещь, как домашнее животное…
— Сережа!.. Сережа!..
Сергей подобрал осколки, вытер тщательно пол и, пряча лицо, выбежал из гостиной.
Вторая бессонная, полная отчаяния ночь в постели под белым кисейным пологом. Днем нудный разговор с матерью о том, что жизнь дорожает, что выезды стоят слишком много денег, что покойный генерал Баратов оставил жене и дочери не по их достоинству ничтожный капитал и маленькую деревеньку, почти не дающую дохода. Обведенные синими кругами заплаканные глаза Машеньки, ее нервность и непонятная тоска — все это никуда не годится. Все это надо изменить, и как можно скорее. Правда, Машенька еще очень молода. Но что делать?.. Обстоятельства требуют поторопиться пристроить ее. И такая удача — как раз подвернулась блестящая партия: барон Ребиндер, из остзейских аристократов. Он хоть и пожилой, но еще крепкий мужчина и весьма воспитанный. Мать не допустит отказа — пусть девчонка и не воображает упрямиться. Все эти старые деревенские ухватки необходимо раз и навсегда забыть. "Не выйду без любви!" Скажите!.. Какая там любовь, когда скоро придется выезжать в расшлепанных туфлях и заштопанных перчатках! Девчонка дура, и больше ничего!
— Ах, маменька! Неужели вы ничего, ничего не понимаете?.. — И не хочу понимать.
Машенька билась в неслышных рыданиях. Потом слезы разом высохли, девушка села на постели, задумалась.
В углу у киота мигала зеленым огоньком лампадка, освещая лик Христа старинного письма, привезенный из деревни вместе с другими привычными вещами. Все как в детстве: полог, лампадка, киот… Только сама она уже не ребенок. Никто, даже дядя, не может ей помочь. Она узнала: он ездил хлопотать о Сереже к Благово, долго разговаривал с Иваном Андреевичем Крыловым, ведь тот близок в делах с президентом Академии. Все напрасно. "Сережа, как щепка, попал в общий водоворот", — сказал дядя. И он не один в таком ужасном положении.
Но для Машеньки он — единственный, лучший, самый достойный счастья. И самый обездоленный… Если ему никто, никто в целом мире не может помочь, то поможет она — его подруга, невеста, будущая жена. Она поможет ему и себе. Завтра же, когда маменька уедет с визитами, она притворится больной и…
Наступило завтра. Сквозь оконную занавесь забрезжил свет. Первый солнечный луч зажег золотом тяжелые оклады икон, скользнул по прозрачному пологу, по простыне и коснулся бледного девичьего лица.
Машенька глубже зарылась в подушки и до подбородка натянула на себя одеяло.
Когда пришла горничная, она сказала ей:
— Я больна, Малаша. Ты доложи маменьке, что у меня голова болит и я не встану. А потом я тебе секрет открою. Тебе одной. Хочешь?
Малаша — охотница до секретов. Она, разрази ее господь, никому не скажет! А тут барышня, хоть и болит у нее головка, обняла ее к тому же за шею. Стала целовать и приговаривать:
— Малаша, милая моя! Помнишь, как в деревне мы с тобою пробрались на посиделки? А ты после с Васькой домой шла, и он тебе дал жамочков
[123]. Ты меня потом ими угощала… Помнишь? Помнишь? Вася-то еще не сватал тебя?
Как от таких речей и поцелуев не размякнуть сердцу деревенской девушки!
— Проказница-барышня! Уж и сватал…
— А я тебе секрет поведаю, самый тайный, самый сердечный… И кое о чем попрошу… Исполнишь?
— Вот крест, исполню. Хоша бы в огонь, и то за вас пойду!
— Ма-шенька! — раздался властный зов матери.
Машенька закрыла глаза и притворилась спящей. Малаша на цыпочках пошла к двери и шепнула входившей барыне:
— У барышни головка ужасти как болит. Весь день, говорят, будут лежать. Ты меня, говорят, не тревожь и маменьке так доложи.
…Елизавета Ивановна только что кончила свой сложный туалет, когда Марфуша сказала, что ее спрашивает барышня.
— Кто такая? — поморщилась Благово. — Верно, бедная какая-нибудь? Передай, что для благотворительности я определила субботу.
— Да нет же, это настоящая барышня и одета даже оченно хорошо. Да та самая, что третьего дни платье себе шикаладом забрызгали.
— Ах, Мари Баратова! Одна?
— Одни-с. Как есть одни-с.
— Что за таинственность? Интересно! Проводи барышню в маленькую гостиную и скажи, что я сейчас выйду.
Елизавета Ивановна появилась, как всегда, томная, с подчеркнутой грацией, с нежностью в голосе, но с острым любопытством в глазах.
— Вы, Мари? Что случилось? Где ваша милая maman?
Машенька вспыхнула и заговорила горячо и быстро:
— Я знаю, это час — не для визитов… И маменька не подозревает, что я у вас… Я очень прошу, не говорите ей о том, что я приходила…
Машенька оглянулась.
"Как она боится, однако, свою фурию-мать", — подумала Благово.
А Машенька торопилась высказаться, страшась только одного — встречи с тем, ради кого она решилась на этот необычный шаг. Что, если Сережа вдруг войдет сюда, и ему, как в тот раз при гостях, прикажут услужить ей — барышне, дворянке?.. Унизят его снова? Причинят невыносимую боль при ней — его невесте?..
И Машенька судорожно схватила унизанные кольцами руки Елизаветы Ивановны. Полная отчаяния и мольбы, она прошептала:
— Я прибежала к вам тайком… У меня так мало времени, а надо столько сказать, чтобы вы поняли меня… сердцем поняли…
Она передохнула, стараясь перебороть подступившие слезы. Потом тихо проговорила:
— Я люблю Сергея. И он любит меня.
Елизавета Ивановна всплеснула ручками:
— Неужели моего кузена Сержа Римского-Корсакова? C’est charmant!.. Действительно, он недавно приезжал в Петербург. О, маленькая кокетка! Но что ж тут удивительного? К чему вся эта таинственность?.. К чему эти милые слезки? Я рада помочь, душечка, чем могу такой очаровательной паре, как вы и мой кузен.
Машенька отшатнулась и покачала головой. Как объяснить свою любовь не к московскому дворянину, а к крепостному "мужику", как их называют?
— Его мать, — продолжала Благово, — тетушка Мария Ивановна — дама хоть и властная и любит командовать, но обожает своих детей. Если молодой человек захочет, он всегда устроит все доброй манерой… Впрочем, — она засмеялась, — я могу послать ей картель
[124] и сделаться вашею… свахой. Да, да, настоящею свахой!
Град поцелуев осыпал бледные щеки Машеньки.
Девушка с трудом проговорила:
— Вы меня не поняли… Это не Римский-Корсаков. И все зависит только от вас одной: все мое счастье, будущее, жизнь… Он — художник.
— Ху-дож-ник? — протянула Елизавета Ивановна. — Но кто же, милочка, кроме вашего добрейшего дядюшки, может быть таким чудаком, чтобы решиться вступить в круг разночинцев?
Машенька теряла почву. Как сказать о Сергее, когда его не считают даже за человека?
— Умоляю вас, будьте снисходительны!.. Не осуждайте нас… и помогите…
— Ах, моя прелесть! Осуждать — великий грех. Скажу вам по секрету: я ведь сама, представьте, любила… то есть мне казалось, что я любила. Но будущее надо видеть, как в зеркале, говорят опытные люди. Увы, я питала некие сладостные чувства к одному молодому повесе, но у него не было ничего. И я, как видите, не сделала опрометчивого шага. Если ваш chevalier
[125] тоже беден, о браке нечего и думать.
— Я люблю вашего художника Сергея Полякова, — со стоном проговорила Машенька.
— Кре-пост-но-го?!
Елизавете Ивановне показалось, что она ослышалась.
Машенька не узнала ее голоса.
— Вы шутите, мадемуазель Баратова?
— Вы его не знаете, хоть он и принадлежит вам. У него талант, у него доброе, ласковое сердце. Он образованнее многих дворян. Перед ним была карьера. Его ценили в Академии. Мы мечтали вместе уехать в Италию и быть счастливыми всю жизнь. Мы так подходим друг к другу. Оба любим природу, красоту, правду… Если бы вы все знали, вы бы поняли нас и отпустили его на волю…
Голубые томные глаза Елизаветы Ивановны стали вдруг холодными и колючими.
— Вы так описали, мой друг, что я начинаю действительно дорого его ценить.
— О, я выкуплю Сергея, если это надо, — схватилась за новую мысль Машенька. — Я продам мои фамильные драгоценности!..
Благово рассмеялась:
— Oh, comme c’est drole!
[126] Вы фантазерка! Ваши фамильные драгоценности, но что они стоят?.. И вообще, на что вы рассчитываете в будущем, ежели бы даже мы и согласились отпустить нашего лакея? "С милым рай и в шалаше"? Так?..
— Не совсем, Елизавета Ивановна, — перебила Машенька пылко. — Он писал портреты, будучи учеником. Талант лучше, почетнее капитала.
— Вы слишком долго прожили в деревне, Мари, и привыкли иметь дело с… мужиками, — передернула плечами Благово. — Вас надо по-христиански просто пожалеть и уберечь от диких фантазий. Крепостной лакей! Слава богу, их всех наконец-то выбросили из Академии, этих грязных холопов! Они, говорят, были заразой для остальных…
Машенька готова была закричать.
— Мари, — продолжала Елизавета Ивановна наставительно, — я хочу окончить наш странный разговор. Я замужняя дама. Я веду дом, хозяйство, забочусь о муже и должна не расточать, а умножать богатство в своем гнезде, которое послал мне господь. Это мой христианский долг. Отпустить такого ценного лакея, как Поляков, нам с Пьером не-вы-год-но. Понимаете? У нас не кончена еще роспись особняка. Картинная галерея требует специального человека. В желтой гостиной я хочу переписать заново плафон.
— Сергей может дать вам подписку, что он обязуется сделать вам все бесплатно. И картинную галерею, и плафон, и все, все, что вам будет угодно!
— Что вы говорите, Мари? — холодно отчеканила Благово. — Неужели мы с Пьером допустим, чтобы лакей — наш холоп — давал какие-то подписки? По закону он принадлежит нам. Он наша собственность, как вот эта диванная подушка или иная вещь. Он обязан и так делать нам все бесплатно.
Стиснув зубы, Машенька спросила:
— Сколько же он стоит, Елизавета Ивановна? Я, может быть, найду такую сумму… займу… попрошу…
Благово расхохоталась:
— Да вы меня уморили! Неужели вы серьезно? Нет, это просто анекдот! Веселый фарс! Вы хотите… купить себе… холопа в мужья?
Машенька посмотрела на нее сухими, воспаленными глазами.
— Это уж мое дело, — сказала она вдруг спокойно, — холопа ли мне покупать в мужья или дурака с денежным мешком и титулом.
Наступило молчание. Елизавета Ивановна встала.
— Пора кончить эту беседу, мадемуазель. Мое последнее слово: лакея я не продам. Если он талант, то таланты нам нужны самим.
III. ДЕРЕВЕНСКИЙ "ВОЯЖ"
Ранней весной господа Благово вместо "вояжа" в Италию поехали в подмосковное имение своих родственников Римских-Корсаковых в
Дмитровский уезд. Елизавета Ивановна ожидала ребенка. Ее здоровье требовало, по мнению домашнего врача, особой заботы и покоя. Господа брали с собой среди других холопов и Полякова.
Сергей был рад попасть в места, где неподалеку родился и вырос. Он хорошо помнил все эти неприхотливые холмы, луга, опушки с белыми стройными березами и трепещущими листвой осинами. Помнил рощи и перелески, бурливые ручьи и овраги среди мохнатых елей, с неведомыми лесными речонками. Любил он и колокольный звон Николо-Пешковского монастыря, гово-ривший о праздничном отдыхе, когда господа отпустят казачка Сережку поудить рыбу или наловить раков. С господами он часто бывал у соседей Римских-Корсаковых. Петр Андреевич Благово звался тогда еще Петенькой. Был он вялым подростком, благонравным и покорным, отчего и пошел не в военные, а определился в Коллегию иностранных дел. А когда женился, вместе с земельными угодьями, получил от папеньки крепостных, в том числе и бывшего казачка Сережку.
Казачок Сережка рисовал с тех пор, как себя помнил, рисовал все, что видел: избу, сарай, цветы, кувшин с молоком, собаку, старую ключницу… А раз нарисовал Николо-Пешковский монастырь, "как всамделишный". И Саша Римская-Корсакова показала рисунок Андрею Семеновичу Благово. Старый барин решил поучить Сережку сначала у местного богомаза, а потом, пятнадцатилетним, отправил в столицу — в Академию.
Сергей вспоминал Сашу Римскую-Корсакову тепло и радостно. Когда-то он забавлял ее, делая из картона пляшущих паяцев, кивающих головами китайцев, петухов, крутящиеся мельницы. Позднее рисовал ей в альбомы меланхолические пейзажи.
Она ему платила ласковой приветливостью и простотою. Он думал о ней с особенной нежностью:
"Ей уже шестнадцать лет. Небось выросла, возмужала. А была, точно гусенок, долговязая, с длинной шеей и длинными руками… Только глаза по-прежнему, верно, большие, черные, сверкающие, и в них — вся душа нескладной милой девочки".
На его письмо еще из Академии она, правда, так и не ответила. Но теперь он сможет объяснить ей все, расскажет об ужасе создавшегося положения. Она поймет, постарается помочь. Она упрямая, своевольная.
После долгого медленного пути с остановками на ночлег приехали в Москву. Вторая столица встретила звоном пасхальных колоколов и золотыми маковками бесчисленных церквей. Ее миновали и покатили прямо в деревню.
Потянулись знакомые места: ржавые кочковатые болотца с топким мохом и смолистыми побегами ельника; бесконечные пески и молоденькие сосны в желтых весенних "свечках"; каменистые безымянные речонки у крутых скатов… Наконец поплыл долгожданный Николо-Пешковский звон. Как встарь, на вышке монастыря виднелся звонарь, раскачивающий веревку. И особенно ярко напомнил Сергею детство: издали колокольня всегда казалась похожей на голову великана, а двигающаяся в прорезе окна фигура — на подмигивающий глаз. А вот и запруда с мельницей; вот песчаная коса, где Сергей купался когда-то…
Сидя на козлах, он чувствовал, как теплая волна приливает к сердцу. Ему хотелось соскочить на землю и обежать родные места…
Знакомая рощица. На пригорке, у вырубленных пней, росла тогда земляника. Теперь пней не видно, их закрыла буйно поднявшаяся ярко-зеленая поросль.
Пронзительный крик спугнул воспоминания.:
— Е-ду-ут! Е-ду-ут!..
Деревенская девушка, махая руками и истошно крича, сбежала с косогора. За ней появилась нарядная барышня в белой кисее и светлой шляпке.
— Боже мой, да это Саша! Совсем взрослая.
Карета остановилась. За нею — дормез с прислугой и багажом. Саша подбежала и просунула голову в окно кареты. Послышались поцелуи, восклицания, томный голос Елизаветы Ивановны:
— Ах, кузиночка! Ах, Пьер! Я умираю от усталости…
— Здравствуйте, Лизонька! Здравствуйте, кузен Петенька! Маменька совсем вас заждалась. А я бегаю встречать каждый день.
Сесть в карету Саша отказалась и побежала по дороге домой наперегонки с горничной Дуняшей.
Дом большой, старинный, построен из толстого дуба, а низ — каменный. Множество подклетей и боковуш.
Мария Ивановна Римская-Корсакова приняла приехавших родственников в спальне с огромной прародительской кроватью под бархатным пологом. Она была в капоте и папильотках. Ее полное лицо украшали властные и такие же большие и черные, как у Саши, глаза.
— Уж не взыщите, племяннички, неможется, — говорила она. — Люблю к тому же и понежиться. В Москве, по зимам живучи, здоровье растерять нетрудно. А у меня хлопот полон рот, чтобы выводок дочерей пристроить. Сбросила, слава богу, мужьям на руки старших. Теперь две меньшие остались… Катеньку не хитро определить. А Саша у меня стрекоза мудреная, ей по вкусу не скоро подберешь. А тебя, душа моя Лизонька, я здесь на парном молочке скоро отпою…
— Фи, ma tante
[127], пар-ное-е моло-ко-о! — скривила ротик Елизавета Ивановна.
— И не думай отпираться, матушка. Я век прожила и других уму-разуму учила. Не растрясло ли тебя, свет мой?
— Ужасно растрясло… Ужасно!..
— Ну поди отдохни. Саша проводит вас в ваши комнаты. Туда им и завтрак вели подать, Александрин. Уж не взыщите, что не сама: у меня с ночи вертижи в голове. И хрен нюхала — не помогает.
В комнате действительно пахло хреном и уксусом.
— А ты, Пьер, тощий, как трость. Не годится. У вас, поди, в Питере и едят недосыта — талию берегут. Я по-московски правду-матку в глаза режу. Да не целуй руку, не благодари, еще не за что. Мой хлеб-соль впереди. А с жены глаз не спущу. У меня будет здорова и наследника принесет фунтов двенадцати весом.
— Мы так признательны с Лиз, ma tante!
Пьер нагнулся и снова облобызал пухлую руку. Пропустив жену вперед, он вялой походкой петербургского фата последовал за Сашей. Под ними заскрипели половицы, покрытые дорожками.
Елизавета Ивановна шепнула мужу:
— Какой старый дом! И какой странный запах!
Саша не то услышала, не то догадалась и заговорила своим веселым низким, как у матери, голосом:
— Пахнет, кузиночка, немного плесенью, немного старым деревом, а может быть, и мышами. Но я люблю этот запах, потому что люблю деревню и этот старый милый дом.
— Надо жечь ароматические бумажки, — изрек наставительно Пьер.
— Ну что вы, кузен! Французские бумажки — в деревне! Будет похоже на ладан. Сюда, сюда, направо!
Прошли залу с картинами в золотых потускневших рамах, гостиную с голубовато-зелеными ландшафтами и пальмовой мебелью, обитой черной кожей с золотыми гвоздиками. Все старомодное, прочное, ветхозаветное. Елизавета Ивановна уже начала жалеть, что приняла приглашение. Вообразить только, какая ожидает скука!.. Как жаль, что родители ее на теплых водах, за границей, а у Пьера родители умерли. Оставить же себя теперь "без присмотра" она не решалась.
Прошли огромную столовую с дубовыми панелями. Саша пробовала утешить гостью, заметив на ее лице разочарование.
— Знаете, кузиночка, хоть у нас и очень большая столовая, но случается, в ней едва помещаются гости. По воскресеньям бывает человек тридцать. А в именины и праздники им прости счета нет.
Обед тяжелый, с московско-деревенскими кушаньями. В граненых графинах, как повелось от дедов, всякие квасы. Зычный голос Марии Ивановны, несмотря на вертижи, слышался по всему дому. За обедом она сидела на председательском месте и гудела:
— Учись, Пьер, у стариков уму-разуму. Здесь все у меня прочно и живет век. Видишь: стены затянуты холстом и расписаны краской на клею еще при отце покойного мужа, а свежи, будто вчера сделаны. И драпировки малеваны домашними мазунами.
Стоя за спиной стула своей барыни, Сергей угрюмо подумал: "К этим домашним "мазунам", малевавшим пряничных лошадей и людей-головастиков в напудренных париках, причислят, конечно, и меня".
И, как бы в подтверждение, барин небрежно проговорил:
— У меня свой такой имеется, тетенька. Адресую, вот он налицо, — бывший казачок Сережка.
— Это не Степаниды ли сын? Я его и не узнала — молодцем разделался, — кивнула Сергею Мария Ивановна. — А в тебе, дружок Петенька, есть, как я погляжу, хозяйственная сметка. Сережка у тебя — на все руки. И живописец, и камердинер, и выездной, и официант. Саша мне еще зимой о нем все уши прожужжала… Нет, мои не так искусны… Лизонька, ты бы взяла еще индейки. Кушаешь мало — какого наследника родишь?
Елизавета Ивановна с удивлением косилась на простой фаянсовый сервиз. Сашенька, уловив взгляд столичной гостьи, улыбнулась и подмигнула сестре. Но благовоспитанная Катенька опустила только ресницы.
Голос Марии Ивановны покрывал все звуки:
— После обеда соснуть надобно. А завтра Саша вам все покажет: и лес, и пруд, и речку. Мою-то смиренницу не вытащишь, от рукоделья не оторвешь. А Саша — головорез. Я ей иной раз и пропозицию прописываю… Отдыхаю телом и душой здесь, дорогие мои. В Москве замучили балы со спектаклями. Верчусь там, верите ли, без передышки. Все дни, бывало, разобраны: четверток — у Льва Кирилловича Разумовского, пятница — у Степана Степановича Апраксина, по воскресеньям — у Архиповых… А своих дочерей-то замужних сколько! Да и у себя — балы, вечера, обеды… Мученье!
Гнедка оседлали под дамское седло. Одновременно выехал и кабриолет с кучером.
Седло, годное для катанья, — одно. Когда старшие барышни Римские-Корсаковы повыходили замуж, другие седла сложили на чердак, и их поели мыши. Саше и горничной Дуняше обеим хочется скакать по лугу карьером. Дуня ближе сердцу Саши, чем разные "кузиночки" и московские подруги. Да и маменька не перечит этой дружбе. Дуня в барском доме "на посовушках" еще с детских лет. А теперь Мария Ивановна без нее не может, казалось, дышать: чай ли пьет по утрам в спальне, подает Дуняша; к обедне ли ездит в монастырь — тоже с Дуняшей. Дуня научилась даже понимать французскую речь и сама пересыпает разговор французскими словечками. Дуня — хохотушка и ловкая помощница всяких затей Саши.
Выехали: Саша — на Гнедке, Дуня — в кабриолете. Дуня сама правит, а кучер, с кнутом за поясом, торопится сзади. Но едва заехали за пригорок — стоп. Дуняша уже — на Гнедке, а Саша — в кабриолете. Носятся по лугу, меняются местами, смеются.
Сергей все это видел и понял, что Саша осталась такой же простой и милой шалуньей, какой была ребенком. Он слышал, как Дуня, метнув на него мимоходом острый взгляд, шепнула барышне, как ровне:
"Жоли гарсон!"
[128]
И он решил просить Дуню устроить ему встречу с Сашей.
Саша пришла в беседку в условленный час. Цвела сирень, и грозди ее прорывались через разломанную решетку. Кругом все было голубое, и лицо Саши в лунных лучах казалось бледным и неясным. Одни только цыганские глаза словно горели.
— Вот и я! — вошла она, запыхавшись от бега и обмахиваясь веткой белой сирени. — Дуняша сказала, что ты хочешь меня видеть, Сережа. И я рада повидать тебя одного. — Она засмеялась. — Я ведь все, все помню — прежнее, детское… Только теперь мне уж не так интересны пляшущие паяцы и китайцы. А жаль! Ты их так замечательно вырезал из бумаги. Теперь не то! Ты говори мне скорее. — Она насупила брови и стала почти серьезной. — Я занята сегодня. У маменьки опять вертижи и спирает дыхание. Она приказала Дуняше поставить банки, а мне — спать в ее комнате. Ох, Сережа, и надоели же эти вертижи, если бы ты знал!
Сергей собрался с духом и начал:
— Александра Александровна… я решился, памятуя о детских годах…
Она засмеялась:
— Сережа, ты так говоришь, точно боишься.
— Я теперь всего боюсь, Александра Александровна, — опустил он голову. — Вот вы об игрушечном паяце вспомнили. А мне самому пришлось превратиться в паяца…
— Да в чем дело? Говори! Я ведь ничего не знаю о тебе.
— Я писал вам…
— Представь, твое письмо маменька куда-то затеряла, а Дуняша его на папильотки потом разорвала. Только один конверт до меня и дошел — такая жалость!
Сергей заговорил, захлебываясь, слова не поспевали за мыслью. В коротких, отрывистых фразах он рассказал свою историю, поведал о крушении всей жизни.
Глаза Сашеньки засверкали от негодования. Машенька Баратова — невеста этого красивого юноши в лакейской ливрее! Что, если бы она сама была на месте этой бедняжки? И бывший казачок, старый приятель детства, сразу показался ей и выше ростом и значительнее. В красивом лице его она прочла "возвышенный ход мыслей" и "печать незаурядного таланта".
— Неужели кузен с кузиной не хотят дать тебе вольную?
— Не хотят.
Она подумала.
— А если бы ты был вольный, ты бы кончил Академию, получил диплом и тебя пустили бы за границу?
— Непременно.
Саша нервно ощипывала цветы сирени.
— А она… Машенька… тоже крепко тебя любит?
Он упал перед нею на колени и, забыв долгие годы разлуки, взял за руки и горячо забормотал:
— Сашенька! Единственная вы моя надежда… Я знал, что вы меня поймете… Чутким сердцем отзоветесь…
Потом, разом вспомнив, одернул себя:
— Господи, что же я говорю? Простите, барышня…
Она ласково улыбнулась и провела рукой по его волосам:
— Почему же не "Сашенька", как прежде? Может, мы еще и породнимся через Машеньку и дядю Федю Толстого. Глупый! Ведь я, Сережа, твой друг.
Она встала и отряхнула с платья лепестки.
— Ну вот что, — проговорила она, — клянусь самыми заветными моими желаниями: сделаю все, что можно. Я тебе помогу. И вот залог!..
Саша сорвала новую ветку и, протянув Сергею, проговорила торжественно:
— Сирень не успеет еще завянуть, как я все устрою. Впрочем, — добавила она, — ты поставь ее все-таки в воду, чтобы она подольше… не завяла. Да вот еще, скажи: ты на балах танцевал, в обществе был принят, значит, и образованность имеешь? Много читал?
— Много.
Она задумалась.
— А о Шекспире слышал?
— Шекспира читал в переводе, а Мольера — в подлиннике.
— По-французски?!
— По-французски. И спектакль видел.
Сашенька всплеснула даже руками:
— Счастливый! А мне маменька Шекспира и Мольера читать не позволила. И в театре я была всего раз. До шестнадцати лет светских барышень в театры и на балы не вывозят.
— Са-а-ша!.. — донесся с террасы голос Марии Ивановны.
— Зовут! Конечно, образованному человеку, читающему Шекспира и Мольера, никак нельзя быть лакеем. Это просто… глупо и неприлично! Ну так слушай. — Она перекрестилась. — Вот тебе крест, что, если бы меня маменька посватала помимо моей воли, я бы, ни за что не пошла к венцу. Так должна поступить и твоя Машенька. Прощай! Через Дуняшу я назначу тебе свидание.
Она скользнула в дверь, и гравий зашуршал под ее быстрыми ногами.
Улыбаясь, Сергей опустился на скамейку; ему так хотелось верить в могущество Саши.
IV. ШАХ И МАТ
В спальне, слабо освещенной мигающим огоньком красной лампадки, тихо. На мягком расшитом коврике стоит на коленях Мария Ивановна и кончает свою вечернюю молитву:
— Господи, спаси и сохрани… Сыновей моих сохрани — раба твоего Григория и раба твоего Сергия. И всех сродников, господи. Пресвятая владычица-скоропомощница, святой Пантелеймон-целитель… Саша, подними меня — сама не могу. Так… Дуняшка, туфля спала. Да потри ноги, опять отекли. Ты сегодня банки не ставь. Я отменила. Ну, что жмешься, как котенок, Саша? Ступай к себе, небось не хочется со старой матерью спать?
Дуняша терла барыне ноги, а Саша ластилась:
— Вот и нет, маменька. Хочется у вас на диванчике, как маленькой, поспать. Позволите? Маменька, душенька моя, позвольте!..
— Подумаешь, большая выросла! А давно ли в саду обруч катала да в скакалку прыгала? Ну чего, чего, лиса патрикеевна, липнешь?.. Постели барышне на диване, Дуняша.
В басистом голосе — нежность. Саша торопливо целовала крупную материнскую ладонь. Дуняша постелила на диване. Потом раздела барыню, раздела барышню и вышла.
Мать и дочь лежали молча. Лампадка мигала, и, казалось, темный лик богородицы, в богатой золоченой ризе с жемчугом, кивает им из киота. За окном слышалась однотонная трещотка сторожа. Когда она замолкла, в спальню через полуотворенное окно ворвался немолчный стрекот кузнечиков. В кустах перекликались соловьи. Из-под загнувшегося края штофного занавеса лунный луч падал голубой полосой на пол, пробирался к пышной кровати, заглядывал Марии Ивановне в лицо.
— Маменька, спите?
— Не сплю. Думаю. Забот у матери разве мало? О Гришиной судьбе мечтаю… и боюсь. Очень уж горяч сынок, а это в жизни мешает. О тебе думаю: нынче вывозить тебя придется много, наряды шить. Ох, заботы! Заботы!..
— А можно к вам в постель, маменька?
— Иди, что с тобою поделаешь. Только, как жарко станет, прогоню на диван. Ишь, кошечка ласковая!
Саша скользнула к матери в постель, под легкое пуховое одеяло, пахнущее лавандой, и, уткнувшись в шелк, прильнула к могучему телу матери.
— Ох и хитра же ты, матушка! Чую: чего-то просить собираешься, — смеялась Мария Ивановна.
Саша тоже засмеялась:
— А вы умны, маменька, — людей насквозь видите!
— Еще бы мне дочку родную насквозь не видеть! Ну сказывай сразу: что надо?
— Ах, маменька, и не знаю, как начать… Я насчет Сергея-художника.
— Это насчет Сережки-лакея? И не думай, — своих мазунов хватает. А ежели портрет хочешь ему заказать, ужли Лизонька не позволит?
— Да нет, маменька, не то. Я хочу выкупить Сергея на волю.
Мария Ивановна приподнялась.
— Что ты только выдумываешь? Продаст ли его Лиз? Она ныне на доморощенных Рафаэлях помешалась. Такой тон задает, страсть! Сказывают, при дворе на художества мода. Ну и наша туда же тянется, а у меня расходы на детей, где мне твои причуды тешить? Вон одних Гришиных карточных долгов сколько надо покрыть… А зима с балами? Выезды, обеды… О господи! И сколько вам на одно приданое отложить надобно!.. Будешь хозяйкой, узнаешь, как вести дом.
Саша стала опять целовать руки матери.
— Маменька… дорогая… продайте мой браслет бабушкин. А если мало, и ожерелье с алмазиками…
— С ума спятила, матушка! Это к чему же?
— Сергея выкупить.
— И думать брось. С ума сошла, право, сошла! И что только в твоей голове бродит?
— Ну хотите, маменька, я всю зиму ни одного раза ни на бал, ни в театр не попрошусь? И в именины мне ничего не дарите, и гостей в именины не надо. Не сошла я с ума! А вы добрая, очень добрая… Вот слушайте: Сережа любит Машеньку Баратову, а Машенька любит Сережу. Они хотят жениться и уехать в Италию. И Сережа прославит Россию…
— Холоп, без чинов, без столбового дворянства, Россию прославит? — Возмущенная Мария Ивановна спустила ноги с кровати. — Ну и дура! Какие такие дворянки замуж за холопов выходят? Надо бы мне матери девчонкиной написать, чтобы глупость из головы дочки выбила. Ах, позор, срам какой!..
Саша, хватая мать за руки, бормотала:
— Маменька, не пишите! Я же вам по секрету! И они еще не женились! И Сережа не получил вольную!..
— И не получит, будь благонадежна. Да ты не егози, рук попусту не целуй. Никому я ничего не напишу, никому не скажу, а срамному делу потакать не стану. И тебе брильянтами фамильными распоряжаться не дам.
Саша припала к материнскому пышному плечу и лукаво шепнула:
— А если я украду брильянты, маменька?
Бас Марии Ивановны загудел грозно:
— Ну вот что я тебе скажу раз и навсегда, Александрин… — Римская-Корсакова называла так дочь, когда сердилась. — Слушай. Я испокон много твоих шалостей терпела. Сквозь пальцы смотрела, как ты с холопами возилась. Ой и много у тебя причуд было с самых детских лет! По сю пору помню, как два года назад ты задумала помочь мужикам-погорельцам. Ты попросила для них столько, что я ахнула. Так пристала, что я и придумала: ступай ночью на кладбище, к могиле блаженного Митрофана, — Получишь деньги. Думала, побоишься.
— А я разве не пошла, маменька, побоялась?
— Ох, пошла, своевольница!.. Четырнадцатилетней девчонкой пошла. И камень с могилы принесла, и платок свой на ней оставила, чтобы поверили. Его за тобой лакей принес. Я лакея охранять тебя незаметно послала.
— А я его не видела и ничуточки не боялась.
Мария Ивановна любовно провела по черным шелковистым локонам дочери.
— Аник-воин бесстрашный, — сказала она со вздохом. — И что с тебя будет? Растешь, барышня, скоро под венец бы надо. На новую твою срамную затею не дам ни копейки, так и знай. А теперь ступай к себе. Не надо мне такой глупой дочки. Разволновала только, всю ночь не засну. Пошли мне Дуняшку.
Саша слезла с пышных перин, надела халатик и, понурив голову, вышла. Мария Ивановна крикнула ей вслед:
— Пусть Дуняшка соль мне подаст и уксус "четырех разбойников". Уморите вы меня!..
Саша не рассчитывала больше на мать. Она придумала новый план.
С утра стала ухаживать за Супругами Благово, особенно за кузеном. Ездила с ним верхом, терпеливо выслушивала рассказы об его успехах в свете и попросила научить играть в шахматы.
Петр Андреевич играл в шахматы неважно, но игру очень любил. Саша оказалась внимательной и способной ученицей. И скоро Благово сказал жене:
— Знаете, Лиз, в этой смертельной скуке единственное развлечение — играть в шахматы с маленькой кузиной. Жду не дождусь, когда мы покинем это старое дупло.
Елизавета Ивановна подтвердила:
— Вот именно старое дупло. Удивительно удачное сравнение!
Играя в шахматы, Пьер удивлялся. Право смешно: девочка начнет скоро его обыгрывать. А Саша упорно, по целым часам, сидела одна над шахматной доской и упражнялась.
Дуняше она говорила:
— Если бы ты знала, как я ненавижу это сидение с противным Петенькой!
— Так зачем сидите, барышня?
— Молчи, так надо. Говорить боюсь, не сглазить бы. А если выйдет дело, перецелую обоих дурацких королей, коней, ферзей и даже все до одной пешки!
Наконец Саша решила, что она достаточно подготовлена. Прищурившись и лукаво улыбаясь, девушка предложила Благово:
— Кузен, хотите партию "всерьез", на что-нибудь?
— На что, кузиночка?
— A discretion?
[129]
— Хорошо. А вдруг я выиграю и потребую у вас неисполнимого?
Она пылко отвечала:
— Конечно, все, что в пределах возможного, Пьер. Ведь вы же не можете потребовать, чтобы я подарила вам дворец.
— Зато я могу потребовать вашего любимого Гнедка. Или чтобы вы вообще никогда не садились в седло. Или чтобы никогда не танцевали…
Глаза Саши засверкали.
— Я всегда честно держу слово, кузен.
Сели играть.
Успех клонился сначала на сторону Саши. Но она сильно волновалась и начала горячиться, делать неверные ходы. Руки ее дрожали. Из-под сдвинутых бровей горели глаза. Шахматные фигуры упорно, одна за другой, стали исчезать с доски и ложиться на стол возле Благово. Саша бледнела и задыхалась.
— Шах… и мат, кузиночка! — изрек наконец Благово. — Я выиграл.
Саша в отчаянии вскрикнула и закрыла лицо руками. Из глаз ее брызнули слезы.
Благово поспешил уверить:
— Успокойтесь, Александрин, я ничего не потребую. И вашего Гнедка мне совсем не надо. Успокойтесь!
Саша убежала, громко рыдая. В темном коридорчике она встретила Дуняшу и кинулась ей на шею:
— Ах, Дуняша, я была так уверена, что выиграю вольную для Сергея!
Тянулись дни за днями, серые и нудные, один как другой. Сергей продолжал "служить" за столом и на "запятках", чистить платье и ботинки, одевать и раздевать барина, разжигать ему трубку, исполнять поручения барыни.
Елизавета Ивановна говорила мужу:
— Меня раздражает, Пьер, когда вижу возле себя унылую физиономию. Это действует мне на нервы!.. А мне это теперь вредно.
— Ах, дорогая, все это от вашего слишком чувствительного сердца.
— Вы заметили, — продолжала Елизавета Ивановна, — Сергей ходит… как бы сказать… точно вернулся с похорон. Это еще больше усугубляет здешнюю скуку.
— Хотите, я ему подарю что-нибудь, Лиз?
— О нет, это его не развеселит. Он — человек молодой, а молодым нужны развлечения. Конечно, крепостным — иные, чем нам.
— Вы всегда правы, дорогая.
И Елизавета Ивановна приказала, чтобы Сергей по праздникам ходил на деревню, где молодые парни и девушки водили хороводы, или играл с дворовыми в горелки.
Сергей ослушался. Ни к деревенской молодежи, ни к дворовым он не пошел, а продолжал сидеть где-нибудь в дальней аллее или писал пейзаж, а изредка и этюд с кого-нибудь из жителей усадьбы.
Осенью все переехали из имения в Москву, где у Благово, в доме тетушки Марии Ивановны, родился первенец.
Дом Римских-Корсаковых у Страстного монастыря — большой, вместительный, удобный. Мария Ивановна, избранная крестной матерью, окружила молодую семью внимательным попечением. Так как ребенок родился хилым, решено было дать ему сначала окрепнуть, а потом уже пускаться в такую дальнюю дорогу, как Петербург. И Благово остались гостить у тетушки до весны.
С зимним сезоном, сдав маленького Петеньку на руки кормилицы, Елизавета Ивановна закружилась в вихре московских балов. Она нашла, что и в этой "отставной" столице, в конце концов, можно веселиться. И даже особенно блистать среди местных дворяночек, о которых в Петербурге высокомерно говорили: "Смешна, как москвичка!"
В конце зимы до Римских-Корсаковых долетела весть о свадьбе Машеньки Баратовой с бароном Ребиндером. Говорили, что небогатая девушка, почти бесприданница, сделала блестящую партию. Молодые будто бы уехали в свадебное путешествие за границу, на юг.
Гости и хозяева судачили о новости и не замечали, как Сергей, приготовляя столы для карт, мучительно вслушивался в разговор. С похолодевшим сердцем он разложил машинально щеточки, мелки и колоды карт на зеленое сукно ломберных столов и, шатаясь, вышел.
Все кончено. Его светлая, ясная любовь уехала с чужим человеком, навсегда вырвав из души того, с кем поклялась связать жизнь. Будет ли она, по крайней мере, счастлива? Заменит ли ей роскошь и богатство былую мечту? А что, если затоскует? Если сделала этот шаг нарочно, чтобы разом оборвать все нити, связывающие ее с прежним? Написать? Но куда? Зачем?.. Все кончено. Теперь уже все и навеки.
В тесной каморке, возле кухни, он забился в подушки, чтобы не кричать от боли и бессилия.
Саша, бросив танцы, побежала в коридор, звала его. Наверное, тоже узнала о свадьбе Машеньки. Сергей не отозвался.
Любящим сердцем угадав, что Сергей страдает, Марфуша сунулась было к нему. Но он не хотел утешения ни от кого.
Потом он встал и пошел в шеренгу выстроившихся у двери, возле буфетной, лакеев.
V. ХОЛОП
Мария Ивановна уговорила Благово провести еще одно лето в её подмосковном. Бэби
[130] необходимо было как следует окрепнуть на попечении опытной тетки. Помещица говорила:
— У ребенка английская болезнь, рахит. Только солнышком да солеными ваннами и лечиться. Куда вам, без меня, его поднять?.. Гляди, душенька Лизонька, долго ли я за ним смотрю, а он уж и на ножки становится.
Елизавета Ивановна вздохнула, но, выполняя "долг матери", не спорила.
С господами уехал и Сергей.
Все лето он прожил как во сне. К кистям не притронулся. Природы избегал. Избегал и встреч с Сашей. Марфуша казалась ему назойливой. Урывками, в свободные часы, он читал, разыскав на чердаке выброшенные французские разрозненные книги. Иные захватывали его, унося далеко от действительности; другие он бросал и с сердцем говорил:
— Небылицы!
И тогда лежал ничком, как мертвый, не шевелясь.
Вспоминал товарищей. Где они все? Скоро ли вернется "Камчатка" с Тихоновым? Что пишет теперь Лучанинов? Думал о разных судьбах художников. Об удачнике — талантливом Карле Брюлло… Разыскивал всякие слухи, касавшиеся живописцев, вышедших из крепостного состояния. Больше всего разузнавал о Василии Андреевиче Тропинине, крепостном графа Моркова, слава о котором гремела и в Москве, и в Петербурге, о котором знали и за границею. Думал о гнезде крепостных художников в шереметевском Останкине, куда он попал раз с господами. Сад — чудо искусства. Во дворце каждый камешек, каждая картина, каждое кресло — художественное мастерство, изделие рук крепостных. Там еще живо имя мастера Ивана Петровича Аргунова, умершего почти четверть века назад. Он был "талант всех мастей", как гордо говорили о нем товарищи, шереметевские крепостные: и дворец строил, и картины писал. А когда-то звали просто Ванькой и, поди, не раз драли на конюшне. Позже господа им же гордились и все-таки оставили рабом…
Елизавету Ивановну раздражала тоска Сергея, и она жаловалась тетке:
— Вы заметили, ma tante, как наш "Рафаэль" сохнет? Скажите, почему я должна терпеть его унылый вид? Это все Машенька Баратова виновата: закружила ему от скуки голову, а он и вообразил себе бог знает что… Ему бы в мою Марфушку влюбиться!
— А что? Хорошая девушка, — отзывалась рассудительная Мария Ивановна. — Пережени их — и делу конец!
Лиз надувала губки — Марфуша ей была нужна неотлучно.
Пасха выдалась поздняя. В страстную субботу Сергея пустили погулять в Москву. К Фоминой неделе
[131] туда должна была приехать на весеннюю распродажу в магазинах практичная Мария Ивановна и увезти его с собою обратно.
В канун пасхи Сергей бродил один по улицам. Ему не хотелось в складчину с корсаковской дворней встречать праздник.
Он шел наугад. Поминутно попадались бабы с узелочками: они несли святить по церквам куличи и яйца. Форейторы
[132] звонко кричали:
— Па-а-ди!.. Сто-ро-ни-ись!..
И горячие лошади пролетали мимо.
Часы на Спасских воротах горели ярко освещенным циферблатом. Сергей проверил по ним свои карманные.
— Па-а-ди!.. Па-а-ади!..
Сколько экипажей. Все торопятся встречать праздник. Вон карета полицеймейстера, кругом нее скачут казаки. Толпа шарахается — того и гляди, огреют нагайкой. С каланчи протяжно доносится:
— Слу-ушай!..
Этот окрик напоминает далекий Петербург, Петропавловскую крепость. Былую жизнь. Там теперь наступает время белых ночей. А здесь небо все темнее. Вот оно стало как черный бархат и окутало улицы мглой. Видны только повороты, где горят плошки. Они обозначаются четкими огненными каплями, похожими на отражение далеких звезд. И вдруг в разных направлениях начали зажигаться яркие точки — пламенными узорами выплыли очертания церквей, общественных зданий. Пасхальная Иллюминация!..
Часы пробили полночь. Глухо грянул пушечный выстрел. Он не успел еще замереть, как со всех концов Москвы залились колокола, заговорили голоса всех "сорока сороков" колоколен Белокаменной.
Сергей вошел в Кремль, поднялся на колокольню Ивана Великого и стал среди любителей-звонарей. Внизу от Чудова монастыря в свете мигающих огоньков тянулась длинная цепь черных монашеских фигур. Горящие свечи озаряли золотые и серебряные хоругви, озаряли лица людей. Подавляюще гудел Иван Великий, заглушая голоса певчих. Спугнутые звоном голуби не находили себе места и реяли, точно подхваченные ураганом лепестки гигантских белых цветов.
Было красиво и торжественно. И особенно одиноко. Вспомнилась уютная квартирка при Академии: у пыхтевшего самовара — приветливое лицо хозяина, склонившегося над своим отчетом, ласковые уговоры Анны Дмитриевны "больше кушать…".
Вспомнились горячие споры с товарищами об искусстве, заикающийся, взволнованный голос Миши Тихонова и спокойный басок Лучанинова.
Сергей не пришел к общему праздничному столу, а пролежал в своей каморке под лестницей весь остаток ночи. Пролежал и другой день, когда вся прислуга, кроме нескольких стариков, перепилась и была отпущена погулять. Весь день он читал французских писателей, рождавших в душе новые мысли. А когда читал Вольтера, думал: что, если бы эту книгу увидели у него дворовые! Они засмеяли бы его, прозвали "французом", "барином", а господа, возможно, наказали бы за "вольтерьянство" — свободомыслие.
Сергей не соблазнился и пасхальным гуляньем под Новинским. Праздник прошел для него как будни.
В фомин понедельник он должен был сопровождать приехавших Корсаковых, мать и Сашеньку, на распродажу. В этот день Москва кишела экипажами и пешеходами, начиная с аристократок и щеголих, кончая бедными чиновницами и мещанками в поношенных салопах. В этот день каждый магазин выбрасывал на прилавок залежавшийся товар, чтобы завтра заменить его новым.
Всем хотелось приобрести за бесценок новое платье, шаль, шелк, бархат, кружева, ленты. Расчетливая Мария Ивановна собралась спозаранку в магазин Матиаса — мечту всех московских модниц.
Широкие двери уже осаждала толпа, когда Сергей откинул подножку корсаковской кареты. Мария Ивановна сердито кричала:
— Ну что же ты, Сережка, стоишь болван болваном? Видно, там, в Питере, по разным академиям, ты всякой деликатности набрался и разучился работать кулаками? Сама я, что ли, должна расчищать себе дорогу? Вот дурень!
Сергей покраснел, но стал послушно пробираться сквозь толпу женщин с картонками, вышитыми мешками, узлами, пакетами в бумаге и холстине, громко покрикивая:
— Дорогу!.. Дорогу генеральше Римской-Корсаковой!..
Мария Ивановна со своей стороны не жалела превосходительных кулаков.
Сзади шла Саша, раздвигая локти, чтобы спасти праздничное гренадиновое платье и шляпку с ажурными лентами — вдохновенное произведение модистки с Кузнецкого моста.
Сбоку Сергея поддержал хриплый голос квартального:
— Дорогу генеральше! Виноват, ваше превосходительство! Посудите сами — толпа без всякого разумения.
Вся красная, Мария Ивановна грозно оборвала:
— Я тебе покажу "разумение"! С толпой справиться не умеешь, какой же ты после этого страж порядка?
Саша шепнула в отчаянии:
— Маменька… маменька… я не могу… Я уйду…
— Не дури! Все равно не пролезешь теперь назад. — И тут же окликает сочным басом: — Наталия Борисовна! Почем покупали левантин?
— Всего по три рубля, а еще вчера он был пя-ать!
— А двойной линон?
Ответ знакомой дамы тонет в общем гуле.
— Александрин, пробирайся, душа моя, пробирайся! Видишь, твой мазун ничего не может. Ни богу свечка, ни черту кочерга.
— Маменька, что вы говорите? За что оскорбляете человека?
— Холоп, матушка, а не человек! Еще о вольной хлопотала этакому балбесу!
— Маменька! Я убегу! Над нами смеются… — шепчет Саша со слезами.
— Не убежишь. Для тебя же, не для кого другого, обновки приехала покупать. Для тебя на своем генеральском теле синяки домой принесу.
Саша не убежала, а благополучно вернулась домой, привезя для себя и всей семьи ворох обновок. Но после поездки не решалась взглянуть в глаза Сергею. Столкнувшись раз в буфетной, она сделала вид, что не заметила его.
В деревне Сергей чувствовал себя все же лучше. Были глухие уголки сада, куда он уходил в свободные минуты. Была рыбная ловля на маленькой речке. Были одинокие ночные часы под звездным небом.
Сквозь черные кружева листвы сквозила бездонная небесная глубина и ширь. Можно было любоваться золотым бисером звезд, слушать утомленным сердцем тишину… И от этого постоянная, тоже бездонная обида жизни точно замирала.
Иной раз Сергей шел слушать музыку воды вблизи мельницы Жадно следил за пляской солнечных бликов по глади запруды. Солнце, источник всего живого, рождало в его омертвевшей душе намек на жизнь, пробуждало сознание. У плотины бурлила и пенилась вода, поднимая в памяти забытый протест, смутно звала к борьбе.
VI. ИХ ВЛАСТЬ
Солнечный луч творчества, казалось, вернулся в сердце Сергея по возвращении в Петербург. Он осветил ему существование, когда господа приказали расписать анфиладу комнат, предназначенных для картинной галереи.
Как-то утром его потребовали в будуар барыни. Там был сам Благово и маленький барчонок со старой няней.
Толстый и упитанный благодаря недавним заботам Марии Ивановны, ребенок переваливался на ножках-тумбочках и бегал от Елизаветы Ивановны к няне, хватая старушку за накрахмаленные завязки чепца. Потом, смеясь, вновь кидался к матери и путался в кружевах ее нарядного капота.
Елизавета Ивановна чувствовала себя "рафаэлевской мадонной" и томно играла с ребенком. Но, когда мальчик, расшалившись, дернул ее за локон, она сердито оттолкнула его:
— Несносный мальчишка! Нянька, ты совсем не смотришь за ним! И вы, Пьер, не смогли вовремя удержать. Да унеси же ребенка в детскую, нянька!
Няня унесла испуганного мальчика, а барин со сконфуженным видом старался привести в порядок прическу жены.
Пришла Марфуша и исправила локоны горячими щипцами. Проходя мимо Сергея, она не удержалась и громко вздохнула.
Елизавета Ивановна рассерженно обернулась.
Сергей стоял у дверей и ждал.
— А… это ты? — протянула все еще недовольно барыня. — Я звала его, Пьер, чтобы приказать закончить новые залы в нашей галерее, согласно художественному плану.
— Вот именно, Лиз… художественному…
— Я много думала над ним. И вот мое решение: сцены с сельским и в то же время аллегорическим смыслом. В весьма деликатной манере. Вроде Ватто. Это модно и изящно. Графиня Лаваль, несмотря на свой этрусский кабинет с коллекцией знаменитых ваз, и граф Кушелев, чье серебро и золото на поставцах и этажерках вызывает зависть даже у знатных иностранцев, оценят деликатность моей затеи… А что теперь скажет князь Андрей Михайлович Голицын? Он возмущает меня своим хвастовством: в его галерее будто бы уже пятьсот картин. Но, я думаю, он сильно преувеличивает. Как вы полагаете, Пьер?
— Преувеличивает, Лиз, несомненно преувеличивает!
Благово старался избегать сравнения с вельможными меценатами.
— Ну, — повернулась барыня к Сергею, — слушай внимательно и запоминай, чтобы не внести в план своего русского… холопского вкуса. Это надо иметь в виду с самого начала, чтобы избежать непоправимых ошибок.
Сергей наблюдал. Откуда у Елизаветы Ивановны такой апломб, такая уверенность в себе?
— Во-первых, — медленно говорила барыня, — следует, чтобы в нашей галерее были приемные дни для избранной публики. И вот что я придумала; моя бабушка, весьма близкая к императрице Екатерине, рассказывала, что тогда в моде было называть дни недели совсем по-особому… Это будет забавно и оригинально. Не правда ли, Пьер?
— Оригинально! — как эхо, повторил Петр Андреевич.
— Надо будет нарисовать Сатурна
[133] с косой, а под ним — в фигурах дни недели… Запиши, — указала Елизавета Ивановна на приготовленный лист бумаги с фамильным гербом Благово. — Понедельник будет называться "Серенькой". Можно изобразить маленькую хорошенькую мышку с бантиком на шейке. Но, боже избави, не такую, чтобы вызывала страх и отвращение своим естественным видом! Чтобы ничего естественного, грубого. Все — мечта, греза, сказка. Пиши: вторник — "Пестренькой", это луг с разноцветными… или нет, лучше букет полевых цветов в руках у грациозного пастушка, который он подает своей любезной пастушке. Понял?
— Слушаю-с.
— Дальше: среда — "Колется". Это — ну хотя бы ежик… Ах, нет, у тебя получится вульгарно, слишком просто. Вот! Нарисуешь мой портрет с веретеном, наподобие все еще, кстати, не оконченной тобой "Омфалы". Я протягиваю веретено с золотой ниткой… или лучше — голубой. Итак, мой портрет и веретено, на которое "дерзкий может наколоться…".
Она кокетливо взглянула на мужа, и тот окончательно растаял.
Сергей аккуратно записывал затеи, всплывавшие, как водяные пузыри, в мозгу барыни.
— Четверг — "Медный таз". Наши бабушки ходили эти дни… — Елизавета Ивановна слегка потупилась, — в баню. Но мне кажется, Пьер, это не совсем прилично. Лучше бассейн с фонтаном и нимф, резвящихся в голубых струях.
— Ах, Лиз, умница! Вы всегда найдете очаровательную уловку!
— Пиши, Серж. Пятница — "Сайка". Фи!.. Такое неизящное название. Всю ночь думала и ничего, кроме кондитера в колпаке, не придумала. Но это неинтересно! Надо что-нибудь более возвышенное.
Сергей машинально продолжал писать. Елизавета Ивановна потянулась за листом и прочла:
— "Вакханка…
[134] Бахус… Церера…" Церера? Это удачно! Подумайте, Пьер, вот неожиданность: он подсказал мне хорошую мысль! Церера — богиня плодородия с золотым снопом в руках. Ведь из колосьев, кажется, и делают эти сайки. Цереру тоже нарисуешь с меня. Я хозяйка дома и земельных угодий. А главное, теперь я — мать. Не правда ли, Пьер, я мать?..
— Мать, Лиз, очаровательная мать. Мадонна!
Елизавета Ивановна благосклонно улыбнулась мужу и протянула руку для поцелуя.
— Теперь суббота: "Умойся". Непременно портрет малютки Петеньки в ванночке. И, наконец, воскресенье: "Красное". Ваш портрет, Пьер, в красной римской тоге. Это будет эффектно! — Она откинулась на спинку кресла. — На сегодня довольно, я устала. А еще столько дел! Столько распоряжений! Пожалейте меня, Пьер.
Благово встрепенулся:
— Уходи, уходи, Сергей! Барыня утомилась.
Сергею отвели светлую комнату для работы. Он завалил ее всю чертежами, рисунками, подрамниками с натянутым полотном, надеясь, несмотря на нелепость и безвкусие заказов, заглушить работой смертельную тоску. Он серьезно обдумывал мешанину из мифологии и досужей фантазии барыни, старался создать и в этом винегрете что-нибудь интересное, значительное.
Сквозь тонкую стену, отделявшую его от буфетной, к нему, как всегда, доносились разговоры челяди. Какой-то приезжий монах гнусаво разглагольствовал. Неожиданно он умолк на полуслове: в буфетную кто-то вошел.
— Это што за со-бра-ни? — послышался крикливый вопрос немца-мажордома.
— Все нянька, — оправдывался буфетчик. — Любит до смерти странников.
И опять — брюзжащий голос:
— Пфуй, господски дом напустиль ладон, воск, деревянна масла. Их бин хир смотрель порядка. А Сережка тоже. Сережка напустиль скипидар, краска. Пфуй! Сережка надо в столярни. Распустиль хлоп!..
Сергей слышал все, слово в слово, и его охватывала злоба. Он ясно представил себе, как исказилось презрительной гримасой одутловатое лицо немца, с маленькими заплывшими глазками, когда он произносил: "Сережка… Хлоп…"
И вспомнил рассказ о Леонардо да Винчи. Работая над своей знаменитой фреской "Тайная вечеря", величайший итальянский художник изобразил в предателе Иуде настоятеля того самого монастыря, для которого и писал фреску.
Сергей осмотрел начатый "аллегорический календарь". Как нельзя кстати наружность немца подходила для изображения упившегося Бахуса с толстым лицом и губами, красным носом и рыжим коком на парике.
Быстро набросал он на бумаге карикатуру и готовился уже перенести ее на полотно, как в комнату вошел сам мажордом.
— Работаль? — спросил немец отрывисто. — Ну, гут, гут, карашо. Я пришел за тебя: изволь собираль веши и марш — в
столярни.
Сергей возмутился:
— Да вы что придумали, Ганс Карлович? Моя работа требует света.
— Мольшаль, мазилька! Я — машордом, распоряшаль… — Он вдруг остановился и, указывая пальцем на карикатуру, спросил. — А это… was ist das?
[135] — Потом разом замолчал, поджав губы и выпучив глаза.
Нагнувшись над рисунком еще раз и что-то, видимо, обдумывая, он визгливо закричал:
— Дольго мне ешо говориль? Марш сишас в столярни! Прошка, помогай нести.
Сергей начал раздраженно собирать вещи.
Прибежал казачок Прошка. Мальчишка любил скандалы. У него был торжествующий вид. Еще бы! Зазнайка-Сережка изгонялся с господской половины в столярную. А там удобнее будет таскать у него бумагу, карандаши, краски. Казачку нравилось малевать. Над его рисунками впокатку хохотала вся дворня. Бойкая рука мальчишки выводила картинки самого озорного содержания.
Началась новая жизнь, под визг пилы, под стук долота и шуршание стружек. Сергей уговаривал себя:
"Ничего, стисну зубы и поставлю мольберт за перегородкой, подальше от столярного станка. Все же это — творчество, и в нем можно забыться…"
А у Елизаветы Ивановны рождались все новые и новые причуды. Она хотела выжать своего крепостного, как губку. Она уверяла, что Сергей может ездить с нею на запятках, исполнять одновременно поручения, требующие толкового понимания, писать портреты, разрисовывать вазы для сада и декорации для задуманного ею театра, а также не оставлять "плана" картинной галереи. И жаловалась мужу:
— Пьер, мне противно кататься, когда за мной стоит Григорий! И ростом он не вышел, и нос… — она делала неопределенный жест, — такой непростительно вульгарный профиль. Он отравляет мне прогулку. Я начинаю нервничать… и… вообще… прикажите что-нибудь Гансу Карловичу.
Мажордом распорядился, чтобы второму выездному лакею надевали парик с золотистыми кудрями, а лицо белили и румянили. Нос исправить, правда, не удалось, — Елизавета Ивановна продолжала "нервничать" и требовать Сергея.
И он рвался на части, работал то в зале для будущего театра, то в "картинной галерее", то раскрашивал к весне вазы для сада. Елизавета Ивановна досадовала, что Сергей не скульптор, и сердито спрашивала:
— Чему же тебя учили в Академии, если ты даже амуров и богинь сделать не умеешь?
Работать при столярной было вдвойне тяжело.
Старик Егорыч, искусный столяр и неплохой человек, имел трех подручных, которых учил и нередко бил. Бил он их только под пьяную руку, но напивался часто. Денег у Егорыча водилось негусто, и водку он заменял лаком, который выдавал ему мажордом. Егорыч процеживал лак через корку хлеба или через соль и глотал отстоявшийся спирт Этим зельем он поил и своих подручных, отданных ему под начало. Пьяный, он вымещал на них всю обиду жизни, все неудачи, боль и бесправие. Бил и приговаривал:
— Это тебе, сукин сын, за то, что ты вчерась олифу спор-тил. А это за то, что голову льва на господском кресле вверх тормашками приставил. Меня били, и я бью!.. У меня, может, все кости из суставов выверчены, а душу на конюшне ногами вытоптали. Пущай и другой терпит…
Подручные — Ванька, Васька и Савка, — напившись того же лака, бросались с помутившимися глазами сообща на старика. Они колотили его в свою очередь, падали на пол и с криком и грохотом подкатывались под самую дверь загородки Сергея.
Но, когда все, наконец, "обходилось" и соседи бывали трезвы, Сергей начинал мало-помалу привыкать к обычному стуку и шуму мастерской. А запахи скипидара, лака и красок были к тому же сродни его искусству.
Сергей готовил как-то холст, обдумывая предстоящую работу. Дверь скрипнула, в нее просунулась всклокоченная голова старика Егорыча. Он был трезв, и маленькие серые глаза его смотрели из-под очков светлым проницательным взглядом.
— А я к тебе, Сережа, — начал он со вздохом. — Тоска заела.
Сергей невольно улыбнулся:
— Лаку, что ли, не хватило, Егорыч?
— А ты не смейся. Лаку хватит. Да не всегда он тоску отгонит. Тоска мое сердце выела, как роса медвяная траву в поле выедает. Сяду-ка я к тебе на ящик. Не бойся, на краешек, ничего не сомну… Я ведь понимаю.
От него пахло не как обычно перегаром, а свежим деревом.
— Поговорить с приятным человеком, Сережа, охота. Вот здесь томит. — Он указал на сердце.
Лицо старика, в мягких морщинах, вдруг осветилось ласковой улыбкой.
— У нас с тобою наши работки ровно бы сестры, Сережа. Ты картину, скажем, малюешь, а я тебе — рамы да подрамники, мольберты да столы для рисования. У тебя краски, и у меня краски. А был бы ты мастер другого цеха — лепил бы из глины, скажем, — я твою лепку из дерева на вещицы для барского потребления вырезывал бы. По твоим, значит, образцам. И столько рублев ты да я получили бы, когда были бы на воле!..
Старик снова протяжно вздохнул и заскорузлыми пальцами начал осторожно перебирать рисунки Сергея.
— Важная работа! — с простодушным восхищением произнес он. — Краски-то сам растираешь?
— Сам, понятно.
— И охра, и краплак, и индиго, и кармин. Я, братец, знаю толк даже в твоих брахманских карандашах. Сей итальянский карандаш, хоть и выписывают из Италии, а только, помню, говорили — как это ни удивительно, — отыскался и у нас, где-то на Дону. А все русские тянутся к заграничному и своим брезгуют.
Егорыч рассматривал набросок смеющегося женского лица.
— Что это у тебя, Сережа, никак, Марфутка-горничная? Зачем тебе простой девки портрет? Смотри, не попало бы от господ.
— В дело пойдет! А похоже? — улыбнулся Сергей.
— Как живая! Ну ты и мастер, я погляжу!
Сергею стало приятно от интереса, проявленного этим малознакомым стариком к его творчеству.
— Я ведь тоже маленько рисовать учился для моей работы, — продолжал Егорыч. — Хлебнул этой мудрости… И вот душа моя хочет тебе открыться… Ты ведь не из вороньей стаи. К тебе сердце и потянуло. А то — скука лютая. Сегодня воскресенье, в столярной не работаем. Есть, значит, свободное время. Станешь слушать мою сказку-быль?
— Как не слушать, Егорыч!..
Сергей был рад. Точно родная душа пришла и захотела вылить ему все, чем болела сама.
Егорыч, положив руку на плечо Сергея, заглядывал ему в глаза и вполголоса говорил:
— Прежде, как ходил ты с утра в ливрее, был ты словно чужим. Забежишь с каким приказом от господ в столярную, а я своим молодцам и толкую: "Фордыбачит, стерва, а из такой же кости вышел, как и я. В курной избе рожден от бабы. Перепетуи, как и мы грешные…" Нынче же ливрею надеваешь, когда в барские хоромы позовут. А здесь сидишь, как и мы, в ситцевой рубахе… И стал ты нам ровно своим. Понял?..
— Понял.
— Сказано — и кончено. А то — "ака-де-мии" разные да "художники". Свой и свой, вот и все!..
Старик начал свою повесть тем внешне бесстрастным голосом, каким рассказывают странники-сказители:
— Жил-был на свете Федька, Егоркин сын… После стали звать его Егорычем. И этого самого Егорыча ты видишь сейчас перед собою.
Он ткнул себя пальцем в грудь.
— Только не всегда он был, как сейчас, столяром. Ты только спроси, кем он не был по желанию господ? Учили рисованию, в резчики готовили, художественную резьбу по итальянским манерам резать. И пению учили, не поверишь, ей-богу, пению… А уж грамоте — само собой. И в оркестре господском играть — все было. Что прикажут, то и делаешь. Куда ткнут, туда и идешь. И многим господам тот Федька Егоркин принадлежал по закону — переходил из рук в руки: то по наследству, а то по купчей…
Он перевел дыхание, глядя в окно. На снегу двора начинали синеть сумерки. Потом заговорил снова:
— Принадлежал Федька фельдмаршалу графу Разумовскому, коему пришло на мысль продать весь оркестр князю Потемкину, по восемьсот рублев за каждого, всего за сорок тысяч. Продали Федьку, однако, отдельно и в газетах дали объявление: "Продается дворовый человек, умеющий грамоте, знающий столярное ремесло и который хорошо играет на флейтраверсе". Сказано — сделано. Попал столяр Федька к светлейшему.
Егорыч подошел к печурке и поправил в ней полено. Огонек вспыхнул и зазмеился по дереву. Жаркие красноватые отсветы легли на некрашеный пол. Кочерга в руках Егорыча слегка колотилась о половицы, и только этот стук выдавал его волнение. Голос звучал равномерно-монотонно.
— А был в это время Федька уже Федотом, и можно бы величать его Федотом Егоровичем, ежели бы он не родился в холопском звании. И с женитьбой ему не повезло. Вот веришь ли, никогда не льстился я на женитьбу. Отпугнуло от женского пола еще в младости. Был я, к слову сказать, парнем красовитым и любил, нечего греха таить, любил в те поры, как значился еще крепостным графа Орлова… Это тот самый Владимир Григорьевич Орлов, что приказал высечь своего крепостного архитектора за то, что тот, строя кузницу, ошибся и завалил свод. А с кем ошибки не бывает? Да я не про то. Меня и самого секли до полусмерти за девушку. Любанькой ее звали. С Любанькой у нас был сговор, и с родителями уже по рукам ударили. Любань-ка, ни дать ни взять, наша Марфутка была: такая же черноглазая, бойкая, в хороводе первая запевала, а коса — до пят. И вдруг графову бурмистру вдовому она понравилась. Граф и просватай ее за него. Она — в слезы: "Не пойду. Он мне хуже собаки паршивой!" И правда был он непригож: голова не то песья, не то лошадиная, и кривой-то на один глаз, и старый, и корявый да конопатый, на одну ногу прихрамывал… Тьфу, прости господи, одно слово — образина. Любанька кричит: "Удавлюсь!" А графу что? Отдал приказ, сказано — сделано… А Любанька возьми и впрямь удавись в хлеву… Коровы ей мертвой ноги лизали, а я в те поры бурмистрову рожу раскровянил. Ну, за это меня сперва хотели в солдаты отдать, а после только выдрали. Три месяца отлежал. А как поднялся, графу для дочери в свадьбе нахттиш
[136] с амурами вырезал. И за то граф меня до руки своей допустил — руку барскую рабски облобызать, в знак полного прощения. И невесту предлагал выбрать. Я, конечно, поблагодарил и отказался. Как на какую девицу взгляну, мне моя Любанька в хлеву на перекладине чудится. Зато нахттиш вышел на славу. Всяк, кто приехал на свадьбу, хвалил безмерно. Свадьба была пышная, на весь Питер прогремела. Гости собрались самые вельможные… А у моих резных амуров личики — как живые, сказывали, с грацией итальянского совершенства. Да-а-с!
Егорыч опять помешал в печке. На лице его резче выступили морщины. Голос зазвучал совсем тихо:
— Вот, как уголья рассыпаются, так скоро, видать, рассыплется и моя жисть, Сережа… Уголек вспыхнет — и нет его, одна зола. Так и жисть. Многих я господ был холопом, пока не продали меня господам Благово мастером разных нахттишей, рам, кроватей, всяких там этажерок да трельяжиков для барских утех… Ты, парень, не бери с меня пример, ни боже мой! Не тоскуй. Такая уж наша доля — служить для барских услаждений. Жисть пережить — не поле перейти. Из всякого ковша нахлебаешься…
Он усмехнулся:
— Я даже актером, Сережа, был. Не веришь? Господа любят крепостные театры. Люди ходят туда за деньги. Значит, мы, холопы, барина своего кормим. А на стене у него висела завсегда огромадная плеть. Между игрой он своими ручками бил ею неисправных актеров. "Ты, кричит, поёшь брюхом, какой ты есть бас? А ты, такой-сякой, какую рожу для оперы намалевал, — не человечья, а свиное рыло". И актерок тоже бил…
Он с горечью вдруг рассмеялся:
— У одного помещика, рассказывали, шел балет "Амур и Психея". Амур был парень рослый, и Психея — в теле. Хотели они барину угодить да и прыгнули повыше. А на веревках у барина висели ребята с крылышками: кто изображал "радость", кто — "утеху", а кто — "игру". Плясуны скакнули да головами и задели за ребят, ребята и разревелись… Публика в хохот, а барин — за плеть. Так с вспухшими задами и плясали Амур с Психеей.
Сергей слушал опустив голову.
— Тебе, Серега, еще ничего живется. Только ты немца остерегайся. Господа разгневаются, он жару подбавит. Господа приласкают, он яму выкопает от зависти. Не ты один страдаешь. Про Хераскова, сочинителя, слыхал?
— Как не слыхать!..
— Он сочинил слова для оперы, по прозванию "Милена". А музыку к ней написал холоп князя Петра Михайловича Волконского. Однако имя крепостного на нотах не проставили, и имя то всеми забылось. И я не помню, хоть сам недолгое время господами был отпущен в оркестр к князю Волконскому. И "Милену" эту самую хорошо по всем нотам знаю. Царское семейство даже смотрело и очень музыку одобряло.
"Да, — подумал Сергей, — сколько забытых холопских имен затерялось по всей крепостной Руси!.."
— Видно, у нас от природы, Сережа, как бы корешок заложен, семечко аль зерно, вроде как у растения. У кого оно всхоже, — выходит на свет, и пышным цветом расцветает, и плоды добрые дает.
Он покачал головой, точно сам удивляясь своим словам.
— Ты, милый человек, вникни в мои речи. Я тебе говорю про святой корешок, про семечко. Оно и у тебя, и у меня, у многих бывает… Знал я одного повара. Федором Устиновичем Грехуновым звали. Фамилия вроде грешная, а душа ангельская. Он, милый ты мой, всего-навсего торты делал. А какие? Чтобы цветики сахарные лучше выходили, в поле, в лес, в сады разные ходил. И каждую былинку разглядывал: где у нее сколько листиков да стебельки какие. А на него глядючи, молодой поваренок тоже, видать, с искрой, стал георгины да розы из репки со свеклой вырезывать. Кабы их учить, думаешь, они бы не смогли статуи из мрамора резать? Вот то-то и оно! Вот тебе это самое "семечко".
Старый, с красноватым носом и слезящимися глазами столяр радостно улыбался.
"Вот оно — творчество!" — подумал Сергей, схватив карандаш и стараясь запечатлеть одухотворенное выражение лица собеседника.
И было непонятно ему только одно, как может этот вдохновенный старик валяться у двери пьяный и грубо ругаться.
Точно угадав, Егорыч неожиданно добавил:
— Человек слаб и не всегда чует ту светлую искру, а порой и вовсе о ней забывает. В ту пору и тянется к лаку либо к пеннику, — падает в бездну нечестия. А вот, к примеру, стихотворец Сибиряков, говорят, не падал. Его ценили многие высокие особы. Сам Василий Андреевич Жуковский поднимал за него голос, и даже генерал-губернатор граф Милорадович, я слышал, года два назад просил помещика отпустить на волю Сибирякова. Да помещик заломил такие деньги, что у Жуковского с его сиятельством не хватило не то капитала, не то охоты. Да-с!..
— И что же этот стихотворец? — спросил Сергей.
— Стихотворец примечательный. И в то же время, заметь, герой. Он сопровождал своего барина во всех походах, и не раз его к Егорьевскому кресту за храбрость должны были представить. Да где простому холопу против барина героем быть. Барин — столбовой, рязанский предводитель дворянства, кость самая благородная. В моих странствиях знавал я и барина и холопа. Ваня-то Сибиряков тоже кем только не был! Учился в Москве, в школе, грамоте, обучался ремеслу в кондитерской лавке, землю пахал, в камердинерах ходил… И всюду с ним — она, искра светлая. На последний грош книги и бумагу покупал. Под головами те книги хранил и писал свои стихи где ни приходилось — даже на войне, под пулями. В четырнадцатом году, как русские заняли Париж, ему предлагали остаться за границей. Да где там!.. Ваня будто бы сказал тогда: "Люблю родину больше, чем волю". И вернулся вместе с барином домой. Так-то!
Егорыч поднялся.
— А стихи его… Дай, может, что и припомню…
Он закрыл глаза и дрожащим голосом продекламировал:
Увы! И я, и я рожден
В последней смертных доле…
Природой чувством наделен,
Столь гибельным в неволе!..
Егорыч шумно вздохнул, потом вдруг прислушался. Издали, со ступенек кухонного подвала, донеслось треньканье балалайки. Старик поморщился:
— Брешет Васька-мерзавец, ох и брешет! А еще — мой ученик. — Егорыч даже сплюнул. — У этого, видать, "зерно" внутри пустое: ни музыка, ни столярное дело плода не дают… Ну, я пошел к себе, Сережа. И то, брат, надо помнить: "Не умеешьшить золотом, бей молотом; не умеешь молотом, шей золотом". А господа? Что господа! Их власть!..
VII. "КАМЧАТКА" ВЕРНУЛАСЬ
Мысль Егорыча о "корешке", о "семечке" и "плодах всхожего зерна" глубоко затронула Сергея.
Он стал еще упорнее размышлять о творчестве вообще, и особенно о собственном. Перебирал в уме всю систему преподавания в Академии, по которой его вел опытный Егоров. Стал более серьезно и придирчиво рассматривать свои наброски.
Вот голова пляшущей девушки — это горничная Марфуша. Вздернутый нос. Черные, полные веселья и лукавства глаза. Крепкие белые зубы, обнаженные в заразительной улыбке. Ни одной черты античных образцов. А между тем Сергей набросал ее для будущей фрески и собирался повторить или в хороводе танцующих нимф, или отдельно, в образе жизнерадостной девушки-пастушки среди пестрого весеннего луга.
Что бы сказали, глядя на это, академические учителя? Большинство из них ставили на натуру одни и те же гипсовые фигуры. Иногда начинало просто тошнить от постоянных Аполлонов, Ахиллесов и групп Лаокоона. Он вспомнил вечные требования профессоров не забывать о "классическом изяществе" и уже через это "изящество" пропускать природу.
"Знай анатомию правильно сложенного тела и ежели увидишь у натуры что не так, то, памятуя образцы классических статуй, исправь по ним натуру".
Но Сергею не хотелось исправлять ни вздернутого носа, ни формы рта Марфуши. И в карикатуре на немца, с его красным носом и оттопыренной нижней губой, он изобразил Бахуса, стремясь к правде жизни.
Марфуша, заходя к Сергею, восторженно смотрела на мольберт. А когда он работал, по-детски всплескивала руками и заливалась радостным смехом:
— И как ты, право, умеешь! Господи! И волосы, и пальцы, и все — всамделишное! Матушка с батюшкой в деревне поглядели бы — вот подивились бы!
Не давая себе передышки, Сергей работал, а по праздникам уходил наблюдать жизнь на улицах. Он надевал собственное, сохранившееся от старого житья платье, а ненавистную ливрею оставлял дома.
Заметив такой "непорядок", Ганс Карлович придрался к случаю, чтобы отомстить Сергею за карикатуру.
— Их бин мажордом. Я имел прав не позволяй ходить без ливрея! Ти подешь трактир и напиль водка, как свинья. Ти будешь скверни ругаль, попадешь в полисия — ничего не бояль. А в ливрея — бояль: квартальни пошаловал… и господа драль на конюшня.
Но Сергей продолжал ходить на улицу в своей одежде.
На масленице он попал на гулянье, смотрел на балаганы и на ледяные горы на Царицыном лугу, против Адмиралтейства. Смотрел на перекидные качели, слушал грубоватые шутки "деда" с бородой из пакли. Накупил пряничных коньков с сусальным золотом, о которых когда-то говорила Машенька.
Через Неву, неподалеку от Академии, жил Лучанинов, и Сергей решил зайти наконец к нему. Он слышал, что еще в августе прошлого года "Камчатка" вернулась, но до сих пор ничего не знал о Мише Тихонове.
Сергей пробирался сквозь толпу гуляющих, держа бумажный мешок с пряничными фигурками в золотых украшениях. Слышалась пискотня глиняных свистулек, треньканье балалаек, скрипучие звуки гармоники, звон бубна, грохот барабана и зазывание балаганного "деда":
A-а, господа хорошие,
Парни-девушки пригожие,
Жалуйте к нам, кумушки,
Жалуйте, голубушки!..
Покажем купцам тароватым
Тигров злых, полосатых,
Верблюдов горбатых,
Великанш, карликов малых,
Людоедов волосатых, —
Все есть в наших па-ла-та-ах!..
Мальчишки бежали за Сергеем, скрипя валенками по рыхлому снегу, и просили:
— Барин, дай пряничка!
— Дай одного конька на всех! Дай хоть кусочек!..
Сергей отдал им кулек. Мальчуганы отстали, деля в восторге сладости. Перегоняя друг друга, проехало несколько санок. Тройки заливались колокольцами. Мелькнули знакомые лица кутящей молодежи, которую еще не так давно он встречал в "лучших" домах Петербурга. Сани летели на Острова или в Стрельну. Лошади обдавали с ног до головы комьями мокрого снега.
Сергею было легко, почти весело. Он нараспев повторял адрес Лучанинова:
— На Васильевском острову… в первом квартале… в доме… под нумером шестьдесят семь… купцов Жу-ко-вы-ых!..
И спустился с набережной к мосткам через реку.
Мостки чернели, обсаженные по обеим сторонам елками. Было холодно, но уже чувствовалась близость весны. Солнце зажигало справа от Сергея яркие блики на ростральных колоннах. А слева был дорогой сердцу Васильевский остров со знакомым фасадом здания, которое он любил, как живое… Академия! Нет, нет, он шел не к ней, она закрыта для холопа.
Вот наконец и дом купцов Жуковых. Сергей дернул за деревянную ручку звонка. Пронзительно задребезжал колокольчик. Кто-то спустился по лестнице и поднял железный крюк.
Все такой же медведеобразный, неуклюжий, словно еще больше обросший, открыл дверь сам Лучанинов.
Он вгляделся в пришедшего:
— Сережа?! Ты?! Кого я вижу? Ты, друг?.. Ведь три года не видались. Пропал, как в воду канул. Васильев только рукой машет, когда о тебе спросишь. Один ответ: господа в Москву увезли. Да ты ли это в самом деле, дружище?.. Вот радость-то!
— Я, Иван Васильевич, я самый.
— Какой я тебе к черту "Иван Васильевич"? Ты меня еще "господином академиком" повеличай. Вот хорошо-то! Сережа сам своей персоною! Входи скорее.
— А Миша где?
Лучанинов нахмурился и понизил голос:
— У меня Миша. Ну, чего уставился? Миша… плох. Только молчи — сам увидишь.
Сергей вошел в переднюю, снял и повесил бекешку, размотал с шеи шарф и молча последовал за хозяином.
На пороге он остановился как вкопанный. Страшно изменившийся, исхудалый и бледный, Миша Тихонов пятился назад, широко раскрыв полные ужаса глаза и отмахиваясь руками. По этим выпуклым прозрачным глазам Сергей всегда узнал бы Тихонова. Такие "хрустальные" глаза, с детским выражением и скорбью обиженного ребенка, были только у Миши. Видимо, он защищал свой мольберт с картиной.
— Не тронь! — просил он кого-то. — Не бери!.. Я буду жаловаться капитану…
Сергею стало страшно. Что с Мишей? Что здесь происходит?
А Тихонов продолжал:
— Вам жалко красок, я извожу их слишком много?.. Тогда не платите мне жалованья, я буду рисовать даром…
Он отбежал в угол и сжался.
Лучанинов сделал Сергею знак пройти в соседнюю комнату и неслышно затворил дверь.
— Видел?
— Что с ним?
Лучанинов махнул рукой:
— Мишка у нас — тю-тю на всю жизнь! Все равно что мертвый. С ума он сошел еще на море. Помешался на том, что его хотят оставить на одном из островов, вдали от родины. Вообразил, будто его манера писать маслом вызовет революцию в искусстве. И Оленин будто бы, боясь, чтобы его манера не перевернула вверх тормашками всю систему преподавания в Академии, решил отправить его в заокеанские земли. "Камчатка" возвратилась домой больше года назад и привезла Мишку уже не в своем уме.
Сергей молчал, подавленный. Потом шепотом спросил:
— Как же он к тебе попал, Васильич?
Лучанинов опять махнул рукой:
— Сначала его поместили в больницу. Но я пожалел, не мог видеть на нем синяков, больничные служители били. Взял его на время, он тихий. Теперь хлопочу, чтобы отдали навсегда. Казна выделила ему из государственного казначейства по шестьсот рублей в год. Да я и так прокормил бы! Много ли ему теперь надо?
Он усадил приятеля и стал расспрашивать:
— А ты как? Почему пропадал столько времени? Получил ли наконец вольную? Кончил ли своего "Геркулеса" и где он? Над чем работаешь?
Сергей усмехнулся.
— Нет, брат, картина пожухла, — писал я ее давно и лаком не покрыл. А главное, так и не кончил. Одним словом, схоронил я своих античных вдохновителей, и не будем о них говорить. Воли я тоже не получил и никогда не получу. Что говорить обо мне! Покажи лучше, над чем ты работаешь. Помнишь, как мы гордились твоим "Рекрутом, прощающимся со своим семейством", а потом и "Благословением на ополчение в 1812 году". Недаром же ты получил за это "Ополчение" академика!
Лучанинов невольно поморщился. Трудолюбивый сын искусства, он полагал неуместным показывать свою работу пасынку того же искусства. Он считал Полякова по таланту выше себя.
Сергей подошел к мольберту. Там стоял подрамник с намеченным углем контуром новой батальной картины из той же Отечественной войны. Возле, на скамейках и ящиках, как встарь, лежали этюды. На них были знакомые лица: Кутузова, Багратиона, Александра I… Среди них — приземистая фигура с характерно заложенной за спину рукой и в обычном сером сюртуке — Наполеон.
Лучанинов точно извинялся:
— Усердия много, а пороха маловато, Сережа. Я ведь не ты и не Мишка в свое время… У вас талант черпай ведром, а у меня — рюмочкой.
Сергей обнял его:
— Этакая у тебя благородная скромность!
— Поди ты к черту! — неуклюже отодвинулся Лучанинов. — Никакой скромности, а чистая правда. Тебя губят, Мишку совсем погубили, а я — в академики вылез. Зло берет, ей-богу!
Сергей смотрел на него с улыбкой:
— Таланта, усидчивости и настойчивости у тебя достаточно, Васильич. А сердца отпустила тебе природа и того больше. Куда нам до тебя!
Он говорил от души. Громадная, нескладная фигура Лучанинова казалась ему прекрасной. В самом деле, кто бы взял на себя заботу о сумасшедшем товарище и возился бы с ним, как нянька?..
— Брось дурака валять, — с досадой оборвал Лучанинов. — Пойдем лучше к Мише. У него припадок прошел, слышишь, смеется. У него этакие припадочки страха частенько бывают. А пройдут, он опять почти наш Мишка. Тебе-то рад будет.
Лучанинов открыл дверь. В обеих комнатах была неказистая обстановка. Хозяин квартиры жил скромно, прислуги не держал. И кормился с Тихоновым трактирными щами и кашей, за которыми сам ходил с судками.
Больной встретил Сергея так, будто трехлетней разлуки и не существовало.
— Здравствуй, Сережа! Никак, знаешь, не могу кончить мою картину. Краски продают паршивые. Вот, посмотри.
Сергей едва удержался от горестного возгласа: перед ним были все те же "Иоанн Грозный и Сильвестр", но в каком виде! Вместо знакомых выразительных фигур — нагромождение и пестрота красок. Картина казалась не писаной, а лепной. Краски бестолково мешались, заглушая одна другую. Лишь кое-где отдельными пятнами просвечивало благородное и смелое письмо Тихонова прежних лет.
А больной с жаром говорил:
— Ты-то поймешь, друг! Необходимо, понимаешь ли, не жалеть только красок. Вася мне в них никогда не отказывает, спасибо ему… И работаю я теперь не кистями, а мастихином…
[137] К черту лессировку…
[138] Я выкину все кисти, даже широкие щетинные!..
Он засмеялся и больше не сказал ни слова, отвернувшись к стене и зябко ежась.
Лучанинов отвел Сергея в сторону и показал папку с рисунками:
— Ты посмотри его работы за поездку. Тогда он еще мог работать. Здесь, правда, повторения. Многое взял Головнин. А на днях все выйдет отдельным альбомом.
Сергей рассматривал незнакомые смуглые лица, экзотические одежды из перьев, тропические пейзажи, писанные пастелью и акварелью. Его поражала безукоризненность рисунка, тонкость раскраски.
— Мастерская работа!
Сергей вспомнил слова столяра Егорыча. Как пышно взошло зерно таланта бывшего крепостного Тихонова, какой богатый урожай плодов он уже дал России и как много подарил бы родине еще… Зачем же так неосторожно подрезали под корень его слабое здоровье? Зачем не захотели сохранить?..
Его душили слезы. Он торопливо попрощался и ушел.
Дома, на пороге, Сергея встретил мажордом.
— Явиль наконес, каналь! Знова не слюшаль, хбдиль в свой одежка, как знатна гаспадин. Не забиваль: ты хлоп и долшен носиль ливрей.
VIII. ЧЕРЕЗ КРАЙ
Елизавета Ивановна решила лично осмотреть работы в "картинной галерее" и сделать Сергею необходимые указания. Она позвала с собой мужа:
— Пьер, вы должны оценить мой вкус, понять, что моя выдумка — не каприз.
У нее был торжественный вид, и Петр Андреевич бросился целовать ей ручки. Мажордом последовал за супругами, почтительно склонив голову и улыбаясь. "Ангель-баринь любиль, штоби вся улибаль перед нее, как солнешний луш".
Сергей ждал господ, одетый "по форме".
Приложив к глазам лорнет, Елизавета Ивановна медленно обходила комнаты.
— Magnifique! Merveilleux!..
[139] — тянула она томно. — Не правда ли, Пьер?.. Ты мне угодил, Серж. Получишь на чай. Ганс Карлович, распорядитесь. Посмотрите внимательно, Пьер, на эту Венеру, играющую с амурами. Весьма удачное приобретение! Говорят, подлинная копия Тициана
[140], только не подписана. А вот копия с ученика Рафаэля — Джулио Романо. Ах, так чувствуется влияние знаменитого певца мадонн! И, представьте, некоторое сходство со мной. Вы не находите, Пьер?
— Вылитый портрет, Лиз, я сразу заметил.
— А это — Мурильо
[141]. Тоже ценная копия. Я не люблю Рубенса
[142] и не выписывала его. Он слишком груб и натурален.
Она обвела взглядом комнату:
— А теперь, Пьер, обратите внимание на роспись стен и потолка. Это уже мое собственное… как это говорится… тво-ре-ние… Но… что такое?.. — Елизавета Ивановна подняла брови. — Что это, Серж? Все нимфы у тебя чуть не на одно лицо!.. Ты мне показывал одни фигуры, а лица, сказал, допишешь. Какие-то угловатые, чахлые девчонки! Одни глаза, улыбка и ни малейшего кокетства. Немедленно переписать всех! И побольше женского, чарующего мужчин кокетства. Тебе, конечно, трудно понять — я покажу сама… Вот так.
Елизавета Ивановна опустила ресницы, сделала "загадочную улыбку" и, приложив пальчик к губам и отставив ножку наподобие балетного полета, изогнула стан.
— Фора! Фора!
[143] — захлебнулся от восторга Благово.
— О, какой красота! — угодливо вторил немец.
Елизавета Ивановна обернулась. Лицо Сергея было непроницаемо.
В который раз его принуждали хоронить дорогой образ. В хороводе нимф, в свите богини Цереры, — всюду рука его рисовала любимые черты: тонкое, полудетское еще лицо с большими ясными глазами и счастливой улыбкой.
Но теперь, помимо воли, лицо это стало таить в себе неуловимую печать обреченности, едва приметную грусть в тени милых глаз, в уголках рта, в легкой, почти незаметной складке между бровями.
Елизавета Ивановна побагровела: лакей, холоп не только не восхищался ее игрой, ее грацией, он даже не смотрел на нее. Она готова была его ударить.
— Чтобы завтра же все эти дрянные рожи были заменены! — сказала она резко и двинулась дальше.
Ни портрет Пьера в красной тоге римлянина, ни херувим Петенька, ни даже кокетливое "Колется", несмотря на сходство и мастерское исполнение, уже не смогли умерить ее вспыхнувшего гнева.
Подойдя вплотную к пастушке, изображавшей "Пестренькой" — вторник, — она резко остановилась:
— А это… что еще такое?
Сергей не понял:
— На что изволите указывать, сударыня?
— Это… это… — задыхалась Елизавета Ивановна.
— Изволили приказать пастушку…
— Пастушку? — уже кричала барыня в истерике. — Это скотница, судомойка… свинарка… холопка… Мар-фуш-ка! Пастушку?
Действительно, то была горничная Марфуша. Несколько дней подряд она позировала Сергею. Девушка чувствовала себя счастливейшей на свете, помогая любимому человеку такой радостной и такой простой работой — сидеть в застывшей позе, смотреть на него, ловить каждое его слово. Могла ли она представить, что "он", по ком томилась она вот уже три года, станет ее рисовать, да еще для господских хором. Там ею будут любоваться те самые господа, которые на нее кричат, могут выдрать на конюшне, чьей собственностью, живой вещью она была и будет до конца дней? Вот от этого неожиданного счастья и загорались ее глаза светом, который запечатлел художник на полотне.
— Ты посмел… посмел… в моей галерее… холопку? — звенел голос барыни. — Негодяй! Рядом со мной… Пьер! Пьер!..
Испуганный Благово подхватил рыдающую жену.
— Лиз! Мой ангел! Успокойтесь!..
— Холоп! Хам! — кричала барыня. — Накажите! Ганс Карлович… Вы слышите? Накажите!..
Петр Андреевич почти вынес Елизавету Ивановну из комнаты.
Потирая руки, мажордом вплотную подошел к Сергею:
— Ню-с, Сережия? Как тьиперь? Наказаний? Строгий наказаний!
Сергей глядел на немца с ненавистью.
— Тьиперь я могу… все сосчиталь: ливрей — раз, дерзки гляз — два, непослюшанье — три. Мой карикатюр — ше-ти-ре! И наконес, — он захохотал, — наконес, Марфутка! Пьять!.. И вот для нашаль…
Он размахнулся и ударил Сергея по лицу.
Сергей пошатнулся, вскрикнул от неожиданности, боли, оскорбления и бросился на немца. Сорвав со стены золоченую массивную раму, он стал наносить ею удар за ударом. Потом откинул разломанное в щепки дерево и схватил мажордома за горло. Оба упали на пол. Сильный, ловкий, весь напружинившийся, Сергей придавил коленом грузное, рыхлое тело и стал душить. Ганс Карлович захрипел и разом как-то обмяк. Сергей отшатнулся.
"Убил?! Неужели убил?.."
Глаза его, как в тумане, не видели ничего. Подойдя к стене, он прислонился пылающим лбом к холодной фреске.
"Теперь бежать… Далеко!.. Навсегда!.. На волю… к свету… к жизни!.."
— Скорее! Получишь на чай!
Извозчик гнал лошадь изо всех сил. Колеса громыхали по булыжнику. Прохожие оборачивались на бешеную скачку, видели человека, сидевшего с чемоданом в ногах и подгонявшего возницу:
— Скорее! Скорее! Прибавлю еще!..
— Куда же ехать, барин?
— На Васильевский остров! Первая линия.
У знакомого дома Сергей соскочил с пролетки, торопливо расплатился и чуть не оборвал звонок.
Лучанинов, как обычно, открыл сам.
— Сбежал! — тяжело дыша, сказал Сергей и почти упал на табурет в передней. — Приютишь?
Лучанинов взглянул на него серьезно.
— Приютить я всегда рад. Но ладно ли для тебя будет?
— Ладно, Васильич. Все равно: тюрьма или солдатчина, все равно.
— Что случилось?
— Искалечил или убил немца-мажордома…
— Неужели… убил? — подсел к нему художник.
— Не знаю. Может быть. Не стерпел издевательства. Лежит немец в крови. А как, что — не помню.
— Да чем убил? Ударил, что ли?
— Ничего не помню.
Лучанинов даже растерялся.
— В какую же ты кашу вляпался, бедняга! И как думаешь теперь быть?
— Не знаю, Васильич…
— Уехать бы надо.
Сергей не ответил. Он не мог объяснить, что ему трудно бросить любимый город, где так долго и так безоблачно был счастлив когда-то. Но была еще одна причина, которую разгадал Лучанинов.
— Но, пожалуй, в Питере-то легче скрываться, чем где-либо. Твои Благово, поди, по всем заставам уже дали знать, — полиция всякого проезжего будет опрашивать. Лучше всего — не показывай пока и носа на улицу. Сиди у меня в мастерской, и баста. Донести-то ведь некому… А теперь рассказывай по-порядку.
Сергей рассказал все.
— Ну вот что, друг, — начал Лучанинов, выслушав его внимательно. — Если ты на самом деле убил немца, туда ему, проклятому, и дорога. И завтра же каждая кумушка на рынке будет кричать об этом. Тогда и надо гадать: куда тебе кинуться подальше… Если же ты только оглушил его и ранил, — дело легче.
Сергей не перебивал. Он чувствовал в душе какую-то пустоту и странный покой.
— Оно, конечно, — продолжал приятель, — тебя и за такие дела по головке не погладят. Но раз ушел — значит, ушел, скинул хомут навсегда. Не возвращаться же в прежнюю упряжку! Она была не по тебе. Авось на свете найдется и для тебя местечко. Ты — художник настоящий, обидно бросать искусство. Там было не искусство — по приказу дуры барыньки рисовал. Кто знает, может, только сейчас и дано тебе выбраться на нужную дорогу.
Он нагнулся к самому уху Сергея и, возбужденно блестя глазами, заговорил вдруг шепотом:
— Может, и крепостным скоро будет воля. Офицеры Семеновского полка будто бы об этом с солдатами говорили. В октябре — не слыхал разве? — в полку был солдатский бунт. Полк раскассировали и многих солдат посадили в крепость. А все же вольные словечки успели перекинуться от семеновцев к другим солдатам. В Питере немало людей, что читали подметное письмо, подброшенное кем-то в казармах Преображенского полка. Там о воле говорится уже открыто. О правах солдата и крестьянина. Люди потихоньку толкуют, что скоро, дескать, должна прийти она, эта самая воля. Слышал я, и общество такое особое есть. А входят туда не кто-нибудь, а молодые люди самых благородных фамилий, даже из придворных… Видишь, надо только переждать… перетерпеть.
Сергей разом очнулся. Он стал жадно расспрашивать о слухах, о бунте, о членах тайного общества, стремящегося к освобождению крестьян.
— Ничего я, друг, толком и сам не знаю. Но думаю, что тайное общество действительно существует. И что свобода общая не за горами.
Они долго еще говорили о воле, об офицерах, которых Лучанинов не знал даже по фамилии, о солдатах, что попали за бунт в крепость, и о будущем Сергея.
— Перебейся как-нибудь это время, братец. Не губи себя неосторожностью. А потом уж попытайся отвоевать достойное твоего таланта место в жизни. Авось кривая и вывезет! Да погоди, совсем было запамятовал! На днях ко мне заходила молодая дама…
— Какое мне дело до дам? — поморщился Сергей.
— Фамилия ее Ребиндер.
У Сергея захватило дыхание.
— Картины смотрела. Кое-что купила, оттого и деньжата у меня завелись. С мужем была, сволочь он, я тебе скажу, порядочная. Парик немного съехал, лысина поблескивает. Не говорит, а скрипит: "Мари… Мари… душенька!" Не от тебя ли она и мою фамилию когда-нибудь слышала? А может, только о тебе узнать приходила? Адрес свой оставила… Вот!
Лучанинов показал узенькую визитную карточку с золотым обрезом и баронской короной, на которой тонким, так хорошо знакомым Сергею почерком было написано:
"Баронесса Ребиндер, рожденная Баратова. Санкт-Петербург. Миллионная улица, собственный дом, близ Зимней канавки".
IX. МАШЕНЬКА
И опять Сергей мчался на извозчике, подгоняя и обещая на водку.
Он увидит Машеньку только раз, один-единственный, последний, а потом… все равно… хоть Сибирь, солдатчина, смерть…
Он не послушался Лучанинова, уговаривавшего не выходить из дому, не рисковать.
Суровый, серый каменный дом с внушительным подъездом. Такой именно, как и подобает его владельцу, старому родовитому немцу, — холодный, неприветливый дом. На лестнице пахнет курительными бумажками, точно ладаном на похоронах, как говорила Сашенька Римская-Корсакова. И у швейцара, в ливрее стального цвета, мертвое, неподвижное лицо.
Сергей молча подал ему листок бумаги. На нем он заранее написал свою фамилию и строчку: "Прошу принять на два слова".
Швейцар передал записку сухому, чопорному лакею. Сергей остался ждать в передней, убранной с немецкой аккуратностью. Обои темные, под гобелен. Строгая громоздкая вешалка и зонтики с палками — в особой чугунной загородке. Все солидное, добротное, как и кинкетка
[144] тяжелой бронзы, освещавшая унылую обстановку. В золоченых рамах — не картины, а немецкие изречения на темы о долге и бережливости. Как все это непохоже на милую девочку, искреннюю Машеньку… Как, должно быть, чуждо ее живому, бесхитростному уму.
Он услышал быстрые, четкие шаги, знакомое постукивание каблучков.
Сергей встал, опираясь на спинку стула. На минуту он точно ослеп.
Она остановилась перед ним, задыхаясь. Потом, на глазах у важного лакея, молча схватила за руку и потащила за собой. Она вела его через анфиладу парадных покоев, все еще не говоря ни слова.
Перед Сергеем мелькала богатая массивная мебель в чехлах по случаю приближения лета, картины и люстры, завешанные кисеей, — все такое неподвижное, холодное. С одной овальной рамы, не скрытой еще почему-то материей, смотрело бритое лицо в напудренном парике, надутое, надменно-жестокое. Предок! А над рамой — пышный ребиндеровский герб.
Высокое зеркало отразило бегущую пару: Сергея, в его темно-синем фраке, и рядом — тонкую фигуру Машеньки. На лицах обоих были смятение и растерянность.
Машенька путалась в дорогом, слишком широком для нее, стеганом капоте, обшитом мехом. Она дрожала как в лихорадке; на бледном лице — ни кровинки, а рука казалась рукой больного ребенка, совсем восковая, с тонкими синими жилками. Только ее глаза сияли небывалым счастьем, неестественно огромные, глубокие, почти черные.
Вот здесь…
Она остановилась, охватила его за шею, и вдруг легкое тело ее, окутанное шелком и мехом, разом точно поникло.
— Машенька!
Он усадил ее на кушетку и стал на колени. Только теперь он заметил, что на ней чепчик замужней дамы.
Она улыбнулась:
— Ну вот… и прошло. Я немного больна. Впрочем, не стоит лгать. Я очень больна, Сережа. И это хорошо. Молчи!.. Я знаю, что говорю.
Машенька закашлялась, и на маленьком кружевном платке осталось кровавое пятнышко. Собравшись с силами, она снова заговорила:
— Как хорошо, что ты пришел. Я верила… я знала. Не должно быть такой жестокости, чтобы я… ушла из мира… ни разу не повидав тебя больше…
— Машенька!
— Повтори. Меня никто уже давно не называет так, кроме дяди Феди, тетушки и няни Матрены Ефремовны. А для него… для барона… я Мари. И для его родных — Мари. Для света же — баронесса фон Ребиндер. Ну какая я баронесса, ты же знаешь? Повтори.
— Машенька! Машенька! Машенька!.. Счастье мое, свет мой, радость, жизнь…
Она перебила:
— По приезде из-за границы, я искала тебя, Сережа. Сядь ближе, мне трудно говорить, а я хочу… чтобы ты все знал…
Сергей взял ее руки и закрыл ими лицо. Холодные, тонкие пальцы слегка вздрагивали.
— Слушай, — начала она совсем тихо, положив голову ему на плечо. — Я боролась. Я крепко боролась за тебя, за себя, за нашу жизнь, за наше счастье. Я ездила, хлопотала, просила, требовала… И все одна, — маменька, конечно, ничего не знала. Все тайком. Знала одна лишь Малаша. Ах, милая девушка! Потом я поняла, что борюсь за несбыточное. Ведь дело было не только в том, что ты крепостной. Я убежала бы за тобой. Но жизнь, послав мне такой страшный удар, подорвала меня. А во мне с рождения таился смертельный недуг. Счастье живило, воскрешало меня… Да, я была счастлива. Ведь и ты тоже? Да?
— Машенька!
Он плакал. Машенька старательно вытерла его слезы.
— Не надо слишком огорчаться из-за меня, милый… Говорят, древние боги завистливы к людскому счастью. Вот они и послали тебе — горе, а мне — смертельную болезнь. И у меня не хватило сил отвоевать счастье. Да, может быть, я только связала
бы тебе руки. И я решила кончить все разом: умереть… Но умереть тоже не сумела. Тогда я согласилась умереть иначе, никого не пугая. Мой брак — смерть. Ты не смотри с таким страхом на мой платок. Кровь уйдет из меня и избавит от вечной тоски по тебе… от лжи и заточения… Ведь барон держит меня, как узницу. И он и маменька скрывают от меня жизнь. О тебе никогда не поминает. И к дяде Феде меня не возят.
Она говорила торопливо, свистящее дыхание мешало ей.
— Ах, как много надо сказать, пока барона нет дома. Сегодня он дежурный во дворце. Это так хорошо, когда он не рядом!.. Слушай: ведь маменька продала меня барону за то, что он заплатил все ее долги и выкупил имение. У нее теперь приличное состояние, и она сможет безбедно провести старость. Ты ее не суди строго, Сережа, — многие так делают… Я знаю, ты тоже хлопотал, просил… Знаю, что из стараний Сашеньки Римской-Корсаковой ничего не вышло. Сережа, дорогой мой, любимый, разные дороги вели нас друг к другу. Встретились мы, но не смогли соединиться. Разве наша в этом вина?
Он посмотрел ей в глаза и почти простонал:
— Почему ты не подождала? Я слышал, скоро всем крепостным будет воля.
Она покачала головой:
— Вздор! Одни мечты. Я тоже слышала: бунты по деревням и по казармам. Не верю я в волю, Сережа! Они там все сильные и злые. Меня связал один барон, а у вас их много. Но сейчас мне хорошо, я счастлива. Ведь я смотрю на тебя, такого же чудесного, молодого, красивого, любящего… — И, сдвинув брови, сказала вдруг серьезно и строго. — Знаешь, почему мы с Сашенькой Римской-Корсаковой не сумели выкупить тебе свободу? Потому, что обе мы с нею — пустоцветы. Вроде одуванчиков. Распустился одуванчик весной, желтенький, как солнышко, засиял. А вызрел — стал белым, пушистым шариком. Подул ветер — и нет его… Мы с детства такие одуванчики. А вы росли, как боровики на опушке: вас поливал дождик, вы ходили босиком, а зимой — в лапотках. И стали сильными, крепкими, точно репки, — поди-ка вытащи вас из грядки! Ненужные мы… Лишние и вам и себе.
— Машенька, родная! Что ты говоришь? Ты — ненужная? Да ты мне радость двойную подарила: свою любовь и работу над картиной. Ведь я тебя, твои глаза, твою улыбку, твою грацию видел! О тебе, как о солнце, мечтал…
— А где же она, твоя картина? — спросила она живо. — Твоя "Омфала"? Почему ее нигде нет, ни на одной выставке?
Сергей потупился.
— Мне не дали кончить картину. Я ее… оставил там… откуда бежал.
— Бежал?!
Машенька вскочила. На одну секунду в ней вспыхнула безумная надежда. Бежал? Она схватилась за грудь, точно удерживая рвущееся оттуда сердце. Потом бессильно опустилась опять на кушетку:
— Но ведь тебя… найдут… поймают…
Она хорошо знала, как крепостных наказывали за побег. Ее охватил ужас.
— Я должен был бежать… Я, кажется, убил оскорбившего меня немца-мажордома.
Она схватилась за голову.
— Милый, бедный ты мой! Как я виновата перед тобой! Может быть, я ошибалась? Мне надо было найти силы быть упорной… Ничего не бояться: ни болезни, ни смерти. И вырвать все-таки счастье: бежать за тобой, подкупить священника и обвенчаться? Что я наделала!.. Сережа, что я наделала! Я погубила тебя.
— За меня не бойся. У меня есть друг, он приютил, а потом я уеду. Но ты… ты?..
— А я? — Губы ее дрогнули. — Я скоро умру и успокоюсь навсегда. Меня повезут на днях в теплые края. В нашу с тобой Италию… Барон возил меня раньше в свое лифляндское имение, в замок, похожий на крепость. Там мне стало совсем плохо. Теперь он делает последнюю попытку. Но это ни
%к чему. Я случайно услышала, как врачи говорили, что жить мне уже недолго. Я рада этому. Вот барону, правда, обидно: я дорого ему стоила. Ну что ж? Бывает, что купят куколку, а у нее отлетит головка или, если она восковая, растает на солнце. Я вот растаяла на морозе… жизни.
Сергей не мог говорить.
— Ничего, у барона много денег. Он купит себе другую куклу, и теперь уже, наверное, более прочную.
Она смотрела на Сергея и, казалось, хотела заглянуть ему в душу:
— Милый, я в тебя верила и верю… и буду верить до конца. Может быть, правда, что придет воля. Может, ты еще выйдешь на добрую широкую дорогу. А я… я тоскую, Сереженька, о маленькой тропинке в деревне. Я бы на сене хотела поваляться. И на солнышке полежать, вместе с разными букашками на меже… когда оно сквозь колосья просвечивает…
Она гладила его темные вьющиеся волосы.
— Меня похоронят в баронском родовом склепе. А там холодно!.. Я просила Малашу, чтобы она дяде Феде сказала: пусть бы в старом маменькином имении… среди крестьянских могил… Я почти всех их знала. Да не послушают! — Она вдруг заволновалась. — Нам надо проститься, милый! Я не боюсь барона, теперь уж ничего не боюсь. Но он может тебя оскорбить и выдать… Малаша даст знать Лучанинову о моей смерти. Я ее и об этом просила. Ты обо мне, пожалуйста, не тоскуй. Так лучше. Я одуванчик и должна рассыпаться. Вот и все… А теперь подожди — у меня к тебе просьба.
Она отстранила Сергея и, открыв ключиком ящик изящной шифоньерки, достала оттуда пачку денег:
— Возьми. Прошу тебя, во имя нашей любви… Это мои собственные. Ты должен их взять, чтобы жить и работать. Не тебе я отдаю их, Сережа, а твоему таланту, твоему будущему.
Сергей отшатнулся. Потом молча, крепко, до боли, обнял ее и бросился через анфиладу комнат в переднюю.
— Сережа, возьми!.. — долетел до него отчаянный крик.


Часть третья
I. КУДА ИДТИ?
С чемоданом и ящиком красок Сергей шел по набережной Васильевского острова. Он решил не оставаться больше у Лучанинова, не подводить товарища. Кто знает, не нарвешься ли на дворника или квартального? И Миша Тихонов может невольно выдать, назвав Сергея невзначай по имени.
Надо скорее уехать куда-нибудь подальше. Но Сергей оттягивал отъезд, уверяя себя, что все еще опасно показываться на заставах. Он вспомнил, как часто летом на взморье селились неимущие "посторонние" ученики-художники, и никто их не беспокоил. Не попробовать ли пожить немного там, а потом уже пускаться бродяжить по свету?..
Сергей шагал по направлению к гавани, стараясь держаться противоположной от Академии стороны.
Издалека он видел тяжелую дверь. Швейцар в галунах важным движением распахнул ее перед каким-то сановником, вышедшим из кареты, и, кланяясь в пояс, пропустил звездоносца в подъезд.
И пышная ливрея швейцара, и новая солидная дверь, и стройка во дворе — все это говорило о внимании к Академии сильного и практичного Оленина. Этот человек, ретивый выразитель самодержавной воли русского императора и усердный помощник министра Голицына, заботясь о воспитании юношества, в то же время закрыл двери для тех, кто имел несчастье родиться крепостным.
Перед Сергеем широкой гладью раскинулась Нева, вся исчерченная сеткой мачт, темнеющая островками серых барок, кишащая ярко раскрашенными юркими яликами.
Сергей шагал и думал. Через месяц с лишком начнется двухнедельная выставка в Академии. Лучанинов готовит к ней картину. Он не любит говорить о своих работах, пока не кончит. Работает упорно, "остервенело", по собственному выражению, отрешившись от жизни, почти без еды. Сергей ушел от него как раз в такой момент. Прочтет прощальную записку, укоризненно покачает головой и, прищурив маленькие медвежьи глаза, снова весь уйдет в работу. Счастливец! У него нет ни терзаний, ни разочарований, ни лишних мучительных вопросов. Он взял от академических учителей все, что мог, и дорога его идет гладко. И в бумагах значится: "С 1812 года уволен из Академии со званием художника XIV класса и награжден аттестатом I степени, со шпагой и I золотой медалью". Добрый друг, редчайшее сердце и несомненно даровитый, но без особых исканий. Это не Миша Тихонов. Бедный Миша!.. Его крылья сломаны навсегда…
А может быть, и не надо этих мучительных поисков? Возможно, на месте Сергея Лучанинов крепко сжал бы зубы, как делал это, добиваясь "верного ракурса", и стал бы терпеливо сносить унижения, надеясь на случайно залетевший к нему слух о воле. А главное, стал бы упорно работать, говоря, как говаривал Егорыч: "Их власть".
Может быть, такое дарование, крепкое и упорное, ценнее, чем у вольнолюбивого холопа господ Благово и хрупкого Миши, ищущих новых путей?..
Он остановился, залюбовавшись знакомой картиной. Всем сердцем любил он красавицу Неву и прекрасный город, всегда точно подернутый таинственной дымкой. Он любил его летом, когда по круглым булыжникам мостовой стучали колеса и всюду раздавались звуки, напоминающие о сутолоке столицы. Он любил его зеленые озера садов и парков, с белеющими в тени статуями, бьющие в высоту фонтаны, прямые улицы, "Невскую перспективу" и в конце ее похожий на золотой восклицательный знак шпиль Адмиралтейства.
Он любовался Петербургом и зимой, когда город бывал точно спеленат в мягкие снежные покровы. Из них, будто бы нарисованные графиком, выступали стройные контуры домов, заиндевевшие кружева решетки Летнего сада, ряды зубчатых елок на переходах через погребенную в сугробах реку, завороженные зимним сном дворцы… Город колонн, каналов, дворцов и статуй… Он любил даже туман, кутающий так часто эту напоенную водой столицу. По ночам в нем мерцали фонари с огоньками в радужных кругах, и все казалось тогда сказочным. Чудесный город, созданный вдохновенными художниками! Как нелегко с ним расставаться!
У Сергея заныло сердце. Долго ли еще он сможет жить среди этих прекрасных, ставших родными улиц и набережных?
Он смотрел на Неву, отойдя к груде выгруженных с кораблей ящиков и бочек.
Над рекой стояла перебранка матросов на всех языках: на французском, немецком, английском, голландском, итальянском, датском… Грузили новые товары. По рядам ходили дозорные сторожа. Из полосатой будки выглядывал будочник с ружьем и грозно посматривал вокруг.
Что за одежды! Что за физиономии! Что за картинные фигуры! Какое смешение красок!
Сергей узнал доставленный для Академии художеств груз: из Мюнхена, из Парижа, из Рима… Что-то дрогнуло у него в груди. Рим!.. Это картины. Кто тот счастливец, что посылает из-за границы свои работы к выставке? А вот опять: "Рим, Великанов".
Великанов — фамилия купца, жившего в Италии. Он занимается пересылкой в Россию картин и разных товаров для искусства, начиная с карандашей, полотна, красок и кончая моделями для скульпторов и эстампами-гравюрами. Если бы Сергей не был выброшен за борт, может быть, в этих грузах, к которым сейчас подошел таможенный инспектор в своей зеленой форме, нашлось что-нибудь и для него.
Крепко пахло здоровым смоляным запахом канатов, смешанным с запахом реки, рыбы и гниющего дерева старых барок. У самой воды толпились голландцы в жилетках и белых рубахах с засученными рукавами и вечными трубками в зубах. В наскоро сооруженных палатках хлопотали голландки в белоснежных чепчиках и широких шитых передниках. С солидными кофейниками в руках они переходили от маленьких плиток и жаровен к столам. Рядом, у лотков, слышалась звучная музыкальная речь итальянцев. Здесь блестели и переливались перламутровым блеском ожерелья из ракушек, дешевые камни, коралловые нитки и амулеты в форме маленьких ручек. До слуха долетали пылкие клятвы — продавцы расхваливали свой товар. Смуглые турки и греки возле больших корзин с апельсинами, золотившимися на солнце, не отставали от итальянцев. А неподалеку восторженно кричали дети у невиданных диковинок: морских коньков, рыб с голубыми и алыми плавниками, зеленых ящериц и хамелеонов… И над всем этим — разноцветные флаги разных государств.
На взморье толпились люди, они закидывали тоню. Здесь была тоже особенная жизнь. Лодочники и рыбаки селились тут, ведя здоровую, привольную жизнь летом, но тяжелую и опасную во время осенних бурь. Жены их торговали молоком.
На безбрежной глади Финского залива качались лодки. Они усеивали весь берег: большие серые — вблизи и черные точки — на горизонте. Сушились на кольях сети. Тут еще резче пахло рыбой и водорослями. Выброшенные морем, в белой ноздреватой пене, они окаймляли берег густой бахромой.
Сергей знал, что именно здесь бывало летнее пребывание пасынков Академии, тех из "посторонних" учеников, кому не удавалось отправиться на натуру подальше.
Они нанимали себе "летние квартиры" — попросту арендовали у рыбаков перевернутые набок лодки, своеобразные "дачи" неимущих.
Бродя наугад по берегу, Сергей услышал знакомый окрик:
— Эй, Сережка! Поляков! Ты ли это, дружище? Вижу тебя в щелку.
Узнав голос, Сергей радостно обернулся:
— Тезка? Хлобыстайко? Будто тебя слышу, только малость охрипшего.
В ответ прозвучало нарочито солидно:
— Во-первых, я тебе не "тезка" и не "Хлобыстайко", а Сергей Кузьмич Хлобыстаев — художник. Во-вторых, я вовсе не охрип. Это мой вельможеский басок.
"Академический" товарищ вылез наконец из-под ближней лодки и подошел вразвалку к Полякову.
Невысокий, ширококостный, с большим лбом, он был очень живописен на фоне песчаного берега.
— Обрати взор налево, — продолжал он, улыбаясь узенькими глазами. — Подобный же дворец — палаццо — и у Пустовой-това. Для жалкого, суетного света мы оба — исключенные холопы, а для людей понимающих — творцы и владельцы.
Из-под соседней лодки вылез и Пустовойтов. В Академии их нередко путали, оба коренастые, сильные, как кряжистые пни.
— Пожалуйте, Сергей Васильевич, в мои апартаменты, — с церемонной важностью возгласил Хлобыстаев и снял давно выгоревшую шляпу. — Готов сделать, если пожелаете, придворный поклон, как изображается на старых французских гравюрах. Вот только не взыщите, страусовым пером на головном уборе пока не обзавелся…
Согнувшись, Сергей вошел в "палаццо". Там было убрано с аккуратностью хозяйственного мужичка. Все на месте: мольберт с морским видом; рядом, на табуретке, — ящик с красками; на гвоздике — палитра и даже гитара с голубой лентой. Снаружи возле входа была сложена из кирпичей маленькая печурка.
— Гитарой я покоряю сердца прекрасных рыбачек, — объяснил владелец лодки и, высунув голову, закричал. — Эй, Пустовойка! Андрюшка! Чего же ты не идешь? К нам пожаловал не кто-нибудь, а сам чистюля Сергей Васильевич Поляков!.. Да ты не обижайся, Сережа, я шучу. Думаешь, я забыл, как ты мне позировал для Минервы, когда у меня на натурщицу денег не было? Теперь у меня постоянная натурщица — здешняя рыбачка. Только мало приходится работать над жанрами. Пробавляюсь больше видописью. Стал заправским маринистом. Готовая натура всегда перед глазами.
Захрустел песок. Подошел Пустовойтов, и снова Сергей почувствовал дружеские объятия. Потом втроем уселись возле печурки. Скоро на ней забулькала в котелке вода.
Хлобыстаев домовито вычистил рыбу, сосредоточенно посолил ее и опустил в кипяток.
— "Лаврушку" для духа принес? У Андрюшки всегда запас "лаврушки"… Вот и в рифму получилось.
— На листики, кашевар, непризнанный поэт-самоучка! — гаркнул Пустовойтов, подавая пакетик с лавровым листом.
Запахло вкусно ухой. Ели с аппетитом, черпая деревянными ложками из котелка по очереди, как и полагалось приятелям, знакомым с укладом простой деревенской жизни.
— А я пришел посмотреть, — начал разведывать Сергей, — как тут живут на летнем положении братья-художники.
— Живут неплохо, — отозвался Хлобыстаев. — Домовничаем, как некие Робинзоны, по роману английского сочинителя. Вот бы и тебе к нам на летние месяцы.
— А как у вас с паспортами? — осторожно спросил Сергей.
— С паспортами как нельзя лучше. Нас выперли из Академии не за то, что господа нас к себе требовали, а за то, что господа не дали нам вольных. Мы с Андрюшкой платим господам оброк. Платим и ждем с надеждой вольности. Купцы знакомые за нас вовсю хлопочут. Мы же тех купцов в самом наилучшем виде на портретах расписываем.
Пустовойтов с ртом, битком набитым картошкой, добавил:
— Золотую цепочку по пузу выводим лихо, и цилиндр, и прочие деликатности.
— А то продаем им по сходной цене "Штиль на море" или "Бурю" — на выбор, по темпераменту. Можно и "Хороший улов" или "Рыбачку, тоскующую о женихе, ушедшем в море". Темы самые разнообразные.
Вытащив из ухи рыбью голову, Хлобыстаев старательно обглодал ее, отшвырнул подальше и громко рассмеялся:
— Купцы — это тебе, братец, не академические оценщики. У них главное — подходила бы картина к обоям, да чтобы "его степенство" был изображен на берегу моря под пальмами, хотя пальмы в нашем климате, как известно, не произрастают.
— А ежели картина уж очень понравится, — ввернул Пустовойтов, — то сверх денег и окорочек телятинки или головку сахару можно получить.
— Такие картины, — перебил Хлобыстаев, — понятно, на выставку не понесешь. А все же они кормят. Но на выставках в Академии мы бываем аккуратно. Вот и теперь скоро пойдем, как откроется. Пойдешь с нами, Сережка?
— Там видно будет… — пробормотал Сергей уклончиво.
И стал расспрашивать о старых товарищах, о тех учениках, которые остались кончать Академию.
Приятели нещадно ругали Оленина, рассказывали, что Карл Брюлло уже получил золотую медаль, а Иордан, за маленький рост, опять остался на лишний год.
Пустовойтов фыркнул:
— И почему это самому Оленину рост не помешал в такую силу войти?
— A-а, плевать на него! — презрительно сморщился Хлобыстаев. — Мы тоже свою собственную сановитость имеем. Заплатив денежки за билет, козырями ходим по выставке. На-ка, дескать, Оленин, выкуси! Залы все знаем, как дома в них. Перед его высокопревосходительством шапку ломать теперь тоже не к чему. И выгнать нас нельзя, как выгнали три года назад, потому за вход — за-пла-че-но!.. Во где досада-то Оленину!
Сергей решился наконец спросить:
— А если у кого… паспорта нет?
— Это ты к чему? — спросил Хлобыстаев.
— Ну, скажем, пришел бы к вам кто без паспорта жить?
— Бродяга?
— Ну, скажем, у тебя бы господа паспорт отобрали?
— Стал бы жить без паспорта.
— Разве полиции здесь не бывает?
— Может, когда и бывала, да мы ее ни разу не видели. Здесь просто. Здесь рыбацкое царство!
Сергей схватил приятеля за руку и разом выпалил:
— Братцы, ведь я убежал от господ, и паспорта у меня нет.
— Дурак, Сережка, чего не сказал прямо! — буркнул Пустовойтов.
— Подумаешь, велика беда! — презрительно скривил рот Хлобыстаев. — Так тебе в самый раз оставаться с нами. Ничего не бойся! Заживем на славу втроем. Собственную лодку тебе сосватаем.
— Этакое тоже палаццо венецианского дожа…
— Одним словом, Италия, которой тебя лишили российские сановники.
II. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Сергей остался на взморье. У него появилась арендованная лодка и собственное несложное хозяйство. Так же, как Хлобы-стаев и Пустовойтов, он начал писать "морские видики", иногда даже с пальмами на берегу "некоего" залива. Товарищи продавали их гуртом со своими работами купцам и приносили его долю выручки.
Он писал, сжав злобно губы и ненавидя эту работу. Чувствовал, как скатывается творчески к мазне "наотмашь", по выражению Васильева, предостерегавшего его заветами своего профессора.
Часами сидел он на пустынном берегу, где-нибудь в стороне от людей, подставляя влажное от морской воды тело солнцу и ветру. И тело сделалось скоро смуглым, почти коричневым.
"Стал черен до неузнаваемости, и то хорошо, — думал художник. — Да, здесь и действительно неплохо… Всякий занят своим делом и мало обращает внимания на другого".
Из лачужки, глядевшей подслеповатым окном с пригорка, выходил порой бывший хозяин лодки Хлобыстаева — рыбак. Загородив рукою глаза от солнца, он вглядывался в даль берега и протяжно звал:
— Ма-а-аша! Ма-а-ашутка! Доч-ка!..
"Маша? Тоже Машенька…"
А вон и она — полоскала белье, как обычно, стоя на камне. Ветер относил голос отца, и она его не слышала.
Ближний сосед-старик, ковыляя на больных от ревматизма ногах, развешивал на кольях сети и поглядывал на море. Верно, поджидал возвращения оттуда сына.
Но порой к Сергею подкрадывалось беспокойство:
— А что, если полиция все-таки набредет на след?..
Хлобыстаев успокаивал:
— Мышь ищут в кладовой, а она умная, спряталась в мешке с крупой. Прятаться под самым носом у полиции всегда надежнее. Мы здесь словно растворились среди рыбаков.
И Сергей перестал думать об отъезде.
Сегодня он остался на берегу один — сожители отправились в Академию на выставку.
Сергей заранее знал, что, вернувшись, они будут говорить о ней, станут бранить Оленина и кое-кого из профессоров. И обязательно скажут: "Кабы ты не нашел в бане Агафопода, разве можно было рисовать с таких орясин, как прежние натурщики? Половиной успеха выставка обязана тебе. А вместо благодарности тебя выгнали из Академии, подлецы!.. Что же Егоров, так тебя хваливший всегда, не сумел отстоять?"
"Разве с ними, со звездоносцами, поспоришь? — поддержит непременно и Пустовойтов. — Их — целое министерство, кроме Оленина. А сам царь-батюшка?.."
Да, то, что Сергея выбросили из Академии без всякой надежды когда-либо вернуться, губит его. Но он не должен сдаваться. Талант его не угаснет на этих временных "видиках с пальмами". Нет, сила воли удержит от творческого падения. Машенька сказала: "Я верю в тебя и буду верить до конца…" Может быть, действительно придет воля, — недаром же говорил о ней Лучанинов.
Но сердце болезненно ныло. В душу пробирались апатия, пустота, безразличие…
Как далекая, несбыточная мечта, вспомнилась большая программная картина, с таким огнем исполняемая, полная любви к Машеньке, к жизни, к светлому будущему. Она осталась в господском доме и, вероятно, выкинута. В лучшем случае ее подобрал Егорыч. Глядя на нее, старик сокрушенно качает головой и бормочет:
"Пропал человек. Не давали шить золотом — не стал бить молотом".
Даже в дурацкую галерею Благово "Геркулес", конечно, не попадет, не станет рядом с "настоящими копиями", выписанными Елизаветой Ивановной из-за границы. Он не окончен и не покрыт лаком, краски пожухли… А остальные его работы? Все эти портреты, раскиданные по разным вельможеским домам, которые так хвалила когда-то знать, где они? Возможно, они и займут почетное место в чьей-нибудь портретной коллекции. Но под ними не будет никакой подписи. Их творец останется безымянным. Все эти красавицы в бальных платьях, баре в мундирах со звездами на ярких лентах, с перстнями на пальцах, высокомерно надутые или надменно-снисходительные, и дети с пышными локонами, с шаловливыми улыбками, — все они, созданные его руками, будут смотреть, как живые, из рам. Их будут показывать гостям и снова хвалить за прозрачность красок, за вдохновенную правду. А вельможа-собственник объяснит:
— Это работа неизвестного крепостного. Э… э… забыл, как его звали… Был изряден в живописи, как видите.
И имя Сергея Полякова покроется плесенью забвения, как имена многих талантливых людей в крепостной России. Барское чванство губит искусство. Рабу приходится делать не то, что родилось в душе, захватило ее, выросло и окрепло. Ведь владельцу принадлежит не только тело раба, но и его мысли, чувства.
Сергей усмехнулся:
"Ведь и счет холопов ведется "по душам"…"
Но кто крепок, силен, умеет применяться к обстоятельствам — выдержит каторгу, как выдержал, например, Тропинин. Бывают и счастливые случаи. Сжалится "добрый господин" или "за ненадобностью" позволит выкупиться, и ты — на верху гребня. Как вон та щепка, что поднялась сейчас на волну… А нет — лети в бездну!
Сергей закрыл глаза. Ветер обвевал его, теплый летний ветер. Перед сомкнутыми веками снова поплыли воспоминания.
Потом вернулась упрямая мысль:
"Разве нельзя продолжать учиться вне Академии? У самой природы? Академия дала крепкие основы искусства. И это очень много. Это — главное. Остальное даст жизнь. А позже… может быть, придет и желанная воля".
— Во-о-ля!.. — крикнул он вдруг с надеждой и вызовом.
И волна, плеснув на берег, точно ответила ему утвердительно.
Сергей почувствовал странную легкость во всем существе. Нет, не в одном личном счастье смысл жизни. И что для настоящего художника одна картина, оставшаяся случайно неоконченной?
Сергей не верил себе: тоска стала как будто замирать. Боль воспоминаний заменили размышления о спорах в Петровском, об исканиях своих и Миши Тихонова, об упорном труде Луча-нинова, о задачах живописи вообще… Ведь тогда, в бытность ученичества, он и не предполагал об опасности исключения, о приезде Благово. Но уже ясно сознавал, что отходит от традиционных приемов академического классицизма. Тогда уже мечтал о новых формах, о новых сюжетах, о новой дороге в искусстве. Что же? Значит, он и тогда уже стал отходить от картины, тему которой ему почти навязали в Академии? Ее уже и тогда начала вытеснять правда жизни. Значит, уж не так она ему дорога? Значит, он охладел к ней сам.
Так чего жалеть? Потерянных лет? Он их наверстает. Теперь в его новых произведениях будут не надуманные, стесненные условностями фигуры, а подлинно живые люди. С полотна будет улыбаться его промелькнувшее счастье — Машенька, Марфуша, Елагин, ямщик из Псковской губернии, цыгане… Все те, что ходят сейчас по земле, чей облик понятен каждому, как смех и отчаяние, как ласка и гнев.
Пусть он временно отстранен от этой работы, — годы его еще не ушли. Он молод. Он догонит жизнь. Догонит и, может быть, перегонит. Он не позволит убить в себе силу духа личными неудачами. Академия успела научить его технике, композиции, верному рисунку. Недаром его профессором был прославленный Егоров, удививший в свое время итальянских художников.
Будучи пенсионером в Италии, Алексей Егорович в защиту русского мастерства нарисовал углем, не отрывая руки от стены, на память, классически правильную человеческую фигуру, начав линию с большого пальца левой ноги. Итальянцы сочли за чудо этот общий единый очерк, со всеми мускулами и деталями, без малейшей ошибки.
Да, Академия дала прочную основу. Теперь надо выйти на дорогу своими силами, дойти до цели самостоятельно.
— А ты, Сережа, все загораешь?
На плечо легла широкая рука Хлобыстаева. Хохот Пустовойтова раскатился по берегу. Оба приятеля были нагружены пакетами и кульками.
— Купцы дали, — показал на них Пустовойтов. — Бакалейщика и его жену писали. И уж не под пальмами, а под бархатным балдахином, с золотыми кистями, наподобие царствующих особ. Ну и портретец вышел — чудо-юдо рыба-кит! А мы за тобой. Марш в палаццо, выпьем и закусим.
Сергей оделся и пошел за художниками. В печурке быстро зазмеился огонь, зашипело на сковороде сало для яичницы. На глиняное блюдо лёг копченый сиг и розовая лососина. Из другого кулька достали ветчину, пряники, сахар, леденцы, пакетик чая, душистый белый и черный хлеб, сливочное масло, и наконец, две бутылки с вином.
Хлопали пробки, а товарищи рассказывали наперебой:
— Были на выставке…
— Погоди, Хлобыстушко, сперва о купцах!
— Ступай ты с ними к чертовой бабушке! Надоели они до тошноты, — дай им бог здоровья за тароватость… Пей, Сережа, вино греет душу. Не на похоронах ведь сидишь с неутешной вдовой, а с веселыми, задушевными приятелями.
Сергей пил, и у него кружилась голова. Он будто плыл куда-то, где исчезло все тяжелое, заволакиваясь туманом.
— "Не умеешь шить золотом, — говорил он, смеясь, — бей молотом!" Нет, я у купцов работать не хочу. Довольно с меня было и бар.
— А купцы о тебе спрашивали, — дразнил Хлобыстаев.
Сергей упрямо тряс головой:
— Говорю, не хочу. И не буду.
— Ну, не надо купцов, — кто тебя неволит? — снова подмигивает Хлобыстаев. — Мы тебе одних купчих…
— Не хочешь и купчих, так мы лихих генералов найдем, — подхватывал Пустовойтов. — Видали мы их сегодня на выставке. Умора! Блеску, грохоту, звону — страсть! Но мы с Хлобыстайкой идем, не сторонимся. Сами, дескать, с усами. Знатные баре в собственных каретах подъезжают. Оленин за ними так и ходит. От старания ордена даже на груди трясутся. А мы и ухом не ведем. На картины смотрим, громко, во весь голос, критикуем. Одним словом, плюем на все их почеты. То-то любо!
— Еще как любо! — хохотал Сергей и обнимал Пустовойтова. — Только я не хочу и генералов. Я буду теперь работать только по-настоящему… как обещал уважаемому профессору Алексею Егоровичу Егорову, своему доброму хозяину Якову Андреевичу Васильеву и… еще одному милому человеку… одной… другу одному сердечному… Обещал и должен исполнить.
— С голоду подохнешь, Сережка!
— А может, и не подохну, а выживу. Я крепкий! Кого вы там на выставке видели?
— Сейчас доложу все по порядку. Первого, — Хлобыстаев загнул палец, — мы видели из старых учеников Иордана. В гравюре подвинулся здорово, а живет небогато. Отец-то был не велика птица — придворный обойщик в Павловске, а мать — дочка придворного столяра, немчура аккуратная, каждый грош на счету. Как привезла сына в Академию, так и не брала в отпуск несколько лет: казенные-то хлеба дешевле, да и остальная детвора одолела. Впрочем, заграничная поездка Иордану обеспечена. — Он заложил второй палец. — Карл Брюлло гоголем расхаживает. Зо-ло-тая медаль, не шутка!.. Этот уж, наверное, скоро поедет в Италию. С ним все носятся — и профессора, и ученики-товарищи. Его профессор, Александр Иванович Иванов, просто сияет, — ученичок-то выходит на славу. Один Оленин не удостаивает гордость Академии особым вниманием…
— А сторожа Анисима, грозу младших классов, — перебил Пустовойтов, — Оленин рассчитал. Сволочь был, а все же столько лет служил. Не ожидал небось такого афронта! У меня до сих пор от него памятка на спине.
Товарищи расхохотались.
— Видал я на выставке и графа Федора Петровича Толстого, — снова загнул палец Хлобыстаев. — Похудел и весьма печальный на вид. Сказывали, тоскует по какой-то будто бы племяннице.
Пустовойтов тронул Сергея за рукав.
— Сережка, ведь ты был у него вхож в дом, верно, знавал и племянницу. Повезли ее, больную, на теплые воды, а она дорогой и скончалась, там и похоронили…
Сергей неожиданно пошатнулся, встал и молча пошел к себе.
— Куда же ты, Сережка? Чего ты?..
Сергей не ответил.
Сидя на ящике и охватив голову руками, он сдерживал рыдания. Губы его беззвучно шептали:
— Ведь я тогда уже простился… на Миллионной… Так чего же я?.. Чего?..
…Сергей переехал через Неву на ялике около 21-й линии Васильевского острова. Чтобы избежать возможных встреч, он пошел глухими улицами и переулками Коломны к центру. Ему необходимо было купить полотно. Он твердо решил начать новую картину. Сюжетом ей послужит сцена в Петровском — "Искания художников". Три фигуры: Лучанинов, Тихонов и он сам. Лунная ночь заглядывает в глубину сарая. На сене — три друга. Спорят. Лицо Миши кажется особенно вдохновенным. Может быть, к фигура Елагина в охотничьем костюме… Это — жизнь.
На Вознесенском проспекте, рядом с мастерской скрипок, было несколько лавок антикваров. В раскрытые двери виднелась художественная мебель: на стенах поблескивали золоченые рамы картин. Здесь, говорили, можно иногда купить и полотно, уже натянутое на подрамник. Тем лучше, значит, не придется идти дальше. Надо быть осторожным. Недавно разнеслась весть об убийстве одного видного ростовщика, убийцу искали везде. Следовало бы, пожалуй, до поры до времени сидеть по-прежнему в лодке. Но хотелось как можно скорее начать работать серьезно.
Был ранний час, магазины только что открылись. Сергей остановился перед лавочкой с узкой дверью, возле которой стояло несколько картин в рамах и просто на подрамниках. Какой-то человек в картузе торговался с хозяином-антикваром.
Седобородый чухонец-антиквар качал отрицательно головой: — Хлям!.. Все — хлям, сказано!..
Сергея потянуло взглянуть на картину. Он знал, что иногда среди действительного хлама попадаются и редкие произведения искусства. Подойдя ближе, он остолбенел. Его "Геркулес"! Его детище!..
Но, бог мой, что с ним сделали! На белом овале, где он собирался написать когда-то лицо "Омфалы", чьей-то озорной рукой была намалевана рожа с высунутым языком.
Чухонец стучал по картине пальцем и говорил:
— Кому надо? Глюпость!
Человек в картузе предлагал:
— А ты девку отрежь. А голый мужик — ничего. На манер акробата в балагане. Ничего!..
Он обернулся. Сергей узнал дворника Благово.
— Кого я вижу? Сережка! — И, хватая Полякова за руку, дворник закричал. — Беглый! Холоп Благово! Наш Сережка! Караул! Держи, держи его!..
Сергей вырвал руку, оттолкнул его в грудь и бросился бежать. А за ним неслось:
— Держи! Держи! Беглый холоп! Караул!..
И пронзительный свисток квартального.
Сергей юркнул в проходной двор, выбрался на Пряжку и пустился назад, к яличной пристани.
III. ОСЕНЬ
Надо чем-то жить, а рука не поднимается взять кисть. Все роившиеся в мыслях образы точно зачеркнула отвратительная рожа на его картине, — издевательская мазня, вероятно, казачка Прошки. Это было какое-то наваждение: высунутый язык, казалось, плевал ему в душу, где жило до сих пор дорогое лицо умершей подруги.
На палитре засыхали краски, а он сидел, не притрагиваясь к ним.
— Что же ты ничего не делаешь, Сережа? А мы хотим заказом выгодным с тобой поделиться. Натюрморт, фантазия, а также обстановка для наших бакалейщиков. Чтобы побольше позолоты и пышности. По нашим рисункам их степенства и мебельщикам закажут. Платой не обидят, значит, заработаем хорошо.
— А рожи писать не надо? — глухо спрашивал Сергей.
— Ни боже мой!..
Хлобыстаев смотрел на Сергея. Ему было жаль товарища: сидит без гроша столько времени!
— Возьмешься?
— Согласен.
Потянулись серые дни постылой работы. Сергей думал только об отъезде из Петербурга. К сожалению, приходилось снова выжидать. По всем заставам и закоулкам о нем дали теперь опять, конечно, знать. Здесь же, на берегу, за все лето он не видел ни одного полицейского. Забудут о нем, и тогда — прощай наконец прекрасный город былой мечты!
Осень подкралась незаметно. Море стало бурным. Ходили слухи, что в Финском заливе затонуло несколько шведских судов. Стали недосчитываться и рыбачьих лодок.
Дочка рыбака Маша весь вечер и всю ночь проплакала на берегу, не дождавшись возвращения отца.
Маленькая, тощая, она сидела, сжавшись в комок и сливаясь с серыми гранитными камнями. Коврижка, которую дал не знавший, чем ее порадовать, Хлобыстаев, размякла у нее в руке. Светлые пряди волос были влажны, липли к худенькому неказистому лицу.
Не переставая всхлипывать, она говорила своему утешителю:
— Хорошо тому, кто не здесь живет и у кого есть маменька… Моя да-авно-о-о померла. А батюшка… Что он? Одно слово — рыбак. Ох, что я стану делать, как и он помрет?
И, раскачиваясь, охала, глядя на пенящиеся в сумраке гребни волн.
— Ведь со вчерашнего утра ушел в море. С самого утра!..
— Ну теперь уж скоро вернется! — успокаивал ее Хлобыстаев. — Хочешь, я тебе лучше на гитаре сыграю?
— Ох, не хочу! Не до гитары мне… Вон оно как ревет, море-то! Два года назад вот так-то уёхал мой брат и не вернулся. А после море выбросило на берег распухшего, страшного. И не узнать. Схоронили, а батюшка все бережет его куртку, подушку, одеяло, даже пачпорт. Другой раз перебирает вещи и плачет, когда никто не видит… О-ой, что я стану делать? Как жить, ежели и батюшку унесло море?
— Ну чего рано плачешь? Может, и вернется еще, — гладил ее по голове художник.
— А какая моя жисть, ежели и вернется? Выдаст за рыбака такого же, как сам, незадачливого. Сиди потом так-то на берегу и жди: вернется ли муж? О-ох!..
И новый взрыв рыданий под аккомпанемент бури.
Хлобыстаев всем сердцем жалел это тщедушное простенькое существо. Отнимая руки от ее мокрого лица, он клялся, что никогда не оставит ее и даже женится на ней. Станет беречь и заботиться о ней. Он был сам в отчаянии:
— Машутка… глупая… да не реви ты!..
Они сидели обнявшись и не спускали глаз с сердито воющего моря.
С рассветом на горизонте показалась наконец долгожданная точка. Она росла, приближалась, и девушка узнала лодку отца. Жизнь входила в привычное русло.
Дни потекли по-старому. Маша хозяйничала у своей хибарки. Рыбак, чуть живой после бурной ночи, занесшей его невесть куда, отлеживался. Впрочем, рыбы он привез достаточно, и у художников несколько дней варилась жирная уха.
Но Сергей решил искать другого приюта.
Темное, мрачное море с серыми гребнями, точно взъерошившиеся гривы зверей, бешено ревело. Налетали порывы резкого ветра. Все кругом поблекло, слиняло. Берег обезлюдел. Старый рыбак не показывался, а Маша продолжала ходить с заплаканными глазами.
— Болеет батька. Что, как помрет? — твердила она уныло и монотонно. — С самого того дня все болеет и болеет.
— Женюсь на тебе, женюсь, моя безглазенькая Психея, — мягко повторял Хлобыстаев.
Она смотрела на него с недоверием и симпатией.
Дни хоть и стали короче, но тянулись для Сергея в мучительном тоскливом однообразии. Ночи проходили без сна: мешал вой ветра, мешали мысли.
Увидев его однажды с чемоданом и ящиком красок в руках, товарищи закричали наперебой:
— Куда ты?
— Моря осеннего испугался? Уже в поход?
— Так не лучше ли поискать приюта порожняком, а багаж оставить на время в палаццо? Не пропадет. Моя прекрасная рыбачка присмотрит. Разве мало мы так-то оставляли с Пустовойкою?
Сергей замотал головой:
— Нет, пора. Я не маринист, и осеннее море на меня наводит уныние. Да и лодка — плохая защита от холода.
— Куда же ты пойдешь? — спросил Хлобыстаев.
— Сам еще не знаю. Ведь и вы собирались уходить?
— "Н-не-не знаю"! — передразнил Пустовойтов. — Вот и Хлобыстка уговаривает пережить зиму в хибарке у нашего хозяина. Можно писать и зимние пейзажи: лед, сугробы, ну, и все прочее. Если купцы нам не предложат чего-нибудь получше, хибарка нам всего более по карману. Во всяком случае, рыбачка и ее почтенный родитель будут знать нашу резиденцию, коли насчет работы тебе понадобится узнать. Ведь ты хорохоришься и не желаешь сам идти к нашим купчикам-голубчикам. А у них можешь быть и сыт, и пьян, и нос в табаке, — только угоди.
— Не пойду! — коротко отрезал Сергей.
— Что же прикажешь делать с остальным твоим имуществом? — помрачнев, спросил Хлобыстаев.
Сергей засмеялся:
— Это с самодельным мольбертом-то, ящиками, сковородкой, кастрюлькой и стаканом? Отдайте прекрасной рыбачке для будущего хозяйства молодоженов. А пока спасибо вам, други, душевное. Буду помнить всю жизнь ваш приют и ласку. — Он огляделся. — И море буду помнить, и лодку… Пожелайте мне скорее дойти до пристани.
— До какой, Сергей? — спросил Пустовойтов и закончил трагическим басом. — Конечная пристань каждого смертного — могила!
— А хотя бы и так, — усмехнулся Поляков.
— Все ты врешь, Пустовойко, — ткнул Хлобыстаев приятеля в бок. — Конечная пристань и цель каждого человека — удача.
— Пусть будет и по-твоему, — согласился Сергей.
Хлобыстаев на минуту задумался. В маленьких монгольских глазах его появилось лукавое выражение.
— Погоди! Я сейчас.
Он вызвал Машу и горячо зашептал ей что-то. Она слушала с недоумевающим видом. Потом растерянно возразила:
— А как же батенька? Ведь он на память хранил…
Хлобыстаев, видимо, настаивал:
— Ну будто бы затерялся. Какая же у тебя ко мне после этого любовь, если ты жалеешь пустой бумажонки?
— Да зачем она вам?
— Твою любовь испытать хочу. Машутка, да ты не бойся, я пошутил! Подержу и отдам. И надобен-то он мне на время, если господа к себе потребуют. Поняла? Смотри: не дашь, может, счастье свое упустишь. Жениться уж не смогу, господа не позволят.
Она взглянула на него исподлобья и побежала домой.
Скоро она вернулась с какой-то бумагой.
— Ох, хватится батька! Что тогда будет?
— Ма-аша!.. — донесся зов рыбака.
Девушка ахнула, махнула рукой и помчалась вихрем к отцу, бросив бумажку Хлобыстаеву.
Тот поманил Сергея к себе в лодку:
— Вот тебе паспорт сына рыбака. С сегодняшнего числа ты становишься братом моей прекрасной рыбачки, — сказал он торжественно. — И ежели ее отца и меня возьмет курноска — сиречь смерть, — ты должен будешь по чести о ней заботиться. Понял? Обещаешь?
Сергей был потрясен и не находил слов.
— Отныне, — продолжал Хлобыстаев, — ты — Василий, сын Михайлов Крендельков, помни. Моя Машутка — Кренделькова. Аппетитная, знаешь ли, фамилия! А скоро, возможно, это все же не исключено, будет носить еще более громкое имя — Хло-бы-ста-евой.
Сергей с трудом выговорил:
— Спасибо, тезка… Не знаю, как и благодарить.
— Облобызаемся, друг, — подошел Пустовойтов и полез целоваться.
— Помни, Сережка, — заговорил Хлобыстаев дрогнувшим голосом, — если нужна будет работа, мы всегда поможем. Обращайся без всяких фиглей-миглей…
— Помни, Сережка, — как эхо, повторил Пустовойтов.
У всех троих были взволнованные лица.
Последнее крепкое пожатие рук, и Сергей зашагал прочь от берега. Проходя мимо хибарки больного рыбака, он стукнул на прощанье в засиженное мухами оконце.
IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИНТ
Просторный мрачноватый кабинет с большим столом, заваленным листами александрийской и ватманской бумаги — архитектурными чертежами. На отдельных столиках и этажерках — рисунки; на стенах — образцы барельефов. На камине — бронзовые часы с серебряным боем, в виде Атласа, поддерживающего земной шар. А за столом — невысокого роста человек с хрящеватым носом и вельможным выражением лица. Это его высокопревосходительство президент Академии Алексей Николаевич Оленин.
У президента напряженный день. В ожидании назначенных приемов он пригласил к себе Федора Петровича Толстого.
Почти юношеская фигура знаменитого медальера в мундире отставного флотского лейтенанта, со спадающими к воротнику русыми кудрями — смесь военной выправки и художественной вольности, — мало вязалась со строгой парадностью президентского кабинета. Еще в 1809 году, к удивлению некоторых старых профессоров, Федор Петрович был избран почетным членом Академии художеств.
— Военный, почти мальчик, — говорили они, — и вдруг — почетное звание!
— Ежели бы у него имелись генеральские эполеты — туда-сюда. Но, прости господи, только лейтенант!
— Статочное ли дело, художник из вольноприходящих, и вдруг…
— Конечно, ничего не скажешь, его барельеф "Триумфальный въезд Ромула в Рим" — выдающаяся работа. Но все же: флотский лейтенант… И кто у нас в совете моложе пятидесяти лет?
Президент благоволил к Толстому, ставя
его высоко не только за талант, но и за то, что Федор Петрович был человеком "своего круга" — граф. Титул являлся для Оленина немаловажным аргументом.
Президент пригласил к себе медальера, чтобы посоветоваться о сильно заботивших его делах.
Толстой, впрочем, хорошо знал, что упрямый, настойчивый "диктатор" редко слушал чьи-либо советы, считаясь только с высочайшим повелением и собственным мнением.
Стуча о стол костяшками сухих пальцев, Оленин цедил сквозь зубы:
— Вы, граф, за всех заступаетесь. Вот и сейчас — за безобразника Александрова, исключенного в свое время из Академии. Когда-то вы так же заступались и за этого… как его… Полякова. А Поляков ваш оказался истинным негодяем. Мало того что бежал от господ, а чуть не убил их управляющего. Что вы можете возразить?
На лице Федора Петровича отразилась печаль. Что он мог, в самом деле, сказать? История с мажордомом Благово дошла до него, вероятно, сильно преувеличенной, искаженной. К бедняге Полякову он относился как к родному. Трагическая развязка их любви с Машенькой причиняла Толстому душевную боль.
— Теперь, граф, — продолжал Оленин, — вы стоите горой за выдачу пьянице аттестата первой степени, ввиду его якобы исправления за эти годы. Вы хлопочете о том, чтобы ему задали программу на звание академика по батальной живописи.
Толстой торопливо подтвердил:
— Вот именно, именно. Таланты необходимо поощрять, а Александров…
— Пьяница и буян, повторяю. А главное — бастард
[145], — твердил президент.
— Но, уверяю вас, он исправился. О нем самые лестные адресации. Нужно дать ход его дарованию. Александров не может существовать одними частными заказами.
Оленин досадливо передернул плечами:
— Я уже слышал это. Такие же слова и в адресации покровительствующих ему заказчиков, коим он исполнял портреты. Тайный советник граф Рибопьер и сенатор гвардии генерального штаба капитан князь Голицын — оба хлопочут. Александров и сам подавал прошение министру духовных дел и народного просвещения. И министр, как мой прямой начальник, передал мне сие дело на рассмотрение академического совета. Но я не могу удовлетворить просьбы. Кто поручится за то, что, поступив на службу, Александров не вспомнит старые привычки и не опозорит нас?
— Но вы подумайте: пять лет трезвой жизни и упорной работы! И такой талант! Мы все помним, каким он был блестящим баталистом.
Оленин отрицательно махнул рукой:
— Не-воз-мож-но! Евангелие нас твердо учит: ежели говоришь "нет", нельзя говорить потом "да", а ежели о чем говоришь "да", нельзя говорить об этом "нет". У совета должно быть постоянство. Решение, под которым подписался совет Академии в 1817 году, не может быть отменено в 1822.
Он порылся в бумагах и протянул Толстому листок, написанный славянским шрифтом красной краской, с ярко разрисованными разноцветными заглавными буквами, подражание древним летописям.
— Не угодно ли полюбоваться, какой аттестат в свое время выдали этому "батальному живописцу" его товарищи. Наверное, — Оленин презрительно улыбнулся, — он угощал их тогда порядочными "баталиями" в пьяном виде. Сторож принес мне этот найденный им замечательный документ. Правда, аттестат шуточный, но все-таки характерный. Вот, читайте, читайте вслух.
Толстой начал читать:
— "Дан сей аттестат воспитаннику Академии трех знатнейших художеств Александрову Павлу Алексеевичу в том, что оный прошел многотрудную и тернистую стезю…" Что за чепуха? — остановился Толстой и поднял взгляд от бумаги.
Оленин закивал узкой головой и в этом движении стал особенно походить на дятла, долбящего клювом облюбованное дерево.
— Читайте, читайте дальше!
— "…совратился с пути истины и благонравия и предался гортанобесию, чревонеистовству, кичению, аки лютый и необузданный вепрь…"
Толстой опять остановился.
— Дальше прикажете читать этот вздор? Меня гораздо более интересуют здесь талантливые орнаменты виньеток, доказывающие, как изрядно наши воспитанники усваивают византийскую манеру…
— Ах, милый граф! — нетерпеливо перебил Оленин. — Мне не до украшений! Читайте дальше, и вы узнаете доблести того, за кого так усердно заступаетесь.
Набрав в легкие воздух, Федор Петрович начал читать дальнейшее с нарочитым пафосом:
— "Не видя же его, Павла, оборачивающегося на стезю смиренномудрия, но тысячекратно ввергающегося в любопытие, праздношатание, стихобесие, женолюбие, козлопение и козлогласование…"
Федор Петрович не выдержал и расхохотался:
— Пощадите, Алексей Николаевич! Этакого "велеречия" даже моя няня Ефремовна не могла бы слушать, сколь ни любит она древние изречения. Я понимаю, здесь говорится, что обвиняемый любил попеть.
— И попить, — подчеркнул Оленин.
— Совершенно верно. Здесь есть и про это: "Всякое яствие или снедь через меру запивал, аки Левиафан в пучине морской, сопровождая сие гортанное упражнение курением богопротивного зелия, сиречь злосмрадного злака, иже от нечестивых галлов табаком нарицается".
— Не могу больше, — смеялся Толстой, — и все понял. Александров любил выпить, покушать, покурить и спеть лихую песенку. И никого не ограбил!
— Побойтесь бога, граф! Еще этого не хватало! Если бы такое случилось, он сидел бы в остроге. А пока что следует завершить его дело. Решение принято пять лет назад, оно в силе поныне. И должно остаться в силе впредь. Изменять правительственные решения — значит способствовать шатанию закона в его основании. Сомнение и отмена постановлений способствуют шатанию умов. Да-с!..
Разговор был окончен.
Вошел старый, с военной выправкой сторож и доложил:
— К вашему высокопревосходительству бывшей воспитанник Павел Алексеев Александров.
— Впусти, Цыцура! — строго бросил Оленин.
Лицо его разом приняло каменное выражение, углы губ брезгливо опустились, а глаза медленно поднялись поверх входившего.
Толстой вздохнул и стал смотреть в окно.
— Видели фигуру? — кивнул Оленин в сторону не успевшего еще закрыть за собой дверь Александрова. — Полное неумение держать себя. Да он осрамит одним своим поношенным сюртуком все российское художество! Благодарю создателя за дарованную мне твердость, столь необходимую в исполнении моего долга перед государем. Я не поддаюсь слабости снисхождения и уговоров.
Он взглянул на Толстого, подошедшего к приколотому к стене рисунку, восхитившему когда-то всю Академию. Это была давняя ученическая работа еще четырнадцатилетнего Карла Брюллова, оставленная в кабинете президента как пример достижений в системе преподавания. Смелый, безукоризненный штрих превращал академического натурщика в легендарного, символического "Гения". Никому не было дела до того, что ученик, стиснув зубы, рисовал и перерисовывал и снова бессчетное число раз скрупулезно отделывал свою работу.
— Вы любуетесь брюлловским "Гением"? — спросил Оленин. — Да, этот юноша вряд ли подведет монаршее благоволение и нас, его воспитателей. И внешность завидная, и талант. Но дерзок, дерзок! Я жду его тоже сегодня. Вопрос идет о том, чтобы, уезжая за границу, окончившие не теряли академического надзора и вне пределов государства. Таково желание государя и повеление министра…
Толстой плохо слушал.
Вот еще работа Карла — в золотой уже раме: прекрасный юноша склонился над ручьем. Это Агафопод, добытый когда-то учеником Поляковым в торговых банях. Юноша Нарцисс увидел в ручье свое изображение и влюбился в него. Не он ли это сам — девятнадцатилетний автор?.. И Шебуев, строгий академист, создатель анатомического атласа, и не менее требовательный Егоров, и скульптор Мартос, и руководитель Брюллова профессор Иванов — все они наперебой восхищались и гордились автором "Нарцисса", утверждая, что картина — событие в жизни Академии.
Толстой знал, что фоном ей послужил Строгановский сад на Черной речке. Подолгу сидя на скамье, молодой художник, вероятно, наблюдал пронизанную солнцем зелень, ловил солнечные лучи, купающиеся в пруду, и переносился мыслями в напоенную светом Грецию.
Федор Петрович сам был глубоким почитателем греческого искусства. Он понимал мечты юноши, так удачно использовавшего даже лист, упавший с дерева и уносимый течением. Пятно подчеркивало зеркальность воды. А этот чудесный тепло-золотистый тон всей картины!..
— Возрожденная Эллада! — вырвалось у Толстого восторженно.
— И тот, кто написал ее, — подхватил Оленин, — должен теперь и в Италии показать свои успехи, чтобы Академия, а за нею вся Россия гордились им. Он должен оправдать заботы своих руководителей и затраты правительства, как верноподданный своего монарха и сын своего отечества. Но Брюллов не по возрасту самоуверен и не желает больше покоряться. Некая фантазия, под именем "свободы творчества", начинает кружить голову и этому взысканному Академией юноше. Ужасное время! Все жаждут какой-то несбыточной свободы, не сообразуясь со здравым смыслом. А здравый смысл гласит…
Толстой заставил себя слушать. Оленин уже снова вернулся к Брюллову:
— От него мы ждем многого. Получив первую награду за программу "Явление трех ангелов Аврааму", юноша не должен забывать, что его посылают в Италию не зря. Мы ждем от него достойных копий с Рафаэля. Когда время сотрет эти сокровища с итальянских стен, художники всего мира станут приезжать к нам учиться по ним. Вот чего мы ждем от дерзкого юноши Брюллова. А ваш Александров… извините…
Толстой сделал последнюю попытку вступиться:
— Но как можно, ваше высокопревосходительство, оттолкнуть тоже немалое дарование? Взять и бросить его, как лишний сор. Мне кажется…
— Ну полноте, полноте, граф! — По лицу Оленина скользнула снисходительная улыбка. — Вы обладаете чрезмерной гу-манерией. В Академии ходят даже слухи… Простите, вероятно, дружеский анекдот, и только. Будто вы, пожалев какую-то старуху прачку, помогли ей везти на Благовещенском мосту санки с бельем. Я этому, само собой, не поверил.
Толстой удивленно улыбнулся:
— Почему же не поверили? Старушка действительно выбилась из сил, а я здоров. И у меня оставалось еще довольно времени перед аудиенцией во дворце.
Наступило короткое молчание. Пожав плечами, Оленин перевел разговор:
— Ну, у меня дела государственного значения, граф, а не частные, как в случае с вашей немощной старушкой. Я призван шлифовать алмазы, а не вытаскивать из болота сомнительные ценности. И готов лелеять Брюллова единственно для прославления моего отечества, как истый патриот. Станут говорить о нем за границею — государю будет сие лестно. А что лестно государю, тому считаю за счастье споспешествовать. Только в строгом порядке и законности — сила государства. Ежели на что дана резолюция — другой быть не может.
Толстой тихо спросил:
— А… ошибки?
Оленин холодно и веско ответил:
— Государственная машина ошибаться не может. А я ее винт. И винт этот не так уж плохо работает, согласитесь. Если бы за лишнюю выпитую чашку чая приговаривали к смертной казни, а я был бы судьею, то вовсе не стал бы рассуждать, справедлива ли такая кара. А подписал бы с легким сердцем: по закону — виновен.
Голос его звучал уверенно.
— Закон — все, Федор Петрович. Что написано пером, не вырубишь топором. И не нам осуждать распоряжения правительства. Лучше подчиниться и работать. И я работаю. Вот здесь, посмотрите, — он указал на груду листов на столе, — вот отчеты по живописи, зодчеству и скульптуре вверенного мне монаршей волей заведения.
Толстой невольно подумал:
"Действительно, кто не знает теперь про Рюсткамеру Российской Академии, про ее мастерские, бесчисленные перестройки и ремонты, про античную галерею, про очистку и приведение в порядок так называемого циркуля вокруг академического круглого двора, серии музейных залов? Как великолепно все здание украшено теперь скульптурой и живописью! И разве не восхищаются иностранцы Литейным двором?"
Оленин точно дополнял мысли Толстого:
— В своих заботах об Академии я превыше всего ставлю именно заботу о воспитанниках. Они прекрасно едят. По будням — три блюда за обедом, по праздникам — четыре, когда прежде они голодали… У них теперь по три перемены одежды: будничная, воскресная и парадная, и столько же полусапог, а белья — в изобилии, тогда как раньше они крали — о, позор! — Друг у друга простыни… И должен вас заверить, граф, что, когда моя рука писала сии распоряжения, голова неусыпно забегала в своих думах дальше и дальше. Она выискивала способ достигнуть высшего с наименьшими затратами, чтобы, спаси бог, не обременить чрезмерно государственного бюджета.
И Оленин начал самозабвенно перечитывать страницу за страницей бесконечных цифровых отчетов.
Толстой снова перестал слушать. Ему пришли на память высказывания друзей на их интимных собраниях:
"Бумажная Россия, чиновничья Россия, отписка, переписка, исходящие и входящие, чины, титулы…"
Художник встал, чтобы проститься. Оленин остановил его властным жестом.
— Еще давние успехи Академии, как вам хорошо известно, граф, стали гласными в Европе. И чужеземные мастера, как Лампи, Торелли, Фальконе, Дойень, Кваренги, Ламот — да мало ли их, — за честь себе поставляли быть ее членами. А когда в 1811 году, после кончины президента графа Строганова, Академия начала приходить в видимый упадок и управление ею совершенно ослабело, я дал священнейшую клятву воскресить уходящую славу и твердой рукой повел ее по блистательному пути для прославления имени моего монарха.
У Толстого заболевала голова от долбящего голоса, и он поклонился.
— Надеюсь, граф, я окончательно разубедил вас в полезности излишней снисходительности и гуманерии в делах государственной важности?
Рискуя быть невежливым, Толстой не ответил.
V. ГОРНАЯ ДОРОГА
Перед тем как покинуть любимый город, Сергей не удержался и с опаской пошел взглянуть на Академию в последний раз.
Он шел вдоль Невы, украдкой, как преступник, поглядывая на противоположную сторону набережной. Как неузнаваемо стало дорогое сердцу здание! Деревянный тротуар громко поскрипывал под ногами прохожих, а в бытность Сергея в осенние, непогожие дни там стояла невылазная грязь.
Он увидел двоих молодых людей, столкнувшихся в дверях Академии.
— Ты, Федя, зачем?
— Да надо кое с кем проститься и забрать оставшиеся вещи. Ведь я тоже уезжаю, ты же знаешь.
— Вот и я приходил проститься… по приказу его высокопре-восходи-и-тельства! — Последнее слово прозвучало подчеркнуто насмешливо.
Знакомые голоса: Карл Брюллов и гравер Федор Иордан. Неужели эти щеголевато одетые художники — питомцы прежней Академии? Обновились, как и само здание. И как недосягаемо далеки от заброшенных в рыбачий поселок пасынков того же искусства!
Сергею захотелось узнать последние академические новости. Оба художника, видимо, уезжали совершенствоваться в Италию. Счастливцы! Он быстро прошел вперед, пересек мостовую и пробрался за решетку Румянцевского сквера. Отсюда, возможно, и удастся услышать их разговор.
— Ну и как? — спрашивал Иордан.
Карл смеялся:
— Их высокопревосходительство — в страшнейшем гневе. "Они" возмущены: как посмели братья Брюлловы — ведь мы с Александром, по высочайшему повелению, теперь официально значимся Брюлловыми, — как посмели эти взысканные монаршей милостью братья отказаться от пенсионерской поездки, если в соглядатаи к ним приставят инспектора Ермолаева.
— Еще бы! Кто из учеников не знает этого шпиона, доносчика!
Сергей не верил ушам. Отказаться от поездки в Италию? Это же чистое безумие! На что он надеется, этот баловень судьбы?
Как бы в ответ Брюллов расхохотался еще заразительнее:
— Да! Не приди на помощь божественная Фортуна, наша с братом принципиальность подверглась бы жестокому испытанию. А теперь…
— Знаю. Вас отправляет не Академия, а недавно возникшее частное Общество поощрения художеств. Действительно, удача!
Брюллов хлопнул приятеля по плечу:
— Запомни мой завет, Федя: верь в удачу твердо, работай, как проклятый, и ты завоюешь мир!
Все так же небольшого роста, в непривычном штатском костюме, Иордан смущенно поежился:
— Для меня, Карл, это звучит слишком громко. Нас всех растила бедная, скромная вдова. А тебя воспитал отец — решительный, смелый, говорят, человек, и такой учитель, как Андрей Иванович Иванов… Моя муттерхен больше плакала, молилась да подсчитывала, хватит ли ей грошей прокормить оставшуюся дома ораву детей. Я, вероятно, так и останусь…
— Тихим Федей?.. Ну нет! Я хочу теперь пошире распахнуть крылья. Да и каждому советую. Жизнь надо творить, как картину!
"Жизнь надо творить, как картину"! — повторил мысленно Сергей. — Всегда ли это возможно? А если руки человека связаны беспощадным законом? Если не только руки, но даже мозг и душа не принадлежат тебе? Если ты — не человек, по закону, а чья-то собственность?.."
Звонкий голос Брюллова оборвал мысль:
— Кстати, я встретил беднягу Александрова. Оленин к нему неумолим. Что бы такое придумать, чтобы помочь ему, ума не приложу. А жаль его. Талант!
— Да еще какой! — подтвердил Иордан.
И они начали прощаться.
— Ну, передай привет своим, Карл. Тебе можно действительно позавидовать. Вся семья — таланты. Отец — мастер декоративной резьбы, брат — архитектор…
Да, ему можно было позавидовать. Изящным движением сняв с рыжеватых волнистых волос пуховую шляпу, он помахал ею в воздухе. Стройную энергичную фигуру его облекал длинный сюртук мягкого синего тона, с широким отложным воротником и пышным галстуком; песочного цвета панталоны были заправлены в сапожки и по моде обтягивали ноги; спереди на сапожках красовалось по кисточке… Нарядный франт! Сама "божественная Фортуна" невидимо следовала за ним.
"А труд? — одернул себя Поляков. — А его упорный самозабвенный труд, которым Карл славился еще с детских лет? "Жизнь надо творить, как картину"!"
Сергей остался один. Иордан скрылся за заветной дверью Академии, а Брюллов легкой, пляшущей походкой прошел далеко вперед.
…Закоулками Васильевского острова Сергей направился в сторону Выборгской стороны.
Паспорт теперь у него был, но он боялся снова встретить кого-нибудь, кто знает его в лицо. От этой мысли он холодел, походка становилась неестественно торопливой, а во взгляде читалась подозрительная настороженность.
Куда идти? Может быть, временно устроиться где-нибудь под Питером, на окраине Лесного или на Черной речке, где поменьше народу? А может, в Парголове или Юкках, в местах, где летом тоже селились художники? Пристроиться в какой-нибудь семье ремесленника постояльцем. А там будет виднее, куда применить силы воскресшему рыбаку Василию Кренделькову. Эх, постараться бы попасть юнгой на торговое судно и покинуть родину навсегда…
Ни с кем так и не сговорившись, он забрел на Каменный остров.
Привычная дорога. Здесь, у Строганова моста, соединявшего Выборгскую сторону с Каменным островом, за оградой — знакомый огромный сад. Граф Строганов открыл его для летнего гулянья.
Сюда любили ходить и ученики Академии. Сейчас, в эту пору года, здесь пустынно и тихо.
Из-за ограды виднелись купы деревьев. Некоторые уже оголились. Но высокие клены стояли еще в осеннем уборе всех оттенков: от зеленого до золотого и от бледно-розового до багрянокрасного, будто пламеневшие в пышном цветении.
Художник вошел в опустевший сад. Кустарник задел его по лицу, оставив влажный след. Ветер шевелил поредевшие ветви, и кругом все шелестело, точно вздыхало и невнятно бормотало о чем-то тоскливом, обреченном… Под ногами шуршали опавшие листья. Пахло винным запахом увядшей зелени. Сергей слышал однообразный стук граблей: садовники. чистили где-то аллеи, слышал скрип тележки, свозившей листву в кучи, вдыхал горьковатый запах горящего мусора и смотрел, как вспыхивали вдали ярким огнем сучья.
Написать бы вот эти огни, этот дым, а возле — темные силуэты людей с граблями и вилами. Нет, написать шабаш ведьм: пламя, клубы дыма, движение. Молодая ведьма в вихре дымового столба, перемежающегося с искрами, летит к небу спиралью, распустив по ветру огненные змеи волос, и хохочет сатанинским смехом. Не это ли жизнь: колдовская ведьма, с хохотом мчащая людей в водовороте бесправия и насилия…
Чтобы успокоиться, Сергей закрыл глаза. И, как всегда, поплыли одна за другой картины. Мягкими волнами окутали ужас сатанинского полета, миром и тишиной овеяли душу.
Видение или минутный сон?.. Кони жуют методично и медленно, с аппетитом перемалывая душистое сено. Где-то далеко — тонкое ржание и крик петуха. Роса. Блестящая капля утренней звезды и широкий размах Большой Медведицы. Ноги тонут в травянистых кочках. Грудь наполняется свежим дыханием ночи. Слышатся бубенчики и блеяние овец. В туманном сумраке светлыми пятнами маячат колымаги цыганского табора. Вот они у костра, эти бронзовые люди, сверкают белыми зубами и темными агатами глаз. Гортанный говор и гортанное, за душу хватающее пение:
Денег нет у меня-а,
Один кре-ест на груди-и…
Как это далеко…
Сергей шел по аллее. Он знал здесь каждый уголок. Вот там холмик с воздушной беседкой на белых колоннах, а за ним горбатый мостик. Дальше дующий в раковину "Купидон" — "маленький большой человек", как говорили художники, когда неопытный скульптор неумело изображал ребенка, похожего на взрослого. Фонтан закрыт. Вода не течет и молчит, как и все в этом засыпающем на зиму саду.
Сергей направился к достопримечательности владений Строганова — белой мраморной гробнице, перевезенной из Греции еще при Петре I. Он хотел сесть там на скамейку, но неожиданно натолкнулся на человека в ливрее.
— Смею спросить вас, сударь, — услышал он, — как находите вы прохладу нынешнего дня? Сентябрь, осмелюсь признаться, любимый мой месяц. Природа отдыхает от зноя и щедро дарит нас плодами своими. С другой стороны, хоть и замолкли небесные певуны, но чуткое ухо ловит иные мелодии, порой столь тонкие, что не хватит нот в октаве клавесина. Для музыкального уха и в шелесте листьев — гармония несказанная…
Сергей внимательно посмотрел на бритое, немного обрюзгшее лицо, с резко обозначенными мешками у глаз и глубокими морщинами на лбу.
— Не побрезгайте, сударь, отдохните рядом. Честь имею представиться: крепостной человек Дмитрия Львовича Нарышкина.
Сергей знал, что Нарышкин, вельможа, богач, близкий ко двору, славился тем, что у него был великолепный оркестр роговой музыки. И что Александр I редкий день не навещал его или не засылал к нему гонцов узнать о здоровье прекрасной дочери. Девушка, как Машенька, таяла от чахотки, и, по слухам, настоящим отцом ее был сам царь.
— Я, изволите ли видеть, музыкант, — продолжал человек в ливрее, — нарышкинский "фис". Без меня невозможно составить оркестра.
— Очень рад познакомиться. Но что такое "фис"?
— Сейчас вам объясню, ежели позволите. Дозвольте только полюбопытствовать, с кем имею честь беседовать?
Сергей заколебался:
— Я художник… Василий Михайлович Крендельков… Проездом.
— На место едете и наши палестины желаете, значит, осмотреть. Многое, смею уверить, есть у нас достойное внимания. Роскошь осталась, как наследие матушки-царицы Екатерины Алексеевны. Здесь вот — все вельможеские дворцы. Извольте обратить взор: на том берегу, насупротив, возвышается дача моего барина, обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина, а рядом — граф Лаваль. Всё сады, сады, каштаны и липы. Летом дух необычайный… А нас, людей крепостного звания, не перечесть: и официантов, и егерей, и арапов. Арапы — в раззолоченных ливреях служат за столом, аки перед особой турецкого султана, и играет наша знаменитая роговая музыка. Сорок человек, и каждому — своя нота.
— Как — нота? — удивился Сергей.
— А так. Пройдемте в харчевню, я там все расскажу-с, ежели не наскучит слушать. Харчевня тут, неподалеку. А то садовники здесь убирать начнут, мы помешаем. А кроме того, знобко, — душа просит согреться…
Сергей хотел отказаться, но, почувствовав тоже легкий озноб, согласился.
Чего-чего, а харчевен на окраинах сколько хочешь! На Выборгской стороне, у самого моста, — кабачок с синей надписью и дверями "на два раствора". По бокам — вывески: на одной изображен самовар и бутылки, на другой — булки, баранки и колбаса.
Сергей нахмурился: может быть, близко то время, когда и он будет писать такие вывески, чтобы не умереть с голоду.
Они уселись за липкий, плохо вытертый стол. Нарышкинский музыкант, как человек, видно, бывалый тут, позвал полового по имени и спросил "пару чая со штофом ерофеича" — своего излюбленного сорта водки.
— Будьте здоровы! Чтоб не по последней, Василий Михайлович!..
— Вы обещали рассказать про вашу музыку, — напомнил Сергей.
— Ах, да… Но сие не так просто, сударь, как кажется на первый взгляд. У нас сорок музыкантов и сорок инструментов — труб роговых разных сортов и разных объемов. Каждая из труб испускает только одну ноту по трехоктавной лестнице. И выходит весьма любопытно, даже очень примечательно-превосходно выходит. Иностранцы знатные много одобряют. И еще к тому же диковинно. Так и называют иной раз: "диковинный оркестр". Скушайте еще рюмочку, не побрезгайте угощеньем крепостного человека.
Он чокнулся с Сергеем и продолжал:
— У-ди-ви-тельная музыка! И кто только ее придумал? Получается богатство мелодии, с полутонами, как на фортепианных клавишах, допускающих всякие модуляции во всех тонах. Как бы… Воздушная гармония. Передать словами сие невозможно! А только порой и горько станет… вот как горько!.. — Он ударил себя в грудь и неожиданно всхлипнул. — Я есмь Максим Петрович Бородулин, а имя мое забыли. И сам я часто его забываю… — Он тяжело вздохнул. — Потому иду под музыкальною кличкой "фис". Только что не "брысь", как кричат на кошку.
Сергей заинтересовался рассказом. Бородулин быстро хмелел. На носу его повисла слеза.
— "Фис", сударь, а не Бородулин. И горько мне вот отчего. Мальчонком я был у барина в подпасках и, проходя мимо сада, прислушивался, как на башне приделанные струны сами собою играли. В слуховое окно ветер, а по-господски "зефир", пробегал, разные мелодии, как бы шаля, наигрывал таково-то сладко и нежно, — человеку не выдумать. И захотелось мне на моем рожке так же сыграть. Да ничего не выходило. Я уж и дудочки разные делал, рожки — нет и нет! А скрипку там или арфу где подпаску взять? Не скучно вам, сударь, слушать? Может, в музыке вы не видите того небесного дара, что я вижу?
— Нет, я музыку очень люблю, — отозвался Сергей, чертя карандашом на столе профиль Бородулина.
— Вы вот, я замечаю, изрядный живописец, — всмотрелся тот в рисунок. — Меня изобразили, как две капли воды. Жаль, что не могу унести с собой стола: моей старухе было бы утешение, что такого сморчка ученые люди рисуют.
— Расскажите, пожалуйста, дальше вашу историю. Чем вы обижены?
— А вот как было дело, сударь… Одним летним вечером старый еще барин с барыней и дочкой вышли в сад повальяжиться — закатом полюбоваться. Притом же пахло липами, что медом, и от скошенного сена шел такой дух, что голову кружило. А я, подпасок, гони домой стадо и норови заиграть на своем рожке от всего сердца. Барышня услыхала — чувствительная душа, — даже заплакала. Говорит папеньке с маменькой: "Лучше сеи дудочки нет ничего на свете, и я готова ее всю жизнь слушать". Здоровье у барышни было деликатное, нервы самые нежные. Ну конечно, родители все ее желания тотчас исполняли. И меня, натурально, приказали тут же вымыть, приодеть и в дом привести. Стали учить музыке и в комнаты к барышне брали на рожке играть. Учился я хорошо. Итальянец-учитель, бывало, не нахвалится. На нескольких инструментах играл. Скрипку досконально изучил. Скрипки всех старых знаменитых мастеров в руках держал: у барина была коллекция. Канифоли всякой сорт знал, какой лучше смычок натирать. Даже чинил скрипки высоких мастеров. На настоящем Страдивариусе игрывал. А также Гварнери, скрипача итальянского… И пуговку, и подгрифник — все, бывало, налажу. Бочки клеил у разбитых скрипок; нижнюю и верхнюю деку
[146] по весу на руке определял. Колки на грифе подкручу так, никогда не сфальшивит.
— Ну и что же? — торопил Сергей, вспоминая судьбу Егорыча. — Заставили вас быть лакеем, камердинером, конюхом, столяром?..
— Нет, зачем? Музыкантом так я и остался. Только в ту пору умер старый "фис". И меня в "фиса" определили. С тех пор только одну нотку вот и тяну. Извольте выслушать!
Бородулин вытащил из кармана камертон, стукнул им о стол и, выпятив губы, тонким голосом протянул одну ноту. Потом горько рассмеялся:
— Вот и вся моя история!
Горло Сергея сдавила спазма. Куда уйти от тоски, от бесправия, что губит искру таланта?
Бородулин продолжал:
— Попал это я раз с товарищем в полицию, — подрались пьяненькие… Вином-то я иной раз обиду свою заливаю, сударь… В полиции нас и спрашивают: кто такие? А мы имя свое, фамилию не говорим, а твердим одно: "Я — нарышкинский "у", а я — нарышкинский "фис". Это вместо христианских-то имен, каково, сударь?.. А разве без смысла она, что ли, эта роговая музыка, когда душу и легкие теребит?.. А только нередко чахоткой от нее умирают. Другие музыканты живут, а мы помираем. Вот и тот "фис", что до меня у барина был, тоже от нее помер. И у меня самого изнутри кровь хлещет порой… Да что с вами, сударь?
Сергей сидел, закрыв лицо руками. Потом заговорил порывистым шепотом:
— Я тоже… понимаешь… тоже холоп…
Бородулин недоверчиво покачал головой:
— Какой вы, сударь, холоп? Из холопов, кто половчее, выходят и в люди. Вы вон как рисуете! И одежа на вас барская, и руки барские.
— Я холоп… беглый холоп… — с отчаянием повторил Сергей. — И сейчас не знаю, куда приткнуться, где зимовать, как укрыться, спрятаться, на что жить…
Бородулин внимательно посмотрел на Сергея. Хмель его разом точно исчез. Он задумался немного и начал нерешительно:
— Есть тут одно дельце, сударь. Может, вам и кстати будет. Со скуки наш брат везде шляется в свободный часок. Ну и я когда — в кабак, а когда — в балаган. Свел я знакомство с самим балаганщиком. Он по разным городам кочует. У него акробаты, фокусники — змей глотают, ножи, огонь и всякую всячину…
— Что вы говорите? Я же ничего такого не умею.
— Можно что и другое. Вон, поглядите, и плясун здесь от него… Вы вот как скоро меня нарисовали. Так, может, у балаганщика, под музыку, малевать стали бы минутою? Занятно было бы, и денежки получили бы немалые. Хотите, свожу?
Сергей с отчаянием выкрикнул:
— Ведите хоть к самому черту!
— А может, вам, сударь, и впрямь чертом придется нарядиться, как станете малевать под музыку. В балагане любят всякие образины. Хвост и рога.
— Ну конечно, хвост и рога! — захохотал Сергей, вспомнив рожу на своей картине. — И язык высунуть? Да? Да?
— Вот именно, все для забавы публики. А позвольте узнать, — Бородулнн нагнулся и спросил, озираясь, — а паспорт у вас имеется, хотя бы фальшивый?
— Есть.
— Это хорошо. С паспортом ты сам себе хозяин. А без него и балаганщик, и всяк, кому не лень, может в бараний рог согнуть.
— Дали, дали добрые люди… — шептал Сергей в каком-то беспамятстве. — Есть все же люди, а не звери на свете… Вот и вы… вы…
— Ну ладно, пойдемте. Только прошу вас одно: не думайте, что я могу быть доносчиком. Этого никогда себе не позволю. И потому не хочу ничего о вас больше знать: ни каких вы господ, ни все такое…
…В тот же день, поздно вечером, Сергей зашел к Лучанинову. Тот, казалось, не удивился, только внимательно посмотрел на приятеля.
— Иди прямо в мастерскую, — сказал он. — Мишка, правда, спит. Он часто теперь спит, видно, слабеет. Хотя врачи говорят: такой может прожить десятки лет. А разум стал совсем детский. Боюсь, ты скажешь что-нибудь лишнее, а он услышит, проснувшись, и проболтается. Но ночевать у меня можно. Мишка не ходит в мастерскую, злится на мою "мазню". И дверь я к себе из передней пробил другую.
В мастерской было тепло. В камине еще трещали сухие поленья.
— Для Мишки затопил. Все ежится, зябнет, а топить у себя не позволяет. А отсюда к нему идет теплый воздух. Ты с чемоданом? Может, подольше останешься жить? Или едешь куда?
— Еду, — коротко ответил Сергей.
— Куда?
Сергей замялся. Лучанинов не стал расспрашивать.
— Хорошо, что пришел проститься. Едешь и не знаешь, поди, когда вернешься. Денег тебе, может, надо? У меня найдутся. По приезде, как устроишься, напиши непременно. А то пропадают люди: уедут и провалятся…
Помолчали.
— Денег мне не надо, спасибо, — с трудом выжал из себя наконец Поляков. — А ночевать, если можно, останусь.
— Вот и хорошо. Ты чего тоже дрожишь? На улице разве холодно? Сентябрь только…
Сергей молчал. Хмель у него давно прошел, но Лучанинов слышал запах водочного перегара.
— Пить стал, Сережа? — спросил он мягко.
— Ну и что же? Многие пьют. Да я редко…
Лучанинов снова пристально посмотрел на него.
Сергей откашлялся и, подойдя к другу вплотную, отчетливо проговорил:
— Я нанялся в балаган рисовать под музыку, в костюме черта, и должен сделать маску с рогами и высунутым языком. На днях уеду, куда повезет меня хозяин. А теперь дай мне спать, я устал.
VI. ЕЩЕ ПОПЫТКА
Прошло больше трех лет. Была середина декабря. По московскому тракту к Петербургу медленно двигался обоз с продовольствием — ежегодная дань деревень своим помещикам к рождеству. Из-под рогож торчали окостенелые ноги освежёванных баранов и телят, болтались головы битой птицы, громоздились мешки, и тусклыми глазами смотрели поверх них замороженные рыбы рядом с кадочками масла, пластами сала и белыми, молочными поросятами.
Когда лошади шли в гору, возницы соскакивали с саней и, шагая подле, вязли валенками в заснеженной дороге с темневшими колеями. Обсуждали, где "сподручнее" пристать.
— К вечеру приедем, на постоялом придется заночевать. Господам не любо, как в ночь приедешь. У нас господа строгие. Графский нрав, известно, сурьезный.
— А наш хоть и из купцов, а пожалуй, и в ухо двинет, как середь ночи во двор вкатишься. У них и собаки больно злые, верно, с цепи спущены. И своего-то, пожалуй, разорвут. Тебе, мил человек, куда?
— Да мне все равно: на постоялый так на постоялый.
Человек в дубленом полушубке, примостившийся на одном из возов, говорил усталым, безразличным голосом. По его согнутой спине, темной бороде, заиндевевшей серебристым налетом, трудно было определить возраст. Вещей у него было немного: чемодан да обвязанный веревками пакет. Человек был равнодушен и спокоен: он понимал, что в нем трудно узнать бывшего ученика Академии художеств Сергея Полякова.
Смеркалось. Впереди с шумом поднялась стая галок и полетела в сторону. Показались маленькие, ушедшие в сугробы, домики петербургской окраины.
— Ну вот, аккурат этот самый постоялый. Здесь — чего только душенька твоя пожелает! И хозяин и хозяйка преуважительные. Середь ночи печку истопят, и накормят, и напоят, и спать уложат по-христиански.
Уверения оправдались. Как только залаяла собака, послышался окрик и старческий голос приветливо спросил:
— Заезжие люди, никак? Милости просим, кормильцы. Не побрезгайте нашим домком. Цыц, Полкан! Встречай, хозяюшка, принимай гостей. Лошадушек-то во двор бы поставить.
На крыльце висел веник — обычный знак заезжей харчевни. Двор был просторный: изба — тоже большая, с теплыми полатями. Все еще заманчиво пахло щами и горячим хлебом. За печкой уютно трещал сверчок, и по стенам, в свете лучины, домовито шмыгали тараканы.
Возчики слезали с возов, осматривали, крепко ли привязаны деревенские посылки, проводили, чмокая, лошадей и устанавливали их на крытом дворе.
Случайный седок, попросившийся к ним на воз около Москвы, вошел в сени вместе с другими. Отряхнув с себя снег и похлопав рукавицами, он затопал обледеневшими валенками. Хозяин принял его за купеческого приказчика.
— Пожалуй в избу, в красный угол, почтенный. Не хочешь ли щей горячих со снетками? Ведь ныне рождественский пост, не скоромимся.
— Спасибо, налей хоть щей. Да нет ли у тебя…
Старик лукаво подмигнул:
— Согреть душеньку с дорожки, с устатка? Как не быть! Тем и живем. Жена! Пелагея! Принеси-ка графинчик.
Сергей выпил и закусил, потом достал из чемодана подовый пирог с вязигой и угостил хозяев. Старик выпил вместе с проезжим и стал на него поглядывать с явной симпатией.
Когда жена, взяв чадящий фонарь, ушла, а за нею отправились на двор, к лошадям, и трое возчиков, он спросил:
— Ты, почтенный, сам-то из Москвы будешь?
— Угу.
— На Москве-то у вас все ли тихо?
— Угу.
Проезжий, видно, был не из разговорчивых.
— А… а про бунт у вас не толкуют?..
— Не слыхал.
Сергей понял, что хозяин собирается у него что-то выпытать, но не слишком еще доверяет.
— Да и то сказать, — начал снова старик, — чего людям на-доть? Трудолюбец всяк себя прокормит… А тут ходят всякие, мутят, а все, видать, без толку. Потому закон забывают: власти предержащей каждый покоряйся.
Сергей устало отмахнулся:
— Не каждому удача!
Старик придвинулся ближе.
— Ее за хвост надо, удачу-то! А то зря только мутят людей. Я по-доброму упреждаю. Едешь ты в наш вертеп — столицу, где всякого народа насыпано, что песку. Одним словом, Санкт-Петербурх, и все тут! Будь, говорю, осторожнее и не со всяким встречным путайся. Вижу, ты человек больно хороший, обходительный…
Он покосился на вещи проезжего. Чемодан барский аль купеческий, не мужицкая укладка, хоть гость и в полушубке.
— Да чего мне опасаться-то?
Старик шепнул Сергею в самое ухо.
— Ведь государь-то… Александр Павлович помер…
— Ну кто ж того не знает?
— А ты рассуди. Ныне у нас уже тринадцатое декабря. Государь помер еще двадцать седьмого ноября. Одни спрашивают: где Константин, брат евонный? Пора бы ему присягать, Константину. А он сидит себе будто в Польше наместником тамошним. Другие болтают, что присягать будут вовсе не ему, а младшему брату — Николаю. Смекаешь?
— Да чего смекать?
— Вот простота! — удивился хозяин и пригнулся к проезжему еще ниже. — Что оно теперь выходит? Два государя: один — Константин, другой — Николай… Иные толкуют даже, будто великий-то князь Константин Павлович, государя покойного природный наследник, в какое ни на есть платье переоделся и по дорогам бродит, везде все слушает, расспрашивает: хочет знать, каково желание народа. Его ли принять аль брата Николая? Вот увидали бы, скажем, тебя и подумали бы, право слово, что ты и есть он самый Константин. Переоделся нарочно в мужичий тулуп и промеж народа бродишь. Вот ей-богу!
Сергей засмеялся:
— Вот на! Да лицо Константиново где у меня?
Хозяин с оглядкой вынул из-за божницы на днях, видимо, отпечатанный портрет — изображение некрасивого курносого человека в треугольной шляпе — с подписью: "Император Константин Павлович", и показал проезжему.
— Похож на меня? — спросил насмешливо Сергей.
— Кажись, не-ет, — подтвердил хозяин. — Да вот толкуют еще: будто Константин холопам волю обещал, а солдатам — облегчение… — Он вдруг подозрительно оглядел собеседника: — А кто ты есть такой, на самом деле, почтенный? Я ведь говорю не свое… а что только краем уха слыхал. Дорога проезжая, разный люд бывает…
Сергей пожал плечами: снова эти несбыточные слухи, о которых говорил когда-то Лучанинов.
— А мне что? Я слышать не слышал и видеть не видел.
Это было сказано так равнодушно-спокойно, что хозяин уверился окончательно. А ему так хотелось вылить из себя все, как из переполненного до краев ушата.
— Проезжая дорога, известно!.. — начал он снова. — Она россказнями кого хочешь накормит. Вот и еще: дней с пяток, а то и с неделю тому, сказывали, проходили по Питеру солдатики… А офицеры, — он опасливо посмотрел на дверь, — а офицеры будто и говорят им: "Скоро, братцы, воля. И вы крепко за нее, за волю, стойте. Солдатам будто заместо двадцати пяти лет служить всего пятнадцать. А крестьянам — свобода полная". — Он придвинулся вплотную к Сергею. — Ведь, мил человек, я к этому тож причастен. Скажем, я постоялый двор держу и оброк своему барину плачу огромаднейший… А выйдет воля — сам себе голова! И по деревням, говорят, из-за этого самого бунты. То тут, то там. Слыхал?
— Слыхал. Пустое все!..
Звякнула щеколда двери, и старик хозяин разом перевел разговор:
— Ну, коли хочешь, полезай на полати. А мы с женой — на печке. А не хочешь, на лавке постелем. Для хорошего человека и перины не жалко.
Сергей лежал на хозяйской перине, слушал песню сверчка, шуршание тараканов, вой ветра за окном и храп спящих кругом людей. Его одолевали думы.
Предстояло устраиваться по-новому. Балаганная карьера надоела до смерти, да и становилась опасной. Под Саратов, куда занесло его хозяина, приехали в одно из своих дальних имений Благово. Их челядь начала приходить в балаган. Выходя раз из боковых дверей, он чуть не столкнулся лицом к лицу с бывшим поваренком. У поваренка не было денег, и он повадился смотреть на представление в щелку. Поваренок мог узнать Сергея, встретив без грима и шутовского наряда. Да и другой кто из слуг мог его выследить.
Сергей решил податься на север, в давно знакомые места.
Теперь он лежал и думал. Где-то смутно маячила память о той далекой блаженной жизни в творчестве. Чувство влюбленности в работу, когда забываешь обо всем, кроме желания схватить образ и как можно глубже, как можно шире развернуть общий замысел. Когда не спишь по ночам от нахлынувших размышлений и когда не хватает часов у дня. Тогда не страшен ни голод, ни несчастье, ни одиночество, ни злоба людская. Тогда делаешься свободен духом, несмотря ни на какие путы. Потому что нет силы на земле, чтобы сковать мозг. Мозг, рождающий идею и связанный с нею образ.
Как давно он этого не испытывал! Как давно ведет жалкое существование, малюя изо дня в день скверные пейзажи и портреты зрителей "в три минуты", под звуки пошлой шарманки. Портреты отдавались заказавшему. Хозяин балагана брал деньги за них себе и отделял "черту" известный процент. Потом деньги обычно пропивались в кабаке. Сергей стал много пить и часто бывал пьян. От водки рука не делалась тверже и мысль не становилась глубже.
За свой номер "черта-живописца" он получал больше, чем рыжий клоун "у ковра". Это вызвало зависть. Однажды хозяин придумал новый трюк. Сергей должен был рисовать "по памяти", высоко под парусиновым потолком балагана и спускать портреты в публику на хвосте. Обозленный неудачами
клоун заранее подпилил в нескольких местах лестницу. "Черт" сорвался и повредил себе спину. Некоторое время он пролежал, не получая своих процентов. А когда вышел наконец на работу, сделался "горбатым чертом", — стройная фигура его сгорбилась. И это сделалось еще занятнее для зрителей.
Когда Сергей проходил теперь по балагану, придерживая одной рукой хвост, а другой — палитру, публика громко хохотала, а мальчишки озорно кричали:
— Черт! Черт! Горбатый черт!..
После встречи с поваренком Сергей взял у хозяина расчет. Балаганщик предлагал сначала прибавку, потом стал грозить неустойкой через суд, но Сергей быстро собрался и почти без денег отправился в далекий путь.
Он решил поехать в Псковскую губернию. Страстно захотелось в Петровское, где восемь лет назад он провел с друзьями академические каникулы. Если жив сам Елагин, его непременно примут. И он сможет работать по-настоящему. От такой надежды у него радостно захватывало дыхание.
По дороге Сергей вздумал заехать в Москву и Петербург. Он знал, что в Москве можно увидеть прославленного Тропинина: ведь тот получил наконец вольную и звание академика! Имя художника гремело уже и за границей. К нему совершали паломничество молодые живописцы.
Сергей тоже пойдет к Тропинину. Поговорит с ним, посоветуется, сделает попытку стать на ноги. Возможно, не все еще потеряно. Большой мастер, сам вышедший из крестьян, поймет его и поможет творчески подняться.
До Москвы Сергей добрался где пешком, где в обозах. Узнав адрес знаменитости, он отыскал у Каменного моста дом Писарева с подъездом, который вел в квартиру Тропинина. На двери виднелись многочисленные надписи, сделанные мелом: "Был скульптор Витали", "Был Соболевский". "Был живописец Сибилев", "Заходил и не застал. А. С. Добровольский"… Были и росчерки титулованных: "князь Гагарин", "князь Оболенский…" Не заставали и расписывались.
Дребезжащий звонок. Передняя с небольшой вешалкой и даже без зеркала. Низкие потолки. Жена художника, простая женщина, повязанная по-деревенски платком.
Проста и мастерская. Нет ни мягкой мебели, ни дорогих занавесей, ни клавесин, ни мраморного камина со статуэтками и бронзовыми массивными часами, как у модных художников. Единственное украшение — картины самого хозяина, тоже без пышных рам и позолоты. Скромная комната напомнила Сергею рассказы побывавших за границей профессоров Академии о жизни мастеров старой Италии.
Переступив порог, Сергей почувствовал, как у него сильнее забилось сердце. Он понял всю силу этого таланта, познавшего не только мастерство, но победившего самоё жизнь, сумевшего
с мудрым спокойствием подняться над всеми ударами судьбы крепостного.
Охваченный волнением и сутулясь еще больше, Сергей остановился и посмотрел исподлобья на человека, стоявшего к нему спиной. Ему были видны мягкие седины волос, падавших на ворот простой русской рубашки. Человек обернулся, держа палитру и указывая муштабелем на небольшую картину на мольберте. Начатая было фраза замерла у него в губах.
— Вот, Василь Андреевич, гостя к тебе привела.
— А я думал, это Арсений, — ответил художник жене. — Сын у меня Арсений. В ваших годах, пожалуй, будет.
Он обращался к Сергею так, будто видел его не в первый раз.
— Пожалуйста! Всякому рад, кому до меня случится надобность. Снимай-ка, милый, тулуп да проходи поближе поглядеть сию пробу кисти. Вот учу паренька уму-разуму.
Тропинин показывал на стоявшего поодаль пятнадцатилетнего мальчика в синем халате.
— Вот адресую. Мой ученик — Ваня. Он мне своего архангела Михаила доверил, которого именует копией с Рафаэля Санцио. А я ему толкую: Рафаэль Рафаэлем, только он кривого лица не писал. Значит, и Ване надо лик выправить.
Мальчик смущенно косился то на Тропинина, то на свою работу.
— Ты не робей, Ванек! Кривое лицо выправить можно. Вот кривую душу выправить труднее. Ваня у меня нежданно-негаданно появился. Сперва был он учеником гробовщика. А как потянуло к краскам, стал учеником богомаза… Хочу направить его на настоящую дорогу. И, думаю, удастся. Паренек любит живопись сильно. Надобно, чтобы и живопись его полюбила. Увидел я раз у богомаза, как он малюет святого Николу-чудотворца, да все флейсом, флейсом, — ну и взялся за него. Теперь приходит ко мне аккуратно, как только найдется время. На сегодня, Ваня, довольно Убери архангелу кусочек щеки, как показано, и приходи во вторник. Утро вечера мудренее.
Тропинин ласково улыбнулся. Юный иконописец стал собираться домой.
Сергей остался с глазу на глаз с художником.
— Садись, — сказал Тропинин. — И я сяду. Старею. Ноги уставать начинают. Откуда прибыл? Кто таков? Зачем пожаловал?
Зоркий взгляд смотрел, казалось, в душу, ища и находя в ней все самое лучшее, светлое, все положительное. Сергей понял это и радостно засмеялся. На него волною нахлынуло восторженное, захватывающее желание рассказать свою жизнь без остатка, все, что таилось на самом дне измученного невзгодами сердца.
Откровенно и просто выложил он Тропинину всю подноготную, не утаив ни одной мысли, ни одного чувства.
Тропинин слушал молча, не перебивая. Ни тени не появилось на его ясном лице, ни искры изумления в глубине внимательных глаз.
— Та-ак! — сказал он, когда Сергей кончил. — Трудная, торная дорога, верно. Но спотыкаться все же не след. Волю-то я и сам получил, дружок, только два года назад. А сын Арсений и посейчас крепостной.
Сергей даже вздрогнул от этих спокойных, безжалостных слов.
— Все надеюсь, что выкуплю сына. Пока что плачу за Арсения оброк. Ну-ка покажи, что у тебя с собой из работ. Много не надо. Иной раз и по одному рисунку можно понять.
Сергей вынул из принесенного свертка несколько рисунков. Тропинин обстоятельно рассмотрел каждый из них и сочувственно покачал головой.
— Вижу. Понимаю. Талант! Вот он, светится, горит, искрится в каждом штрихе, в каждом блике. Да-а! Да! А тут вот уж не то, горемычная ты душа, тут пошел туман… Вяло, смазано. Идешь, как по заученному, не оглядываясь. Тут уж и вовсе запутался… И рука не та.
Он поднял на Сергея глаза и почти строго сказал:
— Встряхнись, пока не поздно! Не себя топчешь, а дар, великий дар природы. Ну с паспортом у тебя неладно — это так… Ступай в глушь, где никто паспорта не спросит. Подтянись, накопи сил и… махай во всю мощь и ширь. Куда едешь сейчас-то?
— В Петербург.
Тропинин поморщился.
— В Петербурге спят долго. А в Москве до первого часа можно наработаться вдоволь… — Он усмехнулся. — Меня, как назначили в академики, звали остаться в Петербурге и заказов надавали кучу. Да я побоялся остаться. Был я с рождения под началом и опять бы пришлось подчиняться: то Оленину, то тому, то другому… Город-то хорош, ничего не скажешь!.. Сокровище бесценное, да люди его изгадили. От тамошних людей я и сбежал.
Он снова перебрал рисунки.
— Сказывал ты, друг, что твои работы бывали вельможами любимы, и профессора тебя хвалили, и медаль ты получил. Значит, было за что. Да и по штриху это видно. А вот свихнулся… Некрепко стоишь на ногах. И по лицу вижу, с вином знаешься.
Вино надо бросить. С этого и начни. Отрезви душу, укрепи тем глаз и руку. Так!..
Тропинин задумался, потом заговорил тихо и проникновенно:
— Иные портретисты думают: вся сила в том, чтобы портрет был схож, и все тут. А разве в одном этом задача? Нет, верность нужна не только такая. Нужно в душе человека найти то, что скрыто от людей. Выворотить человека как будто наизнанку. Но гадость какую-нибудь оттуда тащить не стоит, гадость-то у всякого найдется… А показать то, что у человека лучшее, что красит его, возвышает и что согреет других. Бичевать-то порок куда легче, чем дорогу к свету указать. Топтать-то не трудно. Ценнее — поднять. Созидать, а не разрушать.
Сергей счастливо улыбался. Ему казалось, что от Тропи-нина исходит внутренний свет. Глаза художника стали совсем молодыми. Ласковое, проникновенное лицо вырисовывалось, как на портрете, написанном нежными пастельными тонами. Многогранный мыслящий творец! Как его сразу почувствовал Сергей. И как понят им сам…
— В работе, по-моему, — продолжал Тропинин дружески, — важен первый присест. Впоследствии натура соскучится, и это скажется на твоем же рисунке. Я частенько пишу после на память, подмалевывая голову и руки "искрасна". Сперва нужна кровь, а затем уже — верхние покровы. Все внимание держу на лице натуры. Платье пусть разделывает портной. Понял, друг? Или иначе как мыслишь?
Сергей не сводил с него взгляда.
— Я слушаю вас, мне некогда сейчас мыслить.
Тропинин засмеялся и похлопал легонько посетителя по руке.
— За сюжетом, по-моему, тоже не стоит особо гоняться. Сюжет всегда найдется — он вокруг нас. Не стоит задаваться чем-нибудь уж чересчур возвышенным. Душа человека — возвышенная цель сама по себе. И за красками не гонись, за их эффектами, не щеголяй ими зря. Бери краски самые немудреные, из москательной лавки. И сам их растирай. Не верь никаким лакам, никаким гарантиям прочности, это все изменники. Разве знаешь, как на эту "гарантию" подействует воздух, раз не сам мешал?.. — Он вдруг спохватился. — Да постой, соловья баснями не кормят. Сейчас у меня обед. Пойдем, отведаешь наших щей и каши. Может, и переночуешь у меня? А денег не надобно ли?.. Хватит? Смотри, так ли?.. И помни наш разговор: твердо шагай по любимой живописной дороге. А пока идем к столу.
VII. ДОБЫТЧИКИ ВОЛИ
Ранним тусклым утром обоз въехал в столицу. Слегка морозило, но Сергея знобило от волнения. Снова он в любимом прекрасном городе.
Недалеко от Гороховой улицы возчики остановились. Сергей расплатился с ними. Невелик был груз чемодана со свертком рисунков, и он широко зашагал в сторону Васильевского острова. Надо попытаться увидеть старых друзей… Может, еще живы. А живы, так, верно, на прежней квартире. Лучанинов — домосед, человек привычки.
Сергей с удивлением оглядывался. Улица имела необычный вид. Из казарм Московского полка валом валили солдаты Толпа заполняла двор и мостовую. Колыхались знамена. Сквозь беспорядочный гул голосов прорывались отдельные слова команды:
— Стройся, ребята!
— Назад!
— Ружье на пле-чо!
Сергей остановился.
Морозный воздух прорезал звонкий голос офицера:
— Ре-бя-та! Императора Константина Павловича задержали по дороге в Петербург. Гвардию хотят заставить присягнуть великому князю Николаю Павловичу! Ужли пойдете на это?..
В ответ раздались выкрики:
— Не хотим Николая! Не изменим Константину!
От толпы солдат отделился человек и крикнул:
— Кому собираетесь присягать, предатели? Тому, кто незаконно отнял трон у старшего брата?
— Бери знамя, недостойно изменникам нести его!
Началась борьба за полковое знамя. Оно то исчезало, то показывалось вновь над головами солдат. Точно под порывом ветра колебались ощетинившиеся штыки. Барабанная дробь заглушала гул человеческих голосов.
Сергея оттеснили к стене высокого дома.
Выбравшись с трудом из толпы солдат, он пробежал дальше и завернул в трактир переждать и выпить чаю. Сердце у него взволнованно колотилось. Неужели совершается что-то серьезное, о чем говорил когда-то Лучанинов и только вчера намекал хозяин постоялого двора?..
В окно трактира он видел идущие с распущенными знаменами военные отряды. В самом деле, кажется, бунт.
Сергею не до чая, он снова среди толпы. Что происходит в Петербурге? Всюду множество людей разных званий, по-разному одетых, с испуганными или озабоченными лицами. Какой-то человек в военной форме бежал от казарм Гвардейского экипажа. За ним гналось несколько матросов. Они кричали:
— Мутить народ вздумал? Присягать велено Николаю, а не Константину.
— Стой, стой, вашбродь!
— Да он вовсе и не офицер, братки!
"Бунт, — окончательно понял Сергей. — Бунт за волю! И начинается он с военных. Ведь если восстанут петербургские солдаты, за ними восстанет и вся русская армия!.. А сила-то вся народа — в войсках!"
Но где они, освободители? Как найти их? Как слиться с ними, стать в их ряды? Всегда далекий от реальной жизни, Сергей не знал, кто они, эти передовые смелые люди. Может быть, он и встречал их прежде. У Федора Петровича Толстого, например, велись иной раз вольнолюбивые разговоры.
Солдаты прошли, и улицы затихли. Замелькали чиновники, мастеровые, торговки, досужие люди, няни с детьми, закутанными в теплые шубки, деревенские мужики с котомками на плечах. Изредка попадались барские возки, обитые внутри медвежьим мехом, кареты с гербами…
Сергей остановился и невольно засмотрелся на город, в котором не был, казалось, века. Налево — Сенатская площадь. Под солнцем ясного морозного дня четко вырисовывается контур памятника Петру. Справа — шпиль Адмиралтейства горит огненным блеском. Из-под арки, где помещается морской музей, выходят люди, глядят в сторону Сената и прибавляют шаг. Вместе с другими Сергей поспешил туда.
Людей все больше и больше. Они бегут, заполняя площадь.
Какой-то мальчишка визгливо выкрикивает:
— Солдаты бунтуют!..
— Я тебе побунтую, — бросает ему вслед человек в огромном картузе лабазника.
Но мальчишка уже возле застроенного лесами Исаакиевского собора, у поленницы дров. Он влезает на нее, чтобы лучше видеть. Кругом — густая толпа. Из соседних улиц и переулков вливаются все новые и новые войсковые части.
Разноцветные мундиры, разнообразные кирасы, кивера, султаны, как на параде, наполнили всю площадь. Сведущие люди называли полки и объясняли, какие из них за Константина и волю и какие за Николая, а значит, против воли. С волнением произносили фамилии: Рылеев, Бестужев, Каховский, Кюхельбекер.
Рылеев? Бестужев? Неужели они? Сергей встречал их у Толстого. Встречал, но ничего не знал, не догадывался даже! Они командуют теперь бунтующими солдатами. Вон, вон — такое памятное нервное лицо Рылеева! Надо подойти к нему, напомнить о себе и попросить взять в ряды бойцов за волю. Но Рылееву сейчас не до него. Сергей пойдет к нему завтра. "Добытчик воли" не может выдать его.
Мороз крепчал. Солдаты дрогли в тонких мундирах, и люди в толпе тоже переминались с ноги на ногу в ожидании чего-то решающего.
Солдаты резко разделились наконец на два лагеря. И волна приветствий заглушила все звуки:
— Ура, Константин! За волю!.. За волю!..
— Как это так: "Ура, Константин"?.. — слышит Сергей возмущенный тенорок старика в затрепанной шинели, потрясающего бумагой. — Я уже и стихи ко дню восшествия на престол государя императора Николая Павловича написал. Вот! Извольте, судари мои, выслушать…
Старика грубо оттеснили.
Где-то раздался одинокий выстрел.
Кругом заволновались, закричали:
— Убили! Кого убили?..
— Матушки, караул!.. — истошным голосом завопила какая-то монашка и стала протискиваться сквозь толпу.
— А ты бы не ходила куда не звали, святая душа на костылях! — загоготал работник с пилою за спиной.
— Братцы, сказывают, убили генерал-губернатора!
— Неужели Милорадовича?
— Вон, гляньте! — Маляр указал по направлению выстроившихся в каре солдат Московского полка.
Сергей увидел вдали лошадь, а на ней генерала в одном мундире, с голубой лентой через плечо. Он лежал головой на шее коня. Треугольная шляпа съехала, кровь заливала пышный белый султан.
— Гене-ра-ала убили-и! — возбужденно визжал на поленнице мальчишка. — Крови-то сколько, крови… Страсть!..
Люди вставали на носки, чтобы лучше видеть. Толкотня и давка спирали дыхание. Глаза застилал морозный туман.
Сколько же прошло времени? Холод все сильнее. Ветер рвет перья на шляпах офицеров. Люди хлопают себя по плечам, чтобы согреться, переминаются, топочут ногами, но упорно ждут.
Вдруг какое-то резкое движение в толпе и неистовый крик:
— Сейчас будут стрелять! Бунтовщики не хотят складывать оружия!
Площадь разом замирает. Долетает команда:
— Пальба орудиями по поря-адку! Правый фланг — первый!
Застрявшая в толпе монашка снова вопит:
— Убьют ни за что! Господи, помилуй. Микола милостивый…
— Подайся, дура, назад, авось цела будешь! А мы постоим за матушку-Расею и волю! Давай-ка лом, молодчик!..
Рослый сбитенщик, скинув с плеча жбан, выхватил у рядом стоявшего дворника лом и начал выворачивать из мостовой камни. За ним потянулись и другие: мастеровой, маляр, разносчик. Сбежались мальчишки и затеяли нешуточную игру, кто наберет больше камней, кто лучше прицелится. Намечали орденские ленты, шляпы, головы и крупы коней. Собрали кучу булыжников, рассыпали поленницу.
Пальник у орудия или не понял приказа, или не решался стрелять в своих же русских солдат. Уже немолодой, он, верно, знавал настоящие сражения с врагами и теперь колебался. После нового грозного окрика он нехотя взялся за пушку.
Гулко раскатился первый орудийный выстрел. И вдруг все смешалось перед Сергеем. Он стоял одиноко, с чемоданом в руке, выронив сверток рисунков. Кругом падали люди.
Под огнем пушечных выстрелов солдаты выстроились в новую колонну и двинулись по льду через Неву к Петропавловской крепости. Там, под прикрытием крепостных стен, они собирались начать переговоры с Николаем Павловичем. Но картечь то и дело вырывала из колонны новых людей.
Как Сергей очутился на льду, он не помнил. Стоял посреди Невы, у полыньи, а позади продолжали бухать орудия. Рядом слышались крики и стоны.
Колонна военных редела и снова упорно строилась среди широкого снежного простора. За солдатами беспорядочно бежала толпа. В пороховом дыму и морозном тумане смутными силуэтами вырисовывались кивера, простые треухи, шапки и картузы безвестных добытчиков воли. Солдат отличали лишь качавшиеся над ними острия штыков.
— To-нем! Спаси-ите, то-онем!..
Сергей увидел широко разлившуюся темную воду полыньи и вокруг нее окровавленных людей. С разбега они не замечали водяной пропасти и, попав в нее, старались выбраться. Выстрелы заглушали треск льда, всплески воды и хриплое дыхание утопающих.
Другие, миновав ледяные капканы, неслись напрямик, проваливаясь в сугробы, обивая ноги о бугры обледенелого снега. Бежали к Васильевскому острову. Следом за ними рванулся и Сергей.
Точно в бредовом сне, все жутко и неясно. Что это? Знакомое здание… Она — Академия. Толпа бросается вместе с солдатами к ней.
— Дьяволы! Они заперли ворота!
— Чертова ловушка!
— Братцы! Братцы!..
Люди метались, жались к зданию. А с Румянцевской площади их уже настигал посланный Николаем в обход кавалерийский отряд.
— Сбивай ворота! — в бешеном отчаянии крикнули в толпе.
И под напором людей прочные оленинские ворота затрещали, готовые соскочить с петель.
Но налетела конница. Засверкали сабли. Опять полилась кровь. Тяжелый удар обрушился на Сергея. Он упал ничком и потерял сознание.
Ранен или просто сильно расшибся? Ноет тело, болит голова. До груди нельзя дотронуться. И ноги на морозе одеревенели. Но крови не видно.
Где же люди? Никого. Успели, значит, разбежаться… Нет, вон лежит, разметавшись на снегу, неподвижное тело с восковым лицом. Сергей подполз к нему. Мертвый! В синих сумерках едва видны закатившиеся зрачки убитого солдата. Воет ветер, наметает сугроб на окоченевший труп, на чью-то оброненную рукавицу, на откатившийся кивер мертвого. Сергей с трудом поднялся.
Послышалась четкая дробь шагов. Возле гранитных перил набережной прошел патруль, не заметив Сергея. И снова — мертвая тишина.
Куда идти? К Лучанинову? Слишком далеко, — туда не дотащиться. К бывшему хозяину квартиры — Васильеву? Тоже нет. Жена его добрая, отзывчивая, но любит поговорить "всему свету по секрету". Да и напугаешь, пожалуй. К натурщику Агафоподу в подвал? Когда-то Сергей откопал знаменитого красавца в бане и помог в новой карьере. Но вспомнит ли его Агафопод? Да и не опаснее ли довериться ему, чем Анне Дмитриевне?
К Толстому Федору Петровичу? Он живет теперь в самом здании Академии. У него профессорская квартира. Уж Толстой, конечно, не выдаст. К нему, к нему! И няня Ефремовна, если жива, крепкая старуха, всем в доме верховодит. Она пожалеет по-хорошему, по-старушечьи. Ведь привечала когда-то его. И любовь его с Машенькой помнит. Скорее бы добраться!.. Как болит голова, и ноги совсем не слушаются. И проклятая спина тоже дает себя знать. Вечная памятка о черте с рогами и хвостом!
Пришлось долго стучать в ворота, пока наконец открыли. Новый дворник не знал человека в полушубке.
— Чего надо? Нашел тоже время шататься! Страсти какие на улице, а он в ворота колотит.
— Мне к графу Федору Петровичу Толстому.
— Графа нет дома, срочно вызван. Да уходи — ветер с ног валит.
— Я к няне… Матрене Ефремовне… Родня ей… Пусти…
— Коли так, проходи поскорее. Пускать никого бы не след. Давеча ворота чуть не выломали. Ужасти что творится!
Знакомая обстановка. Как в "розовом" доме — высокая постель с горою перин, и на ней ничуть не изменившаяся, такая же прямая, в таком же белоснежном чепце, няня Ефремовна. Та же строгая складка у губ, тот же зоркий, из-под очков взгляд, и спицы с чулком в руках.
— Кто там пожаловал? Не разгляжу в потемках…
В комнате светит только лампадка. Привычные пальцы найдут петли и в полусумраке.
Сергей почти со стоном бросился к старухе.
— Кто такой? Ополоумел аль пьян? Не пойму я, что за парень?
— Сергей… Сергей Поляков, Ефремовна. С бородою я… не признали?
Она не сразу ответила. Лицо было сурово.
— Зачем пришел и где пропадал столько годов?
Сергей не мог говорить, слезы душили его. Это была та, возле которой жила когда-то Машенька.
— Нешто ходят в гости в этакую пору? — спросила Ефремовна отрывисто.
— Не до гостей мне. Приюти.
Она опять помолчала.
— Не знаю, ни откуда ты пришел, ни где скитался. Знаю одно: немца-управителя зашиб и от господ своих убег. Знаю еще: на Машеньку-покойницу сраму навел. Может, и в могилу из-за тебя сошла. Я сама крепостная. И вот что тебе скажу: всяк сверчок знай свой шесток. Терпеть надобно, ежели от бога предел холопства положен. Не один, чай, терпишь!
Сергей стоял на коленях, опустив голову. В глазах у него темнело, он прислонился лбом к краю постели.
— Тебя и впрямь не узнаешь. А приютить я не могу.
На улицах бунт, а я стану неведомых людей принимать, чтобы Федюшку под ответ допустить! И так он легковерный, что младенец, каждому душу раскрывал. Доброты ангельской человек! Кто его ныне устережет от беды, окромя старой няньки?
Она еще помолчала.
— Но ты не бойся, я не доказчица, про тебя никому, даже Федюшке ужо, как вернется, не скажу. А ночевать все же не дозволю. С час тому или больше тоже солдатик этак просился, говорил, не бунтовал, а сам ранен. Начальство будто бы его послало против бунтарей, а они его камнем или ломом хватили, от-биваючись. Я и того не приказала оставлять. Нашла старого белья, рану перевязала, накормила и честь честью выпроводила. Кто его знает, бунтарь он аль правду сказал? Потом попробуй разберись, как полиция с обыском нагрянет.
— Прощайте, — глухо проговорил Сергей и, с трудом поднявшись, взялся за чемодан.
— Больно скор, парень. Постой! Оставить ночевать и тебя не могу, а сразу гнать ослабшего человека тоже не согласна. Ведь и я, чай, православная душа. Накормлю, напою, отогрею, и с богом. А куда идешь и откуда, знать мне не надобно. Не могу я тебя выгнать еще и потому, что Машенька, божий херувим, крепко, видно, тебя любила. Хоть ты и погубитель ее, а все же был ей люб. Часто о том она говорила мне… Сядь, посиди. Да чемодан поставь на пол, авось не пушка в нем спрятана.
Сергей молча опустился на кованый сундук и закрыл лицо руками.
Ефремовна с трудом слезла с горы перин и открыла дверцу печурки.
— Вот тут у меня ужин мой, чтобы не остыл, в тепло поставлен. Ныне пост: каша гречневая с конопляным маслом да кислые щи. А вот и хлебушко. Ешь.
Сергей почувствовал, как голоден, и стал жадно глотать щи ложку за ложкой.
Ефремовна достала из печурки и кофейник.
— Вот тут и кофей старинного рецепту: овес с ячменем и желудями да винными ягодами. Завсегда его для крепости пью. Напейся горяченького, отдохни и пойдешь.
Он выпил кофе и стал действительно как будто крепче.
— Возьми вот пирог на дорогу. И смоквы домашней на меду. И прощай! Не ровен час… Ныне всего боюсь. Стара стала. Да и время такое пришло страшное. Солдатика, говорю, не приняла, раненого. Иди, иди…
— Прощайте, спасибо.
— Да постой, куда ты так сразу? Дай я благословлю тебя: от бед старческое благословение иной раз спасает. Ведь твое дело сиротское, знаю я…
Старуха обняла его, поцеловала и трижды перекрестила.
Сергей поднял голову и прислушался. Издалека глухо и неясно доносились звуки скрипки. Под низкими сводами каморки нежно замирали певучие аккорды.
Ефремовна ворчливо объяснила:
— Президент-то наш всю Академию вверх дном перевернул. Во дворе видел, какие строят каменные палаты? Манеж, где зимой станут писать для театров какие-то де-ко-ра-ции… А летом — лошадей и зверей всяких… И музыке ныне на разных инструментах учат, пению и танцам. Эка дрянь какая, прости господи! В пост на скрипке наяривают, да еще в такое страшное время, беспутные!
Ефремовна перекрестилась и отпустила Сергея.
…Они опять сидели рядом в мастерской, у топившейся печки, всматривались друг другу в глаза и говорили, бестолково, отрывисто. Сергею хотелось "рассказать Лучанинову все, с самого начала, а вместо того он только спрашивал:
— Меня не найдут здесь? Не лучше ли уйти? Не будет ли обыска? Ты видел: везде патрули. Я только до утра…
— Кто-нибудь встретился тебе возле подъезда?
— Никто. Дворник у ворот спал. Да у меня паспорт надежный.
— Это хорошо. Может, и будет полицейский обход, кто знает. Миша, как всегда, спит. Да он тебя, пожалуй, все равно теперь и не узнает, не опасен. А я скажу при случае, что ты мой двоюродный брат. Приехал, мол, незадачливо из деревни. Перепугался до смерти. Я человек тихий, домосед, мне поверят, думаю…
— Вся полиция небось поставлена на ноги, — предупреждал Сергей.
Лучанинов только растерянно развел руками:
— Сам видишь, как все нехорошо с бунтом получилось! Попал ты, брат, в самую что ни на есть кашу. Нашел же время вернуться! Хочешь не хочешь, а придется тебе выждать и высидеть у меня, как в карантине.
Всю ночь они проговорили. Сергей сказал, что собирается съездить погостить к Елагину в Петровское.
— Эх, и написал бы я ему с тобой, Сережа, письмо! — почесал в затылке художник. — Да лучше не надо. Вдруг оно ненароком попадет к кому-нибудь, только тебя погублю. А Елагин, наверное, хорошо тебя помнит и приютит. Он славный человек. В Петровском и без всякого паспорта целые годы жить можно. Ну, Сережа, поешь, да и на боковую. На тебе лица нет.
— Сыт, — отказался Поляков, — да и вас с Михаилом могу угостить.
И вынул пирог Ефремовны. У него разламывалась голова и мучительно ныла больная спина.
На улице продолжала бушевать метель. Ветер раскачивал фонари у ворот и крутил полы шинелей у шагающих патрульных. В белесоватой мгле тянулись вереницы возов. Из-под рогож виднелись головы, руки и ноги мертвецов.
Порою слышался окрик часового:
— Кто идет?
Прохожие были редки.
Горели костры. Возле них стояли пирамидки ружей в козлах. Солдаты грелись.
Новый царь Николай I приказал обер-полицеймейстеру к утру убрать город. На караульные посты командующим офицерам велел подать чай, белый хлеб и закуски. Послушные офицеры оценили милостивую заботу императора и, в свою очередь, приказывали солдатам усерднее уничтожать следы дневной бойни.
И те скребли изо всех сил и увозили с площади окровавленный снег, пробивали толщу льда на Неве и топили мертвецов.
А перед Зимним дворцом все еще настороженно темнели пушки.
VIII. К СТАРЫМ БЕРЕГАМ
Он был неузнаваем, владелец старого гнезда, затерявшегося в глуши Новоржевского уезда. Даже дом, выстроенный лет около ста назад, не так постарел, как его хозяин. В округе Елагина называли уже "старый барин", или "Петровский старик", хотя ему едва перевалило за сорок пять лет. А большинство его прежних товарищей считали себя еще бравыми офицерами.
Елагин встретил нежданного гостя в зальце. На нем был распахнутый знакомый чекмень и маленькая восточная тюбетейка, а в зубах — неизменная трубка. Едва он приподнялся с кресла, с колен его, визжа, посыпались щенята.
Сергея поразило и лицо Елагина, все в мелких морщинах, и по-стариковски согбенные плечи. Тюбетейка сползла немного набок и открыла сильно полысевшую голову.
— Кого бог привел? — спросил Алексей Петрович, всматриваясь.
К нему, видимо, нечасто приезжали гости.
— Колокольчики слышал. Думал, кто — мимо, ан ко мне…
— Не узнаете? Сергей Поляков, художник. Оброс бородой, вот никто и не узнает.
— Кто-о?! — Скуку точно сняло с лица Елагина. Широко раскинув руки, он бросился к гостю и обнял его: — Вот праздник-то ты мне устроил, Сережа! Прямо скажу, нежданный праздник! Как в старое время, когда еще… — из груди его вырвался громкий всхлип, но он поборол себя, — когда жива была моя Параня… — Он засуетился. — Господи, чем я только потчевать дорогого гостя буду? Забытый я, брошенный человек, скудное мое житье, а внутри, в душе, еще скуднее! Пустота… Ну да ладно! Сейчас, сейчас! Все, что есть в печи, на стол мечи… Сашка, позови ключницу, скажи — все, что имею, пусть подаст, да чайку самого лучшего, китайского — "лянсина", что еще твоя мать берегла. И ямщика хорошенько накормить, водочки поднести. Слышишь?
Десятилетний Саша, ничем не напоминавший прежнего упитанного карапуза, в мятой, засаленной рубашке и валенках, побежал исполнять приказание.
Около Елагина остался другой ребенок, лет трех, тоже в валенках, на редкость красивый и похожий на Алексея Петровича. Уцепившись за чекмень отца, он таращил на гостя черные внимательные глаза.
— Вот рекомендую: второй сын — Вася. Дай ручку, Васенька. Да погоди, утру слезы. Дурачок, — нежно сказал он, вытирая ребенка грязным носовым платком, — плакал о щенятах. Собаки да лошади — вот все, что у меня осталось на сем свете с детьми. Жизнь кончена, влачу жалкие, никому не нужные дни.
…Они сидели уже несколько часов, пили чай, что берегла когда-то Прасковья Даниловна для парадных случаев, и подливали в него ром. На столе стояли тарелки с объедками жаренных в сметане карасей, твердого, допотопного балыка, засохшей икры и гуся. Все это подала старая ключница Домна Фоминична, рыхлая старуха в заплатанных валенках, в темной кацавейке и низко надвинутом на лоб платке. Она ушла, уведя с собою детей. Скоро их звонкие голоса послышались за окном, на дворе, где по приказу Елагина была устроена для них ледяная горка.
Наливая рюмку за рюмкой, помещик говорил:
— Вот так и живу. Три уже года заброшен, как умерла Параня…
Он повел рукой, указывая на убожество своего жилья.
В печке трещали березовые поленья. От них пылало жаром, но в огромной комнате было все-таки прохладно.
— Топим, топим целый день, — жаловался Елагин, — а все холодно. И из соседей никто не ездит. На что я им? Заедет разве почтарь или церковный причт в праздник отслужить молебен и пропустить водочки. Дашь им с собой окорок, а то творогу, яиц, масла, сметаны — одним словом, деревенского гостинца, только и было… Налижутся вместе со мной и надолго прочь со двора. А помещики — ни ногой. Как-то раз заехал один, хотел, видишь ли, на ум-разум наставить: женить. Да я его под пьяную руку прогнал. Он мне какие тогда слова сказал! Подумай, Сережа… Страшные, бессовестно-жестокие слова… Тебе, говорит, надо всю эту нечисть — вон! Это детей моих "нечистью" назвал, родных детей, от Парани сиротками оставшихся. До чего, говорит, ты дошел: свинья свиньей живешь и дом у тебя весь прогнил и закоптел, в собачник превратился!
Сергей ласково улыбнулся ему:
— И в самом деле, Алексей Петрович, у вас собачник. При Прасковье Даниловне чистота была изумительная.
— Еще бы! Параня завела полы мыть квасом. А здесь, в зальце да в гостиной, каждую неделю даже воском натирала. Для пыли ей дворовые девочки тряпочки вышивали. "Так, говорила, я их понемногу, с малолетства, приучаю шить и вышивать". А теперь — вот!..
Он снова беспомощно развел руками.
И действительно, пол здесь мели, видимо, в особо торжественные дни. Резко пахло псиной. Собаки, как полные хозяева, уютно укладывались спать на креслах и диванах. Щенята тыкались носами и лапами в плошки с молоком и остатками супа, опрокидывали их, проливали. Трюмо, наддиванные зеркала, люстра с канделябрами были засижены мухами. Из плохо законопаченных окон дуло.
— Так вот и живу, Сережа, — повторил несколько раз Елагин. — Так вот и живу, мил человек. Выпьем еще за упокой души рабы божьей Параскевы…
— Отчего она умерла, Алексей Петрович?
— А умерла глупо, Сережа. Ты же знаешь, ничего я не жалел для нее. Любил всем сердцем. Жена и жена, даром что поп в церкви не венчал. Было у нее под началом немало дворни. Только больно любила покойница зверье. И за скотным двором сама присматривала. Сама и кур кормила, помнишь? А ведь была у нас особая птичница. Так вот. Родила она мне Васютку как раз под самое крещенье. Морозы стояли трескучие. А она, больная, на босу ногу надела валенки да и пошла с постели прямо в хлев, тогда корова телилась. Она всегда говорила: "Ежели я не помогу, один коновал не справится". Ну и помогла: корова разрешилась, и телушка вышла на диво, ныне уж своего теленка к осени принесет… А вот Параня… простудилась… и померла. Стала вся гореть, без памяти… Я доктора на коленях просил спасти. Не спас…
По лицу Елагина катились слезы.
— Вот мы и осиротели, Сережа: я и дети. Ваську я сам из рожка выкормил, ночи не спал. И Сашку ращу как умею. Люблю их обоих, особенно Сашку. Лицом он не в нее, она была русская красавица. А есть в нем ее крепость, смекалка, ловкость. Схож он с ее отцом, с дедом своим. Крепким мужичком растет Сашка, толковым. Васька хилее. Васька от дворянской елагинской крови много взял. Ему бы только на перинке лежать, в кружевах. А Сашка, хоть косу, хоть лом с пилою дай, управится. И топором рубить славно будет, по-дедовски. Только Ваську другой раз жальче, чем Сашку. Сирота, думаю, и материнской груди даже не знал. — Взгляд Елагина был мягок и печален. — Лягу спать — не спится. Все кляну себя: на кой прах я свою жизнь загубил из-за дурацкого дворянского гонора? Почему не обвенчался с Параней, не дал ей быть законной хозяйкой, мою фамилию носить и детям ее передать? Теперь они, дети мои, — мои же крепостные. Ну я, понятно, дам им вольную. А как умру-то, что будет ссор да дрязг. Ведь и на мое разоренное гнездо, на Петровское, налетят "законные" коршуны!..
Сергей задумчиво проговорил:
— Слыхал я, что граф Шереметев на своей крепостной женился, тоже Параней звали. Параша Ковалева — деревенского кузнеца дочка.
— И я про это знаю, Сережа. Самой императрице Екатерине Второй была известна, потому таланта замечательного была сия актерка. Только и она не скоро повенчалась с графом, — вздохнул Елагин. — И вольную всего года за три до этого тайного брака получила. Однако свет и тут не признал ее и в свою стаю не принял. Лишь в гробу, на пригласительном похоронном билете, была она впервые названа "графиней". Но и тогда знать не удостоила бывшую крепостную своим присутствием. Говорят, граф этим так расстроился, что занемог и на похоронах не присутствовал. Гроб с графиней Парашей провожали одни крепостные актеры да знаменитый архитектор какой-то…
— Кваренги, — подсказал Сергей, вспоминая великолепное московское здание вблизи Сухаревой башни — странноприимный шереметевский дом
[147], построенный этим зодчим в память актрисы Жемчуговой — Параши Ковалевой.
— Выпьем еще, Сережа, за упокой души моей Парани…
…Зима уходила, Сергей продолжал жить в Петровском. Елагин не хотел и слышать об его отъезде.
— Ты забудь и помышлять о вояже, милый мой, — говорил он в сотый раз. — Меня ты не объешь, для тебя хлеба хватит. А мне ты все равно что солнца свет. Тебе же здесь безопаснее, чем в другом каком месте. Сюда никакая погоня не доскачет. Здесь паспортов не требуется. Полиция ко мне не заглядывает, а если и заглянет, не домекнется. Ты же учишь Сашку. Изволь то понять, мальчик в тебя влюблен, право, влюблен… Сашка, влюблен ты в дядю Сережу, а?
Мальчик смотрел на художника умными глазами.
— Не знаю. Дядя Сережа хороший. Дядя Сережа, пойдем к пруду на салазках кататься?
— Почему бы и не пойти? — улыбнулся художник.
— Ты человека из снега слепишь?
— Обязательно.
— И с усами? И в шляпе? И чтобы смеялся…
— Ладно. Будет и смеяться.
— Смеялся и глаза таращил. Чтобы, кто посмотрит, и сам от хохота лопался бы!
— Ну и задачу ты мне задал, мальчик! Что ж, попробуем сделать такого человека вместе.
Побежали в сад, к пруду. Дети болтали без умолку:
— Дядя Сережа, давай кататься не на салазках, а на решете — веселее!
— Давай на решете, — согласился Сергей.
— Ле-се-те… — картаво тянул за старшим Вася.
— Решето крутится, крутится, как пустишь его!
— Ку-у-тица, — нараспев повторял Вася и заливался смехом.
От этого смеха и детских голосов усталая душа Сергея молодела. Точно сам превратившись в ребенка, он пускался с горы впереди целого поезда дворовых ребятишек в обледенелых решетах. Салазки и решета налетали друг на друга, ребятишки валились в снег, визжали, хохотали, а он кричал громче всех:
— Куча мала!
Потом лепил из снега великана. Саша с деловым видом помогал ему и показывал:
— Дядя Сережа, вон какой я сделал нос!
Когда художник разрезал снежной бабе щепкой широкий полуразинутый рот, вставил в него из угольков черные клыки, вылепил рачьи глаза навыкате и большую бородавку на губе, ребята повалились в сугроб, визжа от восторга.
…Саша не отходил от Сергея, прося его без конца рисовать. И Сергей начал замечать, как все сильнее и сильнее дрожал в пальцах карандаш, как художественный "почерк" его становился все более неуверенным и слабым. Он сознавал, что подняться на ноги, как советовал Тропинин, уже нелегко. Все, что он рисовал, стало походить одно на другое. Не было ни оригинальности мысли, ни того подъема, когда во время работы все окружающее переставало для него существовать.
Конечно, ждать от себя чего-нибудь серьезного, выполняя заказы ребенка, было бы нелепо. Но щемящую боль в душе и страх вызывало другое: его переставало тянуть к кисти. День за днем в нем остывало творчество.
Саша засыпал Сергея заказами:
— Дядя Сережа, нарисуй мельницу. А под мельницей пусть вода. А в воде рыбу тянут сетью. Когда будет тепло, мы с тобой тоже пойдем на мельницу и станем купаться.
Сергей рисовал мельницу и рыбаков с сетью, но чувствовал в каждом штрихе неизменную вялость.
Он подарил Саше набор цветных карандашей и скоро с изумлением заметил, что мальчик легко и быстро набрасывает то, что ему хорошо знакомо: пестрых цесарок и индюка с распущенным хвостом, кур и возле них женщину; лошадь или корову, щиплющих траву; собаку, окруженную щенятами…
Это были неумелые детские наброски, но в них уже виднелись наблюдательность и несомненное дарование.
Мальчик показывал на рисунок и объяснял:
— Это я маменьку хотел нарисовать, дядя Сережа. Да не помню лица маменьки. Помню только, что она всегда пела и смеялась.
Сергей вспоминал спокойную, величавую улыбку Парани, и у него сжималось сердце. Уходили из жизни милые, полезные другим люди, как уходило от него творчество. И не хватало сил создать что-нибудь настоящее, стоящее. Он становился годен, пожалуй, лишь на то, чтобы научить первым приемам рисования этого мальчика, дать ему начальный толчок для возможного будущего.
Трехлетний Вася тоже тянулся к карандашу и выводил на клочках бумаги какие-то корявые кружочки.
— Калтоска, — картавил он и рисовал новый кружок. — Ябо-ско… — И еще один: — Мясик…
Кружки были похожи один на другой, но мальчику нравилось чертить. Он часами не выпускал карандаша из рук.
Саша уверенно говорил:
— Я буду живописцем, дядя Сережа, как ты.
— Нет, мой милый, ты будешь… лучше меня, — отвечал Сергей с тоскою.
IX. НЕ САМ, ТАК ДРУГОЙ
Пришла весна. В окна угловой комнаты, где жил Сергей, бились набухшими почками ветви старых груш. Зори были малиновые… Лучи солнца, длинные и теплые, томили тело и рождали в сердце грусть. С пригорков в саду давно протекли вешние воды, и обсохшая, согретая земля выбрасывала среди бурой, прошлогодней травы новые ростки и чудесно пахла. По утрам, когда были еще закрыты ставни, в солнечном луче суматошно плясали бесчисленные пылинки.
Сергей любил выходить на заре из дому и бродить по окрестностям. Пробовал, вспоминая прошлое, помогать крестьянам в работе.
Зашел раз на кузницу. Прежде молот бывал для него не тяжел. Теперь он понял, что силы не те и молот не слушается его. Он отошел от горна с печалью в душе.
"Неужели не смогу косить, когда придут покосы?"
Вспомнилось, как любил он в ту пору вдыхать запах свежего сена, смотреть на разноцветные сарафаны в пожнях, особенно яркие и красочные на полдневном солнце.
Раннее утро. Сергей шел к заливным лугам. Там, по нежной еще зелени, в желтых цветах одуванчиков, бродили коровы. Слышалось дрожащее блеяние ягнят. Гулко щелкнул кнут подпаска.
Старый пастух под ветлой у заводи плел лапти. Заводь курилась утренним туманом. До Сергея донесся печальный неприхотливый мотив и грустные простые слова:
Как не белая березонька к земле клонится,
Не зеленые листочки раздуваются,
Не шелковая ковыль-трава расстилается…
Сергей подошел ближе и поздоровался с пастухом.
У самой воды, на камне, сидела девушка-подросток. Бросая в воду желтые цветы, она смотрела, как их медленно уносило течением.
Старик оторвался от лаптя и крикнул:
— Дуня, перестань! Сердце барину надорвешь. Брось, внучка!
— Пусть поет, — остановил его Сергей.
— Блаженная она у нас. Сызмальства так. Только зла в ней нету вовсе, сударь. Ну пой, когда барин велит.
Дуня улыбнулась и продолжала:
Ещё стелется-расстилается полынь горькая,
Ох, и нет тебя горчее во всем чистом поле…
И покачала выразительно головой. Потом сказала, обращаясь к Сергею:
— Песен я знаю много. И про ветер знаю, и про сосенки:
Уж вы, ветры мои, ветерочки!
Вы не дуйте, ветры, на лесочки!
Не шатайте, ветры, в бору сосну, —
И так сосенке стоять тошно…
Охватив руками
колени и заглядывая в воду, где кружился, уплывая, последний цветок, она неожиданно заплакала:
— Жалостливая песня… И нет больше цветиков… нет!..
— Перестань, Дунюшка, — заговорил дед. — Поди, я дам тебе лычку, будешь бросать в воду лычки. Не посетуйте на нее, барин, младенческий разум.
Сергея давило одиночество. Он поднялся в гору, к селу, к людям.
Было воскресенье. У церковной паперти нищий гнусаво тянул:
— По-дай-те христа ра-а-ади!..
На скамейке, подле ограды, разодетые по-праздничному, судачили бабы.
Сергей прошел мимо них на кладбище. Кругом обступили могилы с давно покосившимися крестами. Ему стало страшно.
Мучительно потянуло к бодрой, радостной деятельности. Ведь, чтобы начать наконец работать, надо прежде всего почувствовать жизнь. Образ тоскующей у воды девочки он отогнал от себя, как что-то больное, враждебное…
Увидев после обедни на лужайке возле церкви нарядных девушек, собравшихся водить хоровод, он встал в их круг.
Все удивленно расступились. Девицы стыдливо захихикали, закрываясь кисейными передниками. Парни начали выплясывать нарочитые "коленца". Балалаечник прибавил лихости и выставил вперед ногу в новом сапоге с голенищем бутылкой.
Далеко разнесся хоровой напев:
Ой, не пыль в поле запылилася,
Не туман с моря подымается,
Подымалися гуси-лебеди…
Сергей хорошо помнил с детства старинные песни. Он подхватил мотив:
А один-то лебедь оставался…
Голос прозвучал тускло — Сергей не узнал себя. Когда-то он так легко и свободно брал эту ясную, высокую ноту.
Он повадился по зорям летать,
По зорям летать, по заутренним,
Он ко белой-то лебедушке…
Девушки плавно двигались по кругу, а парень-запевала выводил, точно кидая песню в самое небо:
Ой ты, белая лебедушка,
Да и где ж твое тепло гнездышко?
Хор подхватывал:
Мое гнездышко на синем море,
Под ракитою, под зеленою.
Сергей вышел из круга и медленно направился к дому. До него долетел смех и озорной приглушенный окрик:
— А и впрямь, шел бы ты, дедушка, на печку!..
Раннее утро. С шумом открылась ставня окна. И с потоками солнечных лучей в комнату ворвались дети.
Это они, его питомцы. Они его любят. Он им нужен, полезен. Значит, и ему нашлось на земле дело.
Саша вбежал первый, за ним — Вася. Оба взобрались на кровать, теребили Сергея, стаскивали одеяло, тащили из-под головы подушку, мешали одеваться. Он брызгал на них водой из кувшина. Комната наполнилась визгом и смехом.
После чая дети снова прибежали в комнату, началось обычное рисование. Васе давно надоели его кружочки, в которых он научился отмечать точками и черточками нос, рот и глаза человечков. Но Саша усидчивее. Он жадно ловит указания Сергея и старается срисовывать старые гравюры, найденные им где-то на чердаке, как можно тщательнее.
Впрочем, на Сашу иногда находила странная неподвижность. Он мог долго сидеть, уронив карандаш и устремив застывший взгляд то на потолок, то на печку или на стену. Потом вдруг начинал фантазировать:
— Дядя Сережа, смотри: кони мчатся. И колесница Феба… а на ней Фаэтон.
И показывал на пятна штукатурки, на растрескавшиеся и облупившиеся кирпичи лежанки.
Вспоминая давние академические уроки, Сергей часто пересказывал детям отрывки из мифологии Греции и Рима. Саша внимательно слушал, и в душе его рождались незнакомые до сих пор образы.
Крепкий, с широким носом и смышленым взглядом небольших серых глаз, он походил на маленького мужичка. Только рот, небольшой и красивой формы, да освещавшая все лицо улыбка напоминали мать.
Способности к рисованию у него оказались замечательные. С каждым днем он делал все новые и новые успехи. В детской руке карандаш и уголь двигались уверенно, набрасывая твердые и четкие контуры. Копии Саша делал поразительно верно, схватывая на глаз соотношения частей и размеры. Он хорошо рисовал и с натуры. А фантазируя, создавал наивные, но богатые по замыслу картины: дворцы, экзотические пейзажи, людей в небывалых одеждах. В неумелых портретах его можно было узнать того, кого он хотел изобразить.
Сергей смотрел на его рисунки и думал:
"Для меня все кончено. Я уже не творец. Мысль стала вялой. Творчество заменилось шаблоном. Моя мечта не осуществилась, погибла… Но я сделаю настоящего художника из этого малыша. Он — кость от кости крепостных, как и я. Только у него не будет моей участи: Елагин сделает его свободным. И мальчик даст искусству то, чего не смог дать я".
Сергей крепко сжился с Петровским и решил оставаться здесь, пока будет можно. Ему даже казалось, что его жизнь до Петровского была сном, что настоящая, реальная жизнь началась только в этом старом доме. Учитель рисования — вот его профессия. Разве плохо быть учителем?
Общая вялость и потеря веры в собственное дарование усилились в Сергее и благодаря спиртным напиткам. Он не заметил, как втянулся в дурную привычку. Былые одна-две рюмки обратились в постоянный стаканчик. Он пил утром, пил днем, пил вечером водку, коньяк, ром или херес, что подставлял ему под руку Елагин. Советы Тропинина перестали звучать укором, забылись, затерялись в отуманенной алкоголем памяти.
Когда на Елагина нападало особенно чувствительное настроение, он брался за скрипку.
— Сашка! — кричал он. — Иди сюда скорее! Эй, Марья, Дарья, кто там есть, Сашку сюда!
Прибегал Саша. Отец совал ему в руки инструмент.
— Играй! Веди, веди смычком. Я буду тянуть ноту, а ты веди. Слышишь ноту: а-а… а-а-а… а-а…
Смычок неловко скользил в руке мальчика. Струна только сипела, из музыкальной пробы ничего не выходило.
— Эх ты, балбес! Ну садись, слушай. Может, и дойдут до тебя ангельские вздохи…
Прижавшись щекой к инструменту, он начинал играть. Смычок судорожно вздрагивал: звуки получались обрывистые, трепещущие…
Напряженными, внимательными глазами Саша смотрел на отца. Потом оборачивался к Сергею и шептал:
— Ветер… воет… скрипит дерево…
— Дурак ты, Сашка! — Елагин раздраженно бросал скрипку на пол. — Дерево? Это адажио Бетховена!
Сергей спешил поднять инструмент.
— Не разбилась ли, Алексей Петрович? И то: колки выскочили и на деке, кажется, трещинка. А мальчик по-своему верно понял: ветер, буря… Возьми, Саша, карандаш, нарисуй бурю.
Детская рука набрасывала речку с волнами. Над нею, на обрыве, растрепанные, гнущиеся книзу ветви развесистого дерева.
Елагин отнимал руки от лица, смотрел на рисунок и страстно притягивал к себе сына:
— Ты тоже кое-что смекаешь, мальчуган. И, ежели захочешь, далеко пойдешь. Съезжу-ка я в город, насчет бумаг разузнаю да насчет школы. Учить тебя надобно. А пока дядя Сережа вот занимается. После и в Академию можно будет. Бумаги я обязательно все должен выправить: вольную детям… и все этакое… Наследники мои! Немного же вам после меня достанется. Разорено Петровское, оскудел помещик. Да все же будете оба вольные и на хлеб себе легче сумеете заработать. Только вот дворянскую фамилию не смогу, пожалуй, передать, хлопот слишком много… Мне, забулдыге, у государя не выпросить вам своей фамилии. Нет! Видно, владеть вам лишь одной половиной ее. — Он горько рассмеялся. — Послушай, Сережа. Я — Елагин потому, видно, что всегда был по горло сыт, всегда ел, и имение своё проел. А они, может, и голодными еще насидятся. И будет им, детям моим, фамилия только — Агины.
Елагин осматривал свое хозяйство. Зашел в полутемную конюшню, с наслаждением вдохнул знакомый запах: смесь сена, конского пота и навоза. Запах напомнил ему молодость, кавалерийские разъезды. Послышалось ржание жеребенка.
— Ишь, барин, давно ли народился, а уж вам голос подает, — с умилением сказал конюх, — знать, хозяина признает, шельмец! Смышленый, весь в матку.
Кобыла хрустела сеном. Она подняла голову и радостно запрядала ушами, скосив темный глаз. Сколько времени ее не седлали! Елагин ласково потрепал лошадь. Жеребенок ткнулся ему в колено мягкой, бархатистой мордой.
— Рыженький… Как назвали его, Силантий? — спросил помещик.
Конюх гордо ответил:
— Чистых кровей: от Вьюги и Терека, барин.
— Знаю, что от Вьюги! А она все такая же. И не стареет совсем. — И погладил крутую шею лошади. — Как звать, спрашиваю, жеребенка-то?
— Кобылка, барин. Назвали "Параня".
Елагин кашлянул и хмуро отозвался:
— Не очень-то "чистых кровей" была моя Параня… Ну, да все равно. Па-ра-ня! — повторил он, словно прислушиваясь. — Силантий, ты мне оседлай Вьюгу через час.
— Слушаюсь.
Елагин пошел к скотному двору.
Со вчерашнего дня он был взволнован. В Новоржеве, куда он ездил по делу освобождения сыновей от крепостной зависимости, узнались большие новости. О них в присутственных местах говорили шепотом, озираясь по сторонам. Из столицы до маленького городишки донеслась весть о судьбе декабрьского восстания. Правду мешали с вымыслом. Но Елагин все-таки понял, что участники "бунта", о которых ему рассказывал Сергей, все почти люди из знати, давно сидят по казематам. Над ними назначен строжайший суд, и кончится он для главных зачинщиков, наверное, казнью, а для остальных — каторгой и ссылкой.
Елагин подумал о своем госте:
"Ну, счастье его, что успел уехать, а то, может, сидел бы теперь за железной решеткой. К бунту припутали бы и старое вспомнили…"
Он часто рассуждал с Сергеем о крепостном праве. Легкомысленный и добрый, Елагин относился к крестьянам мягко. Но задумываться о злой доле зависимых от него людей ленился и успокаивал себя уверением:
— Я своих крепостных никогда не обижал. Иные из них сами растаскивают мое добро, а я смотрю сквозь пальцы. Пусть так и живут до моей смерти. Там, может, придет и воля…
По дороге на скотный двор попалась птичница с девчонкой. Обе кормили кур. Старый павлин, любимец еще Прасковьи Даниловны, с пронзительным криком гордо выступал среди пестреньких цесарок и курочек-корольков. Весь напыжившись, на Елагина налетел индюк и, смешно захлебываясь и багровея, что-то сердито залопотал.
Птичница, заметив барина, давно здесь не показывавшегося, заспешила с кормежкой.
— Запущено хозяйство, — бормотал огорченно Елагин. — Параня знала счет всему. У нее каждый цыпленок имел кличку и примету. А я сведу Петровское на нет. Надо бы поразмыслить, как его поднять. Ведь у меня малолетние дети. Хоть для них что-нибудь да сохранить.
Скотный двор был пуст. Коровы с утра паслись в поле. Только одна лежала на соломе, с налипшим на брюхе и ногах навозом.
— Заболела у нас нетель-то, барин, как есть заболела! — запричитала босоногая скотница Афимья. — Как надысь ее в поле Красуля рогами в бок пнула, Параню-то. А то была она ничего…
Елагин остолбенел: "Тоже — Параня?"
— Что? Что ты сказала? Повтори!..
Глуховатая Афимья не разобрала слов. Увидев, что барин сердится, она закричала визгливым голосом:
— Да, ей-богу, барин, до того дня Параня была здорова. Я и коновалу показывала. Он и брюхо ей мял, и дегтем мазал…
— Что? Что? Грязное брюхо… Коновал… Деготь?! Да как вы смели?
Афимья не понимала:
— Коли что, соколик-барин, извольте приказать. Мухи одолели, садятся, черви заводятся. Прирезать бы, я говорю… Для людской мясо засолить можно. На леднике продержится…
Елагин затопал ногами:
— Дурачье! Олухи! Прирезать! Параней назвали!..
И с криком выбежал из хлева.
Афимья проводила его недоумевающим взглядом.
X. МЕЛЬНИЦА
Яблони отцвели. Отцвела и сирень. Стоял аромат жасмина. Сад был давно запущен: дорожек никто не чистил; клумбы заросли; из сорняка кое-где тянулись одичавшие маки, шапки пестрой турецкой гвоздики и высокие султаны голубого лупинуса. По живой изгороди из ельника сиротливо вился измельчавший побег когда-то роскошной каприфолии. Зато вокруг яблонь, по густому ковру травы, разрослись золотые чашечки лютика и алыми огоньками зажглась полевая герань.
Пришло горячее время сенокоса, луг запестрел яркими сарафанами, разноцветными платками и рубахами. По зорям звенели косы. Небо пылало пожаром восхода. По густым залогам заливались бесчисленные птицы, а от щебета ласточек под крышей сердце замирало радостью.
В одну из таких зорь Сергей пошел на луг и взялся за косу. Хотелось размять плечи, натрудить до мозолей руки. Развернув грудь, идти навстречу ветру в стройном порядке с другими косцами. Смотреть, как ложится рядами срезанная под корень трава. И дышать во всю силу легких свежими утренними запахами.
Сергей взялся за точило. Знакомый с детства визг стали. Первые солнечные лучи зажигают лезвие косы вспыхивающим блеском.
Сергей, как и другие косцы, поплевал на ладони.
Мужики по привычке крестились. Перекрестился и Сергей. Потом взмахнул косой.
— Господи, благослови!.. — прогудело хором.
Искалеченная спина Сергея с трудом разгибалась; не хватало сил сделать взмах шире. Он сразу же начал уставать. Нудно заболели плечи. Заныли грудь и руки.
— Эй, барин, разогнись! Не отставай! Подтягивай!..
Он бросил косьбу, едва пройдя первую полосу.
Мужики снисходительно посмеивались:
— Не за свое дело взялся, барин! Тебе бы лучше помазочками-кисточками помахивать-баловаться, чем косою. Негож ты в нашей работе!
Он сам понял, что негож, и ушел.
На речке, в двух верстах за садом, стояла мельница. У запруды водились в камнях раки. Там же ловили и нежных кроженок — форелей, красивых рыб с пятнистой чешуею.
Еще накануне Саша взял с Сергея обещание отправиться с ним ловить раков или кроженок и говорил возбужденно:
— Наловим и покупаемся, чтобы не было жарко. У мельницы глыбко, — ты меня плавать научишь. А Михайло-водовоз за водой с бочкой приедет, нас домой свезет. Вот и не придется идти по жаре.
— Ну что ты, Сашок, на бочку вдвоем, что ли? И так дойдем.
Собрались в поход, взяли ведерко, взяли полотенца.
— Кроженка на червяка не идет, дядя Сережа, — деловито объяснял Саша, — мальчишки в Петровском сказывали. Ее, как раков, руками ловят. Я и червей не накопал.
Вдумчивая деловитость была для Саши характерна. И делал он все не спеша, солидно, не так, как непоседа Вася.
— Да ведь и удочек не взяли, — подтвердил художник.
Он всегда разговаривал с Сашей серьезно, как с равным, и это нравилось мальчику.
Пошли к реке и недалеко от берега остановились. Сергей не мог оторвать глаз от великолепной картины. Река вся сверкала, искрилась, особенно ярко на перекатах, там, где она омывала камни. Камней было много. Рядом со светлыми местами на воде темнели провалы глубин и омутов.
— Под самым кряжем рачьи норы, дядя Сережа.
— Ладно, Сашок, мы их оттуда, усатых, вытянем!
— А вы сегодня веселый, дядя Сережа.
— Я всегда веселый, когда с тобой. Притом же солнышко вон как светит радостно!
Сергей с любовью глядел на мальчика. Саша поймал его взгляд и улыбнулся.
— И мне всегда с вами весело, дядя Сережа!
— Ну и хорошо!
Из-за ветвей прибрежной ольхи сквозили очертания приземистой мельницы. С маленького полуострова на другой берег перекинулась плотина. Вода сердито шумела, с трудом просачиваясь через нее, и, падая широким каскадом, пенилась. По берегу разросся папоротник. Омытый брызгами, он был ярко-зеленым на желтом фоне глины. Выше, на пригорке, алели ягоды земляники.
— А за плотиной, дядя Сережа, речка-то, будто сок от морошкового варенья, желтая-желтая, густа-ая, смотрите…
— Верно, Сашок! Ты этот цвет запомни и непременно нарисуй, как вернешься домой. А вон и мельник.
Во дворе мельницы рядом с белым от муки человеком возились мужики. Они взваливали на спину мешки с зерном и тащили их в низкую дверцу возле колеса.
Саша, только что скинувший с себя рубашку и штанишки, приветливо крикнул им:
— Здравствуй, дедушка Савва! Здравствуй, Кузьмич!
Мужики знали "барчонка" и любили, как любили когда-то его мать.
— Раков ловить пришел, баловник? — услышал он в ответ ласковые голоса. — Гляди не сорвись с берега. О камни ноги спортишь.
— Не сорвусь! — отвечал весело Саша. — Да я не один, со мной дядя Сережа!
— Здравствуй, Васильич, — здоровались крестьяне. — Купайся и ты, вода нонче теплая.
— И то думаю! Больно жарко становится.
Сергей давно не чувствовал себя так хорошо и спокойно. Кругом было солнце, воздух, вода — все простое, ясное, любимое с первых дней жизни. Рядом его маленький друг, будущий художник, творец. Тот, через кого он поведает наконец людям свои заветные, не высказанные до сих пор мысли, покажет не созданные еще образы…
А сейчас этот будущий "творец" пробует ловить глазастых зеленоватых раков. Они больно щиплют ему пальцы. Но он не кричит, а только сосредоточенно дует на руку. Ведерко уже наполняется копошащимися клешнями, усами и толстыми панцирями. Кроженок не попалось пока ни одной.
— Их мудрено ловить, — говорит Саша, невольно подражая манере взрослых крестьян. — На деревне старики сказывали: кому какое счастье на них.
Он не спеша отер тыльной стороной руки струившийся со лба пот.
— Не пора ли домой, Саша?
— Сейчас, дядя Сережа. Вот искупаемся и пойдем.
— Ты и так весь мокрый, — смеялся художник.
Мальчик, хохоча, скользнул в речку и забурлил в ней руками.
— Глядите, дядя Сережа, у меня своя мельница!
К берегу с грохотом подъезжал водовоз Михайло с бочкой. Саша увидел его сквозь мокрые пряди волос, щурясь от капель воды, и закричал:
— Дядя Михайло, смотри, как я нырну глыбко-глыбко!
Черпая ведром воду, Михайло смотрел, как Саша "нырял" на мелком месте. Голова мальчика пряталась в реке, зато половина тела выставлялась наружу.
— Вот молодец! Страшно небось?
— Не-е! — едва выговаривал Саша в промежутках между "ныряньем".
Сергей любовался сильным мальчиком и думал:
"Я счастлив, — мне есть для кого жить".
А Саша кричал:
— Слышишь, дядя Сережа, папенька скачет!.. Он давеча говорил, что приедет сюда на Вьюге. Слышишь, копыта цокают!
Сергей оглянулся. По лесной опушке скакал Елагин. Сдержав лошадь, он бросил повод на руки Михайле и по-кавалерийски лихо спрыгнул с седла. Улыбаясь, он посмотрел, как его мальчик барахтается в воде. И мысли его сошлись с мыслями Сергея:
"Жизнь моя кончена. Сам я загубил ее, по собственной глупости. А Сашка вот растет, крепнет. Из него и из другого малыша надо сделать настоящих людей".
Елагин снова улыбнулся.
Вдруг глаза его широко раскрылись от ужаса. Он увидел, как, поскользнувшись на высоком мокром камне, Саша полетел в водоворот плотины и там его начало крутить и бросать из стороны в сторону.
Бледный, как мертвец, Елагин бросился к реке. Неужели потерять и сына? Но, прежде чем он добежал до воды, чье-то тело метнулось вслед за ребенком.
Вода бурлила, клокотала, унося мальчика. В брызгах ничего нельзя было рассмотреть.
Но вот на поверхности показалась маленькая нога, потом другая, показались и снова исчезли.
Водоворот не подпускал Сергея. Несколько раз он приближался к маленькому телу, но оно неизменно исчезало вновь. Наконец Сергею удалось ухватить мальчика за волосы. Стала мешать больная спина, — он чувствовал, что слабеет, что не выплывет… Подхватив Сашу, он из последних сил выбросил его на мелкое место. От резкого движения что-то хрустнуло у него между лопатками и он потерял сознание… Бурлящая, пенящаяся вода понесла его и втянула в крутящийся водоворот.
…Саша лежал на земле. Вокруг столпились люди, растирали его, качали — приводили в чувство.
Открыв наконец глаза, мальчик увидел отца, протянул к нему руки, заплакал и спросил:
— А… дядя Сережа?..
Все вспомнили о художнике. Бросились к плотине, долго искали в водовороте, шарили багром по дну, меж камней. Потом раздались громкие крики:
— Тащи! Тащи его!.. Да осторожно, голову-то… голову не повреди!..
Выловив наконец, положили неподвижное тело на берег, недалеко от Саши.
Смутно, как в полусне, Саша видел обнаженное тело; его зачем-то встряхивали, а оно оставалось по-прежнему недвижимым. Лицо было неузнаваемо: все в синяках и кровоподтеках.
Потом Сашу положили на телегу, опростав ее от мешков с зерном, и повезли домой. Он то и дело впадал в забытье. Один раз по дороге очнулся и спросил едва слышно:
— Дядя… Сережа… где?..
Дядя Сережа лежал закрытый до бровей. Только лоб с знакомым завитком черных седеющих волос говорил, что это Сергей Поляков.
Здесь, в зале, лежала когда-то и мать Саши. В голове у нее тоже чадила толстая восковая свеча. Но у Прасковьи Даниловны лицо было открыто, оно точно улыбалось. Саша поднялся на цыпочки и, как тогда, припал губами к кисее в том месте, где находились руки. И, как тогда, заплакал.
Елагин шепнул ему на ухо:
— Помни, Саша, дядя Сережа погиб за тебя. Он тебя спас…
И хотел досказать: "И успел указать для тебя дорогу".
Но, не сказав, быстро отвернулся.
Приехал урядник и "для порядка" спросил документы покойного. Елагин отдал паспорт рыбака Кренделькова.
…Все, что рассказано в этом романе, было давно. Многие из героев книги жили на самом деле. Старые бумаги донесли до нас историю крепостного художника Сергея Полякова и его товарища, Михаила Тихонова, сошедшего с ума во время путешествия в Тихий океан. Описание путешествия Головнина на шлюпе "Камчатка" было издано в двух томах. Рисунки Михаила Тихонова — специальным альбомом.
По документам архива, академик И. В. Лучанинов действительно взял на себя попечение о несчастном, душевнобольном друге. На его руках Тихонов и скончался после долгих лет страданий.
За прекрасно выполненные во время экспедиции рисунки Тихонову назначили пожизненную пенсию "по шестисот рублей ежегодно". На его счете образовалась значительная сумма, которая частично расходовалась на его содержание. После смерти художника на оставшиеся деньги была учреждена в Академии особая медаль его имени за выдающиеся ученические работы.
Кисти знаменитого художника В. А. Тропинина принадлежит лучший портрет Пушкина. Именем Карла Брюллова гордится русская живопись. Медальер Ф. П. Толстой, один из передовых людей своего времени, связанный дружескими узами с декабристами, и гравер Ф. Иордан высоко чтятся как на родине, так и за границей.
Вышедший из низов художник Ступин, о котором в романе упоминается только вскользь, добился своего. Он организовал в городе Арзамасе первую художественную школу. В ней училось немало крепостных, получивших впоследствии известность. В школе Ступина начал свое художественное образование и знаменитый Перов.
В архивах Академии хранятся также имена баталиста Павла Александрова и Хлобыстаева. Хлобыстаев в конце концов сумел выкупиться и получил звание художника. А Пустовойтова, вероятно, захлестнула нелегкая жизнь. Он разменялся на дешевые трафаретные картинки, и фамилия его канула в вечность. Жила когда-то и няня Толстых — Ефремовна, вырастившая и поддержавшая прославленного медальера в его юности.
"Стихотворец" Сибиряков — лицо не выдуманное. Не выдуманы и некоторые другие персонажи, о которых рассказывал Сергею Полякову Егорыч, как и сам он — крепостной столяр, актер и музыкант одновременно.
Все эти бесправные, чаще безымянные крепостные: архитектор графа Орлова, высеченный публично, и композитор князя Волконского, написавший на сюжет Хераскова известную оперу "Милена", и "фис", всю жизнь тянувший одну только ноту в роговом оркестре Нарышкина и кончивший горловой чахоткой, — все они когда-то жили, страдали и боролись, стараясь, каждый по-своему, расправить и освободить от цепей скованные крылья природного таланта.
Судьба Саши, сына помещика Елагина, сложилась трудно, из него вышел художник, известный иллюстратор "Мертвых душ" — Агин. Он был создателем многих ярчайших образов. Они до сих пор служат руководством для режиссеров и актеров, изображающих бессмертные гоголевские типы.


В редакции "Солдатской правды" и "Деревенской бедноты"
(Глава из книги "Памятные встречи")
I. Я СЛУШАЮ ЛЕНИНА
Я хочу закончить свои воспоминания рассказом о своей работе в большевистской печати в первые годы Октябрьской революции. Эта работа и связанные с нею незабываемые встречи озарили последний этап моего жизненного пути.
Много лет я была дружна с революционным студенчеством Горного института; у меня на квартире не однажды происходили студенческие собрания; я прятала прокламации; целый год у меня скрывался сподвижник лейтенанта Шмидта — матрос Фесенко.
Когда к вечеру 9 января возмущенные рабочие стали строить баррикады на Васильевском острове, я всем существом потянулась к ним — я была на баррикадах.
В конце 1905 года у меня на квартире составлялся первый номер большевистской газеты "Молодая Россия"; помню, что ближайшее участие принимали тогда М. Горький, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский. Номер газеты оказался единственным и конфискованным. Тем не менее я, к сожалению, прямого, деятельного участия в революционном движении не принимала.
В 1917 году один из знакомых студентов-горняков предложил мне пойти послушать выступление Ленина на митинге в Морском корпусе.
Этот день определил мою дальнейшую дорогу.
Помню, как сейчас, все моменты знаменательного для меня вечера.
Люди тянутся гуськом по набережной Васильевского острова, возле старого здания Морского корпуса. Несколько месяцев назад сюда входили только чистенькие кадеты, лощеные гардемарины и элегантные морские офицеры: чтобы попасть в Морской корпус, надо было быть непременно дворянином. Теперь сюда свободно шли рабочие, навсегда выставив дворянчиков из пожелтевшего здания.
Тщательная проверка пропусков. Кто? Зачем? От кого получили пропуск?
В огромном конференц-зале так тесно, что трудно шевельнуться. Воздух скоро делается тяжелым, густым; слабым светом светят в тумане человеческого дыхания огоньки люстр.
Я оглядываюсь: мне кажется, что я одна женщина-интеллигентка в массе рабочих… Я стараюсь освоиться, но вот внимание привлекает шум; толпа расступается; к трибуне идут два человека. Один — невысокий, плотный, коренастый, в кепке; у него маленькая рыжеватая бородка и слегка прищуренные глаза. Я успела рассмотреть, что глаза зоркие и словно смеются, — Ленин. Другой — выше, с продолговатым лицом, блондин, говорит сильно на "о" — Н. И. Подвойский.
Ленин быстро, почти стремительно поднимается на трибуну. Гром аплодисментов.
Как ясно, как просто и убедительно говорит он, говорит о войне, о братании на фронте, и я ловлю себя на мысли: "Как же все люди не видят гнусных целей империалистической войны?" Перерыв. Ленину неистово аплодируют.
Вносят на руках обрубок человека — безногого солдата. Он протягивает Георгиевский крест — единственную ценность, которую он может пожертвовать на фронтовую газету "Солдатская правда".
Сбор идет по всему залу. Вокруг инвалида группа, расспрашивающая его о фронте. По рукам ходят свежеотпечатанные экземпляры "Солдатской правды". Гул, веселый, бодрый гул. Около Подвойского толпа: он разъясняет ленинский доклад, голос его раскатывается своим округлым "о".
Снова движение в толпе, и снова на трибуне Ленин — такой ясный и уже такой близкий человек.
Он заканчивает речь среди шумных оваций, которые сливаются с торжественными звуками "Интернационала". В первый раз я слышала, как рабочие поют "Интернационал". До сих пор помню впечатление, какое произвело на меня это мощное пение: оно подхватило меня, вовлекло в рабочую массу, смущение мое мгновенно прошло. Я пела со всеми и чувствовала неразрывную связь с этой массой, чувствовала веру в человека, которого только что, в первый раз в жизни, услышала и которому светло и радостно — я видела это — верили рабочие…
Толпа выплеснула меня из зала на улицу. Мы шли и пели. Все пели, и это пение чудно объединяло…
II. ВО ДВОРЦЕ КШЕСИНСКОЙ
И потому нет ничего удивительного, что я очутилась во дворце Кшесинской, где обосновались в то время большевики. Это случилось после того, как я передала нескольким знакомым партийцам (в том числе и Вере Михайловне Бонч-Бруевич) о впечатлении от митинга в Морском корпусе. Мне было предложено помочь работникам большевистской печати в редактировании солдатских писем для газет.
— Ровно в пять будьте во дворце Кшесинской. Второй этаж. Петербургский комитет партии.
Квадратная комната в два окна. Стены обтянуты светлой бумажной материей с цветочками; такой же материей обита модернистская мебель и ширмы с медальонами из кусочков зеркала. По стенам жиденькие рамочки с полочками и с пошленькими цветными эстампами: пейзажи с заходящим пурпурным солнцем и морские виды с парусами, — обстановка, рисующая быт прима-балерины, возлюбленной Николая II. Дешевка. Безвкусица. Никто не обращает на нее внимания, здесь идет большая работа, идет с напряжением всех сил. За одним столом, справа от двери, секретарь ПК выдает рабочим партийные билеты и беседует с ними.
Налево, за другим столом, над тазом склонились две женские фигуры: худенькая блондинка с бледным тонким лицом — Нина Августовна Подвойская, и еще одна девушка — тоже Нина (фамилии не помню). Они моют типографский шрифт и перекидываются негромкими фразами.
Я жду, пока освободится секретарь. Входит женщина с рассеянным взглядом близоруких выпуклых глаз и с застенчивыми движениями. У нее мягкость в голосе и во взгляде и во всем облике — скромность.
С нею здороваются.
— Надежда Константиновна…
Так вот она, Крупская, жена Ленина…
Меня повели в комнату, занимаемую военной организацией. Я заметила: в комнате Петроградского комитета во всем педантичная аккуратность, здесь — нечто хаотическое: стопки газет, груды газет; они всюду — на столах и мягких пуфах, на стульях, просто на полу. И рукописи, часто конверты, надписанные разными корявыми почерками, каракульками, какими пишут малограмотные люди.
Обо мне здесь уже знают и предлагают сейчас же приступить к делу.
— Вот вам солдатские и крестьянские письма, просмотрите. На первый раз хватит этой пачки.
— Что с ними делать?
— Нам для газеты "Солдатская правда" нужен материал. Письма масс — это база газеты, основной ее фонд. Отредактируйте, но помните, что нам дорог не только смысл, но и самый стиль, а потому подходите к работе осторожно, берегите, по возможности, каждое слово. Нам нужно поставить отдел переписки с читателями — это лучшая агитация, потому что она опирается на голос самих масс.
Я сунула в портфель пачку писем.
— Принесите отработанные как можно скорее.
— Конечно, конечно, я долго не задержу.
Я ушла, торопливо спустилась по мраморной лестнице.
Вечер. Ночь. Голубая майская ночь. Я сижу, как пригвожденная к столу. Передо мной мелькают, нижутся кривые и косые буквы, часто написанные такими бледными чернилами, что их трудно разобрать, часто нацарапанные чуть заметно карандашом. Иногда в письме трудно уловить какую-либо мысль. Но едва ли не в каждом — крик наболевшего сердца. Некоторые письма написаны деревенскими или фронтовыми борзописцами, витиевато, с росчерками, авторы стараются расхвалить большевиков.
Из-за стилистических завитушек бьет горячей струей один и тот же крик:
"Долой войну! Больше нет сил терпеть! Хотим новой жизни!.."
Шли дни. Письма, письма, письма — потоком. Я редактировала и относила во дворец Кшесинской и работала до того напряженно, что потеряла сон и осязание. Перо валилось у меня из рук, сон бежал от глаз, а тяжелая дрема одолевала каждую минуту. Я стала плохо соображать. Необходимо было уехать из города.
С сожалением я сказала об этом в редакции. Меня пробовали уговаривать, но я не могла остаться; у меня начались припадки полуобморочного состояния.
Пришлось уехать в глушь, в деревню.
А там газеты вскоре принесли известия об июльских событиях, истолкованные вкривь и вкось.
У нас в деревне (тогдашний Гдовский уезд, ныне Псковская область) население питалось главным образом газетами "Копейка" и "Сельский вестник", и обе были одинаково грязным и клеветническим источником. Поэтому неудивительно, что в деревне не много было сочувствующих большевикам.
Вскоре буржуазные газеты оповестили и о разгроме редакции "Правды".
Я написала Вере Михайловне Величкиной, просила рассказать подробнее о событиях и объяснить их. Ответ пришел лаконичный:
"Когда вернетесь в Питер, все расскажу. Газетам не верьте; на деле совсем не так. В эти дни мы показали, как никогда, на деле свою силу и связь с массами".
III. ГАЗЕТА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Я вернулась в город в сентябре и стала усиленно искать связи с большевиками.
Вера Михайловна дала мне сведения и о большевистских газетах, и об отдельных членах военной организации.
В конце сентября я была приглашена Н. И. Подвойским на должность секретаря "Солдатской правды".
Сначала я отказывалась. Я никогда не работала в газетах. Я была автором многих популярных исторических романов и повестей для юношества, но ничего не понимала в газетном деле. Если я умею писать простым, ясным языком, понятным подросткам и широкой массе читателей, то это еще не значит, что я могу работать в партийной газете. А тут еще секретарство, не угодно ли! Секретарь строит номер. Что я могу построить? Как могу я быть недобросовестной по отношению к большевикам? Я редактировала письма для "Солдатской правды", но это была узкая работа, и притом бесплатная, — теперь мне предлагали жалованье, так как в военной организации все получали жалованье.
Но Вера Михайловна настаивала:
— Не смейте отказываться. Жалованье вам платить должны, ведь вы будете заняты целый день и у вас не останется сил ни на какую другую работу. А то, что вы до сих пор не занимались журналистикой и не секретарствовали, — это не беда, я вам помогу, а потом и сами станете на ноги.
Я согласилась.
Это было в конце сентября. В сентябре наша военная организация занимала тесное помещение в начале Литейного проспекта, недалеко от Литейного моста.
В большой проходной комнате помещалась контора и работала единственная машинистка; другую комнату, тоже проходную, узкую и длинную, в одно окно, отвели под редакцию; тут же за маленьким столиком белокурый солдат беседовал с приехавшими с фронта товарищами, за другим столом работал Н. И. Подвойский; третий стол предоставили мне.
Мне опять навалили массу писем и кучу буржуазных газет. Что со всем этим делать? Как составлять номер? Ведь нельзя же по плану "Речи" или "Новой жизни". И где взять материал для разных отделов: для хроники, фельетона, где взять стихов? Ведь стихи, поднимающие дух, совершенно необходимы. Как бы по неопытности не наделать ошибок.
Подвойский мечется, часто уходит в заднюю комнату-клетушку, где, очевидно, собираются совещания, где иногда в тишине пишутся статьи.
Я, разумеется, не скрываю своей неопытности. В сущности, в сорок пять лет я здесь только ученица. И я не хочу, чтобы знали, что я писатель-профессионал. Тогда со мной, может быть, будут церемониться. Так лучше. Учиться так учиться. И я скрываю свой литературный псевдоним, называя себя по паспорту ничего не говорящей фамилией — Ямщикова. Подхожу к Подвойскому.
— Скажите, что я должна делать. Предупреждаю — не переоцените: я не газетный работник, у меня имеется только опыт популяризации и ничего больше.
— И желание работать. А это — самое главное. Мы уже знаем вас по редактированию писем.
— Тогда я прошу об одном: взять меня на испытание и через две недели дать отставку, если не подойду.
— Большевики не церемонятся, — было ответом.
— Итак, мои обязанности?
— Собирать материал, группировать, составлять номер. "Шапку" вам будут давать редакторы. Старайтесь привлекать сотрудников из масс. Сюда приходят фронтовики; ловите их, расспрашивайте, записывайте. Стройте беседы и фельетоны о жизни на фронте. Потом, вы должны держать в порядке архив, подшивать использованные рукописи, чтобы можно было всегда навести справку, а неиспользованные хранить тоже для справок, в этом отношении нужно быть крайне щепетильной: часто авторы заходят справляться о своих письмах или заметках; от вашей внимательности и умения подойти к человеку зависит многое. Потом, конечно, вы должны подумать об интересной хронике и резолюциях с фабрик и заводов; потом…
Я слушала, чувствуя, как у меня по спине бегают мурашки. Сколько сразу обязанностей! И когда все это выполнить?
А Подвойский, словно спохватившись, добавил:
— Скоро мы вам подкинем еще газетку "Деревенская беднота" — для крестьянских масс.
Вторая газета! А помощники? Какой будет у нее формат? Вон "Солдатская правда" растянулась в простыню "Нового времени". Громадина. Чем ее наполнить, этакую прорву?
Передо мной спокойное лицо Нины Августовны Подвойской.
Я говорю ей:
— Да разве возможно это выполнить? Все готово должно быть к четырем часам, а тут еще ловить фронтовиков и делать записи об окопной жизни… и стихи… и подшивать этот архив…
Она улыбнулась:
— А вы не пугайтесь и не придавайте буквального значения словам Николая Ильича. Работайте как умеете и — до отказа.
Ну хорошо. Попробую.
Маленький стол, тесно. Никак не поместиться. Кладу стопки бумаг на стул, на пол. Шумно. Поминутно мелькают входящие и выходящие люди. Станут перед самым носом и говорят, заслоняя свет. Говорят без конца. Гудит в ушах от шума. Беру резолюции, правлю.
Резолюции, резолюции… Другого материала пока нет. Выбираю хронику из буржуазных газет и одним ухом прислушиваюсь к тому, что делается за другими столами. Особенно интересно слушать солдат с фронта. Я подзываю к себе одного и расспрашиваю.
С непривычки очень трудно начать беседу и ставить четко вопросы. Но мне удается это преодолеть. Некоторые солдаты радуются возможности высказаться в печати и облегчают мою задачу.
Один интересно рассказывает об австрийском плене. Записываю торопливо карандашом и так же торопливо отделываю. Фельетон готов. Это первый мой фельетон для "Солдатской правды".
Я не могу сказать точно, когда это было. Дни сливаются в один трудовой напряженный день с лейтмотивом — справиться с задачей.
Люди приходят и уходят. Помню белокурую, изящную Елену Федоровну Розмирович; твердой походкой приближается Людмила Николаевна Сталь, заходит А. М. Коллонтай, слышится тихий, неторопливый и мягкий голос Менжинского…
— Товарищи, — говорю я, — ведь нельзя же наполнять все полосы одними резолюциями! Давайте статьи!
Редакторы — у кого есть время — проверяют мою работу. Сегодня один занят на заводе — его заменяет другой; не знаешь, перед кем отчитываться. Нина Августовна Подвойская исчезла: кажется, перешла на работу в Петербургский комитет. Подвойский почти недоступен: он целый день словно в котле кипит — рядом в маленькой комнатке идут совещания.
Мелькают новые лица и исчезают в тайниках крайней комнаты. А я строчу, подбираю, строчу…
Материал все еще беден и скуден. Некому работать. Поэтов нет, а как нужны зажигательные стихи, песни!
Придя домой, берусь за перо и набрасываю первые строки. Какой я поэт? А приходится. Стихи, конечно, никуда не годятся, а все-таки лучше, чем ничего. По крайней мере редакторы одобряют: стихи появятся на страницах "Солдатской правды", есть пища для ненасытного жерла газеты.
Двухнедельный срок испытания давно уже прошел. Я все еще не уверена в себе и спрашиваю Подвойского:
— Кому передать полномочия?
Он поначалу даже не понимает вопроса, потом решительно протестует:
— Кто это вас отпустит? Никому ничего не передавать.
Его круглое "о" делает его речь простой и веской.
И я остаюсь.
Занозой торчит архив. У меня совсем нет способностей к канцелярской работе, а Николай Ильич, в прошлом статистик, ценит аккуратность. Я от природы неаккуратна, и у меня на письменном столе дома хаос. Я даже не умею подшивать архивные бумаги. Нина Августовна опять приходит ко мне на помощь и учит меня. Беру архив домой и вечером подшиваю: нужно, чтобы каждое письмо было для справки на месте.
Помню, как меня одобрил один из редакторов газеты:
— А знаете, вас совсем не приходится править. У вас хороший стиль.
Я промолчала. Мне не хотелось говорить, что я уже двадцать восемь лет упражняюсь в стиле и что три года назад общественность праздновала мой двадцатипятилетний литературный юбилей.
IV. ВЕЛИКИЕ ДНИ
В последнее время в редакции какая-то тревога или особенная напряженность обстановки. Мне приходится иногда уходить в переднюю большую комнату, где помещается контора и канцелярия, и, примостившись где-нибудь на тычке, продолжать прерванную работу. В обеих комнатах идут совещания, на которых я не могу присутствовать. Работать тяжело. Кроме громадной "Солдатской правды", прибавилась еще маленькая газета для крестьян — "Деревенская беднота". Печатают ее не то на Мойке, не то на Екатерининском канале в типографии "Сельского вестника" и хотят, чтобы наша газета залетела во все те уголки, где прежде читался "Сельский вестник".
Но маленькая черносотенная газета читалась главным образом из-за своего сельскохозяйственного отдела. А "Деревенская беднота" — газета чисто агитационная. Крестьянин дорожил разными рецептами примитивной агрокультуры, а кто у нас из наших сотрудников может это дать?
Вскоре, впрочем, попробовали разрешить вопрос, пригласив какого-то специалиста, и он давал короткие статейки по сельскому хозяйству и по домоводству.
Памятный день накануне восстания. Подвойского нет. В редакции настроение затаенного ожидания.
Меня вызывают на совещание.
— Вот что, товарищ Ямщикова, — говорят мне, — редакция должна перебраться в Смольный. Вы согласны туда ехать? Не боитесь?
Я удивилась. Чего же мне бояться, если я уже связала свою судьбу, свою работу с военной организацией большевиков?
— В таком случае поскорее соберите весь материал — архив пока может остаться здесь — и поезжайте скорее. Машина ждет. Газеты должны выйти во что бы то ни стало, как всегда. Возьмите себе помощника…
Я остановила свой выбор на молодой, энергичной и добродушной женщине, умевшей работать на пишущей машинке, что по тем временам было немалым достоинством. Машинистка, товарищ Анка, как ее звали, оказалась хорошей помощницей.
На автомобиль взвалили газетный материал, канцелярские принадлежности и покатили…
Смольный. Я вижу, что у величественного подъезда
Смольного царит необычайное оживление: подходят группы рабочих, красногвардейцы, солдаты. И мне кажется, что у всех какие-то особенные лица, и везде — грозные винтовки. Спрашивают пропуска.
Мы подымаемся по лестнице на третий этаж. По дороге я похищаю в коридоре маленький столик и тащу его наверх. И так со столиком влезаю в помещение, которое отныне должно быть нашим пристанищем.
У нас две комнаты. Первая — узенькая, как коридорчик, проходная, с одним окном; вторая — огромная, в несколько окон, похожая на зал, перегороженная фанерной перегородкой: бывший дортуар "благородных девиц" Смольного института.
В комнате два стола: за одним — Мария Ильинична Ульянова, за другим — Вера Михайловна Величкина с маленькой газетой "Рабочий и солдат".
Оглядываться и разговаривать некогда; я водворяюсь со своим столиком посреди комнаты и погружаюсь в работу. Номера должны выйти во что бы то ни стало, как всегда.
Машинистка куда-то исчезает, а с нею и надежда на помощь. В моем распоряжении несменно один курьер — Вячеслав Петров.
Никогда не забуду я этого славного паренька, товарища Вячеслава, искреннего, преданного коммуниста, с чистой, словно детской душой, с молодым открытым лицом и простодушной улыбкой. Это был чудесный товарищ, беззаветно преданный большевизму, храбрый вояка, кончивший жизнь славной смертью на фронте гражданской войны.
Разбираюсь в ворохе материала.
Строчу. Сумерки. Зажигают электричество. Строчу. Ко мне подходит Прасковья Францевна Куделли. Мы с нею встречались раньше в редакции детского журнала "Всходы", где вместе сотрудничали. Она кладет мне на плечо руку и говорит:
— Смотрите, как она спокойно работает и не боится!
Будучи в центре событий, я, как солдат, участвовавший в бою, не знала и не видела того, что творилось вне поля моего зрения, но всем своим существом чувствовала в огненной сумятице происходящего великое и прекрасное.
Поздно. Темный октябрьский вечер. Наш зал похож на проходной двор. Приходят и уходят люди, приходят к Марии Ильиничне, к Вере Михайловне, ко мне, в "Солдатскую правду". Слышен знакомый голос В. Д. Бонч-Бруевича. Что-то обсуждают, спорят…
Наконец готов и у меня номер и вручен Вячеславу Петрову.
Я могу уходить домой. Но медлю, чего-то жду и не ухожу. Мне кажется, что движение людей у нас в комнате, и коридоре, и за стенами Смольного все сильней. В комнату прибегают незнакомые люди; некоторые вполголоса беседуют с Марией Ильиничной.
На следующий день я узнаю, что революционные войска, с которыми я теперь, по работе своей, сердечно связана, заняли вокзалы, почту, телеграф; я знаю, что Военно-революционный комитет, который помещается здесь же, рядом, выпустил воззвание: "К гражданам России". Свершилось! А вечером — залпы "Авроры". Мельком я вижу Ленина. Я была погружена в работу, когда ко мне неслышно подошла Вера Михайловна и шепнула: "Видели?", глазами указывая на слегка согнутую спину невысокого человека, который сидел возле Марии Ильиничны.
Владимир Ильич!
26 октября Вера Михайловна поздравляет:
— Победа! Зимний дворец взят. Власть в руках большевиков!
А вечером того дня я, гордая и счастливая, как и все окружавшие меня, слушаю Ленина, его знаменитое выступление на Всероссийском съезде Советов. Мне кажется, что и сейчас, тридцать лет спустя, я четко вижу плотную, как бы вылитую и вместе с тем стремительную в движении фигуру Владимира Ильича, вижу его глаза, в которых горит мысль, часто меняя выражение глаз. Я слышу гул оваций, я вижу восторг в глазах людей — они все на ногах, стоя приветствуют вождя победоносного восстания.
V. РАБОТА В СМОЛЬНОМ
Скудна была обстановка работы в Смольном в первое время. К моему маленькому столику примащивалось неопределенное количество людей. С уголков свешивались, как лапша, длинные, исписанные полоски бумаги — все газетный материал, и я боялась двинуть локтем, чтобы не выбить пера из рук сотрудника.
Стол "Правды", за которым работает Мария Ильинична, от меня на расстоянии протянутой руки.
В те дни Мария Ильинична не могла достать ножниц для газетных вырезок и раз взяла их в финотделе у молоденькой делопроизводительницы в ее отсутствие, а когда та вернулась, то затеяла спор, доказывая, что финотдел для государства важнее всякой газеты.
Наш телефон был источником мучений. Он стоял просто на полу, и, пользуясь им, надо было стоять на коленях и усердно крутить ручку. Эти досадные и комические упражнения в ручной гимнастике были почти безрезультатны, так как дозвониться мог только волшебник.
Как сейчас, вижу на полу фигуру моей помощницы Анки — красивая голова с копной черных кудрей у самого аппарата, а рука энергично накручивает.
— Барышня! Вы слышите. Опять ничего… Ба-а-рышня! "Кнопка А", соедините… Мне нужен телефон номер… Ах, опять ничего! Ба-а-рыш-ня! Нет, это кошмар! Полчаса бьюсь!
И Анка с новым приливом энергии накручивает ручку немого аппарата.
Сотрудников у нас прибавилось: Яков Иосифович Буров с женой Надей, которая разбирала и сортировала под моим руководством письма. Александра Михайловна Якубова.
Этих писем теперь приходило приблизительно до шестисот в день. Необходимо было для пользования ими выработать какую-нибудь систему. Шкафов у нас не было и в помине. Я просила сделать нечто вроде полок вдоль стен, расположила на них папки, на папках сделала надписи: "Земельный вопрос", "Учредительное собрание", "Злоупотребления", "Школы", "Религия", "Фронтовые беспорядки", "Агитация на фронте", "Агитация в деревне" и т. п.
Мне пришлось теперь почти ежедневно писать фельетоны. Тогда как кто-нибудь из партийцев писал фельетон-беседу для одной газеты, я писала фельетон-картинки для другой.
Каждый день приходилось бежать с Петербургской стороны через Неву, тратя на хождение по два часа в один конец. Это пешее путешествие по мосткам через Неву было мучительно. Ветер бил в лицо метелью или изморозью; ноги начинали невыносимо ныть от жгучего мороза — у меня не было теплой обуви. Остановишься, муфтой трешь ноги и бежишь дальше; иногда на момент, чтобы перевести дух, заходишь в первый попавшийся подъезд. Но таких подъездов было не особенно много: по пути раскинулась ширь Невы и снежная пустыня Марсова поля.
Позднее я приладилась ездить иногда в Смольный вместе с Е. Ф. Розмирович на автомобиле. Но возвращаться домой было не так просто: если мы не ночевали в редакции для посылки экстренных листков на фронт, то возвращались домой глубокой ночью — всегда находилась какая-нибудь неотложная работа.
Фронт и деревня посылали нам всё новых и новых сотрудников. По большей части это были делегаты. Говорили они часто очень путано, туманно, и порой нелегко было докапываться до сути.
Приходит однажды донской казак. Это было как раз в то время, когда в нашем коридоре, почти против нашей двери, под охраной двух часовых сидел генерал Краснов.
На Дону шла кровавая борьба и царила неразбериха. Богатеи-казаки сочиняли и усердно распускали о советском правительстве слухи, один другого нелепее.
Пришедший казак заявляет:
— Покажите мне мою рукопись. Что вы с нею сделали?
— Какая рукопись?
— А стихи: "Четыре сезона, или Черт на крюку".
Я в большом смущении. Ведь мы должны быть очень внимательны к сотрудникам из масс, а я не могу отдать казаку его рукопись, которой он так дорожит: его нескладные длиннейшие вирши — в архиве, злополучный архив — на Литейном, в военной организации.
Делаю попытку выйти из положения:
— Мы наведем справки о вашей рукописи.
— Запомните: "Четыре сезона, или Черт на крюку".
— Ну да. ну да. "Четыре сезона, или Черт на крюку". У нас ничего не теряется, но архив в другом помещении и придется его вытребовать, а к вам пока просьба: напишите нам про Дон, про то, что у вас делается по станицам, про то, как с вами обращаются офицеры… Много ли у вас сочувствующих большевикам?
Он чешет в затылке.
— Мы сейчас же поместим, — соблазняю я, — завтра же прочтете вашу статью в "Солдатской правде". — Я прихожу к нему на помощь: — Я могу ускорить вашу работу. Диктуйте мне, я буду записывать, а потом отдам переписать на машинке, и, повторяю, завтра же вы прочтете все, что рассказали, в газете.
Предложение заманчиво. Казак начинает рассказывать о злоупотреблениях власти в станицах, как распространяли клевету на большевиков; рассказывает о грубости и самоуправстве офицеров, о том, как долго скрывали на Дону правду об октябрьском перевороте. Я пишу.
Когда он уходит, я привожу в порядок его хаотический рассказ, тщательно отделываю.
На другой день статья о Доне появилась в "Солдатской правде". Автор был в восторге. Он читал, не веря глазам, восхищался каждым словом и поминутно хватался за бока, разражаясь взрывами хохота.
— Ото ж здорово! Та выкусите, охвицерье окаянное! Нехай послухають газету свинячьи охвицерские уши! Слухайте, — разом обернулся он ко мне, — дайте мне тысячу — нет, десять тысяч газет, я их, паршивых кутят, в газету носом… — Он смачно выругался и обвел торжествующим взглядом комнату. — Одной моей статьей весь Дон большевикам покорю!
Мы нагрузили на него целый тюк газет, и он уехал сияя и позабыв о своем детище "Четыре сезона, или Черт на крюку".
Работа в Смольном кипела ключом. Я писала с энтузиазмом статьи, стихи, с таким же энтузиазмом правила письма с фронта и из деревни, будучи, как и все, хронически голодна.
От администрации Смольного мы получали вначале хлеб, масло, чай и сахар. Но эта роскошь очень скоро была отменена, и нам стали давать только кипяток. Сюрпризом для редакции был ящик с сахаром и коробкой чаю, которые мне удалось скопить для товарищей, предвидя неизбежный пост.
А чай пить любили в наших редакциях, и не только мои сотрудники, но и все, кто приходил на огонек.
На моей обязанности было править рукописи всех начинающих сотрудников, и этим широко пользовался Н. Степной (отец А. Афиногенова), ополченец, вернувшийся только что из французского плена, помещавший у нас и в "Известиях" отрывки из своих "Записок ополченца". Ежедневно приносил он мне беспорядочные клочки бумаги, мелко и неразборчиво исписанные; у него был странный, отрывистый, неряшливый и неясный стиль, или, вернее, никакого стиля, а сплошная недоговоренность. Гораздо лучше он рассказывал. Тогда у него являлись неожиданно и яркие образы, и выпуклость рисунка, и анализ душевных переживаний. Но как только он брался за перо, все тускнело…
Оригинальным сотрудником был мальчик шестнадцати лет из Олонецкой деревни — Петя Лукин. Вместе с матерью и маленьким братом он ходил побираться из села в село и, наконец, в четырнадцать лет, решил бежать на фронт. Но фронт ему опостылел, и, услышав об октябрьском перевороте, Петя Лукин бежал в Петербург, где и разыскал Смольный.
Он писал бойко и вполне грамотно, тем простым языком, который был нам нужен, но писал жидко, отчего трагизм описываемой им фронтовой действительности не трогал.
Этого мальчика мне удалось оставить при редакции при помощи А. В. Луначарского и поселить в Доме крестьянина; кормился он кое-как в Смольном.
Простая форма письма увлекала Якова Иосифовича Бурова, старого большевика и нашего постоянного сотрудника. Писал он главным образом для "Деревенской бедноты".
Я втянулась в работу. Уличные разговоры, подслушанные во время длинных переходов с Петербургской стороны в Смольный и в очередях по воскресеньям, натолкнули меня на тему об отношении обывателя к большевикам, о ренегатстве многих радикалов, о либеральных господах и дамочках, и я отважилась написать для "Солдатской правды" фельетон-сатиру: "Большевистская гильотина". Я слышала, что среди буржуазных писак эта сатира вызвала негодование: меня называли "продавшейся большевикам", "изменившей интеллигенции" и т. п.
Много к нам ходило народу из других отделов и редакций, заходили товарищи подумать вслух, потолковать о партийных мероприятиях. Часто, между прочим, заходил автор "Конька Скакунка" Сергей Александрович Басов (Верхоянцев); он не соглашался с тем, что генерала Краснова выпустили на честное слово, и считал, что Николая Кровавого должна постичь заслуженная кара.
Приходили и так называемые "раскаявшиеся саботажники". Мы прозвали так интеллигентов, не желавших вначале работать с большевиками и не веривших в прочность новой власти.
Между ними были люди, занимавшие еще недавно высокое положение, владевшие пером, люди с широким общим образованием. Одни из них растерялись, другие ненавидели и поначалу открыто злобно высказывались в том духе, что пусть, мол, попробуют без нас, носителей высокой культуры, что-то у них выйдет…
Вскоре они увидели, что Советская власть справляется со своими задачами и обходится без интеллигентных саботажников, а вот последним трудно было обойтись без помощи народного правительства.
Они стали приходить в Смольный, вспоминая о случайных знакомствах среди большевиков и всех, кто с ними близко соприкасался; приходили, конечно, и ко мне. Они искали работы, но как-то беспомощно, недоверчиво, и довольно быстро самонадеянность и высокомерие чиновников от культуры сменились в них заискиванием.
В редакцию приходили анонимные письма о том, что под Смольным заложена адская машина и что мы должны со дня на день ждать взрыва. Вечерами часто гасло электричество, тогда пропадали револьверы из карманов пальто. Очевидно, в Смольный, несмотря на строгий контроль, удалось проникнуть жуликам и врагам.
Я приготовила восковые церковные свечи (стеариновых в продаже не было) и спички и, как только тухло электричество, зажигала свой огонек и при его слабом свете продолжала работу.
Когда из банка привозили необходимые для ведения газеты деньги, казначей отдавал их мне на сохранение. Приходилось с комической важностью садиться на туго набитый сотнями тысяч портфель или ходить с ним всюду: во второй этаж, в "Известия", и в "Бюро печати" за новым материалом, и в кабинет Ильича, и к управделами В. Д. Бонч-Бруевичу, и в Петербургский комитет.
Ждали открытия совещания полковых представителей Петроградского гарнизона. Интеллигенция, в большинстве, продолжала все еще саботировать, отказывалась работать в учреждениях, устраивала забастовки.
Потому у нас в Смольном не было стенографисток и машинисток. И когда наступил день совещания, пришлось задуматься, кто будет записывать речь Ленина и выступления делегатов.
Еще накануне меня просили записывать, но я отказывалась: я очень боялась, что не поспею за ораторами, что не схвачу услышанное и перепутаю, тем более что на съезде должен был выступать Ленин и запись его речи была слишком ответственна.
Но в день съезда я дала твердое согласие…
Я пришла в конференц-зал рано и уселась за стол корреспондентов. Я тщательно обдумала свой способ записи: нарезав множество узких полосок бумаги, очинив более десятка карандашей, разложила все это на столе, предварительно пронумеровав страницы, чтобы не перепутать, и приготовилась внимательно слушать.
А когда на трибуне появилась знакомая фигура Ленина, я вся обратилась в слух. Это было какое-то "священное" напряжение, иначе я не могу его охарактеризовать, — когда ловишь на лету каждое слово и все существо наполняется гордостью от одной мысли, что записываешь это слово.
У меня была своеобразная стенография, которую употребляли, как я читала, для выступлении деятелей французской революции: слово намечалось одной-двумя буквами. Такую запись необходимо сейчас же расшифровать и заменить полными словами.
Строчу, строчу, отбрасывая в сторону узенькие бумажные ленточки, не разгибаясь ни на минуту.
Не помню всех имен ораторов. Добросовестно записываю как известных ораторов, так и никому неведомых людей в серых шинелях, делегированных к нам в Питер.
После пятичасовой непрерывной работы, в десять часов вечера, кто-то сменил меня. Теперь я должна была расшифровать свою своеобразную стенографию и отдать на машинку.
Голова трещит, во рту сухо, в глазах зеленые круги. Но передохнуть нельзя. Я сажусь диктовать машинистке, ведь мою "якобинскую стенографию" никто не может, кроме меня, расшифровать. Машинка стучит… Двенадцать часов ночи. Час. Два. Мы работаем.
Не помню, когда кончили. Не было смысла идти домой; остались ночевать в Смольном, чтобы с утра опять приняться за дело. Вячеслав отнес отчет в типографию.
Общаясь с людьми из деревень и с фронта, я испытывала какое-то особенное чувство — радостное от сознания, что я стою так близко к народным массам, что могу как-то посодействовать удовлетворению их нужд, что вошла в работу, связующую их и Ленина. Я знала, что Ленин верит в народ, знала также и на каждом шагу убеждалась в том, что народ верит Ленину.
Помню до сих пор немудреные стихи какого-то крестьянина, кажется туляка, они были напечатаны в одном из номеров "Деревенской бедноты":
Здравствуй, наш Ленин,
Вождь наш дорогой!
Из села Тенгичева
Шлем привет мы свой.
Прошло почти тридцать лет, а я помню это четверостишие.
Великая идея рабочей партии и любовь к нашему литературному делу питали меня в те удивительные дни, и потому ни голод, ни бессонные ночи, ни бесконечные путешествия через Неву в непогоду, в мороз не были страшны.
В Смольном забывалось обо всех невзгодах жизни. У нас здесь были и веселые, полные шуток и юмора, часы…
Время было такое — мы, работники пера, возвращаясь после утомительного дня домой, при встрече с редкими в то время автомобилями без всякого стеснения останавливали их и, когда нам говорили, что это машина такого-то наркома, просто обращались к самому наркому, прося нас подвезти, потому что мы — из "Солдатской правды".
Этого было довольно, магические слова: они открывали нам двери всех авто.
Наш газетный коллектив соединяла крепкая дружба. Помню, с каким сочувствием мы слушали рассказы маленького Пети Лукина о его скитаниях с матерью по олонецким деревням, а потом, как он "бил вошь в окопах" и плакал, когда ныли от мороза ноги.
Петя Лукин особенно привязался ко мне — вероятно, потому, что я была его учителем. Осенью 1918 года он выпустил в Москве в издательстве "Коммунист" маленькую брошюрку в красной обложке — свои фронтовые воспоминания. Мы думали работать вместе в Москве, но в гражданскую войну он ушел на фронт и, вероятно, сложил там свою хорошую голову — с 1919 года я о нем ничего не слышала.
VI. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
С фронта приходили неутешительные вести: немцы приближались к Пскову.
Однажды ночью на моей квартире затрещал телефон.
— Товарища Ямщикову.
— Я у телефона.
— Сейчас же приходите в Смольный. Заходите за Вячеславом, он тоже нужен.
Что случилось? Бросились на улицу и остановились, ошеломленные: город гудел и стонал продолжительными гудками… По улицам торопливо шагали люди, спешили на призывные голоса.
Едва мы уговорили отощавшего извозчика везти на своей еще более тощей клячонке. Проезжаем мимо заводов у Сампсониев-ского моста; в открытые ворота вливается, словно поток, масса рабочих, а гудки продолжают свою тревожную песню…
Заезжаем на Литейный в Дом Красной Армии и Флота, где живет Вячеслав Петров. Вызываем его. Он уже знает:
— Псков взят немцами.
Вячеслав в полной форме, в руках винтовка.
— Зачем это, Вячеслав?
— Иду на фронт.
— А редакция?
— Вот на! Курьера вы найдете и без меня. На фронте я нужнее. Прощайте! До встречи!
И фигура его тонет во тьме ночи.
Я думала, что меня вызвали для составления экстренного ночного выпуска фронтового листка. Но распоряжения выпустить этот листок не последовало.
Утром работали, как и раньше, только во всех углах Смольного притаилась настороженность. Мы отлично понимали, как близок враг к Питеру.
"Социалистическое отечество в опасности" — эти слова пронеслись из края в край нашей Родины, подымая рабочих и крестьян на ее защиту. Отряды только что организованной Красной Армии задержали немцев под Псковом и Нарвой. Владимир Ильич страстно боролся за мир, во имя спасения революции и Советской власти, против предателей ее. В "Солдатской правде" появилась передовая, выражавшая волю партии и ее вождя, разъяснявшая необходимость заключения мира. Эта передовая появилась в последнем номере "Солдатской правды".
Ночью в двенадцать часов нас всех собрали в Наркомате путей сообщения. Здесь были Подвойский, Менжинский.
Нам сообщили:
— Завтра в шесть часов вечера все, кто хочет продолжать работу, должны быть на вокзале. Мы переезжаем в Москву.
Я бросила свое обжитое питерское гнездо. В шесть часов мы были на вокзале.
Поезд тронулся. Длинный путь, медленный путь, когда приходится самим пассажирам добывать топливо для паровоза… Москва.
В Москве провели две недели без толку, через две недели нас прикрепили к газете "Беднота", издававшейся при ЦК партии. Она явилась соединением нашей питерской "Деревенской бедноты" с московской "Деревенской правдой".
Я простилась с Питером, со Смольным, с огненными смольнинскими днями. Благословенны пути жизни, приведшие меня в штаб пролетарской революции.


Ответственный редактор
С. М. Пономарева. Художественный редактор
С. И. Нижняя. Технический редактор Л.
П. Костикова. Корректоры
В. И. Дод и
Э. Н. Сизова. Сдано в набор 28/III 1972 г. Подписано к печати 15/VIII 1972 г. Формат 60X90V16. Печ. л. 34. (Уч. — изд. л. 34,29). Тираж 75 000 вкз. ТП 1972 № 445. АО3342. Цена 1 р. 30 к. на бум. № 2. Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Детская литература" Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер. 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика "Детская книга" № 1 Росглавполиграфпрома Комитета DO печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал. 49. Зак, 3996.
Примечания
1
Мессэр, мессэре (итал.) — господин.
(обратно)
2
"Кто ничего не имеет, тот и сам ничто" (итал.).
(обратно)
3
Данте Алигьери (1265–1321) — величайший итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка; автор поэмы "Божественная комедия", где сквозь средневековые образы и понятия проступает пламенное обличение пороков феодального мира, преодоление аскетизма, героический дух и сыновняя любовь к Италии.
(обратно)
4
Падре (итал.) — отец; здесь: форма обращения к католическому священнику в Италии.
(обратно)
5
Мона (итал.) — сокращенное от "мадонна" — госпожа.
(обратно)
6
Баптистерий ("крещальня") — помещение для совершения обряда крещения у католиков. Здесь: Баптистерий во Флоренции, который является замечательным памятником архитектуры XII–XIII веков.
(обратно)
7
Фьезоле — город, расположенный на высоком холме, неподалеку от Флоренции.
(обратно)
8
Глазурованная терракота — глина, покрытая тонким стеклообразным слоем (глазурью), образующимся при обжиге изделия из глины.
(обратно)
9
Евангелисты — здесь: четыре ученика Христа, которым церковь приписывает составление евангелия, то есть жизнеописания Христа. Пророки — по библейскому преданию, люди, предвидящие и предсказывающие будущее. Сивилла — у древних греков, римлян и евреев странствующая прорицательница.
(обратно)
10
Бенедетто дель Абако ("хорошо владеющий счетной доской" — "абак") — прозвище, данное флорентийскому математику XV века Антонио Билиотте.
(обратно)
11
Карло Мармокки — астроном и географ.
(обратно)
12
Иоанн Аргиропулос (1416–1486) — византийский писатель, живший в Италии.
(обратно)
13
Синьория — высший правительственный орган Флоренции.
(обратно)
14
Боттега (итал.) — мастерская.
(обратно)
15
В эпоху Возрождения круг работы ювелиров был более широким, они изготовляли многие декоративные предметы.
(обратно)
16
Фра Филиппо Липпи, учитель Боттичелли, был монах. Фра (итал.) — сокращенное "frater" — брат; обращение, принятое в монастырях среди католических монахов в Италии.
(обратно)
17
Находится в Ленинграде, в Государственном Эрмитаже.
(обратно)
18
Медуза — в древнегреческой мифологии одна из трех Горгон, сестер-страшилищ; вместо волос на голове у Медузы извивались змеи, а взгляд ее превращал в камень все живое, с чем встречался.
(обратно)
19
"Palle! Palle!" (итал.) — "Шары! Шары!"
(обратно)
20
Орфей — в древнегреческой мифологии певец, своими сладкозвучными песнями приводивший в движение деревья и скалы и укрощавший диких зверей.
(обратно)
21
Тиара — головной убор папы, как бы корона наместника Христа на земле, царя царей, каким католики считают папу.
(обратно)
22
Аграф — пряжка или застежка с драгоценными камнями.
(обратно)
23
Пролог — здесь: начало представления, вводная часть его.
(обратно)
24
Аполлон (у древних греков Феб) — у римлян бог солнца и поэзии; Меркурий (у древних греков Гермес) — у римлян посланник богов, провожатый умерших в подземный мир, бог красноречия, торговли, гимнастики; Диана (у древних греков Артемида) — у римлян богиня луны и охоты; Психея — девушка редкой красоты, внушившая любовь богу Амуру (у древних греков Эросу), сыну богини красоты и любви Венеры (у древних греков Афродиты).
(обратно)
25
Интермедия — маленькая живая пьеса, которая ставится между Двумя более серьезными пьесами.
(обратно)
26
Канцона — особый род лирического стихотворения.
(обратно)
27
Шиполатта (итал.) — похлебка из репы.
(обратно)
28
"Ждет лошадь, что трава вырастет!" (итал.)
(обратно)
29
Сангина — мягкий красный минеральный карандаш.
(обратно)
30
Астролог — предсказатель судьбы по звездам.
(обратно)
31
Философский камень — мнимое вещество, при помощи которого средневековые алхимики безуспешно пытались превращать неблагородные металлы в золото.
(обратно)
32
Полента (итал.) — похлебка из кукурузной муки или каштанов.
(обратно)
33
Диоген из Синопа (ок. 404–323 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, который, по преданию, жил в пустой бочке и вел образ жизни нищего бродяги.
(обратно)
34
Пантомима — сценическое представление одними движениями, без слов.
(обратно)
35
"Души трепещут: явится колосс. Пусть льется медь; раздастся голос: се бог" (лат.).
(обратно)
36
Гефест (Вулкан у древних римлян) — у древних греков бог огня, покровитель кузнечного ремесла.
(обратно)
37
Приор (от латинского слова "prior" — первый) — настоятель в мужском католическом монастыре.
(обратно)
38
Сребреники — монеты, которые, по евангельской легенде, Иуда получил за то, что предал своего учителя — Христа.
(обратно)
39
Максимилиан I Габсбург — император Священной Римской империи (1493–1519).
(обратно)
40
Арбалетчики — солдаты, вооруженные арбалетами — метательным оружием (соединение лука с прикладом), стреляющим стрелами.
(обратно)
41
"Или Цезарь или ничто!" (лат.)
(обратно)
42
Джироламо Савонарола (1452–1498) — монах, проповедовавший во Флоренции ненависть к роскоши и богатству и боровшийся с пороками католической церкви. В 1498 году Савонарола был казнен сторонниками римского папы и владетелей Флоренции — Медичи. Подробнее о Савонароле рассказывается в последующих повестях — "Рафаэль" и "Микеланджело".
(обратно)
43
Меценат — здесь: покровитель наук и искусств (по имени древнеримского политического деятеля I века, покровительствовавшего кружку поэтов).
(обратно)
44
Ноев ковчег — по библейскому преданию, судно, на котором праведный Ной, спасаясь от всемирного потопа, увез по паре всевозможных животных.
(обратно)
45
"Кто ищет — находит!" (итал.)
(обратно)
46
Гонфалоньёр (итал.) — буквально: знаменосец; в средневековых итальянских республиках — выборный начальник исполнительной власти.
(обратно)
47
"На что-нибудь и несчастье пригодится" (итал.).
(обратно)
48
"Голодный осел ест с любой подстилки" (итал.).
(обратно)
49
Петрарка Франческо (1304–1374) — великий итальянский поэт и гуманист. Широкой известностью пользуется его "Книга песен", сборник сонетов и канцон.
(обратно)
50
Блуа — город и средневековый замок во Франции. При Людовике XII был королевской резиденцией.
(обратно)
51
Кардинал — высший сановник в католической церкви. На своем собрании (конклаве) кардиналы избирают из своего числа римского папу — главу католической церкви.
(обратно)
52
По евангельскому преданию, апостол Петр, владеющий ключами от рая, был первым римским епископом, и папы считали себя его преемниками.
(обратно)
53
Адонис — здесь: прекрасный юноша, каким его представляли в Древней Греции. Культ Адониса как бога умирающей и возрождающейся природы был распространен в Древней Греции и Риме.
(обратно)
54
Каррара — местечко в Италии, в Апуанских Альпах, где добываются лучшие сорта мрамора.
(обратно)
55
Итальянский карандаш ("черный мел") — мягкий черно-серый минеральный карандаш, позднее изготовлявшийся из спрессованного угля.
(обратно)
56
Месса — богослужение в католической церкви.
(обратно)
57
Боккаччо Джованни (1313–1375) — итальянский поэт и писатель-гуманист, прославившийся как автор "Декамерона" — сборника ста новелл.
(обратно)
58
Эминенция (от лат. "eminentia" — превосходство) — титул католических кардиналов и епископов.
(обратно)
59
Куэнтлен, или Коонц, — так на местном наречии звучало имя Конрад.
(обратно)
60
Рейтеры, или рейтары, — наемные войска, сражавшиеся в конном строю.
(обратно)
61
Виллан — крепостной крестьянин.
(обратно)
62
Употребление башмака вместо знамени имело следующий смысл: рыцарь носил в знак особого отличия сапоги; несвободный крестьянин в знак подчинения и неволи — башмаки. Они обвязывались вокруг ноги ремнем, вследствие чего крестьянский башмак назывался Bundschuh. "Поднять башмак" — значило поднять восстание. Происхождение этого термина значительно древнее XV столетия. В некоторых немецких странах в то время уже существовали крестьянские союзы, называемые обществом "Башмак"; в Швабии и других областях ячейками этого общества был союз "Бедный Конрад", или "Коонц", на который намекал в начале нашего рассказа Фриц в разговоре с пастухом.
(обратно)
63
Иногда жители Германии, называя друг друга, сливают имя с фамилией в одно слово, причем имя ставится в конце.
(обратно)
64
Броккёнское привидение — гигантская тень путешественника, отбрасываемая при закате солнца на восточном облачном краю горизонта на Броккене — вершине Гарца. Эта тень суеверными людьми принималась за призрак.
(обратно)
65
Гейльбронн — швабский городок.
(обратно)
66
Черная смерть — так называлась в то время страшная болезнь чума.
(обратно)
67
Ландскнехты — германская наемная пехота.
(обратно)
68
Индульгенция — лист с отпущением грехов, продававшийся для увеличения папской казны.
(обратно)
69
Фигляр — шут, клоун.
(обратно)
70
Паванна — фигурный танец того времени, с медлительными движениями.
(обратно)
71
Ратман — член городской думы, городского магистрата.
(обратно)
72
Герцогу Иоанну Саксонскому.
(обратно)
73
Магистр — человек, получивший ученую степень, среднюю между докторской и кандидатской.
(обратно)
74
Бочкары — простонародная грубая обувь.
(обратно)
75
Эпитимия — церковное наказание.
(обратно)
76
Рентмейстер — сборщик податей.
(обратно)
77
Мейстер — магистр.
(обратно)
78
Десятина — десятая часть заработка или вообще имущества.
(обратно)
79
Викарий — заместитель или помощник епископа.
(обратно)
80
По поверью германцев, благодетельная фея Гольда, покровительница урожая, материнства и всяких земных благ, в конце зимы, во время праздника "Двенадцати зимних ночей", обходит дома, справляясь о работе хозяек. Если какая-нибудь хозяйка не спрятала свою пряжу, Гольда путает ее.
(обратно)
81
Виола — средневековый струнный инструмент, род скрипки.
(обратно)
82
Фосс — странствующий бедный студент.
(обратно)
83
Менестрель — певец.
(обратно)
84
Маленькая подушка, так называемая "думка".
(обратно)
85
Миннезингеры — поэты-певцы в Германии; трубадуры — во Франции.
(обратно)
86
Сарацины — одно из древнейших кочевых племен Аравии, а также общее название, данное арабам в средние века и распространенное на мусульман.
(обратно)
87
Фогель — по-немецки "птица".
(обратно)
88
Ловля раков была запрещена крестьянам. Ловить раков могли только для господарского употребления.
(обратно)
89
Манерка — бутылка, в которой санитары носили вино для поддержания сил раненых.
(обратно)
90
Форестериум — монастырская приемная.
(обратно)
91
Бургомистр — председатель муниципалитета — городского самоуправления.
(обратно)
92
Ландграф — в средние века титул владетельных князей в Германии.
(обратно)
93
Фогт — в средние века наместник императора в какой-нибудь области Германии.
(обратно)
94
Маркграф — титул, несколько высший, чем граф. В средние века в Германии — правитель пограничной области.
(обратно)
95
Подмалёвок — подготовительная стадия работы над картиной. На стадии подмалевки обычно в одном тоне прорабатывается светотень.
(обратно)
96
Ключ— в данном случае золотой отличительный знак на мундире камергера (придворного чина).
(обратно)
97
Тарлатан — легкая материя вроде кисеи для бальных платьев того времени.
(обратно)
98
Большой круг — фигура в танце (франц.).
(обратно)
99
Отец известного поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого.
(обратно)
100
Большая цепь — фигура в танце (франц.).
(обратно)
101
Александрийский стих — двенадцатисложный стих, названный по старофранцузской поэме об Александре Великом.
(обратно)
102
Александрийский лист — плотная белая бумага большого формата.
(обратно)
103
Известный впоследствии писатель, под псевдонимом Марлинский.
(обратно)
104
Стека — деревянная лопаточка, инструмент скульптора.
(обратно)
105
Метромания — страсть к стихотворству.
(обратно)
106
Фидий — великий скульптор Древней Греции.
(обратно)
107
Пракситель — величайший скульптор Древней Греции (Эллады).
(обратно)
108
Муштабель — палка, употребляющаяся живописцами в качестве подпорки для руки при работе.
(обратно)
109
Шпахтель — небольшая тонкая роговая лопатка, которой чистят палитру; ею же смешивают краски.
(обратно)
110
Президентом Академии граф А. С. Строганов был с 1800 по 1811 год.
(обратно)
111
Феб (Аполлон) — бог солнца в античной мифологии.
(обратно)
112
Меркурий — бог торговли у древних римлян; вестник богов; у греков носил имя Гермеса. Аргус — мифическое чудовище Древней Греции с сотней глаз; бдительный страж.
(обратно)
113
Флейс — широкая мягкая колонковая кисть для смягчения (стушевывания) написанного грубыми щетинными кистями.
(обратно)
114
Басоны — украшения на одежде: бахрома, кисти, шнурки и пр.
(обратно)
115
Байок — стальной инструмент для высечения из мрамора статуй.
(обратно)
116
О, мой бог! (нем.)
(обратно)
117
Пращуры — прадеды.
(обратно)
118
Корнет — чепец.
(обратно)
119
О, это прелестно!.. (франц.)
(обратно)
120
Дорогой двоюродный брат!., (фоанц.)
(обратно)
121
Я очарована! (франц.)
(обратно)
122
Бонбоньерка — коробка, обклеенная цветной материей или бумагой, для конфет, парфюмерии и пр.
(обратно)
123
Жамочки — пряники.
(обратно)
124
Картель — письмо.
(обратно)
125
Рыцарь (франц.).
(обратно)
126
О, как это забавно! (франц.)
(обратно)
127
Моя тетя (франц.).
(обратно)
128
Красивый мальчик! (франц.)
(обратно)
129
Держать пари на что угодно? (франц.)
(обратно)
130
Бэби (англ.) — ребенок.
(обратно)
131
Фомина неделя — следующая за пасхальной.
(обратно)
132
Форейтор — верховой, правящий передними лошадьми при запряжке цугом (гуськом).
(обратно)
133
Сатурн — бог посевов у древних римлян. Праздники в его честь продолжались семь дней.
(обратно)
134
Вакханка — жрица бога Вакха.
(обратно)
135
Что это такое? (нем.)
(обратно)
136
Нахттиш (нем.) — ночной столик, туалет.
(обратно)
137
Мастихин — хорошо гнущийся нож для очистки с палитры красок.
(обратно)
138
Лессировать — в живописи масляными красками наносить тонкий слой прозрачной краски, через которую просвечивают нижние слои непрозрачной краски.
(обратно)
139
Великолепно! Чудесно!., (франц.)
(обратно)
140
Тициан (р. ок. 1477–1576) — великий венецианский живописец.
(обратно)
141
Мурильо Бартоломе Эстеван (1617–1682) — знаменитый испанский живописец.
(обратно)
142
Рубенс Петер Пауль (1577–1640) — прославленный фламандский художник.
(обратно)
143
Фора — "бис", возглас одобрения, требующий повторения.
(обратно)
144
Кинкетка — старинная масляная лампа на высокой подставке.
(обратно)
145
Бастард (франц.) — презрительное название "незаконных", внебрачных детей.
(обратно)
146
Дека — часть корпуса струнных музыкальных инструментов, необходимая для отражения и усиления звука.
(обратно)
147
Ныне больница им. Склифосовского.
(обратно)
Оглавление
Биограф и летописец минувшего
Леонардо да Винчи
Часть первая
ПРЕКРАСНАЯ ФЛОРЕНЦИЯ
Часть вторая
МИЛАН
Часть третья
СКИТАНИЯ
Под знаменем "Башмака"
Часть первая
Часть вторая
Пасынки Академии
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
В редакции "Солдатской правды" и "Деревенской бедноты"
(Глава из книги "Памятные встречи")
*** Примечания ***