Мендель Бейлис
История моих страданий

 Мендель Бейлис
Мендель Бейлис
Глава I
РАБОТА И ПОКОЙ
Когда царь Николай взошел на трон Великой России, это было время больших надежд для евреев. Ходили слухи, что он даже поссорился со своим отцом Александром III из-за своего дружелюбия к евреям. Говорили, что он хотел жениться на еврейской девушке. Евреи надеялись хотя бы на облегчение и сострадание. Придет правитель справедливый и милосердный.
Но история показала лживость этих надежд. Какое счастье нашли евреи во время его правления, слишком хорошо известно миру. Однако мне, более чем кому-либо другому, довелось испытать на себе его державную руку. Почему именно меня выбрали для такой роли, остается одним из секретов провидения.
Это произошло через год после того, как я вернулся после службы в армии, женился и обосновался в Межигорье, городке в 120 км от Киева. Я стал работать на производстве по обжигу кирпича, которое принадлежало дяде моей жены, и вел тихий и небогатый событиями образ жизни. Через некоторое время я получил письмо от моего двоюродного брата, который предложил мне стать приказчиком на кирпичном заводе, который в это время строился. У известного сахарозаводчика Зайцева был в Киеве госпиталь для больных, где мой двоюродный брат был руководителем работ. Чтобы обеспечить непрерывный приток денег в госпиталь, Зайцев решил построить завод, доходы от которого должны были поддерживать госпиталь. Мой двоюродный брат, который не имел представления о производстве кирпича, вспомнил обо мне.
Киев означал лучшие возможности для меня, и я принял предложение.
Фабрика, на которой я теперь был приказчиком, была расположена на границе двух городских участков — Плоского и Лукьяновского. Евреи могли селиться на территории Плоского участка. Госпиталь Зайцева и дом моего двоюродного брата находились тут же. Сама фабрика была “вне черты оседлости”, и евреям там жить запрещалось. Только благодаря влиятельности Зайцева мне было позволено жить на “священной” территории. Поскольку он был купцом так называемой “первой гильдии”, российские законы позволяли ему иметь работников-евреев. Среди населения в десять тысяч человек, живших вблизи от фабрики, я был единственным евреем. Однако у меня не возникало трудностей, хотя на фабрике было занято около пятисот неевреев.
Мои личные контакты с русскими в округе были очень ограничены. Моя работа была сосредоточена в конторе, где я надзирал за продажами и отправкой. Я никогда не испытывал никаких неприятностей с русскими соседями, за исключением случая во время революции 1905 года, когда поток погромов захлестнул все еврейские города и поселки. Когда мне угрожала опасность, на помощь мне пришел русский священник; он приказал меня охранять, потому что я был единственным евреем в округе: это было вознаграждение за услугу, которую я ему когда-то оказал.
Когда было решено построить школу для местного сиротского приюта, в котором этот священник был директором, он пришел ко мне и попросил продать ему кирпич по более дешевой цене. Я обсудил это с Зайцевым и обеспечил его кирпичом по очень низким ценам.
Было еще одно, за что священник считал себя мне обязанным. Недалеко от нашей фабрики была еще одна, хозяином которой был русский Шевченко. Чтобы добраться до участкового кладбища, нужно было проезжать по территории обеих фабрик. Когда я впервые приехал в Киев, священник попросил меня разрешить похоронным процессиям проходить по территории фабрики. Я согласился. Когда обратились к Шевченко, от отказал. Священник часто об этом упоминал перед своей паствой: “Вот видите: христианин отказал, а еврей разрешил”.
Так я прожил 15 лет на фабрике. Я пользовался привилегиями большого города. Один из моих сыновей посещал правительственную “гимназию” в Киеве; младшие посещали хедер. Да, от фабрики до города было приличное расстояние. Но чего еще можно было просить? Я благодарил Б-га за то, что имел, и был доволен своим надежным и уважаемым положением.
Все указывало на мирное будущее. Казалось, что у меня были все права надеяться на окончание дней в довольстве. Кто мог знать, однако, что “демон разрушения” танцевал за моей спиной, глумясь над всеми моими планами и надеждами?
Затем наступил 1911 год и вверг меня в пучину бед — бед, которые я никогда не забуду и которые навсегда разрушили мою жизнь.
Глава II
УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА ЮЩИНСКОГО
Хотя с тех пор прошло 14 лет, старые сцены вспоминаются с удивительной ясностью, как будто выгравированы у меня в мозгу. Это было 20 марта. Все было как обычно. Еще не рассветало, когда я встал и пошел в контору.
Окно, которое я видел, сидя за столом, выходило на улицу. Когда я посмотрел в это окно в то холодное, темное утро, я увидел людей, бегущих куда-то в одном направлении. Обычно в это время можно было видеть рабочих, идущих на фабрику, либо случайных прохожих. Но сейчас это были большие группы людей, спешащих из разных улиц. Я вышел, чтобы узнать, что происходит, и кто-то в толпе сказал, что недалеко нашли тело убитого ребенка.
Через несколько часов в газетах появилось сообщение, что на Лукьяновском участке, менее чем в километре от фабрики, было найдено тело убитого русского мальчика Андрея Ющинского. Тело, все в ранах, было найдено в пещере.
В этот вечер один из моих русских соседей, член “Черной сотни”, нанес мне визит. Он заметил, что “в газете говорится” (газета его организации), что это не обычное убийство; что ребенка убили евреи для “ритуальных” целей. Газета, одноименная с организацией, была “патриотической”, посвященной “спасению России от евреев”.
Рядовые русские, которых не волновали великие планы спасения России, говорили, что убийство было совершено некоей Верой Чеберяк и матерью Ющинского.
Подозрение сразу же пало на мать Ющинского, потому что с самого начала после пропажи мальчика она не проявила никакой тревоги. Ющинский пропал 12-го и был найден 20-го. Как объяснить тот факт, что мать не заявила сразу в полицию, не интересовалась поисками, не горевала? Соседи сразу же начали комментировать эти факты. Со временем всплыли новые подозрения.
Отец Андрюши Ющинского, который погиб в русско-японской войне, оставил своему сыну 500 рублей, которые хранились в банке и которые он не мог получить, пока не достигнет совершеннолетия. Тем временем, мать Ющинского нашла себе жениха, которому не нравилось, что он не получит ничего из этих 500 рублей. Эти и другие факты вызвали у людей подозрение в причастности матери Ющинского к его убийству.
Чеберяк подозревалась в других мотивах. Было известно, что ее сын Женя и Андрюша, которым было по 13 лет и которые были одноклассниками, часто вместе ночевали в доме Чеберяк. У полиции было еще одно основание для подозрений. Сотни людей пришли увидеть тело Ющинского, и никто его не узнал: лицо распухло до неузнаваемости. Вера Чеберяк узнала его сразу, что также вызвало подозрение.
Через три дня после того, как было найдено тело, во время похорон начали распространяться листовки, призывающие христиан уничтожать евреев, обвиняя их в убийстве Ющинского “для еврейской Пасхи”. Призывали отомстить за кровь ребенка.
Это была первая попытка отвлечь внимание от настоящих преступников и разогреть религиозный котел, чтобы отвести верные подозрения.
Вера Чеберяк была хорошо известна в Лукьяновском. Ее муж, который служил на телеграфе, редко бывал дома, даже по вечерам. Было известно, что она связана с воровской шайкой, которые не были простыми нарушителями закона. Они великолепно одевались; некоторые даже носили офицерскую форму. В этой шайке был ее брат Сингаевский и двое друзей — Латышев и Рудзинский. Они воровали, а она продавала награбленное. Соседи хорошо знали о ее бесчестной деятельности, но никто не решался вмешаться.
Чеберяк жила в доме, принадлежавшем русскому по имени Захарченко, жившему недалеко от нашей фабрики и входящему в “Черную сотню”. Захарченко часто делился со мной по секрету, что с радостью избавился бы от Чеберяк. Но он боялся неприятностей. После убийства он говорил мне несколько раз, что уверен, что убийство произошло в доме Чеберяк, этом притоне преступности. Через три дня после ареста Веры Чеберяк московская полиция арестовала трех подозрительных молодых людей и, поскольку они были жителями Киева, выслала их туда.
 Вера Чеберяк с мужем и дочерью
Вера Чеберяк с мужем и дочерью
 Андрей Ющинский после смерти
Андрей Ющинский после смерти
После расследования было обнаружено, что они покинули Киев 12 марта, то есть в день исчезновения Ющинского, и что в этот день они провели некоторое время в доме Чеберяк. Фактически, это были три лидера ее шайки.
Когда полицейских Лукьяновского вызвали для опознания трио арестованных, полиция была страшно напугана. Потому что в арестованных они опознали господ, которых часто видели в офицерской форме и которым отдавали честь, считая, что это настоящие офицеры. Полиция знала, что эти господа часто навещали дом Чеберяк, но никогда не сомневалась в их честности.
После ареста этих троих, “Двуглавый орел”, мощное объединение черносотенных организаций, громко возмутился. “Какой публичный скандал! Возможно ли, что евреи, которые убили Ющинского, останутся безнаказанными, в то время как невинные люди будут посажены в тюрьму? Достаньте ребенка из могилы и покажите миру, что его тело было исколото евреями”.
Шум, поднятый Черной сотней, сыграл свою роль. Тело было эксгумировано, и печально известный профессор Сикорский заявил, что это было необычное убийство; что оно было совершено с “религиозными целями”, что это “можно было увидеть” в ранах, которых было “тринадцать”.
Вначале все это казалось смехотворным. Все были уверены, что убийство — дело рук шайки Чеберяк и что этому есть достаточные доказательства, и вдруг появились люди с фантастическими идеями о “тринадцати ножевых ранах” и “религиозных целях”. Но это оказалось совсем не шуткой. “Черная сотня” разработала дьявольский план против евреев, и поскольку погромщики всегда пользовались мощным влиянием, они стали энергично воплощать свой план в жизнь.
Глава III
МОЙ АРЕСТ
Дело было передано следователю Фененко. Он стал часто бывать в нашем районе, измерял расстояния от пещеры, где было найдено тело Ющинского, до фабрики, до дома Чеберяк. Он вел расследование в течение многих месяцев. Газеты погромщиков продолжали свою работу по реабилитации шайки воров и обвинению еврейского народа.
Вдруг агенты полиции начали посещать нашу фабрику. Они спрашивали моих детей, знали ли они мальчика Ющинского и играли ли с ним. Один из агентов занял дом напротив нашего и следил, куда я хожу и что делаю. Мне рассказали, что агенты, видя, что дело “продвигается плохо”, начали угощать русских детей конфетами, чтобы те говорили, что Андрюша бывал у нас в гостях и мои дети с ним играли.
 Дом Менделя Бейлиса
Дом Менделя Бейлиса
Через некоторое время один из агентов, Полищук, стал довольно часто меня посещать. Однажды он сказал мне, что есть “ощущение”, что преступление было совершено на территории фабрики и что это была моя работа. На утро после объяснения Полищука отряд из 10 человек появился на фабрике в сопровождении следователя Фененко. Фененко был в прекрасном настроении, когда начал задавать мне вопросы:
— Вы приказчик на этой фабрике?
— Да
— С каких пор?
— Около 15 лет
— Кроме Вас, здесь много евреев?
— Нет, я здесь один
— Вы ведь еврей. Где Вы молитесь? Здесь есть синагога?
— Я еврей. Здесь нет синагоги. Молиться можно и дома
— Вы соблюдаете субботу
— Фабрика работает по субботам, поэтому я не могу отлучаться
Вдруг он спросил меня:
— У Вас есть корова? Вы продаете молоко?
— У меня есть корова. Но мы не продаем молоко — нам оно нужно самим
— А когда, например, ваш приятель приходит в тебе, Вы продаете ему стакан молока?
— Когда мой приятель приходит ко мне, я даю ему есть и пить, в том числе и молоко, но никогда не продаю его.
Я просто не мог понять этих вопросов о моей набожности и о том, хожу ли я в синагогу. Неужели власти вдруг стали такими набожными, что не могли терпеть того, что я молился без необходимых 10 человек (миньяна), как требовал еврейский закон? И какова была цель его вопросов о корове и молоке?
Фененко и его коллеги было как будто удовлетворены и сердечно со мной попрощались. Когда они уходили, я заметил, что один их них меня сфотографировал. Очевидно, они очень серьезно относились к своей работе.
Это произошло в четверг 21 июля 1911 года, “9 Ава”, день поста для евреев, когда они оплакивают свои великие несчастья: разрушение Храма, изгнание с родины, из Сиона. С этого времени ведется счет всем страданиям евреев в изгнании.
На заре пятницы 22 июля, когда все еще спали, я услышал сильный шум, как будто вызванный большим количеством конных всадников. Прежде чем я успел выглянуть, раздался громкий стук в дверь. Естественно, я испугался. Что могло произойти рано утром? За все 15 лет, что я прожил на фабрике, я не слышал такого шума. Тем временем, стук становился все громче.
Моей первой мыслью было, что на фабрике возник пожар. Я подбежал к окну, и хотя было довольно темно, я узнал жандармскую форму. Что нужно было жандармам здесь в такое время? Почему они стучат в дверь? У меня потемнело в глазах, голова кружилась, я чуть не потерял сознание от страха. Безостановочный стук, однако, дал мне понять, что сейчас не время для размышлений, и я побежал открывать дверь.
В дом ворвался большой отряд жандармов во главе с полковником Кулябко, печально известным начальником Охранки (секретной политической полиции). Поставив охрану у двери, полковник Кулябко приблизился ко мне и строго спросил:
“Вы Бейлис?”
“Да”.
“Именем Его Величества, Вы арестованы. Одевайтесь”, — прогремел его дьявольский голос.
Тем временем проснулись мои жена и дети, и начался плач. Детей испугали блестящая форма и палаши, и они тянули меня изо всех сил, чтобы я их защитил. Бедняжки не знали, что их отец беспомощен, и ему самому нужны защита и помощь.
Меня оторвали от семьи. Никому не позволили ко мне приблизиться. Мне не позволили сказать ни слова моей жене. Молча, сдерживая слезы, я оделся, и, не разрешив успокоить детей или хотя бы поцеловать их на прощание, меня увела полиция.
Полковник остался в моем доме для обыска, а меня увели в Охранку. На улице нам встретилось много рабочих, направлявшихся на фабрику. Мне было стыдно, и я попросил полицию вести меня по тротуару, а не по улице, как обычно вели арестованных. Но мне в этой милости было отказано.
Позже мне рассказали, что именно во время моего ареста шайка воров Веры Чеберяк, включая ее и мадам Ющинскую, были освобождены из тюрьмы как невинные и ошибочно обвиненные.
 Дом Веры Чеберяк
Дом Веры Чеберяк
Глава IV
В ОХРАНКЕ
Когда мы прибыли в Охранку, там было еще тихо. Как правило, русские служащие не спешат рано вставать. Дежурный сержант раздавал указания письмоводителям и тайным агентам. Те бросали на меня пронзительные взгляды.
Я никогда в жизни не представлял, что меня могут арестовать и что мне придется сидеть в Охранке под надзором городового, который ни на секунду не будет спускать с меня глаз. Но, как гласит пословица: “От тюрьмы и от сумы не зарекайся”.
Меня лихорадило, бросало то в жар, то в холод, сильно болела голова. Вдруг я услышал цокот конских копыт, а потом звяканье шпор в коридоре. Дверь открылась, и вошли жандармы, которые оставались у меня дома для обыска. Увидев их, я почувствовал себя более уверенно. Потом принесли чай, спросили, хочу ли я есть, но я поблагодарил и отказался. Я не мог дотронуться до чая, хотя во рту у меня пересохло. Я все время думал: “Что теперь? Почему меня арестовали?”.
Наконец вошел Кулябко. Он протянул мне большой лист бумаги с вопросами. Я должен был ответить на следующие вопросы:
Кто Вы?
Откуда Вы родом?
Какой религии Вы придерживаетесь?
Есть у Вас родственники?
И наконец вопрос:
Что Вам известно об убийстве Ющинского?
Кулябко вышел из комнаты, сказав мне: “Когда Вы ответите на все вопросы, позвоните в колокольчик, и я вернусь”.
Когда я увидел последний вопрос, ощущение было такое, что мне “приставили нож к горлу”. Я наконец понял, что произошло. Я пытался найти утешение в формулировке вопроса: ”Что мне известно об убийстве”. Если так, я был всего лишь свидетелем.
Я ответил на все вопросы. Что касается убийства, я написал, что ничего не знаю, кроме того, что люди говорили об этом на улице. Кто его совершил и с какой целью, я не знал. Я позвонил. Кулябко вошел, просмотрел мои ответы и сказал: “Это все? Вздор. Если Вы не расскажете мне правду, я отправлю Вас в Петропавловскую крепость (хорошо известную в Петрограде политическую тюрьму).
Он разъяренно хлопнул дверью и вышел из комнаты.
Около 4 часов дня я услышал плач ребенка. Я узнал голос одного из моих детей. От ужаса я начал биться головой о стену. Я знал, что мой мальчик очень застенчивый и нервный, но больше всего он боялся полиции. Я боялся, что он может умереть у них в руках.
Пока он плакал, дверь открылась, и вошел Кулябко.
“Видишь, твой сын тоже говорит неправду…”
“Какую неправду?” — спросил я.
“Женя, заходи”. Он ввел сына Черебяк и, повернувшись ко мне, рявкнул:
“Женя говорит, что твой сын играл с Андрюшей, а он это отрицает”.
После этого полковник вывел мальчика из комнаты. Через несколько минут я услышал шаги в коридоре. Я посмотрел через решетку и увидел, что городовой ведет моего 8-летнего сына. У меня защемило сердце, когда он закрыл моего сына в одной из камер. Я надеялся, что меня задержат на несколько часов, допросят и освободят. Я был невиновен, и они должны были увидеть, что произошла ошибка. Тем временем все мои мысли были заняты сыном. Почему они привели его в этот ад?
Вечером вошла русская женщина и сказала:
“Твой сын здесь, но ты не волнуйся. Я за ним присматриваю. Я сама мать; я понимаю твои страдания и сочувствую тебе. Не бойся; Господь спасает честных людей”.
Когда наступил вечер, я понял, что это первый испорченный пятничный вечер за всю мою жизнь. Я думал о том, как обычно проводил вечер пятницы со свечами на столе, с празднично одетыми детьми, в хорошем настроении. А теперь? Дом разгромлен. Жена одна за безрадостным столом. Ни света, ни радости. И все плачут без остановки. Я почти забыл о моих собственных проблемах, думая о моем несчастном арестованном мальчике и скорбящей семье. Я позвонил, и появился Кулябко.
“Послушайте, — сказал я ему, — мне не важно, что будет со мной. Правда выйдет наружу, и меня освободят, но почему держать узником моего сына? Вы сами отец. Мой ребенок здесь заболеет, и это будет на вашей совести. Вы можете его освободить?”
Он улыбнулся:
“Скажите мне правду”.
“Что Вы хотите: правду или ложь? Даже если Вы будете настаивать, я не смогу лгать. Я невиновен”.
“Глупости, глупости, — махнул он рукой. — Я отправлю Вас в тюрьму, и тогда Вы заговорите по-другому”.
Он вышел, хлопнув дверью, и я остался один. Все время я ждал: вот еще минута, всего одна минута, и меня освободят. Но когда я услышал, как часы пробили полночь, я понял, что мне придется провести ночь в этом месте. Я не мог спать. Время от времени я слышал кашель сына, и у меня в голове все переворачивалось.
В субботу утром русская женщина снова вошла ко мне и сказала, что провела ночь в комнате с моим сыном.
Около полудня я услышал, как кто-то спрашивает моего сына:
“Ты найдешь сам дорогу домой или дать тебе сопровождающего?”
Через час городовой вошел в камеру и с улыбкой сообщил мне, что довел моего сына до трамвая, но мальчик отказался сесть в него и побежал домой пешком. Теперь, когда ребенка освободили, я был спокойнее.
В воскресенье я снова услышал детские голоса. Это были мои дети; их, наверное, доставили в Охранку для допроса. Мне позволили выйти на минуту в коридор, чтобы увидеть детей. Через минуту нас опять разлучили.
Меня продержали в Охранке восемь долгих дней. Никто из начальников не приходил встретиться со мной. Это усилило мою тревогу. Я надеялся на лучшее, но ожидал худшего. Если они меня ни о чем не спрашивают, это может продолжаться бесконечно. Почему? Почему? Вечером 3 августа ко мне в камеру вошел городовой и сказал, чтобы я был готов идти к следователю. Это меня подбодрило. Наконец-то! Что бы ни случилось, я хотя бы узнаю, что происходит. Я быстро оделся, и двое городовых отвели меня к следователю.
За то короткое время, что я провел в тюрьме, я почти забыл, как выглядят улицы. Я смотрел на беззаботных прохожих и наслаждался свободой и светом, как будто никогда раньше этого не испытывал. Я ослабел от своей вынужденной изоляции, и мне было трудно идти. Я попросил моих охранников поехать на трамвае.
“Ты арестант и не можешь ехать с другими людьми”, — последовал немедленный ответ одного из городовых.
Некоторые прохожие меня узнали, а часть показывали на меня пальцами.

Пещера, где было обнаружено тело Андрея
Глава V
ИНКВИЗИЦИЯ
Измученный необоснованными оскорблениями, которым я подвергся в Охранке, и обессилевший от долгого похода по городу в сопровождении полицейских, я с трудом добрался до окружного суда. Меня привели в большой зал, где уже находились следователь Фененко, помощник прокурора Карбовский и его помощник Лошкарев.
Они обменивались многозначительными взглядами, как будто исход встречи был им известен заранее. На душе у меня была тяжесть, особенно когда я вспоминал вопросы, которые мне задавал дома Фененко. Их тон был насмешливым.
Обычно, полицейские, которые приводили арестованного к следователю, присутствовали во время допроса. Им не разрешается выпускать заключенного из виду. Здесь я увидел что-то новое: моей охране приказали покинуть помещение. Это увеличило мои опасения. Создалось впечатление, что коварные чиновники задумали какой-то трюк. Но у меня не было выбора. Надежда быстро сменялась отчаянием. Надежду поддерживало знание, что я не виновен; отчаяние было вызвано моим знакомством с российской бюрократией. Вскоре Фененко обратился ко мне:
“Вы знали Андрюшу Ющинского?”
“Нет, — не колеблясь, ответил я. — Я работаю в конторе большой фабрики; я общаюсь с купцами и взрослыми, а не с детьми, особенно уличными. Я уверен, что не смог бы его отличить от любого другого ребенка”.
Помощник прокурора Карбовский, откинувшись на спинку стула и пристально за мной наблюдая, вдруг подался вперед и спросил:
“Говорят, что среди вас, евреев, есть люди, которых называют “цадиким” (благочестивыми людьми). Когда кто-то хочет причинить вред другому человеку, он идет к “цадику” и дает ему “пидьон” (выкуп), и цадик использует силу своего слова, чтобы принести несчастье другим людям”.
Еврейские слова, которые он использовал: цадик, пидьон и подобные им, были записаны у него в записной книжке, и каждый раз, когда он хотел использовать какое-то слово, он в нее заглядывал. Я ответил:
“К сожалению, я ничего не знаю о цадиках, пидьонах и других подобных вещах. Я отдаю всего себя работе и не понимаю, чего вы от меня хотите”.
“А кто Вы? — спросил он, снова заглянув в записную книжку. — Вы хасид или миснагед?” “Я еврей и понятия не имею, в чем разница между хасидом или миснагедом”, — ответил я.
“Что у вас, евреев, называете “афикоман”? На это у меня такой же ответ.
Мне стало казаться, что эти люди несколько неуравновешенны. Чего они добивались? Какое отношение к афикоману имело убийство Ющинского? И почему их занимала разница между хасидом и миснагедом? Мне казалось, что они насмехаются надо мной и некоторыми еврейскими ритуалами.
К сожалению, это была не шутка. На поверхности они выглядели искренними. Возможно, в глубине души они были убеждены, что мальчика убила Вера Чеберяк. Возможно, мне задавали эти вопросы по распоряжению сверху.
После допроса Фененко приказал городовым снова отвести меня в Охранку. Хотя мои надежды снова рухнули, я верил, что ошибка скоро станет очевидной, и меня отправят домой.
Когда мы добрались до Охранки, меня ввели в комнату, где я увидел трех “политических” заключенных, двух евреев и одного русского. В это время у Охранки было особенно много работы, потому что в Киев должен был приехать царь Николай, и надо было очистить город от всех “нелояльных” элементов. Когда мои сокамерники узнали, кто я, они стали меня подбадривать, говорить, чтобы я не терял надежду, что меня скоро освободят. Однако судьба была настроена против меня. Я чувствовал себя как никогда беспомощным. Что мог я, человек без надежды, без друзей, сделать против организованной деспотической власти? Не впервые государство через своих агентов пыталось вызвать погромы. Я успокаивался, когда вспоминал, что у них нет против меня доказательств.
Через несколько дней меня опять вызвали к следователю. Эти допросы всегда волновали меня. С одной стороны, меня это подбадривало, потому что если меня допрашивали, значит, хотели знать правду. С другой стороны, я боялся бессмысленных вопросов, рассчитанных на то, чтобы смутить и запутать меня. Мои страхи увеличились, когда некоторые из моих сокамерников стали говорить, что дело пахнет “политикой”, что его единственная цель — навредить евреям, вызвать погромы. Очевидно, сам министр юстиции был заинтересован в том, чтобы создать “еврейское дело”, предоставив настоящим преступникам защиту правительства. По какой-то странной причине я больше всего боялся Фененко, хотя позже узнал, что именно он был настроен менее всех враждебно.
Когда меня привели в окружной суд, я увидел Фененко одного. Он снова отпустил мою охрану. Он был некоторое время погружен в мысли, затем резко повернулся ко мне:
“Бейлис, Вы должны понимать, что это не я Вас обвиняю, это Помощник прокурора. Это он приказал Вас арестовать”.
“Меня отправят в тюрьму? Мне придется носить арестантскую форму?”
“Я не знаю, что с Вами произойдет. Я только хочу, чтобы Вы знали, что распоряжение исходит от Помощника прокурора, а не от меня”.
Это меня не обрадовало. Меня лихорадило. Все было потеряно. Меня отправят в тюрьму. Ужас от такой перспективы заставил меня заговорить.
“Я хотел бы кое-что Вам напомнить. Впервые в моей жизни мне приходится иметь дело с чиновником вашего ранга, но я знаю, что следователь должен расследовать и выяснить правду. Когда следователь собирает все возможные свидетельства, он составляет обвинение и передает его заместителю прокурора; и если свидетельства говорят о вине подозреваемого, его сажают в тюрьму. Есть доказательств недостаточно, человека освобождают.
Если Вы сейчас отправите меня в тюрьму, значит, Вы нашли что-то против меня. Что я сделал? В каком преступлении меня обвиняют?”
“Не задавайте мне вопросов, — только и смог сказать Фененко. — Я Вам рассказал достаточно. Это Помощник прокурора, а не я”.
Из манеры разговора Фененко я видел, что у всего происходящего была какая-то тайная подоплека. Весь коварный сценарий раскрылся. Времени на размышления не было, так как позвали городового, и он отвел меня в Охранку вместе с запечатанным обвинением.
Вскоре меня вызвали, чтобы перевести в тюрьму. Я обратился с петицией позволить мне провести хотя бы ночь с евреями, с которыми я познакомился в тюрьме, и получил разрешение.
 Бейлис под стражей
Бейлис под стражей
Глава VI
ТЮРЬМА
Охранник, который меня сопровождал в тюрьму, разрешил мне ехать на трамвае, но мы не зашли внутрь, где были пассажиры, а стояли на площадке. По дороге в тюрьму я встретил работников фабрики, ехавших на работу, и своих знакомых. Это только усилило мое уныние.
Во время нашей поездки в вагон поднялся русский, который увидел меня, обнял и поцеловал. Это был Захарченко, владелец дома, где жила Чеберяк.
“Брат, — сказал он, — не падай духом. Я сам член “Двуглавого орла”, но поверь мне, камни, из которых построен мост, могут рассыпаться, а правда все равно выйдет наружу”.
С этими словами он соскочил с трамвая. Мои охранники его отпустили, потому что у него был значок “Двуглавого орла”, а его владельцам позволялось делать все, что они хотели. Городового впечатлила речь Захарченко, и он отнесся ко мне довольно дружелюбно. Доброта, которую проявляли по отношению ко мне многие русские до и во время заключения, смягчила мою горечь по отношению к моим преследователям.
Мы вышли из трамвая на последней остановке перед тюрьмой и пошли пешком. Проходя мимо рынка, городовой подошел к прилавку, купил несколько груш и предложил мне. Я не мог скрыть своего удивления. “Я купил их для тебя, — сказал он. — Ты идешь в тюрьму, там их тебе не дадут”.
Как только мы вошли в двери тюрьмы, служащий выкрикнул мое имя: “Бейлис”, и все прибежали на меня посмотреть. Все посмеивались и пожирали меня глазами. Один из них набрался храбрости, подошел ко мне и саркастически сказал: “Здесь мы будем кормить тебя мацой и кровью, сколько захочешь. Иди переодевайся!”
Меня завели в маленькую комнату и дали “королевское одеяние” — мрачную тюремную одежду. Когда я снимал обувь, кровь прилила к моей голове, у меня потемнело в глазах, и я почувствовал, что сейчас потеряю сознание. Охранник подошел и снял с меня обувь. Когда меня посадили в кресло и начали стричь, я опять начал терять сознание. Тот же русский подошел и дал мне воды.
Около полудня меня привели на место моего будущего проживания, где я обнаружил около 40 заключенных. Дверь заперли. Выхода отсюда не было. Надо было надеяться, крепиться, быть сильным как решетки на двери, чтобы выжить в этом грязном, темном помещении. Я рассмотрел мой новый “дом” и новых друзей. Стены были выкрашены дегтем. Решетки не пропускали ни одного луча солнца. Отвратительный запах грязи и немытого человеческого тела вызывал тошноту. Толпа заключенных прыгала, танцевала, вытворяла странные вещи. Один пел песни, другой рассказывал смешные истории, некоторые боролись либо дрались на кулаках. Неужели я осужден на эту атмосферу на всю жизнь, или это часть страшного сна?
Мне снова вспомнились слова Фененко: “Это приказ Помощника прокурора, не мой. Это не я Вас обвиняю”.
Я сел в одном из отдаленных уголков, склонив голову и размышляя о своей судьбе. Пока я был погружен в размышления, дверь большой камеры открылась, и пьяный голос прокричал: “Обед”.
Когда я впервые оказался в камере, я увидел на полу несколько ведер, как в бане. Когда прозвучал клич на обед, несколько заключенных побежали к ведрам, которых было четыре или пять. В камере было около 40 человек. Споров о ведрах не было, потому что десять человек могли свободно есть из одного ведра. Но было только 3 ложки. Кто будет есть первым? Началась куча мала. Последовала ожесточенная драка, но после того, как кое-кто пострадал и почти все выбились из сил, ложки попали в руки самых сильных и проворных. Было объявлено перемирие, и люди уселись есть на полу. Каждый съедал несколько ложек и передавал другому. Иногда кто-нибудь обманом съедал на одну — две ложки больше. Тогда опять начиналась драка, сопровождаемая самой отборной руганью, на которую способны преступники.
Я сидел в своем углу и с ужасом смотрел на картину жизни в тюрьме. Когда все поели, принесли чай, который был больше похож на воду. Вдруг один из заключенных подошел ко мне и предложил кусок сахара. Он разговаривал знаками; он был явно немой и похож на еврея. Он выпил свой чай, а затем принес и мне в маленьком кувшине. Так прошли первые несколько часов в тюрьме.
Вечером привели нового заключенного — еврея. Его прибытие немного облегчило ситуацию — теперь, по крайней мере, было с кем поговорить. Я подошел и представился. Он очень удивился, услышав мое имя. Хотя у него самого были проблемы, потому что он поджег свой дом, чтобы получить страховку, он забыл о собственных неприятностях и озаботился моими. Его двоюродный брат был прорабом — строителем в Киеве и имел хорошие связи в правительстве. Поэтому ему разрешили получать еду снаружи, и он делился со мной.
Утром мой друг заболел, и его забрали в лазарет. Надо сказать, что комната, в которой я находился, не была обычным тюремным помещением. Она также принадлежала лазарету, и в ней надо было провести тридцать дней до перевода в “настоящую тюрьму”. Мне рассказали, что ведра, из которых мы ели, использовали также для стирки в прачечной.
В первые два дня меня не было в списках на довольствие, поэтому я не получал хлеб. На третий день меня внесли как регулярного постояльца, и я стал получать хлеб — единственное, что я мог есть. Я не мог дотронуться до супа из-за банных ведер. Однажды во время обеда один заключенный нашел в ведре четверть мыши, которая, скорее всего, попала туда с мелким гравием на тюремном складе. Человек, который ее нашел, продемонстрировал ее не столько для протеста против администрации тюрьмы, сколько для того, чтобы испортить другим аппетит и самому получить больше.
Дни проходили, и я чувствовал, что слабею. Я начал есть. Я мог получать домашнюю еду только в день посещений по воскресеньям. Я нетерпеливо ждал воскресений. Мне не терпелось услышать домашние новости. Я никогда не забуду страстности, с которой я ждал воскресенья. От нетерпения я не мог спать в субботу ночью. Спина и плечи болели от лежания, потому что постелью служил пол. Я бы лучше ходил, но это запрещалось. Я как будто лежал на граблях.
Наконец счастливый день. В воскресенье мне принесли пакет с едой, которой должно было хватить на всю неделю. Когда мои сокамерники увидели передачу, они очень обрадовались. Они тут же вырвали ее у меня из рук и сразу же проглотили ее содержимое. Они разорвали пакет, стараясь получить долю побольше. Пока они рвали друг у друга еду как собаки, я напомнил себе, что меня ожидает еще одна голодная неделя. За мной наблюдали, не проявляю ли я признаков недовольства. Потому что недовольство товарищами означало хорошую порку. Мне пришлось сделать счастливое лицо, почти радость от того, что они едят мою передачу, и сказать: “Приятного аппетита, ребята!”.
Эта осень была особенно холодной. Почти все стекла в окнах были разбиты. Ночью был ледяной холод. Мокрый и грязный пол, кишащий паразитами, не прибавлял радости. Все мое тело было искусано и чесалось. Прошел месяц, и меня перевели в другое место, где тоже было около 40 заключенных, большинство на долгие сроки. В этом месте я нашел трех новых компаньонов-евреев, которые окружили меня заботой, услышав о моем деле.
Меня перевели на новое место в субботу. В воскресенье утром я снова был в нетерпении. Когда я получил свою продуктовую передачу, евреи научили меня, как себя вести, чтобы не ограбили. Я должен был отдать пакет им, а они за ним присмотрят; другие их боятся и не будут вмешиваться. Я так и поступил, и мы вместе ели и пили пять дней. Пришло время их суда, и они были освобождены.
Пока эти евреи были со мной, русские ко мне не приближались. Как только евреи ушли, русские стали дружелюбнее и относились ко мне довольно уважительно. Они знали о моем деле и удивлялись вопросам, которые мне задавало следствие. Они все предсказывали, что это ничем не кончится. Один из них, некий Козаченко, особенно со мной подружился и постоянно осыпал меня комплиментами. Вначале я не мог понять его избыточное дружелюбие, потому что он не производил впечатление дружелюбного от природы человека. Только позже я понял его игру. Но это “открытие” стоило мне очень дорого.
Глава VII
КРОВАВЫЙ АНАЛИЗ
В следующее воскресенье я опять получил продуктовую передачу. Я был ей рад — и другие узники были рады не меньше меня. Один из них предложил отдать ему пакет для “охраны”. Но я знал, что он способен в мгновение ока очистить его содержимое, поэтому поблагодарил, но сказал, что сам в состоянии за ним присмотреть.
Через некоторое время привели трех новичков — еврея и двух русских. Еврей пожаловался мне, что не может есть тюремную пищу и что у него нет сахара к чаю. Я предложил ему кусок халы и сахар, которые он принял с благодарностью.
Он спросил, за что я сижу.
Я хотел избежать обычных соболезнований и сочувствия, поэтому сказал, что сижу за конокрадство. Я спросил, в чем его обвиняют. Он сказал, что у него было 500 рублей, и он хотел заплатить за какую-то покупку. Деньги оказались фальшивыми, и его арестовали. Вскоре, однако, он был освобожден.
Однажды во время “променада” один из заключенных окликнул меня: “Бейлис”. Молодой еврей повернулся ко мне в изумлении.
“Вы Бейлис? Почему Вы мне сразу не сказали? Почему Вы скрываете свое имя? Я рад находиться с Вами в одной камере. Не печальтесь — Б-г Вам поможет”.
Приближалось время, когда заключенные должны были меня “анализировать”. Сначала я не знал, что это означает на тюремном жаргоне. Но вскоре узнал.
Когда группа заключенных проходит по одному делу, возникает необходимость договориться о том, что говорить на суде, чтобы не запутаться. Если в камере есть чужак, он может подслушать и доложить об этом. Поэтому его подвергают анализу — предварительному избиению. Если он не пожалуется, они будут чувствовать себя в безопасности и свободно говорить в его присутствии.
Я начал понимать причины их дружелюбия. Это делалось, чтобы разжечь ссору и произвести “анализ”. Однако не все склонялись к анализу. Никто не хотел быть зачинателем и провокатором. Был один, который рассердился за меня за то, что я не дал ему охранять мои продукты, и взял на себя эту миссию. Кроме того, у него “был зуб” на евреев, потому что в воровстве его обвинил еврей. Я знал, что именно этот заключенный хотел со мной “рассчитаться”. Я был беспомощен.
Вот как это произошло. Я не мог носить свою обувь и ходил в тюремных “сабо” с вылезшими гвоздями. От беспрерывного хождения, которое отвлекало от мрачных мыслей, ноги сильно болели и кровоточили. Как-то, устав от хождения, я присел на стул. Тут же прибежал этот крестьянин и попросил меня уступить ему стул. Я не успел ответить, а он уже ударил меня так, что потекла кровь. Все ждали, как я отреагирую. Им было страшно видеть кровь, и мне принесли воду, чтобы ее смыть. Когда я отказался от воды, один закричал:
“Коли его! Разделайся с ним. Видишь — он сейчас запросит пощады!”
Молодой еврей подошел ко мне и стал умолять: “Будьте благоразумны. Смойте кровь. Если Вы этого не сделаете, Вас переведут в другую камеру. Мне придется остаться здесь, и они выместят на мне свою злобу. Если Вы умоетесь, они станут сговорчивее. Сделайте это”.
Я так и сделал: умылся из уважения к молодому человеку. После чего все русские набросились на крестьянина и стали его бить. Они говорили: “Евреев надо судить по-другому”.
Утром я пошел на “променад”. Со мной был крестьянин, который меня ударил, и еще один русский. Охранник увидел мой распухший глаз и спросил, кто это сделал. Не успел я ответить, как русский показал на крестьянина. Надзиратель схватил крестьянина за шиворот и повел нас в контору. По пути мы прошли мимо нескольких надзирателей. Каждый спрашивал, в чем дело, и давал кр естьянину затрещину. Последний надзиратель, которого мы встретили, схватил его и сбросил со ступенек. Я боялся, что он разобьет голову.
В конторе у него спросили: “Почему ты ударил Бейлиса?” Он ответил:
— Я попросил у него как у друга уступить мне стул. Он не разрешил, и я его ударил.
— Он твой друг? — сурово спросил смотритель.
— Понимаешь, он берет наших детей и пьет их кровь. Неужели он будет тут нами командовать?”
— Ты сам видел, как он убивал детей? — спросил смотритель.
— Нет, мне рассказали.
— Хорошо, тогда вот тебе, — и смотритель сильно его избил.
Вырезка из местной газеты после ареста Бейлиса

Глава VIII
СОГЛЯДАТАИ
Меня перевели в другое помещение, потому что я не мог оставаться рядом с моим другом — крестьянином. В этой камере было всего двенадцать человек, в большинстве своем мелкие чиновники, полицейские и им подобные, которые совершили мелкие проступки. Все они подозрительно ко мне отнеслись.
Через несколько дней меня вызвал смотритель и спросил, относятся ли ко мне в новом помещении так же плохо, как и в старом. Когда я сказал, что лучше, он ушел. На новом месте я заметил, что охранник брал у заключенных письма для передачи на волю и приносил ответы, всего за несколько копеек.
Тем временем новостей от моей семьи я не получал. Будучи в хороших отношениях с Козаченко, я сказал, что хотел бы послать весточку семье. Я написал письмо, постаравшись не оставить пробелов, чтобы никто не мог ничего вписать. В письме я спрашивал о самочувствии жены и семьи и о причине их молчания и бездействия. Почему они ничего не предпринимают? Я был невиновен. Наверное, я никого не интересовал. Я написал, что не знаю, смогу ли выдержать дальнейшее заключение. Я также упомянул, что подателю письма надо дать пятьдесят копеек и ответ для меня.
Я дал письмо охраннику, и он потом принес мне ответ. Я прочитал его и тщательно уничтожил. Через несколько дней он спросил меня, хочу ли я отправить еще одно письмо. Я отказался.
Вскоре должен был состояться суд над Козаченко. Он как-то подошел ко мне и сказал: “Послушай, Бейлис, весь мир знает, что ты невиновен. Когда меня выпустят, я сделаю для тебя все, что смогу. У меня есть достаточно информации от заключенных, которые знают настоящих убийц”.
На суде его оправдали. Он вернулся на ночь в тюрьму. Утром, когда он уходил, я дал ему письмо для моей жены. Я написал, что податель этого письма расскажет ей мои новости.
Все это было в среду. В пятницу вечером меня вызвали в контору. У меня было плохое предчувствие. Меня встретили два чиновника — инспектор и еще один. Инспектор спросил:
“Вы писали письма семье?”
Сначала я не знал, что сказать. Все мои подозрения пали на Козаченко, который с самого начала казался мне подозрительным. Я решил, что, наверное, это он передал мое письмо чиновникам, чтобы заслужить их благосклонность. Я не подозревал охранника в предательстве. Тем более что он принес мне ответ. Поэтому я не хотел создавать ему проблем и сказал инспектору: “Я передал письмо
с Козаченко”. В ответ он прочитал мне оба письма, в том числе то, которое я дал охраннику. Я понял, что это была западня, подстроенная мне с самого начала охранником, чтобы заполучить мои письма и отдать их начальству. Мне приказали вернуться в тюрьму.
Часа через два, в пятницу вечером, когда все правоверные евреи сидели за праздничными столами и пели “змирот”, дверь нашей камеры открылась, и мне строго приказали: “Соберите вещи и следуйте за мной”.
Я взял свои вещи, и меня привели в маленькую камеру, в которой было невероятно холодно. Я осмотрелся: в камере никого не было. Я умолял охранника дать мне хотя бы матрас. Он ответил: “Завтра, но это не важно. Ты ночью умрешь”.
Он закрыл дверь. Я сидел на холодном, мокром полу и дрожал от холода. В непередаваемых страданиях я ждал наступления утра. Мысли о письмах не покидали меня. Я боялся, что раз письма попали в руки чиновников, они могли арестовать мою жену. Утром пришел помощник смотрителя. Я умолял его либо приказать обогреть камеру, либо отдать приказ застрелить меня и положить конец моим мучениям.
От ответил: “Сам я не могу ничего сделать. Я попрошу указаний. Подождите час”.
Он вернулся через час, и меня перевели в маленькую, но теплую камеру.
Я ждал воскресенья. Пришло воскресенье, но никого не было, и продуктовой передачи тоже не было. Я был уверен, что мою бедную семью арестовали. Возможно ли, что на свободе не осталось никого, кто мог бы обо мне позаботиться? Я слышал детские голоса в тюремном дворе, и мне казалось, что это голоса моих детей. Я думал, что их и жену бросили в тюрьму.
В понедельник пришел сам смотритель. Я спросил: “Почему я ничего не получил в воскресенье? Из-за писем?”
От ответил: “За письма Вы получили “строгое заключение”. Это запрещено. Что касается продуктовой передачи, это не наша вина: очевидно, что-то произошло у Вас дома. Я выясню”.
Я воспользовался случаем и попросил прислать еще одного человека в камеру — приличного человека, потому что от одиночества можно сойти с ума. Он пообещал удовлетворить мою просьбу и ушел.
Через час в камеру ввели двух молодых людей. Их ноги и руки были скованы цепями. У них был довольно дикий вид. Наверное, убийцы. Я бы с радостью отказался от их компании. Но мне пришлось скрыть свои чувства и смириться. Все равно ничего нельзя было сделать.
Прошло еще несколько дней. Однажды утром мне вручили письмо от жены. Она писала, что плохо себя чувствовала, не могла прийти сама, поэтому передает деньги. Меня подбодрило, что они все дома. Но почему я в тюрьме? Что со мной сделают? Сколько времени будут продолжаться мои несправедливые, незаслуженные мучения? Когда наступит конец моим несчастьям?
Эти вопросы не оставляли меня. Я весь день двигался, как выживший из ума человек. Неужели никто не возьмется за мое дело? Неужели нельзя ничего сделать для моего освобождения?
Глава IX
ВКУС ТЮРЕМНОЙ ЖИЗНИ
12 января меня вызвали в участковый суд для получения обвинительного заключения. Моей радости не было границ. Что бы ни произошло, я хотел знать мое положение, знать, в чем меня обвиняют.
Меня повели в участковый суд. На мне был русский красно-коричневый овчинный полушубок, на ногах туфли без подметок. В суде я увидел жену и брата, с которым давно не виделся. Однако поговорить нам не дали. Утром до похода в суд я получил от них письмо, в котором говорилось, что я должен буду заявить в суде, что в качестве адвокатов я пригласил господ Грузенберга, Григоровича-Барского и Марголина.
Мне выдали обвинительное заключение. Когда я понял, что в нем написано, я был ошеломлен. Нет, меня не обвиняли открыто в “ритуальном убийстве”. Меня обвиняли в убийстве Ющинского или в пособничестве другим в его убийстве. Меня обвиняли в соответствии с законом о преднамеренном убийстве, при котором смерть жертвы наступила от телесных пыток либо жестоких мучений перед смертью. В случае осуждения закон требовал 15 — 20 лет каторги.
Конечно, будь это обычное уголовное дело, обвинительное заключение было бы чем-то вроде личного “ложного обвинения”, навета. Однако, поскольку расследование были направлено на то, чтобы превратить это в дело о “ритуальном” убийстве, оно выросло в “ложное обвинение” против еврейского народа. Меня удивил Фененко. Он сказал, что не обвиняет меня, и тем не менее, составил обвинительное заключение. Как мне потом рассказали, сначала он намеревался отменить его, поскольку против меня не было никаких доказательств. Он сам это сказал, но прокурор киевского окружного суда вместе с печально известным Замысловским и всей бандой черносотенцев вынудили его сформулировать обвинительное заключение. Нужно помнить, что Фененко даже не собирался меня арестовывать. Все это сделал прокурор Чаплинский. Однако “высшие власти” все равно были недовольны обвинением. В своей основе оно было слабым. Кроме того, власти сильно хотели, чтобы дело имело ритуальный характер. Прокурор приложил все усилия, чтобы внести в обвинительное заключение, что Ющинский был убит в “религиозных целях”. Мне рассказали, что Фененко несколько раз вызывали к Министру юстиции в Санкт-Петербурге, но он оставался непреклонным.
Убитого горем, меня снова отвели в мою темную и грязную камеру. В это время я начал ощущать, что у меня отекают ноги — они были покрыты язвами. На моих туфлях не было подметок, поэтому передвижение по снегу и льду вызывало сильные страдания. Отсюда отеки и язвы. Боль была почти невыносимой. Кожа лопалась, из ран сочилась кровь. Окружавшие не очень сочувствовали моим страданиям.
Я попросил, чтобы меня осмотрел врач. Я был в агонии. Чиновники были довольно милостивы и прислали фельдшера. Он посмотрел на мои раны и сказал, что меня надо перевести в лазарет. Вскоре пришел охранник и закричал: “Давай скорей, пошли”. Но я не мог двигаться; ноги так отекли, что я не мог встать. Он не хотел ничего слышать и продолжал кричать:” Давай, пошли”.
Один из заключенных принес какое-то тряпье и обернул мне колени. Так, передвигаясь на коленях ползком по льду и снегу, я добрался до лазарета.
В лазарете был другой фельдшер, который жил на Юрковской недалеко от нашей фабрики. Когда он меня узнал, то побледнел и задрожал от жалости и удивления. Он тут же приказал меня раздеть и сделать теплую ванну. Потом мне дали чистое белье и теплую постель. Это произвело такой благотворный эффект, что я беспробудно проспал 36 часов. Я не хотел расставаться с постелью.
После хорошего отдыха мне сделали операцию. Мой друг фельдшер не присутствовал — операцию делал врач. Когда он начал открывать раны, я дрожал от боли и кричал. Доктор улыбнулся и сказал: “Ну, теперь, Бейлис, Вы сами знаете, что чувствуешь, когда тебя наносят ножевые раны. Представьте, что чувствовал Андрюша, когда Вы наносили ему раны и брали кровь — и все во имя вашей религии”. Представьте, как весело мне было от насмешек врача. Он вскрывал раны не торопясь, а я кусал губы, чтобы не кричать. После операции двое заключенных отнесли меня в постель.
Я пролежал три дня. Мне надо было там пролежать дольше, но доктор не собирался “облегчить” мне жизнь. Меня одели в мою прежнюю одежду и отправили в тюрьму. В камере моих бывших компаньонов уже не было.
Поскольку одиночество очень на меня давило, я опять попросил кого-то прислать. Привели второго заключенного. Сначала я боялся, что это будет еще один из шайки Козаченко, т. е. соглядатай. Но он оказался честным крестьянином.
Мой компаньон оказался заядлым курильщиком, а в моей камере курить было нельзя. Для него это было очень большое лишение. Через несколько дней он попросился назад в свою прежнюю камеру, потому что не мог жить без курева. Смотритель удовлетворил его просьбу, и он собирался уходить. Но когда за ним пришел охранник, он засомневался и сказал: “Нет, мне жаль этого еврея; он честный человек. Ему нравится быть в моей компании, и я останусь”. И он остался. Он пробыл со мной две недели, после чего его выпустили из тюрьмы. Перед расставанием он обнял меня и заплакал. “Я знаю, — сказал он, — что ты страдаешь несправедливо. Верь в бога, он тебе поможет. Тебя освободят. Евреи честный народ”.
Я остался один наедине с тяжелыми мыслями, который меня преследовали и наводили уныние.
Глава Х
ПЕРВЫЙ ВИЗИТ АДВОКАТОВ
Прошло восемь месяцев с того рокового утра, когда меня впервые отправили за решетку. Восемь темных месяцев ушли в небытие, а конца моим мучениям не было видно. Кроме того, я не знал, делается ли что-то для меня за пределами тюрьмы, и кто собирается меня защищать.
Где-то в это время, в ноябре или декабре, жена и брат сообщили мне, что сразу же после моего ареста они наняли для меня адвоката Марголина. Меня также уведомили, что я не смогу встретиться с адвокатом, пока не получу обвинительное заключение. В один из этих мрачных дней дверь в камеру неожиданно открылась, вошел почтенный господин еврейской внешности и представился как господин Грузенберг, один из моих адвокатов. До этого он не мог со мной встретиться из-за вышеупомянутого закона. Однако теперь, когда обвинительное заключение было готово, он мог навещать своего клиента так часто, как посчитает нужным. Его появление произвело на меня сильное впечатление. Грузенберг пытался подбодрить меня: “Держите себя в руках. Я пришел к Вам от имени еврейского народа. Вы должны нас простить, потому что вынуждены страдать за всех нас. Я говорю Вам, что считал бы за счастье обменяться с Вами одеждой, чтобы Вы вышли на свободу”.
“У меня одна просьба, господин Грузенберг, — ответил я. — Человек должен знать свое положение. Расскажите мне, пожалуйста, как обстоит мое дело. Я буду мужественным, даже если оно неблагоприятно. Но я не могу жить в этом состоянии неопределенности. Скажите мне правду”.
“Вы правы, — сказал он, — Вы должны знать все, но никто из нас не в состоянии точно оценить ситуацию. У меня было подобное дело с Блондесом (тоже обвиненным в ритуальном убийстве) в Вильно. Невозможно предугадать, как повернутся обстоятельства”. Я передал ему то, что сказал мне Фененко во время одной из встреч (цитируя русскую пословицу) — “Перемелется — мука будет”. Грузенберг покачал головой: “У нас может быть мука (от помола зерна и от страдания)”. Уходя, он подбодрил меня тем, что меня будут защищать лучшие российские адвокаты: Зарудный, Маклаков, Григорович-Барский и другие, и что скоро каждый из них меня навестит.
Его визит принес мне большое облегчение. Я стал сильнее верить в возможное освобождение, хотя мои адвокаты не давали мне ложных надежд. Меня обрадовал тот факт, что были люди, заботившиеся о моих интересах, что меня не забыли и что светила российской юриспруденции готовы меня защищать. Следующий визит нанес Григорович-Барский. Я спросил: “Не стоит ли попытаться освободить меня под залог или обратиться к самому царю с просьбой о милосердии?”. Он улыбнулся и покачал головой. “Вы знаете, что царь недавно посетил Киев?” “Да, — сказал я, — новые заключенные рассказывали. Я также слышал, что начальник Охранки Кулябко, который меня арестовал, попал в опалу во время царского визита, потому что не смог предотвратить убийство премьера Столыпина прямо на глазах у царя”.
“Да, это так, — подтвердил Григорович-Барский, — царь был в Киеве. Я в это время служил Помощником прокурора. Я был в составе делегации для встречи царя. Со мной был один из моих коллег. Когда киевский прокурор Чаплинский сказал: “Ваше Величество, я рад сообщить, что найден настоящий убийца Ющинского. Это жид Бейлис”, царь снял головной убор и перекрестился, “благодаря Всевышнего”. Я спрашиваю Вас, Бейлис, к кому Вы хотите обратиться с просьбой о милосердии — к человеку, который благодарит Всевышнего, что жида подозревают в убийстве?” Я остолбенел. Барский некоторое время молчал. Я не мог прийти в себя от того, что он мне рассказал. Я знал, что Николай не был другом евреев, но то, что он открыто проявил такое удовлетворение по поводу преследования еврея, да еще перед собранием своих чиновников, я не мог себе представить.
“Я расскажу Вам еще одно, — сказал Григорович-Барский дружеским тоном. — Когда царь был в Киеве, он должен был в один из дней посетить некое место. Его ожидала большая толпа, которая вызывала неприятное чувство, хотя соблюдался строгий порядок. Я был там с другом, мы хотели посмотреть процессию. Какой-то полковник проходил мимо, толкнул еврея и назвал его “жид”. Мы с другом были одеты в гражданское платье. Еврей, которого толкнул полковник, хорошо выглядел, достойно себя вел и никак не заслуживал оскорбления. Я обернулся к полковнику: “Почему такая грубость?” Он ответил: “Ты, жидовский защитник!”. Мы сильно поспорили, и в конце концов я привел полковника к судье, который дал ему восемь дней тюрьмы, чего он вполне заслужил за свою грубость. Все эти неприятные случаи привели меня к решению оставить правительственную службу. Я отказался от поста Помощника прокурора и стал адвокатом”.
До встречи с Григоровичем-Барским мне дали подписать бумагу, которая официально уведомляла, что Шмаков, адвокат со стороны Ющинского, подал против меня гражданский иск в размере семи тысяч рублей. Это позволило бы ему участвовать в суде надо мной. Я спросил Григоровича-Барского, кто такой Шмаков. Он сказал, что это старик, отъявленный антисемит, чьи взгляды не имеют большого значения. Мой адвокат был довольно оптимистичен по поводу моего дела. Он рассказал, что лучшие эксперты и ученые России будут вызваны в суд и что Шмаков будет выглядеть нелепо перед таким собранием. Мы расстались как старые друзья.
После этого меня регулярно навещали мои адвокаты. Часто бывал г-н Марголин. Он поддерживал постоянную связь с моей семьей и всячески меня подбадривал.
Глава XI
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ С ДОБРОЙ ДУШОЙ
Страдая от одиночества, я опять попросил дать мне компаньона. Мою просьбу удовлетворили, и ко мне в камеру перевели поляка Пашловского. Его приговорили к каторге, и он ждал отправки в Сибирь. Он был очень умным человеком, хотя и совершил не одно убийство.
Вечером его вызвали в тюремную контору. Мне стало от этого не по себе, поскольку человеку, которого уже осудили, нечего было делать в конторе. Он вернулся в хорошем настроении. Он подошел ко мне, с трудом удерживая смех. “Почему ты смеешься? — спросил я с беспокойством. — Что произошло в конторе?”. Заключенный ответил: “Я бы тебе рассказал, Бейлис, но ты сильно нервничаешь. Если я тебе расскажу всю историю, ты возбудишься, так что лучше тебе ничего не знать”. Я снова начал его допрашивать. “Я вижу, ты хороший человек, раз так заботишься о моем здоровье. Спасибо тебе за это. Если бы ты не смеялся, я бы ничего не знал, но раз ты мой друг, ты должен мне все рассказать. Лучше правда, даже если она неприятная”.
Он подумал немного, а потом махнул рукой и сказал: “Раз ты настаиваешь… Меня привели в контору. Там было довольно много людей. помощник прокурора, смотритель, все оживленно беседовали. На столе лежал серебряный портсигар. помощник прокурора предложил мне папиросу. Можешь представить мое удивление. Кто я, и кто они? Я заключенный, а меня угощают папиросами. Очевидно, им что-то было от меня нужно. Я тоже не дурак. Смотритель начал говорить самым дружественным тоном, как будто речь шла о его жизни. “Ты христианин, один из нас, — сказал он, — и я уверен, что тебе также не безразличны наши христиане, наша кровь, как и нам”. Он помолчал и затем продолжил: “Ты в одной камере с Бейлисом. Расскажи нам, что он говорит. Он тебе что-нибудь рассказывает?” Я ответил: “Он оплакивает свои несчастья. Он жалуется, что страдает незаслуженно и несправедливо”. Помощник прокурора подключился к разговору: “Мы знаем, что он это говорит; этого надо было ожидать; но ты умный человек и разбираешься в людях. Ты должен уметь отличить его правду от его лжи. Разве у него никогда не сорвалось какое-нибудь слово?”
Я сразу понял, что передо мной шайка нечестивцев, и сказал: “Господа, я вырос среди евреев. В шесть лет я потерял отца и мать и остался круглым сиротой. Мои родственники определили меня в ученики к слесарю еврею. Я прожил в его доме 12 лет. Я покинул его взрослым человеком с профессией в руках. Я зарабатывал деньги и женился. У меня были друзья среди евреев и новообращенных. Могу сказать, что знаю многое о еврейских традициях и достаточно об их религиозных ритуалах. Я знаю это от А до Я. Это неудивительно, поскольку я вырос в еврейском доме как равный. Я знаю, что они не будут есть яйцо, если в нем есть кровяной тромб. Для них это “треф”. Я видел это сотни раз. Я видел, как они солят мясо, и спросил хозяйку, для чего это делается. Она мне ответила, что это выводит из мяса всю кровь. “Мы это делаем, потому что вообще не должны есть кровь”.
Я христианин и верю в Святой Крест, но когда мне говорят, что евреи используют кровь, особенно человеческую; что Бейлис убил христианского ребенка, чтобы получить его кровь; я говорю вам, что это все подлая ложь.
Когда я закончил говорить, их взгляды могли убить. Он увидели, что я не тот человек, который им нужен. Папироса не помогла. Некоторые из них потеряли терпение. “Ну ладно, — сказал помощник прокурора, — Но может, он говорит во сне?”. Я сказал, что никогда этого не слышал. Они увидели, что от меня мало чего можно добиться, и отправили обратно в камеру. Вот почему я смеялся. Я вижу, что у них нет конкретных доказательств против тебя и что они ищут “вчерашний снег”.
Долго он со мной не оставался. Они увидели, что он слишком хорошо ко мне относится. Нам пришлось расстаться, потому что они не могли его заставить служить их целям. Усиливалось впечатление, что правительство понимает слабость этого дела, что обвинительное заключение слабое. Было очевидно, что если бы черносотенцы считали дело сильным, они бы не прибегали к помощи соглядатаев и каторжников.
ЗАЩИТА БЕЙЛИСА
 Грузенберг
Маклаков
Карабчевский
Грузенберг
Маклаков
Карабчевский
 Марголин Григорович-Барский
Зарудный
Марголин Григорович-Барский
Зарудный
Глава XII
НОВЫЕ ИНТРИГИ
В тюрьме стали распространяться слухи, что некий журналист Бразуль-Брушковский написал Помощнику прокурора, что у него имеются сведения, что убийство мальчика Андрюши было совершено любовником Веры Чеберяк. Еще говорилось, что заявление Бразуля, сделанное на основе признания Чеберяк, якобы не подтвердилось достаточными уликами. Только весной 1912 года следствие вышло на правильный след, а Бразуль-Брушковский и его друг Красовский выступили с новым заявлением.
Журналист
 Капитан Н. Красовский
С. Бразуль-Брушковский
Капитан Н. Красовский
С. Бразуль-Брушковский
Первое обвинительное заключение было отменено, вместо него составлено новое. Именно тогда арестовали Веру Чеберяк. Все это возродило во мне новую надежду. Однако она была кратковременной. Летом из Санкт-Петербурга был прислан новый окружной прокурор, который дал расследованию новое направление.
Через несколько дней после истории с каторжником, которую я описал выше, меня вызвали в Окружной суд. Я шел туда с радостью. Я был рад снова увидеть мир и вдохнуть свежий воздух. В этот раз сопровождающий повез меня на трамвае. К несчастью, трамвай загорелся, и нам пришлось идти пешком. Многие люди знали, что меня поведут в Окружной суд, и некоторые пришли посмотреть на меня и сфотографировать. В зале заседаний, куда меня привели, я увидел Помощника прокурора Машкевича и какого-то профессора.
“Послушайте, Бейлис, — сказал Машкевич, — на брюках Андрюши нашли три волоска, и если Вы не будете возражать, я бы хотел показать эксперту ваши волосы”.
Я даже смотреть не хотел на этого человека, но вежливо ответил: “Если нужно, возьмите”. “Нет, — сказал помощник прокурора, — Вы должны это сделать сами”. Я взял ножницы с его стола, отрезал с головы несколько волосков и положил в конверт.
Потом я об этом пожалел. Кто знает, что задумали эти трюкачи? Они могли покрасить волосы. Но потом я подумал: пусть делают что хотят. На этот раз меня тут же отправили назад в тюрьму.
Через три дня меня вызвали в тюремную контору. Требовались отпечатки моих пальцев. Я спросил: “Это делают всем заключенным?” Мне ответили: “Только тем, кому грозит каторга”. “Зачем это нужно?” — поинтересовался я. Мне сказали, что на Андрюшином ремне нашли отпечаток пальца. Мои отпечатки нужны были для сравнения. После этого меня отправили назад в камеру.
В это время моей жене разрешили навестить меня в тюрьме. Мы могли видеть друг друга через двойные решетки, и не более 5 минут. Шум и крики в комнате для посещений были такие, что мы с трудом слышали друг друга. Тем не менее, для меня это была огромная радость.
Однажды я получил радостную весть, что мои жена и дети смогут увидеться со мной в тюремной конторе. Меня тут же отвели туда. Но там не было никого из членов моей семьи. Я терпеливо ждал, но постепенно стал нервничать. Я давно не видел детей. Как они выглядят? Как они страдают — и за что? Минуты тянулись дольше, чем годы. Сколько еще ждать?
В конторе сидели 6 чиновников. Среди них помощник прокурора Машкевич. Они внимательно за мной наблюдали и о чем-то говорили между собой.
Наконец вошли жена, дети и брат. Сестре моей жены не разрешили зайти. Когда я увидел моего младшего четырехлетнего сына, я взял его на руки и стал целовать. Охранник подскочил и вырвал ребенка у меня из рук. Запрещалось даже поцеловать собственного ребенка.
Малыш начал плакать. Его испугала грубость охранника, блестящие пуговицы чиновников и более всего — моя тюремная одежда. Я потерял самообладание и начал кричать со слезами в голосе: “Какое вы имеете право так поступать? Разве у вас нет детей? Разве вы не способны понять отцовских чувств? Неужели вы такие бессердечные?”
Я заметил, что некоторые чиновники отвернулись и вытирали глаза платочками. Мне позволили взять ребенка на руки. Я спросил жену, как дела. Она с грустью ответила: “Даже если у меня есть достаточно средств, какой от этого толк, когда ты так жестоко и несправедливо страдаешь?”
Так мы провели несколько минут, а затем им приказали уйти. Я остался один. Ко мне подошел помощник прокурора Чаплинский, предложил мне папиросу и сказал “сочувствующим” тоном: “Да, Бейлис, вот так поступают ваши еврейские друзья. Когда Бейлис был нужен, ему давали деньги, и он был очень хорошим человеком. А теперь, когда в нем нет нужды, о нем все забыли. Ваша бедная жена тоже очень страдает и, наверное, злится на евреев”.
Чаплинский говорил очень медленно и отчетливо, фальшивым тоном самого дружеского сочувствия. Каждое его слово было ударом в сердце, а коварное, злобное выражение лица только усиливало мою горечь. Я попросил у него разрешения сказать несколько слов. Он подбодрил меня: “Конечно, говорите”.
“Если бы жестокий злодей был признан виновным в убийстве невинного ребенка с целью подстрекания к погромам, то как евреи могли в этом участвовать? При чем здесь еврейский народ? Держите меня в тюрьме. У меня есть терпение. Но суд покажет, что я невиновен”.
Никто из них больше со мной не разговаривал. Чаплинский отвернулся, и было видно, что он недоволен моими словами. Меня вывели из конторы.
Мое заключение продолжалось больше года. Прошло 400 мрачных дней со дня моего ареста полковником Кулябко, когда меня оторвали от жены и семьи. Я долго лелеял надежду, что меня вот-вот освободят. Но вместо свободы я питался надеждами и ожиданиями.
Однажды, когда я предавался мыслям в своей мрачной камере, я услышал шаги и несколько голосов в коридоре, и женский голос сказал возле двери: “Было бы интересно увидеть этого негодяя”.
Дверь открылась, и вошли четыре человека. Один из них был в генеральской форме. Женщина посмотрела на меня и сказала испуганным голосом: “Какое ужасное существо. Как свирепо он выглядит”.
Генерал подошел ближе и сказал: “Бейлис, Вас скоро освободят”. “На каком основании?” — спросил я. Он ответил: “Вскоре состоится празднование трехсотлетия царствования династии Романовых. Будет издан манифест с амнистией всех каторжников”.
“Этот манифест, — сказал я — будет для каторжников, но не для меня. Мне не нужен манифест, мне нужен справедливый суд”.
“Если Вас прикажут освободить, Вам придется уйти”.
Нет, даже если вы откроете двери тюрьмы и будете угрожать расстрелом, я не уйду. Я не уйду без суда. У меня хватит сил вынести все до суда”.
Пока я говорил, они молча с любопытством слушали каждое мое слово. Даже эта жеманная женщина, которая так испугалась вначале моего свирепого внешнего вида, подошла ближе, чтобы лучше меня рассмотреть. Когда я закончил, генерал продолжал в том же ключе: “Прислушайтесь к голосу разума, Бейлис. Вы сами хорошо знаете, что невиновны. Будь я на вашем месте, я, вероятно, поступил бы так же. Вы бедняк и сделали то, что Вам велели. Если Вы расскажете правду, это будет правильно с вашей стороны. Вас отправят за границу, и Вы будете обеспечены до конца жизни; ваши действия дадут ответ на вопрос, который сегодня занимает весь мир. Однако, Вы продолжаете скрывать правду, думая, что своим молчанием защищаете еврейский народ, но Вы только губите себя. Зачем зря страдать? Конечно, Вам решать, но скажите только слово и будете счастливы до конца жизни”.
Я едва сдержался, пока он говорил. Каждое его слово вызывало у меня отвращение. На самом деле, он пришел дать мне хороший совет. Он искренне верил, что проявляет сочувствие — он считал, что меня наняли евреи, чтобы я сделал за них грязную работу, и теперь он хотел, чтобы я рассказал “правду”. Он пришел, чтобы оказать на меня влияние. Я видел, что дальнейший разговор бесполезен. Я больше не мог его выносить. Я коротко ответил ему: “Действительно, весь мир ожидает правду. Суд покажет настоящую правду”.
“Посмотрим”, — пробормотал генерал и махнув рукой на меня как на безнадежного, покинул камеру вместе со своей свитой.
Приближался к концу первый год моего заключения. Моя камера была далека от комфорта — цементные стены, во время зимних морозов на них всегда был налет инея. Обогрев был недостаточным. В теплые дни известь на стенах начинала таять, и из стен сочилась влага. Капли с потолка не давали спать. Я был одет в обычную тюремную одежду: рубашку из мешковины и длинный халат из грубого материала. Рубашку приходилось носить два — три месяца подряд. Во вшах недостатка не было. В самой тюрьме от брюшного тифа умирали 6 — 7 человек в день. Это было неудивительно при ужасной грязи, отвратительной пище, необогреваемых камерах (нередко во время морозов мои руки примерзали ко льду на стенах). Все это было прекрасным рассадником для разных эпидемий.
В добавление ко всем этим лишениям, меня замучили постоянные “обыски”, введенные администрацией. Дверь моей камеры запиралась как минимум на 13 замков — это означало, что каждый раз, когда надо было открыть дверь, открывали все тринадцать замков. Звук скрежещущих замочных пружин сводил меня с ума. Мне казалось, что кто-то за моей спиной систематически бьет меня по голове. Обыски обычно проводились группой из пяти надзирателей во главе с одним из заместителей смотрителя. Первым требованием было раздеться. Иногда им приходилось расстегивать мне пуговицы, потому что мои пальцы коченели от холода. Они действовали грубо и часто в процессе обрывали несколько пуговиц. Некоторые демонстрировали свое грубое чувство юмора. “Тебе нравилось наносить Андрюше ножевые удары, чтобы появилась кровь. Мы теперь проделаем это с тобой,” — было их стандартной шуткой. Они также заглядывали мне в рот, как будто я там что-то прятал. Они вытаскивали мой язык, чтобы заглянуть поглубже. Все эти пытки и оскорбления мне приходилось испытывать шесть раз в день. В это трудно поверить, но это так. Протестовать было бесполезно. Их намерением было причинить мне максимальные неудобства. Не прибегая к убийству, они хотели, чтобы я умер. Они не могли меня отравить, потому что это вызвало бы проблемы. Мне кажется, они хотели довести меня до самоубийства. В тюрьме самоубийства были обычным явлением. Заключенные вешались, чтобы избежать пыток и преследований. Администрация, наверное, надеялась, что я не выдержу преследований. Слабый в их глазах человек не выдержит и покончит с собой. В таком случае обвинение в ритуальном убийстве никогда не будет снято с еврейского народа. “Черная сотня” будет говорить, что мое самоубийство было результатом боязни суда и отсутствием раскаяния в совершенном убийстве.
Таким образом, моя жизнь висела на волоске. Я однажды был свидетелем того, как застрелили заключенного в тюремном дворе после пререкания с охранником. Охранник оборвал один свой рукав и сказал, что застрелил заключенного в целях самообороны. Наказания за оправданную самооборону не было. На одной из стен в моей камере висел свод тюремных правил. Один из пунктов гласил, что заключенного, который оскорбляет надзирателя или проявляет неподчинение, можно убить на месте, и надзиратель получит награду в размере трех рублей. Термин “нападение” не требовал специального разъяснения. Не менее общим был и термин “неподчинение”. Если охранник приказывал заключенному идти быстрее или остановиться и подождать, а заключенный не сразу это сделал, это означало сопротивление и неподчинение, и охранник имел право застрелить заключенного.
В общем, жизнь заключенного в тюрьме — это настоящий ад. С момента, когда ворота тюрьмы закрылись за заключенным, он полностью находится во власти администрации, а его жизнь — в постоянной опасности. Тем не менее, несмотря на все опасности и неудобства, свалившиеся на меня, это только укрепляло мою решимость и придавало мне больше смелости в решении пройти через этот суд, и хотя администрация пристально за мной следила, чтобы найти повод со мной расправиться, я был всегда начеку, чтобы не дать им такого повода. Часто это были настоящие провокации и грязная игра с целью представить мои действия как неподчинение и сопротивление. Но я был очень осторожен. Меня поддерживало одно: необходимость смыть постыдное обвинение в ритуальном убийстве с доброго имени еврейского народа. Это выпало на мою долю, это надо было сделать через меня, и чтобы это произошло, я должен был выжить. Я должен был сделать все, что в моих силах, я должен был вынести все не жалуясь, но враги моего народа не должны были восторжествовать.
Глава XIII
МЕЖДУ НАДЕЖДОЙ И ОТЧАЯНИЕМ
Дни тянулись очень медленно. Когда, наконец, будет мой суд? Были дни, когда я был близок к безумию. В такие моменты я смотрел на своего охранника и на самого себя и не верил, что все это реально. Неужели это я лежу на холодном грязном полу, среди ползающих тварей, неужели это тот самый Мендель Бейлис, который занимал важное положение, одевался как другие люди и жил мирно с женой и детьми? Я испытывал душевные муки, которые невозможно было ни вынести, ни описать. Безделье и постоянная тревога лишили меня сна. Если иногда мне удавалось заснуть, меня преследовали страшные кошмары, от которых я уставал еще больше. Ночью мне обычно снилось, будто меня ведут на экзекуцию либо преследуют, душат и избивают. Я просыпался без сил, дрожа от страха в попытке убежать от моего преследователя. Когда, проснувшись, я видел, что по-прежнему нахожусь в тюрьме — в настоящей тюрьме, а не в пыточной камере моих снов, я чувствовал своего рода облегчение. Нервное напряжение ослабляло меня, и я боялся, что не выдержу. Я пытался найти утешение в мысли о скором приближении суда. Он ведь должен был наступить. Мир узнает правду — мир узнает, что я невиновен и что еврейский народ не запятнан ужасными наветами его врагов. Евреи не убивают христиан и не пьют их кровь.
Однако день суда еще не был назначен. Судебные власти еще не были до конца уверены в том, что им следует делать. Сначала мне сказали, что суд будет в марте; потом отложили на апрель. Не было никакой определенности. Почему они сомневались? Почему так медлили?
Все было очень просто. Обвинительное заключение было готово, но никто из тех, кто был заинтересован в его продвижении, не был им доволен. Следователь Фененко сам говорил мне, что он меня не обвинял, что материалы, собранные следствием относительно убийства, не давали ему основания осудить меня, тем более обвинить в ритуальном убийстве.
Но прокурор был упрям: дело против меня должно быть подготовлено любой ценой. Еврея надо посадить в тюрьму, чтобы остальные евреи запомнили это на многие годы. Вот почему было создано обвинительное заключение, не имевшее под собой никакого основания.
В начале мая 1913 года обвинительное заключение было официально представлено суду высшей инстанции Киевской губернии, чтобы этот суд принял дело к рассмотрению и назначил дату. Для меня начался новый период отчаяния. Если дело будет рассматриваться как обычное убийство, в нем нет никаких доказательств, на которых можно было бы построить обвинение лично против меня. Все имеющиеся показания вынудят власти арестовать Веру Чеберяк вместе с ее шайкой воров и выдвинуть против них обвинение. Но поскольку царь лично изъявил желание, чтобы судили еврея, а высшие чиновники, естественно, хотели ему угодить, они были вынуждены начать судебное дело против еврея, то есть против меня. И если дело должно было быть, так сказать, “ритуальным”, то почему это не упоминалось в обвинительном заключении? Поэтому выдвинутые обвинения не удовлетворяли тех, кто был заинтересован в обвинении. Я был “ни рыба, ни мясо”, “ни ритуальный, ни неритуальный”, то есть царь будет недоволен, и значит, евреи выиграли первый раунд.
После долгих обсуждений, споров и мелочных копаний суд был назначен на начало мая. Я уже упоминал, что убийцы Андрюши обвинялись в заранее обдуманном злом умысле и причинении жертве жестоких пыток. В обвинении упоминалось, что “два еврея, одетых в необычную одежду, приходили к Бейлису”, что свидетели видели, как евреи молились, и что “Бейлис каждый год на пасху печет мацу”. Были перечислены некоторые другие подобные факты.
Готовясь к разным поворотам событий, мои адвокаты требовали привлечения экспертов и ученых. Среди прочих они требовали присутствия профессоров Коковцева, Тихомирова и Троицкого — профессоров теологии и еврейского языка в высших учебных заведениях для духовенства. Они также требовали пригласить в качестве экспертов бывшего прокуратора Священного Синода князя Оболенского и Германа Штрука с теологического факультета Берлинского университета.
Однажды, погруженный в мысли о предстоящем суде, я услышал шум в коридоре, предвещавший открытие многочисленных замков в моей камере. Я решил, что сейчас увижу злобные лица охранников, пришедших сообщить о дне суда. Замки скрипели, дверь открылась, но вместо охранников вошел Григорович-Барский. С присущей ему добротой и сердечностью он стал меня подбадривать и спросил, как обращается со мной администрация.
Потом он сказал: “Господин Бейлис, ходят слухи, что несмотря на представленное Вам второе обвинительное заключение, суд не состоится”.
“Почему?”, — спросил я, одновременно обеспокоенно и удивленно.
“Очень просто, — ответил он. — Слишком много доказательств против настоящих убийц. Публике и официальным лицам стали известны новые факты. Русский журналист Бразуль-Брушковский собрал новые материалы и представил их полковнику Иванову из Охранки. Сведения, собранные этим журналистом, настолько важны, что, скорее всего, расследование будет начато заново, и есть вероятность, что ваше обвинение будет полностью отменено. Конечно, это будет горькая пилюля для ваших обвинителей, и они не сдадутся без боя, но им, очевидно, придется отступить”.
Радость моя была так велика, что я начал плакать. “Не плачьте, — сказал растроганный Барский, — я очень хорошо понимаю ваше положение. Верьте, что в конце концов Вас освободят. Конечно, трудно предсказать, сколько времени они будут это тянуть. Вы сами видите, что они делают все возможное, чтобы запутать это дело. Но мы очень надеемся, что их усилия ни к чему не приведут. Если не сейчас, то немного позже им придется Вас освободить”. Барский попрощался со мной с сердечным пожеланием увидеть меня свободным в кругу моей семьи.
Я был вне себя от радости. Все обвинение против меня рассыпалось на части. Были найдены настоящие убийцы. Понятно, на расследование требовалось время. Если бы все официальные лица и интриганы, которые занимались моим делом, действительно хотели найти настоящих убийц Ющинского, им надо было просто арестовать Веру Чеберяк и ее шайку с той же энергией, с которой они действовали против меня: достаточно было их арестовать в самом начале расследования, еще до моего ареста. Но “они” этого не хотели.
А что теперь! Правда все равно откроется. Даже черносотенцы начинали понимать, что меня без вины бросили в тюрьму и придется освободить.
Я испытывал радость по поводу приближающегося освобождения. Я почти забыл все страдания прошедшего года и представлял в своем воображении утро, когда надзиратели придут и скажут: “Бейлис, Вы свободны! Можете идти домой. Вы невиновны”.
Новое развитие событий, объявленное Барским, ввело меня в состояние нетерпеливого беспокойства. Как только в коридоре раздавались шаги, я был уверен, что идут сообщить о моем освобождении. В напряжении и нетерпении прошло несколько дней. Видя, что мои надежды не осуществляются, я начал сомневаться. Кто знает, основана ли информация на надежных фактах? Может, мой адвокат просто хотел меня подбодрить. Возможно, дело приняло такой плохой оборот, что они хотели укрепить меня, чтобы я мог вынести предстоящие горькие дни.
Однако я не хотел верить в эту последнюю версию. Предыдущие визиты г-на Барского убедили меня, что он человек открытый и искренний. Он не скрыл бы от меня, даже если бы речь шла о самом худшем. Он рассказал бы мне правду. И когда он рассказал мне о шансах на мое быстрое освобождение, как я мог сомневаться в его словах? Тем более, что мы оба знали, что я невиновен. Проходили дни, недели, месяцы, но ситуация не менялась. Я понимал, что, вероятно, возникли новые обстоятельства, но не знал, к лучшему или худшему. Более того, я боялся жандармского полковника Иванова. Я считал это нехорошим предзнаменованием. Вряд ли этот человек будет что-то делать в мою пользу. Конечно, его долг угодить высшим властям, а не облегчить мою судьбу.
На какое-то время все замерло. Никто меня не навещал. Меня не вызывали в суд, но и не освобождали.
Глава XIV
ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕД ИНКВИЗИЦИЕЙ
Перед тем, как я получил второе обвинение, меня несколько раз вызывали к следователю. Это был известный антисемит Машкевич, о котором я уже упоминал. Однажды во время допроса он вдруг спросил: “Скажите, Бейлис, ваш отец когда-нибудь ходил к цадикам (праведникам)?” Его вопрос меня изумил. Я ожидал объявления о моем освобождении, а он явно начинал расследование сначала. Какие новые трюки он приготовил? Разве расследование не закончено? Меня должны были либо судить, либо освободить.
Снова та же старая история с хасидами и цадиками. Не перегнули ли власти палку? Я сказал ему, что не помню. Если это и было, то много лет назад. Он с улыбкой спросил: “Вы хасид или миснагид?”
Я ответил:
— Я еврей, и я не знаю разницы между этими двумя группами. Мы все евреи.
— Ходил ли Зайцев когда-либо к раввину?
— Не знаю.
— У Вас есть родственные связи с семьей Бааль Шем-Това?
— Я понятия об этом не имею, г-н следователь.
— Вы молитесь с талитом или без него?
— Я уже раньше отвечал на этот вопрос. До женитьбы я молился без талита, а после женитьбы — с талитом.
— Зачем нужен талит?
— Не знаю.
Улыбка следователя становилась все более коварной. “Расскажите мне, Бейлис, что такое афикоман”.
Все повторялось снова и снова. Те же глупые вопросы, которые мне задавал первый следователь более года назад. Я подозревал, что новый следователь хочет убедиться, что Фененко правильно вел расследование, и получив нужную ему информацию, освободит меня. Фененко задавал мне эти вопросы, а потом сказал, что у него нет против меня доказательств. Я не мог объяснить следователю, что такое афикоман. Я провел детство в деревне, а затем несколько лет служил в армии. Я не очень разбирался в религиозных обрядах. Я ел мацу, ел афикоман, который фактически был куском мацы. Больше я об этом не знал. И даже если бы и знал, мне было бы тяжело объяснить. У него были еще вопросы.
“Разве ваш брат не раввин или шойхет?” — “Нет, у нас в семье нет раввинов. Если были 50 или 100 лет назад, мне об этом неизвестно. Может, тогда был раввин или шойхет. Но сейчас нет”. Он помолчал пару минут, как будто хотел что-то вспомнить. Он посмотрел несколько раз на лежавшие перед ним бумаги. Наконец он задал еще один вопрос: “Есть ли у Вас связи с Шнеуром Залманом Шнеерсоном, известным раввином из Ляд?” “Нет, — ответил я. — У меня есть хороший друг, которого так зовут. Он живет в Киеве и часто приезжал в гости, но я не знаю семью Шнеерсон из Ляд и не состою с ними в родстве”.
В течение нескольких часов он засыпал меня подобными вопросами. Потом начал читать из книги ученого Пранайтиса, который пытался доказать с помощью софистики и искаженных цитат из Торы и Талмуда, что в афикоман добавляли кровь. Следователь также упомянул имена Шмакова, профессора Сикорского и Голубова, которые, якобы, разбирались в еврейских религиозных ритуалах. Короче говоря, во время допроса он продемонстрировал глубокое, по его мнению, знание Торы. Его вопросы вызвали у меня гнев. Он как будто пускал мою кровь каждым своим вопросом. Но я был беспомощен. Я вынужден был ему отвечать. Я был заключенным. Власть была на его стороне, и он мог делать со мной все, что хотел. Сами вопросы не причинили бы мне такую боль, если бы не его манера реакции на мои ответы. Я видел, что все эти вопросы задавались не с целью прояснить дело, а просто из любопытства. Я видел по его улыбке и недовольству моими ответами, что все эти вопросы были поверхностными, что для него все и так было ясно и что он был уверен в правоте своей версии событий. Он был достаточно уверен, например, что евреи используют кровь на Песах; что кровь запекается в афикомане; и что все это подтверждалось такими учеными, как Пранайтис, Шмаков и Сикорский. Из этого допроса у меня создалось впечатление, что мое обвинение не будет отменено и что суд состоится. Но я не понимал причины дополнительных допросов, поскольку обвинительное заключение уже было составлено.
 Эксперт И.Пранайтис
Профессор И. А. Сикорский
Адвокат Веры Чеберяк, известный антисемит А. Шмаков
Эксперт И.Пранайтис
Профессор И. А. Сикорский
Адвокат Веры Чеберяк, известный антисемит А. Шмаков
Глава XV
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МОИХ АДВОКАТОВ
В таком состоянии неопределенности прошло лето. Осень не принесла изменений. За все эти месяцы меня никто не навещал, и я не знал, что происходит за стенами тюрьмы. Сначала я надеялся, что суд, который показал бы миру мою невиновность, вот-вот начнется. Потом я надеялся на отмену обвинения и суда, потому что г-н Барский уверил меня, что обвинения против меня беспочвенны, а дело необоснованно.
К этому времени расследование началось сначала. Очевидно, в деле появился новый поворот, но какой именно? Хотя допросы Машкевича закончились несколько месяцев назад, меня по-прежнему держали в неведении. Что происходит за кулисами?
Один из моих адвокатов подтвердил, что Григорович-Барский говорил правду. Все мои адвокаты считали, что мое обвинение будет снято, и суд никогда не состоится.
Как я уже упоминал, журналист Бразуль-Брушковский вместо с капитаном полиции Красовским взяли на себя задачу найти настоящих убийц и собрать факты для свидетельских показаний. С этой целью они познакомились с Верой Чеберяк и ее шайкой, посетили их несколько раз, допросили соседей, собрали обширный материал и представили его полковнику Иванову.
Полковник Иванов провел тщательное расследование утверждений Брушковского. В результате он пришел к выводу, что убийство Ющинского было делом рук криминальной шайки Чеберяк. Иванов провел свое расследование в строжайшей секретности и после его окончания направил материалы прокурору Верховного Суда.
Сначала прокуратура не проявила интереса к выводам Иванова. Хотя эти материалы поступили из официального источника и, более того, из жандармерии, прокурор их проигнорировал. Ничего бы из этого не вышло, если бы мои адвокаты не заняли решительную. позицию. Когда они узнали о новых фактах, они потребовали возобновить предварительное расследование. Это произошло весной 1912 года.
Высшие юридические власти и черносотенцы были недовольны таким развитием событий. Они опасались, что новое расследование на основе того, что обнаружил Брушковский, приведет к выявлению настоящих преступников. Но они не могли открыто идти против буквы закона. Когда появлялись новые свидетельства, закон требовал нового расследования.
Фененко их для этой работы не устраивал. Он был слишком “мягким”. Поэтому его отправили в отпуск, то есть просто отстранили от дела. Кроме этого, Помощника прокурора Чаплинского вызвали в Петербург для обсуждения моего дела с министром юстиции Щегловитовым; он также должен быть обсудить ситуацию с руководством Черной сотни.
 И. Г. Щегловитов
Г. Г. Чаплинский
И. Г. Щегловитов
Г. Г. Чаплинский
В министерстве юстиции в то время группа чиновников была настроена на отмену моего дела, опасаясь погрязнуть в “этом скользком болоте”. Некоторое время эта тенденция преобладала, и именно в это время Григорович-Барский сообщил мне “радостные новости”.
Однако в конце концов черносотенцы одержали победу. Они настаивали, что новое расследование надо вести “правильно”, то есть новое обвинительное заключение должно включать обвинение в “ритуальном убийстве” без всяких оговорок.
Окончательное решение было принято в духе извращенного правосудия, как его понимал Щегловитов. Было решено провести новое расследование и на его основе составить обвинительное заключение, но начать решили с формулировки обвинительного заключения. В этот раз оно должно было быть “правильным”, с “ритуальным убийством” и т. д. Расследование должно было проводиться для вида. Именно так они и поступили.
Машкевича сделали ответственным за расследование. Его не интересовали “мелочи”. Для него все было просто: он искал хасидов, цадиков, раввинов, белые одежды, короче, все атрибуты “ритуального убийства”, описанные в книгах отцов инквизиции.
Для вида, материалы, собранные Брушковским, также были изучены, но вместо того, чтобы отправить их прокурору, как полагалось, их сначала отослали в министерство в Петербурге, а потом получили обратно с соответствующими комментариями и примечаниями.
Как мне объяснили, власти не сумели найти в Киевской прокуратуре человека, способного сделать обвинительное заключение таким “кусачим”, как им хотелось. Наконец, был найден подходящий человек. Но даже и тогда обвинение не было сразу составлено. Несколько раз его выворачивали наизнанку и подгоняли. Эту работу проделал Помощник прокурора граф Розвадовский. Когда обвинение было готово, его отправили в Киевский Верховный суд для утверждения.
Враги нашего народа не были удовлетворены своей работой. Они начали преследовать тех, кто хотел добиться правды.
Начальника секретной полиции Киева Мищука судили вместе с агентами Смоловиком и Кляйном: их обвинили в “пристрастном” расследовании, то есть в том, что они склонялись в мою сторону. Мищук был признан виновным и осужден на год заключения с лишением гражданских прав. Такое же наказание получили и двое других агентов.
Капитан полиции Красовский, имевший 20-летний стаж службы в полиции, был обвинен в растрате 75 коп. Это звучит как шутка, если подумать о миллионах рублей, присвоенных высшими чиновниками. Правда, дело против Красовского было потом прекращено.
Вера Чеберяк возбудила дело против журналиста Брушковского по обвинению в “оговоре”. То же произошло с известным журналистом Яблоновским. Конечно, Вера Чеберяк не сама это придумала. Ей велели это сделать свыше.
После этого “Черная сотня” обратила свое внимание на моего адвоката Марголина. Во-первых, потому что он опубликовал книгу о клеветнических измышлениях относительно ритуальных убийств. Прокурор основал свои обвинения на предположении, что Марголин пытается таким образом воздействовать на киевлян, среди которых будут выбирать присяжных. Его также обвинили в попытке подкупить Веру Чеберяк, чтобы она признала свою вину в убийстве Ющинского; что он предложил заплатить ей 40,000 долларов в случае, если она согласится “признаться”.
Подобное судебное преследование было начато против г-на Барского за то, что он подписал общественный протест против клеветнических измышлений относительно ритуальных убийств. Он получил выговор. Его апелляция затерялась в суде высшей инстанции.
Все эти события давали четкое представление о неблагоприятном обороте, который принимало мое дело. Я видел густую сеть, которая вот-вот должна была меня опутать. Мои адвокаты пытались поддерживать меня и уверяли, что несмотря на все махинации, правда в конце концов восторжествует. С такими надеждами я приготовился ждать давно отложенного суда.
Глава XVI
ПОПЫТКА МЕНЯ ОТРАВИТЬ
Наступила весна 1913 года. Но я не мог наслаждаться пробуждением природы. Все, кроме меня, были свободны и веселы. Шел третий год моего заточения в темной камере, где даже двигаться было невозможно. В течение двух лет я практически не видел свою семью. Я утопал в грязи, дышал сырым тюремным воздухом, почти не видел солнца, которое одинаково светит праведникам и грешникам, потому что его лучи едва проникали через окно моей камеры. Но я чувствовал себя бодрее. В камере было не так холодно, и легкий ветер, проникающий через решетки, освежал меня. В один из таких дней меня навестил Григорович-Барский. После обычных приветствий он сказал, что у него есть просьба.
“Что это может быть? — поинтересовался я. — Что может Вам от меня понадобиться?”
“Я хочу Вас попросить что-то сделать, хотя Вам это будет нелегко”.
“Что именно?”
“Откажитесь от продуктовых передач из дома”.
“Если надо, я это сделаю. Вы явно знаете, зачем это. Можно узнать причины?”
“Естественно. Дело в том, что черносотенцы пишут в последнее время в газетах, что евреи пытаются Вас отравить якобы из страха, что Вы признаете себя виновным. Мы боимся, что черносотенцы могут организовать ваше отравление, чтобы не проиграть дело на виду у всего мира. Если Вы сейчас умрете, то по их мнению, обвинения против еврейского народа не будут сняты. Поэтому мы решили, что Вы должны перестать получать продуктовые посылки из дома, чтобы прекратить инсинуации этих хулиганов. Если Вы не будете получать еду извне, они не смогут намекать, что евреи намерены Вас отравить. Несомненно, Вам будет тяжело, но это нужно сделать”.
Конечно, я согласился. Позже я много думал над этим. Если черносотенцы настаивают, что меня могут отравить, вполне вероятно, что они готовы сделать это сами. Я боялся, что это сделают через тюремных надзирателей. Поэтому я обратился к смотрителю тюрьмы с просьбой разрешить мне самому брать еду из общего котла, вместо того чтобы мне ее приносили в камеру. Вначале, когда я был в камере с другими заключенными, нам приносили еду в общей посуде на десять — двенадцать человек. Тогда я не боялся отравления, потому что иначе пришлось бы отравить всех, чтобы избавиться от меня. Теперь я был один в камере, получал еду через проем в двери и не очень был уверен в своей безопасности.
Сначала в моей просьбе было отказано. Мне сказали: “Если хочешь есть, ешь то, что дают, если нет, можешь голодать. Никаких специальных привилегий. Мы тебя не отравим — ты должен опасаться своих евреев. Им недостаточно нашей крови, поэтому они выдумывают новую ложь, чтобы выставить нас в отрицательном свете”.
У меня были причины настаивать. Я объявил голодовку. Прошло три дня — когда заключенный не ест три дня, вызывают прокурора для расследования. Он появился. Я сказал, что хочу сам брать еду из общего котла, вместо того чтобы мне ее приносили в камеру.
Он ответил: “Это запрещено. Вы не имеете права покидать камеру. Вы должны находиться в строгом одиночестве. Другие заключенные и даже надзиратели не должны на Вас смотреть”.
“Хорошо, пусть они отвернутся, когда я буду брать свою порцию”.
К моему удивлению, после долгих споров мне разрушили брать еду из общего котла. Я снова был постоянно голоден. Еду из дома я не получал, а тюремная похлебка была несъедобна.
Глава XVII
САМОУБИЙСТВО УБИЙЦЫ
Где-то в это время мне рассказали интересную историю, и я надеялся, что она будет мне очень полезна. Однако все кончилось разочарованием. Вот эта история вкратце.
Во время изучения новых свидетельств, собранных журналистом Брушковским, власти арестовали друзей Чеберяк — воров Рудзинского, Сингаевского и Латышева. Их арестовали в связи с другими обвинениями. Однажды Латышева (который был главным убийцей) вызвал следователь (это было еще при Фененко). Фененко стал задавать ему вопросы, имевшие отношение к моему делу. Он упомянул, что, по новым данным, Латышев был замешан в убийстве Андрюши вместе с другими членами шайки и что они это сделали по наущению Чеберяк. Следователь приводил такие подробности, его информация казалась такой точной, что на Латышева это произвело сильное впечатление.
После допроса, который продолжался более часа, было подготовлено признание, и Латышеву велели его подписать. Он фактически его подписал. Очевидно, он был под впечатлением уверенности, с которой Фененко говорил о новых находках следствия. Позже, однако, он, по-видимому, раскаялся, что в спешке подписал признание и инкриминировал себя. Он рванулся к столу, чтобы уничтожить написанное и свою подпись. Но его сопровождающие были начеку и помешали ему. Уже одно это было достаточным доказательством, что Латышев каким-то образом замешан в убийстве Андрюши. Через три дня его снова вызвали к следователю. Фененко стал задавать ему новые вопросы по делу. В этот раз вопросы были настолько точными, что Латышев совсем запутался в своих объяснениях. Следователь начал записывать признание. Латышев увидел на подоконнике графин с водой и попросил напиться. Он не торопясь подошел к окну и выпил воды. Окно было открыто, Латышев выпрыгнул с высоты четвертого этажа и мгновенно погиб. Причины его самоубийства были очень просты. Он был главным убийцей и лидером шайки. Когда он увидел, что правда наконец вышла наружу, он понял, что ему придется провести всю жизнь в тюрьме. Он решил покончить с собой.
Хотя его самоубийство произвело сильное впечатление, оно не оказало влияния на развитие моего дела. Новый следователь понимал лучше Фененко, как делать свою работу, чтобы были довольны и черносотенцы, и те, кто “наверху”. Вскоре после этого двух других убийц — Рудзинского и Сингаевского — освободили.
Глава XVIII
НОВОЕ ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как-то меня снова вызвали в тюремную контору. Там был следователь Машкевич, явно в хорошем настроении. Пробормотав что-то в ответ на мое приветствие, он взял со стола многостраничный документ и протянул его мне.
“Это ваше обвинительное заключение”, — сказал он важно.
Я не знал, что думать. Первое заключение было всего на пяти страницах.
Это же была книжка страниц на тридцать. Ничего хорошего я от этого не ожидал.
Понурившись, я медленно шел в свою камеру. От мрачных предчувствий и волнения я двигался медленно, и охранник подбадривал меня тумаками в спину. В камере я лег на свою койку, не в состоянии поднять голову, не говоря уже о том, чтобы читать обвинение. Я смотрел на этот рулон бумаги, который представлял то, что высшие власти хотели написать обо мне и моих мнимых преступлениях. И все же я был невинным человеком, не обидевшим даже муху в своей жизни. Меня держали в застенках, в то время как настоящие убийцы разгуливали на свободе, защищенные так называемой “русской справедливостью”.
Итак, жребий был брошен; судьба выбрала меня, потому что они не могли найти никого другого. Они искали и расследовали, и в конце концов “наверху” решили, что меня надо судить и по возможности признать виновным.
Ну что ж, сказал я себе, пусть суд состоится, и пусть весь мир узнает, какие ужасные злодеяния совершаются в праведной царской России. Я схватил бумаги, чтобы посмотреть, в чем меня обвиняют эти люди. Мне пришлось напрягать глаза, чтобы прочитать мелкий текст. Мое зрение пострадало от недостаточного освещения в камере, и я мог читать только небольшими частями. Что они искали и что обнаружили?
Все выглядело просто, когда вскрытие показало ряд ран в разных частях тела. Было тринадцать ран на горле, черепе и вокруг ушей — всего было обнаружено тридцать семь ран. На основе анализа вскрытия, профессор Оболенский из Киевского университета пришел к выводу, что раны на шее и черепе были нанесены, когда сердце еще работало. Другие раны были нанесены, когда сердце ослабело. Первые удары были нанесены в районе горла и головы, а последующие ближе к сердцу. Он также считал, что удар в сердце был нанесен ножом, вогнанным по самую рукоятку, что было видно при измерении глубины раны. Он пришел к выводу, что убийцы намеренно мучили ребенка.
Профессор Косоротов подтвердил выводы своих коллег. Он заявил, что убийство могло быть совершено как одним, так и несколькими людьми. Он также считал, что убийцы намеренно мучили ребенка.
 Схема расположения ран на теле Андрея Ющинского.
Схема расположения ран на теле Андрея Ющинского.
Таково было мнение экспертов относительно убийства. После этого нужно было найти виновного и понять, почему Андрюшу убили, и вот тут обвинение превратилось в набор диких историй, в которых сразу можно было увидеть подтасовку фактов.
В начале расследования было установлено, что Андрюша отправился в школу в 6 утра 12 марта. Позже было установлено, что в школе он в этот день не был и домой не вернулся.
Сначала мать решила, что он пошел ночевать к родственнице Наталье Ющинской. Утром она обнаружила, что у родственников он не был, и начались поиски. Поиски продолжались несколько дней, пока он не был найден мертвым. Вначале ходили слухи, что мать проявляла мало интереса к судьбе сына. Более того, когда его нашли мертвым, говорили, что она не плакала и не особенно переживала. Поэтому ее арестовали, и полиция провела обыск в доме. После нескольких дней ареста был сделан вывод, что эти необоснованные слухи распространяли ее враги.
Приблизительно в это же время начали циркулировать слухи, что Андрюшу убили евреи. В обвинении указывалось, что власти не придали большого значения этим слухам, потому что продолжали считать, что мать Андрюши замешана в его убийстве. Появились свидетели, утверждавшие, что она не проявляла скорби при обнаружении тела; что через несколько дней после исчезновения мальчика видели, что его мать вместе с каким-то человеком тащила тяжелую сумку.
Исследовалась еще одна версия о людях, которые могли совершить это преступление. Подозрение пало на воров Рудзинского, Сингаевского и Латышева. Ходили слухи, что Андрюша знал секреты шайки, и ему угрожали расправой, если он их предаст. Поэтому была вероятность, что они с ним расправились из-за этого. Чеберяк также подозревали, потому что мальчика часто видели у нее дома.
Я был доволен, читая это. Пока что казалось, что расследование на правильном пути. Я начал надеяться, что обвинение не будет тяжелым. Но читая дальше, я увидел, что дело приняло совсем другой оборот.
Все это происходило вначале. То есть, вначале расследование разделяло эти взгляды, но потом… все это сменилось новой версией. Расследование пришло к выводу, что господа Сингаевский, Рудзинский (которые были отъявленными убийцами и ворами) были просто образцом добродетели. Тот же вывод был сделан и в отношении Чеберяк. Она тоже была “сама невинность”. Мать Ющинского оправдали несколько ранее, и действительно, как можно такое говорить о такой “идеальной матери”.
Короче говоря, все они были честные, порядочные люди, и их просто невозможно было обвинить в таком гнусном преступлении. Из обвинения следовало, что настоящим преступником был еврей Мендель Бейлис, приказчик кирпичного завода Зайцева. Меня выбрали на роль убийцы Ющинского. Да, я действительно жил несколько лет на территории завода, никогда никого не обидев. Но это не имело значения, потому что я не убивал Андрюшу по личным мотивам, например, ограбление или что-то еще. Я убил его в религиозных целях. Тут была небольшая неувязка, потому что в обвинении утверждалось, что для этого нужен цадик или раввин или хороший еврей. Я, конечно, не был цадиком, но меня им сделали в целях обвинения. Были сочинены странные истории, чтобы выставить меня убийцей.
Дальше в обвинении говорилось, что когда журналист Брушковский обнаружил новые факты и передал их полковнику Иванову, подозрение снова сосредоточилось на Чеберяк. Одна из ее соседок, русская Молецкая, которая жила в том же доме этажом ниже, заявила, что слышала детские крики на этаже, где жила Чеберяк, и что это было в день исчезновения Андрюши.
Но как можно было говорить такие зловещие вещи о Чеберяк? Кто мог этому поверить? Разве она сама не рассказывала о своих отношениях с Брушковским, который повез ее в Харьков на встречу с “важной особой”, и разве эта особа не предлагала ей сорок тысяч долларов только за то, что она возьмет на себя вину в убийстве? И этой “особой” был не кто иной, как мой адвокат Арнольд Марголин. Так утверждала Чеберяк. Конечно, она с презрением отвергла это заманчивое предложение. Ее нельзя купить деньгами. Отсюда следовало, что Чеберяк невиновна.
Не менее очевидной была и политика властей. Всех воров и негодяев нужно было обелить. Журналисту Брушковскому с его безупречной репутацией и капитану Красовскому верить было нельзя. Чеберяк было полное доверие.
Чтобы выставить против меня, еврея, правдоподобные обвинения, необходимо было сделать это преступление ритуальным. Поэтому было важно построить обвинения на экспертных заключениях ученых христиан, которые должны были с уверенностью заявить, что евреи используют кровь на Песах.
Я не мог дальше читать. Мои нервы были расшатаны, и я был обессилен. Утром я продолжил чтение.
Что же утверждалось и подразумевалось в мнениях ученых экспертов? Все было ясно из обвинения. Ющинский был убит необычным образом. Сразу распространились слухи, что евреи сделали это в религиозных целях. Поэтому следователи обратились к экспертам, чтобы прояснить ситуацию. Они обратились к профессору Сикорскому из Киевского университета, к профессору Киевской теологической академии Глагольеву и к профессорам Петроградской академии, среди них Троицкому, а также к “Магистру религиозных наук” его преподобию Пранайтису.
Вопросу, заданному профессору Сикорскому, наверное, не было равных во всей судебной истории. Его попросили высказать мнение, к какой нации принадлежит убийца. И какие мотивы побудили его к преступлению. Хотя это был поразительный вопрос, великий ученый, который, кстати, был профессором психиатрии и сам немного неуравновешен, не смутился. Он дал “научный” ответ, смысл которого был в том, что преступление было совершено преднамеренно евреем с целью расовой мести за “детей Израилевых”. Профессор утверждал, что убийство было хорошо продумано. Безумный человек не мог его совершить. Убийцы не метили сразу в сердце. Их целью было не ускорить смерть, а добиться своих целей, то есть пролить кровь и применить пытки. Профессор изложил три четких стадии убийства: пролитие крови, пытки и само убийство. Вот почему у Андрюши были многочисленные ножевые ранения. Профессор далее высказал мнение, что это сделал человек, “привычный к такой работе”.
Такова была версия Сикорского.
Каким безумным ни выглядело это мнение, власти его приняли. Двум другим профессорам, Глагольеву и Троицкому, которые были выдающимися знатоками Библии и Талмуда в России, задали вопросы о еврейских законах и ритуалах. Глагольев ответил, что в еврейской литературе нет закона или обычая, позволяющего евреям использовать кровь, особенно христианскую, в религиозных целях. Он также отметил, что запрет на пролитие человеческой крови и вообще на использование крови, можно найти в Библии, и, насколько ему известно, такой запрет никогда не отменялся в более поздней литературе. Он не нашел отмены подобного запрета в Талмуде или в раввинских законах.
Профессор Троицкий также указал, что религиозные законы запрещают евреям использовать кровь и что им запрещено убивать людей, будь то евреи или неевреи. Да, в законах Талмуда можно найти выражения: “нееврей, который учит Тору, заслуживает смерти” и “лучшего из гоев убей”, но ему трудно их объяснить. Подводя итог, профессор указал, что и закон, и Талмуд не разрешают евреям использовать кровь вообще, и человеческую в частности. Что касается каббалы, он не был знаком с каббалистической литературой и не знал, говорилось ли там что-то вообще об использовании крови.
Поэтому обвинению пришлось обратиться к “каббалисту”, большому авторитету, бывшему католическому священнику Пранайтису. Это было очень интересно. Известные российские авторитеты, уважаемые профессора в высших теологических академиях Глагольев и Троицкий фактически высказались в мою пользу. Они однозначно заявили, что евреям запрещено использовать любую кровь, особенно человеческую. Получалось, что в этом деле не могло быть обвинения в “ритуале”. Но без ритуала все обвинения разваливались. Это властям не нравилось. Они схватились за каббалу. Они искали среди профессиональных священников, но не могли найти никого, кто взялся бы утверждать, что знаком с каббалой.
Наконец, некий неизвестный священник заявил, что он знает всю талмудическую и каббалистическую литературу, и этот великий каббалист высказал такое мнение:” Все еврейские раввины и вообще евреи объединены ненавистью к христианам. Гой считается “зверем, опасным для людей”. Отсюда объяснение запрета убивать чужаков. По словам священника, запрет относится только к евреям, потому что только они считаются людьми. Это не относится к христианам, которых они считают зверями.
Покончив с Талмудом, ученый священник взялся за каббалу. Он утверждал, что “убийство должно быть совершено в особой манере, как предписывает каббала. Кровь играет большую роль в еврейской религии. Ее использовали в качестве средства от многих болезней”. Когда нужна была кровь, не нужно было резать горло жертвы. Нужно было нанести ранения и пустить кровь. Он говорил, что утверждение, что евреям запрещено использовать кровь, ошибочно. Даже в Талмуде кровь сравнивают с водой, молоком и т. д. Пранайтис дальше перечислял разных “ученых” и мошенников вроде него самого, цитируя их заявления на эту тему. Он сделал особое ударение на мнении некоего ренегата, бывшего раввина, а потом священника, о том, что евреи могут есть вареную кровь. Он говорил, что христианская кровь помогает при заболеваниях глаз. Таковы были утверждения Пранайтиса от имени ренегата.
Интересно, что сам ренегат никогда не говорил, что ему известно о таких вещах. Он заявил, что слышал это от отца, который взял с него клятву никогда не открывать секрет. Пока он был евреем, он хранил это в секрете. Поменяв религию, он захотел объявить это всему миру.
Обвинение не было удовлетворено всем этим вздором. В этом месте составители обвинительного заключения вернулись назад и привели другие свидетельства различных людей. Утверждалось, что сын Чеберяк Женя видел у меня в доме странных евреев, цадиков. Я не знаю, говорил ли он такое, потому что к этому времени ребенок умер. Однако его 9-летняя сестра подтвердила это. Она рассказала, что однажды они ходили к Бейлисам купить молока и в окно увидели двух странно выглядящих евреев, в смешных шапках и черных халатах. Дети якобы испугались и убежали.
Далее девочка сказала, что в день исчезновения Ющинского она играла вместе с другими детьми на заводском дворе. Бейлис стал за ними гоняться, и они убежали и перелезли через забор. Она спряталась, чтобы посмотреть, что будет делать Бейлис. Потом она увидела, как Бейлис и двое евреев схватили Андрюшу Ющинского и потащили в дом. Среди других историй упоминалось также мое письмо, отправленное через Козаченко моей семье. У соглядатая Козаченко была буйная фантазия.
Он дал показания, что войдя ко мне в доверие, уговорил меня написать письмо, и я рассказал ему много секретов. Я якобы попросил его сделать для меня работу: отравить двух “плохих” свидетелей. Я якобы пообещал ему вознаграждение от “еврейского народа”. В качестве аванса я дал ему 50 рублей и нужный яд. Если бы он выполнил хорошо задание, то был бы обеспечен на всю жизнь.
Вывод был таков, что я, в сговоре с какими-то неизвестными людьми, заранее обдумал и совершил убийство христианского ребенка в религиозных целях. Для этого мы схватили Ющинского, заткнули ему кляпом рот и нанесли тридцать семь ранений в области головы, шеи и других мест, а затем пустили ему кровь.
Все это произошло в марте. Вышагивая по камере, я часто доставал этот документ, который так иронично назывался судебным обвинительным заключением, и перечитывал его снова и снова, пока кровь почти замерзала у меня в венах. Я был беспомощен. Вся Черная Россия во главе с царем Николаем хотела этого.
Когда мне вручали второе обвинение, то снова спросили, кто мой адвокат. Я ответил, что хочу продолжать пользоваться услугами прежнего адвоката. Вскоре меня посетил Барский. Он сказал, что Марголин больше не сможет меня защищать, потому что прокурор вызвал его в качестве свидетеля. Закон запрещает быть одновременно свидетелем и адвокатом по одному и тому же делу.
Г-н Барский сообщил мне, что кроме него и Грузенберга, меня также будут защищать господа Маклаков и Карабчевский. Через некоторое время Барский снова нанес мне визит. Мы мало говорили о деле. Он всегда подбадривал меня. Он был уверен, что правда поднимется как масло на поверхности воды и что черносотенцы и антисемиты потерпят унизительное поражение. Он также сказал, чтобы я попросил у прокурора вторую копию обвинения. Это было мое право. Эта копия была нужна моим адвокатам. Я направил петицию прокурору относительно второй копии.
На следующее утро в тюрьме появился Машкевич.
Он спросил: “Вы действительно хотите получить копию всего предварительного расследования?”
“Да, мне она необходима”.
“Если Вы настаиваете, то Вы ее получите, но предупреждаю, что это может ухудшить ваши дела. Это может задержать еще на несколько месяцев дату суда”.
Я спросил, почему Фененко дал мне копию без всяких уверток.
Он рассмеялся.
“Вы глупец. Фененко был наивен. Он верил всему, что Вы ему рассказывали. Не сравнивайте меня с Фененко. Он составил бесполезное обвинение, а я сделал все как положено. В любом случае, если Вы хотите задержать суд, Вы можете получить копию”.
Передо мной была безвыходная дилемма. Если я не получу вторую копию, мои адвокаты не смогут вовремя тщательно его изучить. Они не смогут приготовить свои доводы или добраться до сути аргументов обвинения. С другой стороны, если я решу получить копию, дата суда будет отложена, а ведь я так долго и нетерпеливо ждал его. Возможно, что Машкевич просто меня запугивал. Но, возможно, он говорил правду. Если он хотел поставить преграды, то был вполне в состоянии это сделать. Его политика заключалась в том, чтобы подвергать меня всяческим страданиям.
После недолгих размышлений я решил не просить копию. Я был уверен, что мои адвокаты найдут способ обойтись без нее. Они сами найдут способ ее получить. У них было на это больше шансов, чем у беспомощного заключенного. Я же выиграю хотя бы в одном: суд не будет отложен. Через несколько дней мне сообщили, что жена и брат пришли меня навестить и ожидают в конторе смотрителя. Эта встреча была моим единственным утешением во время заключения.
Войдя в контору, я увидел жену и брата. Машкевич также присутствовал. Я начал расспрашивать о делах дома. Среди вопросов, заданных братом, было: “Ты получил копию обвинения?”
Я ответил, что мне дали понять, что открытие суда отложится на несколько месяцев, если я потребую копию. Поэтому я решил от нее отказаться. Брат рассердился и сказал: “Не слушай этих выдумок. Получи копию и не обращай внимания на все эти истории”.
Смотритель, присутствовавший во время свидания, вскочил и начал кричать на брата:
“Убирайтесь отсюда немедленно. Какая наглость!”
Смотрителю потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Он ходил по комнате и бормотал: “Какая наглость, какая дерзость”. После этого он приказал моей жене покинуть контору. Я ожидал, что брата арестуют за его дерзость, и провел в тревоге несколько бессонных ночей.
Через несколько дней жена снова меня навестила. В этот раз это было в тюремной конторе, поэтому пришлось разговаривать через двойную решетку. Она мне рассказала, что брата не арестовали.
Я с огромным нетерпением ждал долгожданного суда. Прошло два с половиной года с того рокового дня, когда начальник киевской Охранки Кулябко арестовал меня в моем доме. Тем временем карьера Кулябко закончилась, частично по его вине. Известный революционер и наполовину предатель Богров сумел проникнуть в театр во время пребывания царя Николая в Киеве и застрелить премьер-министра Столыпина на глазах у царя. Карьера Кулябко закончилась неожиданно и катастрофически. Но моя ситуация от этого нисколько не улучшилась.
Наконец подошел великий день. День, которого не только я и моя семья, но и весь еврейский народ ждали все эти годы, затаив дыхание. Нет, ждал весь мир, даже многие неевреи, потому что все хотели узнать правду, хотели знать, как российский народ решит мою судьбу и судьбу еврейского народа.
Я знал, что меня будут защищать лучшие российские адвокаты. Я знал, что лучшие представители русского народа были на моей стороне, на стороне правды, но чем они могли мне помочь? Ситуация зависела не столько от целого народа, сколько от судей и правительства. В таком случае, окончательное решение и приговор висели, так сказать, на волоске. Все могло измениться из-за чьего-то настроения, каприза. Что будет? Но я твердо надеялся, что мыльный пузырь лжи лопнет, и это придавало мне мужества.
Глава XIX
НАКОНЕЦ-ТО СУД
Как ни было тяжело провести более двух лет в тюрьме, не зная, в чем меня обвиняют, еще труднее было ждать того дня, когда меня посадят на скамью подсудимых перед судьями, то есть, того дня, когда весь заговор наконец раскроется.
Как гласит пословица, “пока мы живы, мы сможем это увидеть”.
Наконец я получил официальный вызов явиться в суд 25 сентября. Еще два месяца в тревожном ожидании. Но уже хотя бы был виден берег; с каждым днем я приближался к долгожданному концу. Еще несколько дней, и все закончится. Моя радость не знала границ. Я представлял процедуру суда, чтение обвинительного заключения, вопросы, которые будут мне задавать, и мои ответы. Все мои мысли были сосредоточены на предстоящем суде. Я не мог думать ни о чем другом. За две недели до начала суда я стал добиваться, чтобы мне вернули одежду, которую у меня отобрали при аресте. Мне было стыдно появиться в суде в тюремных одеждах.
Мое прошение осталось без ответа. Дня за три до суда меня посетили жена и брат. Конечно, было пролито много слез, и мы желали друг другу скорой встречи дома, когда мне не будут больше досаждать, и я буду свободен.
Перед уходом жена сказала, что мне разрешат мою собственную одежду и что я получу ее в день открытия суда. На следующий день тринадцать замков моей камеры начали поворачиваться, знаменуя открытие двери. Обычно это наполняло меня опасениями и страхом. В этот раз звук открываемых дверей был другим. Они открывались более обнадеживающе, как будто несли хорошие новости.
“Вот твоя одежда, — сказал надзиратель. — Сегодня начинается твой суд”.
Меня привели в другую комнату, где выдали мою одежду, которую отобрали два с половиной года назад. Я был рад сбросить безобразную тюремную одежду и надеть мою собственную. Я не хотел думать о том, что, возможно, надеваю ее в последний раз. Я был рад хотя бы на один день выглядеть как другие люди.
В этот день власти отнеслись ко мне дружественно. Вся их прошлая злоба чудесным образом испарилась. Некоторые даже помогали мне одеться. Трудно было представить такую вежливость после всех страданий, которым они меня подвергали. Когда я был готов, меня передали группе сопровождения. Даже они вели себя по-другому. Последовала команда “Вперед”.
Когда мы вышли с тюремного двора, меня ожидала приятная картина. Раньше, каждый раз, когда меня вели к прокурору, во дворе никого не было, кроме нескольких надзирателей. В этот раз во дворе было полно людей, как на военном параде. Целая армия; вся администрация в полном составе. От рядового надзирателя до смотрителя, все смотрели на меня. Я был в центре внимания. Некоторые улыбались; большинство были серьезны. Кроме этого, во дворе было несколько сотен казаков. Их пики блестели, а сабли наголо как будто говорили, что они здесь, чтобы защитить меня от “сглаза”. Меня усадили в бронированную тюремную карету, окруженную целой армией чиновников и кавалерии; и со всей этой помпой меня повезли в суд.
Из окна кареты я видел, что на улицах полно людей. Погода была далеко не благосклонна. Было облачно, как будто небесам весь этот спектакль не нравился. Но толпы не обращали внимания на погоду. “Черная сотня”, членов которой можно было узнать по их бляхам, присутствовала в больших количествах. Я видел их уродливые лица, которые бросались в глаза на каждом повороте. На тротуаре, в окнах, даже на крышах домов можно было увидеть множество людей.
Я заметил еврейские лица, некоторые заламывали руки и вытирали слезы. Я тоже плакал.
Вдоль всей дороги от тюрьмы до суда, на расстоянии около трех километров, протянулась шеренга конных казаков для обеспечения порядка и, возможно, для надзора за мной. Проехав через кордон, мы наконец достигли здания окружного суда, которое было окружено тысячами людей. Ворота открылись, и мы въехали во двор. Спускаясь из кареты, я с улыбкой сказал кучеру: “Я расплачусь с тобой на обратном пути”. Начальник полиции и капитан полиции, которые стояли рядом, не смогли удержаться от смеха.
В суде меня привели в отдельную комнату, предназначенную для подсудимых. Я с нетерпением ждал, когда меня поведут в зал суда. Я так долго ждал этого дня. Теперь, когда он настал, я не мог поверить, что все это не сон.
Все эти месяцы и годы пролетели передо мной: Кулябко отрывает меня от моей семьи, Охранка, окружной прокурор, цадики, афикоман, тюрьма, голодовки, бессонные ночи, надзиратели, опухшие ноги, операция, хирург, режущий долго и безжалостно, Фененко, Машкевич, генерал и дама с ним, и все эти бесконечные пытки. Господи, когда же все это закончится?
 Бейлис под стражей
Бейлис под стражей
Глава ХХ
КАРАБЧЕВСКИЙ
Дверь комнаты открылась, и видный, спортивного вида человек с копной волос вошел и поздоровался со мной. Я вздрогнул, как будто проснулся от страшного сна, и посмотрел на это красивое дружественное лицо.
“Здравствуйте, господин Бейлис. Не удивляйтесь, я ваш адвокат Карабчевский”, — сказал он.
Я знал, что он будет одним из моих адвокатов в суде, но до сих пор встречался только с Григоровичем-Барским, Грузенбергом, Зарудным и Марголиным. Они часто навещали меня в тюрьме. Двух других — Маклакова и Карабчевского — я до суда не встречал.
Неожиданное появление Карабчевского произвело на меня сильное впечатление. Как будто яркий свет озарил комнату. Его дружеское приветствие, бодрый тон не только освободили меня от кошмара моих мыслей, но и создали впечатление, что меня тут же освободят из заключения.
Известный адвокат подошел поближе и сказал: “Приободритесь, господин Бейлис. Не отчаивайтесь. Я был бы рад подойти поближе, чтобы пожать вашу руку. К сожалению, в вашем случае было придумано исключительное правило, и даже мы, ваши адвокаты, не можем приблизиться к Вам больше чем на четыре шага. Вполне возможно, что если я нарушу это правило, мне объявят строгий выговор. Как Вы себя чувствуете?”
Его сердечные и дружеские слова так сильно меня впечатлили, что я забыл, что являюсь заключенным. Я почувствовал себя свободным человеком, окруженным друзьями. Но один взгляд на мою охрану, которая не спускала с меня глаз, дал мне понять, что я по-прежнему в их тисках.
Я почувствовал голод, и мне хотелось курить. Я обратился к Карабчевскому:
“Прежде всего я хочу, чтобы мне разрешили курить и дали что-нибудь поесть. Я умру от голода, если буду ждать, пока принесут еду из тюрьмы. У меня есть деньги, и я мог бы купить еду в буфете суда”.
Пока я это говорил, в комнату вошел полковник, который отвечал за мое сопровождение. Карабчевский обратился к нему:
“Почему этому человеку не позволяют курить?”
Полковник резко ответил: “Потому что заключенным не позволено курить”.
“Может быть, — ответил Карабчевский. — Но этот человек не заключенный. Кроме того, ему нужно дать поесть. Суд, который сейчас начнется, будет долгим и утомительным. Ему нужно будет много сил. Это серьезное дело. Поэтому я убедительно прошу Вас удовлетворить просьбу Бейлиса. Если Вы это ему не позволите — возможно, это не в вашей власти, но это не имеет значения — я буду вынужден рассказать об этом публике во время суда. Вряд ли стоит подвергать людей таким лишениям, особенно такого человека”.
Слова Карабчевского произвели впечатление на полковника. Он понял, что имеет дело не с подавленным евреем Менделем Бейлисом, а с великим русским адвокатом Карабчевским. Угроза Карабчевского рассказать об этом публике в зале суда также произвела впечатление. Полковник попросил несколько минут для консультации с начальством, потому что это была необычная проблема, и он не мог взять на себя ответственность.
Выходя из комнаты, полковник повернулся к охране и сказал: “В любом случае, пусть курит”.
“Если так, — сказал Карабчевский сопровождающему солдату, — принесите ему папиросы”. Он достал трехрублевую ассигнацию и дал солдату. Тот вернулся через несколько минут с отличными папиросами. Карабчевский был доволен, что сумел выбить для меня привилегию и удовольствие покурить и тем самым отвлечь меня от мрачных мыслей.
Тем временем вернулся полковник и сообщил, что после обсуждений высшие власти разрешили мне приобрести еду в буфете суда.
“Теперь, господин Бейлис, — воскликнул мой адвокат, — Вы довольны? Если Вам нужно еще что-нибудь, скажите своим адвокатам. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Вам. Вы сами не теряйте мужества. Ведь Вы не совсем в руках ваших тюремщиков. Вы в руках Б-га и в наших руках. Мои коллеги рады участвовать в вашем суде. Конечно, я бы хотел, чтобы такой суд никогда не происходил в России. Наша страна была бы избавлена от позора. Но раз уж нам придется через это пройти, хочу сказать, что для нас большая честь показать всему миру лживость обвинения. Вы сами увидите. Правда восторжествует. Я на некоторое время Вас покину. Вскоре мы снова будем вместе. До свидания”.
Высказывания Карабчевского, исходившие от такого искреннего и уважаемого человека, вселили в меня силу и уверенность. Я был полон энергии, и моя вера в скорое освобождение окрепла. Быстро изменилось и поведение сопровождавших меня солдат. Они стали исключительно вежливыми и готовыми помочь. Они, конечно, не могли понять, как такие люди могли в такой манере разговаривать с простым заключенным. Они никогда ничего подобного не слышали. Более того, разве господин не сказал, что я вовсе не заключенный? Кроме того, инцидент с папиросами, когда солдат получил от адвоката три рубля чаевых, и стычка с полковником по поводу еды — все это повлияло на изменение их отношения ко мне.
Солдат принес мне еду из столовой, и каждый раз, когда он туда шел, он заботливо спрашивал, что мне принести, поскольку, раз мы платим за это деньги, он рад побеспокоиться, чтобы я получил хорошую сытную еду. Все это делалось с улыбкой и вежливо, чего я никогда не встречал у тюремных солдат.
Вскоре мое самочувствие значительно улучшилось. С одной стороны, я впервые за много месяцев получил стакан хорошего чая, а приличная еда укрепила мои силы. Однако было рано радоваться. После всех моих прошлых страданий мне предстояло еще многое. И мне нужно было много сил на будущее. Нужно сказать, что для человека, оторванного на многие утомительные месяцы от мира, даже час облегчения и удовольствия — само по себе большая удача. Пока я размышлял о своей судьбе, дверь открылась, и раздался громкий голос полковника: “Проводите заключенного в зал — сейчас начнется суд”. Я повторял последнюю фразу снова и снова.
Глава XXI
СУД НАЧИНАЕТСЯ
Меня привели в
большой зал суда и велели сесть на скамью подсудимых. Солдаты с обнаженными саблями стояли по обе стороны, но я не обращал на них внимания. Пусть они меня охраняют, если таковы распоряжения. Я был доволен, что покров тайны будет отброшен, и секретность, которой чиновники и черносотенцы пытались окружить мое крушение, будет раскрыта миру. На меня произвела большое впечатление вся сцена открытия суда. В большом зале суда скопилось несколько тысяч зрителей, людей всех наций и классов. Женщины в красивых туалетах, холеные генералы и высшие чиновники в сверкающей форме и регалиях.
Но больше всего меня впечатлило присутствие газетных корреспондентов из всех цивилизованных стран. Окружной прокурор, прокурор и другие чиновники стояли в стороне и оживленно беседовали. Посредине комнаты было возвышение для судей.
Все эти люди пришли принять участие в этом спектакле или удовлетворить свое любопытство. Но в тот момент, когда меня ввели в зал, все взгляды сконцентрировались на мне.
Присяжные, “двенадцать хороших людей”, в чьих руках фактически была моя судьба, произвели на меня неприятное впечатление. В их руках была моя свобода или смерть, заключение или полное освобождение. Моим первым впечатлением было, что суд я проиграю. Я не мог представить, что эти простые мужики смогут разобраться в таком сложном деле. Если бы жюри состояло, как я ожидал, из образованных людей, я бы не боялся окончательного исхода. Они бы поняли все происходящее. Я боялся, что мужики не смогут понять доводы моих адвокатов. Кроме того, я знал, как легко впечатлить таких простых людей. У них не было других средств, кроме собственной смекалки. Они очень опасались властей. Поэтому я боялся, что официальным властям будет легко склонить их на свою сторону красивыми разговорами и сделать их моими врагами. Тем более что дело касалось еврея.
Присяжные видели, с одной стороны, русских генералов и чиновников во всем великолепии власти, которой наделил их царь. Прокурору и его помощникам было доверено не пропустить ни одного поклепа, который можно на меня повесить. Да, присяжные видели нескольких русских адвокатов, которые меня защищали. Но произведет ли это на них впечатление? Любой обвиняемый может нанять адвокатов. Кроме того, русский крестьянин известен своей доверчивостью, и чем нелепее слух, тем легче он в него поверит.
Это были люди именно того типа, которые верили, что евреи используют кровь кровь на Пасху. Возможно, они все разделяли это убеждение. Если так, то я был в их глазах убийцей, и ничего нельзя было изменить. Надо было положиться на Б-га и ждать исхода. Я посмотрел на моих адвокатов и адвокатов обвинения Шмакова и Замысловского. Оглядывая лица сидевших в зале, я заметил в отдаленном углу мою жену. Она сидела одна, с опущенной головой, со слезами на глазах.
В зале было шумно. Многие громко разговаривали. Некоторые ходили взад — вперед. Разные чиновники входили с портфелями и документами. Сумбур и шум были похожи на оркестр, который настраивает инструменты перед началом концерта.
И вдруг наступила полная тишина. Судебный пристав закричал: “Встать, суд идет”. Публика встала с мест как один человек. Вошли еще чиновники, стало тихо, был слышен малейший звук, как будто все прекратили дышать.
Председатель суда Болдырев нарушил тишину. Он обратился ко мне с вопросом:
“К какой религии Вы принадлежите?”
Я не узнал собственного голоса, ответив почти криком: “Я еврей”.
Я заметил, что окружной прокурор и адвокат обвинения Шмаков обменялись улыбками, когда я это сказал. Сразу после этого между адвокатами обеих сторон началась полемика. Председатель суда спросил моих адвокатов, не возражают ли они, что юристы обвинения сидят так близко к присяжным. Карабчевский тут же ответил: “Да, мы очень настойчиво возражаем. Они сидят слишком близко к присяжным, и каждое их слово может повлиять на мнение жюри”.
Обвинение попыталось это отрицать, но защита взяла верх.
Началось приведение свидетелей к присяге. Это не мелочное дело. Были приглашены сто тридцать пять свидетелей защиты и тридцать пять обвинения — всего сто семьдесят свидетелей. Они были приведены к присяге. Тишина в зале была нарушена, и начался общий гам.
Подходя для присяги, свидетели проходили мимо меня. Все мои свидетели дружески меня приветствовали. Здоровались даже некоторые со стороны обвинения. Эта процедура продолжалась весь день и закончилась поздно вечером. Я сидел как будто пригвожденный к месту и был близок к обмороку от однообразия и усталости. Когда прием присяги свидетелями закончился, меня снова отвезли в тюрьму в черной карете.
В течение всего времени моего заключения я спал практически на голом полу, и никто не думал улучшить мои условия. Наоборот, часто пытались сделать их еще тяжелее.
Я был приятно удивлен, зайдя в свою камеру, потому что она выглядела по-другому. Стояла койка с опрятным матрасом. Все охранники действовали как старые друзья. Я их не мог узнать. Я не мог понять причин изменения их отношения. Чувствовали ли они, что меня скоро освободят и мыльный пузырь лжи лопнет? Но как они могли измениться, если суд только начался?
Очевидно, от их начальства было указание, что, каким бы ни был исход суда, пока что надо быть мягче в обращении со мной. Я поблагодарил Б-га. Надо принимать час облегчения, даже если это всего один час. Устав от всего пережитого за день, я бросился на койку и заснул.
Глава XXII
ПОКАЗАНИЯ РАЗНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ
На следующее утро почетный эскорт из эскадрона кавалерии и жандармов снова доставил меня в суд. Зал суда был так же набит, как и вчера, но напряжение было больше, и публика больше нервничала. Вчера была формальная церемония принесения присяги, а сегодня начиналась настоящая драма, настоящий спектакль.
Начался допрос свидетелей. Первыми вызвали извозчиков и машинистов, которые возили кирпичи с фабрики. Эти свидетели должны были подтвердить очень важное для суда обстоятельство. Фонарщик Шаховский дал показания прокурору (и это было включено в обвинительное заключение), что в 9 часов утра в субботу 12 марта он видел меня в моем доме с двумя цадиками, одетыми в длинные халаты и кипы, закутанными в талиты и погруженными в молитву. После молитвы, как утверждалось, я погнался за Ющинским, догнал его и понес к обжиговой печи. Он не знал, что было дальше. Из его показаний было очевидно, что Андрюша не ушел из моих рук живым. Шаховский также показал, что в это время на фабрике не было никого, даже рабочих.

Фонарщик Шаховский с женой
Эту же историю рассказал Фененко сын Чеберяк Женя. Когда прокурор спросил меня, что я могу сказать по поводу показаний Шаховского, я ответил, что на фабрике существует система квитанций и операций. Квитанции показывают, какие извозчики и машинисты работали в этот день, кому был доставлен кирпич, есть подписи извозчиков, которые грузили кирпич и доставляли его клиентам. Книги показали, что 12 марта было доставлено 10,000 кирпичей, и в этой работе в течение всего этого дня были задействованы пятьдесят извозчиков и машинистов. Поэтому утверждение, что на фабричном дворе в этот день никого не было, и мне нечего было делать, кроме как гоняться за Ющинским, было просто абсурдным. Один из машинистов ответил так:
“Мы всегда были на фабрике. Мы даже спали там. Бейлис жил на верхнем этаже, а мы — на нижнем. Кроме того, нам хорошо известно, что Бейлис честный человек”.
Другой возчик сказал: “Бейлис вставал очень рано, около трех утра. Когда мы стучали в его дверь, он всегда был готов. Он был очень предан своему хозяину и внимательно следил, чтобы мы тоже рано вставали и шли работать. Он часто бросал есть и приходил посмотреть, не бездельничаем ли мы. Он никогда не оставался один даже на час. Все мы русские всегда были там и днем, и ночью”.
Эти простые и четкие заявления простых крестьян произвели большое впечатление. После машинистов вызвали незнакомую мне женщину. Когда председатель суда спросил, знает ли она меня, она ответила: “Да, я его знаю — это из-за него счастье моей семьи разрушено. Я потеряла мужа из-за Бейлиса. Мой муж был кузнецом, и ему нужен был кусок металла, который он не мог нигде достать. Он заметил подходящий кусок на фабрике Зайцева и, решив, что Зайцев очень богат и не заметит пропажи, взял его. Но Бейлис этого не допустил и предъявил ему обвинение. Моего мужа посадили в тюрьму, где он заразился тифом и вскоре умер. И все же я считаю Бейлиса честным человеком. Он выполнял свой долг, он предан своему хозяину”.
Один за другим суд вызывал свидетелей, и они расшатывали обвинение своими показаниями. Не могло быть лучшего доказательства для тех, кто действительно был заинтересован в правде, чем показания этих простых людей. Конечно, оставался вопрос, как присяжные заседатели отнесутся к этим показаниям. После этих свидетелей перед судьями предстал поляк по имени Вышемирский, человек старше 60 лет. Он жил по соседству, в третьем доме от меня. Его заявления произвели сильное впечатление, и во время его показаний публика в зале сидела очень тихо, как завороженная. После его показаний в зале поднялся шум. Вышемирский торговал скотом. Каждый раз, когда мне нужна была корова, я покупал у него. Он бывал у нас в доме практически каждый день и знал все, что касается моей семьи. Вышемирский знал, что во время убийства у меня вообще не было коровы. Это показание было ударом для обвинения, поскольку показывало лживость Веры Чеберяк и ее детей, которые свидетельствовали, что приходили ко мне 12 марта покупать молоко. Вот почему Фененко на первом допросе спрашивал, есть ли у меня корова и продаю ли я молоко. Вышемирский решительно заявил, что все рассказы о корове и молоке были лживыми, потому что он точно знает, что у меня весь год не было коровы. Закончив показания, он продолжал стоять перед судьями, как будто погруженный в мысли. Было ясно, что он хочет что-то добавить. Публика была “на пределе внимания”, и в зале царила мертвая тишина. Что он хотел сказать? Что собирался сказать этот старый нееврей? И почему он так долго раздумывал, почему колебался?
Мне было не по себе. По поводу коровы он говорил правду, но я не знал, что еще он собирается сказать. Вдруг он прервал тишину.
“Я хочу сказать еще что-то, — он говорил очень медленно. — Я не знал, что меня вызовут свидетелем — какое мне дело до судов, обвинений и так далее? Я старый человек, одной ногой в могиле. За всю свою жизнь я никогда не был в суде, ни как обвиняемый, ни как обвинитель, и я надеялся закончить свою мирную жизнь, не имея ничего общего с судами, но я получил вызов явиться сюда, что ж, так тому и быть. Что я могу сказать? В последние два с половиной года я болел из-за этого дела. Мне кажется, что оно сократит мои земные дни. У меня есть один сын, который мне очень дорог — из-за него я не сделаю ничего ужасного или нечестного. Кроме того, я принес присягу, я верю в Б-га и боюсь Его. Поэтому я считаю, что не могу молчать и должен рассказать все, что мне известно в связи с этим делом. Все, что я рассказал о корове, подтверждает лживость обвинений против Бейлиса. Но я вам расскажу еще что-то, что положит конец всем сказкам о том, что Мендель Бейлис убийца, что он мог убить Андрюшу Ющинского или что ему нужна была кровь для пасхальной мацы. Я утверждаю, что все обвинения лживы от начала до конца”.
В зале стояла напряженная тишина. Вышемирский замолчал, собираясь с силами. Он снова повернулся к судьям и заговорил просто и серьезно. “Я сам из города Витебска. Я был управителем имения. У меня был помощник, мой дорогой друг и единоверец по фамилии Равич. Спустя некоторое время мы оба переехали в Киев и жили недалеко друг от друга, вблизи дома Чеберяк. У Равичей не было детей, они были приятными людьми и вели тихую жизнь. У него был бакалейный магазин, и он неплохо зарабатывал. Так прошло несколько лет. Однажды Равичи пришли ко мне попрощаться, сказав, что уезжают за границу. Я был потрясен! Почему они уезжают так неожиданно? В чем дело? Они были обеспеченными и уважаемыми людьми. Какая причина покинуть друзей и прибыльный бизнес и уехать на другой конец света? — он сказал, что они уезжают в Америку.
Госпожа Равич начала плакать. Я понял, что что-то не в порядке. Со слезами на глазах госпожа Равич сказала: “Мы обязаны уехать в Америку”.
“Почему? Почему вы вдруг все оставляете, чтобы столкнуться с трудностями на новом месте? У вас есть там друзья или родственники?”
Она расплакалась еще сильнее. Сам Равич сидел молча, не проронив ни слова. Я видел, что что-то их гнетет. Я умолял рассказать, что случилось.
“Я ваш давний друг. Вы не должны ничего от меня скрывать”.
Она сказала: “Дорогой друг, я вижу, что могу рассказать Вам правду, но я умоляю никому не повторять моих слов, если Вы не хотите подвергнуть наши жизни опасности. Пообещайте мне”.
“Да, я обещаю, но расскажите мне правду”, — сказал я.
Вот что она мне рассказала: “Все это время мы были дружны с Верой Чеберяк — Вы знаете, что мы соседи. Она часто приходила занять что-нибудь, иногда я ходила к ней попросить что-нибудь — кастрюлю или еще какую-нибудь утварь. Однажды утром я зашла к ней попросить разделочный нож. Мы были в таких хороших отношениях, что я знала, где что лежит. Вера была в постели, поэтому я сама пошла на кухню за ножом. Как только я вошла в соседнюю комнату, то, к своему ужасу, увидела в ванной мертвого ребенка. Я до смерти перепугалась, схватила нож и убежала оттуда. Наверное, Вера заметила, что я что-то увидела, и испугалась”.
Свидетель опять остановился — он говорил с трудом и часто останавливался. По залу пронеслась волна перешептываний. Свидетель продолжил говорить.
“Спустя несколько дней — я пересказываю рассказ госпожи Равич — Вера Чеберяк пришла ко мне и сказала мне буквально следующее несколькими резкими словами: “Послушайте, Равич, конечно, мне очень жаль, что Вы видели ребенка, то это уже не изменишь — есть один только выход для вас — навсегда покинуть Россию. Если вы останетесь, вам придется навсегда покинуть этот мир”. Я ей ответила: “Сестренка, что ты говоришь? Почему я должна уехать? Куда я поеду? И зачем?” Она мне ответила: “Я оплачу вам дорогу до Америки — я знаю, что ты не проболтаешься, но шпионы начнут вынюхивать, тебя вызовут к прокурору, будут тебя допрашивать, в конце концов ты расскажешь правду. Поэтому вам лучше всего исчезнуть”. Что мне было делать? Мне пришлось сказать, что я согласна, и мы покинем Россию. Я пришла с Вами попрощаться”, и действительно, господа судьи, через несколько дней они уехали в Америку, в Нью-Йорк”.
Когда Вышемирский закончил свои показания, в зале поднялась настоящая буря. Вера Чеберяк, которая присутствовала там в качестве свидетеля, принаряженная и в пестрой шляпке, как “настоящая леди”, была на грани обморока. Она пришла в возбуждение, что-то говорила и неистово жестикулировала. Председательствующий судья Болдырев, который был явно в дружеских отношениях с Чеберяк, пытался ее успокоить и вместо того, чтобы обратиться к ней “мадам Чеберяк” или “свидетельница”, как требовал устав суда, называл ее “Вера Владимировна”, как будто она была какой-то видной личностью или близкой подругой. Те, кто сидел рядом с ней, стали отодвигаться от нее, как будто она вселяла в них страх. Мне было хорошо видно, что вся эта сцена произвела впечатление на судей. Когда Вера Чеберяк это увидела, она сняла шляпку и набросила на голову шаль, чтобы хоть как-то оградить себя и сделаться менее узнаваемой. Она была бледна и вся дрожала. Председательствующий судья, который сам был довольно потрясен, обратился к свидетелю: “Если Вы так давно знаете то, о чем сейчас рассказали, почему Вы до сих пор молчали?”
Свидетель ответил: “Я не думал, что меня вызовут свидетелем. Я верил, что правда откроется сама по себе. Скажу вам больше — я испытывал свою веру. Я молчал, чтобы понять, есть ли в мире справедливый Б-г — если Б-г есть, правда станет известна”.
Было очевидно, что председательствующий не собирался разрешать свидетелю продолжать говорить. Он был слишком хорош для защиты обвиняемого, и судья хотел от него избавиться.
Следующим свидетелем был 10-летний мальчик. Его показания были еще одним ударом не только для обвинения, но и для Веры Чеберяк. Я должен заметить здесь, что много раз в течение суда свидетели открыто заявляли, что они уверены, что убийство совершила Вера Чеберяк. Мрачный юмор ситуации состоял в том, что она была приглашена в качестве свидетеля против меня. Мальчик посмотрел на меня и улыбнулся. Судья спросил его: “Ты знаешь Менделя Бейлиса?”
“Да, я его знаю”.
“Он когда-нибудь выгонял тебя с фабрики?”
“Меня никогда не надо было выгонять, и Бейлис этим не занимался, у него были другие дела. Для этого у них был дворник”.
Этот вопрос задавали неоднократно, потому что обвинение пыталось доказать, что у меня была привычка изгонять христианских детей с территории фабрики и что я догнал Андрюшу и сделал его своей жертвой.
“Да, — продолжал мальчик, — мы играли во дворе фабрики, но Ющинский там не бывал, и Бейлис никогда нас не прогонял”. Он добавил: “Перед тем, как Вы меня вызвали, я сидел возле Веры Чеберяк, и она мне сказала: “Послушай, не забудь сказать, что Андрюша Ющинский играл с вами во дворе фабрики, это было давно, и ты, наверное, забыл”. Я ей ответил: “Почему Вы учите меня, что говорить? Вы учите меня говорить неправду — Андрюша никогда не играл на территории фабрики, и я говорю правду”. Я видел по выражению лиц присяжных, что их тронули слова мальчика. Ситуация Верочки, или Веры Владимировны, как называл ее председательствующий, ухудшалась. Мои свидетели не скрывали убеждения, что это она убила Андрюшу.
В первые несколько дней было допрошено несколько важных свидетелей. Некоторых вызвали, чтобы опросить по поводу пожара на фабрике. Я сам узнал о пожаре только во время суда. Вот как это произошло: через некоторое время после моего ареста у меня в доме был пожар, скорее всего, в результате поджога. Виновника так и не нашли — мало кто сомневался, что это было дело рук Верочки и ее шайки. Однако антисемитские газеты начали публиковать истории, что это сделали мои родственники, чтобы уничтожить следы моих преступлений. Поэтому свидетелей спрашивали (это в основном были рабочие с фабрики), где и когда возник пожар. Это было важно, потому что антисемиты настаивали, что сначала из моего дома вынесли всю мебель и только потом его подожгли. Работники показали, что пожар начался в полночь, и если бы они не проснулись, то все бы сгорели в пламени. Они проснулись по счастливому совпадению. Один из рабочих был в этот день пьян (это было воскресенье). Он был так пьян, что в полночь почувствовал себя “хуже собаки”, начал кричать и поднял бучу. Это разбудило остальных. Вдруг они увидели дым и затем пожар. Дым и пожар распространялись из моей части дома. Моя семья крепко спала, и (так свидетельствовали рабочие) “если бы мы не разбудили Бейлисов, они бы все сгорели дотла”.
Следующими вызвали двух сестер Дьяконовых. Показание одной из сестер оказалось очень интересным. Она сказала: “Мы с сестрой часто проводили вечера у Чеберяк, играя с ее детьми. Однажды она попросила нас прийти и провести у нее ночь. Она сказала, что ее муж в этот день должен работать допоздна на телеграфе, а ей одиноко оставаться одной дома. Мы пришли к ней, и около полуночи, когда она уже спала, я заметила на полу что-то большое, завернутое в мешок. Мне было интересно, и я решила посмотреть, что это. Когда я открыла мешок, то увидела внутри мертвого ребенка. Я до смерти перепугалась и побежала будить Веру. “Смотри, — сказала я, — там лежит мертвый ребенок — это не Женя (сын Чеберяк)”? Вместо того, чтобы мне ответить, она начала храпеть и притворилась, что не слышит. Я боялась оставаться в доме — я разбудила сестру, и мы среди ночи побежали домой”.
Выслушав показания девочки, прокурор и адвокаты обвинения сделали кислую мину и пытались сбить ее с толку. Председательствующий задал другой вопрос: “Почему ты не рассказала об этом раньше?”.
Девочки ответили: “Мы боялись. Вера опасный человек. Она могла легко с нами расправиться. Мы вынуждены были молчать, но теперь мы можем рассказать все как было”.
Был вызван новый свидетель, брадобрей, который рассказал, что однажды его арестовали и привели в участок, где было еще трое заключенных: главные Верины бандиты Рудзинский, Сингаевский и Латышев, которых доставили из Москвы. Этой ночью он подслушал разговор между ними. Он слышал, как Рудзинский говорил Латышеву, что он глупый, безмозглый зверь — “Ты бросил его на фабричный двор, недалеко от дома еврея”. Больше он ничего не слышал. Эту историю он уже рассказывал Фененко. Я должен сказать, что на суде открылось много нового, о чем я сам не имел никакого понятия: я был изолирован в течение более чем двух лет. Поэтому я слушал все показания с большим интересом.
Так я знакомился со всем, что происходило, пока я сидел за решеткой; только тогда я понял, какие мощные доказательства есть у властей относительно Чеберяк. Тем не менее, меня посадили на скамью подсудимых, в то время как она присутствовала в суде как “свидетельница”.
Еще одним свидетелем была госпожа Малицкая — она была сиделицей трактира в том же доме, где жили Чеберяки. Чеберяки жили на верхнем этаже, трактир был на первом этаже. Госпожа Малицкая рассказала суду, что ночью 12 марта она слышала, как по полу в квартире Чеберяк тащили что-то тяжелое. Она прислушалась и услышала детский крик — она не знала, что именно происходит, но это она слышала.
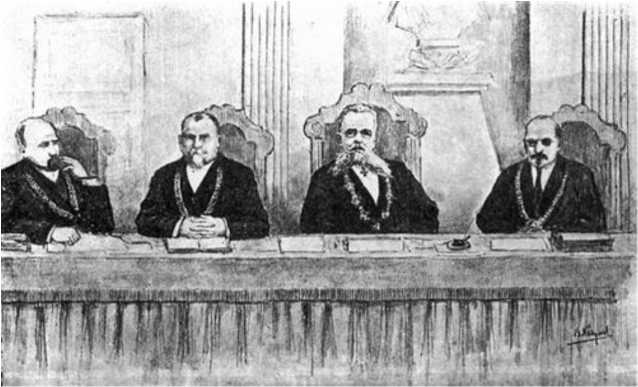 Состав суда. Второй справа судья Ф. А. Болдырев
Состав суда. Второй справа судья Ф. А. Болдырев
 Судья Ф. Болдырев
Судья Ф. Болдырев
 Прокурор О. Ю. Виппер
Гражданский обвинитель Г. Замысловский
Гражданский обвинитель А. С. Шмаков
Прокурор О. Ю. Виппер
Гражданский обвинитель Г. Замысловский
Гражданский обвинитель А. С. Шмаков
Глава XXIII
ЧЕСТНЫЙ СВЯЩЕННИК И ПРЕЗРЕННЫЙ РЕНЕГАТ
Председателю суда явно надоело слушать показания в мою пользу; они подтверждали, что убийство было совершено в доме Чеберяк. Все: Вышемирский, сестры Дьяконовы, 10-летний мальчик, мадам Малицкая — указывали на Чеберяк. Суд начал приглашать свидетелей обвинения, чтобы ослабить впечатление, произведенное на публику и присяжных моими свидетелями. Вызвали дьякона, который должен был повлиять на крестьян-присяжных. Судья задал ему стандартный вопрос: “Вам что-нибудь известно об убийстве?”.
Он ответил: “Я знаю очень много”.
“Что именно Вы знаете?” “Андрюша Ющинский был, можно сказать, святой. Он хотел стать священником, когда вырастет. Я готовил его к семинарии. Когда я его спросил, почему он хочет стать священником, он ответил, что ему нравится риза. И вдруг я услышал, что его убили. Это произвело на меня огромное впечатление. Поскольку я его хорошо знал, его мать попросила меня помочь с похоронами. Когда тело мальчика опускали в могилу, я увидел листовки, которые распространяли среди присутствующих погромщики. Как только я их прочитал, я понял, что смерть Андрюши не имеет ничего общего со святостью. Я понял, что все было сделано, чтобы вызвать погромы против евреев”.
В зале суда начались движения и перешептывание. Судья пригрозил удалить публику, если порядок не будет восстановлен.
Следующим свидетелем был монах. “Что Вы знаете об убийстве?”
Вот что он сказал: “Мне больше 60 лет. Я больше думаю о загробной жизни, чем об этой. Поэтому я должен рассказать правду. Дорогие братья, если бы только земля могла вернуть нам мертвых, вы бы увидели, сколько христианских младенцев убили евреи”.
Было очевидно, что монах не столько собирался дать показания, сколько произнести погромную речь. В зале суда чувствовалось оживление. Председатель прервал его и спросил: “Вы сами видели это или Вам рассказали?”
Свидетель ответил: “Мне рассказали”.
“Тогда садитесь”, — сказал судья.
Монах сел. Позже мне рассказали, что председатель суда получил выговор за это от своего начальства. Ему дали понять, что он потеряет свой пост, если будет продолжать вести такую политику.
Но адвокаты еще не закончили с этим свидетелем и подвергли его перекрестному допросу. Он пришел спасти Россию. По крайней мере, он так считал. Он хотел спасти честь российского правосудия, а вместо этого получил такой удар от председателя суда! Председатель суда осмелился спросить монаха, видел ли он, как евреи убивали ребенка. Даже если он и не видел, разве это не было правдой?
Наступила очередь Грузенберга допросить этого свидетеля. Поскольку свидетель был русским священником, тактичность требовала, чтобы его допрашивал русский адвокат. Грузенберг попросил Карабчевского, чтобы тот продолжил допрос. Первый вопрос звучал так:
“Святой отец, прошу прощения, но я вынужден задать этот вопрос. Скажите, разве Вы не еврей по происхождению?”.
Священник был смущен. Он явно этого не ожидал и не хотел признаваться в своем бывшем еврействе. Но надо было отвечать.
“Да, я был евреем пятнадцать лет”.
“Вы когда-нибудь слышали в доме у отца, что евреи используют христианскую кровь на Песах?”
“Нет, я никогда не слышал этого в доме отца, но узнал об этом, когда стал христианином”.
Карабчевский повернулся к присяжным. Он сказал: “Святой отец говорит, что никогда не слышал ни о чем подобном, когда был евреем. В доме своего еврейского отца он никогда не видел и не слышал ничего подобного. Впервые он услышал об этом, когда стал христианином. Что это вообще значит? Что есть христиане, которые выдумывают всякие дикие истории и жестокую клевету; и понятно, что что его новые единоверцы рассказали ему эту историю для того, чтобы он стал ненавидеть евреев и никогда не вернулся к своим основам”.
Так закончился перекрестный допрос священника. С ним закончился и день в суде. Был уже поздний вечер, и все устали. Люди отправились домой, а я — в тюрьму.
На следующее утро в начале сессии студент Голубов, один из лидеров Черной сотни в Киеве, был вызван давать показания. Он был смуглый и выглядел настоящим головорезом. Его появление вызвало сенсацию. Обвинение рассчитывало в значительной мере на его показания, и от него ждали удали и чудес. Заместитель прокурора, председатель суда и адвокаты обвинения встретили его с большим уважением. Все взгляды были обращены на него. Он явно нервничал и становился все бледнее. Председатель спросил, что ему известно о деле и об убийстве. Свидетель молчал. Это вызвало разочарование. Его спросили, хорошо ли он себя чувствует. Ему дали стул, и как только он сел, тут же упал в обморок. Профессора Черной сотни, “эксперты” Косоротов и Сикорский обратились к знаменитому профессору Павлову, царскому врачу, который тоже был вызван в качестве свидетеля. Они попросили его помочь привести Голубова в чувство.
Павлов ответил: “Почему вы все сидите? Разве это не ваш свидетель? Делайте что-нибудь”.
В конце концов Голубова вынесли из зала, полумертвого и непригодного к даче показаний. В этот день он не произнес ни слова. Почему он был так напуган, никто не понимал. Угрызения совести? Никто не знал. Возможно, он испугался многочисленных адвокатов, с которыми ему предстояло столкнуться. Его бы допрашивали лучшие юристы России, и он мог не помнить, что говорил Помощнику прокурора. Конечно, если бы он говорил правду, ему нечего было бы бояться. Должен сказать, что отец Голубова был хорошим, уважаемым человеком. Он был профессором Киевского университета и имел благородную репутацию. Когда его однажды спросили, как он мог позволить своему сыну быть замешанным в таких подозрительных делах, он ответил: “Что вы хотите от моего сына? Некоторое время он находился в психиатрической лечебнице в Виннице. Потом, когда он пришел в себя и вернулся домой, поступил в Черную сотню, и они сбили его с пути. Его сделали секретарем “Двуглавого орла”, и он теперь их лидер. Но бедный мальчик сам сбит с пути и неуравновешен. Оставьте его в покое и не упоминайте при мне его имени”.
 Отчёт в «Киевской мысли» о 14-м дне процесса (допрос Марголина и его очная ставка с Верой Чеберяк, с портретами Болдырева, Марголина и Веры Чеберяк)
Отчёт в «Киевской мысли» о 14-м дне процесса (допрос Марголина и его очная ставка с Верой Чеберяк, с портретами Болдырева, Марголина и Веры Чеберяк)
Глава XXIV
ЛОЖЬ И КЛЕВЕТА
После того, как Голубова вынесли из зала суда в обмороке, был вызван новый свидетель, священник Шайневич. Вот что он показал:
“Недалеко от меня жила дама, которая начала строить для себя большой дом. Однажды к ней пришел маклер еврей и спросил, не нужны ли ей деньги для окончания строительства — он мог дать ей необходимую сумму. Дама сказала, что деньги ей не нужны. Но от еврея было не так легко избавиться. “Не может быть, — сказал он, — что вам не нужны деньги. Сколько бы денег не было у человека, их всегда недостаточно при постройке дома. Я знаю этого из своего опыта”. Дама ему отказала, и он ушел. Через три дня он снова появился и сказал, что ее вызывают свидетельницей по делу Бейлиса и что он может одолжить ей любую сумму. На этот раз дама попросила его прийти на следующий день. Она хотела все обдумать и понять, нужны ли ей деньги. Она пришла ко мне как к священнику и рассказала эту историю. Она спросила моего совета, взять деньги или отказаться. Я сказал ей: “Не имейте дела с евреями. Выгоните его, когда он придет. Не вступайте с ним ни в какие сделки”.
Я видел, что рассказ священника не произвел никакого впечатления на присутствующих. Было понятно, что все это чистая выдумка от начала и до конца. Он не привел имен, у него не было доказательств. Чистая фабрикация о даме, которая строила дом, и об еврее. Вся история была так неуклюже составлена, что никуда не вписывалась. Пока он говорил, публика улыбалась. После этого секретарь суда зачитал показания свидетеля, который сам не мог явиться в суд, и его показания были записаны заранее. Его история была так же плохо составлена, как и предыдущая. Очевидно, это и была причина, почему он не появился в суде.
Вот что он показал: он якобы был вместе со мной в тюрьме. Я уже там находился, когда привели его. Почему его посадили в тюрьму? Он был своего рода адвокатом и представлял “дела” в суд. В связи с одним из его дел из суда исчезли важные протоколы и документы. Подозрение пало на него и секретаря суда, и обоих посадили в тюрьму. Когда его доставили в мою камеру, я его обнял и поцеловал, умоляя помочь мне спастись. Я якобы был его хорошим другом. У меня было в прошлом несколько судебных исков, и он, свидетель, помог мне выбраться из многих тяжелых ситуаций. В данном случае я якобы тоже просил его помочь мне. Я якобы признался ему, что убил Ющинского. Я умолял его помочь мне выбраться из неприятности, в которую попал. Более того, он заявил, что я раскрыл ему все “секреты ритуала”. Я рассказал ему, что ритуальное убийство, кроме всего прочего, требовало участия врача, который знает, в какие тринадцать мест на теле надо нанести ножевые ранения, чтобы получить больше крови. Я якобы сообщил ему имя врача, с которым он должен был связаться и получить от него несколько сот рублей, чтобы “справиться с этим делом”. Кто был этот таинственный свидетель? Вскоре выяснилось, что он сидел в тюрьме за какое-то преступление. Ему грозило осуждение по серьезной статье. В отчаянии он решил, что нашел правильный выход, и написал самому министру юстиции, что у него есть важные показания против Бейлиса, и если его освободят, он все расскажет и и предоставит сильный козырь против Бейлиса. Печально известный министр юстиции Щегловитов легко поддался на эту уловку. Он, очевидно, решил, что это настоящая находка. Человека этого быстро освободили. Министр распорядился, а судебные власти бросились исполнять. Но когда он начал давать “показания”, они были разочарованы. Да, был шанс, что на присяжных произведут впечатление дикие истории, должным образом обработанные, но была также вероятность, что адвокаты разгромят ее при перекрестном допросе. Поэтому его не допустили к появлению в суде.
Конечно, Грузенберг тут же задал вопрос, почему такой важный свидетель не был вызван в суд. Председательствующий ответил, что власти не смогли его найти. Они потеряли его адрес. После этого были зачитаны показания Козаченко. Он тоже напридумывал диких историй, которые не выдерживали критики, и поэтому не решился показаться в суде. Он показал, что пробыл несколько месяцев в одной камере со мной и что мы часто разговаривали об убийстве Андрюши. Поскольку я знал, что его скоро выпустят, я попросил его передать письмо моей жене, а также отравить нескольких свидетелей (обвинения, естественно). Например, фонарщика и некоего сапожника. Я ему якобы сказал, что врач из больницы Зайцева даст ему стрихнин. Я также пообещал ему значительное вознаграждение, которое он должен был получить от “неких евреев”. После прочтения его показаний Грузенберг снова спросил, почему такого важного свидетеля не вызвали в суд. Мы бы хотели услышать все это от самого человека, потому что обвинение в значительной мере базируется на его показаниях. Председательствующий дал тот же ответ: полиция не смогла найти этого свидетеля.
Глава XXV
ЦАДИКИ
Когда судебный пристав ввел двух цадиков, Эттингера и Ландау, которых якобы видели у меня в доме в халатах и в кипах, закутанных в талиты, в зале суда началось настоящее веселье. Фонарщик Шаховский показал, что в субботу утром до убийства он видел у меня в доме двух цадиков. Власти проверили списки на фабрике и в конторе и нашли имена двух человек — Эттингера и Ландау. Эттингер, очень богатый молодой человек лет 30, бритый, был полностью “европеизирован” и мало походил на еврея. Он был шурином Зайцева. Мадам Зайцева была его сестрой. Сам Эттингер был австрийцем. Он приехал в Киев в гости к сестре. Как еврей иностранец, он не имел права жить в России за “чертой оседлости”. Даже его шурин-миллионер не мог ему в этом помочь. Сам Зайцев жил в самом аристократическом районе Киева, Липках — именно в этом районе его эффектный молодой родственник не имел права жить. По крайней мере, законно он не мог быть вписан в домовую книгу. Капитан полиции в районе, где жил Зайцев, нашел выход, как это делали многие российские полицейские, когда перед ними маячила перспектива вознаграждения. Он зарегистрировал Эттингера в Плоском округе, где евреям можно было проживать. Спал и вообще жил он у Зайцевых. Таким образом, формально закон соблюдался, что было вполне в русском духе. Он также был зарегистрирован на фабрике, но даже не знал толком, где она находится. Он там никогда не был. Более того, что общего с фабрикой было у этого молодого человека, который приехал в Киев развлечься? Изучение процесса обжига кирпича?
То же самое относилось к Ландау. Это был молодой человек лет 25, который учился в Европе. Он был внуком старого Зайцева и по той же причине зарегистрирован на фабрике как резидент. Домовая книга показала, что оба молодых человека “выписались” за пять месяцев до убийства Ющинского. Тем не менее, обоих вызвали в качестве свидетелей, поскольку эксперты решили, что убийство было совершено с участием цадиков, как того требовал “ритуал”.
Когда два аккуратно одетых молодых человека были вызваны давать показания, Грузенберг, известный своим остроумием, представил их суду и публике:
“Это, господа, два цадика, которые, как утверждают, молились, облаченные в талиты и ермолки”.
Поскольку киевляне хорошо знали еврейские традиции, публика быстро уловила шутку, и по залу прокатилась волна смеха. Эттингер не знал русского языка и давал показания через переводчика. Ему задавали вопросы, о которых он не имел понятия. Ему задавали вопросы, является ли он цадиком, ест ли мацу, участвует в афикомане, и другие теологические загадки.
Он недоуменно пожимал плечами, но терпеливо отвечал на все вопросы. Очевидно, вся процедура напоминала ему сумасшедший дом, но он был готов пройти через все это. Его заявления тут же переводились на русский язык. Прокурор Виппер, который построил все обвинение на присутствии цадиков, начал нервничать, слушая эти показания. Они были ему не по вкусу, и почему этот молодой человек отрицает, что он цадик и употребляет мацу?
Виппер встал и строго обратился к свидетелю.
“А теперь расскажите правду; я тоже немец и все понимаю”.
Он явно хотел создать у присяжных впечатление, что Эттингер дает ложные показания. Поскольку прокурор открыто высказал такое обвинение, на присяжных это должно было произвести соответствующее впечатление, и, действительно, они начали переглядываться между собой. И как могли эти простые крестьяне понять, что этот бравый молодой человек, проводивший вечера в обществе хористок, не мог в то же время быть цадиком, закутанным в талит, и есть мацу. Я едва сдерживал слезы от волнения и страха. Когда Виппер увидел это, он засмеялся, и чем дольше он смотрел на меня, тем веселее был его смех. Я ранее упоминал, что Вера Чеберяк говорила прокурору, что ее пригласили приехать в Харьков для встречи с известным человеком (она позже настаивала, что это был мой адвокат Марголин) и что ей там предложили сорок тысяч рублей, чтобы она взяла на себя убийство Ющинского. Она утверждала, что на встрече в Харькове, помимо Марголина, присутствовал заместитель редактора “Киевской мысли” Сергей Яблоновский и еще один человек. Наступила очередь Яблоновского давать показания. Он прямо заявил, что никогда не был в Харькове. Мадам Вера Чеберяк была приглашена для опровержения его показаний. Председательствующий задал ей вопрос:
— Вы можете опознать человека, который предложил Вам деньги в Харькове?
— Да, я могу его опознать.
Снова вызвали Яблоновского. Судья продолжал задавать вопросы.
— Вы знаете этого человека?
— Пусть он сядет на стул, и я его опознаю, — сказала Чеберяк.
Судья начал допрашивать Яблоновского.
“Правду ли говорит Вера Владимировна: что Вы и еще один человек предлагали ей денег, если она возьмет на себя вину за убийство?”
Яблоновский засмеялся. “Один из нас говорит неправду. Вы должны решить, кто из нас лжет”.
“Так что, Вера?” — осведомился судья.
“Вы хотите, чтобы я сел? — спросил Яблоновский. Он удобно устроился на стуле и сложил руки.
“Да, — сказала Вера. — это он, так он сидел все время — со сложенными руками”.
В зале раздался громкий смех. Председатель суда спросил: “Почему Вы его узнаете только по манере сидеть, а не по лицу? Человека узнают по лицу, не так ли?”.
Она спокойно ответила: “Тогда он сидел точно так, как сейчас; вот почему я его узнала”. Публика веселилась от этих показаний, и как ни горько мне было, я все же не мог удержаться от смеха.
Снова вызвали важного свидетеля — фонарщика Шаховского. Адвокаты и публика приготовились к еще одной сенсации. Обвинение в значительной мере полагалось на этого свидетеля.
Судья спросил: “Что Вы можете нам рассказать об этом деле?”. К всеобщему удивлению, Шаховский ответил:
“Я ничего не знаю”.
Ничего! Было зачитано его предыдущее показание, когда он заявил, что в то субботнее утро, в 9 часов утра, он видел цадиков, ермолки, талиты, моления, и все это в доме Бейлиса. Как же может быть, что теперь он ничего не знает? Он ответил прямо: “В этот раз я говорю правду. Тогда я дал такие показания, но я был пьян. Сыщик Полищук напоил меня водкой. Я был сердит на Бейлиса, потому что он угрожал мне арестом за то, что я воровал лес с фабричного двора. Я тогда все это и сказал. В тот раз я не был под присягой. Сейчас я присягнул и должен говорить правду. Я христианин и боюсь Всевышнего. Почему я должен погубить невинного человека, который ничего не знает о предъявленных ему обвинениях?”
В зале как будто взорвалась бомба. Присутствовавшие черносотенцы были в шоке. На минуту они растерялись. Все обвинение было построено на показаниях Шаховского. От него ожидали так много, и вдруг такое скандальное разочарование. Шмаков и Замысловский вскочили и начали перекрестный допрос.
“Как же так, — буквально умолял Шмаков — разве Вы не рассказывали о женщине Волковной, которая встретила вашу жену и смеялась над всеми вами, потому что вы, живя так близко от места убийства, ничего об этом не знали, в то время как весь мир знал, что Андрюшу убил Бейлис?”
Свидетель продолжал настаивать:”Я ничего не знаю. Я был пьян”.
Вызвали жену Шаховского.
— Что Вам известно?
Тот же ответ: “Ничего”
— О чем Вы говорили с Волковной?
Жена Шаховского угрюмо ответила: “Говорила в основном Волковна. Я сама ничего не знаю. Если вы не довольны, спросите Волковну”. Привели мадам Волковну. Это была старая крестьянка, одетая в лохмотья, босая, типаж из отбросов общества.
— Что Вы знаете об этом деле?
Волковна была раздражена и ни капельки не смущена.
— Оставьте меня в покое. Я ничего не знаю.
— Чем Вы занимаетесь?
— Собираю милостыню, когда дают.
— Что Вы делаете с деньгами?
— Я многие годы этим занимаюсь. Иногда я покупаю водку, чтобы утопить свои печали.
Публика веселилась.
— Шаховский рассказал, что Вы хвастались, что знаете все об этом деле, а они не знают ничего.
— Оставьте меня в покое, — старуха начала злиться. — Что вы хотите от старухи? Я в тот день была пьяна и спала на рынке. Оставьте меня и не раздражайте.
Ее свидетельство развеселило публику в зале и даже судью.
 Суд присяжных
Суд присяжных
Глава XXVI
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ЛЖИ ЛОПАЕТСЯ
Представленные суду свидетельства ясно указывали, что правда находится на пути к победе. Не только свидетели защиты, но и свидетели обвинения доказывали мою невиновность. Особенно разочаровал обвинение Шаховский. Он изменил все направление дела. Все вроде бы шло в мою пользу. Тем не менее, когда я смотрел на присяжных, на их простые, приятные лица, по спине у меня пробегал холодок. Я не знал, какое впечатление произвели на них все показания свидетелей. Может, они не понимали значение происходящего. После небольшого перерыва был вызван свидетель Красовский.
Красовский принадлежал к секретной полиции и дослужился до чина капитана уголовного розыска. Он занимал эту должность в течение 20 лет и отличался умом и эффективностью раскрытия дел. Не было такого уголовного преступления или убийства, которое он не мог бы раскрыть. Однако в течение многих лет он был в тени.
Когда впервые стало известно об убийстве Ющинского, общественное мнение потребовало, чтобы во главе расследования поставили Красовского. Такова была вера в него. Но власти были против. “Черная сотня” опасалась, что он найдет настоящих убийц, а антисемиты этого не хотели.
Только спустя полгода, когда мои адвокаты начали настаивать, чтобы расследование проводил надежный полицейский чин, то есть Красовский, его поставили во главе расследования. Он тут же вышел на правильный след и уже должен быть обнаружить всю шайку, когда вмешался сам губернатор, найдя какой-то предлог, чтобы обвинить его в должностном преступлении. Его лишили чина капитана и посадили в тюрьму. Там Красовскому пришлось пройти через всякого рода унижения. Против него было возбуждено уголовное дело. Он был оправдан судом, но потерял свой пост и не был восстановлен в полиции. Его грех, конечно, был в том, что он обнаружил правду.
Свидетельство Красовского было коротким. Но того, что он сказал, было достаточно.
“Я часто бывал в доме Чеберяк после того, как было обнаружено убийство. Когда она была в тюрьме, двое ее детей, Женя и дочка, заболели. Их забрали в больницу. Сразу после освобождения она помчалась в больницу забрать детей. Врачи говорили ей, что мальчик очень слаб и может умереть по дороге домой. Но она не слушала никаких доводов и настаивала, что заберет их домой, будь что будет. Она сделала это, боясь, что мальчик может проговориться. Она боялась вопросов, которые могли ему задать. Я приходил к мальчику домой и задавал вопросы. Однажды, когда я с ним разговаривал, он побледнел и остановился на середине слова. Я быстро оглянулся и увидел позади себя его мать, которая показывала ему жестом, чтобы он молчал. Однажды, когда я пришел, Женя был в постели. Он плохо себя чувствовал. Чеберяк сказала сыну: “Скажи им, чтобы оставили тебя в покое. Скажи, что ты ничего не знаешь”. Женя возразил: “Мама, оставь меня со своими указаниями”. Вскоре после этого он умер.
 Женя Чеберяк
Женя Чеберяк
В своих показаниях Красовский и журналист Бразуль-Брушковский привели много новых фактов. Факты эти убедительно доказывали, что убийство было совершено Чеберяк и ее сообщниками Сингаевским, Рудзинским и Блатичевым. Не менее четкими и убедительными были показания против этих четверых адвоката Марголина, который появился в суде в качестве свидетеля.
Впервые за время суда я узнал об удивительной работе, проделанной Бразуль-Брушковским и Красовским, об их попытках найти убийцу, которого покрывали власти. Будучи в тюрьме, я не имел представления об их энергии и добытых результатах. Я уже получил некоторую информацию о господине Марголине. Но я не мог даже представить, что неевреи Яблоновский, Брушковский и Красовский пожертвуют своим положением в интересах правды. Ни я, ни моя семья никогда не забудут до конца наших дней этих прекрасных, просвещенных людей.
Окружной следователь Фененко также был приглашен и рассказал о своем расследовании. Он закончил заявлением, что не видел оснований для обвинения меня в ритуальном убийстве или вообще в убийстве. Он знал, что фонарщик Шаховский говорил неправду, но не мог ничего поделать. Поскольку против меня были свидетели, он был вынужден составить обвинительное заключение.
Затем вызвали молодого Зайцева. Председательствующий задал ему несколько вопросов: он когда-нибудь свидетельствовал почтение цадикам? А его отец? И другие подобные вопросы. Последний вопрос был: как получилось, что именно Бейлис отвечал за выпечку мацы для дома Зайцева, когда у него работали десятки других евреев.
Вот как выглядела история о маце: старший Зайцев (который умер незадолго до суда) был одним из самых богатых евреев России, владельцем пятнадцати сахарных заводов. У него был большой сахарный завод и поле свеклы в Ригоровке, в 40 км от Киева. На этом поле было выделено несколько гектаров для посадки пшеницы, и из этого урожая несколько центнеров оставляли для приготовления “маца шмура”. Это зерно хранилось в отдельном амбаре, ключи от которого были только у самого Зайцева.
За месяц до Песаха приглашали раввина, и под его присмотром около пяти центнеров зерна мололи для мацы. Затем мацу пекли, фасовали в коробки и отправляли по одной коробке разным родственникам и друзьям. Такая была у старика привычка, хорошо известная членам семьи. Я лет пятнадцать надзирал за этой работой. Когда меня арестовали, в доме нашли мою переписку с Зайцевым — он приказывал мне поехать в Ригоровку за мукой для мацы. Вот откуда пошла вся эта история с “маца шмура”. Когда сына Зайцева спросили, почему отец всегда посылал меня за этой мацой, он ответил: “Отец Бейлиса был очень религиозным человеком и всегда употреблял “маца шмура”. Мой отец очень хорошо знал старого Бейлиса. У нас были с ним коммерческие дела. Я однажды поинтересовался у отца, почему он выбрал именно Бейлиса для дел с мацой. Мой отец ответил, что знал старого Бейлиса как человека строгих религиозных правил, который воспитал своего сына в том же духе, и поэтому считал, что никто не сможет выполнить эту работу лучше”.
Затем вызвали Веру Чеберяк, которая была самым важным свидетелем. Все свидетели показывали на нее и настаивали, что это она убила Ющинского. Естественно, что публика держалась от нее подальше. В самом начале суда она обратилась к председателю суда с просьбой о защите, утверждая, что якобы существует угроза ее безопасности. Каждый раз, уходя домой, она просила, чтобы ее сопровождал полицейский, так как боялась, что ее убьют.
Интересно отметить, что когда свидетелей обвинения спрашивали, почему они изменили свои предыдущие показания и теперь говорят в мою пользу, они неизменно отвечали: “Мы христиане, православные верующие. Мы ничего не знаем о еврейских религиозных традициях, может, это правда, что они используют кровь, а может, ложь. Что мы, православные христиане, можем знать о таких вещах? Как только мы начали изучать дело, мы поняли, что это дело рук Веры Чеберяк. Так почему мы должны обвинить невинного человека? Мы дали клятву говорить правду, и мы знаем, что убийство было совершено в доме Чеберяк”.
От показаний Чеберяк ожидали многого. Обвинение возлагало большие надежды на ее показания. На самом деле, она рассказала пару старых историй, а когда ее спросили, видела ли она то, о чем рассказывает, она ответила, что слышала от детей. Поскольку дети к этому времени ушли в мир иной (очевидно, не без ее помощи), было невозможно проверить, говорит ли она правду.
Затем вызвали мать Ющинского, и даже ее версия отличалась от той, которой от нее ожидали. Когда ее спросили, знает ли она Бейлиса, она ответила: “Нет”. Шмаков перефразировал вопрос: “Видели ли Вы евреев возле пещеры, где нашли тело вашего сына?” Она ответила: “Нет”.
Следующий вопрос задал Грузенберг: узнает ли она рубаху, показанную прокурором, которая считалась важной уликой обвинения. Она ответила: “Нет, это не Андрюшина рубаха”. Это произвело впечатление. Я заметил, что некоторые присяжные обмениваются взглядами и пожимают плечами.
Следующий вопрос задал председатель суда: “Ходил ли ваш сын в гости к евреям в марте?” Она снова ответила: “НЕТ”.
Показания свидетелей продолжались бесконечно. Наконец длинный список свидетелей был исчерпан, и суд решил в полном составе побывать на фабрике, где предположительно произошло убийство, а также посетить мой дом и дом Веры Чеберяк.
 Вера Чеберяк
Вера Чеберяк
 Сообщники Веры Чеберяк
Сообщники Веры Чеберяк
Глава XXVII
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И БОМБОМЕТАТЕЛЬ
Мое настроение улучшилось. Во-первых, свидетели заканчивали давать показания. Конечно, предстояло пережить еще много трудностей. Но ощущение было такое, как будто большая гора свалилась с моих плеч. И я был рад увидеть свой дом после двух с половиной лет заключения.
Было около трех часов дня. Несмотря на сильный ливень и грязь, на улицах было полно людей. Кавалерия и полиция окружали присяжных, чтобы избежать контакта с посторонними. Во избежание демонстраций, меня везли на фабрику по пустынным боковым улицам.
Наконец мы прибыли на фабричный двор и подошли к дому, который был мне родным в течение многих лет. Я оставался в карете. Соседи вышли на меня посмотреть. Через маленькие окна тюремной кареты я видел, как они показывают на меня и кричат “Бейлис! Бейлис!”. Некоторые заламывали руки и плакали от волнения.
Председатель суда разрешил мне войти в дом с сопровождением. Жены и детей не было — их предупредили заранее, чтобы они ушли. Я увидел только нового работника — христианина.
На улице была такая глубокая грязь, что мы едва передвигались. Тем не менее, все мы — судьи, присяжные, эксперты, журналисты и студент Голубов — обошли фабрику. Все осматривалось: место, где обычно играли дети; место, где якобы видели “еврея с черными бакенбардами”; пещера, где нашли тело (здесь было так темно, что потребовались фонари), и вся фабрика.
Стоя возле обжиговой печи, адвокат обвинения Шмаков обратился к присяжным: “Отсюда прямая дорога к пещере, где нашли тело Андрюши”. Карабчевский тут же возразил: “Но позвольте обратить ваше внимание на тот факт, что дорога от дома Чеберяк к пещере короче и прямее”.
Потом мы пошли к дому Чеберяк. Полиция привела маленького христианского мальчика для реконструкции сцены убийства. Его повели в комнаты Чеберяк на верхнем этаже, крепко держали и велели кричать. Адвокаты Замысловский и Григорович-Барский слушали снизу и пришли к выводу, что крики ребенка были слышны довольно четко.
Воспроизведение этой сцены заняло около двух часов. Затем меня отправили назад в тюрьму, а все остальные разошлись по домам.
С самого начала суда тюремные чиновники обращались со мной с непривычным вниманием, уважением и дружелюбием. Вместо того, чтобы игнорировать мои просьбы, любая из них тут же выполнялась. В этот раз, после возвращения с судебного заседания, чиновники опять пытались перещеголять друг друга в своем почтении ко мне. Не могу сказать, превратились ли они в настоящих джентльменов по распоряжению властей или потому что на них произвели впечатление многочисленные свидетели.
На следующее утро, по дороге в суд в тюремной карете, я услышал взрыв бомбы. Было большое замешательство, и я боялся, что атака направлена против меня. Карета остановилась, но офицеры приказали двигаться дальше. Власти так никогда и не докопались до причины этого взрыва. Я узнал позже, что один из солдат кавалерийского эскорта был тяжело ранен, и ему пришлось ампутировать ногу.
Это был день, отведенный для показаний экспертов и ученых. От всех предыдущих свидетелей требовали рассказать, что произошло на самом деле — прояснить, кто совершил убийство. Задача экспертов была прояснить вопрос о ритуальном убийстве. Они должны были либо доказать, что у евреев есть обычай использовать христианскую кровь при приготовлении мацы на Песах, либо показать, что все эти истории — низкая ложь. Конечно, это была ложь.
Звездным экспертом обвинения был католический священник Пранайтис. Кстати, не нашлось ни одного русского православного священника, который бы согласился выполнить эту “грязную работу” для властей. Пранайтис был просто находкой. Он, предположительно, был большим знатоком Талмуда и Каббалы. Его представили как великого специалиста по гебраистике. Но когда этот “эксперт” начал говорить, всем стало понятно, что этот человек был неучем, бойким на язык факиром, — то, что можно назвать “разбитым сосудом” человека. Однако он был нужен властям, поэтому они делали вид, что уважают его. Потому что только этот авантюрист с хитрым иезуитским лицом был готов помочь антисемитам.
Он начал с того, что евреи приносили человеческие жертвы и что еврейская религия требовала убивать неевреев. Он привел цитату из Талмуда: “Лучшего из гоев убей”. Потом он перескочил с Талмуда на Каббалу. Несмотря на все это, когда прокурор спросил, известно ли ему, что евреи используют христианскую кровь, он сказал, что нет. Его экспертное заключение не произвело никакого впечатления. Публика несколько раз смеялась, когда он явно запутался в некоторых вопросах, задаваемых адвокатами. Сенсацией стал инцидент с номером тринадцать, который, как считалось, имеет большое значение для еврейских ритуалов. Обвинение настаивало, что тринадцать ран, обнаруженных профессором Сикорским на теле Андрюши, были нанесены в соответствии с “ритуалом”. Позже было обнаружено, что на самом деле ран было четырнадцать. Так от ритуальной истории ничего не осталось. Все уклончивые и причудливые заявления Пранайтиса были полностью опровергнуты раввином Мазе, известным и уважаемым раввином Москвы. Он произнес длинную речь, цитируя Тору, Талмуд и другие книги, чтобы показать глубину невежества этого “эксперта”, который вообще не был знаком с Талмудом, и с трудом читал на иврите.
Присяжные внимательно слушали все эти объяснения, которые они явно не могли понять во всей их глубине. Гемара, Каббала, рав Залман — что до них этим простым крестьянам? Я внимательно наблюдал за присяжными. Они должны были вынести приговор на основе показаний свидетелей и всех этих объяснений, и аргументов. Как знать, верят ли они в то, что евреи используют христианскую кровь? И если это правда, что есть секретные книги, то почему в них не может быть секретных вещей? Именно теперь я понял со всей ясностью всю глубину злоключений, которые выпали на долю еврейского народа, весь ужас клеветы, нагроможденной на наш народ злодеями типа Пранайтиса.
 Общая картина заседания суда
Общая картина заседания суда
Глава XXVIII
СЛОВЕСНАЯ БИТВА
Наконец настал день, когда началась финальная битва за мое освобождение, за мою жизнь, битва за и против ужасных обвинений еврейского народа; это была битва между адвокатами обвинения, с одной стороны, и моими адвокатами, с другой. Прокурор обратился к присяжным приблизительно так:
“Я провел более 30 лет на царской службе. Сегодня моя задача доказать на основе фактов, что этот человек, Мендель Бейлис, сидящий на скамье подсудимых, убил мальчика Ющинского, и я докажу это так, что не останется никаких сомнений. Мир должен знать правду. Мир ждет правду, и на мою долю выпало эту правду продемонстрировать. Перед вами, господа присяжные, стоит большая задача. Вы должны рассмотреть и взвесить все эти показания и свидетельства. Вы должны решить, каким будет наказание для человека, который совершил такое ужасное преступление. Я не хочу сказать, что все евреи виноваты и что надо идти на них с погромами, но это правда, что среди евреев есть религиозная секта, так называемые хасиды-цадики, которые совершают свои преступления в тайне, чтобы нееврейский мир никогда о них не узнал. Это они убивают христианских детей, и Мендель Бейлис принадлежит к этой преступной секте. Весь мир не остался равнодушным к этому преступлению, весь мир негодует. Почему? Потому что Мендель Бейлис (тут он показал на меня пальцем) сидит на скамье подсудимых. Стоит поймать одного еврея, и все евреи пустят в ход все свое влияние и бессчетные миллионы, чтобы его вытащить. Помните дело Дрейфуса во Франции? Весь мир возбудился, и почему? Потому что он был евреем. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Прошло два с половиной года. Андрюша лежит в могиле, всеми забытый. Кто теперь в центре внимания? Мендель Бейлис. (Он снова показал на меня пальцем). Если бы такое случилось с нами, христианами, кто-нибудь что-то сказал бы, проявил бы мир интерес? Не забывайте, господа, что Андрюша один из нас. Мы не должны его забыть! Мы, православные христиане с крестом на груди, должны вынести самый устрашающий приговор и отомстить за христианскую кровь, пролитую этим человеком”.
Здесь прокурор сделал вид, что плачет, и затем продолжил свою речь с новой суровостью. “Только представьте себе этот скандал. При свете дня, в этом святом городе, где столько соборов и монастырей со святынями России, именно здесь убийцы схватили мальчика, святого ребёнка, который готовился стать священником; еврей, побуждаемый своим религиозным фанатизмом, схватил этого ребенка, заткнул ему рот, связал руки и ноги и нанес сорок девять ран в одной части тела и тринадцать в другой, чтобы добыть два литра человеческой крови. Я спрашиваю вас, можно ли оставаться такими бесчувственно милосердными, такими мягкими и слабыми, и не отомстить этому человеку? Помните, как председатель суда спросил в самом начале у Бейлиса, к какой религии он принадлежит? Бейлис ответил с вызывающим криком: “Я еврей”. Вы понимаете, что это значит. Это значит, что я еврей и смеюсь над вами, христианами. Мы, евреи, можем делать с вами, христианами, все, что нам заблагорассудится”.
Во время своей речи прокурор все время пил воду. Он устал и попросил сделать перерыв. Я был очень расстроен его речью и чувствовал, как будто мне приставили нож к горлу. Я думал, что подобная речь должна произвести самое пагубное впечатление на присяжных. Известный юрист Маклаков подошел ко мне и дружески похлопал по плечу.
“Не отчаивайтесь, господин Бейлис, — сказал он. — Все не так плохо. Он говорит хорошо, но мы будем говорить гораздо лучше”.
Через несколько минут прокурор продолжил свои разглагольствования. Его речи, казалось, не было конца. Он отчаянно пытался доказать, что я, и никто другой, убил мальчика. Какое отношение могла иметь к этому Вера Чеберяк? Кто мог опуститься до такой низости, чтобы распространять о ней такую ложь? Среди всего прочего он закричал: “Хорошие моменты бывают даже у плохих людей”. Здесь на этом столе лежал окровавленный труп убитого мальчика. Однажды, когда Бейлиса привели сюда, он посмотрел на труп и заплакал. Почему он плакал? Конечно, потому что раскаялся в убийстве невинного ребенка. В этот момент Бейлис пожалел о своем преступлении”.
С речью прокурора закончилась сессия суда. Я и все присутствующие покинули зал с тяжелым сердцем и мрачными предчувствиями.
На следующий день начались заявления и речи экспертов и адвокатов. Выступили адвокаты Грузенберг, Карабчевский, Маклаков, Григорович-Барский, Зарудный; эксперты раввин Мазе, профессор Троицкий, Коковцев и другие. Каждый из них привел отличные возражения на аргументы прокурора и на все обвинительное заключение. Маклаков, известный адвокат и христианин, так ответил на “доказательства” прокурора и особенно на его гнев по поводу того, что евреи подняли на ноги весь мир.
“Я с особым вниманием слушал ту часть речи прокурора, где он с улыбкой рассказывал нам, что евреи всегда поднимают ажиотаж, когда один из них оказывается в чем-нибудь замешан. Объясните мне, господа, как бы мы вели себя, если бы мы, православные христиане, оказались среди китайцев, и китайцы обвинили одного из нас в преступлении, подобном тому, которое приписывают Бейлису? Разве мы бы не попытались “поднять на ноги весь мир”? Почему прокурора это так удивляет? Как может быть иначе? Как иначе они могут себя защитить? Сидеть тихо и молчать? И давайте не забывать, что у нас, христиан, нет страха перед погромами. Евреи же постоянно боятся погромов и погромщиков, так что же, они не должны ничего делать, чтобы доказать свою невиновность?
Еще одно: мы слышали, что прокурор упрекнул Бейлиса в том, что он плакал. Мы знаем, почему он плакал. Он плакал, потому что было время, когда он был как все мы, свободный и беззаботный, а сегодня он стоит перед лицом огромной катастрофы. И вы удивлены, что он плакал? Почему прокурор не упомянул, что Голубов, которого привели сюда с такими почестями, упал в обморок и не сказал ни слова? Может, он знал, что ему придется говорить неправду?”
Конечно, трудно воспроизвести содержание всех речей. Хочу упомянуть слова Грузенберга, которые произвели особое впечатление на публику и на присяжных.
“Не так давно я учился вместе с христианами. Вместе с ними я жил, ел, радовался жизни и страдал. А теперь вдруг я и мои единоверцы стоим перед лицом этого постыдного обвинения. Нас обвиняют в этом гнусном преступлении, и я хочу заявить вам здесь раз и навсегда, и вы знаете, что это услышат все мои единоверцы, что если бы мне стало известно хоть на одно короткое мгновение, что наша Тора или другая религиозная литература учат нас или позволяют нам использовать христианскую кровь, я бы не остался евреем даже на час. Я уверен, что Мендель Бейлис не должен быть осужден и не будет осужден. Но если его осудят, что ж, так тому и быть. Почему ему должно повезти больше, чем многим из наших собратьев, которые потеряли жизнь из-за этой неописуемой лжи и клеветы? Бейлис, если Вас осудят, провозгласите: “Слушай, Израиль: Господь — Б-г наш, Господь — один”. Будьте мужественны и счастливы”.
Публика сидела как завороженная. Не было сомнения, что эта речь произвела сильное впечатление на присяжных. Они слушали ее очень внимательно; впрочем, речи всех моих адвокатов произвели положительное впечатление. Казалось, что все усилия прокурора, Замысловского, Шмакова, всей “Черной сотни” были обречены на позорное поражение. Но кто мог быть уверен в мыслях и решении присяжных?
 Полный судебный отчет
Полный судебный отчет
Глава XXIX
МЕНЯ ЕДВА НЕ ЗАСТРЕЛИЛИ
Наконец наступил великий день. Это был 34-й день суда, 28 октября 1913 года. В этот день присяжные должны были огласить свое решение, и так случилось, что именно в этот день произошел случай, который едва не стоил мне жизни, когда все формальности приговора могли и не понадобиться. В восемь утра меня вызвали, как всегда, в тюремную контору, чтобы оттуда отправиться в зал суда. Обычно сопровождающие меня обыскивали, и мы тут же отправлялись в путь. Как только заключенный попадал в руки конвоя, никто другой не имел над ним власти. Подписав документ о приемке заключенного, только конвой за него отвечал, и никто не мог к нему притронуться.
В это конкретное утро, когда я уже был на попечении конвоиров, заместитель смотрителя тюрьмы потребовал вернуть меня назад. Он хотел еще раз меня обыскать. Обыски были настоящей пыткой. Трудно описать моральное и физическое унижение. В соответствии с законом, конвой отказался выполнить распоряжение заместителя. Он продолжал настаивать, утверждая, что пришла специальная телеграмма из имперского суда, от самого царя, с приказом тщательно меня обыскать. Конечно, мой конвой был удивлен.
Хотя заместитель смотрителя мог запросто воспользоваться услугами моего конвоя для обыска, он позвал для этого своих людей — надзирателей. Мне велели раздеться. Во время этих обысков я никогда не снимал нательную рубаху. В этот раз от меня потребовали снять и ее. Я разозлился и сорвал с себя рубаху, порвал на куски и бросил ему в лицо. Он выхватил пистолет и нацелился на меня. Он был так возбужден и в таком гневе, что был больше похож на дикаря, чем на человека. К моему счастью, прибежали мои конвоиры, привлеченные шумом. Если бы они не отвечали за мою безопасность в эту минуту, они бы не решились меня защитить. Но поскольку они уже за меня расписались, то чувствовали ответственность. Один из них выхватил пистолет из рук помощника смотрителя, и раздалась сирена. Тут же сбежались все чиновники и охрана. Прибежал смотритель и обратился ко мне:
“Что ты делаешь? Суд не успел закончиться, а ты уже нам создаешь новые неприятности?”
Я возразил: “Что Вы хотите от меня? Почему этот человек подвергает меня новым оскорблениям? Разве меня уже не обыскали? Почему он снова меня обыскивает самым унизительным образом?”
Заместитель смотрителя вышел. Через несколько минут он вернулся и записал моих конвоиров в качестве свидетелей происшедшего. Он, очевидно, намеревался выдвинуть против меня обвинение.
“Не думай, Бейлис, что ты свободен. Я еще сведу с тобой счеты. Тебе не избежать наших рук, и мы еще увидим тебя в кандалах”.
Я ответил: “Вы до этого не доживете”.
Он меня утешил: “Запомни, даже если тебя оправдают, тебе дадут месяц ареста”. Это был, так сказать, мой завтрак. Завтрак, после которого я мог и не дожить до следующей трапезы. Заместитель смотрителя имел полное право выстрелить в меня. Мои действия представляли “нападение”, и он имел полное право стрелять. Но я отделался легким испугом.

Телеграмма прокурора Г. Чаплинского министру юстиции
Глава XXX
СВОБОДЕН
В зале суда было ощущение праздника. Все закончилось, остался только последний штрих. Председательствующий задал мне формальны вопрос:
“Бейлис, что Вы можете сказать в свое оправдание?”
Я с трудом встал на ноги.
“Господа, я могу только повторить, что я невиновен. Я слишком слаб, чтобы говорить что-то еще. Тюрьма и суд утомили меня. Я могу только просить, чтобы вы изучили внимательно все свидетельства, которые были вам представлены в течение тридцати четырех дней суда. Тщательно изучите их и вынесите свой приговор, чтобы я мог вернуться к жене и детям, которые ждут меня эти два с половиной года”.
Председатель суда поднялся, чтобы подвести итог.
“Господа, мой долг не говорить ничего хорошего или плохого. Я должен быть беспристрастным. Но этот суд особый. Он затронул вопрос, который касается существования всего русского народа. Есть люди, которые пьют нашу кровь. Вы не должны принимать во внимание ничего из того, что произошло здесь: ни свидетелей, которые хотели обелить Бейлиса; ни экспертов, которые утверждали, что евреи не используют кровь христиан; ни рассказов о вине Веры Чеберяк. Вы должны проигнорировать все эти показания. Думайте только об одном: убит христианский ребенок. Подозрения и обвинения пали на Бейлиса. Теперь он перед вами на скамье подсудимых. Его вы должны судить”.
Это, и многое другое, было сказано председателем суда беспристрастным, как он считал, тоном. Его итоговое заявление поразило не только меня, но и многих в зале. Все были изумлены, что судья говорит как прокурор. Но он продолжал свое заключение до заката солнца.
Было около пяти часов, когда были сформулированы вопросы, на которые должны были ответить присяжные. Первый: “Где был убит ребенок?” Второй: “Кто убил ребенка?” Наконец крестьяне, которые составляли суд присяжных и в чьих руках была моя судьба, отправились обсуждать эти вопросы. Меня отвели в мою комнату.
Последние мгновения ужасного беспокойства! Я ждал этого годы, и теперь эти мгновения наступили. Моя судьба будет решена через несколько мгновений. Обречен ли я на вечную темноту; умрут ли мои жена и дети от стыда и горя; или я выйду новым, свободным человеком, и передо мной будет вся жизнь?
Меня снова привели в зал суда. Присяжные должны были предъявить свое решение, подписанное и запечатанное. Его должны были прочитать вслух. В зале воцарилась мертвая тишина. Люди почти перестали дышать.
Прокурор, адвокаты обвинения и все черносотенцы с торжеством смотрели по сторонам. Они были уверены в победе. Из моих адвокатов только Зарудный и Григорович-Барский остались в зале. Грузенберг, Маклаков и Карабчевский ушли. Они боялись неблагоприятного приговора и не чувствовали себя достаточно сильными, чтобы выдержать такое потрясение. После напряженного суда они были не в состоянии это вынести.
Присяжные еще не вернулись в зал. Все глаза были устремлены на дверь, откуда должен быть прийти Большой Секрет. Наконец дверь открылась, и медленно вошли присяжные. За все 34 дня суда, чей исход касался не только меня, но и всех российских евреев, я никогда не отводил глаз от присяжных. Я хотел заглянуть в их души. О чем они думали, эти простые русские крестьяне? Более месяца они слушали разные истории: о самом убийстве, о еврейской жизни, о наших религиозных законах и обычаях. Верили ли они тому, что им говорили? Понимали ли они, что обвинения против меня и всех евреев были ложью и обманом? Вот сейчас они решили судьбу мою и в некоторой степени миллионов евреев. Моя жизнь зависела от одного их слова. Часто бывает, что решение основано на настойчивости одного — двух присяжных! Господи, как мне это выдержать до конца?
Почему это тянется так долго? Почему не читают приговор? Я вглядывался в присяжных в надежде понять их решение. Я часто видел их во время суда, но никогда такими. В прошлом они всегда улыбались и выглядели приветливо. Теперь же их лица были хмурыми и подавленными. Они, наверное, бесчеловечны. Вдруг я решил, что они вынесли обвинительный приговор. Я попытался взять себя в руки и молиться Б-гу, чтобы они помог мне вынести этот ужасный вердикт. Пусть меня застрелят, повесят, пусть делают со мной что хотят.
Я пытался найти утешение в мысли, что весь мир, мир честных людей, скажет, что я был жертвой вопиющей несправедливости. Весь мир будет знать, что этот приговор был колоссальным просчетом. Это дало мне мужество выдержать до конца.
К этому времени тишина в зале стала мрачной. Невозможно описать ту неподвижность, с которой держалась публика, боясь пропустить хоть одно слово. Атмосфера была такой напряженной, что, казалось, она вдруг сломается и разорвет нас всех.
Старшина присяжных встал и начать читать решение. “Где было совершено преступление?” Присяжные решили, что на обжиговой печи Зайцева. То есть, мальчика убили на фабрике, где я был управляющим.
Значит, они решили, что я совершил убийство. Я стоял неподвижно, сцепив зубы. Если мальчика убили на моей фабрике, а я был единственным евреем в округе, присяжные решат против меня.
Старшина продолжал читать.
“Если доказано, что убийство было совершено на фабрике Зайцева, то кто его совершил? Подсудимый Мендель Бейлис? Взял ли Бейлис мальчика Ющинского, нанес ему 49 ран, добыл кровь из вен ребенка и использовал ее в соответствии с еврейскими религиозными законами? Короче говоря, виновен Мендель Бейлис или нет?”
Присяжные единогласно решили:
“Нет, Мендель Бейлис невиновен”.
Я не могу передать шум и крики, которые наполнили зал сразу после оглашения решения присяжных. Сначала вздох облегчения, а потом многие начали плакать. Я сам плакал от радости, как ребенок. Ко мне подбежал адвокат Зарудный с криком: “Дорогой Бейлис, Вы свободны”. Полковник, отвечавший за конвой, налил стакан воды и хотел дать мне. Зарудный выхватил у него воду и не позволил мне ее выпить. Полковник обиделся. “Почему Вы не позволяете мне дать ему напиться? — сказал он. — Разве он не находится под моей защитой?”.
“Нет”, — закричал Зарудный, и я никогда не видел его таким возбужденным. — Он больше не в ваших руках. Наконец-то у вас нет над ним власти”. Он поцеловал меня. Позже подошел Григорович-Барский. “Пойдемте, — сказал Зарудный. — Расскажем всем нашим друзьям эту удивительную новость и поздравим их”.
В этот момент председатель суда встал и прочитал постановление, что по приказу Его Императорского Величества я свободен и могу занять место среди публики в зале. Как правило, этого было достаточно, и после такого объявления приговора конвой прятал шашки в ножны, и подсудимый покидал скамью подсудимых. Я же продолжал сидеть. Я не знал, что нужно делать, а окружавшие меня солдаты по-прежнему стояли с шашками наголо и не собирались прятать их в ножны. Я посмотрел на Шмакова. Он стоял ошарашенный и что-то бормотал. Когда кто-то из его друзей подошел к нему, я услышал, как Шмаков сказал: “Ничего нельзя сделать; все потеряно; ужасный удар для России”.
Публика радовалась приговору. Люди пожимали друг другу руки, целовались, кричали мне свои поздравления, вытирали слезы — все это были в большинстве своем влиятельные русские, которых я не знал до суда. Я видел, что многие хотели подойти ко мне и поздравить лично, но жандармы и полиция их не допускали. Поэтому публика приветствовала меня издали, женщины махали мне носовыми платками. Наконец председатель суда велел освободить зал.
Российские жандармы были специалистами в этом деле, и зал очистили за несколько минут. Я все еще сидел на скамье подсудимых, а солдаты с шашками в руках охраняли меня. Когда люди выходили из зала, ко мне подошел какой-то видный русский и сказал: “Я купец из Москвы. Я оставил три больших фабрики почти без присмотра и провел здесь больше месяца. Я ждал вашего освобождения. Я не мог уехать раньше. Я знал, что не смогу быть спокоен дома. И теперь, слава богу, я могу уехать домой в радости. Я рад, что могу пожать Вам руку. Я желаю Вам много счастья в жизни”.
Этот русский гигант плакал как ребенок, энергично вытирая глаза и сморкаясь. “Благослови Вас Господь, Бейлис”, — были его последние слова.
 Бейлис с семьей после суда
Бейлис с семьей после суда
Глава XXXI
ТЮРЬМА СТАНОВИТСЯ МОИМ УБЕЖИЩЕМ
Я продолжал сидеть на скамье. Мои верные конвоиры не покидали меня. Я начал терять терпение. Почему меня не отпускают домой? Двух с половиной лет в тюрьме было, на мой взгляд, достаточно. Они явно не хотели со мной расставаться. Милосердие, которое проявил ко мне и к народу Израиля Господь, спасший нас от этого несчастья, переполняло меня. Я думал о радости, которая царила у меня дома. Ко мне подошел чиновник и сказал, что Председатель суда хочет видеть меня в своем кабинете. Я был уверен, что мне скажут, что я могу идти домой.
В кабинете Председателя суда я увидел присяжных — крестьян, которые меня судили. Когда я вошел, один из них потянул меня за пальто. Позже я узнал, что это был один из тех, кто был на моей стороне. Он хотел, чтобы я понял, что он мой друг и сделал для меня все, что мог. Он, по-видимому, боялся сказать вслух: “Мы ведь тебя вытащили”.
Председатель суда попросил присяжных выйти, и мы остались одни.
“Господин Бейлис, — сказал он, — Вы свободный человек. Я не имею права задержать Вас ни на минуту. Вы можете идти домой”.
Я уже хотел попрощаться с ним, когда он поднял руку и начал медленно говорить: “Подождите минуту. Я хочу Вам что-то сказать. Я думаю, что Вам лучше провести эту ночь в тюрьме”.
Я не мог поверить тому, что услышал. Они с ума сошли, что ли? Разве я для того прошел через бесконечные страдания и унижения и достиг этого великого дня освобождения, чтобы снова вернуться в тюрьму? Почему мне отказывают в радости окончательного воссоединения с семьей?
Конечно, ничего хорошего от этого судьи ждать не приходилось, особенно после его итоговой речи, которая была просто подстрекательской. Он сразу заметил мое беспокойство и попытался меня успокоить.
“Успокойтесь, господин Бейлис. Уверяю Вас, что делаю это для вашего собственного блага. Наш приговор был неожиданным. Пробудились стадные чувства, а Вы знаете, как трудно быть ответственным за возможные случайности в такой ситуации. Вы должны также помнить, что здесь, в Киеве, в присутствии его величества был убит премьер-министр Столыпин. Вы знаете, что это значит. Это произошло не так давно. Никто не может нести ответственность, когда люди возбуждены. Кроме того, поскольку Вы выдержали все испытания двух с половиной лет, то, конечно, сможете выдержать еще одну ночь. Проведите ее в тюрьме. Тем временем люди немного остынут. Утром Вы сможете пойти домой”.
Я чувствовал, что он говорит все это не просто из симпатии ко мне. Но что я мог сделать? Я боялся, что в случае моего отказа, он способен сыграть со мной какую-то шутку. У меня не было гарантии, что этого не произойдет. Я опасался надзирателей, с которыми у меня была утром стычка и которые угрожали мне смертью, если я вернусь в тюрьму. Тем не менее, я согласился провести эту ночь в тюрьме.
“В таком случае, — сказал он, — нужно написать официальное прошение. Какую причину приведем?”
Он подумал и сказал: “Давайте напишем от вашего имени, что Вы просите разрешения провести ночь в тюрьме, чтобы вернуть государственную одежду и урегулировать расчеты с администрацией тюрьмы”. Он написал прошение, и я его подписал.
Тем временем в комнату вошел начальник полиции.
“Ну, что, Бейлис, хотите идти домой? Поздравляю с оправданием”.
Судья сделал кислое лицо. Ему явно не понравился дружественный тон начальника полиции, и он сказал: “Бейлис проведет ночь в тюрьме. Позаботьтесь о конвое”.
Сопровождающий полицейский отвез меня в тюрьму, но на этот раз не как заключенного, а как свободного человека. Я ехал в той же черной карете, но ситуация была другой. Обычно внутри было темно. Теперь в углу горела лампа. Обычно я ехал один. Теперь начальник полиции был со мной в карете, дружелюбный и вежливый. Он угостил меня папиросой, и мы разговаривали по дороге. Он засыпал меня вопросами. Он хотел знать всю историю моего пребывания в тюрьме и что я чувствовал во время суда. “Слава Б-гу, — сказал он. — Все закончилось. Я сам чуть не заболел от волнения. Я отвечал за Вас и за порядок в городе в последние два месяца. Я должен был быть начеку, чтобы с Вами ничего не случилось. Могу Вас заверить, что было непросто держать под контролем возбужденную толпу. Я рад, что Вас освободили”.
Мы снова приближались к темному, мрачному зданию тюрьмы, но у меня было легко на душе. Я был свободен. На одной из улиц карета вдруг остановилась. Начальнику полиции объяснили, что вдоль дороги поставлены военные патрули, чтобы очистить улицы от людей.
 Бейлис с семьей после освобождения
Бейлис с семьей после освобождения
Глава XXXII
НАКОНЕЦ-ТО ДОМА
Карета остановилась у ворот тюрьмы. Открылась дверь, и появились тюремные чиновники и охрана. В прошлом, когда я возвращался из суда, они всегда были угрюмыми, со свирепым выражением лица. Они глумились надо мной и грубо со мной обращались. Каждый считал своим долгом что-то сказать. “Двигайся”, “Не ползи”, “Иди как мужчина, кровопийца”. В этот раз все было по-другому. Вчерашний преступник стал уважаемой личностью. Они не только не подталкивали меня. Они вели себя исключительно мягко и даже обращались ко мне “господин Бейлис”, что было неслыханно для заключенного. Их вежливость росла по мере нашего продвижения внутрь тюрьмы.
Охранник побежал за стулом, чтобы “господин Бейлис мог сесть”. Потому что “господин Бейлис, наверное, устал”. Потом подошел смотритель тюрьмы. Этот бессердечный человек не называл меня иначе как “кровопийцей” и “убийцей”. Он часто “утешал” меня, что меня ждет виселица.
Теперь я его едва узнал. Он, оказывается, был человеком! Он сказал: “Господин Бейлис, я от всего сердца поздравляю Вас и желаю всего наилучшего. Позвольте моей жене и детям пожать вашу руку”. Он пожал мне руку, потом зашли его жена и сын и сердечно меня приветствовали. Все чиновники тюрьмы собрались вокруг нас и соревновались друг с другом, кто лучше меня поздравит. Все были довольны. Чиновник, который утром угрожал мне смертью, если я когда-нибудь попаду в его руки, тоже был там, но выглядел испуганно. У него больше не было власти надо мной, и он это знал.
Смотритель сказал: “Знаете, Бейлис, у нас есть ваши деньги, девять рублей и пятьдесят копеек. Вы сейчас их получите. К сожалению, часть ваших личных вещей находится на складе, и Вы получите их позже”.
Мне вернули деньги и некоторые личные вещи. Когда смотритель прочитал подписанную в суде мою просьбу провести ночь в тюрьме, он запротестовал: “Нет, нет. Отвезите его домой. Он провел достаточно времени в тюрьме. Пусть отправляется домой к семье”. Я тут же забыл о тревоге, которую судья пытался мне внушить — об опасностях, которые мне угрожали, потому что люди были настроены против меня.
Я сказал, что хочу пойти домой. Очевидно, не было никакого указания “сверху”, чтобы я провел ночь в тюрьме. В прошении говорилось, что “я сам” об этом прошу. У смотрителя было полное право отказать в моем прошении. Он приказал вызвать карету и выделил полицейского, чтобы тот сопроводил меня до дома.
В Киеве существовало правило, что любой еврей, освобожденный из тюрьмы и не имеющий права проживать в Киеве, должен был явиться в полицейский участок, чтобы его отправили домой под надзором полиции. У меня была привилегия “вида на жительство”, потому что мой сын был учеником Киевской гимназии. Это было специальное правило, которое из всех городов России касалось только Киева. В других городах вне “черты оседлости” дети получали “вид на жительство” благодаря родителям. В Киеве же родители получали это святое право благодаря детям, которые посещали школу: детей нельзя было оставлять без родительской опеки.
Фабрика Зайцева относилась к двум полицейским участкам — Плоскому и Лукьяновскому, и мне надо было пройти через оба. Меня везли с большой пышностью; впереди кареты ехал кавалерийский отряд, а на облучке сидели два жандарма. Наконец мы доехали до Лукьяновского участка. Его капитаном был известный антисемит-черносотенец. Он не мог терпеть одного даже вида еврея. Он одним из первых вошел в мой дом в ту незабываемую ночь ареста. Но все это было в прошлом. Наверное, все изменились. Они стали другими людьми с другими манерами. Как только я вошел в участок, капитан вышел мне навстречу с протянутыми руками. “Я очень рад Вас видеть”. Он сердечно пожал мне руку. “Бейлис, я хочу попросить у Вас об одолжении и надеюсь, что Вы не откажете”.
“Чем могу служить?”
“Моя дочь хочет Вас увидеть. Она хочет поздравить Вас с освобождением. Не откажите ей в этом удовольствии. Она ученица гимназии и очень переживала во время суда. Каждый раз, когда она читала газеты и видела, как разворачиваются дела, она плакала как ребенок. Она запустила из-за Вас занятия. Она все время страдала: “Как этот бедный человек страдает”. Позвольте ей Вас приветствовать”.
Во время этой речи полицейские смотрели на своего капитана как на ненормального. Для них это была необычная картина — видеть своего жестокого капитана просящим у еврея одолжения; обычно все происходило наоборот. И он, очевидно, считал большой честью для дочери поговорить со мной.
Конечно, я был готов удовлетворить его просьбу и сказал, что буду рад познакомиться с его дочкой. Капитан побежал к телефону. “Это ты, Маруся? Твой друг Бейлис здесь. Выходи быстро и познакомься с ним”. В ожидании дочери он пытался меня развлечь. “Хотите что-нибудь выпить: чай или пиво? Я пока подготовлю нужные бумаги”. Принесли чай, полицейский, который подал чай, отсалютовал мне.
Через некоторое время вышла дочь капитана с подругой. Обе стеснялись и не решались подойти.
“Не стесняйся, — подбадривал ее капитан. — Подойди к твоему другу Бейлису”. Девушка наконец подошла и застенчиво спросила: “Вы действительно господин Бейлис? Извините за мою дерзость. Это моя подруга; мы молились за Вас и плакали, когда Вас освободили”.
Обе девушки были искренне рады моему освобождению. Я видел, что они искренни и честны в своем сочувствии.
“Мы так сильно за Вас страдали, — сказала девушка. — Мы не спали ночами и всегда говорили о ваших страданиях, но это не идет ни в какое сравнение
с тем, что Вам пришлось вынести. Но теперь справедливость и правда победили. Я желаю Вам и Вашей семье счастья и благополучия”.
Я так подробно об этом вспоминаю, потому что это было первое поздравление от чистых, невинных детей, страдавших от той лжи и фальши, которые угнетали меня и весь еврейский народ. В этот момент я вспомнил слова моего нееврейского друга Захарченко, который сказал: “Камни мостов рухнут, но правда должна победить, и она победит”.
Когда все формальности были окончены, капитан проводил меня на улицу до кареты. Теперь нам нужно было ехать в Плоский участок. Там собралась огромная толпа из тысяч евреев, которые узнали, что я там появлюсь. Улицы были забиты, и полиции было трудно поддерживать порядок. Как только мы подъехали к участку, выбежал лейтенант полиции и обнял меня. Он взял меня за руку и проводил внутрь здания. Бумаги были, очевидно, готовы заранее, потому что вся процедура заняла не более трех минут. Лейтенант улыбнулся мне и предложил отвезти домой. “Для меня будет большая честь доставить Вас в безопасности к жене и детям и удостовериться, что ваш дом хорошо охраняется. Поехали”.
Я не узнал свой дом. Старый сгорел во время моего заключения, но я узнал окрестности, которые были мне знакомы так много лет. Кажется, только вчера меня увели отсюда, и мое сердце билось сильнее от радости и нетерпения.
В доме дети на меня набросились, кричали “папа, папа”, а потом прижались ко мне, как будто боялись, что меня могут снова с ними разлучить. Они вместе с женой плакали и скакали вокруг меня. Не все мои дети присутствовали, троих не было дома.
В тот день, когда должны были объявить приговор, возбуждение в Киеве и особенно в моем районе было неистовым. Боялись погромов. Естественно, евреи опасались, что в случае моего осуждения в Киеве начнется ужасная резня. Черносотенцы были к этому готовы. Они ожидали, что меня признают виновным; и если бы присяжные пришли к выводу, что я виновен и что евреи используют христианскую кровь, несомненно, что погромщики отомстили бы евреям. На нашей фабрике этот страх достиг своего пика, потому что черносотенцы, скорей всего, начали бы громить отсюда. Вот почему жена отослала троих детей в другую часть города.
Начали собираться соседи. Лейтенант, который остался в доме, пускал только по моей просьбе. Вокруг было немного людей, но чувствовалось присутствие солдат. Они расположились на соседних улицах. Вокруг дома и у ворот была охрана, и никого не пускали без моего разрешения. Лейтенант находился в одной из комнат с двумя полицейскими, и каждые полчаса звонили из губернаторского дворца, справляясь о моем благополучии.
Начали поступать телеграммы со всех частей России: поздравления от группы интеллигентов из Царского Села, от еврейских депутатов Думы, от известного русского писателя Короленко, от студенческих организаций Московского и Санкт-Петербургского университетов, от разных частных людей, евреев и неевреев. Я пытался отправиться спать в два часа ночи. Я был измучен событиями дня, тревогой и напряжением в ожидании приговора, речью председателя суда. Я дал лейтенанту три рубля для чаевых полицейским, которые приносили телеграммы. Я лег, но заснуть не мог. Возбуждение было слишком сильным, да и кто мог спать в первую ночь свободы? Кто мог потратить драгоценные минуты жизни на сон? Я встал, приготовили чай, и мы продолжили разговор.
Как только рассвело, тысячи людей начали собираться вокруг дома и внутри него. Трамвай на нашей улице обычно останавливался в двух кварталах от нашего дома. В этот раз кто-то повесил табличку на наш дом “Остановка Бейлис”, и трамвай подвозил гостей прямо к нашему дому.
 В. Короленко на процессе Бейлиса. Рисунок
В. Короленко на процессе Бейлиса. Рисунок
Глава XXXIII
РАДОСТНЫЙ МИР
Я надеялся, что после освобождения смогу вести прежнюю тихую жизнь у себя дома. Но этому не дано было случиться. Мой дом постоянно осаждали люди, которые хотели меня поприветствовать и выразить радость по поводу моего освобождения. Приходили не только отдельные личности, но и целые группы по пятьдесят — шестьдесят человек. Когда извозчики видели группы людей, выходящих из поездов, они тут же спрашивали: “Вы к Бейлису?” и везли их прямо ко мне.
Перед моим домом всегда стояли десятки автомобилей. Одна группа сменялась другой. Люди приносили цветы, конфеты — все хотели что-то мне подарить. Дом превратился в оранжерею и кондитерский магазин.
Все это приносило мне большое моральное удовлетворение. Я видел, что мир интересуется моими бедствиями и приходит ко мне высказать радость по поводу моего освобождения. Я, конечно, был очень благодарен, но вынужден признаться, что от постоянных рукопожатий мои руки через некоторое время распухли.
Однажды меня навестили два господина, один из Санкт-Петербурга, а другой — врач из Лодзя. Сначала они молчали, а потом один из них начал плакать. Доктор сказал: “Не плачьте, это отрицательно сказывается на господине Бейлисе. Он все еще не спокоен”. Через несколько минут доктор тоже оказался в таком состоянии, он подошел к окну и долго возился с носовым платком.
Вскоре я действительно заболел — все эти сцены действовали на мои нервы. Меня отправили в больницу Зайцева. Многие посетители, которые не застали меня дома, впали в истерику от разочарования и волнения за меня. Некоторые настаивали, что должны обязательно меня увидеть, иначе они покончат с собой. “Мы ведь столько страдали вместе с ним, а теперь мы не уйдем, пока не увидим его. Его надо забрать из больницы”. Мне пришлось вернуться домой. Снова началось паломничество многочисленных посетителей. Капитан полиции, который отвечал за охрану моего дома, шутил, что еще месяц такой службы, и он может уходить в отставку — он получил много денег в виде подарков от визитеров.
Однажды меня навестил русский священник. Он вошел в дом и, не говоря ни слова, упал на колени, перекрестился и заплакал как ребенок. Через некоторое время он сказал: “Господин Бейлис, Вы понимаете, что мои действия представляют для меня опасность. Я вообще не должен был здесь появляться. Я мог прислать поздравительное письмо, но я решил прийти. Моя совесть не позволяет мне поступить иначе. Я пришел просить прощения от имени моего народа”. Он поцеловал мне руку, которую я не успел убрать, и тут же ушел. Этот случай глубоко меня взволновал. Я чувствовал, что это уникальный случай, когда высокий церковный сановник пришел поцеловать руку еврею и преклонить перед ним колени. Какие странные русские люди! С одной стороны, есть Замысловские, Шмаковы и вся гнусная шайка черносотенцев; с другой стороны, русские священники, которые просят у евреев прощения за преследования.
В другой раз ко мне домой пришел военный полковник в сопровождении студента училища. Он был гигантского роста и отталкивающего солдафонского вида. Он приветствовал меня и представил своего сына. Он стал молча ходить по комнате. Его шпоры щелкали, и дом дрожал от каждого его шага. Я испытывал благоговейный страх. Наконец он остановился и повернулся ко мне. “Разрешите искренне поздравить Вас с освобождением. Я отправляюсь на Дальний Восток со своим полком. Моя семья уже там. Но я специально взял месячный отпуск, чтобы приехать сюда. Я должен был увидеть Вас и лично поприветствовать”. И снова я получил подтверждение того, как трудно понять душу русского человека. Передо мной был гигант, военный полковник, на вид палач, и одновременно такой добрый и гуманный.
Мы разговаривали некоторое время, но он в основном молчал. Я видел, что его что-то гнетет. Он вскоре встал, попрощался и ушел с сыном. Через некоторое время раздался звонок в дверь — это снова был полковник. “Прошу меня извинить, господин Бейлис, — сказал он. — я, наверное, Вас раздражаю, но позвольте мне провести еще несколько минут в вашем доме. Я уезжаю в дальние края, и мы, скорее всего, никогда больше не увидимся”. Перед уходом он попросил у меня папиросу на память. Я дал ему несколько папирос, мне было жаль с ним расставаться.
Известный русский писатель и друг евреев Владимир Короленко тоже меня навестил. “Знаете, сказал он, — я Вам завидую. Я бы с радостью носил вашу арестантскую форму и сидел вместо Вас в тюрьме. Вы столько страдали, но Вы страдали за правду”.
Он провел со мной довольно много времени, расспрашивая обо всем с любознательностью ребенка и утешая меня как любящий брат.
В день меня посещали семь — восемь тысяч человек. За время сразу после суда я получил одиннадцать тысяч писем на всех европейских языках со всех концов земного шара и семь тысяч телеграмм. Некоторые телеграммы были очень длинными; мне вручили двадцать тысяч визитных карточек.
Я получил письмо от дамы из Петрограда:
“Я православная, из известной военной семьи. Но милитаристский дух на мне не отразился. Мне всегда были близки евреи; это отвратительная ложь, что они хотят нашей крови. Правда в том, что это мы хотим их крови. Я очень рада, что Вы свободны. Мой сын разделяет мои чувства. Во время суда он смотрел на ваше фото и говорил: “Бедный Бейлис, как он страдает и как несправедливо. Все из-за этой убийцы Веры Чеберяк”.
В это время стали распространяться слухи, что я получаю деньги из разных источников. Действительно, я несколько раз получил от разных людей по несколько рублей, даже не знаю, почему. Но газеты писали, что я чуть ли не миллионер. В результате меня засыпали тысячами писем с просьбой о финансовой помощи. Еврейские школы (“талмуд-Тора”), раввины, больницы, благотворительные организации и бесконечные комитеты просили денег! Студенты просили денег, чтобы оплатить учебу. Один еврей женил дочь и просил приданое. У некоторых требовали оплаты долгов, и я должен был прийти им на помощь. При этом, все хотели больших денег. Никто не просил меньше, чем несколько тысяч. На самом же деле, мне самому нужна была помощь. От моих сбережений не осталось ни копейки, и я понятия не имел, что ждет меня в ближайшем будущем. Среди многочисленных писем, которые я получал, было несколько от черносотенцев, угрожавших мне смертью. Поэтому я даже не был полностью уверен в своей безопасности.
Глава XXXIV
ОБЕСПЕЧИТЬ БУДУЩЕЕ
Угрозы со стороны “Черной сотни” росли как снежный ком. Каждый день приносил новые угрожающие послания. При этом, губернатор Киева настаивал, чтобы я покинул город, потому что он не мог гарантировать мою безопасность. Мое положение было незавидным. Если я не смогу оставаться в Киеве и занимать прежнюю должность, то буду лишен всех источников дохода и не смогу содержать семью. Начались финансовые проблемы. Вместо того, чтобы, как я надеялся, вернуться к прежней тихой жизни, я начал думать о переезде в другое место, чтобы начать все заново.
В это время был сформирован комитет из трех человек: доктор Быховский из больницы Зайцева, раввин Ааронсон и известный финансист Иосиф Маршак. Комитет должен был найти способы и средства для улучшения моего финансового положения, и тем самым дать мне возможность уехать из Киева и зарабатывать на жизнь в другом месте.
Однажды ко мне пришел с переводчиком представитель газеты New York American и предложил мне совершить 20-недельное турне по Америке с гонораром в 40,000 долларов. Я ему сразу ответил, что не хочу туда ехать, но он предложил мне не спеша обдумать его предложение. Он появился через несколько дней и сказал, что уезжает, но его предложение остается в силе. “Конечно, очень хорошо, что Вас освободили, но не забывайте, что Вам нужно зарабатывать на жизнь. Вы не можете жить надеждами и сочувствием. Здесь Вы не сможете продолжать. Если Вы поедете в Америку, примите мое предложение. Я обо всем позабочусь; какое бы предложение Вы не получили, я готов заплатить вдвое больше. Пока что расскажите несколько фактов из вашей биографии, и я Вам хорошо заплачу”, — продолжал газетчик. Я рассказал ему несколько случаев, разговор продлился несколько минут, и он мне заплатил 1,000 долларов.
“Это, — сказал он, — за разрешение напечатать наш разговор в нашей газете”. Перед уходом он сделал мне личный подарок — золотые часы. Через несколько дней я получил телеграмму от Маркуса Х. из Нью-Йорка с предложением контракта в его банке с зарплатой 10,000 долларов в год.
Должен признать, что это были заманчивые предложения, особенно учитывая трудное положение, в котором я оказался. Мое здоровье ухудшалось, я потерял должность и не мог больше оставаться в Киеве. Тем не менее я отверг все эти предложения.
Комитет, который я упоминал выше, тоже отверг большинство предложений. Некая еврейка из Парижа хотела подарить мне дом стоимостью в три четверти миллиона франков, если я перееду в Париж с семьей. Я от души поблагодарил ее, но отказался. Кроме трудностей переезда в страну, язык которой я не знал, я просто не хотел таких щедрых подарков.
Среди многих других щедрых предложений было одно от хозяина фабрики из Одессы господина Гершовича, который рассказал, что его сын-миллионер, живущий в Нью-Йорке, попросил дать мне 25,000 долларов и отправить меня в Америку, где этот сын обо мне позаботится. Он также пообещал создать для меня доверительный фонд. Я отправил господина Гершовича к Быховскому, председателю моего комитета. Но тот отказался даже слушать об этом предложении, чем рассердил Гершовича. “Разве я от этого что-то выигрываю? Я хочу помочь господину Бейлису как еврей еврею, так почему вы не хотите выслушать мое предложение? — сказал Гершович. — Мне не важно, поедет Бейлис в Америку или нет, но его надо обеспечить. Хотите послать его в Палестину, хорошо, но он должен быть в состоянии жить там в приличных условиях и не испытывать никаких лишений. Не можете послать в Палестину — отправьте в Америку, где он сможет вести комфортное существование. Если в результате ваших советов Бейлис окажется в нужде, вы себе этого никогда не простите. Его жизнь на перепутье, каково ваше решение?”
Но доктор Быховский отказался.
Подобные предложения поступили из Берлина, Вены, Лондона. В Лондоне для меня подготовили комфортабельный дом за счет барона Ротшильда. Дом, полностью обставленный, должен был стать моей собственностью сразу по приезду в Лондон. Из Лондона специально прислали молодого студента-еврея, чтобы сопровождать меня в поездке. Но мне сказали, что в Лондоне сырой климат, что это отрицательно скажется на моем здоровье, поскольку я уже страдал от некоторых последствий моей тюремной жизни. В киевской прессе прокомментировали это последнее предложение, и публика таким образом узнала о моем отказе уехать в Лондон.
Глава XXXV
В ПАЛЕСТИНУ
Во время дискуссий, куда ехать, мне не хватало совета моего бывшего адвоката господина Грузенберга. Я знал, что от него получу самый лучший совет. Благодаря своему опыту, он сможет сказать, что стоит и не стоит делать. Я был уверен, что человек, который был готов всем пожертвовать, чтобы освободить меня из тюрьмы, сделает многое, чтобы помочь мне с планами на будущее. Но Грузенберг находился в это время за границей, отдыхая от напряжения, испытанного во время суда. Я получил от него письмо, в котором он справлялся о моих делах и выражал удивление, что я до сих пор в Киеве. (“Я перенес гораздо меньше испытаний, чем Вы, и тем не менее чувствую себя совершенно обессиленным и разбитым. Вы же, господин Бейлис, страдали гораздо дольше, и я уверен, что Вы чувствуете последствия этого. Почему бы Вам не уехать куда-нибудь, чтобы отдохнуть? Я хорошо понимаю ваше положение, то же произошло с Хилснером. Когда все заканчивается, люди забывают о тебе. Я боюсь даже думать о вашей небезопасной жизни в Киеве. Неужели никто ничего не делает для Вас?”)
Я слышал разговоры о моем будущем, но практических результатов не было. Ничего существенного, только слова. Наконец комитет собрался, чтобы принять конкретное решение. Предлагалось отправить меня в Палестину. Маршак и Быховский были против, они хотели, чтобы я поселился в другом месте. В конце концов победил раввин Ааронсон, и было решено, что я поеду в Палестину.
Меня спросили, чем я хочу там заниматься. “Мы дадим Вам денег на любое ваше начинание. Это не подарок, это наш долг перед Вами”.
Я не мог принять конкретного решения. Мне пришлось сказать: “Господа, я не могу сейчас ничего решить. Я думаю, что будет лучше, если вы примете решение за меня. Я был бы не против небольшого домика, который приносил бы достаточный доход для скромного существования, и небольшого участка земли, на котором я мог бы трудиться. Я очень люблю фермерство и всегда хотел работать на земле”.
“В таком случае, — сказал Маршак, — нет лучше места, чем Палестина. Мы обеспечим Вас необходимыми средствами”.
Планировалось, что я сначала поеду в Триест и там отдохну месяц, а потом отправлюсь в Палестину. Я начал готовиться к расставанию со святой Русью. Должен сказать, что это было нелегко. В России было много черносотенцев, готовых пролить еврейскую кровь, но было и много прекрасных русских. Сколько русских заключенных, считавшихся пропащими, плакали вместе со мной в тюрьме; сколько русских детей не спали ночами и молились богу о моем освобождении? И русская интеллигенция, какой интерес она проявила к моему делу, сколько энергии потратила в мою защиту, и как радовались эти люди, когда их усилия увенчались моим освобождением.
Мои впечатления были не только от сотен христиан, которые приходили ко мне домой, чтобы порадоваться вместе со мной, но и от бесчисленных писем, которые я получил, и от услышанных историй. Кроме того, что я испытывал любовь к этим людям, было тяжело расставаться с родиной, где я родился, вырос, страдал и наслаждался жизнью.
Планировалось сохранить мой отъезд в тайне. Никто не должен был знать, даже мои родственники. Мы предприняли меры предосторожности, потому что моя жизнь была в опасности. Однажды я пошел во дворец губернатора, чтобы получить паспорт. Была очередь человек в 70. Меня сразу узнали, и один человек, стоявший впереди, уступил мне свою очередь. В конторе губернатора меня встретили с достаточной пышностью. Принесли стул, паспорт был готов в течение нескольких минут. Меня проводили до кареты, и я сердечно попрощался.
Мое отправление состоялось в декабре 1913 года, и хотя мы думали, что оно держалось в тайне, оказалось, что нет. Через несколько дней после получения мною паспорта газеты вышли с большими заголовками о моем отъезде за границу. Нам не хотелось, чтобы антисемиты знали, что я собираюсь покинуть Россию. Но поскольку день и час моего отъезда не были известны, я был в безопасности. Мы выбрали день, когда толпа будет занята тем, чтобы напиться.
Глава XXXVI
ИЗ КИЕВА В ТРИЕСТ
Прощай, Киев, прощай, родина, прощайте, друзья, с которыми провел жизнь! Я уезжаю на землю наших отцов, на Святую Землю, где когда-то текли молоко и мед, и которая всегда была дорога моему сердцу. Я отдохну душой и телом на земле Израиля. Эти мысли не покидали меня.
Вечером накануне моего отъезда из Киева я был приглашен на прием, организованный моим другом, чтобы скрыть мой отъезд. Доктор Быховский отправился на вокзал за билетами, чтобы я мог незаметно сесть в поезд, на случай если вокруг рыскали черносотенцы.
Я даже не попрощался с братом и сестрой; даже они не знали, что я уезжаю. В темноте к дому подъехала карета. Я одел очки и огромный плащ, чтобы меня не узнали. Жена и дети уехали поездом раньше и должны были ждать меня в Казатине. Там мы сели в другой поезд, который шел прямо до австрийской границы; нас сопровождал управляющий фабрикой Зайцева господин Дубовик.
Всю ночь мы просидели в купе, как в темнице. Никто не должен был нас видеть. На рассвете я на минуту вышел в коридор и увидел двух прогуливающихся русских. Они подошли и спросили: “Вы господин Бейлис?” У меня тут же возникло подозрение, и я стал искать шпионов. Мне казалось, что эти двое принадлежат к “Черной сотне” и что их послали со мной расправиться. Конечно, это могло быть просто подозрение, но мне надо было быть осторожным. Поэтому я ответил: “Я хотел бы быть Бейлисом, но он уже в Америке. Вы его знаете?”
“Да, — сказал один из них. — Я был у него в доме”.
Когда еврейские лидеры в Берлине узнали, что я еду за границу, они отправили двух человек, чтобы помочь мне на австрийской границе. Прибыв на пограничную станцию, они сообщили властям, кого они ожидают. Мы наконец доехали до Подволочиска; там в вагон зашли несколько австрийских чиновников и попросили наши паспорта. Как только они поняли, что я Бейлис, то даже не стали проверять наш багаж, и сказали, что мы можем продолжать свое путешествие.
По другую сторону границы нам нужно было подождать поезда в Лемберг. За это время людям в этом маленьком городке стало известно о моем прибытии. Евреи набежали со всех сторон, и по еврейской традиции, все начали плакать.
Очевидно, евреям Лемберга тоже стало известно о моем прибытии. Наш поезд медленно приближался к вокзалу, я выглянул в окно вагона и не поверил своим глазам. Вся платформа, здание вокзала и соседние улицы были усеяны людьми. Крик был оглушающий. Если бы поезд тут же отправился, все было бы не так плохо. Но проблема была в том, что мы там стояли некоторое время. Толпа настаивала, чтобы я показался. Я не был настроен это делать. Но смотритель станции вошел в мой вагон и умолял меня выйти на минуту; он опасался, что толпа разнесет станцию. Некоторые люди угрожали лечь на рельсы и не пустить дальше поезд. Пришлось мне выйти. Я попрощался с этой огромной толпой, и через несколько минут наш поезд отправился в Вену.
Мы прибыли в Вену рано утром. Там нас встретили представители еврейской общины: Адольф Штерн, Каминка и другие. Мы попили чай в вагоне и поехали в отель, где надеялись немного отдохнуть. Но не успели мы расположиться, как раздался стук в дверь. Это был господин Штерн, который сообщил, что члены еврейской общины Вены пришли засвидетельствовать свое почтение. Он снял несколько комнат для приема людей, которые приходили ко мне во время моего пребывания в Вене. В первый день это были профессионалы: адвокаты, профессора и врачи. Некоторые врачи хотели меня осмотреть, чтобы убедиться, что я здоров, только устал и обессилел из-за всего пережитого. В этот день был устроен специальный обед на шестьдесят человек. На обеде присутствовали некоторые видные венцы, включая редактора венской газеты “Neue Freie Presse”.
Мы были заняты визитами и официальными приемами. Меня возили по городу в автомобиле и показывали достопримечательности красавицы Вены. Нас повезли в еврейскую музыкальную школу, где хор исполнил “Благословение”, а кантор пел главы из Псалмов. Через два дня мы уже готовы были ехать дальше на юг — в Триест. Там нас встретил раввин Хайес, в будущем главный раввин Вены. Моя поездка должна была храниться в тайне, но все отели требовали предъявления паспортов. Тогда Хайес нашел место, где не надо было предъявлять паспорта. Мы обедали с мясником, который не знал, кто мы такие. Между мной и моей семьей существовал уговор, что мое имя не будет произноситься вслух. В пятницу вечером, когда мы пришли к мяснику ужинать, за столом было человек тридцать. Разговор перешел на дело Бейлиса, и один из гостей сказал, что известно, что Бейлис был в Триесте, но, к сожалению, он должен был путешествовать инкогнито, чтобы “Черная сотня” не могла его преследовать.
Тут моя дочь не выдержала и прыснула от смеха. Ее спросили, почему она смеется. Евреи вдруг что-то заподозрили, они стали переглядываться и перешептываться. Наконец они поняли, что я Бейлис. Тут все и началось.
На улицах началась суматоха; люди бежали к дому профессора Хайеса, чтобы высказать ему недовольство за то, что он скрыл мое местопребывание. В большом отеле устроили прием, и тысячи людей пришли со мной встретиться. Мне засыпали просьбами об автографах, и в конце концов я пробыл в Триесте целый месяц.
Глава XXXVII
НА ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ
Наконец наступил день прощания с Триестом и Европой. Мы поднялись на борт корабля и начали путешествие к Земле Израиля, где я рассчитывал провести всю оставшуюся жизнь. Как только пассажирам стало известно, кто я, не было отбоя от выражений сочувствия от евреев и неевреев. Капитан и бортовой врач попросили разрешения прийти ко мне в каюту и побеседовать. Доктор показал мое фото, которое он вырезал из журнала. Группа пассажиров-христиан преподнесла мне подарок.
Чем ближе мы подходили к Палестине, тем радостнее я себя чувствовал. На пути у нас была одна остановка — в порту Александрии. На причале были тысячи людей. Некоторые вышли в море на маленьких лодках, чтобы встретить корабль и поприветствовать меня. Меня встретил оркестр и представители разных еврейских общин. Как только мы спустились на берег, меня пригласили на церемонию обрезания в одну из местных сефардских семей. Я очень устал, но никакие отговорки не помогали. На приеме меня чествовали разными речами.
16 февраля 1914 года мы наконец достигли Хайфского порта на земле, которая должна была стать нашим новым домом. На борт поднялась делегация, в нее входили Рав Кук, раввин Бен Цион Узиель, господа Левитан, Шенкин, Моссенсон и Дизенгоф. Рав Кук произнес речь, в которой он подчеркнул, что я отдал Палестине предпочтение перед многими странами, от которых получил заманчивые предложения. После этого он меня благословил.
За мной послали лодку, чтобы доставить нас на берег. Арабы-лодочники закричали: “Да здравствует Бейлис!” На берегу меня ждали ученики еврейской гимназии с флажками и цветами. Дети пели, играл оркестр.
Один из арабских вождей, у которого была самая лучшая пара лошадей и карета на всю округу, оказал мне честь и отвез в Тель-Авив. В прошлом такую честь оказывали только самым высокопоставленным гостям, например, Ротшильду, когда он был в Палестине. Но арабский вождь пошел еще дальше. Мало того, что он предоставил карету в мое распоряжение, он со своей свитой ехал впереди, как почетная охрана. На всем пути в Тель-Авив по краям дороги стояли евреи. Многие из них специально приехали из поселений в честь такого события. В Тель-Авиве меня поселили в отеле Герцля, и там меня тоже приветствовали представители разных организаций и поселений: “Поалей Цион”, городского совета старейшин, Еврейской ассоциации поселений, “Шомрим” и другие. Все время произносились длинные речи.
Земля Израиля оказала на меня бодрящий эффект, она дала мне новую жизнь и надежду. Сама природа, жизнь людей наполняли меня бодростью и желанием жить. Когда мы покинули Киев, было холодно, поля были покрыты снегом. Здесь все зеленело, грело солнце. Это было самое лучшее время года в Палестине. Все цвело, холмы и поля зеленели.
Я наслаждался атмосферой. Я просто бродил, исследуя все уголки, глубоко вдыхая освежающий воздух. Сначала я не мог спать по ночам, боясь упустить мгновения благоухающих ночей Палестины. Тем временем меня чествовали, принимали и приветствовали в разных местах. В первую субботу после приезда в Израиль Рав Кук пригласил меня в свою синагогу, где дал двухчасовую проповедь в мою честь.
Через неделю меня посетила делегация евреев из Иерусалима, чтобы узнать, где я планирую поселиться: в Тель Авиве или Иерусалиме. Они заявили, что если я поселюсь в другом месте, то это будет позор для Иерусалима.
“Но ведь Яффо и Тель-Авив — это тоже Палестина”, — ответил я.
Они запротестовали: “Но это мы молились за Вас у Стены Плача”.
Я начал готовиться поехать туда через неделю — две. Я все время получал оттуда послания с вопросом, когда я приеду. Они хотели подготовить встречу. Я ответил, что предпочел бы прибыть тайно, что я болен и слаб, и приемы меня утомляют. Тем более, что я боялся, что прием не позволит мне увидеть Иерусалим так, как мне хотелось.
Честно сказать, приемы в первые две недели очень меня утомили. Они были такими же многочисленными, как и в Киеве после процесса. Перед наступлением Песаха множество туристов приезжали в Палестину. С каждым кораблем прибывало семьсот — восемьсот человек, и все хотели со мной встретиться, пожать руку и выразить свою симпатию. И это не считая коренных палестинцев.
Перед отъездом в Иерусалим я побывал в поселении Петах Тиква. Меня сопровождали Исаак Гольдберг, Шолом Аш, Поляков и Бриль. Мое первое знакомство с еврейским поселением очень меня обрадовало. На следующий день мы отправились в Achtuff, где я провел три дня. На местном празднике я был гостем учащихся яффской гимназии.
Наконец я решил поехать в Иерусалим. Кое-кто из моего сопровождения тоже решил поехать. Мы разместились в отеле Амдурского. Мое имя хранилось в тайне. Но через несколько часов меня опознал один человек. Хозяин отеля был очень обижен. Он не мог понять, почему надо было хранить мое имя в тайне от него. Тем более что он приготовил для меня специальные комнаты. Новость мгновенно распространилась по городу, и начались бесконечные приемы. За три дня, проведенные в Иерусалиме, я должен был посетить все синагоги, осмотреть все больницы и благотворительные учреждения и оставить свое имя во всех книгах автографов.
Для меня самый большой интерес представляла Стена Плача и место древнего Храма. Подходя к Стене плача, я вспомнил слова иерусалимских евреев: “Мы молились за Вас у Стены плача”.
Евреи всего мира молились за счастливый исход моей судьбы все то время, пока я сидел в тюрьме, и до моего освобождения. Мои беды были бедами всего еврейского народа. Но что-то особо сближало меня с евреями, которые молились у Стены плача, где евреи плакали и молились почти две тысячи лет, оплакивая огромную национальную потерю, высочайшую трагедию еврейского народа, горькое изгнание. Мой суд был всего лишь эпизодом в истории нашей жизни в диаспоре, он был всего лишь частью наших национальных бед. Конечно, молитвы за меня у Стены плача были очень кстати.
С такими смешанными чувствами я подошел к старой стене — молчаливой свидетельнице древней еврейской славы и современного бесславия. Я как бы вновь пережил изгнание евреев и мои собственные печали. Стоя у стены, погруженный в мысли, я вдруг услышал плач. Повернувшись, я увидел, что один из моих сопровождающих — Берлин — плачет. Это было удивительно для человека, который был далек от иудаизма. Его дочь, врач, которая не знала идиша, истерически плакала.
Берлин потом объяснил мне, что он плакал от радости и от грусти. “Я напомнил себе о нашем изгнании, но также думал о новых надеждах на еврейскую родину”, — сказал он.
На месте древнего храма, как известно, теперь стоит магометанская мечеть. Набожные евреи к ней даже не приближаются, и магометане не позволяют “безбожникам” заходить в него. Но для меня было сделано исключение.
Один из арабов сказал: “Мы позволим Вам зайти в мечеть. Вы принадлежите к трем великим еврейским героям и мученикам”. Среди них он упомянул Дрейфуса. Мне дали гида и показали все достопримечательности. Я увидел место, где Соломон, по преданию, держал лошадей, и возвышение, с которого он обращался к народу.
Из Иерусалима я вернулся в Тель Авив и начал процесс получения гражданства. Месяц мы прожили в отеле, а затем поселились у Главного раввина. Празднования продолжались до конца Песаха. Во-первых, поток туристов, которые хотели увидеть меня, не прерывался; во-вторых, местное население не упускало ни одного случая, когда можно было устроить празднование в мою честь. В Пурим сотни евреев пришли ко мне в дом для большой трапезы, танцевали и веселились до утра.
На второй день Песаха все выходят на площади. Я присутствовал на одном из таких собраний; в это время в городе находился Нахум Соколов. Господин Айзенберг приветствовал обоих почетных гостей, а Соколов произнес речь в честь этого события.
Время шло, и я все больше привязывался к Палестине. Климат благоприятно на меня действовал. Он лечил мои физические и моральные раны. Очень скоро у меня появилось ощущение, как будто я здесь родился и прожил всю жизнь. Мне нравилась страна и все в ней — от людей до неодушевленных предметов. В Тель Авиве я впервые начал понимать, что такое настоящая еврейская жизнь. Я впервые видел гордых, несгибаемых евреев, которые жили открыто и не боялись.
Когда меня уговаривали поехать в Америку, я говорил:
“В России Палестина ассоциируется с бесплодной пустыней, но я решил ехать сюда, а не в другие страны. Теперь, когда я полюбил эту страну, я еще больше настаиваю на том, чтобы остаться здесь”.
Хотя бы ради того, чтобы дать детям еврейское образование, я хотел остаться в Палестине. Я прибыл сюда с пятью детьми: тремя сыновьями и двумя дочерьми. В России я всегда жил среди христиан — один еврей среди четырех тысяч неевреев. Было очень трудно дать детям еврейское воспитание. Дети не знали идиша, еще труднее было учить их ивриту, не говоря о невозможности дать им настоящее еврейское образование. В Палестине мои дети жили в еврейском окружении, получали лучшее еврейское образование и за три месяца научились говорить на иврите. Я был по-настоящему рад этому их достижению.
Решая вопрос об образовании для моих детей, пришлось выбирать между “старой” и “новой” Палестиной. Рав Кук советовал мне выбрать школу старого типа; учителя яффской гимназии умоляли послать детей к ним, иначе это будет серьезный удар для школы. Я сказал им, что настолько рад, что дети могут получить еврейское образование, что для меня не имеет значения, где они будут его получать.
Я, наконец, решил отправить старшего сына в Академию, а остальных — в гимназию. Многие люди предлагали заниматься с детьми после уроков. Среди них господин Энгель из Академии, Берлин и две его дочери.
Я думал, что, наконец, все устроилось, я решил судьбу моих детей, и теперь смогу удалиться от дел и вести мирную жизнь. Но тут началась война и сломала все мои хорошо продуманные планы и надежды.
Глава XXXVIII
ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Разразилась война и, как пожар в прерии, охватила все на своем пути. Она захватывала страну за страной, докатилась до Турции и, конечно, до Палестины. Райский сад превращался в Геенну огненную. Еще до войны поэзия моей жизни разбавилась прозой, и эта проза начала на меня давить.
На первый план вышел вопрос денег, вопрос “Что мы будем есть?”, как я буду обеспечивать детей. Комитет, который занимался моей судьбой в Киеве, решил, что я поеду в Палестину, и я был доволен. Они говорили: “Не волнуйтесь, Бейлис. Мы все сделаем. Мы Вас обеспечим”.
Но эти обещания не спешили осуществляться.
Поездка в Палестину из Киева была на мои собственные средства. Забыл упомянуть, что представитель New York American дал мне еще 2,000 долларов за материалы, которые я ему предоставил. Всего у меня было 3,000 долларов — 6,000 русских рублей. Я взял 500 долларов на расходы и оставил остальное у Зайцева. Уже в Триесте я начал ощущать недостаток денег. Здесь, в Палестине, проходили дни за днями, недели за неделями, меня чествовали, кормили и поили, но все более насущным становился вопрос: “Что ждет меня в будущем? Чем все это кончится? Как я буду обеспечивать семью?”
В это время в Палестину приехал барон Ротшильд, предполагалось, что я с ним встречусь, но эта встреча так и не состоялась.
На Песах меня навестил господин Быховский из Киева. Он сказал, что 5,500 рублей вложены на мой счет в парижском банке и что я всегда смогу получить эти деньги в Англо-Палестинском банке в Яффо. Он сказал: “Не волнуйтесь, Вы получите все, что мы обещали. Вы получите дом и средства для спокойной жизни. Ни о чем не беспокойтесь”.
Перед отъездом он выбрал трех человек, которые должны были “заботиться” обо мне.
Прошло несколько месяцев, но ничего не происходило. Я попросил у них разрешения поселиться где-нибудь, где смогу зарабатывать на жизнь, но в ответ они посоветовали не волноваться. Все будет сделано как подобает.
Я был достаточно терпелив два с половиной года в тюрьме, сумел вынести издевательства других заключенных и ежедневные физические и моральные страдания. Я решил, что могу подождать несколько месяцев, пока эти клятвенные обещания со всех сторон осуществятся.
Беда не приходит одна! Все лето прошло в ожидании и надежде, и вдруг разразилась война. Вместо свободы я снова стал своего рода заключенным.
Как только Турция вступила в войну, первыми это почувствовали иностранцы. Всем приказали покинуть страну. Для меня был только один выход: стать турецким подданным. Так на старости я стал турком.
Из-за войны директору Англо-Палестинского банка Левонтину пришлось уехать, и вместо него назначили немецкого еврея. Когда я пришел просить денег, он отказал, сказав, что не знает меня. Я тут же пошел в местный комитет, но они тоже сказали, что меня не знают. Вдруг никто меня не знал и не видел.
Что же делать, как позаботиться о себе?
Турки решили взять моего сына, который учился в яффской Гимназии, в армию. Меня вывезли в Петах Тикву. Всем, кого вывозили в Петах Тикву, предоставляли жилье. Я был одним из немногих, которым жилья не дали. Чтобы заплатить за некоторое подобие жилья, я вынужден был продать кое-что из своих вещей.
Мой сын пошел в армию вместе с группой других учеников. Когда Джамаль Паша прибыл в Яффо, он решил, что учеников последних трех классов — шестого, седьмого и восьмого — нужно отправить в Константинополь на офицерские курсы, не посылая на поле боя. Мой сын был в это время в пятом классе, ему еще не исполнилось семнадцати лет. Но он решил вступить в армию. Я был против и умолял его не делать этого.
“Ты еще молод, — сказал я. — Ты не должен этого делать. Я не разрешаю”.
Он ответил: “Я хочу что-то сделать для еврейского народа. Если мы будем верно служить Турции, правительство будет обращаться с нами более терпимо после войны. Возможность получить Палестину будет гораздо больше”.
Я возразил: “Моей службы хватит на нас двоих. Я достаточно пострадал за нас обоих”.
“Я уже взрослый и должен выполнять свои обязательства. Я не могу больше довольствоваться твоими достижениями. Разве ты не сказал во время моей бар мицвы: “Благословен Г-сподь, что освободил меня от этого наказания”?”
Была еще одна дополнительная причина, которая укрепила его решимости: Турция воевала против России.
Наконец он победил. Он добился, чтобы его внесли в списки шестого класса, и стал турецким солдатом. Вместе с сотней еврейских парней его отправили в Константинополь. Но Джамаль Паша не сдержал своего слова. Через некоторое время всех их послали на поле боя. И пока наши дети воевали за Турцию, нас перебрасывали с места на место. Джамаль Паша потерял всякую человечность. Он полностью изменился. Он провозгласил, что поскольку Англия может победить, он позаботится, чтобы никто из нас не увидел ни одного англичанина. Куда бы он не пошел, он возьмет нас с собой.
Приказ покинуть Яффо ошеломил меня. Я стал таким нервным и истеричным, что утром в день нашего отъезда я потерял сознание, упал и разбился. Из-за этого я до сих пор не слышу на одно ухо.
Поле боя все приближалось. Когда шла битва в Газе, мы слышали грохот пушек. Я думал о сыне, который был в опасности и мог пасть за Турцию, в то время как лидеры этой страны безжалостно нас гоняли.
Однажды, когда я гулял по улице, ко мне подошел молодой человек и прошептал: “Ваш сын у меня в доме”.
Переживая за безопасность сына, я схватил молодого человека за руку так крепко, что он закричал от боли. Наконец я набрался решимости и спросил: “Живой или мертвый?”.
“Живой”, — ответил он.
Тогда я должен его немедленно увидеть. Но молодой человек не хотел вести меня к нему ни при каких обстоятельствах. Он сказал, что мой сын дезертировал вместе с еще одним еврейским офицером, и они скрываются у него в доме. Их, несомненно, будут разыскивать. Он боялся вести меня туда днем, чтобы не навести турок на след. Но я не мог ждать до ночи. Я не мог вынести агонии ожидания. Наконец он сдался.
Слава Б-гу, мой сын был жив и здоров. Но почему он дезертировал, и как? Как он осмелился на это? Вот что я услышал: мой сын узнал об унижении, которому подвергли нас турки, и он не мог больше с ними оставаться. Он рассказал одному офицеру, старше него, отцу троих детей, что решил дезертировать, и предложил тому к нему присоединиться. Но тот попытался его отговорить.
“Это невозможно, — сказал он. — это верная смерть”.
Мой сын сказал ему: “Если ты боишься, я уйду сам”.
Второй офицер в конце концов согласился.
Они придумали такой план: они вдвоем пойдут в соседнюю деревню купить еду и оттуда убегут. Через некоторое время они встретили отряд немецких офицеров разведки, которые предложили взять их с собой. Это входило в их план. Но случилось так, что немцы заблудились и вместо того, чтобы уводить беглецов от лагеря, вели их обратно. К счастью, они обнаружили это вовремя и повернули назад.
Как-то раз они попали в дом к еврею, где сняли всю свою одежду и сожгли ее, и им дали другую одежду. После этого их посадили на телегу, накрыли апельсинами и привезли в Петах-Тикву.
С одной стороны, я был рад видеть сына. С другой стороны, я понимал, что он находится в смертельной опасности. Мои беды росли со всех сторон. Мой сын заболел тифом. Вот я, изгнанный из Яффо, скитаюсь по Петах Тикве, без денег, а вот мой сын, дезертир, больной тифом. В это время поступило распоряжение возвращаться, потому что наступали англичане. Тех, кто медлил, связывали и вели как овец. Ко всему, турецкие офицеры искали Бейлиса.
Мой сын наконец выздоровел, но был слаб от последствий болезни. Один еврейский офицер, желая нам помочь, повесил на наш дом, что дом на карантине с тифозным больным внутри. Поскольку турки очень боялись заразить армию тифом, они даже не приближались к нашему дому. Конечно, они не знали, что внутри был я. Потом в город вошли англичане, и мы были спасены от смерти. Я воспользовался моментом и пошел в Яффо, чтобы добыть денег для своей голодающей семьи. С деньгами я вернулся в Петах Тикву, с большими трудностями вызволил оттуда мою семью и привез их в Яффо.
В этот раз со мной произошло чудо. Через несколько часов после того, как я покинул Петах Тикву с семьей, турки вновь захватили город и разрушили до основания мой дом. Не знаю, была ли это случайность или провидение, но если бы я пробыл там еще час, от нас бы ничего не осталось. Турки не только были вообще настроены против евреев, обвиняя их в слишком большой близости с англичанами, они особенно были сердиты на меня.
С приходом англичан все стало гораздо проще. Появилась новая надежда на создание еврейского отечества в Палестине. Мой сын, который так стремился служить в турецкой армии, а потом дезертировал из нее, первым записался в Еврейский легион, который помогал англичанам разгромить турок.
Ротшильд обнял его как первого члена Легиона. Командир Легиона полковник Паттерсон был очень к нему привязан. Для него Легион был святым. Он считал, что Легион внес большую лепту в борьбу. Сам он никогда не брал отпуск и не позволял другим это делать. Более того, родители легионеров получали определенную помощь. Он позаботился, чтобы у нас не было проблем с получением пенсии. Моего сына, в конце концов, отправили в Александрию на офицерские курсы.
После войны он продолжал считать, что Легион должен существовать, чтобы защищать интересы евреев. Не было вопроса о том, что он уйдет из Легиона. Он оставался в нем до последнего.
Но я забежал вперед и должен вернуться назад. Когда англичане стали хозяевами, ситуация стала гораздо лучше, и после всех трудностей и лишений я снова начал думать о будущем и надеяться, что люди, которые мне столько наобещали, что-то сделают для меня.
Глава XXXIX
МНОГО ОБЕЩАНИЙ И МАЛО ИСПОЛНЕНИЙ
Тем временем мне стало известно, что в 1914 году два человека, один из них Джеймс Саймон из Берлина, основали фонд в 41,000 франков. Деньги предназначались для покупки дома для меня. Кроме этих двоих, никто не дал ни копейки. В то время на эти деньги можно было купить приличный дом. Но куда исчезли эти деньги, мне по сей день неизвестно.
Во время войны от моих денег почти ничего не осталось. Мне выдавали их небольшими суммами, и из-за разницы в курсах я очень много потерял. А дома так и не было.
Когда в Палестину вошли англичане, некий господин Д. Г. посоветовал мне не волноваться о будущем, потому что все закончится хорошо. Он собирался в Париж встретиться с Ротшильдом и все устроить. Пока что он дал мне ссуду в пятьдесят фунтов. По возвращении он рассказал, что встречался с Ротшильдом, и тот распорядился все для меня сделать. В ближайшее время меня должен был посетить представитель барона, и потом все будет улажено.
Сейчас идет 1920 год, прошло восемь лет после моего освобождения из тюрьмы и первого обещания в Киеве. Восемь лет — и ничего не произошло. Тем временем в Палестину приезжали именитые визитеры, среди них член Верховного суда Брандейс. Все они встречались со мной и советовали ждать, не беспокоиться о будущем, уговаривая меня никуда не уезжать, оставаться в Палестине, где мое будущее будет хорошо обеспечено.
Время тоже не стояло на месте. Месяц за месяцем я продолжал ждать. Тем временем в Палестину приехал некий господин Юдковский из Парижа. Он рассказал мне, что во время посещения синагоги видел, что идет сбор денег для Бейлиса.
“Почему вы собираете деньги для Бейлиса? Кто дал вам полномочия? Куда деваются деньги? Что происходит? Везде собирают деньги для Бейлиса, а он не имеет средств к существованию. Вы не должны так собирать деньги. Это должно быть на постоянной и правомочной основе”.
Позже Юдковский встретился с господином В, который заверил, что для Бейлиса делается все возможное. Услышав это, Юдковский решил больше не заниматься этим.
Когда ко мне приехал представитель барона, господин Г. сказал: “Расскажите им, что Вам нужно, и все получите”. Я сказал, что хочу только то, что мне пообещали. Мне так долго об этом твердили, что я начал это рассматривать как мое право. Я сказал представителю Ротшильда, что хотел бы получить маленький домик и участок земли.
Через несколько дней я столкнулся с господином Г. и спросил, как продвигаются дела, есть ли перемены в моем положении. Он сказал, что едет в Париж, и если с Ротшильдом не получится, значит, будет кто-то другой.
Я уверен, что Г. искренне пытался мне помочь. Остается вопрос, почему он не довел дело до логического конца и почему меня так долго кормили сказками.
Незадолго до Сан-Ремо (В 1920 г. в Сан-Ремо состоялась историческая конференция в под эгидой Лиги Наций, предоставившая Британии мандат на Палестину) господин Г. отправился в Париж. Я остался без денег. От 41,000 франков ничего не осталось. Другие деньги, которые мне удалось раздобыть, тоже исчезли. Больше никто ничего не давал. Еврейская поселенческая организация держалась на расстоянии. Ситуация становилась безвыходной.
Г. вернулся из поездки летом. Я написал ему и попросил несколько фунтов, чтобы уехать. Для меня было унижением просить денег, но бесконечные обещания довели меня до этого. У меня не было выхода. Он ответил, что я не должен покидать Палестину и что он позаботится о деньгах. В июле он снова уехал в Париж, а я остался с обещаниями. Он вернулся и в декабре снова уехал.
Я начал понимать, что надо как-то приводить дела в порядок. Я стал серьезно думать об отъезде, но куда ехать? Что делать? Дела становились все хуже, и я решил поехать в Нью-Йорк — хотя бы получить там деньги, которые были отложены там для меня несколько лет назад Американским еврейским комитетом. Кроме того, я надеялся найти там заработок.
Было непросто решиться уехать из Палестины. Я не хотел уезжать. Я полюбил эту страну, привязался в еврейской жизни в Тель-Авиве. Я хотел связать своё будущее и будущее моих детей с будущим Палестины. Мне нравился работать на земле, и я хотел посвятить себя земледелию. И мне не хотелось отрывать детей от земли, где они выросли в настоящих евреев.
Кроме того, что мне самому не хотелось уезжать, мой старший сын был категорически против. Когда я сказал ему, что хочу поехать в Америку, он смертельно побледнел. Только после того, как я убедил его в острой необходимости такого шага, он согласился на мой отъезд, но умолял вернуться через три месяца.
Я сам думал, что буду там недолго. Я даже не думал забирать туда жену и детей. Получив там немного денег, я думал вернуться и жить спокойно с семьей в Палестине.
Исаак Гольдберг продолжал меня умолять: “Палестина — это захолустье, мир Вас забыл. Езжайте в Америку и совершите тур по городам, американские евреи вспомнят Вас и сделают все возможное. Я уверен, что они щедро Вас обеспечат и отправят сюда, где Вы сможете жить комфортно”.
Было решено, что я поеду. Но где взять денег? Я поехал в Иерусалим, где встретился с молодым евреем по фамилии Ааронсон, который дал мне сорок фунтов и рекомендательные письма к барону Ротшильду и судье Маку в Нью-Йорке. Другие люди дали мне немного денег, и я начал готовиться к поездке. Американский консул был очень дружелюбен, а когда услышал, что я Бейлис, тут же дал мне визу и пожелал успешной поездки.
Я благополучно прибыл в Лондон, где меня тут же стали осаждать со всех сторон. Но вместо того, чтобы поинтересоваться, чем я занимаюсь и какие у меня планы, все хотели услышать о том, что было. Они забрасывали меня вопросами, как все произошло, они обсуждали мои старые проблемы и страдания. Что я мог поделать в такой ситуации?
Не думайте, что в Лондоне меня не засыпали обещаниями. Все давали обещания и уверяли, что все будет хорошо. Но можно ли прожить на одни обещания? Я всем объяснил свое положение. Я говорил, что мне от них ничего не надо. Я рассказывал, как изначально мне посоветовали ехать в Палестину, где мне купят дом и я смогу обеспечить себя и мою семью. Я дал себя уговорить и поехал в Палестину. Теперь я там уже девять лет, но ни одно обещание не выполнено.
Я просил, чтобы меня не вводили в заблуждение новыми посулами. Если бы я хотел зарабатывать деньги, я мог бы заработать очень много, и все честным путем. Я мог бы обеспечить себя на всю жизнь. Но я этого не делал. Более того, мне не позволяли это делать, и это было моей главной претензией. Киевский комитет взял на себя полную ответственность за обеспечение моего будущего. И я не собирался больше терпеть лишения.
Мои лондонские друзья соглашались, что мое недовольство справедливо и, тем не менее, ничего для меня не сделали. Поскольку у меня было письмо к Джеймсу Ротшильду, я решил ждать его возвращения из Америки. Но мой корабль отплыл в тот день, когда он вернулся, и мне пришлось послать ему письмо по почте. Как раз перед отъездом я встретил господина Маршака из Киева. Он удивился, что я еду в Америку. Он пытался меня уверить, что все будет хорошо и что он не забыл своих обещаний. Все, что он обещал в Киеве, будет сделано. Он объявил, что через него Ротшильд пообещал 10,000 франков.
Но мы расстались — он в Париж, а я в Нью-Йорк.
Какая удивительная встреча. Девять лет назад этот человек пришел ко мне домой и согласился на мою поездку в Палестину, даже настаивал на этом в конце. Девять лет спустя его обещания не выполнены, мы встречаемся по дороге, но теперь я возвращаюсь из страны, куда он уговорил меня поехать.
Оглавление
Мендель Бейлис
История моих страданий
Глава I
РАБОТА И ПОКОЙ
Глава II
УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА ЮЩИНСКОГО
Глава III
МОЙ АРЕСТ
Глава IV
В ОХРАНКЕ
Глава V
ИНКВИЗИЦИЯ
Глава VI
ТЮРЬМА
Глава VII
КРОВАВЫЙ АНАЛИЗ
Глава VIII
СОГЛЯДАТАИ
Глава IX
ВКУС ТЮРЕМНОЙ ЖИЗНИ
Глава Х
ПЕРВЫЙ ВИЗИТ АДВОКАТОВ
Глава XI
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ С ДОБРОЙ ДУШОЙ
Глава XII
НОВЫЕ ИНТРИГИ
Глава XIII
МЕЖДУ НАДЕЖДОЙ И ОТЧАЯНИЕМ
Глава XIV
ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕД ИНКВИЗИЦИЕЙ
Глава XV
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МОИХ АДВОКАТОВ
Глава XVI
ПОПЫТКА МЕНЯ ОТРАВИТЬ
Глава XVII
САМОУБИЙСТВО УБИЙЦЫ
Глава XVIII
НОВОЕ ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глава XIX
НАКОНЕЦ-ТО СУД
Глава ХХ
КАРАБЧЕВСКИЙ
Глава XXI
СУД НАЧИНАЕТСЯ
Глава XXII
ПОКАЗАНИЯ РАЗНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ
Глава XXIII
ЧЕСТНЫЙ СВЯЩЕННИК И ПРЕЗРЕННЫЙ РЕНЕГАТ
Глава XXIV
ЛОЖЬ И КЛЕВЕТА
Глава XXV
ЦАДИКИ
Глава XXVI
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ЛЖИ ЛОПАЕТСЯ
Глава XXVII
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И БОМБОМЕТАТЕЛЬ
Глава XXVIII
СЛОВЕСНАЯ БИТВА
Глава XXIX
МЕНЯ ЕДВА НЕ ЗАСТРЕЛИЛИ
Глава XXX
СВОБОДЕН
Глава XXXI
ТЮРЬМА СТАНОВИТСЯ МОИМ УБЕЖИЩЕМ
Глава XXXII
НАКОНЕЦ-ТО ДОМА
Глава XXXIII
РАДОСТНЫЙ МИР
Глава XXXIV
ОБЕСПЕЧИТЬ БУДУЩЕЕ
Глава XXXV
В ПАЛЕСТИНУ
Глава XXXVI
ИЗ КИЕВА В ТРИЕСТ
Глава XXXVII
НА ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ
Глава XXXVIII
ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Глава XXXIX
МНОГО ОБЕЩАНИЙ И МАЛО ИСПОЛНЕНИЙ


 Мендель Бейлис
Мендель Бейлис
 Вера Чеберяк с мужем и дочерью
Вера Чеберяк с мужем и дочерью
 Андрей Ющинский после смерти
Андрей Ющинский после смерти
 Дом Менделя Бейлиса
Дом Менделя Бейлиса
 Дом Веры Чеберяк
Дом Веры Чеберяк

 Бейлис под стражей
Бейлис под стражей

 Грузенберг
Маклаков
Карабчевский
Грузенберг
Маклаков
Карабчевский
 Марголин Григорович-Барский
Зарудный
Марголин Григорович-Барский
Зарудный
 Капитан Н. Красовский
С. Бразуль-Брушковский
Капитан Н. Красовский
С. Бразуль-Брушковский
 Эксперт И.Пранайтис
Профессор И. А. Сикорский
Адвокат Веры Чеберяк, известный антисемит А. Шмаков
Эксперт И.Пранайтис
Профессор И. А. Сикорский
Адвокат Веры Чеберяк, известный антисемит А. Шмаков
 И. Г. Щегловитов
Г. Г. Чаплинский
И. Г. Щегловитов
Г. Г. Чаплинский
 Схема расположения ран на теле Андрея Ющинского.
Таково было мнение экспертов относительно убийства. После этого нужно было найти виновного и понять, почему Андрюшу убили, и вот тут обвинение превратилось в набор диких историй, в которых сразу можно было увидеть подтасовку фактов.
В начале расследования было установлено, что Андрюша отправился в школу в 6 утра 12 марта. Позже было установлено, что в школе он в этот день не был и домой не вернулся.
Сначала мать решила, что он пошел ночевать к родственнице Наталье Ющинской. Утром она обнаружила, что у родственников он не был, и начались поиски. Поиски продолжались несколько дней, пока он не был найден мертвым. Вначале ходили слухи, что мать проявляла мало интереса к судьбе сына. Более того, когда его нашли мертвым, говорили, что она не плакала и не особенно переживала. Поэтому ее арестовали, и полиция провела обыск в доме. После нескольких дней ареста был сделан вывод, что эти необоснованные слухи распространяли ее враги.
Приблизительно в это же время начали циркулировать слухи, что Андрюшу убили евреи. В обвинении указывалось, что власти не придали большого значения этим слухам, потому что продолжали считать, что мать Андрюши замешана в его убийстве. Появились свидетели, утверждавшие, что она не проявляла скорби при обнаружении тела; что через несколько дней после исчезновения мальчика видели, что его мать вместе с каким-то человеком тащила тяжелую сумку.
Исследовалась еще одна версия о людях, которые могли совершить это преступление. Подозрение пало на воров Рудзинского, Сингаевского и Латышева. Ходили слухи, что Андрюша знал секреты шайки, и ему угрожали расправой, если он их предаст. Поэтому была вероятность, что они с ним расправились из-за этого. Чеберяк также подозревали, потому что мальчика часто видели у нее дома.
Я был доволен, читая это. Пока что казалось, что расследование на правильном пути. Я начал надеяться, что обвинение не будет тяжелым. Но читая дальше, я увидел, что дело приняло совсем другой оборот.
Все это происходило вначале. То есть, вначале расследование разделяло эти взгляды, но потом… все это сменилось новой версией. Расследование пришло к выводу, что господа Сингаевский, Рудзинский (которые были отъявленными убийцами и ворами) были просто образцом добродетели. Тот же вывод был сделан и в отношении Чеберяк. Она тоже была “сама невинность”. Мать Ющинского оправдали несколько ранее, и действительно, как можно такое говорить о такой “идеальной матери”.
Короче говоря, все они были честные, порядочные люди, и их просто невозможно было обвинить в таком гнусном преступлении. Из обвинения следовало, что настоящим преступником был еврей Мендель Бейлис, приказчик кирпичного завода Зайцева. Меня выбрали на роль убийцы Ющинского. Да, я действительно жил несколько лет на территории завода, никогда никого не обидев. Но это не имело значения, потому что я не убивал Андрюшу по личным мотивам, например, ограбление или что-то еще. Я убил его в религиозных целях. Тут была небольшая неувязка, потому что в обвинении утверждалось, что для этого нужен цадик или раввин или хороший еврей. Я, конечно, не был цадиком, но меня им сделали в целях обвинения. Были сочинены странные истории, чтобы выставить меня убийцей.
Дальше в обвинении говорилось, что когда журналист Брушковский обнаружил новые факты и передал их полковнику Иванову, подозрение снова сосредоточилось на Чеберяк. Одна из ее соседок, русская Молецкая, которая жила в том же доме этажом ниже, заявила, что слышала детские крики на этаже, где жила Чеберяк, и что это было в день исчезновения Андрюши.
Но как можно было говорить такие зловещие вещи о Чеберяк? Кто мог этому поверить? Разве она сама не рассказывала о своих отношениях с Брушковским, который повез ее в Харьков на встречу с “важной особой”, и разве эта особа не предлагала ей сорок тысяч долларов только за то, что она возьмет на себя вину в убийстве? И этой “особой” был не кто иной, как мой адвокат Арнольд Марголин. Так утверждала Чеберяк. Конечно, она с презрением отвергла это заманчивое предложение. Ее нельзя купить деньгами. Отсюда следовало, что Чеберяк невиновна.
Не менее очевидной была и политика властей. Всех воров и негодяев нужно было обелить. Журналисту Брушковскому с его безупречной репутацией и капитану Красовскому верить было нельзя. Чеберяк было полное доверие.
Чтобы выставить против меня, еврея, правдоподобные обвинения, необходимо было сделать это преступление ритуальным. Поэтому было важно построить обвинения на экспертных заключениях ученых христиан, которые должны были с уверенностью заявить, что евреи используют кровь на Песах.
Я не мог дальше читать. Мои нервы были расшатаны, и я был обессилен. Утром я продолжил чтение.
Что же утверждалось и подразумевалось в мнениях ученых экспертов? Все было ясно из обвинения. Ющинский был убит необычным образом. Сразу распространились слухи, что евреи сделали это в религиозных целях. Поэтому следователи обратились к экспертам, чтобы прояснить ситуацию. Они обратились к профессору Сикорскому из Киевского университета, к профессору Киевской теологической академии Глагольеву и к профессорам Петроградской академии, среди них Троицкому, а также к “Магистру религиозных наук” его преподобию Пранайтису.
Вопросу, заданному профессору Сикорскому, наверное, не было равных во всей судебной истории. Его попросили высказать мнение, к какой нации принадлежит убийца. И какие мотивы побудили его к преступлению. Хотя это был поразительный вопрос, великий ученый, который, кстати, был профессором психиатрии и сам немного неуравновешен, не смутился. Он дал “научный” ответ, смысл которого был в том, что преступление было совершено преднамеренно евреем с целью расовой мести за “детей Израилевых”. Профессор утверждал, что убийство было хорошо продумано. Безумный человек не мог его совершить. Убийцы не метили сразу в сердце. Их целью было не ускорить смерть, а добиться своих целей, то есть пролить кровь и применить пытки. Профессор изложил три четких стадии убийства: пролитие крови, пытки и само убийство. Вот почему у Андрюши были многочисленные ножевые ранения. Профессор далее высказал мнение, что это сделал человек, “привычный к такой работе”.
Такова была версия Сикорского.
Каким безумным ни выглядело это мнение, власти его приняли. Двум другим профессорам, Глагольеву и Троицкому, которые были выдающимися знатоками Библии и Талмуда в России, задали вопросы о еврейских законах и ритуалах. Глагольев ответил, что в еврейской литературе нет закона или обычая, позволяющего евреям использовать кровь, особенно христианскую, в религиозных целях. Он также отметил, что запрет на пролитие человеческой крови и вообще на использование крови, можно найти в Библии, и, насколько ему известно, такой запрет никогда не отменялся в более поздней литературе. Он не нашел отмены подобного запрета в Талмуде или в раввинских законах.
Профессор Троицкий также указал, что религиозные законы запрещают евреям использовать кровь и что им запрещено убивать людей, будь то евреи или неевреи. Да, в законах Талмуда можно найти выражения: “нееврей, который учит Тору, заслуживает смерти” и “лучшего из гоев убей”, но ему трудно их объяснить. Подводя итог, профессор указал, что и закон, и Талмуд не разрешают евреям использовать кровь вообще, и человеческую в частности. Что касается каббалы, он не был знаком с каббалистической литературой и не знал, говорилось ли там что-то вообще об использовании крови.
Поэтому обвинению пришлось обратиться к “каббалисту”, большому авторитету, бывшему католическому священнику Пранайтису. Это было очень интересно. Известные российские авторитеты, уважаемые профессора в высших теологических академиях Глагольев и Троицкий фактически высказались в мою пользу. Они однозначно заявили, что евреям запрещено использовать любую кровь, особенно человеческую. Получалось, что в этом деле не могло быть обвинения в “ритуале”. Но без ритуала все обвинения разваливались. Это властям не нравилось. Они схватились за каббалу. Они искали среди профессиональных священников, но не могли найти никого, кто взялся бы утверждать, что знаком с каббалой.
Наконец, некий неизвестный священник заявил, что он знает всю талмудическую и каббалистическую литературу, и этот великий каббалист высказал такое мнение:” Все еврейские раввины и вообще евреи объединены ненавистью к христианам. Гой считается “зверем, опасным для людей”. Отсюда объяснение запрета убивать чужаков. По словам священника, запрет относится только к евреям, потому что только они считаются людьми. Это не относится к христианам, которых они считают зверями.
Покончив с Талмудом, ученый священник взялся за каббалу. Он утверждал, что “убийство должно быть совершено в особой манере, как предписывает каббала. Кровь играет большую роль в еврейской религии. Ее использовали в качестве средства от многих болезней”. Когда нужна была кровь, не нужно было резать горло жертвы. Нужно было нанести ранения и пустить кровь. Он говорил, что утверждение, что евреям запрещено использовать кровь, ошибочно. Даже в Талмуде кровь сравнивают с водой, молоком и т. д. Пранайтис дальше перечислял разных “ученых” и мошенников вроде него самого, цитируя их заявления на эту тему. Он сделал особое ударение на мнении некоего ренегата, бывшего раввина, а потом священника, о том, что евреи могут есть вареную кровь. Он говорил, что христианская кровь помогает при заболеваниях глаз. Таковы были утверждения Пранайтиса от имени ренегата.
Интересно, что сам ренегат никогда не говорил, что ему известно о таких вещах. Он заявил, что слышал это от отца, который взял с него клятву никогда не открывать секрет. Пока он был евреем, он хранил это в секрете. Поменяв религию, он захотел объявить это всему миру.
Обвинение не было удовлетворено всем этим вздором. В этом месте составители обвинительного заключения вернулись назад и привели другие свидетельства различных людей. Утверждалось, что сын Чеберяк Женя видел у меня в доме странных евреев, цадиков. Я не знаю, говорил ли он такое, потому что к этому времени ребенок умер. Однако его 9-летняя сестра подтвердила это. Она рассказала, что однажды они ходили к Бейлисам купить молока и в окно увидели двух странно выглядящих евреев, в смешных шапках и черных халатах. Дети якобы испугались и убежали.
Далее девочка сказала, что в день исчезновения Ющинского она играла вместе с другими детьми на заводском дворе. Бейлис стал за ними гоняться, и они убежали и перелезли через забор. Она спряталась, чтобы посмотреть, что будет делать Бейлис. Потом она увидела, как Бейлис и двое евреев схватили Андрюшу Ющинского и потащили в дом. Среди других историй упоминалось также мое письмо, отправленное через Козаченко моей семье. У соглядатая Козаченко была буйная фантазия.
Он дал показания, что войдя ко мне в доверие, уговорил меня написать письмо, и я рассказал ему много секретов. Я якобы попросил его сделать для меня работу: отравить двух “плохих” свидетелей. Я якобы пообещал ему вознаграждение от “еврейского народа”. В качестве аванса я дал ему 50 рублей и нужный яд. Если бы он выполнил хорошо задание, то был бы обеспечен на всю жизнь.
Вывод был таков, что я, в сговоре с какими-то неизвестными людьми, заранее обдумал и совершил убийство христианского ребенка в религиозных целях. Для этого мы схватили Ющинского, заткнули ему кляпом рот и нанесли тридцать семь ранений в области головы, шеи и других мест, а затем пустили ему кровь.
Все это произошло в марте. Вышагивая по камере, я часто доставал этот документ, который так иронично назывался судебным обвинительным заключением, и перечитывал его снова и снова, пока кровь почти замерзала у меня в венах. Я был беспомощен. Вся Черная Россия во главе с царем Николаем хотела этого.
Когда мне вручали второе обвинение, то снова спросили, кто мой адвокат. Я ответил, что хочу продолжать пользоваться услугами прежнего адвоката. Вскоре меня посетил Барский. Он сказал, что Марголин больше не сможет меня защищать, потому что прокурор вызвал его в качестве свидетеля. Закон запрещает быть одновременно свидетелем и адвокатом по одному и тому же делу.
Г-н Барский сообщил мне, что кроме него и Грузенберга, меня также будут защищать господа Маклаков и Карабчевский. Через некоторое время Барский снова нанес мне визит. Мы мало говорили о деле. Он всегда подбадривал меня. Он был уверен, что правда поднимется как масло на поверхности воды и что черносотенцы и антисемиты потерпят унизительное поражение. Он также сказал, чтобы я попросил у прокурора вторую копию обвинения. Это было мое право. Эта копия была нужна моим адвокатам. Я направил петицию прокурору относительно второй копии.
На следующее утро в тюрьме появился Машкевич.
Он спросил: “Вы действительно хотите получить копию всего предварительного расследования?”
“Да, мне она необходима”.
“Если Вы настаиваете, то Вы ее получите, но предупреждаю, что это может ухудшить ваши дела. Это может задержать еще на несколько месяцев дату суда”.
Я спросил, почему Фененко дал мне копию без всяких уверток.
Он рассмеялся.
“Вы глупец. Фененко был наивен. Он верил всему, что Вы ему рассказывали. Не сравнивайте меня с Фененко. Он составил бесполезное обвинение, а я сделал все как положено. В любом случае, если Вы хотите задержать суд, Вы можете получить копию”.
Передо мной была безвыходная дилемма. Если я не получу вторую копию, мои адвокаты не смогут вовремя тщательно его изучить. Они не смогут приготовить свои доводы или добраться до сути аргументов обвинения. С другой стороны, если я решу получить копию, дата суда будет отложена, а ведь я так долго и нетерпеливо ждал его. Возможно, что Машкевич просто меня запугивал. Но, возможно, он говорил правду. Если он хотел поставить преграды, то был вполне в состоянии это сделать. Его политика заключалась в том, чтобы подвергать меня всяческим страданиям.
После недолгих размышлений я решил не просить копию. Я был уверен, что мои адвокаты найдут способ обойтись без нее. Они сами найдут способ ее получить. У них было на это больше шансов, чем у беспомощного заключенного. Я же выиграю хотя бы в одном: суд не будет отложен. Через несколько дней мне сообщили, что жена и брат пришли меня навестить и ожидают в конторе смотрителя. Эта встреча была моим единственным утешением во время заключения.
Войдя в контору, я увидел жену и брата. Машкевич также присутствовал. Я начал расспрашивать о делах дома. Среди вопросов, заданных братом, было: “Ты получил копию обвинения?”
Я ответил, что мне дали понять, что открытие суда отложится на несколько месяцев, если я потребую копию. Поэтому я решил от нее отказаться. Брат рассердился и сказал: “Не слушай этих выдумок. Получи копию и не обращай внимания на все эти истории”.
Смотритель, присутствовавший во время свидания, вскочил и начал кричать на брата:
“Убирайтесь отсюда немедленно. Какая наглость!”
Смотрителю потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Он ходил по комнате и бормотал: “Какая наглость, какая дерзость”. После этого он приказал моей жене покинуть контору. Я ожидал, что брата арестуют за его дерзость, и провел в тревоге несколько бессонных ночей.
Через несколько дней жена снова меня навестила. В этот раз это было в тюремной конторе, поэтому пришлось разговаривать через двойную решетку. Она мне рассказала, что брата не арестовали.
Я с огромным нетерпением ждал долгожданного суда. Прошло два с половиной года с того рокового дня, когда начальник киевской Охранки Кулябко арестовал меня в моем доме. Тем временем карьера Кулябко закончилась, частично по его вине. Известный революционер и наполовину предатель Богров сумел проникнуть в театр во время пребывания царя Николая в Киеве и застрелить премьер-министра Столыпина на глазах у царя. Карьера Кулябко закончилась неожиданно и катастрофически. Но моя ситуация от этого нисколько не улучшилась.
Наконец подошел великий день. День, которого не только я и моя семья, но и весь еврейский народ ждали все эти годы, затаив дыхание. Нет, ждал весь мир, даже многие неевреи, потому что все хотели узнать правду, хотели знать, как российский народ решит мою судьбу и судьбу еврейского народа.
Я знал, что меня будут защищать лучшие российские адвокаты. Я знал, что лучшие представители русского народа были на моей стороне, на стороне правды, но чем они могли мне помочь? Ситуация зависела не столько от целого народа, сколько от судей и правительства. В таком случае, окончательное решение и приговор висели, так сказать, на волоске. Все могло измениться из-за чьего-то настроения, каприза. Что будет? Но я твердо надеялся, что мыльный пузырь лжи лопнет, и это придавало мне мужества.
Схема расположения ран на теле Андрея Ющинского.
Таково было мнение экспертов относительно убийства. После этого нужно было найти виновного и понять, почему Андрюшу убили, и вот тут обвинение превратилось в набор диких историй, в которых сразу можно было увидеть подтасовку фактов.
В начале расследования было установлено, что Андрюша отправился в школу в 6 утра 12 марта. Позже было установлено, что в школе он в этот день не был и домой не вернулся.
Сначала мать решила, что он пошел ночевать к родственнице Наталье Ющинской. Утром она обнаружила, что у родственников он не был, и начались поиски. Поиски продолжались несколько дней, пока он не был найден мертвым. Вначале ходили слухи, что мать проявляла мало интереса к судьбе сына. Более того, когда его нашли мертвым, говорили, что она не плакала и не особенно переживала. Поэтому ее арестовали, и полиция провела обыск в доме. После нескольких дней ареста был сделан вывод, что эти необоснованные слухи распространяли ее враги.
Приблизительно в это же время начали циркулировать слухи, что Андрюшу убили евреи. В обвинении указывалось, что власти не придали большого значения этим слухам, потому что продолжали считать, что мать Андрюши замешана в его убийстве. Появились свидетели, утверждавшие, что она не проявляла скорби при обнаружении тела; что через несколько дней после исчезновения мальчика видели, что его мать вместе с каким-то человеком тащила тяжелую сумку.
Исследовалась еще одна версия о людях, которые могли совершить это преступление. Подозрение пало на воров Рудзинского, Сингаевского и Латышева. Ходили слухи, что Андрюша знал секреты шайки, и ему угрожали расправой, если он их предаст. Поэтому была вероятность, что они с ним расправились из-за этого. Чеберяк также подозревали, потому что мальчика часто видели у нее дома.
Я был доволен, читая это. Пока что казалось, что расследование на правильном пути. Я начал надеяться, что обвинение не будет тяжелым. Но читая дальше, я увидел, что дело приняло совсем другой оборот.
Все это происходило вначале. То есть, вначале расследование разделяло эти взгляды, но потом… все это сменилось новой версией. Расследование пришло к выводу, что господа Сингаевский, Рудзинский (которые были отъявленными убийцами и ворами) были просто образцом добродетели. Тот же вывод был сделан и в отношении Чеберяк. Она тоже была “сама невинность”. Мать Ющинского оправдали несколько ранее, и действительно, как можно такое говорить о такой “идеальной матери”.
Короче говоря, все они были честные, порядочные люди, и их просто невозможно было обвинить в таком гнусном преступлении. Из обвинения следовало, что настоящим преступником был еврей Мендель Бейлис, приказчик кирпичного завода Зайцева. Меня выбрали на роль убийцы Ющинского. Да, я действительно жил несколько лет на территории завода, никогда никого не обидев. Но это не имело значения, потому что я не убивал Андрюшу по личным мотивам, например, ограбление или что-то еще. Я убил его в религиозных целях. Тут была небольшая неувязка, потому что в обвинении утверждалось, что для этого нужен цадик или раввин или хороший еврей. Я, конечно, не был цадиком, но меня им сделали в целях обвинения. Были сочинены странные истории, чтобы выставить меня убийцей.
Дальше в обвинении говорилось, что когда журналист Брушковский обнаружил новые факты и передал их полковнику Иванову, подозрение снова сосредоточилось на Чеберяк. Одна из ее соседок, русская Молецкая, которая жила в том же доме этажом ниже, заявила, что слышала детские крики на этаже, где жила Чеберяк, и что это было в день исчезновения Андрюши.
Но как можно было говорить такие зловещие вещи о Чеберяк? Кто мог этому поверить? Разве она сама не рассказывала о своих отношениях с Брушковским, который повез ее в Харьков на встречу с “важной особой”, и разве эта особа не предлагала ей сорок тысяч долларов только за то, что она возьмет на себя вину в убийстве? И этой “особой” был не кто иной, как мой адвокат Арнольд Марголин. Так утверждала Чеберяк. Конечно, она с презрением отвергла это заманчивое предложение. Ее нельзя купить деньгами. Отсюда следовало, что Чеберяк невиновна.
Не менее очевидной была и политика властей. Всех воров и негодяев нужно было обелить. Журналисту Брушковскому с его безупречной репутацией и капитану Красовскому верить было нельзя. Чеберяк было полное доверие.
Чтобы выставить против меня, еврея, правдоподобные обвинения, необходимо было сделать это преступление ритуальным. Поэтому было важно построить обвинения на экспертных заключениях ученых христиан, которые должны были с уверенностью заявить, что евреи используют кровь на Песах.
Я не мог дальше читать. Мои нервы были расшатаны, и я был обессилен. Утром я продолжил чтение.
Что же утверждалось и подразумевалось в мнениях ученых экспертов? Все было ясно из обвинения. Ющинский был убит необычным образом. Сразу распространились слухи, что евреи сделали это в религиозных целях. Поэтому следователи обратились к экспертам, чтобы прояснить ситуацию. Они обратились к профессору Сикорскому из Киевского университета, к профессору Киевской теологической академии Глагольеву и к профессорам Петроградской академии, среди них Троицкому, а также к “Магистру религиозных наук” его преподобию Пранайтису.
Вопросу, заданному профессору Сикорскому, наверное, не было равных во всей судебной истории. Его попросили высказать мнение, к какой нации принадлежит убийца. И какие мотивы побудили его к преступлению. Хотя это был поразительный вопрос, великий ученый, который, кстати, был профессором психиатрии и сам немного неуравновешен, не смутился. Он дал “научный” ответ, смысл которого был в том, что преступление было совершено преднамеренно евреем с целью расовой мести за “детей Израилевых”. Профессор утверждал, что убийство было хорошо продумано. Безумный человек не мог его совершить. Убийцы не метили сразу в сердце. Их целью было не ускорить смерть, а добиться своих целей, то есть пролить кровь и применить пытки. Профессор изложил три четких стадии убийства: пролитие крови, пытки и само убийство. Вот почему у Андрюши были многочисленные ножевые ранения. Профессор далее высказал мнение, что это сделал человек, “привычный к такой работе”.
Такова была версия Сикорского.
Каким безумным ни выглядело это мнение, власти его приняли. Двум другим профессорам, Глагольеву и Троицкому, которые были выдающимися знатоками Библии и Талмуда в России, задали вопросы о еврейских законах и ритуалах. Глагольев ответил, что в еврейской литературе нет закона или обычая, позволяющего евреям использовать кровь, особенно христианскую, в религиозных целях. Он также отметил, что запрет на пролитие человеческой крови и вообще на использование крови, можно найти в Библии, и, насколько ему известно, такой запрет никогда не отменялся в более поздней литературе. Он не нашел отмены подобного запрета в Талмуде или в раввинских законах.
Профессор Троицкий также указал, что религиозные законы запрещают евреям использовать кровь и что им запрещено убивать людей, будь то евреи или неевреи. Да, в законах Талмуда можно найти выражения: “нееврей, который учит Тору, заслуживает смерти” и “лучшего из гоев убей”, но ему трудно их объяснить. Подводя итог, профессор указал, что и закон, и Талмуд не разрешают евреям использовать кровь вообще, и человеческую в частности. Что касается каббалы, он не был знаком с каббалистической литературой и не знал, говорилось ли там что-то вообще об использовании крови.
Поэтому обвинению пришлось обратиться к “каббалисту”, большому авторитету, бывшему католическому священнику Пранайтису. Это было очень интересно. Известные российские авторитеты, уважаемые профессора в высших теологических академиях Глагольев и Троицкий фактически высказались в мою пользу. Они однозначно заявили, что евреям запрещено использовать любую кровь, особенно человеческую. Получалось, что в этом деле не могло быть обвинения в “ритуале”. Но без ритуала все обвинения разваливались. Это властям не нравилось. Они схватились за каббалу. Они искали среди профессиональных священников, но не могли найти никого, кто взялся бы утверждать, что знаком с каббалой.
Наконец, некий неизвестный священник заявил, что он знает всю талмудическую и каббалистическую литературу, и этот великий каббалист высказал такое мнение:” Все еврейские раввины и вообще евреи объединены ненавистью к христианам. Гой считается “зверем, опасным для людей”. Отсюда объяснение запрета убивать чужаков. По словам священника, запрет относится только к евреям, потому что только они считаются людьми. Это не относится к христианам, которых они считают зверями.
Покончив с Талмудом, ученый священник взялся за каббалу. Он утверждал, что “убийство должно быть совершено в особой манере, как предписывает каббала. Кровь играет большую роль в еврейской религии. Ее использовали в качестве средства от многих болезней”. Когда нужна была кровь, не нужно было резать горло жертвы. Нужно было нанести ранения и пустить кровь. Он говорил, что утверждение, что евреям запрещено использовать кровь, ошибочно. Даже в Талмуде кровь сравнивают с водой, молоком и т. д. Пранайтис дальше перечислял разных “ученых” и мошенников вроде него самого, цитируя их заявления на эту тему. Он сделал особое ударение на мнении некоего ренегата, бывшего раввина, а потом священника, о том, что евреи могут есть вареную кровь. Он говорил, что христианская кровь помогает при заболеваниях глаз. Таковы были утверждения Пранайтиса от имени ренегата.
Интересно, что сам ренегат никогда не говорил, что ему известно о таких вещах. Он заявил, что слышал это от отца, который взял с него клятву никогда не открывать секрет. Пока он был евреем, он хранил это в секрете. Поменяв религию, он захотел объявить это всему миру.
Обвинение не было удовлетворено всем этим вздором. В этом месте составители обвинительного заключения вернулись назад и привели другие свидетельства различных людей. Утверждалось, что сын Чеберяк Женя видел у меня в доме странных евреев, цадиков. Я не знаю, говорил ли он такое, потому что к этому времени ребенок умер. Однако его 9-летняя сестра подтвердила это. Она рассказала, что однажды они ходили к Бейлисам купить молока и в окно увидели двух странно выглядящих евреев, в смешных шапках и черных халатах. Дети якобы испугались и убежали.
Далее девочка сказала, что в день исчезновения Ющинского она играла вместе с другими детьми на заводском дворе. Бейлис стал за ними гоняться, и они убежали и перелезли через забор. Она спряталась, чтобы посмотреть, что будет делать Бейлис. Потом она увидела, как Бейлис и двое евреев схватили Андрюшу Ющинского и потащили в дом. Среди других историй упоминалось также мое письмо, отправленное через Козаченко моей семье. У соглядатая Козаченко была буйная фантазия.
Он дал показания, что войдя ко мне в доверие, уговорил меня написать письмо, и я рассказал ему много секретов. Я якобы попросил его сделать для меня работу: отравить двух “плохих” свидетелей. Я якобы пообещал ему вознаграждение от “еврейского народа”. В качестве аванса я дал ему 50 рублей и нужный яд. Если бы он выполнил хорошо задание, то был бы обеспечен на всю жизнь.
Вывод был таков, что я, в сговоре с какими-то неизвестными людьми, заранее обдумал и совершил убийство христианского ребенка в религиозных целях. Для этого мы схватили Ющинского, заткнули ему кляпом рот и нанесли тридцать семь ранений в области головы, шеи и других мест, а затем пустили ему кровь.
Все это произошло в марте. Вышагивая по камере, я часто доставал этот документ, который так иронично назывался судебным обвинительным заключением, и перечитывал его снова и снова, пока кровь почти замерзала у меня в венах. Я был беспомощен. Вся Черная Россия во главе с царем Николаем хотела этого.
Когда мне вручали второе обвинение, то снова спросили, кто мой адвокат. Я ответил, что хочу продолжать пользоваться услугами прежнего адвоката. Вскоре меня посетил Барский. Он сказал, что Марголин больше не сможет меня защищать, потому что прокурор вызвал его в качестве свидетеля. Закон запрещает быть одновременно свидетелем и адвокатом по одному и тому же делу.
Г-н Барский сообщил мне, что кроме него и Грузенберга, меня также будут защищать господа Маклаков и Карабчевский. Через некоторое время Барский снова нанес мне визит. Мы мало говорили о деле. Он всегда подбадривал меня. Он был уверен, что правда поднимется как масло на поверхности воды и что черносотенцы и антисемиты потерпят унизительное поражение. Он также сказал, чтобы я попросил у прокурора вторую копию обвинения. Это было мое право. Эта копия была нужна моим адвокатам. Я направил петицию прокурору относительно второй копии.
На следующее утро в тюрьме появился Машкевич.
Он спросил: “Вы действительно хотите получить копию всего предварительного расследования?”
“Да, мне она необходима”.
“Если Вы настаиваете, то Вы ее получите, но предупреждаю, что это может ухудшить ваши дела. Это может задержать еще на несколько месяцев дату суда”.
Я спросил, почему Фененко дал мне копию без всяких уверток.
Он рассмеялся.
“Вы глупец. Фененко был наивен. Он верил всему, что Вы ему рассказывали. Не сравнивайте меня с Фененко. Он составил бесполезное обвинение, а я сделал все как положено. В любом случае, если Вы хотите задержать суд, Вы можете получить копию”.
Передо мной была безвыходная дилемма. Если я не получу вторую копию, мои адвокаты не смогут вовремя тщательно его изучить. Они не смогут приготовить свои доводы или добраться до сути аргументов обвинения. С другой стороны, если я решу получить копию, дата суда будет отложена, а ведь я так долго и нетерпеливо ждал его. Возможно, что Машкевич просто меня запугивал. Но, возможно, он говорил правду. Если он хотел поставить преграды, то был вполне в состоянии это сделать. Его политика заключалась в том, чтобы подвергать меня всяческим страданиям.
После недолгих размышлений я решил не просить копию. Я был уверен, что мои адвокаты найдут способ обойтись без нее. Они сами найдут способ ее получить. У них было на это больше шансов, чем у беспомощного заключенного. Я же выиграю хотя бы в одном: суд не будет отложен. Через несколько дней мне сообщили, что жена и брат пришли меня навестить и ожидают в конторе смотрителя. Эта встреча была моим единственным утешением во время заключения.
Войдя в контору, я увидел жену и брата. Машкевич также присутствовал. Я начал расспрашивать о делах дома. Среди вопросов, заданных братом, было: “Ты получил копию обвинения?”
Я ответил, что мне дали понять, что открытие суда отложится на несколько месяцев, если я потребую копию. Поэтому я решил от нее отказаться. Брат рассердился и сказал: “Не слушай этих выдумок. Получи копию и не обращай внимания на все эти истории”.
Смотритель, присутствовавший во время свидания, вскочил и начал кричать на брата:
“Убирайтесь отсюда немедленно. Какая наглость!”
Смотрителю потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Он ходил по комнате и бормотал: “Какая наглость, какая дерзость”. После этого он приказал моей жене покинуть контору. Я ожидал, что брата арестуют за его дерзость, и провел в тревоге несколько бессонных ночей.
Через несколько дней жена снова меня навестила. В этот раз это было в тюремной конторе, поэтому пришлось разговаривать через двойную решетку. Она мне рассказала, что брата не арестовали.
Я с огромным нетерпением ждал долгожданного суда. Прошло два с половиной года с того рокового дня, когда начальник киевской Охранки Кулябко арестовал меня в моем доме. Тем временем карьера Кулябко закончилась, частично по его вине. Известный революционер и наполовину предатель Богров сумел проникнуть в театр во время пребывания царя Николая в Киеве и застрелить премьер-министра Столыпина на глазах у царя. Карьера Кулябко закончилась неожиданно и катастрофически. Но моя ситуация от этого нисколько не улучшилась.
Наконец подошел великий день. День, которого не только я и моя семья, но и весь еврейский народ ждали все эти годы, затаив дыхание. Нет, ждал весь мир, даже многие неевреи, потому что все хотели узнать правду, хотели знать, как российский народ решит мою судьбу и судьбу еврейского народа.
Я знал, что меня будут защищать лучшие российские адвокаты. Я знал, что лучшие представители русского народа были на моей стороне, на стороне правды, но чем они могли мне помочь? Ситуация зависела не столько от целого народа, сколько от судей и правительства. В таком случае, окончательное решение и приговор висели, так сказать, на волоске. Все могло измениться из-за чьего-то настроения, каприза. Что будет? Но я твердо надеялся, что мыльный пузырь лжи лопнет, и это придавало мне мужества.
 Бейлис под стражей
Бейлис под стражей

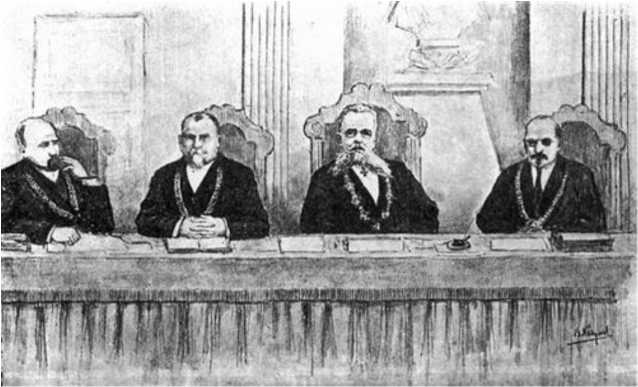 Состав суда. Второй справа судья Ф. А. Болдырев
Состав суда. Второй справа судья Ф. А. Болдырев
 Судья Ф. Болдырев
Судья Ф. Болдырев
 Прокурор О. Ю. Виппер
Гражданский обвинитель Г. Замысловский
Гражданский обвинитель А. С. Шмаков
Прокурор О. Ю. Виппер
Гражданский обвинитель Г. Замысловский
Гражданский обвинитель А. С. Шмаков
 Отчёт в «Киевской мысли» о 14-м дне процесса (допрос Марголина и его очная ставка с Верой Чеберяк, с портретами Болдырева, Марголина и Веры Чеберяк)
Отчёт в «Киевской мысли» о 14-м дне процесса (допрос Марголина и его очная ставка с Верой Чеберяк, с портретами Болдырева, Марголина и Веры Чеберяк)
 Суд присяжных
Суд присяжных
 Женя Чеберяк
Женя Чеберяк
 Вера Чеберяк
Вера Чеберяк
 Сообщники Веры Чеберяк
Сообщники Веры Чеберяк
 Общая картина заседания суда
Общая картина заседания суда
 Полный судебный отчет
Полный судебный отчет

 Бейлис с семьей после суда
Бейлис с семьей после суда
 Бейлис с семьей после освобождения
Бейлис с семьей после освобождения
 В. Короленко на процессе Бейлиса. Рисунок
В. Короленко на процессе Бейлиса. Рисунок