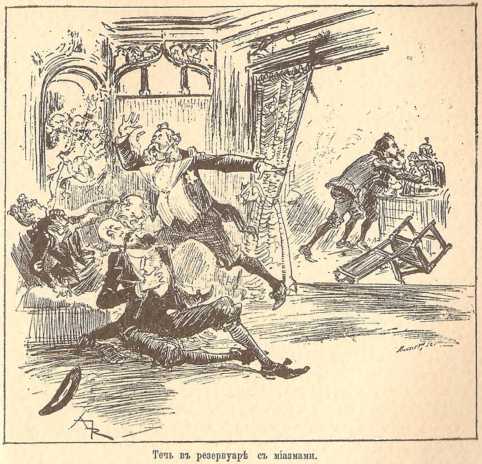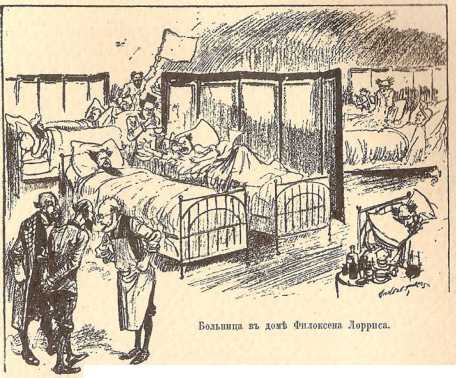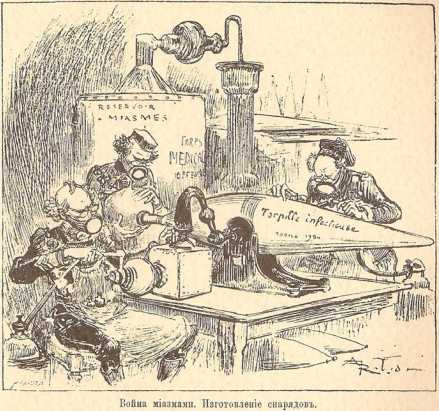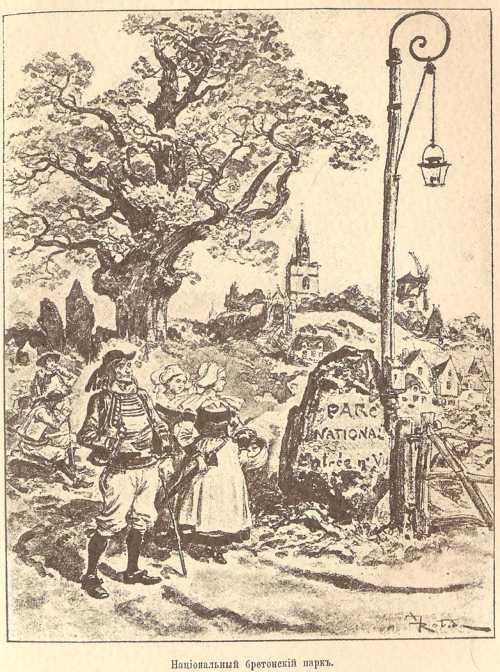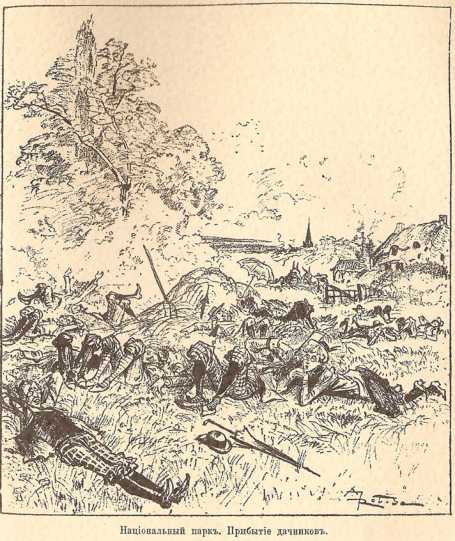Дозволено цензурою. Спб., 7 Ноября 1893 г.
ДВАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ.
Текст и рисунки А. РОБИДА.
Перевод В. Ранцова.
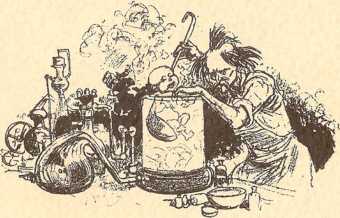
Бесплатное приложение к «Вестнику Иностранной Литературы» 1894 г.

Часть первая
I
 Несчастный случай с большим резервуаром электричества под литерой N. — Искусственная оттепель. — Великий ученый Филоксен Лоррис излагает своему сыну средство, с помощью которого рассчитывает побороть в нем, неблогоприятное наследственное предрасположение. — Родительские увещания по телефоносколу прерываются неожиданно.
Несчастный случай с большим резервуаром электричества под литерой N. — Искусственная оттепель. — Великий ученый Филоксен Лоррис излагает своему сыну средство, с помощью которого рассчитывает побороть в нем, неблогоприятное наследственное предрасположение. — Родительские увещания по телефоносколу прерываются неожиданно.
После полудня 12 декабря 1955 года, вследствие какой-то случайности, причина которой так и осталась невыесненной, разразилась над всею западной Европой страшная электрическая буря, — так называемое торнадо. Причинив глубокие пертурбации в правильном течении общественной и государственной жизни, буря эта принесла с собою много неожиданностей лицам, которых мы будем иметь честь вскоре представить читателю.
За две недели перед тем выпало много снега, покрывшего всю Францию, за исключением узкой полосы на самом юге, густым, великолепным, но чрезвычайно неудобным белым ковром. Министерство воздушных и земных путей сообщения, как и следовало ожидать, тотчас же предписало произвести искусственную оттепель. Техническая команда при большом резервуаре электричества под литерой N (в Ардешском департаменте), которой было поручено выполнить распоряжение министерства, успела, менее чем в пятичасовой срок, освободить весь северо-запад европейского материка от этого снега — белого савана, печально закрывавшего в былые времена по целым неделям и месяцам всю природу, и без того уже окутанную пасмурной зимнею мглою.
Современная наука сравнительно лишь недавно снабдила человека могущественными орудиями, доставившими ему возможность победоносно бороться со стихиями. Блогодаря ей он сумел подчинить себе даже беспощадную зиму, ледяную суровость которой должен был прежде выносить скрепя сердце, кутаясь и законопачиваясь у себя дома возле хорошо нагретой печи. Теперь метеорологические обсерватории не довольствуются уже пассивным записыванием перемен погоды. Имеё под рукой все необходимое для борьбы с неудобными или несвоевременными капризами атмосферы, обсерватории эти берут на себя активную роль и, по возможности, исправляют недосмотры матери-природы, которая позволяет погоде слишком уже своевольничать.
Как только свирепые аквилоны начинают приносить к нам холодное веёние полярных льдов, наши электротехники немедленно противопоставляют северным воздушным течениям другие, более сильные течения в противоположном направлении, заворачивающие их в громадные спирали. Образованные таким образом искусственные циклоны посылаются в африканскую Сагару, или же в раскаленные азиатские пустыни. Там они нагреваются сами и, в блогодарность за это, разражаются проливными дождями. С помощью таких остроумных приспособлений удалось возвратить земледелию бесплодные до тех пор пустыни в Африке, Азии и Австралии. Прежние раскаленные нубийские и аравийские пески стали земным раем, приносящим, блогодаря обильному орошению, богатые жатвы. Зато, когда летнее солнце нещадно печет европейские равнины, доводя чуть не до кипения кровь и мозги злополучных горожан и крестьян, искусственные воздушные токи устанавливают освежающее сообщение между Европой и Ледовитым океаном.

Погода, по прежнему, старается поддержать свою репутацию ветренности, но её капризы, иногда столь вредные и разрушительные, не имеют уже теперь для человека значения приговоров судьбы, против которых немыслима никакая борьба. Человек не уподобляется более смиренному, робкому, запуганному насекомому, которое, чувствуя себя беззащитным перед слепою яростью стихий, безропотно предается воле рока. Для него не существует теперь безусловной необходимости выносить периодические ужасы долгих зим или скоропреходящие, но разрушительные порывы бурь, вихрей, ураганов и землетрясений.
Роли переменились. Природа, покоренная человеком, должна сама сообразоваться с разумною его волей, научившейся изменять по собственному усмотрению и по мере надобности вечный круговорот времен года. Принимая во внимание потребности разных местностей земного шара, каждой из них ежедневно отпускается надлежащее количество теплоты, прохлады, или орошения. Таким образом устраняются и чрезмерные засухи, и излишек сырости. Современное человечество не расположено без всякого разумного основания дрожать от стужи, или жариться в собственном соку.
Упорядочив времена года, их распределили также более выгодным образом. С помощью электрических приборов для улавливания дождевых туч получилась возможность по произволу управлять их движениями. Ливни, грозящие помешать уборке хлебов, перехватываются на пути и отводятся туда, где земледелие нуждается во влаге, чтоб напоить жаждущие нивы.
В 1953 году минуло всего лишь каких нибудь пятнадцать лет с тех пор, как науке удалось достигнуть таких дивных успехов, а между тем успехи эти во многих местностях совершенно изменили лицо земли. Слывшие почти необитаемыми, пустыни, покрытые до тех пор лишь бесплодными песками да выветрившимися каменными глыбами, среди которых с трудом прозябало малочисленное население, мучимое голодом и жаждой, расцвели пышной кипучей жизнью.
Древняя Нубия воскресла. Выжженные палящим солнцем персидские степи, усеённые развалинами, воспоминание о которых не сохранилось лишь на скрижалях истории, оделись снова роскошным покровом зелени. Иссохшие было сосцы праматери народов Азии, опять обильно питают своим млеком род человеческий.

Окончательное подчинение себе электричества, этого таинственного двигателя миров, дозволило человеку изменить казавшееся неизменным, преобразовать порядок вещей, существовавший с незапамятных времен, усовершенствовать созданное и переделать то, что, по видимому, должно было остаться для людей навсегда недосягаемым.
Поработив электричество, человек приобрел себе в нем могущественного слугу. Дыхание вселенной, жизненная струя, пробегающая по жилам земным и пронизывающая эфир беспредельного пространства прихотливыми молниеносными своими зигзагами, — электричество было уловлено, заковано в цепи и приручено.
Оно выполняет теперь приказания человека, когда-то с ужасом взиравшего на проявления непонятного ему стихийного могущества. Оно смиренно и покорно идет туда, куда ему предписывают, работает и трудится для людей.
Электричество служит неистощимым источником тепла, света и механической силы. Порабощенная его энергия приводит в движение как громадные скопления колоссальных машин на миллионах заводов и фабрик, так и самые нежные механизмы усовершенствованных физических приборов. Оно мгновенно передает звук человеческого голоса с одного конца света в другой, устраняет предел человеческому зрению и носит по воздуху своего повелителя, человека, — неуклюжее существо, казавшееся осужденным ползать по земле, словно гусеница, не дожившая еще до превращения в бабочку.
Недовольствуясь тем, что является могущественным орудием производства, ярким светочем, рупором, передающим голос на какие угодно расстояния на суше, через моря и межпланетные пространства
[1]), электричество выполняет кроме того еще тысячи различных других обязанностей. Между прочим оно служит в руках человека также оружием, — грозным смертоносным оружием на полях сражений…
Раб, которого мы принудили доставлять нам так много разнообразных услуг, оказывается, однако, ещё не вполне прирученным. Цепи, в которые он закован, недостаточно прочны для того, чтоб устранить всякую возможность неповиновения и бунта. За электричеством необходим строжайший неусыпный надзор, так как малейшее упущение, — ничтожнейший недосмотр, или невнимательность, могут доставить ему случай к неожиданному яростному нападению на беспечного своего властелина, или даже к грозному пробуждению свирепой энергии, способной вызвать стихийную катастрофу.

Как-раз 12 декабря именно и произошло, к несчастью, такое случайное упущение, вызванное мгновенной рассеённостью кого-нибудь из дежурных электротехников, заведывавших искусственной оттепелью, которая так успешно производилась технической командой при главном электрическом резервуаре под лит. N. В то самое мгновенье, когда эта метеорологическая операция была уже благополучно окончена, обнаружилась течь в большом резервуаре электрической энергии. Это произошло до такой степени внезапно и с такой неудержимой стремительностью, что команде удалось из двенадцати запасных магазинов спасти только два. Вся электрическая энергия десяти магазинов вырвалась на свободу и произвела страшную катастрофу. Внезапное нарушение атмосферного равновесия неизбежно должно было вызвать опустошительную электрическую бурю, — грозное торнадо, не составляющее, впрочем, редкости в электрических центрах, которым, несмотря на все меры предосторожности и предусмотрительности, ежегодно приходится переживать по несколько таких бурь.
Надо поневоле мириться с этими катастрофами, точно также как и с тысячами крупных и мелких несчастных случайностей, которым мы подвергаемся, лавируя в хитросплетенных сетях нашей архинаучной цивилизации. Торнадо, исходившее из резервуара N (под № 17), распространялось сперва прихотливыми извилинами в линейном направлении. При этом, на пути торнадо, из числа разговаривавших по телефону, несколько человек были убиты наповал, другие же парализованы электрическим ударом. Затем свободный, или, как принято его называть, неправильный электрический ток, притянув к себе с непреодолимою силой соседние запасы электричества, находившегося в скрытом состоянии, приобрел быстрое вращательное движение, превратился в циклон, причинил множество несчастных случайностей в местностях, через которые пробежал и произвел ужасающие пертурбации в обычном течении частной и общественной жизни. Эти беспорядки неукоснительно привели бы к какому-нибудь страшному местному катаклизму, если б с первого же момента не были приведены в действие в угрожаемых местностях все приспособления для улавливания свободных токов. Электротехники, однако, не дремали и торнадо, наделав по обыкновению множество более или менее крупных бед, должно было рассеёться. Неправильный ток уловили и отвели куда следует, прежде чем он успел причинить особенно крупную катастрофу.

В Париже, в великолепном доме XLII общины на саннуасских холмах, отец читал строгий выговор сыну как раз в то время, когда разразилось торнадо. Отец этот был никто иной, как знаменитой Филоксен Лоррис, — великий изобретатель, — известный ученый, — специалист по всем отраслям знания, — туз из тузов современной научной промышленности.
Филоксен Лоррис совсем не похож на прежних типичных робких и добродушных ученых, которые даже и с очками обыкновенно ничего не видали у себя под носом. Рослый, дородный, краснощекий и бородатый Филоксен — человек с самоуверенными решительными манерами, энергическими, быстрыми движениями и несколько грубоватым тоном голоса. Родители его, мирные простолюдины, жили изо дня в день, или лучше сказать прозябали, на какие-нибудь ничтожные 10.000 руб. ежегодного дохода. Он сам создал выдающееся свое положение в свете. Окончив первым, сначала Политехническую школу, а затем Международный Институт Научной Промышленности, он отклонил предложения группы финансистов, намеревавшихся его эксплуатировать общепринятым порядком и выпустил сам четыре тысячи акций по тысяче двести пятидесяти рублей каждая, для эксплуатации гениальных своих идей в течение ближайшего десятилетия. Блегодаря громкой репутации, которою он пользовался уже и в то время, все эти акции были разобраны в самый день выпуска.
Заручившись таким образом пятью миллионами франков, Филоксен Лоррис тотчас же построил большой завод по совершенно новому, заранее обдуманному и тщательно изученному плану. Барыши от этого предприятия оказались такими значительными, что, на обеспеченную себе по договору крупную их часть, Лоррис приобрел возможность еще до истечения четвертого года скупить все свои акции. С тех пор дела его пошли по истине блистательным образом. Он обзавелся превосходно организованной лабораторией для новых исследований, окружил себя сотрудниками из первоклассных ученых и последовательно пустил в ход дюжину колоссальных, необычайно выгодных промышленных предприятий, в основе которых лежали собственные его гениальные открытия и изобретения.
Слава, почести и деньги сыпались градом на счастливого Филоксена Лорриса. Деньги нужны были ему в качестве оборотного капитала для грандиозных предприятий: фабрик, заводов, лабораторий, пробных мастерских и бесчисленного множества контор, разбросанных по всему свету. Разрабатывавшиеся уже предприятия доставляли в изобилии фонды для осуществления новых предприятий, только что задуманных и не прошедших еще через горнило практического опыта. Что касается до почестей, то Филоксен Лоррис ими не пренебрегал. Он сделался вскоре членом всех академий и научных институтов, а также кавалером многочисленных орденов как старой Европы и зрелой Америки, так и юной Океании.
Сооружение линии прямого сообщения между Парижем и Пекином по пневматическим трубам из металлизированной бумаги доставило Филоксену Лоррису сан китайского мандарина с изумрудным шариком на папке и титул князя Тифлисского в Закавказье. К тому времени он был уже графом Лоррисом в Северо-Американских Соединенных Штатах (где несколько времени тому назад признано было необходимым узаконить пожалование дворянского достоинства за важные заслуги), бароном Придунайского королевства и т. д. и т. д. Более всего, разумеется, гордился он просто на-просто тем, что был Филоксеном Лоррисом. Это не мешало ему, однако, выставлять при случае длинную вереницу своих титулов, производившую всегда сильное впечатление в объявлениях и рекламах.

Само собою разумеется, что Филоксен Лоррис был по уши погружен в научные исследования и коммерческие предприятия. Несмотря на это, он, благодаря изумительной деётельности, находил время наслаждаться жизнью и доставлять кипучей своей натуре все истинные наслаждения, доступные в здешнем мире богатому человеку, пользующемуся здравым умом в здравом теле. Женившись в промежутке между двумя открытиями и изобретениями, он прижил от этого брака всего только одного сына, Жоржа Лорриса, которому, как уже упомянуто, и читал строгий выговор в тот самый день, когда разразилось торнадо.
Жорж Лоррис — красивый молодой человек лет двадцати семи, или двадцати восьми, наследовавший от отца крупный рост и крепкое сложение, обладал, в качестве особой приметы, длинными светлорусыми усами, придававшими его лицу характерное энергическое выражение. Он ходит взад и вперед по комнате, отвечая иногда приятным, звучным голосом на родительские увещания.
Отец его в эту минуту находится, впрочем, в тысяче двухстах верстах от Парижа, в Каталонских горах, в доме главного инженера принадлежащих ему ванадиевых рудников, но является словно живой на зеркальной пластинке телефоноскопа, этого дивного изобретения, существенно улучшившего простой телефонограф и недавно лишь доведенного до высшей степени совершенства самим Филоксеном Лоррисом.
Это изобретение не только дозволяет вести на произвольно далеком расстоянии разговор с каждым из абонентов „Электрического сообщения по сети всемирных проводов", но также и видеть своего собеседника в той обстановке, в которой он на самом деле находится в момент разговора. Таким образом уничтожается до известной степени расстояние, к великому счастию семейных кружков, члены которых нередко разбросаны в наш деловой век по всему свету, и несмотря на то, могут теперь каждый вечер обедать вместе, хотя и за различными столами, отстоящими иной раз на несколько тысяч верст друг от друга, но тем не менее образующими в совокупности как бы один общий семейный стол.
В телепластинке, как сокращенно называют у нас телефоноскоп, виден Филоксен Лоррис, тоже прогуливающийся по комнате, с сигарой в зубах и заложив руки за спину. Он говорит:
— Дело в том, любезнейший, что все мои попытки обработать и улучшить твои мозги остались тщетными. Вместо того, чтобы приобрести такого сына, какого я, Филоксен Лоррис, был вправе ожидать и требовать, т. е. усовершенствованного, утонченного культурой, одним словом самого высокопробного Лорриса, я получил… кого же, спрашивается?..
— Жоржа Лорриса! — не спорю, славного малого, очень и очень неглупого… но… и всё тут! Ты ведь теперь только поручик химической артиллерии, а между тем, скажи-ка на милость, сколько тебе лет?
— Увы, целых двадцать семь! — отвечал Жорж, обращаясь с улыбкою к зеркалу телефоноскопа.
— Я ведь, душа моя, не смеюсь, так и ты постарайся быт хоть немного посерьезнее! — с горячностью возразил Филоксен Лоррис, энергически пытаясь раскурить свою сигару.
— Она у тебя погасла, — заметил ему сын. — Надеюсь, ты извинишь за дальностью расстояния, что я не предлагаю тебе спичек?
— Видишь-ли, — продолжал отец, — я в твои годы пустил уже в ход первые мои крупные промышленные предприятия; я был уже знаменитым Филоксеном Лоррисом, тогда как ты довольствуешься ролью папенькиного сынка и позволяешь своей жизни протекать в мирном бездействии… Скажи, чего ты в сущности достиг собственными твоими заслугами? Ты не ознаменовал себя решительно ничем; окончил все высшие учебные заведения, не выделяясь из толпы простых смертных, и теперь служишь в химической артиллерии в чине какого-то поручика…
— Что же прикажете делать! — возразил молодой человек, в то время, как его отец, в пластинке телефоноскопа, сердито оборачивался к нему спиной и уходил в противоположный конец своей комнаты. — Чем же я виноват, папаша, что ты открыл, изобрел и устроил решительно все, что было можно открывать, изобретать и устраивать! Я слишком поздно явился на свет Божий и нашел уже его отлично улаженным. Ты сам предвосхитил у нас все и поставил нас в невозможность придумать что нибудь крупное.
— Пустяки!.. Современная наука еще в младенчестве и только лишь начинает лепетать. В будущем столетии станут смеёться над нашим невежеством! Впрочем, мы с тобой отклоняемся теперь от дела… Милейший мой Жорж!
Сожалею до крайности, что ты, благополучно отслужив срок воинской повинности, всё-таки, кажется, не можешь с честью-продолжать мои работы, т. е. заведовать большой моей лабораторией, — лабораторией Филоксена Лорриса, пользующейся столь заслуженной всемирной известностью, — и выполнять обязанности главного директора двухсот заводов и фабрик, эксплуатирующих мои открытия.
— Разве ты собираешься уж удалиться на покой?
— Ни под каким видом! — энергически воскликнул Филоксен. — Я имел только в виду приобщить тебя, как говорится, к моим работам, — идти вместе с тобою на поиски новых открытий, — заниматься новыми исследованиями и опытами… Как мало сделано еще мною по сравнению с тем, что можно было бы сделать двум таким людям, как я, которые стали бы думать и действовать сообща!.. К несчастью, друг мой, ты не можешь быть вторым Филоксеном. Жаль! Очень жаль!.. Я не обратил своевременно внимания на законы проявления атавистической наследственности и не собрал необходимых справок!.. Что-ж делать, не даром ведь говорят: „молодо зелено“! Я хоть и вышел первым из Международного института научной промышленности, но всё-таки оказался легкомысленным юнцом! Да, милый сынок, надо сознаться, что нельзя вполне возлагать на тебя ответственность за недостаточно научное строение твоего мозга. Кругом виноватой оказывается в этом твоя мать или, лучше сказать, виноват один из её предков… Я слишком поздно навел необходимые справки, а потому, пожалуй, часть вины падает также и на меня. Тем не менее я произвел строгое расследование и открыл в семье твоей матери…
— Что же ты открыл? — спросил очевидно заинтересованный Жорж Лоррис.
— Проследив всего только три предшествовавших поколения, я нашел там из рук вон дурную отметку, пагубный порок, страшную язву, способную передаваться по наследству…
— Язву?
— Да! Видишь-ли, прапрадед твоей матери, т. е. твой пра-прапращур, был сто пятнадцать лет тому назад, приблизительно в 1840 году…
— Чем же он был? Что ты хочешь сказать? Ты меня пугаешь!..
— Художником! — воскликнул тоном глубокого соболезнования Филоксен Лоррис, бессильно опускаясь в кресла.
Жорж Лоррис не мог удержаться от смеха, вероятно, показавшегося его папаше не совсем почтительным. По крайней мере, Филоксен Лоррис, словно укушенный змеей, вскочил на ноги в пластинке телефоноскопа.
— Да, это был художник! — воскликнул он, — и к тому же художник-идеалист из школы тогдашних туманных романтиков, — мечтатель, вечно гонявшийся за призрачными созданиями своей фантазии, не имевшими прочной реальной подкладки! Ты понимаешь, что я навел на этот счет самые точные справки… Желая в точности определить размеры постигшего меня бедствия, я советовался с величайшими из современных художников, с фотоживописцами нашей Академии… Теперь я знаю, как нельзя лучше, кто такой был твой прапрапрадед!.. Небось, он не изобрел бы тригонометрии!.. По всему видно, что в его распоряжении имелись такие же легковесные ветреные мозги, как и твои, — лишенные, опять таки, подобно твоим мозгам, извилин серьезности. От него именно ты и наследовал недостаток способностей к точным наукам, который я всегда ставил тебе в укор. Да; тут положительно действует атавизм! Каким образом, спрашивается теперь, уничтожить влияние возродившегося в тебе прапрапрадеда? Как убить этого злодеё? Надеюсь, ведь ты понимаешь мое решение бороться с ним и убить его во что бы ни стало…

— Что то мудрено убить человека, умершего более ста лет тому назад! — заметил улыбаясь Жорж Лоррис. — Предупреждаю тебя кстати, папаша, о твердом моем намерении защищать предка, горделивого твоего презрения к которому я вовсе не разделяю.
— Я тем не менее решил его уничтожить, разумеется, уничтожить нравственно, так как злодей, разрушивший мои планы, оказывается материально недосягаемым! Во всяком случае я намерен бороться с его зловредным влиянием и во что бы ни стало одержать над ним верх… Само собой разумеется, сын мой, что я не хочу от тебя отрекаться. Бедное дитя! Ты ведь не столько виноват, сколько несчастлив! Все-таки же ты, ведь, моя плоть и кровь… Нет, я от тебя не отказываюсь!.. Правда, я не могу тебя переделать или хотя бы отдать снова, как это мне приходило было на ум, лет на пять, или на шесть в Интенсивно-научный институт…
— Благодарю покорно, я предпочту употребить эти годы иначе! — с ужасом воскликнул Жорж.
— У меня есть другой план, несравненно лучший, так как ведь ты, чего доброго, не особенно много вынес бы даже из этого института!..
— В чем же заключается этот лучший план?
— Я тебя женю и спасу нас всех этой женитьбой…
— Женитьбой? — с изумлением повторил Жорж.
— Пойми же, ведь речь идет о строго обдуманном разумном браке, в котором я позабочусь, чтобы все выгодные шансы были на нашей стороне. Мне необходимы четыре внука или внучки (я предпочел бы, впрочем, мужеский пол) — одним словом четыре отпрыска от Филоксено-Лоррисовского древа. Одного я сделаю химиком, другого естествоведом, третьего врачом, а четвертого механиком. Взаимно пополняя друг друга, они увековечат научную династию Филоксено-Лоррисов… Промежуточное звено между ними и мною я считаю неудавшимся…
— Покорнейше благодарю!..
— Совершенно неудавшимся! Это не имеющий рыночной ценности продукт, который остается только списать со счетов магазина. Не возлагая никаких надежд на промежуточное звено, я устраиваюсь так, чтоб передать дело из рук в руки непосредственно внучатам. В этом-то именно и заключается мой проект. Приступая к его осуществлению, я не намерен терять попусту время, а потому прежде всего должен женить тебя, любезнейший!

— Надеюсь, мне позволительно будет осведомиться, на ком именно?
— Это не твое дело!.. К тому же я и сам пока еще не знаю хорошенько, на ком тебя женить. Надо ведь, приискать невесту с истинно-научными мозгами, по возможности достаточно зрелую для того, чтоб в голове у неё не было и тени ветреных мыслей!..
Жорж собирался что-то ответить, когда по всему дому пробежало первое электрическое сотрясение, вызванное несчастным случаем с резервуаром за № 17. Юный поручик бросился в кресла и поспешно поднял ноги вверх, чтоб избежать соприкосновения с полом, передававшим новые сотрясения. Что касается до его отца, то он остался совершенно спокойным.
— Видишь, какой у тебя ветер в голове! Ты не позаботился надеть изолированные подошвы и путешествуешь таким неосторожным образом по дому, пронизанному во всех направлениях сетью проводников, где электричество течет, словно кровь в человеческих жилах! Сейчас подвяжи себе подошвы и слушай внимательно, что я тебе говорю! У вас там где-нибудь по соседству обнаружилась течь из электрического резервуара. Это очень неприятный казус, последствий которого заранее предвидеть нельзя… Однако же, мне некогда!.. До свидания. К тому же в сообщениях между нами начинается уже путаница…
Действительно, образ Филоксена Лорриса, чрезвычайно ясно отражавшийся до тех пор в теле-пластинке, внезапно ослабел. Контуры его утратили свою определенность и вскоре совершенно рассеёлись, уступив место хаотическому сборищу неёсных, трепетных пятен.

II
 Свободный ток. — Катастрофа с туренским клубом воздухоплавания. — Знакомство по телефопоскопу с семьей старшего инспектора альпийских маяков, инженера Лакомба.
Свободный ток. — Катастрофа с туренским клубом воздухоплавания. — Знакомство по телефопоскопу с семьей старшего инспектора альпийских маяков, инженера Лакомба.
Торнадо было в полном разгаре. Свободный ток сорвавшегося, если можно так выразиться, с цепи электричества — грозной могущественной стихийной силы, которая с негодованием лишь подчинялась человеку, дерзнувшему наложить на нее свою властную руку, — охватывал теперь вихревыми своими струями приблизительно пятую часть Европы и беспощадно свирепствовал на всем этом протяжении. В течение целого уже часа все электрические сообщения были прерваны, что, разумеется, вызвало величайшее расстройство как в частных так и в общественных делах. Сообщения по воздуху тоже прекратились. Воздушные корабли и экипажи всевозможных наименований почти мгновенно исчезли из небесной выси, где бушевал с обычной своей бесцеремонностью ураган. Несмотря, однако, на то, что все воздушные суда, по первому же сигналу своих электрометров, приняли все возможные меры предосторожности, произошло несколько крушений. Воздушные кабриолеты, оказавшиеся на пути электрического смерча, в первое мгновение после того как он вырвался из резервуара и проносился над Лионом, были уничтожены бесследно в буквальном значении этого слова, так как от них не уцелело ни единой щепы. Несколько воздушных кораблей, захваченных врасплох, прежде чем успели окружить себя облаком изолирующего газа, играющего роль масла в бурях на море, упали стремглав с вышины вследствие внезапной поломки механизмов. При этом пассажиры и экипаж были разумеется убиты, или, в наиболее благоприятном случае, тяжело ранены.
Самая страшная воздушная катастрофа произошла между Орлеаном и Туром. Туренское общество воздухоплавания ежегодно устраивает, как раз 12 июля, большую гонку на призы. От тысячи до тысячи двухсот воздушных экипажей всяких размеров и форм с интересом следили и на этот раз за перипетиями большого состязания на почетный приз, в котором участвовало двадцать восемь быстроходных „воздушных стрел“. Внимание было до такой степени сосредоточено на гонке, что в большинстве воздушных экипажей даже не заметили, как стрелка электрометра начала вдруг вертеться словно угорелая. Среди громких ура и возгласов со стороны закладчиков не слышали даже сигнала тревоги, поданного звонками электрометров.
Беда была так сказать уже на носу, когда ее наконец усмотрели. Тогда вся масса воздушных экипажей ринулась в самом фантастическом беспорядке вниз, чтоб как нибудь укрыться от настигавшего ее урагана. Более чем тысячная толпа разнообразнейших летательных снарядов перепуталась в хаотическую груду, причем дело не обошлось без столкновений, сопровождавшихся во многих случаях серьезными авариями. Торнадо, налетевшее с быстротою молнии, унесло с неудержимою силой все, что не успело своевременно спастись бегством. Злополучные воздушные корабли, захваченные ураганом, были несколько секунд спустя брошены в изуродованном виде наземь в двухстах верстах от Тура. Счастье еще, что большие воздушные суда, на которых находились члены воздухоплавательного клуба со своими семьями, были снабжены новоизобретенным прибором, соединявшим электрометр и резервуар изолирующего газа с автоматически действующим клапаном. Как только отклонение стрелки электрометра перешло за известный предел и указало существование в атмосфере опасного напряжения, клапан открылся сам собою, и воздушные суда, окруженные надежным изолирующим облаком, были в состоянии благополучно достигнуть пристани клуба, выдержав, впрочем, на пути сильнейшую качку.

Вернемся, однако, в Париж, в великолепный дом Филоксена Лорриса. Весь саннуасский квартал, в котором находился этот дом, представлял во время торнадо по истине ужасающее зрелище. Отовсюду сверкали страшные молнии, а кругом раздавался оглушительный грохот, раскаты которого, отражаясь от холмов многоголосым эхо, замирали, казалось, лишь для того, чтоб возродиться снова с удвоенною силой.
Жорж Лоррис в изолирующих туфлях и перчатках смотрит из окна своей комнаты на бушующую грозу. Он понимает, что при таких обстоятельствах остается только вооружиться терпением и в благоразумном бездействии ожидать, пока беснующийся свободный ток будет, наконец, уловлен.
Вдруг, после крещендо электрических разрядов и ужасающего грохота, сопровождавшего грандиознейшие столбовые и змеевидные молнии, природа как бы испустила вздох радостного облегчения, и всюду мгновенно восстановилось спокойствие. Геройское мужество инженеров и нижних чинов электротехнического поста № 28 в Амьене разбило, наконец, торнадо и, захватив свободный ток, отвело его в соответственный резервуар. Помощник старшего инженера и тринадцать рядовых пали жертвами служебного своего долга, но за то электрическая буря прекратилась и новых катастроф более уже не предстояло впредь до следующей ближайшей несчастной случайности.
Опасность была устранена, но и по миновании её не удалось тотчас же устранить причиненные бурею беспорядки в электрических сообщениях. На зеркальной пластинке телефоноскопа у Жоржа Лорриса, как и на прочих телепластинках района, охваченного электрическим смерчем, мелькали с баснословной быстротой тысячи хаотических образов. Звуки, приносившиеся отовсюду, наполняли весь дом шумом и гулом, походившим на завывание новой, еще более свирепой бури. Можно представить себе что такое это было, принимая во внимание, что каждый телефон добросовестно передавал все звуки, слышавшиеся по соседству от приемных аппаратов на протяжении 1.600 квадратных миль. Звуки эти, слагаясь с ужасающей силой в один общий шум, воспроизводились во всей их совокупности каждым из телефоноскопов.

Сам по себе этот факт не представлял ничего удивительного. Электрическая буря не могла не произвести серьезных пертурбаций на центральной телефоноскопической станции. Там, как и на главных линиях, изоляция проводников кое-где пострадала, проволоки местами расплавились и вступили в металлическое соединение друг с другом. Все это разумеется были мелочи, неспособные причинить самомалейшого вреда никому, кроме тех, кто вздумал бы разве прикоснуться к электрическим приборам. Жорж Лоррис, развернув книжку с фотографическими иллюстрациями, уселся в кресло с твердым намерением терпеливо выждать окончания телефоноскопического кризиса. Оно не заставило себя долго ждать. Минут через двадцать адский шум внезапно замолк. Центральная станция отвела неправильные токи в землю. Тем не менее на исправление всех повреждений по линии требовалось еще не менее двух или трех часов, а в ожидании этого каждый из аппаратов оказался в постоянном сообщении с каким-либо другим теле. Это случайно установившееся сообщение не могло быть прервано раньше приведения станционных приборов в совершенный порядок.
В пластинке телефопоскопа у Жоржа Лорриса хаотический беспорядок постепенно улегся. Фигуры перестали мелькать и сменяться одна другою, а взамен того начали принимать более определенные очертания. Наконец получилось отчетливое и совершенно ясное изображение, неизменно остановившееся в зеркале.
Это была простенькая небольшая комнатка с светленькими обоями, вся меблировка которой состояла из нескольких стульев и стола, заваленного книгами и тетрадями. На одном из стульев возле камина лежал женский рабочий несессер. В комнатке никого не было, кроме молодой девушки, которая, забившись в угол и припав почти на колени, казалась все еще до нельзя испуганной. Она закрывала глаза руками и отнимала руки от лица лишь для того, чтобы с отчаянием затыкать себе уши.
Жорж Лоррис обратил сперва внимание только на грациозный, стройный стан девушки, изящные маленькие её ручки и великолепные светло-русые волосы, пришедшие слегка в беспорядок. Желая ободрить незнакомку, казавшуюся парализованной от ужаса, он решился с нею заговорить и сначала сказал потихоньку:
— Извините меня, сударыня…
Девица, очевидно, не слышала этих слов. Уши у неё были заткнуты, а страшный шум, который только что успел прекратиться, еще отдавался в голове.
— Сударыня! — громко крикнул ей тогда Жорж. Молодая девушка, все еще продолжая затыкать уши, не трогалась с места и ограничилась тем, что, повернув голову, взглянула с растерянным видом на свой телефоноскоп.

— Опасность совершенно миновала, сударыня! Успокойтесь, — ласково продолжал Жорж. — Надеюсь, вы меня слышите?
Она отвечала лишь утвердительным кивком головы.
— Теперь нечего более опасаться. Электрическая буря прекратилась…
— Убеждены вы, что эти ужасы не возобновятся? — осведомилась молодая девушка. Голос её так дрожал, что Жорж Лоррис с трудом лишь понял, что именно она хотела ему сказать.
— Они благополучно окончились. Все приведено в порядок, и страшный шум, который, по-видимому, вас так сильно встревожил, совершенно уже прекратился…
— Ах, сударь, как я перепугалась! Вы и представить себе не можете, как мне было страшно! — вскричала молодая девушка, едва осмеливаясь выпрямиться.
— Да ведь на вас нет изолирующих туфель! — заметил укоризненным тоном Жорж, увидев при её движении маленькую ножку, обутую в крохотный башмачок.
— Нет, туфли остались наверху в уборной! Я не посмела сходить туда за ними.
— Да ведь вас, бедняжку, могла убить молния, если б ваш дом оказался как раз на пути вырвавшегося на свободу электрического тока! Будьте вперед осторожнее! Такие серьезные случайности, как нынешнее торнадо, сравнительно редки, но всё-таки необходимо быть всегда наготове и держать где-нибудь поблизости предохранительные средства, которые наука дает нам в руки… или надевает на ноги… против опасностей, создаваемых ею же самой!..
— Пожалуй, что наука поступила бы гораздо лучше, если б создавала поменьше поводов к опасности! — сказала, слегка надув губки, молодая девица.
— Признаюсь, что это и мое мнение, — подтвердил улыбаясь Жорж Лоррис. — Вижу, сударыня, что вы начинаете успокаиваться. Вы бы хорошо сделали, если б потрудились сейчас же сходить за изолирующими туфлями.
— Разве опасность еще не миновала?
— Электрическая буря совершенно рассеялась, но она произвела всюду беспорядки, которые могут повлечь за собою кое-где местные несчастные случаи. Торнадо повредило без сомнения в большей или меньшей степени все линии электрических сообщений. В следствие индукции могли образоваться скопления электричества в скрытом состоянии, способные внезапно превратиться в свободную энергию и т. п. Надо еще часок — другой соблюдать все меры благоразумной предосторожности.
— Бегу за изоляторами! — вскричала девица.
Минуты через две она вернулась в изолирующих туфлях, надетых поверх башмачков. Войдя в комнату, она прежде всего бросила взгляд на телепластинку и была, по-видимому, очень изумлена, увидев там опять Жоржа Лорриса.
Находя её удивление совершенно понятным, молодой человек счел долгом объясниться.
— Прошу вас, сударыня, принять во внимание, — сказал он, — что торнадо произвело маленькую путаницу в телефоноскопических сообщениях. Пока на главной станции чинят испорченные проводы, исправляют поврежденную изоляцию и т. п., пришлось наугад соединить все приборы попарно друг с другом. Судьбе угодно было установить между нами сообщение, но, разумеется, лишь не надолго. Поэтому прошу вас не пугаться… Позвольте, однако, вам представиться: Жорж Лоррис из Парижа, инженер, каких нынче развелось много!

— Эстелла Лакомб со станции Лаутербруннен в Швейцарии. Тоже инженер, или почти инженер, так как мой отец, здешний инспектор горных маяков, хочет определить меня на службу к себе в участок.
— Очень благодарен, сударыня, счастливому случаю, позволившему мне хоть немного вас успокоить. Вы кажется, очень перепугались?
— Да, очень! Я осталась дома с одной лишь нашей служанкой Гретли, которая еще пугливее меня. Она теперь уж целых два часа сидит в кухне, забившись в угол и накрыв себе голову платком. До сих пор еще она и не шелохнулась… Отец уехал осматривать маяки, а мамаша отправилась в четверть первого пополудни с поездом пневматической дороги в Париж, купить там кое-какие мелочи… Дай Бог только, чтоб не случилось какого-нибудь несчастья с пневматическими трубами! Мамаше следовало вернуться в семнадцать минут шестого, а теперь, ведь, уже тридцать пять минут восьмого…
— Отправление пневматических поездов приостановлено на время электрического урагана, но запоздавшие поезда будут безотлагательно отправлены, и ваша мамаша, без сомнения, не замедлит вернуться…
Эстелла Лакомб очевидно еще не совсем успокоилась. Она вздрагивала при малейшем шуме и, чтобы взглянуть на небо, от времени до времени подходила к окну, из которого, сколько можно судить, открывался вид на ущелье, глубоко прорезавшееся в горном кряже. Жорж Лоррис, чтоб успокоить свою собеседницу, принялся обстоятельно излагать ей теорию электрических вихрей, объясняя причины этих вихрей и производимые ими катастрофы, зачастую очень сходные с результатами обыкновенных землетрясений. Эстелла слушала его молча и казалась все еще бледной и взволнованной, а потому он признал уместным прочитать ей длиннейшего лекцию об электрических смерчах, в которой доказывал, что они возникают все реже, благодаря тщательным мерам предосторожности, принимаемым электротехниками. Вместе с тем также и катастрофы, производимые смерчами, становятся с каждым часом все менее грозными, но мере совершенствования приборов, предназначенных для улавливания электрических токов, вырвавшихся на свободу.
— Впрочем, вам это известно также хорошо, как и мне самому, так как вы, ведь, тоже инженер! — сказал он, внезапно прерывая свои объяснения, слегка отзывавшиеся, по его мнению, педантизмом.

— Нет, я вам очень благодарна, сударь! Мне предстоит еще выдержать государственное поверочное испытание для получения диплома, и, представьте себе… я два раза уже безуспешно являлась на экзамен! Теперь я продолжаю слушать по фонографу лекции в Цюрихском университете, готовлюсь в третий раз к экзамену, работаю самым усердным образом, бледнею над тетрадками, но, кажется, не особенно бойко подвигаюсь вперед… Увы, наука дается мне не легко, а между тем непременно надо заручиться дипломом, чтоб определиться в департамент горных маяков, где служит папаша. От этого зависит моя карьера!.. Теперь, впрочем, я прекрасно поняла все, что вы мне говорили, и с вашего позволения сейчас же запишу самое существенное, пока оно еще свежо у меня в памяти. Завтра, чего доброго, в голове все уже перепутается.

Пока молодая девушка, успевшая теперь до некоторой степени собраться с духом, отыскивала среди груды книг, тетрадей и фонограмм, загромождавших рабочий её стол, свою записную книжку и набрасывала в ней сокращенными знаками надлежащие заметки, Жорж Лоррис пристально глядел на нее, невольно восхищаясь грациозными её позами и естественным изяществом которым она была проникнута вся насквозь и которое сказывалось между прочим в её костюме, несмотря на всю его простоту и скромность. Когда Эстелла подымала голову, Жорж любовался тонкими, правильными чертами её лица, грациозным изгибом носика, дивными ясными глазками и высоким челом, осененным словно золотым шлемом прелестных светло-русых волос, заплетенных в косы.
Эстелла Лакомб была единственная дочь одного из старших инспекторов швейцарского отдела в департаменте горных маяков. С развитием воздухоплавания пришлось устроить в горах, на разных высотах, маяки, с которыми могли бы сообразоваться в своем курсе воздушные корабли. Так например во Франции: Овернския горы, цепь Пиринеев и Альпы — снабжены, как известно, несколькими рядами маяков, различающихся друг от друга огнями. Высота в полверсты указывается всюду цветными огнями, отстоящими
друг от друга на версту. Через каждые полверсты в вышину тянется другой ряд цветных огней иного колера. Ущелья, перевалы и устья долин обозначены вращающимися огнями; наконец, на всех горных вершинах и выдающихся шпицах сооружены первоклассные маяки, сверкающие, словно звезды среди вечных снегов, которые окутывают их подножия. Жителям соседних равнин огни этих маяков, без сомнения, кажутся настоящими звездами.

Участковый инспектор горных маяков, Лакомб, жил уже восемь лет на Лаутербрунненской станции, в хорошеньком швейцарском домике, построенном близ маяка, вверху Лаутербрунненского подъёма, на целую версту выше живописной долины и как-раз напротив известного Штаубахского водопада. Пользуясь заслуженной репутацией дельного инженера и добросовестного служащего, Лакомб был очень занят. Обыкновенно весь день, а зачастую также и вечер, уходил у него на разъезды, донесения и надзор за работами на маяках в его участке. Г-жа Лакомб, родом парижанка, довольно много выезжала до выхода своего замуж и считала себя как бы в ссылке теперь, когда ей приходилось жить на живописной Лаутербрунненской станции, где, приблизительно в версте над прежним Лаутербрунненом, выросло новое селение с подъемной воздухо-лечебницей, в виде изящного казино, которое после полудня подымалось на семьсот или восемьсот метров вверх, а по захождении солнца спускалось опять до прежнего уровня.
Живя летом на Лаутербрунненской станции, в домике, прицепленном словно балкон над горным обрывом, а зимой внизу в Интерлакене, в столь же уютном помещении, г-жа Лакомб скучала и грустила по своем родном, шумном Париже.
Она не могла, однако, строго говоря, жаловаться на недостаток развлечений. Мимо станции ежедневно мелькало множество воздушных кораблей и яхт. Суда быстроходного воздушного почтово-пассажирского сообщения между Лондоном, Римом и Каиром посещали эту станцию четырежды в сутки, каждый раз оставляя на ней нескольких туристов, желавших короче ознакомиться с прелестями Швейцарии. Кроме того подъемное лаутербрунненское казино, в летнее время всегда переполненное посетителями, еженедельно устраивало для своих больных великолепные балы и каждый вечер угощало их концертами, или драматическими представлениями по телефопоскопу. Несмотря на все это, г-жа Лакомб скучала и пользовалась всевозможными случаями и предлогами, чтоб снова окунуться в атмосферу дорогого её сердцу Парижа.
Ей надоело присутствовать, только при посредстве телепластинки, на маленьких вечерах у своих приятельниц, оставшихся парижанками. От времени до времени она отправлялась с электропневматическим поездом, или быстроходным воздушным кораблем, чтоб окунуться в столичную жизнь и появиться на нескольких великосветских собраниях, — так называемых „six o’clock“, где, угощаясь модными лекарственными средствами от малокровия дамы перебирают самоновейшие сплетни и впитывают в себя обильно носящиеся в воздухе миазмы злословия и клеветы. Случалось также, что г-жа Лакомб заглядывала на биржу, где иногда играла, в рассчете привести таким путем в равновесие свой бюджет, зачастую страдавший избытком расходов над доходами. Биржевая маклерша, служившая ей руководительницей, нередко ошибалась в своих предположениях, и тогда г-жа Лакомб с трудом лишь сводила у себя в хозяйстве концы с концами. Доходы её мужа ограничивались жалованьем в девять тысяч рублей при готовой квартире, a на эти средства, разумеется, можно было лишь кое-как жить в деревне, да и то только при соблюдении строжайшей экономии. Все это оказывалось тем прискорбнее для г-жи Лакомб, что она была большой любительницей посещать магазины. Вместо того, чтобы без хлопот выбирать по телефоноскопу материи или модные товары для себя самой и для дочери, она предпочитала лично странствовать по большим парижским магазинам и, из-за всяких пустяков, например из-за какой-нибудь ленточки, мысль о которой случайно мелькнула у ней в голове, готова была тотчас же воспользоваться пневматической трубой, или быстроходным воздушным кораблем, и умчаться в столицу.

Скромное финансовое положение, до такой степени тяготившее г-жу Лакомб, могло бы оказаться несравненно более благоприятным, если б она сама обладала высшими дипломами. К несчастью, в дни её молодости, в 1930 годах, когда жизнь обходилась много дешевле, не обращали надлежащего внимания на образование молодых девиц. Она не получила диплома на звание инженера и, окончив курс лишь кандидаткой историко-филологического и физико-математического факультетов, разумеется не могла получить места в департаменте горных маяков, где служил её муж.
Наученный горьким опытом г-н Лакомб решился дать своей дочери возможно более солидное образование. Он хотел, чтоб она поступила на государственную службу и надеялся, что в возрасте двадцатичетырех лет, окончив технический университет с необходимыми дипломами, она будет зачислена в сверхштатные инженеры с годичным содержанием в тысячу пятьсот рублей и уверенностью добраться до чина инспектора лет через пятнадцать, когда ей будет уже под сорок. Существование Эстеллы оказалось бы тогда обеспеченным как в случае если б ей пришлось остаться в девушках, так и при выходе замуж за чиновника, вроде её самой.

Эстелла уже с двенадцатилетняго возраста начала проходить курс цюрихского политехнического института. Благодаря телефоноскопу, она слушала там лекции, не выходя из дому. Такой способ приобретения знаний является особенно драгоценным для семьи, живущей вдалеке от больших центров, уже потому, что избавляет от необходимости помещать детей в закрытые заведения. Эстелла очень успешно училась по телефоноскопу, не выходя из своей комнаты швейцарского домика, в котором жили её родители. Несколько позднее она, с помощью все того же телефоноскопа, прошла курс центральной парижской электрической школы и, сверх того, брала фонографические приватные уроки у нескольких знаменитых профессоров.
К несчастью для Эстеллы, ей нельзя было экзаменоваться по телефоноскопу. Этому препятствовали старинные, все еще остававшиеся в силе, экзаменные уставы, а между тем застенчивость, отчасти унаследованная быть может от отца, заставляла молодую девушку совершенно теряться в присутствии профессоров на публичных испытаниях и мешала ей приобретать дипломы, соответствовавшие действительным её знаниям.

III
 Душевные муки кандидатки на инженера. — Лекции по телефонографу. — Страстная посетительница модного магазина под фирмой «Новый Вавилон". — Испуганная служанка лавирует между электрическими приборами. — Телефонная газета.
Душевные муки кандидатки на инженера. — Лекции по телефонографу. — Страстная посетительница модного магазина под фирмой «Новый Вавилон". — Испуганная служанка лавирует между электрическими приборами. — Телефонная газета.
Эстелла почти совершенно уже успокоилась, а потому Жорж Лоррис мог бы без всяких угрызений совести с нею проститься. Вместо того, однако, он, не пытаясь отдавать себе отчета в причинах, побуждавших его остаться, продолжал беседовать с девушкой по телефоноскопу. Разговор шел, впрочем, все о материях важных. Они беседовали о могуществе прикладных знаний, об электричестве, — новых основах нравственности, — народном образовании и научной политике. Молодая девушка, узнав, что случай свел ее по телефоноскопу с сыном великого Филоксена, тотчас же наивно вошла по отношению к Жоржу в роль ученицы, что заставило его совершенно искренно расхохотаться.
— Я действительно сын знаменитого Филоксена, как вам угодно называть моего папашу, но гожусь сам скорее в ученики, чем в учителя. Вы от меня не скрыли ваших неудач на экзаменах. Это дает мне смелость сообщить вам, что не далее как сегодня, в ту самую минуту, когда разразилось торнадо, папаша производил мне жесточайшую головомойку, упрекая в недостаточном знакомстве с точными науками. Должен признаться, что эти упреки были заслуженными, — вполне заслуженными!..
— Помилуйте, я с этим ни за что не соглашусь! Я очень хорошо понимаю, что знание, кажущееся для великого Филоксена Лорриса недостаточным, должно являться для меня настоящей бездной премудрости… Ах, если б мне только выдержать экзамен на первый инженерный чин!
— Вы наверное вздохнули бы тогда с облегченным сердцем и забросили все свои книжки! — заметил со смехом Жорж.
Эстелла молча улыбнулась и многозначительно отодвинула от себя груду книг и тетрадей, покрывавших письменный её стол.
— Если это вам может на что нибудь пригодиться, то я пришлю вам, сударыня, кое-какие тетрадки и фонограммы нескольких лекций, читанных моим отцом инженерам его лаборатории.
— Вы меня чрезвычайно обяжете. Обещаю вам, что постараюсь их понять и усвоить себе. За прилежанием у меня дело не станет…
Внезапно раздался звонок и телепластинка померкла. Образ молодой девушки исчез, и Жорж остался один в комнате. Повреждения, причиненные электрической бурей на центральной станции телефоноскопов, были уже исправлены, — аппараты могли действовать нормальным образом и случайные временные сообщения были всюду прекращены.
Взглянув на часы, Жорж убедился, что в разговоре с Эстеллой время текло для него очень быстро. Пора была уже явиться в лабораторию. Поэтому он нажал соответственную кнопку и дверь комнаты тотчас же растворилась сама собою. Усевшись в кресла остановившейся у дверей подъемной платформы, молодой человек оказался спустя четверть минуты на верхней пристани — в роскошном высоком крытом павильоне, устроенном над парадным входом в дом Филоксена Лорриса.
Дворницкая, которая теперь, при употреблении воздушных экипажей, устраивается всегда близ верхнего подъезда на террасе, служащей пристанью, совершенно отсутствовала у Филоксена. Ее, да и самого дворника заменяла особая планшетка, которая, благодаря системе электрических кнопок, выполняла все, что только можно было разумным образом от неё требовать.

Воздушный кабриолет, сам выдвинувшийся по железному рельсу из сарая, поджидал уже Жоржа на пристани. Прежде, чем сесть в него, молодой человек окинул взглядом громаду Парижа, раскинувшегося в долине Сены на необозримое протяжение до самого Фонтенебло, к которому примыкало южное предместье столицы. Прекратившееся во время электрической бури оживленное движение по воздуху успело уже возобновиться. По небу реяли во всех направлениях воздушные экипажи; аэродилижансы тянулись друг за другом длинною вереницей, стараясь наверстать потерянное время. Быстроходные — так называемые — воздушные стрелы, поддерживавшие почтовое сообщение с провинциальными и заграничными городами, мчались с головокружительной быстротою. Целые рои воздушных карет и кабриолетов теснились около станций электропневматических труб, откуда задержанные смерчем поезда отправлялись почти безостановочно друг за другом. С запада величественно приближался, выделяясь в туманной дали, колоссальный воздушный корабль южно-американского почтово-пассажирского сообщения. Если б он случайно не задержался в дороге, то был бы непременно захвачен смерчем, и летопись крупных катастроф обогатилась бы тогда новою главою.
— Надо приняться за работу, — сказал, наконец, Жорж, освобождая от зацепления с рельсом воздушный свой кабриолет, и направляя его к одной из лабораторий Филоксена Лорриса, устроенной, вместе с целым рядом заводов и фабрик для практических опытов, в Гонесской равнине, где все они в общей сложности занимали протяжение в сорок гектаров.
Тем временем Эстелла Лакомб, оставшись одна на Лаутербрунненской станции, не замедлила покинуть свои тетрадки. Подбежав к окну, она тревожно вглядывалась в даль. Ведь во время урагана могло случиться какое нибудь несчастье с её мамашей, уехавшей в Париж, или с отцом, осматривавшим по долгу службы горные маяки! Правда, что теперь в горах все стихло, и установилась прекраснейшая погода. Воздушное казино, спустившееся при первом же сигнале опасности на Лаутербрунненскую станцию, тихонько подымалось опять в верхние слои атмосферы, чтобы доставить своим посетителям зрелище захождения солнца за снеговые вершины Оберланда.
Эстелле недолго пришлось беспокоиться. Вдали не замедлил показаться летевший из Интерлакена воздушный кабриолет. Молодая девушка узнала с помощью бинокля свою мать, которая выглядывала сквозь раскрытые дверцы экипажа и очевидно торопила механика. В это самое мгновенье звонок телефоноскопа заставил девушку обернуться. Она вскрикнула от радости, увидев на телепластинке изображение отца.
Инспектор Лакомб, находившийся на одном из своих маяков, спросил с обычной поспешностью занятого человека:

— Ну что, дочурка, все ли у вас тут благополучно? Надеюсь, это проклятое торнадо ничего не переломало?… Ну и прекрасно! Посылаю тебе воздушный поцелуй! Признаться, я порядком беспокоился… Где же твоя мать?
— Мамаша сейчас приедет. Она только что вернулась из Парижа.
— Этого только недоставало! Надо ведь ей было ехать в Париж во время такого урагана! Если б я знал, что она в дороге, я бы стал еще сильнее тревожиться.
— Да вот и она сама…
— Мне теперь некогда; выбрани ее за меня! Я пережидал смерч на маяке 189 в Беллинцоне и буду домой лишь к девяти часам вечера. He ждите меня к обеду…
— Дзинн!.. и г-н Лакомб мгновенно исчез с пластинки телефопоскопа. В то самое мгновенье его супруга, только что успевшая сойти на балкон, поспешно расплачивалась с механиком воздушного кабриолета. Дверь, выходившая на балкон, отворилась, и почтенная дама, обремененная покупками, тяжело опустилась в кресло.

— Ах, милочка, сколько страху я натерпелась! Представь себе, что я была свидетельницей нескольких катастроф… — объяснила она.
— Папаша только что говорил со мной по телефоноскопу, — отвечала Эстелла, целуясь с матерью. — Он на 189 в Беллинцоне и благополучно переждал бурю. Ну, а ты, как себя чувствуешь?

— Ах, милочка, я просто умираю! Ну да уж, признаться, и буря была! Такого жестокого торнадо давненько у нас не случалось. Подробности ты узнаешь сегодня вечером из телефонной газеты. Ужас да и только! Представь себе, что, хорошенько обдумав, я все-таки решила купить розовую шляпку… И вообрази, что торнадо разразилось как раз, когда я была в Ново-Вавилонском магазине! Мне пришлось остаться там целых три часа, так как я положительно обезумела от страха. Это не помешало мне, впрочем, воспользоваться случаем и осмотреть все новинки в отделе шелковых материй по четырнадцати с половиною франков аршин… Как-раз перед магазином упало несколько обломков воздушных кораблей, да и вообще в Париже была масса несчастных случаев!.. В отделении кружев для воротников и рукавчиков я нашла прелестные вещицы и сравнительно недорого… Да, милое дитя! Я собственными глазами видела с платформы Вавилонского магазина, среди молний проносившегося электрического смерча, столкновение двух воздушных кораблей… Страшно даже и вспомнить!.. He забыла-ли я, однако, какой-нибудь из моих покупок?.. Нет, слава Богу, все на лицо!.. И ведь как я беспокоилась все время, милочка. Когда разрешено было выходить, я бросилась в залу телефоноскопов, чтоб повидаться с тобой и предостеречь тебя на всякий случай, но все аппараты словно обезумели… И чего только смотрит правительство! Просто на-просто и смех, и горе! И это еще называют наукой! Представь себе, что я хочу установить сообщение с тобою. Дзинн… и передо мной открывается казарменная зала с майором, читающим своей роте лекцию об устройстве непрерывно действующей картечницы… Я теперь знаю это устройство, как свои пять пальцев. И сколько ругательств пришлось мне выслушать, милочка!.. Самых страшнейших ругательств… Видишь-ли, один из солдат оказался глуп как пробка, или „как сто чертей“, выражаясь словами майора. Представь себе, он не в состоянии был понять даже такого простого механизма!.. Подумай только! Во всех двадцати четырех вавилонских телефоноскопах можно было наслаждаться единственно лишь сценами в подобном же вкусе! Всюду установились сообщения, которые ни за что нельзя было прервать… Нечего сказать, хороша наша администрация!..
— Да, маменька, мне тоже известно, что во время исправления повреждений на центральной станции пришлось установить между каждыми двумя аппаратами случайные сообщения.
— Надеюсь, дитя мое, что по крайней мере тебе не сделали при этом особенно неприятного сюрприза…
— Нет, мамаша, совсем напротив! т. е. я хотела сказать, — пояснила слегка покраснев Эстелла, — что у нас здесь было установлено сообщение с одним очень приличным молодым человеком…
Г-жа Лакомб взволновалась до такой степени, что даже привскочила в кресле.

— С молодым человеком! Объяснись пожалуйста, милочка! Ты меня совсем перепугала!.. Боже мой, что это за администрация! Просто курам на смех, да и только! Она становится положительно неприличной со своими промахами и несчастными случайностями. По всему видно, что барышни на главной станции телефоноскопов все сплошь и рядом пустоголовые вертушки! Они только и знают, что молоть всякий вздор, сплетничать, да смеётся над абонентами, подшучивая над секретами, которые удается выудить… Тебя, значит, соединили с молодым человеком? Хорошо!.. Я буду жаловаться!..
— Погоди, мамаша, не горячись!.. Этот молодой человек сын Филоксена Лорриса.
— Сын Филоксена Лорриса? — вскричала г-жа Лакомб. — Надеюсь, по крайней мере, что ты от него не убежала!.. Ты говорила ведь с ним?
— Да, маменька…
— Разумеется было бы лучше, если б нас соединили с самим великим Филоксеном Лоррисом. Боюсь только, что ты растерялась словно дурочка, и повесила нос, как делаешь всегда на экзаменах…
— Я была, маменька, очень испугана страшной электрической бурей… Он меня успокоил…
— Надеюсь, ты ему дала все-таки понять несколькими остроумными техническими фразами насчет электрических смерчей, что ты не какая-нибудь невежда и обладаешь хорошими сведениями в науках. Ведь ты упомянула ему про свои дипломы?..
— He знаю хорошенько, что именно я ему говорила… Во всяком случае этот молодой человек был очень любезен и, усмотрев недостаточность моих знаний, обещал прислать мне свои собственные заметки и фонограммы лекций своего отца.
— Его отца — знаменитого Филоксена Лорриса? Какое счастье! Да; нельзя отрицать, что даже и путаница у этих теле оказывается иной раз кстати!.. Он пошлет тебе фонограммы, а я сделаю его отцу маленький благодарственный визит и переговорю о твоем родителе, который киснет здесь на второстепенной должности в департаменте горных маяков. С рекомендацией великого Филоксена Лорриса твой отец разом выдвинется вперед… Я берусь все устроить! Поцелуй меня, милочка!..
Дзин… Дзин… раздался звонок по телефону и на теле-пластинке снова появился г-н Лакомб.
— Что, милочка, мамаша твоя вернулась? А, да ты уже здесь, Аврелия! Я, признаться, побаивался за тебя! Однако, до свидания, мне некогда! He ждите меня к обеду. Я приеду лишь в половине десятого…

Дзин… Дзин… и г-н Лакомб исчез с телепластинки.
Не знаем, был-ли сон Эстеллы нарушен новым знакомством по телефоноскопу, доставленным ей случайностями электрического смерча, но её мамаша в эту ночь видела очаровательные сны, в которых Филоксен Лоррис и его сын играли далеко не последнюю роль.
На другой день утром, только что встав с постели, г-жа Лакомб заставила дочь пересказать ей еще раз все подробности разговора с сыном великого Филоксена Лорриса. Как раз в это самое время воздушная баржа со станции электро-пневматического пути сообщения, прибывшая с пассажирами из Интерлакена, привезла только что полученную из Парижа по пневматической трубе посылку на имя девицы Эстеллы Лакомб.
В посылке этой было упаковано штук двадцать фонографических клише с лекций самого Филоксена и одного знаменитого профессора, у которого занимался Жорж Лоррис. Молодой человек сдержал свое обещание.
— Ах, как я рада! — воскликнула г-жа Лакомб. — Я в полдень же лечу по пневматической трубе с визитом к Филоксену Лоррису. Мой сон начинает уже сбываться наяву! Я видела во сне, будто приехала в гости к великому изобретателю. Он повел меня к себе в лабораторию и очень любезно объяснял там всякую всячину, а под конец привел к последнему своему изобретению — к такой, видишь-ли, сложной машине, душечка, что у меня просто ум за разум зашел!.. — Это, сударыня, — сказал он, — электрический прибор для увеличения жалованья служащим. Позвольте мне презентовать его для вашего супруга…
— Опять за старую песню! — заметил, усмехнувшись, г-н Лакомб.
— Неужели ты думаешь, что мне так приятно жить одними только лишениями, не смея даже мечтать о розовой шляпке вроде той, которую видела вчера в Вавилонском магазине? Знаешь что, я куплю эту шляпку мимоездом, когда отправлюсь навестить Филоксена Лорриса…
— Нет, моя милая, я тебя это категорически запрещаю, т. е. не розовую шляпку, — ты можешь себе ее выписать, если хочешь, а визит к Филоксену Лоррису… Обождем немного! Если Эстелла выдержит экзамен и, благодаря лекциям, присланным ей г-м Лоррисом, будет произведена в инженеры, то отчего же и не сделать маленького благодарственного визита… разумеется, по телофоноскопу… чтобы не показаться слишком навязчивыми.
— Скажу тебе на это, друг мой, что ты со своей застенчивостью никогда не устроишь себе карьеры! — объявила г-жа Лакомб.

Появление служанки Гретли, принесшей завтрак, прервало в самом начале проповедь, которую г-жа Лакомб по обыкновению собиралась прочесть мужу пред отправлением его на службу. Бедная служанка, едва оправившаяся от вчерашнего испуга, жила все время как бы в состоянии хронического ужаса. Сельское население, выросшее в поле и освоившееся только с бесхитростной, грубой обстановкой своей жизни на лоне матери-природы, обладает неповоротливыми мозгами, почти непроницаемыми для научных идей. Когда этим невеждам приходится попасть в город, где их охватывает со всех сторон наша в высшей степени сложная цивилизация, требующая от всех и каждого такого громадного количества знаний, эти несчастливцы беспрерывно переходят от изумления и недоумения к паническому страху. Измученные и запуганные дети природы даже не пытаются постигнуть фантастический механизм городской жизни. Они думают лишь о том, как бы уцелеть самим и поскорее вернуться в родное гнездо, — в какую-нибудь деревушку, забытую всеобщим прогрессом. Злополучная Гретли, — простая невежественная деревенская девушка с косами, напоминавшими чесаный лен, жила у своих господ в вечном страхе, не понимая ничего, что ее окружало. Она старалась как можно реже выходить из своего уголка на кухне и не смела прикасаться к различным усовершенствованным приборам, изобретение которых сделало из порабощенного электричества могущественного, но послушного слугу. Подавая на стол и стараясь держаться как можно дальше от всех этих приборов, чтоб не зацепить как нибудь за электрические кнопки, или за ключ утренней и вечерней фонографической телегазеты, Гретли уронила поднос и разбила одну или две чашки. Как и следовало ожидать, это обстоятельство заставило г-жу Лакоиб обрушить на нее волны негодующего своего красноречия.
Почтенный инспектор альпийских маяков искусно воспользовался этой диверсией и довершил ее, повернув ключ телегазеты, которая немедленно же начала симпатичным, внятным голосом докладывать политическое обозрение. Необходимо заметить, что г-н Лакомб любил услаждать им свой утренний кофе. Газета сообщила:
„Судя по всему, затруднения, с которыми сопряжена ликвидация прежних займов Коста-Риккской республики, нельзя будет уладить дипломатическим путем и одна лишь Беллона окажется в состоянии распутать хитросплетенные счеты, представленные обеими тяжущимися сторонами. За то, с другой стороны, можно с живейшим удовольствием отметить, что внутренняя наша политика склоняется в пользу примирения и соглашения между всеми партиями.
„Благодаря вступлению в кабинет предводительницы женской партии, г-жи Луизы Мюш (депутата Сенского департамента), согласившейся принять портфель министерства внутренних дел, новому кабинету примирения всех партий обеспечена поддержка еще сорока пяти женских голосов в палате депутатов, так что он располагает теперь солидным парламентским большинством “…
В тот же день после полудня, в то время, когда Эстелла углубилась в слушание лекций Филоксена Лорриса, в которых не находила, впрочем, особенного удовольствия, как это можно было заметить по тону, что она прижимала левую руку ко лбу, стараясь заносить в записную свою книжку кое-какие заметки, — неожиданно раздался у самого уха девушки звонок телефоноскопа, доставивший ей благовидный предлог освободиться от научных занятий.

Фонограф воспроизводил как раз лекции Филоксена Лорриса. Ясный и отчетливый голос ученого излагал во всей подробности собственные его опыты над ускорением и улучшением роста хлебов при помощи электризации засеянных полей. Эстелла немедленно остановила фонограф и прервала речь ученого на половине какого-то сложного вычисления. Подбежав к телефоноскопу, она установила сообщение с главной станцией и увидела перед собою на телепластинке сына знаменитого Филоксена.
Жорж Лоррис, стоявший перед собственным своим телефоноскопом в Париже, вежливо поклонился молодой девушке.
— Извините, сударыня, если я осмеливаюсь спросить, вполне ли вы оправились от вчерашнего вашего маленького потрясения? Вы показались мне до такой степени встревоженной… — сказал он.
— Вы слишком добры, милостивый государь, — отвечала, слегка покраснев Эстелла. — Правда, что я вчера не выказала особенного мужества, но, благодаря вам, испуг мой сравнительно скоро рассеялся… Впрочем, я вам премного обязана! Присланные вами фонограммы мною получены и, как вы видите, я…
— Слушали лекции моего родителя, — со смехом добавил Жорж. — для этого необходима изрядная доля нравственного мужества, сударыня. Желаю вам всякого успеха!..

IV
 Как принимает гостей великий Филоксен Лоррис. — Девица Лакомб еще раз режется на государственном экзамене. — Неожиданное сватовство. — Теоретические соображения Филоксена Лорриса об атавизме. — Доктор София Бардо и сенатор от Сартского департамента девица Купар.
Как принимает гостей великий Филоксен Лоррис. — Девица Лакомб еще раз режется на государственном экзамене. — Неожиданное сватовство. — Теоретические соображения Филоксена Лорриса об атавизме. — Доктор София Бардо и сенатор от Сартского департамента девица Купар.
Жорж Лоррис довольно частенько вступал в телефоноскопическое сообщение с швейцарским домиком на Лаутер-брунненской станции. Ему надо было понаведаться об успехах Эстеллы Лакомб, расспросить, не пригодятся ли ей какие-нибудь новые фонографическия лекции, или, наконец, просто осведомиться о состоянии здоровья её самой и её мамаши. Постепенно у него вошло в привычку видеться с молодой девушкой. Вскоре он начал доставлять себе каждый раз после полудня, в качестве отдыха от умственного труда и лабораторных занятий, несколько минут приятной беседы с лаутербрунненской кандидаткой в инженеры.
Благодаря его советам и лекциям, которые он присылал, Эстелла делала большие успехи. Жорж, которого отец бесцеремонно называл „мазилкой“ в науке, что, без сомнения, являлось чрезмерно строгим и не вполне справедливым эпитетом, был на самом деле солидным ученым, который для Эстеллы казался неисчерпаемым кладезем знания. К тому же в тех случаях, когда юная инженер-кандидатка наталкивалась на какие-нибудь серьезные научные трудности, Жорж Лоррис, запасшись маленьким карманным фонографом, устраивался так, чтоб завести за столом разговор на эту тему. Таким образом он побуждал отца изложить свой взгляд на сущность этих научных трудностей. Полученная без ведома великого Филоксена фонограмма его объяснений безотлагательно посылалась на Лаутербрунненскую станцию.

Вопреки строгому запрещению мужа, г-жа Лакомб между двумя визитами на женскую биржу, где она выиграла две тысячи франков, и в Ново-Вавилонский магазин, где издержала две тысячи пять франков, решилась однажды посетить Филоксена Лорриса под предлогом изъявления ему чувствительнейшей своей благодарности.
На воздушном дебаркадере в павильоне, заменявшем переднюю, она нашла ряд звонков с именами всех обитателей дома, а именно: самого Филоксена Лорриса; его супруги; Жоржа Лорриса; Сюльфатена (состоявшего домашним секретарем у великого Филоксена) и т. д. и т. д. Восхищаясь изяществом электрических приспособлений, она обратила внимание на отсутствие при этих именах обычных пометок: „Дома нет“, „Дома“, „Занят", сберегающих время посетителей и предотвращающих лишние хлопоты.
— Это, очевидно, уж вышло из моды! — сказала она самой себе. — Решительно все обзавелись уж таким механизмом, и от него несет чем-то мещанским! Я непременно распоряжусь, чтоб и у нас убрали его из прихожей!

Достопочтенная дама нажала на кнопку звонка, украшенную именем самого домохозяина. Двери тотчас же пред ней растворились, и к ним придвинулась подъемная платформа с креслом, на которое мать Эстеллы и села. Платформа медленно двинулась, а затем остановилась, как бы приглашая г-жу Лакомб сойти. Перед ней открылись тогда сами собою другие двери, войдя в которые она очутилась в большой комнате, где все стены сверху до низу были увешены большими раскрашенными чертежами и фотографическими снимками с чрезвычайно сложных приборов. Посреди комнаты стоял большой стол, а вокруг него — несколько кресел. Г-жа Лакомб не видала еще во всем доме живой души. Даже прислуга блистала там отсутствием. Изумленная гостья уселась в кресло, с любопытством ожидая, что будет дальше.
Она начала было уже приходить в нетерпение, как вдруг услышала вопрос:
— Что вам угодно?
С этим вопросом обратился к ней фонограф, помещенный как раз по середине стола.
— Потрудитесь сообщить ваше имя и цель вашего посещения! — добавил фонограф.
Это было произнесено голосом самого Филоксена Лорриса. Г-жа Лакомб знала его по фонограммам лекций, полученных Эстеллой. Тем не менее она до известной степени обиделась таким способом принимать гостей.
— Однако же это очень бесцеремонно! — вскричала она. — Быть может и очень удобно оставлять наедине с фонографом особ, которые взяли на себя труд пожаловать лично и притом издалека, но с точки зрения общепринятой вежливости такой способ обращаться с порядочными людьми навряд ли можно признать удовлетворительным. Впрочем, может быть, здесь вежливость понимают как-нибудь по своему?
— Я теперь в Шотландии и занят очень важными делами, — продолжал фонограф, — но тем не менее, соблаговолите говорить, я вас слушаю!
Г-жа Лакомб не знала, что Филоксен Лоррис был на первое время для всех вообще посетителей в Шотландии, или других местах, еще более отдаленных, но что телефонная проволока передавала ему в кабинет имя гостя. Если знаменитому ученому благоугодно было принять посетителя, он нажимал кнопку, и фонограф приемной залы вежливо приглашал гостя пройти в такие-то двери, воспользоваться такою-то подъемной платформой до коридора за нумером таким-то, и дойти там до дверей, которые отворятся перед ним сами собою.
— Я г-жа Лакомб. Мой муж, инспектор горных маяков, поручил выразить вам свою благодарность… искреннейшую благодарность…
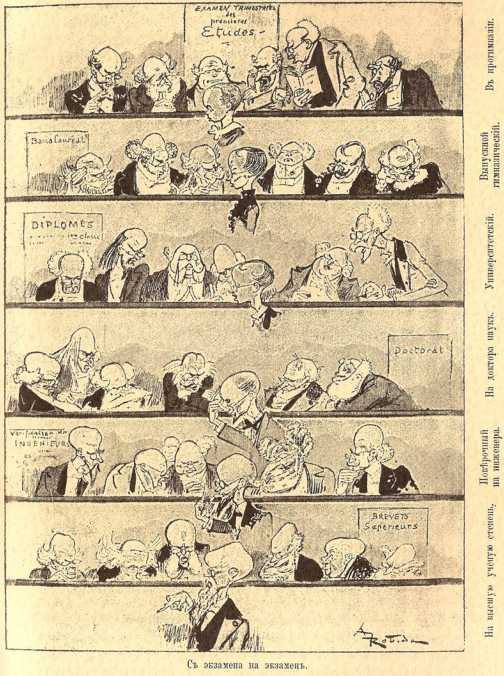
Г-жа Лакомб принадлежала к весьма решительным особам прекрасного пола и не привыкла тереться перед неожиданностями, по тем не менее до известной степени смутилась и положительно не знала, что ей сказать этому проклятому фонографу. Она имела намерение подействовать на Филоксена Лорриса обаянием изящных своих манер и остроумного разговора, но вовсе не подготовилась к свиданию с фонографом.
— Меня вы не проведете, — сказала она, вставая с негодованием. — Я вполне убеждена, что вы точно также в Шотландии, как и я сама. Мне уже и раньше доводилось слышать, что вы, сударь, настоящий медведь, а теперь я убедилась на опыте в справедливости этой оценки. Вы с вашим фонографом медведь в кубе, да еще из самых невежливых! Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что я возьму на себя труд беседовать с вашей машиной…
— Продолжайте, я слушаю, — сказал фонограф.
— Он слушает! Этого еще только недоставало, — возразила г-жа Лакомб. — Неужели вы думаете, что я проехала восемьсот верст единственно лишь для удовольствия поговорить с вами, г-н фонограф? Можешь слушать сколько угодно, голубчик! Развесь уши пошире! — Я ухожу! Я знаю теперь, что Филоксен Лоррис настоящий медведь, но это не мешает его сыну, Жоржу Лоррису, быть очень милым молодым человеком, к счастию, вовсе не похожим на своего папашу. Он, вероятно, унаследовал приличные манеры и уменье держать себя от матери. Мне, право, жаль её бедняжку! Ей должно быть очень несладко жить с ученым медведем вместо мужа. Впрочем, я даже кое-что слышала о том, что они живут друг с другом, как кошка с собакой!.. Теперь я вполне убеждена, что в этом виноват именно её медведь-муж со своими фонографами…
— Вы кончили? — осведомился фонограф. — Я записал все до последнего слова…
— Ах ты Господи! — вскричала внезапно, испугавшись, г-жа Лакомб. — Этот негодяй все записал. Что я наделала? Мне и в голову не пришло, что он не только говорит, но и записывает… Теперь он повторит все, что я сказала. Это чистое предательство!.. Право не знаю, что теперь и делать! Как зачеркнуть теперь написанное? Ах ты, мерзкая негодная машина! Погоди же, я тебя проведу! „Ао! Мой котел вам сказайт… Мой аглицкой дам, мистрисс Арабелла Гогсон из Бирмингем, выражайт сердечна свой восторк от знаменита Филлокс Лоррис…“
Порывшись с лихорадочной поспешностью в редикюльчике, который держала в руках, г-жа Лакомб вытащила оттуда вышивку для туфель, предназначавшуюся в подарок её супругу, и положила ее на фонограф.

— Мой сам шиль два туфля к сей велик челавек… Сказывайт пожалуй, что мой зовут мистрисс… Однако, попала же я впросак! Ведь к фонографу-то приделана у него маленькая фотографическая камера! С каждого гостя снимают портрет! Теперь я здесь увековечена… Тут уж ничего не поделаешь. Остается только спастись бегством. — Она направилась было к дверям, но поспешила вернуться.
— Я бы завершила свою невежливость, если-б ушла не прощаясь. Что подумали бы тогда про меня? — сказала она вполголоса и затем, нагнувшись к фонографу, громко добавила — считаю для себя честью и счастием, что имела удовольствие беседовать хоть мгновенье со знаменитым Филоксеном Лоррисом, несмотря на то, что беседа эта неоднократно прерывалась дерзкими выходками надоедливой англичанки. Имею честь откланяться великому человеку и выразить ему глубочайшее мое почтение.
— Имею честь кланяться. Прощайте, сударыня! — отвечал фонограф.
Г-жа Лакомб, которую было не так-то легко сбить с позиции, вернулась в Лаутербруннен очень взволнованная и не сочла нужным хвастаться своими похождениями.

Несколько времени спустя Эстелле пришлось держать государственный экзамен на чин инженера. Она нисколько не боялась теперь этого поверочного испытания, так как прекрасно к нему подготовилась. Благодаря советам Жоржа Лорриса, а также полученным от него фонографическим лекциям и заметкам, она превосходно усвоила себе решительно все, о чем можно было спросить ее на экзамене. Нимало не тревожась, Эстелла приехала в Цюрих и явилась вместе с прочими кандидатами и кандидатками в университет. Ободренная отличными отметками на письменном экзамене, она предстала на словесное испытание без особенно усиленного сердцебиения.
При первых, однако, вопросах, обращенных к ней с высоты величественных белых галстуков её судей, Эстелла как-то разом утратила непривычное, искусственное свое самообладание. Она то краснела, то бледнела, взглянула сперва вверх, а потом потупила глазки и совсем смешалась, но сделав над собой энергическое усилие все-таки начала отвечать. Оказалось, однако, что все, выученное ею так добросовестно, перепуталось у ней теперь вдруг в голове. Из её знаний образовался какой-то беспорядочный хаос, так что она на все вопросы отвечала совершенно невпопад. В результате получилась полнейшая катастрофа. Плоды всех трудов Эстеллы пропали даром. На устном государственном экзамене она получила сплошь и рядом нули, и экзаменная комиссия единодушно прокатила ее на вороных.
Бедная девушка пришла в величайшее отчаяние и так растерялась, что совершенно забыла о предварительном своем соглашении с мамашей. Г-жа Лакомб, заранее уверенная в успехе дочери, решила заехать за ней в Цюрих.

Вместо того Эстелла наняла первый попавшийся ей воздушный кабриолет и, вернувшись к себе в Лаутербруннен, поручила фонографу в гостиной сообщить родителям о неудаче, а сама заперлась у себя в комнате, чтоб выплакать там горе.
Она грустила и плакала уже около получаса, когда вдруг раздался призывный звонок телефоноскопа. Эстелла робко и неохотно установили сообщение между своим аппаратом и главной станцией.
— Кто бы это мог быть? — спрашивала она себя, утирая раскрасневшиеся глазки. — Если кто-нибудь из знакомых осведомляется о результатах моего экзамена, я объясню, что не принимаю и предложу обратиться за более обстоятельными сведениями к мамаше.
— Это я, Жорж Лоррис! — сказал телефоноскоп.
Девушка нажала кнопку, и на теле-пластинке появился Жорж Лоррис.
— С чем вас можно поздравить, сударыня? Но что я вижу! Это слезы! Вы плачете!.. Значит вам экзамен…
— He удался! — воскликнула она, пытаясь улыбнуться. — Я опять срезалась…
— Должно быть эти бессовестные экзаменаторы предъявили к вам какие-нибудь необычайные требования?..
— В том-то и дело, что нет! Это именно и приводит меня в такое негодование. Вопросы были действительно не из легких, но я могла ответить на них прекраснейшим образом. Благодаря вам, я оказывалась отлично подготовленной…
— Что же такое случилось?
— Просто напросто меня опять погубила несчастная застенчивость. Увидев себя лицом к лицу со строгими судьями, я смутилась, смешалась, перепутала решительно все и была завалена грудою черных шаров…
— He плачьте же! Вы явитесь опять на экзамен и разумеется его выдержите! Пожалуйста, Эстелла, не плачьте… Я не хочу, чтоб вы плакали!.. Я не в состоянии вынести ваших слез… Голубушка Эстелла, дорогая моя Эстеллочка!..
— Как? „Ваша дорогая Эстеллочка“? — вскричал голос, раздавшийся позади девушки. — Я нахожу это с вашей стороны, милостивый государь, слишком фамильярным!..
Это был голос г-жи Лакомб, которая, не найдя Эстеллы в Цюрихе, вернулась домой страшно встревоженная и только-что узнала от фонографа в гостиной о прискорбном результате государственного поверочного испытания.
Жорж Лоррис на мгновение смутился. Он знал г-жу Лакомб, так как имел случай не раз уже беседовать с нею по телефоноскопу.
— Ваша дочь, сударыня, до такой степени огорчена своей неудачей, что с моей стороны было совершенно естественно стараться ее утешить. Искренняя дружеская симпатия, которую я чувствую к ней с тех пор, как счастливая случайность… Короче сказать: она плакала и грустила, а я не мог видеть её слез без…
— Я вам очень обязана, милостивый государь, — сухо возразила г-жа Лакомб. — Если моя дочь и на этот раз не выдержала экзамена, то она еще поучится и предстанет опять перед экзаменной комиссией. Вот и все тут… Я берусь сама утешить Эстеллу, а потому, милостивейший государь, имею честь вам откланяться…
— He сердитесь пожалуйста, сударыня, умоляю вас, — продолжал Жорж Лоррис. — Мне надо сказать вам еще словечко!.. Я… Я прошу у вас руку Эстеллы.
— Руку Эстеллы? — вскричала г-жа Лакомб, опускаясь в кресло.
— Если вы только будете на это согласны, и если m-lle Эстелла не… Извините пожалуйста, что при моем предложении не соблюдены все принятые в таких случаях формальности, — добавил молодой человек, — но обстоятельства так уже сложились… Горе Эстеллы до того сильно на меня подействовало!.. Прошу вас, Эстелла, не отнимайте от меня надежды!..
— Милостивейший государь, — с достоинством отвечала г-жа Лакомб, — я сообщу о столь почетном для нас предложении мужу, который вам на него и ответит. Что касается до меня лично, то позволю себе только заметить, что вы можете рассчитывать на мой голос, который в семейных делах все-таки имеет известный вес.
Предложение, так неожиданно сделанное Жоржем Лоррисом, свидетельствовало во всяком случае о том, что он был человек решительный. Час тому назад он вовсе еще не помышлял сколько-нибудь определенным образом о женитьбе. Свиданья по телефопоскопу с молодою студенткой хотя и доставляли ему искреннейшее сердечное удовольствие, но он не пытался дать себе отчета в чувстве, побуждавшем его их искать. Слезы Эстеллы неожиданно раскрыли ему состояние собственного его сердца, и он не колеблясь решился слить свою жизнь с её жизнью. Жоржу исполнилось уже двадцать семь лет. Он мог свободно располагать своей личностью и обладал состоянием более чем достаточным для того, чтобы обеспечить себя и жену.
Молодой человек не заблуждался относительно препятствий, которые должны были встретиться со стороны его собственной семьи. Он знал, что отец имеет на него совершенно особые виды. В тот самый день, когда разразился электрический смерч, Филоксен Лоррис объявил сыну, что рассчитывает женить его на девице, обладающей высшими научными докторскими дипломами. Великий ученый объяснил, что будущая жена его сына должна иметь мозг строго научного типа и быть серьезной женщиной, достаточно зрелой для того, чтоб голова у неё оказывалась свободной от самомалейшего следа ветреных мыслей. Жорж невольно содрогался, припоминая подлинные слова своего родителя. Бррр!.. Мысль о подобной невесте сама по себе уже была способна заставить его поторопиться женитьбой.
Под вечер, когда инспектор горных
маяков, г-н Лакомб, вернулся домой обедать, Жорж Лоррис, прибывший в Интерлакен на электро — пневматическом поезде, почти одновременно с ним явился в воздушном кабриолете на Лаутербрунненскую станцию. Г-жа Лакомб едва успела предупредить мужа о случившемся.
— Нынешний день имеет для нашей семьи очень важное значение, друг мой, — сказала она торжественным тоном мужу. — Ты, без сомнения, не знаешь, какая судьба выпала на долю Эстеллы. Приготовься же услышать нечто важное… He пытайся догадываться… Старайся только не удивляться!..
— Тут нечего и догадываться, — возразил инспектор. — Я требовал, чтоб вы переговорили со мной по телефоноскопу, a вы мне не соблаговолили ответить… Для меня как нельзя более ясно, что она провалилась, — опять провалилась на экзамене.
— Ну стоит-ли обращать внимание на такие мелочи! — возразила г-жа Лакомб, презрительно пожимая плечами. — Слава Богу, ей не придется быть инженером. Да-с, это для неё оказалось бы теперь совершенно излишним! Дело в том, что за нашу дочь сватаются. Я уже дала жениху утвердительный ответ и надеюсь, что г-н Лакомб не станет мне прекословить!
— Но кто же этот жених?
— Мой будущий зять Жорж Лоррис, единственный сын знаменитого Филоксена Лорриса!
Имя это до такой степени ошеломило почтенного инспектора горных маяков, что он тяжело опустился на стул. Г-жа Лакомб заранее рассчитывала на такой эффект. Довольная произведенным впечатлением, она тоже взяла себе стул и продолжала:
— Да, друг мой! Жорж Лоррис обожает нашу дочь. Я, признаться, давненько уже это замечала. Эстелла в свою очередь тоже его любит.
— Полно, не пригрезилось-ли это тебе? С чего ты взяла, что сын Филоксена Лорриса мог посвататься за нашей дочерью? Вспомни только, что они друг другу вовсе не пара. Разве можно сравнивать нас с великим Филоксеном Лоррисом, или же наше скромное состояние с многомиллионными его доходами и…
— Мы действительно небогаты, но кто же виноват в этом, сударь? Притом же к чему распространяться о Филоксене, — великом Филоксене, — знаменитом Филоксене, — головокружительно-колоссальном Филоксене? Эстелла, к счастью, выходит замуж не за него, а за молодого человека, не столь колоссального, но несравненно более привлекательного.
— Но как же насчет приданого? Говорила ты ему, что у Эстеллы…
— К чему тут приданое? Кто станет думать о таких мелочах?… Удивляюсь, друг мой, как это мог остаться у тебя до сих пор такой мещанский склад ума!
Прибытие Жоржа Лорриса прервало эту супружескую беседу. Он впервые еще посетил Лаутербрунненскую станцию. До тех пор молодой человек знал швейцарский домик Лакомбов только по телефоноскопу. Он чувствовал себя слегка взволнованным при мысли, что встретится теперь фактически лицом к лицу с Эстеллой? Что, именно, она ему скажет? Что, если вдруг сердце её не окажется свободным, и она отвергнет предложение? Он все-таки опасался такого бедственного исхода.
Опасения эти не замедлили рассеяться. Г-жа Лакомб встретила Жоржа до того сочувственно, что он сразу убедился в их несостоятельности. Когда, наконец, появилась Эстелла, смущенная и бледная от волнения, она ответила нежным пожатием руки на немой вопрос, с которым тревожно обратились к ней глаза молодого человека.
Жорж провел в швейцарском домике восхитительный вечер. Когда часам к одиннадцати ночи он сел в воздушный кабриолет, долженствовавший отвезти его в Интерлакен, на электро-пневматический поезд, он чувствовал себя в самом восторженном настроении духа. Снопы электрического света, отбрасываемые маяком, озаряли горы фантастическим сиянием, проникавшим во мрак долин. Громадные вершины гор сверкали, словно карбункулы, а ледники казались расплавленными алмазами. Все это сияние представлялось молодому человеку как бы обещанием светлого будущего, полного беспредельно долгого счастья.
Разумеется, Филоксен Лоррис привскочил от изумления и гнева, когда на другой день утром сын сообщил ему о своем решении и вместе с тем просил родительского благословения. Охваченный бурным приступом красноречия, Филоксен упрекал сына за то, что тот не хотел обождать подходящей невесты. Ведь ему была обещана талантливейшая и образованнейшая девица в мире, — обладающая докторскими дипломами по всевозможным наукам, серьезная, зрелая особа, без малейшей тени легкомыслия и ветрености. Что ему за охота расстраивать все отцовские планы и разрушать все надежды такой нелепой женитьбой?
— Припомни только, Жорж, закон естественного подбора. Закон этот дело нешуточное, а между тем ты позволяешь себе не обращать на него внимания!.. Наука давно уже признала полную разумность многих старинных воззрений и выеснила, что естественный подбор лежал первоначально в основе каждой настоящей аристократии. Даже и в наши ультрадемократические времена пришлось смягчить непреклонность руководящих принципов и преклониться перед могуществом истины… Да, любезнейший сын мой! древние аристократические общества имели полное основание враждебно относиться к неравным бракам.

Нельзя отрицать того очевидного факта, что породы храбрых воинов и могучих рыцарей минувших веков, вступая в брачные союзы единственно лишь в своей собственной среде, все более укореняли в себе высокие доблести, являвшиеся отличительной их чертой и законной основой родовой их гордости, лежавшей в основе притязаний властвовать над менее чистокровными расами, — притязаний, ставящихся зачастую в упрек.

Вырождение началось для этих старинных отборных пород с того дня, когда кровь гордых баронов смешалась с кровью разбогатевших мещан. Эти-то последовательно повторявшиеся неравные браки и нанесли смертельный удар дворянству. Нет ничего легче, как доказать мою тезу строго научным образом. Возьмем, например, потомка знаменитого Роланда. Пусть в жилах его течет кровь тридцати поколений самых доблестных рыцарей…. Если этот потомок храбрых воинов женится на дочери откупщика, то, в плоде от этого брака, драгоценная рыцарская кровь окажется измененной примесью совершенно иной, низкопробной крови!.. В силу атавизма, душа предков по матери, — каких нибудь лавочников или банкиров, — людей, торговавших бакалейными товарами, или отдававших деньги в рост под лихвенные проценты, возродится в теле роландова потомка. Что именно будет таиться тогда под гербом знаменитого паладина? Нельзя заранее ответить на этот вопрос. В результате помеси может оказаться и что-нибудь путное, но несравненно чаще получится ублюдок сомнительной ценности. Бедный Роланд! Какую гримасу состроил бы он, если б мог видеть, во что обратилось здесь его потомство!.. Пойми же, наконец, Жорж, что вопрос о естественном подборе заслуживает самого серьезного внимания! Надо относиться с известного рода уважением к своим потомкам и не награждать их такими душами, каких мы не желали бы иметь сами.

Теперь между нами существует тоже аристократия, a именно — аристократия науки. Необходимо подумать о том, чтоб выработать путем строго научного подбора из этой аристократии действительно высшую породу. Я лично не хотел бы видеть в собственной семье никаких неприятных атавистических проявлений. Мне вовсе не желательно, чтоб в собственном моем внуке, во внуке Филоксена Лорриса, воплотилась душа какого-нибудь дедушки с материнской стороны, если этот дедушка был заурядным смертным. Исследования в области атавизма выеснили теоретически, а фотография за последние сто лет представила неопровержимые фактические доказательства, по крайней мере в области физического сходства, что в рождающемся ребенке всегда воспроизводится более или менее отдаленный родственный тип. Иногда этот тип копируется с полнейшею точностью, иногда же к нему примешиваются черты, заимствованные у нескольких других типов из отцовской или материнской семьи!.. Тоже самое замечается по отношению к умственным способностям и душевным свойствам вообще. Каждый из нас получает их в наследство от одного или нескольких предков. Каждая семья обладает определенным духовным капиталом, служащим как бы резервуаром для потомства. Природа черпает по усмотрению в этом резервуаре, когда ей надо наполнить череп ребенка, имеющего родиться на свет. Она может быть при этом более или менее щедрой, или скупою. Многое несомненно зависит от случая, на долю которого всегда приходится отводить соответственное место. Тем не менее природа вынуждена черпать только из капитала, собранного предками и постепенно возраставшего у последующих поколений!..
Вследствие этого именно и необходима величайшая осмотрительность при заключении браков. Надлежит тщательно взвесить и оценить всяческие атавистические влияния, для того, чтобы доставить породе новые полезные свойства. Надо обеспечить потомкам возможность черпать из более значительного духовного капитала!.. Послушай, Жорж, ты знаешь ведь блестящую репутацию Бардо. Семья эта с отцовской стороны является представительницей трех поколений превосходнейших математиков. С материнской стороны она дала нам астронома и знаменитого хирурга. Кроме того, в ней оказывается двоюродный дед, бывший несомненно гениальным человеком, так как он изобрел электропневматическое сообщение по трубам, заменившее железные дороги наших предков… Вообще, с точки зрения атавистических влияний, такая семья не оставляет желать ничего лучшего! Прими теперь во внимание, что в семье этой имеется девица, тридцати девяти уже лет от роду, обладающая дипломами доктора медицины, доктора прав, архидоктора социальных наук и т. д. Она первоклассная математичка, одно из светил политической экономии и в тоже время известный авторитет по части медицины. Я предназначал ее тебе, рассчитывая создать таким образом необходимый противовес твоему легкомыслию…

Жорж Лоррис отшатнулся с выражением неподдельного испуга и, пытаясь прервать речь своего родителя, принялся восторженно описывать Эстеллу Лакомб.
— Вижу, что девица Бардо тебе не нравится, — продолжал Филоксен Лоррис, не обращая внимания на этот перерыв. — Пусть будет по твоему. У меня имеется в запасе еще и другая невеста, девица Купар, сенатор от департамента Сарты. Ей только лишь стукнуло тридцать семь лет, а между тем она считается уже одной из самых выдающихся современных политических деятельниц и непременно будет в самом непродолжительном времени министром. Отца её, Жюля Купара, гиганта революции 1935 года, выбирали в продолжение трех последовательных пятилетий в диктаторы. Она доводится внучкой знаменитому парламентскому оратору, Леону Купару, участвовавшему в восемнадцати министерствах. Брак твой с нею был бы союзом научной и политической аристократии, способным открыть самые блестящие перспективы для наших потомков. Если ты женишься на сенаторе, девице Купар, мы будем вправе мечтать, что нашим правнукам суждено управлять народами, влияя на судьбы человечества своею научной и политической энергией!..

— Смею уверить, что ни сенатор Купар, ни доктор Бардо не будут моими женами! Я женюсь вот на ком! — заявил Жорж, подавая отцу фотографическую карточку Эстеллы.
— Имею честь представить вам девицу Эстеллу Лакомб, живущую теперь при родителях, на Лаутербрунненской станции. He обладая докторскими дипломами и не подвизаясь на арене политической деятельности, она тем не менее…
— Погоди-ка, фамилия эта мне знакома! — сказал Филоксен Лоррис. — Сюда заходила как-то г-жа Лакомб. Она наговорила мне массу всякой всячины, в которой я не мог хорошенько даже и разобраться. Дама эта, в беседе с моим фонографом, обозвала меня медведем и в заключение подарила мне пару якобы собственноручно вышитых ею туфель… Постой-ка! пока она объясняла фонографу побудительные причины своего посещения, с неё, как и со всех вообще моих гостей, была снята карточка. Вот эта карточка! Знаешь ты эту даму?

— Это мать Эстеллы! — воскликнул Жорж Лоррис при первом же взгляде на миниатюрный портрет.
— Ну, вот, теперь я понимаю по крайней мере все, тем более, что дама эта выдала тебе прекраснейший аттестат!.. Она назвала тебя очень милым молодым человеком… Для меня ясно её предпочтение. Во всяком случае моего согласия ты не получишь. Изволь жениться на девице Бардо!
— Нет, я женюсь на Эстелле Лакомб.
— Послушай, голубчик, будь паинька! женись по крайней мере хоть на девице Купар, сенаторе Сартского департамента…
— Нет, я женюсь на Эстелле Лакомб.
— Убирайся же ко всем чертям!!!

V
 Соблазнительная программа обручальной поездки. — Инженер-медик Сюльфатен и его пациент. — Истинно деловой человек. — Недостаток выносливости у современных интеллигентов.
Соблазнительная программа обручальной поездки. — Инженер-медик Сюльфатен и его пациент. — Истинно деловой человек. — Недостаток выносливости у современных интеллигентов.
Жорж Лоррис не принадлежал к числу молодых людей, которые могли бы смутиться давно предвиденным родительским отказом. Он ежедневно обращался к отцу с просьбой о согласии на брак с Эстеллой и ежедневно выдерживал ожесточенные натиски со стороны Филоксена Лорраса, упорствовавшего в намерении прельстить сына такими соблазнительными воплощениями современной женщины, какими надлежало признать, с точки зрения естественного подбора, велемудрых, серьезных и в достаточной уже степени зрелых девиц Бардо и Купар.
Тем временем супруга знаменитого ученого, повидавшись с семейством Лакомб, была сразу очарована Эстеллой и вследствие этого энергически приняла сторону своего сына. Необходимо, однако, присовокупить, что если б произведенное ею маленькое расследование привело к результатам, невыгодным для Лакомбов, то она пришла бы в отчаяние от необходимости сойтись в первый раз в жизни во взглядах с великим человеком, женой которого имела честь состоять.
Потребовалось четыре или пять месяцев довольно ожесточенной междуусобной борьбы, выражавшейся ежедневными стычками, для того, чтоб Филоксен Лоррис сделал вид, будто отрекается от доктора Бардо и сенатора Купар, и согласился, наконец, на обручальную поездку.
Неведомый нашим дедам мудрый обычай обручальной поездки заменил лет тридцать тому назад прежния свадебные путешествия. Эти последние, предпринимавшиеся молодыми после бракосочетания и традиционного завтрака или обеда, не приносили никакой практической пользы. Дело в том, что они оказывались слишком запоздалыми. Если молодые, до тех пор почти незнакомые друг другу, и распознавали за время после свадебного путешествия, путем долгого утомительного пребывания вдвоем с глазу на глаз, что были жертвами взаимного самообмана, и что их вкусы, идеи и характеры в действительности плохо гармонируют, то можно было помочь горю, вызванному столь прискорбным недоразумением, единственно лишь с помощью развода. Такая ампутация брачного союза всегда была сопряжена с многоразличными страданиями, или по крайней мере неудобствами, а в тех случаях, когда не решались к ней прибегнуть, приходилось влачить всю жизнь тяжелую цепь брачной каторги.
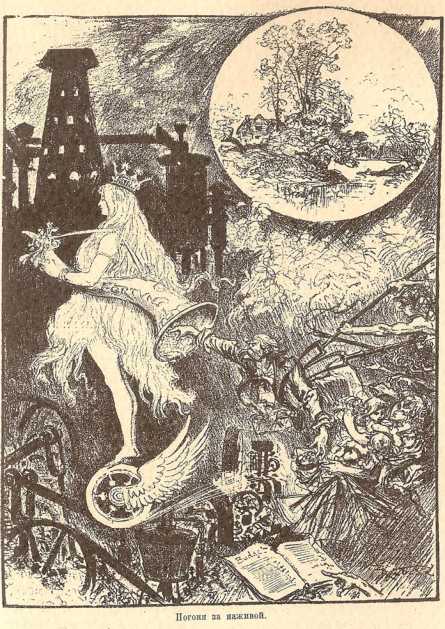
Теперь, когда свадьба уже решена, — когда все улажено, и брачный контракт написан, но еще не скреплен роковыми подписями, — жених и невеста, после скромного завтрака, на который приглашают лишь ближайших родственников, отправляются в так называемую обручальную поездку. Их сопровождает какой нибудь дядюшка, или хороший знакомый, отличающийся солидными добродетелями. Под эгидой скромного своего ментора они бесстрашно совершают маленькую прогулку по Европе или Америке, причем, смотря по обнаруживающимся у них вкусам и предпочтениям, останавливаются в больших городах, или же любуются естественными красотами гор и озер.

Во время такого путешествия, осложненного поездками в горы, катаньями на лодках по озерам, или прогулками в воздушных экипажах, а также обычной передрягой в гостиницах и кухмистерских, обрученные имеют достаточно досуга и возможности обстоятельно изучить друг друга… Каждый из них ознакомляется не только с казовой, но и с оборотной стороной характера своего партнера.

Оставаясь почти вдвоем в продолжение нескольких недель, они узнают друг про друга всю подноготную. Истинные их характеры выесняются, достоинства выступают наружу, а недостатки, — не только мелкие, но даже и крупные, в случае если таковые имеются, — начинают явственно просвечивать сквозь маску, под которой их обыкновенно принято скрывать. Тогда, если испытание обнаружило между обрученными серьезную дисгармонию, они не упорствуют в выполнении намерения, которое было принято без надлежащего знакомства друг с другом. По возвращении из поездки достаточно одного слова со стороны кого нибудь из обрученных и последующей затем присылки нотариального заявления (во избежание всяких недоразумений), для того, чтоб предположенный союз был отменен без всяких ссор и препирательств. Обрученные расходятся каждый в свою сторону с радостным сознанием, что удалось так счастливо избегнуть серьезной опасности. Вместе с тем каждый из них чувствует полнейшую готовность приступить к новой подобной же попытке, в надежде, что она увенчается более благоприятным результатом.

Действительно, статистика показывает, что в прошлом 1954 году во Франции из общего числа обручальных путешествий всего лишь 22
1/
2 процента привели к отрицательному результату, a 77
1/
2 закончились свадьбами. Общественная нравственность осталась в больших барышах от этой перемены в обычаях, так как, благодаря обручальным путешествиям, число разводов значительно уменьшилось.
— Пусть будет по твоему, — сказал, наконец, Филоксен Лоррис, утомленный борьбою и к тому же обдумывавший новое важное изобретение. — Отправляйся, пожалуй, с твоей Эстеллой в обручальное путешествие, но помни, что оно само по себе еще ни к чему не обязывает… Поживем — увидим!
Жорж Лоррис не заставил дважды повторять себе это разрешение. Он тотчас же помчался на Лаутербрунненскую станцию, уладил там все, что следовало, — сговорился с невестой и её родителями, и сам назначил день отъезда.
— Поживем — увидим! — вполголоса добавил Филоксен Лоррис, высказывая сыну вынужденное согласие на его брак с Эстеллой Лакомб. Фраза эта была приправлена сардонической улыбкой. Знаменитый ученый относился к свадебным поездкам очень пессимистически. Исходя из горького личного опыта, Филоксен полагал, что никакое чувство не устоит против тысячи мелочных неприятностей, с которыми неизбежно связано путешествие вдвоем для молодых людей, остававшихся до тех пор почти незнакомыми друг другу. Он припоминал собственное свое после свадебное путешествие (в его молодости обручальные поездки, ведь еще не вошли, во всеобщее употребление). Путешествие это продолжалось всего лишь каких-нибудь две недели, но молодые успели уже до такой степени поссориться друг с другом, что совместная жизнь казалась им положительно немыслимой. К сожалению, в данном случае нельзя было разойтись без дальнейших препирательств каждому в свою сторону, так как узы Гименеё были скреплены законным порядком у мэра и священника. Немедленно по выходе из трубы электро-пневматического сообщения Филоксен Лоррис и его супруга поручили адвокатам как нибудь уладить развод по обоюдному соглашению. Для этого потребовалась, однако, масса хлопот и мероприятий, связанных с такими проволочками, что даже энергический Филоксен, в водовороте своих изобретений и открытий, не находил возможным тратить столько времени на судебную волокиту, свиданья с юрисконсультами и судьями, ожидания в канцеляриях и т. д.
Закончив свои труды по усовершенствованию воздухоплавательных приборов, он устроил громадные мастерские для сооружения грузовых и быстроходных воздушных кораблей из несгораемого целлулоида с внутренними скрепами из трубчатого алюминия. Одновременно с этим ему удалось ввести в общее употребление новый электрический самолет, — так называемую воздушную стрелочку. Он изобрел означенный самолет, или точнее, — открыл принцип постройки этого воздухоплавательного прибора, еще на школьной скамье, когда бывало по праздникам совершал дальние полеты на обыкновенной воздушной стреле, употреблявшейся всеми гимназистами. Миниатюрный самолет отличался полнейшей безопасностью в употреблении. Вместе с тем управление им было до такой степени легко, что каждая мать могла совершенно спокойно дозволять прогулки на нем даже трехлетнему ребенку. Эта „стрелочка" доставила громадные барыши не только самому Филоксену Лоррису, но и целому легиону заграничных фальсификаторов, не замедливших выпустить в обращение массу подобных же воздухоплавательных аппаратов, являвшихся в сущности простыми подделками воздушной стрелочки великого изобретателя.

Он, однако, и не помышлял о том, чтоб возбуждать против этих дерзких подделывателей судебное преследование. Откуда взялось бы у него время на это? Применяя свои способности гораздо более производительным образом, Филоксен Лоррис предпринимал как-раз тогда в грандиозных размерах фонографическин издания, доставившие ему такую неувядаемую славу.
Всем библиофонофилам известны фонокниги Филовсена Лорриса, которые так удобно слушать даже в постели. Сколько отрадных часов доставляют они нам в длинные зимние вечера, в часы отдыха и в бессонные ночи! Ученые хранят как зеницу ока в своих фоноклишетиках великолепные его издания образцовых произведений литературы всех стран и народов, отличающиеся такой восхитительной, ясной дикцией и увековеченные с таким совершенством с голоса самих авторов (для современных писателей), или же с голоса знаменитейших художественных чтецов и лучших декламаторов (для более старинных произведений). Между прочим, Филоксен выпустил тогда в свет свою „Всеобщую историю“ в двенадцати больших клише и знаменитую „Поэтическую фоно-антологию“ из десяти тысяч фонограмм, помещавшуюся в ящике, который поддерживался колонной в античном вкусе и мог быть по желанию украшен бюстом Гомера, или Данте, — Гюго, Ламартина, Шекспира, Байрона, Пушкина, Льва Толстого и т. п. Вслед затем он издал большой механико-фонографический словарь, распроданный в десять лет в количестве трех миллионов экземпляров, и полный курс среднего образования в четырех тысячах фонографированных уроках лучших профессоров, не говоря уже о библиотеке новейших романов, расходившихся всегда в трехмесячный срок, за исключением экземпляров, потребных для фонографической библиотеки, главным акционером которой состоял сам Филоксен. Библиотека эта отпускала своим подписчикам обыкновенно по книжке в день.

He удивительно, если Филоксен Лоррис, голова которого была, кроме текущих изысканий и работ, занята тысячью новых предприятий, не имел возможности когда-либо бывать в окружном суде. С трудом лишь удавалось ему отрываться от научных своих занятий, для того, чтоб раз в две недели совещаться в течение каких нибудь двух минут по телефону с своим адвокатом.
Убедившись, что бракоразводный его процесс вследствие этого затягивается, Филоксен решил сделать жене кое-какие уступки, стал держать себя дома обходительнее и примирился с супругой, чтобы не отвлекаться от научных работ и всецело посвятить себя занятиям в лаборатории.

Потом, когда у него оказалось больше досуга, — так как пущенные в ход промышленные предприятия не требовали уже с его стороны беспрерывного надзора, — враждебные действия опять возобновились, но вслед затем новые изыскания и открытия всецело поглотили опять внимание Филоксена. Бракоразводное дело снова замялось. Примирения и ссоры между супругами чередовались таким образом с известного рода правильной последовательностью до тех пор, пока великий изобретатель не выяснил себе однажды, что в конце концов эти ссоры приносили чистый барыш с точки зрения научных и денежных интересов. Постоянные разногласия с женой, как бы пришпоривая ум мужа, не давали ему погрузиться в дремоту спокойствия и неги, а вместе с тем доставляли нервной системе необходимые возбуждающие импульсы.
— Поживем — увидим! — говорил сам себе Филоксен Лоррис, полагавшийся в данном случае на личный опыт. — Путешествие вдвоем будет неизбежно сопряжено со множеством разных неприятностей, которые вызовут между влюбленными столкновения. За этими столкновениями последуют разочарования, которые в свою очередь приведут к крупным ссорам. Я с своей стороны постараюсь устроить так, чтобы за мелкими неприятностями и столкновениями дело не стало… Поживем — увидим!

Филоксен взял на себя все приготовления к обручальному путешествию. Вместо того, чтоб предоставить в распоряжение обрученных воздушную свою яхту, он дал им несравненно менее удобный воздушный корабль и выбрал сам для них спутников. Жорж Лоррис, убаюкивая себя радостными надеждами и наслаждаясь мыслью, что отец, наконец, смягчился, не представлял никаких возражений родителю и безропотно соглашался на все его коварные предложения.
Обручальный завтрак состоялся в доме великого ученого. Г-н и г-жа Лакомб прибыли с Эстеллой на утреннем поезде электропневматического сообщения. Филоксен выказал необычайную предупредительность по отношению к г-же Лакомб, которую слегка смущало воспоминание об её беседе с фонографом знаменитого изобретателя.
— Как видите, милостивейшая государыня, я счел для себя приятной обязанностью явиться в туфлях, которые вы соблаговолили мне подарить, помните, в тот самый день, когда какая-то англичанка обозвала меня грубым медведем! Впрочем, тут, может быть, вышла по фонографу какая-нибудь путаница. He знаю наверное, именно ли англичанка… отнеслась ко мне до такой степени сурово?
— Разумеется, это была англичанка! — поспешно возразила г-жа Лакомб. — Смею вас уверить, что потом, когда мы вместе с ней подымались на верхнюю террасу, где ожидали воздушные экипажи, я прочла этой островитянке порядочную нотацию за неуместные выговоры…

— Я в этом нисколько не сомневаюсь и сердечно благодарю вас за такое милое заступничество!
Программа обручальной поездки была выработана самим Филоксеном Лоррисом и за десертом передана им сыну.
— Милые дети, — сказал ученый, — я принял все зависящие от меня меры, чтоб сделать путешествие для вас приятным и полезным. Вы будете иметь при себе в дороге все необходимые книги и приборы, — теодолиты, циркуля и другие измерительные инструменты, — карты, путеводители, сборники статистических сведений, тетради с вопросными пунктами, походную химическую лабораторию и т. д. и т. д. Программу путешествия вы, без сомнения, найдете очаровательной. Вам предлагается:

„Осмотреть Сент-Этьенские электрические доменные печи и металлургические мастерские; представить исследования и отчеты об улучшениях и усовершенствованиях, сделанных там за последнее десятилетие и т. п.
Полюбоваться большим овернским центральным резервуаром электричества, составить планы, профили и фасады всех имеющихся там приспособлений и снабдить эти чертежи должными пояснительными заметками; изучить систему искусственных вулканов, состоящих в связи с этим резервуаром, и представить подробные соображения о будущности эксплуатации электрической энергии для целей крупной промышленности и т. д.

„Исследовать в прежнем каменноугольном фландрском бассейне приспособления, установленные большой акционерной компанией „Электрического преобразования движущей планетной силы в механическую энергию, с передачею таковой на расстояние и раздроблением на произвольно малы количества“. Как вам известно, приспособления эти были вызваны истощением каменноугольных копей и спасли местную промышленность от угрожавшей ей гибели… Вам предстоит интересная задача отыскать, если можно, какие-нибудь новые применения или упрощения употребляемых там способов преобразования и передачи различных видов энергии и т. д. и т. д.“
— Ну, что вы на это скажете? He правда ли, ведь такое путешествие будет по истине очаровательным? — осведомился Филоксен Лоррис, передавая сыну, вместе с книжкой чеков, эту соблазнительную программу.
— Разумеется, оно будет очаровательным, — отвечал молодой человек, укладывая в карман и программу и чековую книжку.
Эстелла не смела ничего возразить, но в глубине души находила программу поездки не особенно привлекательной. Одна только г-жа Лакомб, вообще отличавшаяся необыкновенной отвагою, дерзнула сделать некоторые замечания.
— Это что-то непохоже на обручальную поездку, — сказала она. — Кажется, что маленькая прогулка в одном из европейских парков, ну, хоть бы в Италии, — чтоб осмотреть Геную, Венецию, Рим, Неаполь, Сорренто, Палермо, — проехать вдоль прибрежья Средиземного моря в Константинополь и Тунис, — побывать в Алжире, Марокко и т. п. была бы гораздо приятнее.
— Все это, знаете-ли, слишком шаблонно и, с позволения сказать, намозолило нам глаза уже в телефоноскоп, тогда как из поездки вроде той, какую я имел счастье теперь проектировать, вернешься во всяком случае с большим запасом новых мыслей!
Спросите вот, например, хоть у жены! Мы с ней устроили послесвадебную поездку в наиболее крупные американские промышленные центры и странствовали там с одного завода на другой. Правда, что моя супруга не избрала для себя научной карьеры и не пожелала принять деятельное участие в моих работах, но все-таки я уверен, что она вынесла из Чикаго наилучшие воспоминания!..
Завтрак скоро окончился, так как Филоксен Лоррис торопился обратно в лабораторию. Ему недосуг было даже проводить жениха и невесту на верхнюю террасу, служившую дебаркадером, и присутствовать при их отъезде. Взамен того он передал сыну фонографическое клише.

— Здесь ты найдешь мои пожелания вам счастливого пути, сердечные излияния родительских моих чувств и напутственные советы. Чтоб не терять времени, я приготовил все это сегодня утром, пока умывался. До свидания!
Как уже упомянуто, обрученные путешествовали всегда с провожатым, или даже с несколькими провожатыми. На этот раз роль менторов, требуемую приличиями, приняли на себя старший домашний секретарь Филоксена Лорриса, — Сюльфатен, и крупный промышленный деятель, — Адриен Ла-Героньер, бывший сперва компаньоном и помощником Филоксена, но за последнее время удалившийся от дел вследствие расстроенного здоровья.
Пока путешественники размещаются на воздушном своем корабле, уместно будет представить читателю гг. Сюльфатена и Ла-Героньера. Первый из них — рослый дюжий мужчина лет тридцати пяти или тридцати шести, широкоплечий, крепко сложенный, с грубоватыми манерами и некрасивым, но чрезвычайно интеллигентным лицом, озаренным необыкновенно живыми проницательными глазами, сверкающими словно электрическим светом. Его зовут Сюльфатеном и, кроме этого странного химического прозвища, никакого другого имени у него нет.
О происхождении старшего секретаря фирмы Филоксена Лорриса сложилась таинственная легенда. В научных кружках твердо убеждены в справедливости рассказов о том, что хотя у Сюльфатена нет ни отца, ни матери, он все же не может быть назван сиротой по той простой причине, что у него никогда и не было родителей!.. Сюльфатен родился при совершенно иных условиях чем те, в которых рождаются по крайней мере до сих пор обыкновенные смертные. Короче сказать, он был результатом искусственного химического процесса. Первый младенческий его крик раздался в лаборатории, а материнской утробой для него служила стеклянная реторта соответственной вместимости. Сюльфатен родился лет сорок тому назад из весьма сложных химических соединений, открытых многоученым доктором, фантастические мозги которого постоянно работали над самыми странными идеями, оказывавшимися иной раз в высшей степени гениальными. Этот ученый умер в доме умалишенных, израсходовав все свое состояние и весь свой мозг на исследование величайших задач природы. Из всех открытий, сделанных этим грандиозным гением, столь злополучно погибшим в пучине умопомешательства, прежде чем он успел совершенно закончить дивные свои исследования и опыты, остались на лицо лишь воскрешение съедобного аммонита, — мягкотелого, исчезнувшего со времен третичной эпохи и разводимого теперь близ берегов Франции в больших размерах на отмелях, где этот промысел весьма серьезно соперничает с разведением устриц в Канкале и Аркашоне, — небольшой, проживший всего только шесть недель, пробный ихтиозавр, скелет которого сохраняется в музее, и наконец Сюльфатен, — образчик добытого искусственным путем естественного первобыт-
отсуствовали страницы в оригинале 96–99
этим живым мощам немного менее семидесяти лет, мысленно упрекая себя за то, что сбавляете им с костей десяток — другой, а между тем почтенному старцу недавно только исполнилось сорок пять лет.
Да, Адриен Ла-Героньер является образцом нашего малокровного поколения, израсходовавшего нервную свою силу, и притом образцом совершеннейшим в смысле идеального преувеличения. Таков нынешний человек, — хрупкое ничтожное былие, столь быстро расходующееся в истинно-электрическом напряжении лихорадочно-спешного нашего существования, если у этого былия нет возможности или решимости давать от времени до времени отдых уму, измученному чрезмерной беспрерывной деятельностью, и освежать ежегодно абсолютным спокойствием тело и душу на лоне восстановляющей природы. Необходимым условием для этого является отъезд из Парижа, — этого беспощадного мучителя мозгов, куда-нибудь подальше от промышленных центров, — от заводов и фабрик, контор, магазинов, — от политики и в особенности от беспощадной тирании разных телефонов, фонографов, телефоскопов, и вообще всех беспощадных машин и приспособлений поглощающей нас электрической жизни. Эти социальные факторы именно и доводят наши нервы до такого крайнего напряжения. Они собственно и образуют собою всепоглощающий вихрь, в котором мы живем, — переносимся с места на место, — летаем и задыхаемся в грозных, сверкающих его кольцах.

Вся глубина страшного физического упадка, угрожающего слишком развитым в нервном отношении расам, высказывается как нельзя более ясно у этого несчастного двуногого, почти утратившего человеческое подобие. Такие образчики царя творения встречаются теперь на каждом шагу целыми тысячами в больших городах, в центрах промышленной деятельности, где современная жизнь, с её беспощадными требованиями, опустошает организмы, слабосильные от рождения, принуждая их к чрезмерному умственному возбуждению. Эта инквизиционная пытка обусловливается непосильным развитием мозга, необходимым для того, чтобы держать беспрерывный ряд мучительных экзамееов, преследующих человека с момента достижения школьного возраста и до престарелых лет, так как почти во всех отраслях деятельности необходимым условием успеха является получение новых всевысших дипломов и аттестатов.
Попытки возрождения и укрепления организма с помощью гимнастики и физических упражнений, организованных в научно-систематическом порядке, не увенчались желанным успехом, хотя в прошлом столетии на них и возлагали большие надежды. Правда, гимнастика и физическая выработка организма начали было входить в моду и, по-видимому, даже приводили иногда к полезным результатам, но тем не менее от них пришлось отказаться за недостатком времени, которое все целиком надо было посвящать умственному труду. Одновременно с недостатком времени обнаружился кроме того и недостаток сил, потребный для гимнастических упражнений.
Каждое последующее поколение становилось все слабосильнее под гнетом чрезмерного мозгового труда, — умственного переутомления, вызванного силою обстоятельств, — переутомления, от которого никто не мог избавиться. Люди вскоре перестали вести борьбу с неизбежным роком и отказались от теоретически необходимого противовеса мозговой работе. Вследствие этого они с каждым поколением становились все малокровнее и гибли от преждевременного истощения целыми массами на поле жизненной битвы.
Это вырождение, задержать которое оказывалось невозможным, привело в ужас врачей. Вынужденные отказаться от борьбы с малокровием при помощи физических упражнений, они прибегли к другому средству и сделали несколько попыток возрождения пород с чрезмерно утонченными нервами путем разумного скрещивания с представителями, или представительницами прямо противоположных органических свойств. Им удалось женить нескольких юных представителей малокровной интеллигенции на здоровенных крестьянских девушках, найденных после тщательных поисков в отдаленных деревенских захолустьях. Подобным же образом несколько десятков бледных хрупких барышень из ультра-цивилизованного кружка выданы были замуж за малограмотных носильщиков-негров, отысканных на пристанях реки Конго и внутренних африканских озер.

Очевидно, что подобные попытки возрождения могли бы благоприятно повлиять на будущность расы лишь при условии государственного вмешательства с целью обязательного упорядочения браков. Процесс возрождения, предписанный правительственным указом, предпринятый в широких размерах и систематически применяемый в течение нескольких поколений, разумеется, должен привести к желанной цели. К несчастью, однако, несмотря на неотложную необходимость в подобном шаге, существующие политические условия не дозволяли до сих пор правительству мужественно вступить на этот путь и возложить на себя ответственность, сопряженную с таким решением.
Мы еще недостаточно созрели для осуществления столь здравой мысли. Мы признаем за государством право располагать по усмотрению жизнью граждан и устилать землю их трупами, но не можем представить себе правительства в роли настоящего отца семьи, заботящимся об интересах потомства и стремящимся по возможности обеспечить мудрыми мероприятиями здоровый и крепкий организм будущим гражданам.

Это воронье пугало, этот шатающийся живой скелет, Адриен Ла-Героньер, является потомком могучих воителей, о которых рассказывают древние историки. В жилах его течет кровь галлов, закаленных в боях и в борьбе со стихиями, — галлов, которые ходили почти нагишом и тем не менее выносили всякие бури и непогоды. Кровь эта последовательно смешалась с кровью могучих франков, норманнов и храбрых средневековых витязей, носивших на себе толстые железные брони и разивших врагов тяжелыми мечами и боевыми секирами. Потомок этих героев, к сожалению, походит скорее на какую-нибудь смешную мартышку, дрожащую от старческого бессилия, чем на своих предков с твердыми мышцами и горячею кровью.
Бедный Ла-Геропьер! Его подвергли с самой ранней юности действию интенсивнейшего образования, благодаря которому, 17-ти лет от роду, он был украшен уже дипломом доктора всех наук и чином инженера. Затем, к величайшей радости всех ему близких, он вышел одним из первых из международного института научной промышленности и, снабженный таким образом интеллектуальным оружием превосходнейшего закала, устремился в борьбу за существование, с твердой решимостью достигнуть как можно скорее богатства.
В настоящее время, когда жизнь стала так баснословно дорога, — когда бедняк с миллионным капиталом может на доходы с него лишь кое-как влачить свое существование где нибудь в деревенском захолустье, не трудно представить себе, сколько миллионов должны заключаться в слове „богатство".
Гипнотизированный блеском этого волшебного слова, наш Ла-Героньер бросился очертя голову в бешеный водоворот деловой жизни. Он отдался ей всем телом, всей душою и мыслью. Поступив в лабораторию Филоксена Лорриса, он вскоре стал деятельнейшим его сотрудником в научных исследованиях и компаньоном в некоторых наиболее крупных промышленных его предприятиях.
В течение нескольких лет Ла-Героньер положительно не давал себе ни минуты отдыха. В наше время, если тело и покоится ночью, разумеется, после долгой вечерней работы, то лихорадочно возбужденный ум все же не прекращает своей деятельности. Подобно машине, пущенной полным ходом, он не может сразу остановиться и продолжает работать во сне. Ночные грезы имеют чисто деловой характер. Это нескончаемый кошмар расчетов и соображений относительно текущих и только еще замышляемых промышленных предприятий…
„Потом! Мне недосуг!.. Еще успею!.. Надо сперва заручиться богатством!..“— говорил сам себе Ла-Героньер, когда у него случайно пробуждалось стремление отдохнуть и успокоиться.
„Еще успею насладиться жизнью! Еще успею жениться!" уверял себя труженик-инженер, все глубже погружаясь в научные исследования и вычисления, в надежде таким путем скорее достигнуть намеченной цели.
Вот, наконец, он её и достиг. Он располагает по истине громадным, блестящим состоянием, дающим ему право на все радости жизни, от которых он до сих пор так упорно отворачивался. К сожалению, однако, богач Адриен Ла-Героньер обратился в дряхлого, словно восьмидесятилетнего старца. Без зубов, волос и аппетита, поджарый, сгорбленный, изможденный и отощавший до нельзя, он мог теперь, да и то лишь при соблюдении величайших предосторожностей, не вставая с кресла протянуть еще несколько лет. В совершенно расслабленном его теле дремал почти столь же расслабленный ум, вспыхивавший лишь по временам как ночник, собирающийся угаснуть. Корифеи медицинского факультета, призванные на помощь, тщетно пытались применять самые энергические крепительные средства, чтобы вернуть сколько нибудь силы преждевременно состарившемуся
несчастливцу и хоть немного воскресить злополучного, полуживого миллионера. Все их попытки доставляли лишь временное облегчение и только слегка задерживали процесс дальнейшего ослабления.

Тогда именно Сюльфатен, один из самых выдающихся инженер-медиков, смелый ум которого далеко опережал в полете своих исследований все известные в науке воззрения и системы, решился подвергнуть радикальному исправлению организм, очевидно собиравшийся развалиться, и перестроить его совершенно заново.

Обеспечив себе нотариальным договором приличное вознаграждение, долженствовавшее возрастать с каждым годом, который удастся прожить его пациенту, Сюльфатен обязался, с своей стороны, поставить его на ноги и вернуть ему к концу третьего года внешний вид, соответствующий по меньшей мере среднему состоянию здоровья. Больной всецело поступал в распоряжение врача и обязывался, под страхом громадной неустойки, безропотно исполнять все его предписания, не отступая от них ни на йоту. Прожив несколько времени в согревающем приборе, изобретенном инженер-медиком Сюльфатеном и представлявшем некоторое сходство с аппаратом, в котором воспитывают в продолжение нескольких первых месяцев преждевременно родившихся младенцев, Лa-Героньер начал медленно возрождаться. Сюльфатен сперва приставил к нему нянькой отставную старшую сиделку из казенной больницы, которая обходилась с ним как с ребенком, кормила его из рожка, катала в колясочке под деревьями в парке Филоксена Лорриса, и возвращалась домой, чтоб уложить его в постельку, когда он начинал дремать в экипаже. Вскоре пациент оказался в состоянии шевелить руками и ногами, а затем начал ходить без особенного затруднения. Сюльфатен освободил его тогда от колясочки и позволил иногда гулять пешком, в сопровождении няни. Это было уже несомненно блестящим результатом.
— Но ведь если этот чертовский Сюльфатен заставит меня прожить еще двадцать лет, то я разорюсь вконец, — грустно причитывал иногда Ла-Героньер.
— Успокойтесь, — возражал ему Сюльфатен, — лет через пять или шесть, когда вы в достаточной степени поправитесь, я дозволю вам слегка позаняться делами, разумеется, с должной осторожностью и постепенностью, и вы тогда мигом заработаете суммы, которые должны мне уплачивать… Помните только, что вы обязались беспрекословно повиноваться! При первом же факте непослушания я кладу себе в карман неустойку, — крупненькую неустойку, и оставляю вас на произвол судьбы.
— Буду слушаться, буду!..
Действительно, Ла-Героньер, не на шутку напуганный такою перспективой, беспрекословно подчинялся всем распоряжениям инженер-медика, принявшего его на свое попечение.
Филоксен Лоррис, великий ученый, у которого этот инженер-медик был просто на-просто домашним секретарем, имел, очевидно, свои особые соображения, когда, проектируя для сына обручальную поездку, назначил спутниками жениху и невесте именно доктора Сюльфатена и его пациента. В самом деле, Филоксен имел с своим секретарем долгое совещание и дал ему обстоятельные инструкции, заканчивавшиеся следующими предписаниями:
— „Роль ваша, друг мой, по отношению к обрученным будет в сущности очень простою. Мне надо лишь, чтоб они вернулись поссорившись друг с другом, или, по крайней мере, чтоб мой вертопрах Жорж утратил дорогие иллюзии, которыми украшает теперь свою невесту. Вы, разумеется, знаете, что влюбленный находится как бы в состоянии гипноза, и оказывается поэтому жертвой систематических иллюзий. Наша цель должна заключаться в том, чтоб разбудить его и рассеять его иллюзии. Стоит только несколько раз набросить тень на блестящий предмет, чтоб он утратил чрезмерное свое сияние!.. Вы, без сомнения, понимаете, что у меня имеются на сына совершенно иные виды. Я прочу ему в невесты девицу Купар, — сенатора Сартского департамента, или достопочтенную Бардо, — доктора всех наук. Дело устроилось бы всего лучше, если б вы сами женились на этой барышне! За приданым я не постою. Или, пожалуй, выдайте ее замуж за Героньера… Ваш Ла-Героньер становится мало помалу довольно представительным. Вы, без сомнения, меня поняли. Тем временем, имея у себя под рукой вашего пациента, производите над ним опыты, необходимые для задуманного нами крупного предприятия. Мелкие хлопоты из-за этой взбалмошной молодежи не должны отвлекать нашего внимания от серьезных вещей!
— Слушаю и понимаю! — подтвердил Сюльфатен.
Читатель мог убедиться, что Филоксен Лоррис, делая вид, будто соглашается женить сына на избраннице его сердца, поступал, однако, не без задней мысли. Он надеялся, что в конце концов обручальная поездка окончится охлаждением и разрывом между женихом и невестой. Тогда кровь Лоррисов, испорченная атавистическим влиянием предка-художника, будет иметь случай возродиться женитьбой Жоржа на докторе всех или, по крайней мере, нескольких главнейших наук. Для большей уверенности в том, что обрученные непременно поссорятся друг с другом, он приставлял к ним надежного человека, который, без сомнения, сумеет рассеять иллюзии юного Лорриса и выеснить ему все неприятные стороны столь легкомысленного брака.

VI
 Национальный Арморикский парк, закрытый для современной промышленности и всех научных нововведений. — Дилижанс. — Прежняя жизнь в прежней обстановке. — Гостиница св. Ива в Керноеле. — Совершенно новая сторона в Сюльфатене.
Национальный Арморикский парк, закрытый для современной промышленности и всех научных нововведений. — Дилижанс. — Прежняя жизнь в прежней обстановке. — Гостиница св. Ива в Керноеле. — Совершенно новая сторона в Сюльфатене.
Волны океана ласково и нежно плещутся о блестящий, словно позолоченный песок узенькой бухты, окаймленной живописными скалами, вздымающимися местами совершенно отвесно. Скалы эти увенчаны массами зелени, свешивающейся с них иногда до самого уровня волн. Погода стоит прекрасная. Вся природа как будто улыбается. Солнце сияет и от скал, обрызганных белою пеной, доносится чарующая дивная песнь лепета волн.
В глубине бухты, возле нескольких лодок, вытянутых на берег, виднеются стародавние рыбачьи хижины, покрытые рыжей соломой, над которыми, на вершине обрывистой скалы, вздымают к небу свои серые обросшие мхом главы три или четыре менгира, являющиеся как бы привидениями давно минувших времен. Вдали, на берегу маленькой капризной речки, низвергающейся шумными водопадами, раскинулось местечко. Дома его прячутся в сени дубов, илимов и каштановых дерев, сквозь которую прорезается изящный высокий резной шпиц католической церкви. Всюду кругом царствует глубочайшее спокойствие. С одного конца горизонта и до другого, по скольку можно видеть хотя бы даже вооруженным глазом, поверх черты голубоватых холмов, за которой выступают там и сям другие колокольни, — нигде незаметно даже и следа заводов или фабрик, так портящих все живописные уголки, созданные матерью-природой, — отравляющих своими мерзостными отбросами прозрачные воды рек, — загрязняющих все вблизи и вдали, вверху и внизу, не исключая даже облаков на небе… He видать более труб электро-пневматического сообщения, прорезающих ландшафты своими некрасивыми прямолинейными очертаниями. Нигде не замечается громадных высоких зданий, служащих резервуарами электричества. Во всей окрестности нет воздушных пристаней, и ясная лазурь неба не омрачается движущимися пятнами воздушных кораблей.

Где же мы очутились? Уж не вернулись ли мы на полтора века назад? Или быть может мы попали в такое отдаленное захолустье, куда не удалось еще до сих пор проникнуть прогрессу?
Оба эти предположения одинаково ошибочны. Мы во Франции, на бретонском взморье, в той части бывших департаментов Морбиганского и Финистерского, которая, под именем национального Арморикского парка, образует территорию, подчиненную особым порядкам.
Несомненно, что эти порядки кажутся на первый взгляд весьма своеобразными. Законом, постановленным лет пятьдесят тому назад в интересах общего блага, национальный парк, на всем своем протяжении, был изъят из сферы действия научного и промышленного движения, начинавшего тогда столь быстро изменять и так радикально преобразовывать не только внешний вид земной поверхности, но вместе с тем нравы, характеры, потребности, привычки и образ жизни раскинувшегося на ней земного муравейника.
В силу этого охранительного закона, задавшегося мудрою целью сберечь среди всеобщего переворота, вызванного бешеной погоней за прогрессом, хоть маленький кусочек прежнего мира, где человеку можно было бы дышать свободно, — национальный Арморикский парк является как бы особой страною, закрытой для всех научных нововведений и современных крупных промышленных предприятий. Прогресс останавливается у пограничных столбов этого парка и не смеет идти далее. Кажется, будто часы времен там испорчены. Всего лишь в нескольких милях от города, где безраздельно и торжественно царствует научная наша цивилизация, мы оказываемся перенесенными опять в средние века и возвращаемся к сонному спокойствию блаженной памяти девятнадцатого столетия.
В этом национальном парке, проникнутом мирной тишиной прежней провинциальной жизни, собираются все израсходовавшие нервную свою энергию. Все переутомленные электрической жизнью малокровные интеллигенты с надорванными мозгами набираются там новых сил, ищут спасительного отдыха, забывают подавляющие соображения рабочих своих кабинетов, фабрик и лабораторий, радуясь, что очутились вдали от всяких поглощающих и расстраивающих нервную силу машин и приборов, — вдали от всех теле- и фоно, — от электро-пневматических труб и реющих по небу летательных машин.
Каким же образом очутились здесь обрученные Жорж Лоррис и Эстелла Лакомб с Сюльфатеиом и его пациентом Ла-Героньером, когда по инструкциям Филоксена Лорриса им надлежало теперь изучать электрические доменные печи Луарского бассейна, или же Овернские искусственные вулканы?
Усадив Эстеллу в кресло, сплетенное из ивовых прутьев, Жорж Лоррис тщательно сложил инструкции своего родителя, спрятал их в карман и конфиденциально отдал механику какие-то приказания. Вслед затем воздушный корабль, направлявшийся сперва было к югу, повернул мало помалу вправо и пошел прямо к западу. Сюльфатен щупал как-раз в это время пульс у своего пациента и без сомнения ничего не заметил. По крайней мере он не сделал Жоржу ни малейшего замечания. Погода стояла отличная. Изумительная прозрачность воздуха дозволяла глазу исследовать в мельчайших подробностях колоссальную панораму, как-будто развертывавшуюся с головокружащей быстротой под воздушным кораблем: цепи холмов, желтые и зеленеющие равнины, прихотливо изрезанные извилинами серебристых речек, — леса, раскидывавшиеся там и сям большими темнозелеными пятнами, — деревни, города и местечки, группы изящных вилл, предместья богатой столицы, присутствие которой угадывалось вдалеке, благодаря густому рою носившихся над нею воздушных экипажей, — промышленные центры, черневшие заводами и фабриками, странные очертания которых окутывались облаками густого дыма. Иной раз уже по одному только цвету дыма можно было определить, что именно там вырабатывается…
В продолжение некоторого времени воздушный корабль летел в шестистах метрах над электропневматической трубой, соединяющей Париж с Брестом. Навстречу попалось несколько воздушных судов и дилижансов-самолетов, следовавших из Бретани в Париж. Сюльфатен, любовавшийся пейзажем в усовершенствованный лорнет-телескоп, продолжал безмолствовать. Он не сделал ни малейшего замечания, даже когда воздушный корабль пронесся над городами Лавалем, Витре и Ренном, хотя Жорж называл их при нем вслух своей невесте.
Внезапно Эстелла, словно пробудившись от чарующего сна, высвободила свою руку из руки Жоржа.
— Боже мой, я была до такой степени счастлива, что даже об этом до сих пор и не подумала!.. Разве мы не едем в Сент-Этьен? — спросила она.
— Для изучения там электрических доменных печей, колоссальных молотов, вальцевален и разных промышленных приспособлений, вроде искусственных вулканов и т. п. — добавил с улыбкою Жорж. — Нет, Эстелла, мы едем вовсе не туда!
— Но ведь нам даны г-м Филоксеном Лоррисом положительные инструкции…
— Я не расположен теперь к развлечениям, программу которых составил для нас папаша. Мне пришлось бы слишком насиловать свой ум, совершенно утративший в данную минуту способность увлекаться прелестями науки и промышленности.
— Однако же…
— Неужели вам угодно, Эстелла, чтоб я стал чем-нибудь вроде Ла-Героньера? Мне лично хотелось бы на возможно более долгое время забыть всю научную прозу, если только вы сами не пожелаете погрузиться в бездну таких чарующих вещей, как фабрики и заводы, доменные печи, электричество, пневматические трубы и все вообще современные чудеса, создающие нашу тревожную, лихорадочную жизнь. Мне было бы, признаться, очень желательно до поры до времени вовсе о них не слышать!..
Воздушный корабль пристал к последнему дебаркадеру на границе национального парка, не возбуждая никаких возражений со стороны Сюльфатена. Путешественники сошли на землю ровно в шесть часов вечера. Жорж Лоррис немедленно повел все общество к странной колеснице, окрашенной в желтый цвет и запряженной двумя малорослыми, но сильными лошадками.
— Да ведь это, кажется, дилижанс? — вскричала Эстелла. — Я видела нечто подобное на старинных картинах, но, признаться, не думала, что такие экипажи существуют еще до сих пор. Какое счастье. Мы поедем в дилижансе!
— До самого Керноеля, да еще по какой живописной дороге! Я уверен, что вам здесь очень понравится, хотя вы и встретите тут много удивительного. Вообще в национальном бретонском парке вы не найдете ничего напоминающего современную цивилизацию… Меня удивляет, однако, что наш приятель Сюльфатен молчит и не протестует против этого отступления от программы… Я просто цепенею от изумления. Впрочем, ученые ведь до такой степени рассеяны, что Сюльфатен, чего доброго, воображает себе теперь, будто мчится в воздушном кабриолете!

Два часа ехали они по отличнейшим шоссейным дорогам, где ничто не напоминало обычной цивилизованной обстановки. Спокойные маленькие деревушки с соломенными крышами, — кресты с изваянными из гранита изображениями святых, — гостиницы, вывесками для которых служили пуки омелы, — стада свиней, охраняемые стариками в фантастическом одеянии, — одним словом самые изумительные картины, как бы воскресавшие из недр прошлого, или отделившиеся от полотна, которое осталось где-нибудь в старинном музее, — вот все, что мог подметить глаз по обе стороны дороги. Эстелле, выглядывавшей из окна дилижанса, казалось, будто она видит наяву сон. В деревнях крестьянки сидели у порога дверей своих хижин, усердно ворочая самопрялку, — настоящую самопрялку, которую можно встретить теперь лишь на старинных рисунках. Мало того, на откосах, по окраинам дороги, виднелись на траве деревенские бабы с прялками самой первобытной конструкции.

— Все это как-то не вяжется с громадными руанскими фабриками, поглощающими каждое утро сорок тысяч кип шерсти, которую там моют, чешут, красят, прядут и ткут, так что она к вечеру оказывается уже преобразованной в сюртуки, жилеты, чулки, шали и башлыки, — заметил инженер-медик Сюльфатен.
Очевидно, он вовсе не был до такой степени заражен рассеянностью, как это предполагали. Жорж бросил на него до чрезвычайности изумленный взгляд. Сюльфатен оказывается знал, куда едут, и все-таки не протестовал!

По стародавнему обычаю почтальон считал долгом останавливаться дорогой у всех харчевен, причем каждый раз перекидывался несколькими словами со служанками, выбегавшими из сеней, и выпивал большую кружку сидра, к которому добавляли рюмочку водки. Наконец, после перемены многих декораций, каждая из которых казалась очаровательнее и античнее предшествовавшей, возница указал путешественникам концом своего кнута высокий церковный шпиц, вырезавшийся на небе над вершиной холма.
Это был Керноель, маленький городок, словно вправленный в рамку из золотистого вереска, на берегу речки, впадавшей в двух верстах оттуда в море. Раздалось щелканье бича, звяканье лошадиных подков о мостовую, и дилижанс, громыхая, промчался по городу во всю прыть своих лошадок, пущенных вскачь. Это был бесспорно хорошенький миниатюрный городок в старинном вкусе, обнесенный полуразрушившимися укреплениями, поросшими мхом и осененными большими деревьями. На холме красовалась серая каменная церковь, с желтыми панелями, казалось, покровительственно глядевшая на окружавший ее хаос старинных высоких крыш, — на извилистые улицы, вдоль которых теснились крытые черепицей дома, все балки которых опирались наружными концами на бородатые фигуры святых или же, наконец, на уродливые фантастические головы, приветствовавшие прохожих самыми смешными гримасами.
К довершению всех диковинок, в городе этом сохранились старинные уличные фонари, подвешивавшиеся на перекрестках. Фонарщику стоило только дернуть за веревку, и фонарь опускался, так что его можно было зажечь с помощью маленького огарка, вставленного для этой цели в особый фонарик. Трудно представить себе что-либо изумительнее. Все городское население выбегает на улицу любоваться проезжающим дилижансом. Торговцы выскакивают из дверей своих лавок, а женщины выглядывают из окон. Путешественники восхищаются, в свою очередь, костюмами обывателей и обывательниц. Местное население, очевидно, в одинаковой степени пренебрегает и современными идеями и модами. Оно свято хранит традиционные костюмы предков. Мужчины ходят в штиблетах и коротких панталонах с брагеткою, — в вышитом камзоле и в шляпе с широкими полями. Женщины носят синие или красные корсажи с широкими бархатными оборками, — прямые юбки с тяжелыми складками, хорошенькие белые воротнички и капоры, вроде крылаток. Все это по истине великолепно. Видеть такие костюмы можно только здесь, или в столичном театре, во время спектакля.
Дилижанс остановился на большой площади, близ гостиницы „Св. Ива“, по сторонам которой красовались две других гостиницы: „Красного Коня“ и „Бретонского Герба.“ Дородная, но очень суетливая трактирщица и служанки с веселыми лицами радушно встретили путешественников при выходе их из дилижанса. Им отвели просторные комнаты с окнами на улицу и на живописный двор, окруженный разными постройками со множеством павильонов, башенок с витыми лестницами, конюшен и сараев с крышами на деревянных резных столбах, под сенью которых теснились всевозможные древние экипажи, омнибусы, брички, коляски, кабриолеты, таратайки и т. д.

Эстелла заняла две комнаты, одну маленькую для Гретли, а другую для себя. Эта последняя оказалась громаднейшей залой, с резными потолочными балками, большим камином и античной мебелью. Стены, оклеенные обоями и большими цветами, были украшены наивными средневековыми литографиями, изображавшими приключения Женевьевы Брабантской.
Со следующего же дня началась для путешественников совершенно новая жизнь. День был торговый, и базар собирался на площади как раз перед гостиницей „Св. Ива“. Пробудившись от шума и гула, обрученные смотрели из своих окон на тянувшуюся мимо вереницу телег с овощами, — ослов, навьюченных корзинами с картофелем, капустой и луком, — крестьян, привезших с собой в маленьких тележках чисто умытых розовеньких поросят, и крестьянок, управлявших с помощью хворостины целыми стадами болтливых гусей.

Эстелла и Жорж не замедлили выйти вместе с Гретли на площадь и принялись там бродить среди крестьян и торговок, молочниц и горожанок, приторговывавшихся к пучку моркови, или же к паре уток. Вскоре присоединился к ним Сюльфатен со своим пациентом. Все эти сценки из уличной жизни казались до нельзя интересными ультрацивилизованным интеллигентам. Они подолгу останавливались перед молочницей, отмеривавшей свой товар покупателям, — перед точильщиком, который тут же на площади точил горожанам и крестьянам ножи и ножницы, и перед кузнецом, подковывавшим лошадь: зрелище совершенно новое и полное величайшего интереса для людей, привыкших летать по воздуху.
После завтрака, угрожавшего затянуться на нескончаемый срок, так как из кухни (откуда доносились необычайно вкусные запахи) беспрерывно появлялись служанки с новыми блюдами, путешественники отправились гулять к речке. Затем они спустились к морю по тропинке, прихотливо извивавшейся чрез поляны, заросшие тростником, — прогалины, покрытые желтым песком, — под деревьями, где раздавались удары вальков, которыми усердно действовали прачки в синих корсажах, — мимо расшатавшихся деревянных мостов, переброшенных со скалы на скалу возле старых поросших мхом мельниц, большие позеленевшие колеса которых, медленно вращаясь течением, брызгали из своих ковшей словно потоками искр.

Гретли была вне себя от восхищения. Она видела здесь неподдельную природу без всякого следа проводников электричества, раскинувшихся над остальным земным шаром, словно громадная сеть из тысячекратно скрещивавшихся петель. От времени до времени она подымала голову, удивляясь и радуясь, что не видит более на небе беспрерывно снующих воздушных экипажей.
Она завистливо поглядывала на бретонок, бродивших босиком по берегу. Для полноты счастья ей недоставало только разрешения разуться подобно тому, как она делала это еще ребенком, в горах, — чтобы сберечь свои башмаки.
По крайней мере здесь не представлялось ни малейшей надобности в изолирующих туфлях и незачем было опасаться какой-либо неожиданной выходки со стороны электричества.

Без сомнения, Филоксен Лоррис остался бы до чрезвычайности недовольным, если бы мог видеть, как проводили время на керноельском взморье жених и невеста. После полудня в этот самый день и во все последующие дни в течение двух недель Жорж Лоррис лежал на песке возле Эстеллы Лакомб в тени какой-нибудь скалы, или же лодки, вытащенной на берег. Во время прилива обрученные избирали себе место отдыха соответственно выше, — в густой траве у подножия менгиров. Они проводили эти счастливые дни в очаровательной и дружеской беседе, или же читали вместе, но только не "Химический Ежегодник" и не „Политическое Обозрение“, а какой-нибудь том стихотворений, или же сборник бретонских легенд и преданий. По истине было отчего прийти в ужас!
Но всем вероятиям Филоксен Лоррис пришел бы в еще большее изумление, увидев там же и Сюльфатена с трубкой в зубах, окутывавшего себя целыми облаками дыма, в то время, как его пациент, Адриен Ла-Геропьер, гулял с Гретли вдоль берега, собирая раковины, или срывая цветы для букета. Ла-Героньеру стало уже сравнительно лучше. Он не был уже несчастным переутомленным старикашкой, которого приходилось держать целых три месяца в особом согревающем аппарате — вроде прибора для высиживания цыплят. Он видимо поправлялся. Метод лечения, изобретенный инженер-медиком Сюльфатеном, творил чудеса, особенно же при со-действии превосходной гигиенической обстановки национального парка.
Обручальная поездка и сопряженное с ней для жениха и невесты частое пребывание вдвоем не вызвали между ними ссоры, казавшейся Филоксену Лоррису неизбежною. Напротив того, молодые люди проводили дни и вечера самым очаровательным образом в долгих беседах, в которых беззаветно высказывали свою душу. Таким образом жених и невеста все короче знакомились друг с другом, причем между их вкусами, мыслями и надеждами все более выеснялась гармония, дозволявшая рассчитывать на долгое счастливое будущее в предположенном браке.
Они заходили в чудную старинную церковь, украшенную наивными статуями святых и маленькими корабликами, привешенными к готическим сводам во исполнение обета верующих. Там, среди прихожан, нарядившихся в праздничные костюмы, они слушали обедню и вечерню. После вечерни устраивались на площади танцы. На помосте из досок, подпертых бочками, располагаются музыканты, извлекающие из волынок и флейт своеобразные резкие звуки. Бретонцы и бретонки, сплетаясь в громадные хороводы, кружатся и прыгают, напевая старинные простые и наивные песни.

Какое блаженство вернуться к первобытным временам и слушать веселые или грустные старинные песни… Увлеченные примером, а быть может также сокровенным атавистическим влиянием древних обычаев, Эстелла и Жорж, вместе с несколькими иностранцами, лечившимися здесь спокойствием, приняли участие в хороводе. Сюльфатен присоединился к ним, по-видимому, чрезвычайно охотно. Что касается до его пациента, то он только глядел, не решаясь сам танцевать, но Гретли втолкнула его в хоровод и заставила сделать несколько туров, после чего он, запыхавшись, опустился на деревянную скамью близ бочек с сидром, рядом с теми, у кого танцы возбуждали жажду.

Эстелла чувствует себя совершенно счастливой. Аккуратно через день почтальон приносит ей письмо от матери. Почтальон! Этот общественный деятель бесследно исчез теперь всюду, за исключением национального Арморикского парка. Везде в других местах предпочитают беседовать по телефоноскопу, или в крайнем случае по телефону. Важные сообщения посылаются в виде фонографических клише по электро-пневматическим трубам. Вообще говоря, письма пишутся лишь самыми завзятыми невеждами в каких-нибудь деревенских захолустьях. Эстелла одна только испытывает волнение, предшествующее прибытию почтальона, так как Жорж Лоррис писем не получает. Проведя несколько дней в Керноеле, он обратился к отцу с письмом, на которое Филоксен Лоррис еще не ответил. Вероятно ему было недосуг распечатать письмо.
Сюльфатен тоже получал обширную корреспонденцию, состоявшую, впрочем, не из писем, а из фонограмм, которые доставлялись ему ежедневно с дилижансом целыми тюками. У него был при себе фонограф, который и читал вслух все эти послания. Ответы на них изготовлялись при посредстве того же фонографа. Сюльфатен диктовал их ему, а затем отправлял фонографические клише посылкой большой скорости. При таких обстоятельствах Сюльфатен быстро управлялся со своей корреспонденцией и затем мог по произволу располагать остальным временем.

К величайшему удивлению Жоржа, невозмутимый инженер-медик продолжал воздерживаться от всяких протестов по поводу пребывания обрученных в нетронутом цивилизацией керноельском захолустье. Он и сам как-будто совершенно забыл про инструкции своего патрона и преобразился в совершенно нового, веселого, приветливого, очаровательного Сюльфатена. Вместо того, чтобы выполнять возложенную на него Филоксеном Лоррисом, весьма трудную, впрочем, при существующих условиях, задачу возбуждения раздоров между женихом и невестой, он не делал ни малейших попыток нарушить мирную радость блаженных дней, которые они проводили вместе. Все это представлялось странным, — до чрезвычайности странным!..
Жорж, подготовлявшийся к энергической борьбе с неумолимой строгостью Сюльфатена, радовался, что эта горькая чаша его миновала. Один только пациент инженер-медика, Адриен Ла-Геропьер, в присутствии которого Филоксен Лоррис, нимало не стесняясь, излагал Сюльфатену свои намерения, — один только он ломал себе голову, пытаясь разгадать причины столь полного нарушения инструкций великого ученого. Все умственные операции, сводившиеся к сколько-нибудь сложной последовательности мыслей, оказывались для Героньера в высшей степени утомительными, а потому упомянутые попытки постоянно заканчивались для бедняги страшными головными болями и строгими выговорами со стороны Сюльфатена.

К концу второй недели с инженер-медиком внезапно произошла резкая перемена. Настроение духа стало у него менее веселым и почти тревожным. Под предлогом, что в Керноеле успели уже ко всему приглядеться, и что дальнейшее пребывание там грозит смертельною скукой, он предложил переехать в Плудескан, в противоположный угол национального парка. Желая сохранить с Сюльфатеном наилучшие отношения, Жорж охотно на это согласился. Все общество отправилось из Керноеля в допотопном омнибусе, который страшно трясло и качало по каменистым дорогам, очевидно, содержавшимся не особенно исправно.
Проехав таким образом более шестидесяти верст, путешественники увидели перед собою другую Бретань, несравненно более мрачную и суровую, — с грустными полянами, поросшими вереском. — с величественно строгими ландшафтами, в которые вносили некоторое разнообразие лишь группы скал, да обнаженные береговые утесы.

Плудескан далеко не обладал теми удобствами, какими путешественники пользовались в Керпоеле. Он оказался простою деревней с грубыми хижинами, сложенными из гранита и крытыми соломой. Деревня эта ютилась на берегу моря, на мрачных скалах, придававших всей окрестности величественно-строгий вид. В ней оказалась всего только одна порядочная гостиница, куда каждое лето приезжали фотоживописцы, чтобы направлять свои аппараты на скалы и утесы бурного плудесканского залива. Эти художники, реализм направления которых не подлежит ни малейшему сомнению, выбирают себе из жителей Плудескана натурщиков и натурщиц, живописно группируют их в соответственной обстановке, и с помощью усовершенствованных своих аппаратов создают великолепные фотокартины, которыми мы и восхищаемся на различных выставках.
Жорж и Эстелла предприняли в Плудескане ряд маленьких прогулок. Сюльфатен сопровождал их далеко не всегда. Он казался все более озабоченным и отлучался теперь довольно часто, оставляя своего пациента на попечение Гретли.
Что бы такое могли значить эти таинственные отлучки?
Мы обязаны объяснить их, хотя нам и придется скрепя сердце обнаружить перед читателем слабую сторону инженер-медика, которого было бы несравненно приятнее изобразить совершенно недоступным обыкновенным человеческим слабостям. Необходимо заметить, что Плудескан находится на границе национального парка, всего лишь в трех верстах от Керлоша, станции электро-пневматического трубного сообщения, снабженной всеми современными научными приспособлениями. Сюльфатен ежедневно ходил в Керлош и занимал там на час, или два один из станционных телефоносконов.
Войдем же теперь вместе с знаменитым инженер-медиком в телефоноскопический кабинет, дозволяющий где и когда угодно увидеться с любимым человеком, оставшимся дома, и как бы вернуться на фабрику, или в контору, не взирая на отделяющее от них расстояние в несколько сотен, или даже тысяч верст… Ежедневно Сюльфатен вызывал к телефоноскопу или „Париж, 375, улица Дианы де-Пуатье, в квартале Сен жермен-en-Laye", или „Париж, дворец Мольера, ложа m-lle Сильвии". Сен жерменская корреспондентка Сюльфатена оказывалась тою же Сильвией. Изящный небольшой домик, совершенно с иголочки, под № 375, на улице Дианы де-Пуатье, имел честь служить кровом знаменитой трагической артистке Сильвии, звезде Мольеровского дворца, могущественному медиуму, привлекавшему в течение целого полугода весь Париж на спектакли бывшего Францусского театра.
Само собой разумеется, что слово привлекать употреблено здесь в переносном смысле. Даже и в тех случаях, когда даются самые удачные и блестящие пьесы, нынешние театры оказываются зачастую почти совсем пустыми, так как, благодаря телефоноскопам, можно следить за представлением не выходя из дому и даже, пожалуй, не вставая из-за стола. Вследствие этого оказалось возможным значительно уменьшить, размеры театральных зал. Имеется даже в виду совершенно упразднить места для зрителей. Такая радикальная мера много сократит расходы на театральную антрепризу и дозволит соответственно удешевить цены абонемента для зрителей по телефоноскопу. Сильвия, трагическая артистка-медиум, доставила в течение какого-нибудь полугода театру Мольеровского дворца четыреста тысяч телефопоскопических абонентов. Понятно, что театральная дирекция, несмотря на дешевизну абонемента, нажила фантастически невероятные барыши.

Перед тем дела Мольеровского дворца шли не вполне удовлетворительно, несмотря на более или менее остроумные попытки дирекции подделываться под вкус зрителей. Тщетно старалась дирекция изменять на тысячу ладов характер представлений. Тщетно давала она самые блестящие балеты при участии великолепнейшего ансамбля первоклассных балерин и неподражаемо ловких фокусников, — тщетно заручалась она содействием знаменитейших клоунов и арлекинов, — публика все более охладевала к этому театру и только лишь счастливый случай спас его от угрожавшего финансового краха. Директору Мольеровского дворца довелось однажды увидеть на сцене маленького спиритического театра m-lle Сильвию, девицу с необычайными медиумическими дарованиями, вызывавшую дух Расина. Слушая, как эта артистка декламировала стихи из Федры голосом самого автора, нарочно вызванного ею для этого из бездн небытия, директор Мольеровского дворца тотчас же сообразил, какие выгоды можно будет извлечь из таланта столь необыкновенной артистки и немедленно ее ангажировал в свою труппу.
Благодаря этой трагической актрисе, сразу оказавшейся звездою первой величины, Мольеровский дворец вернулся к тому самому жанру, который за несколько веков перед тем доставлял ему богатство и славу, а именно в классическому репертуару. Необходимо заметить, впрочем, что в старинные драмы и древние трагедии признано было уместным внести существенные изменения, украсившие их прелестями новизны. События, о которых упоминалось лишь в немногих словах или намеках, все, о чем только рассказывалось и что происходило в промежутке между действиями классической пьесы, ставилось теперь на сцену, доставляя зачастую картины, несравненно более интересные, чем самая пьеса, являвшаяся к ним как бы приправой. В редких случаях, когда в пьесе не оказывалось подходящего материала для таких усовершенствований; ее все таки снабжали добавочными прелестями, способными удовлетворить самые прихотливые вкусы. Таким образом на преобразившейся сцене Мольеровского театра и, в былое время слишком уже торжественного, можно было видеть теперь кровопролитные драки диких зверей, осады крепостей, турниры, морские сражения, бой быков и охоту на неподдельную, живую дичь.
Трагическая актриса-медиум, обладавшая способностью вызывать на сцену любого из великих артистов, давно уже отошедших в вечность, внесла в свою очередь необычайное разнообразие эффектов в созданные ею роли. В них она была уже не Сильвией, а Клерон, — Адриенной Лекуврер, — девицей Жорж, — Рашелью, или Сарой Бернар. Эти великие артистки прежних времен, возвращаясь на те самые подмостки, на которых они при жизни подвизались с таким блестящим успехом, произносили голосом, умолкшим лет сто или двести тому назад, величественные тирады, так воспламенявшие когда-то сердца зрителей. При этом воспроизводились с величайшею точностью все характерные особенности их декламации. Нельзя представить себе ничего поразительнее и, если можно так выразиться, сенсационнее внезапной перемены, происходившей тогда с самою Сильвией. Эта трагическая артистка, — рослая, дебелая женщина, казавшаяся даже чересчур массивной, и при обыкновенных условиях, когда не находилась под влиянием медиумической силы, — отличавшаяся самым мещанским спокойствием, обыкновенно не производила своим появлением на сцену ни малейшего впечатления. Она начинала играть свою роль довольно холодно, но вдруг, одним лишь действием собственной воли, мгновенно испытывала полнейшее преобразование. Вселявшийся в Сильвию дух как-будто совершенно изгонял из неё её личность. Вместо Сильвии появлялась на сцене прежних своих успехов великая артистка, прославившаяся некогда в этой роли. Дух, вернувшийся из небытия, казалось, вытеснял собственную душу медиума, или приводил ее в оцепенение, чтобы заступить её место и таким образом прибавить еще несколько часов к своей давно минувшей земной жизни. При каждом таком медиумическом представлении Сильвия, по-видимому, испытывала сильнейшее электрическое сотрясение.
Иногда, при особенно торжественных случаях, артистка-медиум вызывала дух самого автора пьесы. Изумленная публика фактически слышала тогда Расина, Корнеля, Вольтера или Гюго, читавших собственные стихи, внося иногда в великие свои творения давно забытые варианты, или же посмертные изменения, свидетельствовавшие, что гений их продолжает совершенствоваться и в загробной жизни.

Трагическая артистка-медиум была из хорошей мещанской семьи и, сойдя с театральных подмостков, становилась простой девушкой, скромно жившей со своими родителями, — мелочными торговцами, удалившимися от дел и никогда не ощущавшими в себе сколько-нибудь заметных спиритических и медиумических способностей. Сильвия представляла собой поэтому необычайное явление. Необходимо заметить, впрочем, что медиумическая энергия была унаследована ею от предков, а именно от двоюродного прапрадеда, посаженного в дом умалишенных вследствие своего пристрастия к магии и к наукам, затрагивавшим таинственные явления, которыми современные ему ученые пренебрегали, предоставляя их шарлатанам.
Раз вечером Сюльфатен по обыкновению дремал, сидя перед своим телефоноскопом, соединенным со сценой Мольеровского театра, когда внимание его было внезапно приковано появлением Сильвии в роли Донны Соль в пьесе великого Гюго. Инженер-медик был поражен словно ударом молнии. Он был охвачен так всецело чувством, или лучше сказать мыслью, нахлынувшей на него неожиданно, что инстинктивно бросился к актрисе, разбив при этом зеркальную пластинку телефоноскопа.
Мысль такого ученого, как и следовало ожидать, оказалась строго научного свойства. Сюльфатена осенила гениальная идеё: до чего не будет он в состоянии достигнуть, если ему удастся употребить на пользу науки изумительное могущество этой актрисы-медиума? Ведь с помощью её можно вызывать тени гениальнейших людей предшествовавших веков! Могущественнейшие умы восстанут из гроба. Сильвия заставит их говорить, и они расскажут её устами научные тайны, унесенные с собою в могилу. С помощью этой девушки удастся разъяснить сокровенные тайны древних мудрецов. Пожалуй даже, что, отдохнув в течение нескольких столетий в мире небытия и затем ознакомившись с нынешними успехами знания, эти гениальные умы, вызванные к новой жизни, додумаются сразу до таких диковинок, которые не приходят на ум обыкновенным смертным, привыкшим к определенным шаблонным приемам мышления…

Окутав истинные свои намерения завесой самой непроницаемой тайны, Сюльфатен устроился так, чтоб познакомиться с родителями трагической артистки-медиума, а затем, по прошествии некоторого времени, сделал ей предложение. Свадьба затягивалась, однако, в долгий ящик, так как Сильвия в присутствии Сюльфатена вела себя до чрезвычайности странно. Она была иногда очень приветлива с женихом, но, порой, обнаруживала тревожное беспокойство. Случалось, что Сильвия почти уже соглашалась на брак, a на следующий день брала назад свое слово, не представляя на это никаких объяснений. Ко времени отъезда в обручальное путешествие артистка была занята репетициями новой большой пьесы, и Сюльфатену пришлось довольствоваться корреспонденцией с ней с помощью фонографических клише. Теперь, однако, он чувствовал потребность ежедневно видеться по телефоноскопу с великой актрисой. Отсутствие действительности развило у него недостаток, существования которого он до тех пор даже и не подозревал. Сюльфатен сделался ревнивцем, — невыносимейшим ревнивцем, разумеется в интересах науки. Соображая, что у кого нибудь другого могла явиться такая же идеё, как и у него самого, и что этот другой сумеет чего доброго за время его отсутствия завоевать себе симпатии Сильвии, инженер-химик горько сожалел о том, что не догадался поместить в различных местах хорошенького её домика миниатюрные и совершенно незаметные фотофонографические приборы, до такой степени облегчающие щекотливое дело тайного надзора.

Кончилось тем, что Сюльфатен стал по три и по четыре раза в день бегать на Керлошскую станцию и устанавливать там телефоноскопическое сообщение с домом трагической артистки, или с её ложей. Он проводил теперь почти все вечера на представлениях Мольеровского театра. Тем временем Лa-Героньер оставался бы покинутым на произвол судьбы, если б Эстелла и Гретли не ухаживали за этим несчастливцем.
Однажды, когда все общество, за исключением Сюльфатена, собралось в большой зале Плудесканской гостиницы, где несколько веселых фотоживописцев развивали свои воззрения на искусство, приправляя их разными шуточками, Ла-Героньер, который все время сидел погрузившись в чрезвычайно для него трудные и мучительные размышления, внезапно ударил себя рукою по лбу и прошептал на ухо Жоржу:
— Эврика!.. Наконец-то я догадался, отчего доктор Сюльфатен, несмотря на данные ему положительные инструкции вызвать во что бы ни стало ссору между вами и вашей невестой, совсем не заботится о выполнении возложенной на него обязанности… Он уже и теперь правая рука Филоксена Лорриса. Естественно, что, отстраняя вас… или, лучше сказать, помогая вам отстраняться от занятий в лаборатории и от крупных промышленных предприятий… Очевидно, вы до них не охотник!.. он… не помню хорошенько, что именно хотел я сказать… ах, да! Он надеется… или правильнее рассчитывает остаться единственным возможным преемником Филоксена Лорриса… Какая плутовская, но вместе с тем чертовски ловкая комбинация!.. Ну-с, поняли вы, наконец, в чем дело?… Вот и мотайте себе на ус!
После этого мозгового усилия Ла-Героньер пришел в состояние полнейшего изнеможения, а вместе с тем, от
жестокой головной боли, едва мог держаться на ногах. Гретли пришлось напоить его ромашкой и уложить в постель.

VII
 Приказ явиться на службу. — Мобилизация воздушных, подводных и сухопутных сил ХII-го армейского корпуса. — Восьмой полк химической артиллерии отличается при обороне Шателье. — Разрывные и удушающие снаряды. — Завеса из дыма.
Приказ явиться на службу. — Мобилизация воздушных, подводных и сухопутных сил ХII-го армейского корпуса. — Восьмой полк химической артиллерии отличается при обороне Шателье. — Разрывные и удушающие снаряды. — Завеса из дыма.
Филоксен Лоррис, вполне полагаясь на изменника Сюльфатена, всецело погрузился в научные свои труды. В течение первых десяти дней после отъезда обрученных он даже ни разу о них не вспомнил. Наконец, когда в промежутке двух чрезвычайно интересных и поучительных научных исследований, у него пробудилось воспоминание о женихе и невесте, он внезапно припомнил себе также полученное за несколько дней перед тем письмо.
Филоксен до такой степени отвык от столь несовременного способа корреспонденции, что письмо это было заброшено в угол, где его с трудом лишь удалось отыскать. Пробежав письмо, Филоксен Лоррис узнал, что Жорж по собственному усмотрению изменил назначенный ему маршрут, хотя и утешал родителя обещанием осмотреть на обратном пути искусственные Овернские вулканы. Разгневавшись на сына, который предпочел бесцельно тратить время на бесполезные прогулки по некультурному уголку Бретани, великий ученый тотчас же потребовал от Сюльфатена обстоятельных объяснений. Ответная фонограмма не заставила себя долго ждать. Инженер-медик лицемерно сваливал всю вину на Жоржа, упрямо отвергавшего будто бы все его советы и предостережения.
Обождав еще несколько дней, Филоксен послал своему старшему секретарю лаконическую фонограмму:
— „В каком положении ссора? Она что-то не подвигается достаточно быстро вперед".
Сюльфатен ответил присылкою клише с целой послеобеденной беседой между Жоржем и Эстеллой. Беседа эта была записана маленьким фонографом, ловко спрятанным под листвою беседки, где молодые люди провели весь вечер вдвоем.
Фонографическое клише наглядно выеснило Филоксену Лоррису, что до ожидаемого разрыва было очень далеко и что самая надежда на этот разрыв представлялась гадательной.
— Атавистическое влияние этого проклятого предка постоянно пробивается наружу! — сказал сам себе великий ученый. — Что же теперь предпринять? Сюльфатен, очевидно, не в состоянии справиться с возложенной на него задачей, а потому я должен сам взяться за дело и слегка потревожить их идиллию!..
В качестве человека занятого, Филоксен Лоррис имел привычку не откладывать своих решений в долгий ящик. Он действовал быстро и энергически, и Жорж не замедлил в этом убедиться.
Однажды утром, подготовляя прогулку, на которую все общество рассчитывало отправиться в рыбачьей лодке после завтрака, чтобы развлечься рыбною ловлей между прибрежными утесами, молодой человек получил с нарочным из Керлоша маленький пакет и большой чемодан. В пакете заключались фонограммы: одна со штемпелем Филоксена Лорриса, a другая за печатью военного министерства.
Клише, немедленно помещенные в фонограф, оказались следующего содержания:
Первая фонограмма заявляла слегка саркастическим тоном:
„
Химическая артиллерия твоего корпуса мобилизована для маневров. Посылаю полученный на твое имя приказ явиться в полк… Сердечно сожалею, что твоя очаровательная обручальная поездка так неожиданно расстраивается“.
Вторая фонограмма имела строго официальный характер:

Военное министерство.
XII АРМЕЙСКИЙ КОРПУС. — РЕЗЕРВ.
ПОЛНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МАНЕВРЫ В 1956 ГОДУ.
Химическая артиллерия и наступательные медицинские войска с удушающими снарядами, команды при насосах с ядовитыми газами и при воздушных торпедо — созываются с 12 по 19 сего августа.
ПРИЗЫВНЫЙ ЛИСТ
Капитану 17 батареи 8 полка химической артиллерии Жоржу Лоррису предписывается прибыть 12 августа к пяти часам утра в Шатолен в химическое военное депо и принять там начальство над своей батареей.
— Этого еще только недоставало! — с неудовольствием воскликнул Жорж. — Что бы мог значить этот приказ, когда ведь предполагалось устроить пробную мобилизацию лишь в будущем году?.. Понимаю! Инженер-генерал химической артиллерии Филоксен Лоррис, без сомнения, ускорил мобилизацию, чтобы расстроить обручальную поездку злополучного капитана Жоржа Лорриса… Держу пари, что в этом чемодане уложен мой мундир… Ну, так и есть!..
— Какое несчастье, — заметила Эстелла. — Наша поездка так неожиданно заканчивается!
— Вовсе нет, — возразил Сюльфатен. — Маневры назначены ведь в Шатолене, т. е. по соседству отсюда, — в двух шагах от национального парка. Никто не мешает и нам с вами на них присутствовать… Мы искали себе развлечения, и благодетельное начальство нам его доставило. Мы будем иметь теперь удовольствие любоваться блестящим капитаном Лоррисом в полном боевом снаряжении во главе его батареи…
— Жаль только, что маневры нашей химической артиллерии не представляют собою ничего любопытного. — заметил Жорж.
— Ничего, мы ими все-таки полюбуемся! — сказала Эстелла.
— Если только это не опасно, — промолвила осторожная Гретли.
— В вашем присутствии, милая Эстелла, я терпеливо перенесу мою невзгоду и постараюсь отличиться со своей батареей в каком-нибудь фиктивном сражении, — со смехом объяснил совершенно развеселившийся уже Жорж.
Было решено, что он выедет в тот же день в десять часов вечера в Керлош, откуда труба электро-пневматического сообщения доставит его в Шатолен.
Очаровательная Эстелла и Гретли, в сопровождении Сюльфатена и Ла-Героньера, чрезвычайно утомленного затратой мозговой энергии на разгадывание замыслов инженер-медика, должны были приехать в Шатолен на другой день утром.
Нынешние армии являются в высшей степени сложными организмами, все колеса и пружины которых должны действовать с абсолютною точностью и правильностью. Чтоб машина работала как следует, составные её элементы и добавочные их аксессуары должны с необычайной аккуратностью сцепляться друг с другом, без всяких толчков и вредного трения.

Увы, это необходимо теперь более чем когда-либо! Добродушные мечтатели минувших веков воображали себе, что прогресс, в триумфальном своем шествии по арене наших цивилизаций, улучшит как людей, так и учреждения и водворит раз навсегда вечный мир. В действительности, однако, оказалось, что прогресс, приводя народы в более тесное соприкосновение, вызвал вследствие этого самого лишь более запутанные столкновения интересов, соответственно увеличению числа поводов и случаев к войне.
Нынешние нравы и обычаи, — обусловливающие своей совокупностью нынешний образ мыслей, в такой же степени отличаются от образа мыслей прошлого столетия, в какой нынешнее политическое положение отличается от тогдашнего. Известно, что в девятнадцатом веке ничтожная Европа распоряжалась всем земным шаром, опираясь на могущество, которое доставляли ей научные знания. Правда, что они находились тогда еще в зачаточном состоянии, но зато она владела, если можно так выразиться, их монополией. Политическим деятелям приходилось по этому принимать в расчет одну только Европу. Теперь наука разлилась почти равномерно по всей земной поверхности. Один и тот же научный уровень установился приблизительно для всех народов, не исключая древних азиатских наций, которых клеймили когда-то столь незаслуженным презрением, и миниатюрных новорожденных народцев, выросших на отдаленных островках океана из нескольких дюжин переселенцев, или же ссыльных и каторжников. Теперь необходимо принимать во внимание весь земной шар, так как все обладают одинаковыми взрывчатыми снарядами и прочими усовершенствованными приспособлениями и средствами для нападения и обороны.
Что бы сказали теперь мечтатели о всеобщем международном братстве? О, кроткие утописты, наивные и простосердечные историки, проклинавшие насилия прежних времен: завоевательные войны, предпринимавшиеся честолюбивыми государями для округления своих владений частичками чужих областей, и войны, вызывавшиеся национальным тщеславием без всяких корыстных целей, единственно лишь ради выеснения вопроса о главенстве той или другой расы! Как бы отнеслись вы к последовавшей у нас перемене взглядов и убеждений!
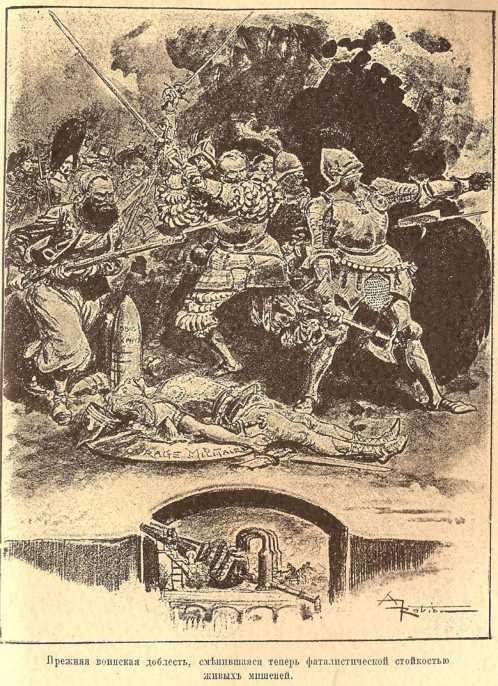
О, кроткие мечтатели и поэты! Никто теперь не обращает ни малейшего внимания на такие пустяки, из-за которых велись еще в средневековом хаосе девятнадцатого столетия ничтожные войны между государями, спорившими за обладание каким-нибудь герцогством, или между национальностями, стремившимися к объединению. Почти в такой же степени кажутся теперь смешными и более крупные войны, предпринимавшиеся тогда для установления или сохранения так называемого международного политического равновесия!
Все это признается теперь чистейшим вздором. Эти распри и кровопролитные войны, которые вы проклинали с таким благородным негодованием, считаются теперь все, почти в одинаковой степени, проявлениями туманного идеализма, господствовавшего тогда над умами. Самые страстные воители всегда толковали о каком-то прав. Обе стороны при тогдашних войнах думали, или же притворялись, что думают, будто сражаются за справедливость, свободу, или даже за братство между народами! Теперь у нас безраздельно господствует реализм. Мы воюем нисколько не реже и даже напротив того чаще чем в былые времена, но войны у нас ведутся не ради каких-либо мечтательных идей, или бредней, а всегда для приобретения серьезных ощутительных выгод в смысле важных материальных интересов.
Если, например, промышленность какого-нибудь народа страдает вследствие того, что какая-нибудь соседняя, или же отдаленная нация, благодаря природе пли искусству, может производить те же товары дешевле, — немедленно возгорается война, которая путем разрушения промышленных центров у побежденных, или же заключением договора, продиктованного разрывными и удушающими торпедо, разрешает вопрос о том, кому именно хозяйничать на рынке.
Если, например, наша торговля нуждается в сбыте для произведений промышленности, Беллона в грозном своем всеоружии немедленно же берется отыскать желаемый сбыт. Вынужденные ею торговые трактаты оказываются без сомнения недолговечными, но во всяком случае они успевают обогатить целое поколение. Притом же, если договор с одним государством окажется несостоятельным, то можно навязать подобное же коммерческое соглашение какому-нибудь другому слабосильному государству, не сумевшему оградить себя достаточно могущественными союзами.
Во время торжества науки и устройства грандиозной промышленной эксплуатации земных материков, некоторые государства, не располагавшие достаточными средствами для первоначального обзаведения, вошли в крупные долги. Государства эти очень мило подсмеивались сперва над разорившимися своими кредиторами, но смех этот оказался во многих случаях преждевременным. Долговые обязательства существуют и перешли в твердые руки могущественных наций, обладающих достаточной вооруженной силой для того, чтоб обеспечить себе уплату должных процентов со всеми причитающимися неустойками. Иногда, впрочем, устраиваются еще ловче: объявляют задолжавшее государство несостоятельным, захватывают себе все поступающие в его казну доходы и фактически обращают все его население в рабство.
Таким образом идут теперь дела всюду, как в престарелой Европе, территориальные границы которой подвергаются довольно частым изменениям, так и в Америке, разделившейся на несколько клочьев, незаконно именующих себя государствами, и в более компактной Азии, которую все надежнее прибирает к рукам стойкая, жадная и плодовитая китайская раса.
При таких обстоятельствах наша архинаучная цивилизация окружает каждое государство массой опасностей в скрытом состоянии и старинная поговорка: „Если хочешь мира, готовься к войне“, оказывается теперь справедливой более чем когда-либо. Для обеспечения внешнего мира, необходимо держать армию во всегдашней боевой готовности и тщательно охранять свои пределы с сухого пути, с моря и со стороны атмосферы. Для того, чтобы военная машина пребывала во всегдашней готовности ежечасно и ежеминутно проявить всю свою энергию по первому востребованию, или точнее сказать, по сигналу, поданному нажатием электрической кнопки в кабинете военного министра, необходима тщательнейшая детальная отделка всего военного механизма и содержание всех его частей в полнейшей исправности.
Этого удалось достигнуть, — разумеется, ценою громадных усилий.
Все предусмотрено, соображено и улажено. Нынешняя наша военная организация является таким образцовым произведением механики, которое сделало бы честь совместному гению Вокансона, Наполеона I и Эдиссона.
12-го августа, ровно в 5 часов утра по официальным электрическим часам, когда Шатоленские обыватели едва только еще пробуждались от сна, сотня резервных офицеров в различных чинах прибыла по трубам электропневматического сообщения и на воздушных кораблях различных наименований. С первым ударом часового колокола офицеры уже явились в депо химической артиллерии, где их встретил командир восьмого полка.

Жорж был в изящном простом капитанском своем мундире: темно-коричневом казакине, обшитом черным шнурком, черных брюках, сапогах и каске с раздвижным забралом, закрывавшимся при производстве химических операций с ядовитыми веществами. Резервуар кислорода с эластичною трубкой, револьвер, действующий сжатым воздухом, и сабля — дополняли боевое его снаряжение.
Саблю удерживают в наших войсках лишь по традиции в качестве последнего остатка средневекового вооружения. На полях современных сражений давно уже не употребляют в дело этого громоздкого оружия, которое оказывается сравнительно мало действительным и вместе с тем неудобным, вследствие предъявляемых им значительных требований по части физической силы и ловкости.

Современная Беллона располагает приспособлениями гораздо лучшими, чем эти мечи, пригодные разве лишь для разрезания жаркого в мирное время на какой-нибудь стоянке. Уже разнообразные наши взрывчатые средства, список которых достигает изрядной длины, не в пример действительнее варварских способов взаимного истребления, практиковавшихся полтора века тому назад. За последнее время однако и эти взрывчатые средства начинают выходить из моды. Дело в том, что мы обладаем теперь целым рядом удушливых и парализующих газов, которые очень удобно выбрасывать по трубкам на близкие расстояния, или же посылать с помощью электрических пушек верст за тридцать или за сорок в неприятельские ряды в маленьких бомбах, состоящих из тонкой стеклянной оболочки. Сверх того, у нас имеется особая миазматическая артиллерия боевого медицинского корпуса. Организация её еще не закончена, но её грозные кессоны с миазмами и гранаты, снаряженные болезнетворными микробами, начинают уже постепенно оцениваться по достоинству.

Да, мы оставили далеко за собой древние рыцарские мечи и секиры, крошившие врагов, как капусту. Современное вооружение значительно превосходит все режущие и колющие инструменты, которыми в течение стольких веков работали по преимуществу на полях сражений. Правда, встречаются и теперь пессимисты, которые, скептически относясь к прогрессу, сожалеют об этих варварских приспособлениях и утверждают, будто чудеса науки, примененной к военному делу, убили истинное мужество и уничтожили геройские порывы, побуждавшие храбрых устремляться на врага в горячий и честный рукопашный бой. Если верить этим пессимистам, пришлось бы допустить, что воинская доблесть, сданная теперь за беспомощностью и бесцельностью в архив, заменилась пассивным фатализмом, дозволяющим человеку стоять словно бездушная цель под неприятельскими выстрелами…
He стоит, впрочем, распространяться по поводу таких очевидно нелепых соображений и сожалений!.. Да здравствует прогресс!..
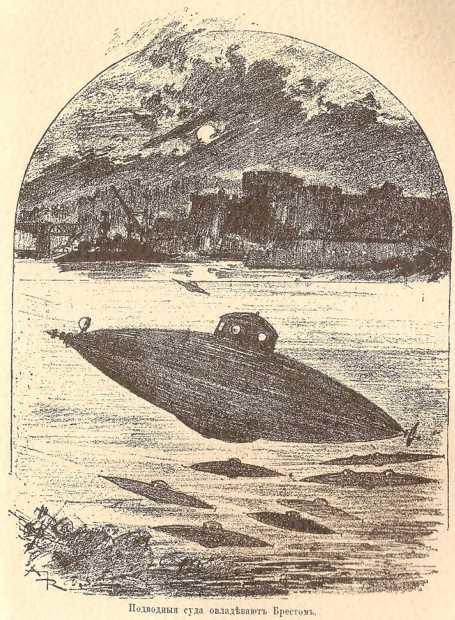
В пять часов с четвертью восьмой полк химической артиллерии был уже укомплектован своими резервистами, прибывшими с особым поездом из Бретани по большой трубе электропневматического сообщения, разветвляющейся в Морлэ. Их немедленно снабдили форменной одеждой и снарядами, а также семидневным запасом концентрированной говядины в виде пилюль. В пять часов сорок восемь минут, по сигналу, поданному свистком, все двадцать батарей восьмого полка, сверкая в лучах восходящего солнца, выстроились на учебном поле перед депо.
Три минуты спустя прибыли со своими насосами команды боевого медицинского корпуса, соединенные в четыре сводные роты. Почти одновременно с ними явились в воздухе, на высоте двухсот метров над полем, вылетевшие из депо воздушные торпедо. Генерал, командовавший маневрами, прибывший ровно в шесть часов во главе блестящего своего штаба, быстро промчался вдоль фронта войск.
Затем он собрал всех командиров отдельных частей, чтоб сообщить им программу маневров и отдать соответственные приказания.
Предполагалось, что неприятель, роль которого приняла на себя первая дивизия корпуса, выступившая еще накануне в поход, овладел Брестом, введя незаметным образом в тамошний порт множество так называемых „губе“, грозных и трудно улавливаемых подводных миноносок, изобретенных в конце прошлого столетия и превративших морскую войну в ряд самых дерзновенных неожиданностей. Эти подводные миноноски взорвали все укрепления, которые могли противодействовать высадке неприятельских сил.
Направляясь от Бреста к Ренну, неприятель угрожал правым своим крылом шатоленской позиции, которую старалась обойти воздушная его эскадра.
При таких обстоятельствах следовало принять самые энергические меры для обороны Шатолена. Вместе с тем надо было попытаться отрезать легкие воздушные эскадры и летучие торпедо вражеского авангарда, насытить атмосферу некоторых местностей ядовитыми газами, вытеснить во что бы ни стало неприятеля из занятых им городов, селений, деревень и других позиций и, наконец, отбросить его к берегу, или же в местности, где воздух, благодаря стараниям боевого медицинского корпуса, должен считаться неспособным к поддержанию жизни.

В четверть седьмого эти оборонительные действия начались по всей линии.
На мобилизацию потребовался всего час с четвертью. Результат этот оказывался сам по себе весьма удовлетворительным, так как в предшествовавшем опыте ее удалось закончить лишь в час восемнадцать минут.

Офицеры воздушной эскадры, дав полный ход винтовым своим самолетам, быстро вернулись на свои места. Вместе с тем целая туча быстроходных, — так называемых летучих — торпед устремилась вперед, рассыпавшись по небу словно веером, и вскоре исчезла в туманной дали. За торпедами двигались большие воздушные корабли, выстроившись в одну громадную линию, интервалы которой все более расширялись для того, чтоб дозволить охват возможно большей части горизонта. Эти линейные корабли шли сравнительно медленным ходом, оставаясь наготове устремиться по первому сигналу туда, где будет замечена неприятельская передовая эскадра.

Тем временем сухопутные силы тоже двинулись вперед. Особый поезд электропневматического сообщения доставил несколько батальонов картечниц до тридцатой версты от Шатолена, где предполагалось, что пневматическая труба уже разрушена неприятельскими разведчиками.
Неприятель был вскоре разыскан. Передовые его посты на летучих торпедо и двухколесных велосипедах оказались вынужденными податься назад. Главные вражеские силы очевидно сосредоточивались на позиции в шестнадцати верстах за линией своих аванпостов. Самодвижущиеся электрические бомбарды, прибывшие по сухопутным дорогам в сорок пять минут одиннадцатого утром, начали атаку, отразив неприятельские бомбарды и принудив их к отступлению.

Весь день прошел в маневрах, в которых обе стороны выказали одинаковое искусство. Неприятель успел прикрыться несколькими рядами подрывных фугасов, которые в настоящей войне причинили бы атакующему громадные потери. Приходилось наступать с чрезвычайной осторожностью, разыскивая фугасы и обходя встречные препятствия. Картечные роты, рассыпавшиеся по отделениям, постепенно подавались, однако, вперед, пользуясь всеми местными закрытиями и перенося на руках резервуары со снарядами. Офицеры и унтер-офицеры шли в первых рядах, тщательно исследуя даль усовершенствованными лорнетами-телескопами и вычисляя расстояния с помощью имевшихся при себе карманных таблиц. Как только картечное отделение оказывалось в расстоянии верного выстрела, т. е. в четырех верстах от видимого неприятеля, каждый солдат привинчивал к скорострельному своему ружью гибкую трубку от резервуара со снарядами и немедленно открывал огонь.

Химическая артиллерия, державшаяся в десяти верстах позади передовой цепи, обстреливала неприятельские позиции, следуя указаниям разведчиков на винтовых самолетах. Само собой разумеется, что при наводке орудий приходилось соображаться с подробною картой, так как цель, находившаяся всегда по меньшей мере в двенадцати или пятнадцати верстах, неизбежно оставалась невидимой. В случае настоящей войны артиллерия эта осыпала бы указанные ей разведчиками пункты страшными разрывными снарядами, или же гранатами с ядовитыми газами.
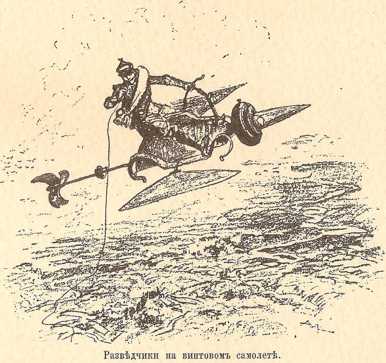
Воздушная эскадра вскоре исчезла из виду и не показывалась в течение целого дня. К вечеру оборонительный отряд одержал местами верх над атакующим. При этом однако обнаружилось, что неприятелю удалось замаскировать обходное движение на правом крыле. Таким образом, собственно говоря, в первый день маневров преимущество оказалось на стороне атакующего.
Главнокомандующий оборонительного отряда оставил в Шатолене резерв из пяти батарей восьмого полка и целый батальон боевого медицинского корпуса. Как мы увидим, эта благоразумная мера предосторожности оказалась далеко не бесполезной. Батареё Жоржа Лорриса принадлежала к резервному отряду, прикрывавшему город, а потому молодой человек имел возможность принять сравнительно приличным образом свою невесту и приятелей, удостоивших его посещением и поместить их в порядочной гостинице, живописно расположенной на холме, откуда открывался вид на все течение реки. Он угостил Эстеллу в лагере химической артиллерии настоящим военным завтраком, так как гостям приходилось сидеть на ящиках с торпедами, бомбами и всевозможными взрывчатыми веществами.

После полудня, убедившись, что, проверив материальную часть в своей батарее, будет располагать еще некоторым количеством свободного времени, Жорж Лоррис вытребовал небольшой воздушный самолет и отправился на нем с своими приятелями осматривать ход сражения. За невозможностью выдвинуться на передовую линию, где угрожала опасность попасть в руки неприятеля, не удалось, однако, почти ничего увидеть. На всем протяжении громадной открытой местности можно было заметить лишь кое-где отдельные группы бесконечно-малых человечков, двигавшиеся вдоль заборов. Там и сям вздымались иногда облака дыма, тотчас же расходившиеся в воздухе.

Никто не подозревал возможности нападения на Шатолен, а потому Жорж отправился обедать в гостиницу, где поместил своих приятелей, провел с ними очень весело весь вечер и затем лишь вернулся к себе в казармы. Ему не суждено было, однако, провести эту ночь спокойно. Между тремя и четырьмя часами утра, город, почивавший мирным сном, был внезапно пробужден грохотом пушечных выстрелов. Неприятель, которому удалось совершить обходное движение, сделал попытку захватить Шатолен нечаянным нападением. К счастию, передовые отряды обороняющегося успели остановить неприятельское наступление верстах в восьми от города. Благодаря этому, можно было подготовиться к упорной защите.

На глазах у остановившихся в гостинице путешественников, проснувшихся при первых же выстрелах, — на глазах у Эстеллы, любовавшейся своим женихом, когда он мчался впереди своей батареи и у бедняжки Гретли, убежденной, что перед ней разыгрывается настоящая война, артиллеристы-химики с опущенными забралами шлемов, сообщавшихся гибкими трубками с переносными резервуарами кислорода, устанавливали свои батареи на пригорке, прикрытом маленькою рощицей. He прошло и двадцати минут, как все орудия были уже на местах. Химические приборы со всеми трубками и трубочками находились в полной исправности. Жорж поднялся на винтовом самолете, чтобы произвести рекогносцировку и, благодаря его указаниям, тщательно нанесенным на карту, орудия были безотлагательно наведены для обстреливания направлений, по которым наступали вражеские силы.
Боевые воздушные суда, находившиеся в резерве, быстро выдвинулись вперед, торпедчики мгновенно прикрыли угрожаемые пункты несколькими рядами разрывных мин, а химическая артиллерия открыла огонь. Положение дел оказывалось сперва сравнительно благоприятным для обороняющегося. Наступавшие войска, встречая всюду на своем пути препятствия, подавались вперед лишь очень медленно. Однако же, к семи часам утра, пользуясь прикрытием, которое доставляла небольшая лощина, неприятель быстро продвинулся разом на несколько верст, причем ему удалось отхватить и взять в плен некоторые передовые посты обороняющегося.
Чтоб выиграть время, пока подоспеют подкрепления, Жорж, распоряжавшийся, как старший в чине, всей обороной, прикрыл передовую линию своей позиции дымовыми кессонами. Эти кессоны, разрываясь на пятидесятисаженной вышине, извергали густые облака черного вонючего дыма, который, в случае настоящей войны, был бы заменен подобными же по внешнему виду, но безусловно ядовитыми, удушливыми газами. Шатолен, где воздух остался совершенно чистым, тотчас же окружила со всех сторон непроницаемая завеса тумана, который делает его невидимым смущенному и сбитому с толку неприятелю.
Тем временем батареи химической артиллерии обстреливают атакующего учащенным огнем. Торпедчики под прикрытием дыма пробираются в неприятельские ряды и наконец батальон медиков с собственной своей батареей вступает в дело и тотчас же переходит в наступление. Выдвинувшись вперед, он обстреливает намеченные заранее пункты зловонными, но, впрочем, совершенно безвредными кессонами, вызывающими только неприятный кашель, тогда как в настоящем бою кессоны эти распространили бы в деревнях, занятых неприятельскими войсками, убийственнейшие болезнетворные миазмы.
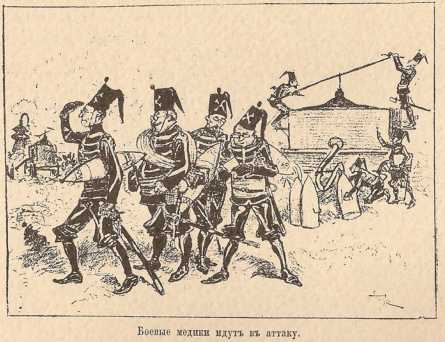
Город Шатолен спасен. Пока неприятельские войска бродили наугад в тумане, наталкиваясь с каждым шагом на разрывные мины, или же обходят местности, якобы зараженные миазмами и считающиеся недоступными, на выручку к обороняющимся прибыли подкрепления.
Мы не имеем в виду следить шаг за шагом за этими интересными маневрами. Упомянем только, что Жорж Лоррис, которому пришла счастливая мысль окружить весь Шатолен завесою дыма, удостоился на другой день самых горячих поздравлений со стороны главнокомандующего. Батарее Лорриса выдерживала в течении целых суток почти всю тяжесть сражения. Многим артиллеристам — химикам, не успевшим возобновить свои запасы кислорода, нездоровилось вследствие того, что они надышались вредных газов. Поэтому было решено оставить батарею на все остальное время маневров в резерве. Таким образом Жорж имел возможность посвящать своей невесте гораздо более времени, чем можно было ожидать первоначально.
Воздушная эскадра настигла над Ренном неприятельский воздушный флот и, одержав над ним полную победу, вернулась с захваченными в плен кораблями на помощь сухопутным войскам оборонительного отряда. Благодаря остроумным комбинациям главнокомандующего, отряд этот вскоре вернул все позиции, сперва было завоеванные атакующим, положение которого стало на третий день маневров довольно критическим. Необходимо заметить, что во все продолжение маневров разыгрывались примерные сражения, в промежутках между которыми читались чрезвычайно интересные и поучительные лекции или самим главнокомандующим, или кем-либо из инженеров его штаба. Иногда в самый разгар боя, когда возникало какое нибудь обстоятельство, представлявшееся особенно поучительным, обе армии останавливались по условленному сигналу неподвижно на своих позициях. Офицеры обеих сторон съезжались к главнокомандующему, выслушивали его объяснения, излагали свои мнения и проекты, а затем, по другому сигналу, снова возгорался ожесточенный бой по всей линии.
Неприятельский отряд, не смотря на все свои усилия, был вскоре отброшен в гористую местность и прижат к морю. Часть воздушной его эскадры, как уже упомянуто, была взята в плен. Уцелевшие воздушные корабли атакующего пытались ночью перенести отряд сухопутных войск на более благоприятную позицию, но воздушные суда обороняющегося бдительно следили за ними и, освещая весь горизонт снопами электрического света, заставили неприятеля отказаться от этой попытки.

Наступил наконец решительный час. Проработав целую ночь над установкою батарей, химическая артиллерия и боевые медики осыпали на заре шестого дня всю занятую врагами местность дымовыми кессонами и миазматическими бомбами. Неприятель отстреливался настолько деятельно, насколько это было вообще возможно, но разбрасывая свои кессоны эксцентрически в различные точки громадной окружности, разумеется, не мог произвести ими желаемого смертоносного действия. Вскоре выяснилось, что в настоящем бою атакующий, окутанный удушающими газами и мгновенно действующими ядовитыми парами, которыми обстреливали его боевые медики, — был бы не в силах устоять (в буквальном смысле этого слова) на позиции. Оба отряда — атакующий и обороняющийся — собрались вечером на седьмой день в Шатолене. Главнокомандующий сделал им там смотр, объехал их ряды, залитые ярким электрическим освещением, похвалил за молодецкие действия на маневрах и за отличную выправку. Нижние чины и офицеры резерва были тотчас же затем распущены по домам и отправились восвояси.
Остались только офицеры, которым надлежало держать экзамен на следующий чин, или защищать диссертацию на звание доктора военных наук. Корпусный командир обошелся с Жоржем Лоррисом чрезвычайно любезно.
— Капитан, — сказал он, — вы обнаружили при защите Шатолена такую блестящую воинскую сообразительность, что я с удовольствием представил бы вас к производству в майоры, но вам необходимо-прежде приобрести докторский диплом. Поэтому, если только занятия в лаборатории вашего папаши вам это дозволят, подзубрите хорошенько, что следует, и весной — милости просим к нам на экзамен. У вас будут тогда все шансы успеха…
— Благодарю вас, генерал, но я уже и теперь подготовляюсь серьезнейшим образом.
— К чему же именно?
— К женитьбе, ваше превосходительство! Я должен поэтому отложить на некоторое время честолюбивые замыслы… Позвольте представить вам, генерал, мою невесту…
Отдохнув с денек в Шатолене, обрученные согласились вернуться в Париж по настоянию Сюльфатена, который, нимало не интересуясь сражением, проводил все время маневров за телефоноскопом гостиницы, находившимся беспрерывно в сообщении то с Мольеровским дворцом, то с домом Сильвии в улице Дианы Пуатье. Своего пациента он как будто сдал на руки Гретли.

Часть вторая
I
 Свадебные приготовления. — Плутократческий феодальный строй. — Образчики современной аристократии. — Новейшие сооружения из железа, пирогранита, картона и стекла. — Фото-никто-механики на челе прогресса изящных искусств. — Инженеры кулинарного ведомства.
Свадебные приготовления. — Плутократческий феодальный строй. — Образчики современной аристократии. — Новейшие сооружения из железа, пирогранита, картона и стекла. — Фото-никто-механики на челе прогресса изящных искусств. — Инженеры кулинарного ведомства.
— Ну что, вы уже поссорились друг с другом? — спросил Филоксен Лоррис у сына, явившегося к нему по возвращении из обручальной поездки.
— Мы и не думали ссориться. Напротив того, я…
— Замолчи пожалуйста! Вы не успели еще хорошенько испытать самих себя и друг друга! Вы оба, а в особенности твоя милость, все время складывали ротик сердечком и рассыпались друг перед другом в комплиментах. Нет, любезнейший, не так надо было держать себя с девушкой, которую собираешься сделать подругою жизни. Я нахожу, что ты отнесся к своей невесте совершенно нечестно и недобросовестно…
— Как, нечестно и недобросовестно?..
— Ну да, разумеется!.. Впрочем, твоя невеста платила тебе той же монетой! Пойми, что ты такой же мужчина, как и все остальные смертные, и что твоя невеста не отличается ничем существенным от других девиц. Ты обязан был выказать себя таким именно, каким тебе придется быть, как и всякому вообще занятому мужчине в обыденной жизни, a именно грубым, рассеянным, зачастую не в духе, раздражительным и даже способным наносить жене оскорбления действием!.. Мы, друг мой, все ведь таковы. Жизнь коротка, а потому, когда занятый человек женится, ему недосуг терять время на галантное обхождение с прекрасной своей половиной.

— Смею уверить, что у меня нет ни малейшего намерения разыгрывать роль неприятного мужа…
— Благие намерения вещь хорошая. Это не отнимает у человека времени, а потому отчего же ими и не обзаводиться? Заметь, однако, что намерения всегда остаются сами по себе, а ежедневные сношения и совместная жизнь с женой оказываются тоже сами по себе… Вот там-то и ждет тебя, если можно так выразиться, запятая. С другой стороны, опять таки же для того, чтоб обручальная поездка имела на самом деле характер честного и добросовестного предвкушения супружеской жизни, невеста должна тотчас же выказать себя ветреной, легкомысленной, надоедливой, взбалмошной, капризной, склонной командовать в доме и т. д. и т. д., одним словом, именно такой, какой она непременно сделается потом в качестве жены. Лишь при этих условиях можно составить себе правильное суждение и вполне основательно решить, в какой именно степени окажется рациональным брачный союз. Рассудительным жениху и невесте надлежало бы неуклонно держать в голове, например, хотя бы такие мысли: „Боже мой, да ведь если я выйду замуж за этого господина, он постоянно будет мозолить мне глаза!.. — Чёрт возьми, ведь если я женюсь на этой девушке, так она будет висеть у меня всю жизнь камнем на шее!“…

Жорж весело расхохотался.
— Неужели ты стал бы мне рисовать теми же красками брак с такими девицами, как учёнейший доктор Бардо, или же сенатор от Сартского департамента — Купар?
— Ну, не совсем! Я выискал их для тебя именно в качестве исключения из общего правила… К тому же они по выходе замуж оставались бы все время занятыми… Однако-ж, мне недосуг! Ты все еще продолжаешь упорствовать?
— Я продолжаю видеть счастье моей жизни в женитьбе на…
— Пожалуйста избавь меня от фраз! Это говорит в тебе твой предок: артист и поэт… Советую тебе заставить его молчать. Мы еще посмотрим! Прежде чем дать окончательное согласие, я намерен изучить твою невесту… Ты ведь знаешь мой принцип о неуместности для женщин оставаться незанятыми! Предлагаю девице Лакомб поступить в большую мою лабораторию, в отделение новых изысканий. Там она будет работать на моих глазах и возле тебя… He бойся, мы не доведем ее до переутомления и не станем отягощать чрезмерными занятиями. В свободное от работы время вы займетесь устройством себе будущего дома, а когда совьете гнездышко, можно будет поговорить и о свадьбе.
Рассчитывая по возможности сократить этот период последнего испытания, Жорж изъявил полное согласие на родительское предложение и взялся передать это Эстелле. Все было улажено в тот же день. Филоксену Лоррису стоило только замолвить словечко в департамент горных маяков, для того, чтоб инженер Лакомб был переведен в парижскую канцелярию департамента. Родителям Эстеллы пришлось поэтому переехать в Париж, к величайшему удовольствию г-жи Лакомб, мечты которой, очевидно, начинали осуществляться.
Жорж Лоррис и Эстелла занялись совместно с г-жей Лакомб, сообразно с видами Филоксена Лорриса, устройством будущего своего гнездышка. Великий ученый не замедлил купить для своего сына в самом центре старого Парижа, на холме Пасси, изящный домик. Прежний владелец, — австралийский банкир, наживший себе капитал в несколько миллиардов, недавно устроил на биржах Нового Света чрезвычайно выгодный для себя крах и теперь продавал парижский свой дом, рассчитывая поселиться в громадном поместье, купленном в южной Франции. Располагая громадным состоянием, удесятерившимся вследствие упомянутой ловкой финансовой операции, он пожелал сделаться родоначальником могущественной землевладельческой фамилии вдали от надоедливых жалоб и протестов прежних своих акционеров и в стране, проникнутой аристократическими традициями в большей степени чем Австралия.
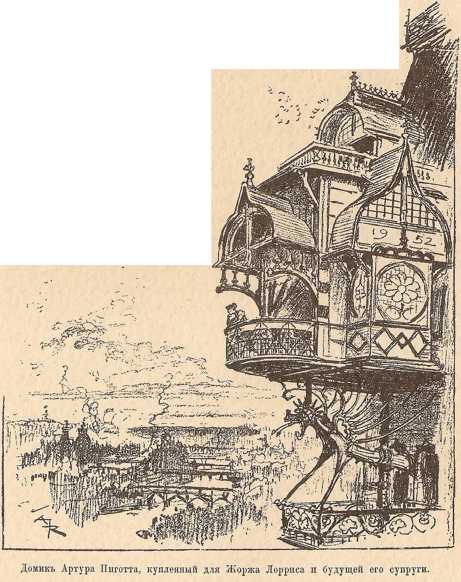
Относясь к Филоксену Лоррису как к человеку, достойному его понимать, экс-банкир, показывая ему домик, обстоятельно изложил также свои планы и соображения.

— Ваша старинная земельная аристократия, сударь, умерла, или умирает от истощения, — сказал он. — Остается только дунуть на нее, и она совершенно угаснет. Мы так и сделаем, но вместе с тем займем её место. Известно ведь, что природа не терпит пустоты. Аристократия призвана играть важную роль в социальной жизни. Ваши революции доказали нагляднейшим образом, что стоит только низвергнуть одну аристократию, чтобы ее заменила другая. Теперь, сударь, скажите, кто были основателями знатнейших аристократических фамилий? Ловкачи, оказавшиеся богаче и следовательно могущественнее своих соседей. He станем вдаваться в рассмотрение, каким именно образом они добыли себе богатство. Вся суть в том, что оно сосредоточилось в их руках!.. Историки обыкновенно умалчивают о мелочных подробностях, справедливо считая их не заслуживающими серьезного внимания.
— В былое время самыми удобными средствами к наживе являлись вооруженные набеги на вражескую страну и завоевание какой-нибудь территории, иными словами — насильственное изгнание, или обращение в рабство прежних владельцев, поступивших когда-то таким же образом со своими предшественниками, — заметил Филоксен Лоррис.
— Иначе сказать, все сводилось к самым грубым формам грабежа и насилия, по истине достойным варварских времен, — продолжал г-н Пиготт. — He понимаю, как могут ввиду этого отрицать наличность прогресса. Смею надеяться, что в последующие времена историки, которых будет интересовать происхождение аристократической фамилии, основанной мною в дордонском герцогстве, где вы, вероятно, не откажетесь посмотреть парадную мою охоту, встретятся с фактами совершенно иного рода. О вооруженном насилии и вооруженном грабеже не будет тут и речи. История скажет: „Предок герцогов Дордонских, г. Пиготт, был не чета какому-нибудь Монморанси. Ловкий, но без всякой примеси кровожадности, этот витязь интеллигенции умел собирать с простых смертных налог в пользу более развитого своего разума… “.
— Кажется, от двухсот до трехсот тысяч акций по пяти тысяч франков каждая… Если не ошибаюсь, таков был именно результат последнего вашего предприятия…
— Да, если не считать еще кое-каких мелочей, которые потребовалось взять на покрытие довольно кругленьких негласных расходов… И так я продолжаю. История скажет: „Он умел воспользоваться перевесом своего разума, чтобы собрать себе порядочный капитал и, поселившись со своими богатствами на берегах Дордоны, основал знаменитую герцогскую фамилию, посадил родословное древо, раскинувшее теперь так широко свои ветви и распростершее благодатную свою сень над нашими головами. Он оказал этим могущественное содействие возрождению принципов авторитета и здравых понятий относительно общественной иерархии, столь долго колебавшихся в волнах наших революций"… Вот каким образом основывается на ваших глазах новая аристократия!
Г-н Пиготт был совершенно прав.
На развалинах древнего мира, которые вскоре будут окончательно расчищены, основывается теперь новая аристократия. Какова же будет участь прежней? Древние аристократические фамилии очевидно вступили в период упадка. Они тают не по дням, a по часам и вероятно вскоре совершенно исчезнут. Обедневшие их потомки, удаленные недоверием народных масс от участия в политической деятельности, не обнаруживают особенной способности к научным занятиям и совершенно непригодны для заведывания крупными торговыми и промышленными предприятиями. Они сидят, показывая язык прогрессу, в разваливающихся замках, поддерживать и ремонтировать которые у них не хватит средств, или же прозябают на службе в ничтожных должностях без всяких видов на повышение в будущем.
Их поместья, замки и даже самые фамилии переходят к новой аристократии, — к магнатам нового наслоения, — к биржевым крезам, обогатившимся чужими деньгами, — к знаменитостям, выдвинувшимся в области крупной промышленности или производительной политики. Рядом с злополучными потомками древних дворянских родов, считающими для себя счастьем получить хоть самое скромное местечко в канцелярии какого-нибудь министерства, или в фабричной конторе, где древняя рыцарская кровь сохнет и отравляется от застоя, мы видим крупных промышленников и колоссальных денежных тузов,
водружающих знамя Плутуса над старинными поместьями бывшего дворянства и таким образом воссоздающих прежние ленные владения на более прочных капиталистических основах.
Кроме многомиллиардного богача Пиготта, уместно будет привести еще несколько других образчиков новой аристократии.
Вот, например, перед нами знаменитый маркиз Мариус Капурлес, основатель целой сотни заводов и фабрик, — организатор нескольких синдикатов, захвативших в свои руки все крахмальные и винокуренные заводы громадного района. На свои колоссально-несметные барыши Мариус Капурлес последовательно покупал одно поместье за другим. Постепенно округляя свои владения, превосходящие теперь уже своей обширностью многие департаменты, он недавно добился признания их особым маркисством. Позволим себе добавить, что в числе мелких конторщиков в одном из агентств Капурлеса служит настоящий герцог, потомок королей иерусалимских и сицилийских. В той же конторе занимаются, в качестве вольнонаемных писцов, три или четыре бедняка, обладающих благороднейшими наследственными гербами. Их предки владели громадными поместьями и замками, охраняли острием своего меча пограничные мархии и оросили своей кровью все поля сражений древней Франции…
Жюль Поммар представляет собою знаменитость, не уступающую в своем роде маркизу Мариусу. Выступив на охотничью арену политики, изобилующую ценной дичью, Жюль Поммар не положил, как говорится, охулки на руку. Он был не из таковских. Разумеется, нельзя сказать, чтоб ему постоянно везло. Его как-то обвинили во взяточничестве и в подкупе, но оправданный одержанным успехом и отбыв срок наказания по кое-каким судебным приговорам, он выкроил для себя в родной области настоящее маленькое царство, где властвует, заведует и управляет решительно всем и всеми с высоты своего величия проходимца-выскочки, торжественно восседающего в роскошном историческом замке, когда-то принадлежавшем королевской фамилии. Жюль Поммар с уверенностью рассчитывает, что его наследники будут носить громкое имя этого замка.
Еще более замечательным образчиком современного магната служит г-н Мальбуке, тоже крупный промышленник, король железа и принц чугуна, властелин и обладатель громадных металлургических заводов, собственник нескольких линий электро-пневматических и воздушных сообщений, располагающий тремястами тысяч рабочих и самыми титаническими орудиями производства, какие только может представить себе разнузданное воображение. Это громадное сборище грозных машин, которые вертятся, скрипят, перетаскивают громадные тяжести с места на место, ударяют гигантскими молотами, визжат и завывают ужасающим образом в чудовищных фабриках, являющихся громадными железными городами странной архитектуры. Гигантские паровые молоты высятся там словно самодвижущиеся монументы, беспощадно свирепствующие в урагане металлического звяканья и вихре едких паров над раскаленными до красна печами, при которых состоят для подбрасывания туда углей целые толпы исхудавших полунагих, словно обгоревших и полуизжарившихся людей, прокопченных углем и сажей.
Властелин этого по истине адского царства, как и следовало ожидать, там не живет. Он незримо господствует, повелевает всем и всем управляет, держась поодаль от безостановочного адского движения, вне тлетворного дыхания чудовищных рек расплавленного чугуна и раскаленного потока газов, вырывающихся из доменных печей. Над своими рабами из человеческой плоти и железа он царствует при помощи телефоноскопа, соединяющего кабинет директора завода с великолепным кабинетом самого хозяина, который обитает в роскошном замке, обширностью своей превосходящем дворцы Шамборский и Куси, взятые вместе. Сооружение этого волшебного замка, расположенного в очаровательно-живописной местности, на берегу реки, катящей воды свои в море, и окруженного громадными, строго охраняемыми лесами, обошлось изрядное число миллионов.

Все кругом этого замка на необъятное расстояние принадлежит Мальбуке, который, благодаря обаянию своих миллиардов, сделался сперва графом римской империи, а затем, сравнительно недавно, возведен в герцогское достоинство. В громадном поместье Мальбуке, которое признано обеими палатами особым герцогством, ему принадлежат безраздельно и земля и её обыватели, закованные в невидимые, но как нельзя более прочные цепи настоящего рабства.
Домик, купленный Филоксеном Лоррисом у одного из этих властных баронов денежного мешка и промышленности, окруженный другими домами, отличавшимися такою же вавилонской роскошью и служившими городской резиденцией столь же влиятельных тузов, переделывался теперь сверху до низу для сына великого инженера. Новейшие изобретения и применения современной науки должны были водворить там научный комфорт, вполне достойный просвещенного века, в котором мы имеем счастье жить и по возможности достойный самого великого Филоксена Лорриса.
О сколько-нибудь обширных садах разумеется не могло быть и речи. В Париже ведь так мало свободного места! Пришлось ограничиться поэтому простою рамкой зелени, окаймлявшей различные здания. За то все террасы, платформы перед окнами и балконы были превращены в дремучие леса, разумеется, в том виде, в каком представляется настоящий лес, когда на него смотреть в бинокль с конца, противоположного окуляру. Это были модные теперь леса и рощи японских карликовых дерев.
Дело в том, что теснота и давка обнаруживаются теперь не в одном лишь Париже. Злополучный наш земной шар до того переполнен населением, — на его битком набитых материках остается так мало свободного места, что поневоле приходится прибегать ко всевозможным уловкам и передержкам, чтоб сохранить себе по крайней мере иллюзию свободы и простора.
Вас манит тенистый лес с вековыми дубами, широко раскидывающими могучие ветви, переплетающими свои корни, словно стаи змей, и гордо воздымающими к небу густолиственные свои кроны! — Быть может, вы предпочитаете фантастические сосны с взъерошенными иглами, цепляющиеся за глыбы скал, поросших мхом? — Угодно вам, наконец, насладиться привольем диковинной растительности тропического леса с чудовищными баобабами и высокими стройными пальмами?
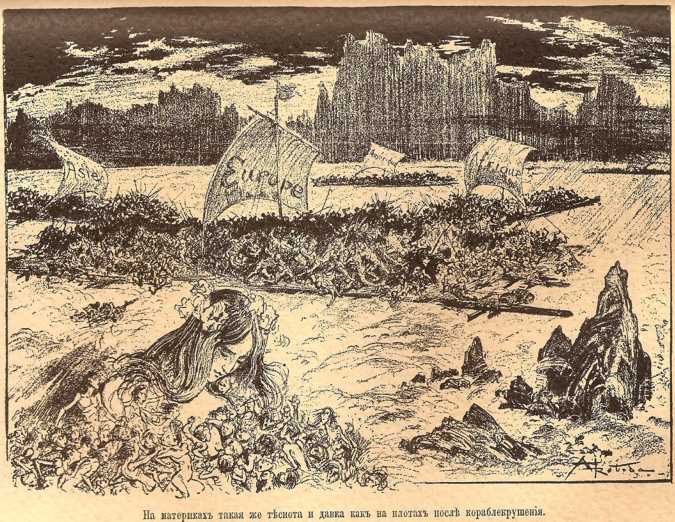
Все это к вашим услугам здесь на балконе, на хорошеньких подносах из японского фаянса.
Вы располагаете у себя на веранде великолепнейшим настоящим лесом в миниатюре, — с великанами растительного царства, — с вековыми деревьями, которые, благодаря несравненному искусству садовника из Иеддо, уменьшены до размеров комнатных растений.

Это миниатюрный лес, но все-таки лес с непролазной чащей густых зарослей. Прогалины между деревьями покрыты ковром карликового вереска. В таинственной глуши этого леса вас может охватить священный ужас иллюзии уединения. Вы найдете там скалы и дикие ущелья, над которыми высятся стволы старых дубов, искривленные и изломанные словно многовековыми бурями, и как-будто вытерпевшие на своем веку не один ураган. Перед вами раскидываются обширные искусственные пейзажи, до того схожие с действительностью, что при самомалейшем усилии волн они осенят вас поэзией мечты точь в точь также, как если б вы бродили и в самом деле где-нибудь в заброшенном уголку девственной природы. Необходимо принять во внимание, что таких уголков остается уже немного, и что они не сегодня — завтра исчезнут навсегда.
За исключением этих искусственных дремучих лесов и рощ, не ищите в Париже другой растительности, кроме тощих садиков, которые с трудом лишь поддерживаются перед фасадами богатых домов.

Парижская почва ничего не производит по той простой причине, что её на самом деле вовсе нет. Настоящая растительная земля давно уже отсутствует в столице, где естественная почва и подпочва заменены запутанною сетью тоннелей и труб всевозможных размеров. Эти трубы служат для разнообразнейших целей, как например: для электро-пневматического сообщения между отдельными кварталами, для такого же сообщения с другими городами, для стока нечистот, для помещения бесчисленных проводников к всевозможным телеаппаратам, для электрической передачи механической силы, света и теплоты, театральных спектаклей, музыки и т. д. Все это перекрещивается в массе бетона и камней, где корни несчастных деревьев, осужденных злым роком прозябать в такой несвойственной растениям обстановке — на искусственном конгломерате, пропитанном вредоносными жидкостями, не могут даже приискать достаточное количество пищи, если им удастся разрастись и разветвиться как следует.
Если парижская вилла Жоржа Лорриса могла похвастать тенистою сенью лишь миниатюрных своих комнатных лесов, то в вознаграждение за это при ней имелась очень миленькая дача, находившаяся в Лимузенских горах, в тридцати пяти минутах езды по трубе электро-пневматического сообщения и в двух-часовом расстоянии полета на воздушном корабле. Эта небольшая, но удобная дачка была расположена в очень живописной местности, на склоне скалистого холма, поросшего настоящими деревьями в действительную величину, так что из её окон открывался вид на неподдельную лесную глушь.
Архитектора, строившего дачу, осенила счастливая мысль сделать подвижною верхнюю часть здания — квадратную башенку, возвышавшуюся над главным корпусом. Она могла подыматься до одного уровня с гребнем соседнего холма и стоять в хорошую погоду на высоте восьмидесяти метров над домом.
Оттуда открывался более обширный и разнообразный ландшафт, перерезанный ущельями и речками. Вдали, на отдельных скалах или на гребнях холмов, виднелись развалины пяти или шести старинных замков, а так как промышленность в окрестностях была еще сравнительно мало развита, то всего лишь местах в двадцати чернели дымными пятнами на горизонте группы заводов и фабрик.
Возвратимся однако к парижскому дому, проданному бывшим банкиром, который, нажив несколько миллиардов, считал его более уже не соответствующим высокому своему положению. Необходимо признать, что этот домик представлял собою нечто вроде роскошной драгоценной вещички, — истинно — художественного произведения новейшей архитектуры. К тому же он был построен на превосходном месте.

Из больших венецианских окон великолепной залы шестого этажа, считая снизу, или первого этажа, как обыкновенно называют его теперь — с тех пор, как парадный подъезд помещается на крыше, т. е. на террасе, служащей пристанью для воздушных экипажей, — открывался превосходный вид на необозримую даль. Из этих венецианских окон, а также из стеклянных павильонов, украшавших главный фасад, можно было видеть перед собою весь Париж с его громадным почти международным скоплением одиннадцати миллионов жителей, благодаря которому бьется на берегах Сены сердце не только одной Европы, но даже до известной степени всего земного шара, так как в стенах францусской столицы давно уже основались многочисленные азиатские, африканские и американские колонии. Внизу, на, первом плане, расстилались старинные кварталы древней Лютеции, которые столько раз перестраивались, якобы с целью украшения города, но тем не менее изяществом и правильностью сооружений значительно уступали лежавшим далее за ними новым кварталам. Эти последние успехи, уже раскинутые на необозримое пространство, все еще продолжали расширяться, беспрерывно выдвигая наружу быстро застраивающуюся сеть новых бульваров.
Там, за доменными печами, высокими трубами и куполами электрических резервуаров большого Тюльерийского промышленного музее, в самой колыбели Лютеции, древней выросшей и преобразившейся, растянувшейся в длину, ширину и вышину, одним словом, расползшейся во все стороны Лютеции, воздымаются между двух рукавов Сены башни старинного собора Богоматери, увенчанные ажурным зданием из железа, — простым воздушным каркасом в том же готическом стиле, как и самый собор, — поддерживающим в восьмидесяти метрах над платформою башен вторую платформу, на которой помещаются: главная контора воздушных омнибусов, полицейский участок, ресторан и концертный зал для церковной музыки. Невдалеке оттуда виднеется башня Сен-Жака, в свою очередь увенчанная на высоте пятидесяти метров громадным циферблатом электрических часов и второю платформой, над которой носятся на разных высотах наемные воздушные кабриолеты, имеющие там свою биржу.
Многочисленные подобные же воздушные здания высятся над ста тысячами дебаркадерами и крышами домов. Здания эти покрыты сверху до низу колоссальными рекламами о многих тысячах разнообразнейших продуктах промышленности. Среди таких воздушных зданий особенно выделяются станции больших линий воздушных омнибусов, верфи воздушных кораблей заатлантического сообщения (монументальные сооружения различных форм и стилей, отличающиеся необыкновенной легкостью и возведенные на ажурных железных фермах), и большая центральная станция труб электро-пневматического сообщения, имеющая характер более массивного сооружения. От неё расходятся во все стороны трубы, поддерживаемые длинными виадуками на железных арках, или проходящие сквозь туннели под застроенными холмами. Множество других зданий более или менее напоминают башенный стиль. Между ними отметим маяки городских кварталов, воздушные полицейские управления и участки для наблюдения за порядком в атмосфере, весьма затруднительного по ночам, несмотря на снопы электрического света, изливаемые маяками, а также дебаркадерами больших общественных заведений и магазинов.

Некоторые кварталы покрыты такой частой и запутанной сетью электрических проводников, что кажутся окутанными колоссальною паутиной. Излишек вреден во всем. Проводники, раскидывающиеся во все стороны, являются в некоторых местах серьезным препятствием сообщению по воздуху. Из-за них по ночам ежедневно случается масса несчастий. Несмотря на яркий свет маяков и фонарей на крышах, пассажиры воздушных экипажей оказываются подчас убитыми на повал нечаянным электрическим разрядом, или же ранеными, а иногда почти обезглавленными какою-нибудь проволокой, незамеченной во-время.
Возле самого дома Лорриса высится древнейшее из легких зданий, взбирающихся чуть не до облаков. Оно было выстроено инженером, без сомнения, предчувствовавшим нынешнее развитие сообщений по воздуху. Это достопочтенная Эйфелева Башня, воздвигнутая в прошлом столетии и с тех пор успевшая уже отчасти заржаветь и покоситься.
Вследствие потребовавшегося для неё радикального ремонта сделаны были к этой древней башне кое-какие пристройки. Оба нижние её этажа охвачены теперь великолепными и весьма изящными платформами, протяжением в несколько десятин, на которых разведены зимние сады, поддерживаемые двумя поясами грандиозных железных арок. По другую сторону речки подымаются, исчезая в синеве атмосферы, купола, террасы и шпицы Облачного дворца, — большой международной гостиницы своеобразной архитектуры, сооруженной на вершине древней Триумфальной арки финансовой компанией, которая начала с того, что разорила две первых серии акционеров, но под конец воздвигла на триумфальной арке, проданной ей в полную собственность казною (во время денежных затруднений после двенадцатой нашей революции), действительно волшебное здание, как нельзя лучше гармонирующее с Эйфелевой Башней.
Далее, над Булонским лесом, размежеванным на маленькие скверы, воздымается Картонный город, — квартал, названный таким образом благодаря изящным и обширным доходным его домам, выстроенным исключительно из концентрированной бумажной массы, приготовленной под таким давлением, при котором она становится тверже стали и, в сравнительно тонких листах, сопротивляется лучше камня влиянию непогод. Этим достигается, между прочим, также и большой выигрыш места. Несомненно, что такому картону предстоит громадная роль в архитектуре будущего. Впрочем, уже и в нынешних сооружениях избегают, вообще говоря, употребления прежних тяжелых строительных материалов. Камень почти не идет уже более на постройки. В монументальных зданиях место его заступает пирогранит, литые массы которого обладают несравненно большей силой сопротивления чем настоящий гранит и применяются на многие тысячи разных способов к украшению фасадов. К железу прибегают лишь в сравнительно редких случаях, когда требуются особенно прочные подпоры в виде устоев или колонн. Вообще же для обыкновенных построек идут по преимуществу картон и стекло, отлитое в громадные лещади. Из них устраиваются теперь прозрачные стены, доставляющие в изобилии свет в парадные апартаменты.

Большие магазины, а также здания некоторых общественных учреждений, как, например, банков, строятся в настоящее время исключительно из стекла. Благодаря успехам промышленности оказывается теперь возможным отливать из одного куска целые здания кубической формы, имеющие до десяти сажен в каждую сторону, с внутренними перегородками для отдельных контор. Точно также отливают из одного куска довольно большие павильоны.
Филоксен Лоррис решился сделать из купленного им столь живописно расположенного домика образец научного внутреннего устройства. Задача эта была возложена великим ученым на управляющего департаментом инженер-строителей его конторы. Жорж Лоррис представил свои соображения и планы, вообще говоря, солидарные с соображениями и планами Эстеллы, а следовательно и её мамаши, г-жи Лакомб, но Филоксен не стеснялся игнорировать их, или же изменять до того, что в конце-концов сам Жорж не мог их узнать. Во всяком случае результаты получились изумительные.
Воздушная пристань в двенадцати метрах над крышей, сооруженная вся из стекла, поддерживается грациозными, художественными железными арками. Купол, увенчанный электрическим маяком, осеняет четыре подъемных платформы, сообщающиеся с апартаментами барина и барыни, — парадными комнатами и лабораторным флигелем, в котором помещаются рабочие кабинеты. На окраину пристани выходит, кроме того, большая платформа, заступающая место черной лестницы. Тут же рядом находится сарай для воздушных экипажей — высокая прямоугольная башня, воздвигнутая на одном из углов дома. В десяти её этажах прорезано для этих экипажей десять ворот, устроенных друг над другом. Отделка парадных апартаментов поражает необычайною роскошью. У прежнего владельца помещалась там галерее фотоживописи; но Филоксен Лоррис заменил увезенные картины четырьмя большими декоративными панно, аллегорически изображающими: Воду, Воздух, Огонь и Электричество. Это уже не холодные мертвые картины, а самодвижущиеся и, если можно так выразиться, живые произведения искусства.
Благодаря новоизобретенным техническим приемам, в каждом из этих панно, вокруг аллегорической статуи изображенной на ней стихии, живет и движется сама эта стихия. Так, в панно, посвященном Воде, изумленный зритель видит пред собою настоящую воду, которая струится и переливается каскадами в русле, усеянном скалами и раковинами. Это водное царство еще более оживляется присутствием замечательнейших представителей своей фауны: настоящих и поддельных рыб. Мелкие виды — по преимуществу настоящие, крупные же, — отодвинутые на задний фон и снабженные отлично действующими автоматическими механизмами, — дают в уменьшенных размерах, вполне соответствующих требованиям перспективы, совершенно правильное представление о самых грозных обитателях морских пучин.
Огонь является естественной противоположностью воде. Его аллегорически изображает фигура с бюстом женщины на теле саламандры, которое украшено длинным свернувшимся кольцами хвостом. Вокруг этой фигуры настоящее пламя, не дающее, впрочем, ни малейшего жара, раскидывается во все стороны огненными языками. На заднем фоне происходит извержение огнедышащей горы, сопровождаемое сверкающими потоками расплавленной лавы, цвет которых можно изменять по произволу. Само собой разумеется, что две другие стихии — Воздух и Электричество, оказались еще более благодарными темами для художника-декоратора. В Воздухе, среди эффектнейших облаков, получающихся особым способом во всем неистощимом разнообразии, в каком они создаются природой, проносятся обитатели атмосферы, — изящные миниатюры воздушных кораблей с очертаниями, смягченными завесой паров — совершенно также как в действительности! В этой живой картине все регулировано великолепнейшим образом. Воздушные эффекты меняются по желанию зрителей. Можно попеременно любоваться прелестнейшей утренней и вечерней зарей, или даже дивною звездною ночью, являющейся точным уменьшенным изображением действительного ночного неба с „лазурными дорожками, усеянными золотым песком", как выражаются о нем поэты.
Что касается до Электричества, то инженер-художник очень ловко воспользовался декоративными эффектами приборов и механизмов, служащих для получения и передачи этого вида энергии. По желанию самого Филоксена Лорриса, прямо над головой аллегорической фигуры электричества помещено громадное зеркало большого телефоноскопа.
В этих по истине живых картинах мы видим настоящее искусство будущего. Место прежней живописи: робких художественных попыток разных Рафаэлей, Тицианов, Рубенсов, Давидов, Делакруа, Дюранов и других пионеров искусства, заступили сперва фотоживопись, представлявшая собою по отношению к ним уже громадный прогресс. Нынешние фотоживописцы должны будут, однако, в свою очередь стушеваться перед завтрашними фото-никто-механиками. Все неудержимо идет вперед, а потому застой немыслим даже и в области изящных искусств.
Нечего и говорить, что рабочий кабинет, долженствующий служить вместе с тем лабораторией для Жоржа Лорриса и его супруги, устроен сообразно с видами Филоксена Лорриса, не побоявшегося затратить более получаса на составление подробного плана внутреннего убранства. Этот кабинет снабжен всеми инструментами и усовершенствованными приборами, необходимыми для самых тонких научных исследований.

В то время, как Эстелла Лакомб занималась в большой лаборатории Филоксена Лорриса, мамаша её следила с понятным интересом за всеми переделками в доме, предназначавшемся для молодых, не скрывая ни своего восхищения, когда считала таковое заслуженным, ни порицания, когда находила его уместным. Ей было, однако, не легко доводить свои замечания до сведения отца будущего своего зятя. Филоксен Лоррис, для которого время было до чрезвычайности дорого, поручил простому фонографу выслушивать замечания г-жи Лакомб и отвечать по прошествии суток на эти замечания, если вообще только они удостаивались ответа.
— Первоначальное мое мнение об этом ученом чудаке было совершенно правильно, — говорила сама себе г-жа Лакомб, остерегавшаяся теперь уже высказывать мысли свои вслух. — Этот Филоксен Лоррис — просто на-просто медведь. К счастию, мы выходим замуж не за него. Бедная его жена настоящая мученица!.. Зато Жорж бесспорно прекраснейший молодой человек, кроткий и обходительный. Моя дочь будет с ним как нельзя более счастлива…
Г-жу Лакомб особенно беспокоило одно обстоятельство. В роскошном, превосходно устроенном доме молодых не оказывалось кухни. Мать Эстеллы взяла на себя однажды смелость выразить по этому поводу свое изумление фонографу великого ученого.
На другой день она получила следующий ответ:
— Что с вами, сударыня? — вскричал фонограф, — о какой это кухне изволите вы говорить? Кухни годятся разве только для ретроградов и отсталых, неспособных следовать за научным прогрессом! Через каких-нибудь двадцать лет, дома с кухнями уцелеют разве лишь в самых несчастных деревенских захолустьях. С точки зрения разумной политической экономии частные кухни не выдерживают ни малейшей критики. Изготовление кушаньев в малых размерах неизбежно оказывается значительно дороже, чем изготовление тех же яств в какой-нибудь грандиозной центральной кухне. В доме моего сына, как и в собственном моем доме, никакой кухни не будет. У нас имеются абонементы в Главную акционерную компанию рационального продовольствия. Мы получаем от неё готовые обеды, завтраки и ужины чрез посредство особой системы труб и трубочек. Благодаря этой организации можно жить, как говорится, припеваючи. В результате получается экономия драгоценного времени и вместе с тем большое сбережение денег.
— Благодарю покорно, — возразила г-жа Лакомб. — Можете, сколько угодно, называть меня отсталой, но я все-таки предпочитаю располагать собственной небольшой кухней, где могу готовить кушанья по собственному моему вкусу. Ваша Главная акционерная компания рационального продовольствия окажется на поверку только кухмистерской в больших размерах, а я терпеть не могу обедов из кухмистерской.

— Смею вас уверить, сударыня, — заметил фонограф, по-видимому предусмотревший уже это возражение, — что акционерное общество кормит очень вкусно и ежедневно дает чрезвычайно богатый выбор блюд. Обеды нам готовят там не какие-нибудь невежественные поварёнки, или еще более невежественные кухарки, а настоящие ученые повара, с надлежащими дипломами, — кулинарные инженеры, изучившие в тонкости свою специальность. Контроль над всеми их операциями поручен комитету из самых выдающихся гигиенистов, который и вырабатывает проекты обедов сообразно с законами здравой гигиены и рационального питания… Вместо яств, придуманных поварами, неответственными перед медицинским департаментом, а потому распоряжающимися вкривь и вкось, руководствуясь каким-то бессознательным наитием, мы получаем от акционерного общества пищу, соответствующую времени года и обстоятельствам, освежающую, или укрепляющую, — то по преимуществу мясную, то изобилующую овощами, смотря по тому, что именно представляется желательным в интересах общественного здравия… У абонентов обнаружилось уже значительное уменьшение желудочных расстройств, ослабление подагры, ревматизмов и т. д.
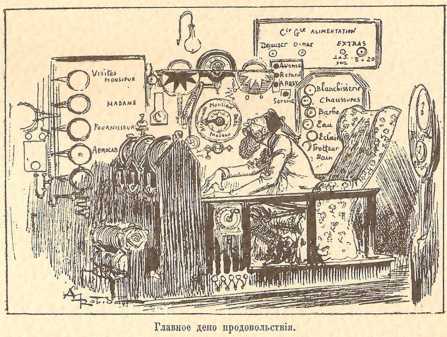
Фонограф остановился, очевидно намереваясь выслушать возражения г-жи Лакомб, которая, однако, благоразумно предпочла от них воздержаться.
Помолчав с минуту, фонограф продолжал с оттенком иронии в голосе:
— Во всяком случае, современному человечеству было бы позорно выставлять на вид чрезмерную свою заботливость об удовлетворении желудка. Этот ничтожный орган не должен брать верх над царственным органом — мозгом и подавлять его, сударыня! Притом же, вопросы желудка имеют теперь лишь второстепенное значение. Как вам известно, в наше время ни у кого уж нет аппетита…
Г-жа Лакомб тяжело вздохнула и мысленно сказала:
— Он, очевидно, скряга. Впрочем, я это давно уже подозревала!
Филоксен Лоррис взял на себя также и организацию надлежащего штата прислуги. Г-жа Лакомб пришла в величайшее изумление, узнав, что весь этот штат будет со стоять из привратника, патентованного старшего механика и младшого механика. Горничных и лакеев не полагалось, точно также как не полагалось и кухарки.

— К счастью, Эстелла берет с собой Гретли, — подумала г-жа Лакомб.
Великий ученый поручил своему фонографу принимать кандидатов в служителя.
В продолжение нескольких дней перед фонографом проходила почти сплошная толпа этих кандидатов. Он записывал их заявления и снимал в то же время фотографические портреты. Таким образом Филоксен Лоррис мог, без всякой непроизводительной траты времени на бесцельные разговоры, сделать разумный и осмотрительный выбор. Пришлось отстранить многочисленных кандидатов, не обладавших свидетельствами об окончании курса в высших учебных заведениях, а потому пригодных лишь в домах средней руки, где по отношению к дипломам не выказывают такой требовательности. Подобным же образом были отстранены даже некоторые инженеры, окончившие политехническую школу, но оказавшиеся в дальнейшей своей карьере неудачниками.

— На чем именно опираются ваши притязания? — спрашивал фонограф у кандидатов. — Потрудитесь объясниться и предъявить ваши дипломы!
Благодаря таким мерам благоразумной предосторожности, на должность привратника поступила супружеская чета, обладавшая, кроме отличнейших рекомендаций, кандидатскими дипломами по всем отраслям знаний. Что касается до механиков, то они с успехом кончили курс в центральном электрическом институте. Им можно было смело вверить заведывание всеми электрическими приспособлениями в доме.
Таким образом гнездышко, предназначавшееся для будущей молодой четы, оказывалось окончательно свитым. He смотря на энергические протесты со стороны г-жи Лакомб, Филоксен Лоррис не отступил ни на пядь и заставил подчиниться своей программе без всяких в ней изменений. Он снабдил дом сына всеми усовершенствованиями, внесенными современной механикой в обыденную жизнь, — усовершенствованиями, дозволяющими обходиться без служанок, лакеев и всей многочисленной челяди, которую приходилось держать у себя нашим дедам.

II
 Задуманные и уже назревшие крупные предприятия. — Коста-Рика. — Придунайское столкновение. — Эпоха взрывчатых веществ заканчивается. — Человеколюбивая война. — Плачевное состояние общественного здравия. — Избыток микробов. — Спасительное национальное лекарство.
Задуманные и уже назревшие крупные предприятия. — Коста-Рика. — Придунайское столкновение. — Эпоха взрывчатых веществ заканчивается. — Человеколюбивая война. — Плачевное состояние общественного здравия. — Избыток микробов. — Спасительное национальное лекарство.
Филоксен Лоррис не выносил женщин без определенных занятий. В данном случае он не составлял, впрочем, исключения из общего правила. Женщина у нас совершенно равноправна с мужчиной, получает такое же образование и более тридцати лет уже пользуется одинаковыми с мужчиной политическими и социальными правами, как пассивными, так и активными. Ей открыты теперь все карьеры, доступ в которые был для неё перед тем воспрещен.

Без сомнения, в этом надлежит усматривать громадный прогресс, хотя некоторые женщины с регрессивным складом мышления, в том числе и супруга самого Филоксена Лорриса, утверждают, будто они остались в проигрыше. Парадокс этот наглядно опровергается тем, что борьба за существование стала теперь для мужчин значительно труднее чем прежде. Все либеральные карьеры, до чрезвычайности переполненные уже тогда, когда одни только мужчины имели к ним доступ, стали еще недоступнее с тех пор, как женщины могут занимать должности нотариусов, адвокатов, докторов, инженеров и т. д., и т. д.
Благодаря энергическим кампаниям, победоносно веденным девицами и дамами, состоявшими во главе женской партии, мы имеем теперь мэров и даже нескольких подпрефектов прекрасного пола. В нынешнем кабинете пришлось даже вручить министерский портфель даме. Таким образом одна из прекраснейших и наиболее выгодных карьер, на которой мужчинам удавалось в былое время нагулять, как говорится, брюшко, оказывает ту же самую услугу и женщинам. Мелкий и крупный политический промысел, как на стороне правительственной партии, так и в рядах оппозиции, насчитывает уже многих женщин, сумевших завоевать себе выдающееся положение.
Женщина работает теперь рядом с мужчиной, — как мужчина, — столько же, сколько мужчина, — в конторе, — в магазине, на фабрике и на бирже. В наш век промышленности и электричества, когда жизнь стала так беспощадно дорогою, все как мужчины, так и женщины, лихорадочно стремятся к наживе и погружаются по уши в деловые предприятия. Женщина, не находящая соответственных её способностям занятий в сфере деятельности, в которой подвизается её муж, должна обзавестись каким-нибудь другим промыслом. Она открывает магазин, основывает газету, или банкирскую контору и, подобно своему мужу, не щадя сил, устремляется в самый разгар борьбы с массой ожесточенных конкурентов и конкуренток.
Что же происходит с домашним очагом и детьми в вихре этой погони за наживой? Хозяйственные заботы, правда, значительно облегчаются акционерными обществами рационального продовольствия, которые берутся кормить по абонементу целые семьи. Что касается до всего остального, то это возлагается на особ прекрасного пола, которые, получив менее солидное образование, или обладая менее развитым честолюбием, соглашаются принять на себя за приличное вознаграждение обязанности хозяйки дома. Дети, разумеется, могли бы очень стеснить сильно занятых своих родителей, если б не существовало для младенцев самого раннего возраста школ, откуда они последовательно переходят в средние, а затем в высшие учебные заведения. Родителям остается только вносить за них аккуратно четыре раза в год плату, что, впрочем, уже и само по себе причиняет иной раз немало хлопот.
Супруга Филоксена Лорриса представляла собой исключение из общего правила. Она оставалась совершенно чуждой предприятиям мужа, — никогда не показывалась в его лабораториях и конторах и не занималась в то же время никакими предприятиями за свой собственный страх. Г-жа Лоррис пренебрегала даже политикой, несмотря на то, что высокое положение мужа могло бы сразу доставить ей видную роль. Необходимо добавить ко всему этому, что она мало выезжала. Ходили слухи, будто она занимается философией и, запираясь в своем кабинете, размышляет над метафизическими задачами, входящими в программу задуманного ею большого сочинения по этой высшей науке-наук.
Приятно было думать, что супруга знаменитейшего представителя современной науки занимается, в свою очередь, глубокомысленнейшими исследованиями и, обставив себя солидными книгами, устремляется из области почерпнутых оттуда сведений, сквозь дебри гипотез и тернистую чащу заблуждений, в мир неисследованных еще знаний, где отыскивает высокие нравственные истины, подобно тому, как муж её неустанно стремится к открытию великих законов, управляющих физическими явлениями.
Филоксен Лоррис назначил Эстеллу Лакомб в самое главное отделение большой своей лаборатории, а именно в отделение новых исследований. Инженеры этого отделения, составляющие, если можно так выразиться, главный штаб великого ученого, работают вместе с ним и на его глазах. Большинство из них — корифеи науки, поседевшие в лабораториях, давно уже приобрели себе славное имя и считают величайшей радостью жизни корпеть над книгами и химическими приборами. Рядом с этими старцами работают сравнительно немногие молодые люди, у которых Филоксен Доррис угадал зарождающийся гений. Великий ученый направляет этих энергических юных тружеников на неисследованные пути, способные привести к раскрытию неведомых еще тайн природы.

Что же делала бедняжка Эстелла с своим сравнительно легким научным багажом среди этих светил современного знания? Невеста Жоржа находила очередные вопросы в лаборатории и самые обыденные темы производившихся там исследований несравненно более трудными, запутанными и головоломными, чем все, что приводило ее в недоумение, в то время, когда она, приготовлялась к экзаменам на диплом инженера. Прислушиваясь к рассуждениям своих коллег и пытаясь хоть сколько-нибудь понять интересовавшие их задачи, молодая девушка испытывала такое чувство, как если б голова у неё собиралась треснуть и разорваться на части.
Эстеллу сперва прикомандировали к дамам, занимавшимся в отделении новых исследований. Каждая из них в той отрасли знания, которую выбрала своей специальностью, нисколько не уступала бородатым своим сотоварищам. Одна из ученых дам, вышедшая когда-то первой по женскому отделению политехнической школы, сперва было заинтересовалась молодой девушкой. Она думала, что Эстелла, без сомнения, обладает необычайными научными сведениями и гениальнейшими способностями, так как в противном случае Филоксен Лоррис не принял бы ее в главную лабораторию. Выеснив себе вскоре истинный уровень знаний и научных талантов Эстеллы, эта дама отвернулась с гримасой презрительного негодования от представительницы прискорбного древнего женского легкомыслия.
Эстеллу назначили тогда секретарем при инженер-медике и старшем секретаре Филоксена Лорриса, Сюльфатене, правой руке знаменитого ученого. Молодая девушка этому очень обрадовалась, во-первых потому, что уже не боялась Сюльфатена, относившегося к ней с известного рода снисходительностью, а во-вторых потому, что могла чаще встречаться с Жоржем Лоррисом. Она стала проводить целые дни в большой секретарской зале, записывая поступавшие требования, передавая иной раз приказания, или же принимая от фонографов распоряжения Филоксена Лорриса, чтоб сообщить их в качестве дневного приказа многочисленным директорам особых отделов. Филоксен Лоррис постоянно пользовался фонографом. Таким образом, везде и всюду, даже в самых отдаленных из числа принадлежавших ему заводов и фабрик, голос великого ученого возбуждал и поддерживал усердие главнейших его сотрудников.

Чтоб ознакомиться с наиболее выдающимися новыми предприятиями, над окончательной разработкой которых трудился неутомимый гений Филоксена, достаточно было бы позволить себе маленькую нескромность и присутствовать без его ведома при нескольких деловых совещаниях его с посторонними лицами. Вот, например, хоть теперь, в большой секретарской зале беседуют с великим ученым несколько смуглолицых джентльменов с курчавыми волосами и бородами и усами черными, как вороново крыло. Все они в иностранных военных и штатских мундирах. Это костарикские дипломаты, прибывшие вместе с комиссарами от военного ведомства договориться насчёт поставки новых усовершенствованных орудий и снарядов. Филоксен Лоррис с лаконизмом человека, старающегося не тратить даром даже и четверть минуты, как раз в это время излагает сущность вопроса.

— Короче сказать, господа, — объясняет он, прерывая словоохотливого дипломата, — Костарикская республика для предполагающейся своей войны с Придунайским королевством…
— Прошу извинить, но у нас о войне не было и речи, — возражает дипломат. — Следовало сказать: Костарикская республика, чтоб обеспечить сохранение мира с Придунайским королевством… Ведь у нас ведутся еще с ним переговоры. Пока не дошло даже и до посылки ультиматума!.. Все делается, значит, только с целью обеспечить сохранение мира!..
— Желает приобрести большую партию не выпущенных еще в обращение новых взрывчатых наших снарядов, — продолжал Филоксен.

— Совершенно справедливо.
— А также изобретенные нами орудия, долженствующия в случае надобности доставлять эти взрывчатые снаряды в места, наиболее благоприятствующие нанесению возможно большого вреда неприятелю.
— Точно так-с!
— Вы присутствовали на опытах с нашими новыми снарядами и видели издали орудия, подробности устройства которых составляют нашу тайну. Вы желаете приобрести орудия и снаряды и сообщили вашему правительству наши условия, которые останутся неизменными. Убежденные в преимуществе новых наших приспособлений над всем, что было сделано до сих пор в этом направлении, мы не уступим ни йоты из наших требований. От вас зависит согласиться на них, или нет.
— Однако же…
— Мы не намерены торговаться!.. От вас зависит сказать: „да“ или „нет“, но это следует сделать безотлагательно…
— Позвольте заметить вам только, что Костарикская республика… из любви к миру согласна принести всяческие жертвы. Тем не менее, соглашаясь на эти тяжкие жертвы, она желала бы, чтобы должность предводителя армий, которому предстоит произвести в больших размерах опыты над новыми орудиями и разрывными снарядами, была принята на себя изобретателем… а именно вами самим, знаменитый ученый!..
— Помилуйте, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься такими пустяками? Кроме того, я состою ведь здесь генерал-инженером от артиллерии и не могу поступать на заграничную службу.
— Мы как-нибудь уладили бы это. He трудно выхлопотать для вас кратковременный отпуск, мы готовы даже заплатить вашему правительству кругленькое вознагражденьице. Видите, как высоко ценим мы ваше содействие…
— Было бы бесполезно настаивать на этом, милостивейшие государи! Я слишком занят другими важными делами.
— В таком случае предоставьте нам одного из ваших сотрудников, например, г. Сюльфатена.
— Нет, он нужен мне самому. Впрочем, я могу послать вам какого-нибудь из моих инженеров, но только на короткое время… Заметьте, что я предоставляю себе право эксплуатировать мои орудия и снаряды по собственному усмотрению, т. е. продавать всем державам, не исключая и Придунайского королевства, то, что они пожелают от меня купить…
— Как! Вы собираетесь продать Придунайскому королевству те же орудия и снаряды, как и нам?
— Без сомнения, тоже в интересах ограждения мира.
— В таком случае мы отказываемся от всякой сделки.
— Как вам угодно. Предупреждаю вас только, что Придунайское королевство уже несколько дней тому назад согласилось на все мои условия и приобрело те самые орудия и снаряды, которые вы отказываетесь теперь купить… Оно одно и будет снабжено ими.
— Значит, оно заключило уже контракт на поставку?
— Совершенно справедливо.
— В таком случае мы тоже согласны на все.
— Это с вашей стороны самое благоразумное решение. Нам остается теперь только договориться об условиях платежа и надлежащих обеспечениях.
— Угодно вам получить в залог правительственные дворцы?
— Нет, я предпочитаю взять в обеспечение таможенные пошлины и заставные сборы…
Поставка усовершенствованных орудий и новых разрывных снарядов обеим воюющим сторонам в данную минуту и всем воюющим сторонам в продолжение некоторого времени являлась сама по себе колоссальной операцией, долженствовавшей принести громадные барыши.
Одновременно с нею, однако, великий ученый решился выпустить в свет другое предприятие совершенно иного характера,
но еще более гигантское по своим размерам. Нам остается только преклониться перед верховным могуществом науки! Бесстрастная, как сама судьба, она доставляет человеку самые грозные средства разрушения. Но если природа отдает ему в руки стихийные силы, предоставляя ими пользоваться и даже злоупотреблять, то с другой стороны она столь же щедро раскрывает перед ним свои арсеналы для борьбы с естественными разрушающими факторами и в изобилии снабжает его могущественным оружием, помогающим одерживать победы в великой распре между жизнью и смертью.
На этот раз Филоксену Лоррису приходится иметь дело не с солдатами и не с генералами, жаждущими как можно скорее испытать новоизобретенные им химические составы. Речь идет о новых целебных средствах, но между тем он обсуждает вопрос этот в большой своей лаборатории не с врачами, а с политическими деятелями.
Правда, что в числе этих политических деятелей находится его превосходительство министр общественной гигиены, знаменитый адвокат, один из лучших францусских ораторов, участвовавший за последние двадцать лет в сто сорока девяти министерских комбинациях с разнообразнейшими портфелями, начиная с министерств военного, промышленности и вероисповеданий и заканчивая министерством воздушных сообщений, короче говоря, человек самой необъятной энциклопедической компетентности.
— Да, милостивые государи, как не прискорбно в этом сознаться, современная наука до некоторой степени виновна в плохом состоянии общественного здравия, — говорит Филоксен Лоррис. — Нельзя отрицать, что нынешнее слишком торопливое и скороспелое, до чрезвычайности занятое и раздражающее нервы электрическое существование переутомило человеческую расу и вызвало у нас нечто вроде общего упадка сил.

— Это объясняется мозговым перевозбуждением, — заметил министр.
— У современного человечества нет более мышц, — презрительно заметил Сюльфатен. — Работает один только мозг, который и поглощает все питательные соки в ущерб остальному организму, неизбежно подвергающемуся вследствие этого процессу так называемой атрофии и вырождения. Если своевременно не будут приняты должные меры, то человек обратится к громадный мозг под куполообразным черепом, подпертым самыми тоненькими ножками!
— И так, — продолжал Филоксен, — мы имеем дело с переутомлением, ведущим к упадку сил. Отсюда уже вытекают все более возрастающие трудности обороняться от осаждающих нас болезней. Во первых — самая крепость ослаблена, во вторых — осаждающие неприятели подходят к ней все в большем числе и становятся сами по себе все опаснее.
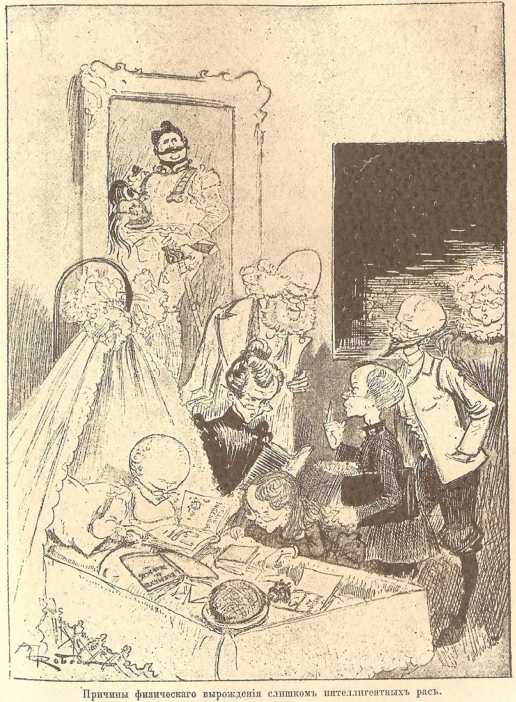
— Вы намекаете на новые болезни! — заметил министр.
— Именно на них. У нас пытались противопоставлять опасным микробам других враждебных им микробов, рассчитывая таким образом выбивать клин клином. На деле же оказалось, что новые микробы, привитые человеческому организму, обратились в свою очередь в наших врагов и породили массу новых болезней, которые на мгновение сбили с толку даже людей науки, особенно тщательно изучавших токсические свойства микроорганизмов…
— Позвольте мне заметить, милостивейшие государи, — сказал министр, — что неутешительное состояние здоровья у нас в значительной степени обусловливается злодействами химии!
— Как, злодействами?..
— Чтобы не обижать науку, я согласен, пожалуй, взять это слово назад и заменить его неудобствами слишком обширного распространения и пользования химией, т. е. в сущности приложениями её ко всякой всячине: к научной фабрикации в больших размерах всех жидких и твердых питательных веществ, — всего, что можно есть и пить, — к подражанию или, выражаясь проще, к подделке всех естественных продуктов. Увы, теперь у нас все поддельное, — искусственное, — все является только подражанием действительности! Всюду нас преследуют подмеси бесцеремоннейшего свойства, и мы, в конце концов, оказываемся отравленными современными Борджиа нашей чрезмерно научной промышленности.
— Увы! — подтвердил один из депутатов, любивший в былое время покушать, а теперь страдавший неисцелимым расстройством желудка.
— Я не упоминал о тысяче других причин, как, например, о всеобщей нервной раздражительности, вызываемой чрезмерным насыщением атмосферы электричеством, которое проведено теперь всюду и, так сказать, насквозь пропитывает наш организм. Точно также я не упоминал о специальных заводских и фабричных болезнях, которые, сперва поражая только людей, занимающихся той или другой опасной отраслью промышленности, распространяются затем кругом фабрик… Необходимо также принять во внимание беспрерывно возрастающее переполнение наших человеческих муравейников, все теснее сдвигающихся друг с другом на поверхности нашего злополучного слишком миниатюрного земного шара…

— Да, нынешние материки — Америка, Европа и Африка, можно сказать, набиты битком; Азия же переполнена через край китайцами. Так называемые части света производят на меня впечатление плывущих на океане громадных плотов, чрезмерно нагруженных пассажирами, которые, терзаемые голодом, собираются уже пожирать друг друга! — добавил один из политических деятелей.
— А между тем, ведь, у нас применяются теперь в обширных размерах к земледелию научные химические, методы восстановления в растительной почве израсходованного перегноя, не говоря уже об электрическом возбуждении засеянных полей, обусловливающем прорастание зерен и быстрое развитие молодых растеньиц.
— Хорошо еще, что в ближайшем будущем окажется возможным сплавлять избыток населения на шестой материк, строящийся теперь под наблюдением великого инженера Филиппа Понто в громадном и совершенно бесполезном до сих пор Тихом океане! Да, это по истине грандиозное предприятие, господа! Его мог задумать только человек, обладавший крупным творческим гением!

— Вернемся, однако, к делу, — продолжал Филоксен Лоррис, видя, что разговор отклоняется от первоначальной темы. — Перепроизводство населения и громадное развитие промышленности породили довольно печальное положение вещей. Атмосфера у нас загрязнена и отравлена до того, что надо подняться с помощью летательных машин на очень большую высоту для отыскания сколько-нибудь чистого воздуха. Вам, разумеется, не безызвестно, что в полуверсте над землей кубический метр воздуха содержит в себе еще сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть микробов и бацилл. Большие наши реки насыщены культурами опаснейших микроорганизмов. Даже и самые маленькие речки переполнены болезнетворными ферментами. Акционерные общества рыбоводства тщетно заселяют каждые пять или шесть лет все реки и речки молодыми рыбками. Оказывается, что рыбы не могут жить в отравленной до такой степени воде. Пресноводные рыбы встречаются только в ручейках и лужах отдаленных захолустьев. Этим, к сожалению, исчерпывается однако далеко не все. Существует еще другая причина прискорбного вырождения нашей расы. Она связана с современными правами и обусловливается чувствующимся у всех недостатком в деньгах или точнее — в средствах к жизни, являющимся язвой нашей ужасающе дорогой цивилизации. Причина эта — браки, заключающиеся прямо в разрез законам естественного подбора. В качестве философов, мы протестуем против столь пагубного закононарушения, но в то же время, в качестве отцов, дозволяем своим сыновьям заключать

такие преступные браки, совершенно несовместные с принципами рационального человеководства. Когда молодому человеку приходит время жениться и основать новую семью, — каким невестам, спрашивается, отдают предпочтение? Сиротам-с! Иначе сказать, молодым особам, родители которых оказались относительно продолжительности жизни ниже и без того уже плохой средней нормы. Если между невестами не оказывается в наличности круглых сирот, то современная молодежь сплошь и рядом останавливает свой выбор на девушках, родители которых кажутся наиболее дряхлыми и болезненными, а потому дозволяют рассчитывать на скорое осуществление пресловутых надежд, выставляемых для женихов в качестве ценного добавления к приданому. Пагубные расчеты! Недостаток жизненной энергии и отсутствие выносливости передаются по наследству от дедов к внукам и такой антинаучный подбор влечет за собою все более быстрое вырождение расы… Само собой разумеется, что все конгрессы медиков, физиологов и гигиенистов бессильны против столь многочисленных причин вырождения. Правда, что вы, г-н министр общественного здравия, предписываете акционерным обществам рационального питания пропускать в известные дни по их трубкам йодистые соединения и тонические микстуры, но ведь это может быть применимо лишь в больших городах, где могли основаться такие общества, да и там, сколько известно, не приводит к желанным результатам. Общественное здравие как в больших, так и малых населенных центрах, оказывается из рук вон плохим!..

— He говоря уже об опасной эпидемии мигранита, которая, несмотря на все усилия медицинского ведомства, наделала у нас столько бед, и длится до сих пор, поражая даже животных, — добавил Сюльфатен.
— История с мигранитом будет выеснена медицинской комиссией, которой поручено изучить в подробности эту болезнь и определить её причины, — сказал один из политических деятелей. Уже и в настоящее время, впрочем, можно заподозрить недоброжелательство чужеземной нации. Мы рассчитываем в непродолжительном времени выеснить себе, каким именно образом ей удалось с помощью электрических токов, пропущенных сквозь смесь тщательно приготовленных миазмов, наслать на нас неизвестную до последнего времени, так сказать, искусственно приготовленную болезнь, которая имела сперва характер сравнительно доброкачественный, но вскоре начала обостряться и, под влиянием разных местных условий, проявляться в смертоносных злокачественных формах. Это, однако, господа, должно оставаться между нами в качестве политической тайны! Правительство наше рассчитывает заплатить при случае за этот подарок такою же монетой, или прибегнуть к иным еще более энергическим репрессалиям!
— Ужас, да и только! — воскликнул один из собеседников. — Положение становится все более тревожным. Беспрерывные успехи знания положительно уничтожили всякую тень государственной безопасности. Бюджет военного министерства разрастается до чудовищных размеров! Теперь требуют от нас опять ассигнования дополнительных кредитов для вооружения сторожевых воздушных крейсеров новыми пушками… Если кроме всего этого придется еще принимать охранительные меры против вторжения миазмов, то я, рискуя прослыть самым заскорузлым ретроградом, позволю себе все-таки оплакивать беспрерывные губительные успехи научных знаний…
— He богохульствуйте! Наука неудержимо идет вперед! — вскричал Филоксен Лоррис. — В сфере военного искусства на днях будет уже суждено закончить варварскую эру разрывных снарядов и химических соединений, обладающих смертоносным действием… Последнее слово прогресса в этом направлении уже сказано и позволю заметить вам, милостивые государи, — сказано фирмою Филоксена Лорриса. Нельзя представить себе ничего совершеннее пушек и снарядов, выпущенных нами теперь в обращение!.. Это наглядно выеснится, впрочем, при столкновении Костарикской республики с Придунайским королевством. Я, признаться, очень рад случаю, берущемуся произвести в больших размерах опыт над нашими новоизобретенными снарядами и пушками… Костарикско-придунайсвая война, без сомнения, будет в своем роде образцовой. Взрывчатые мои составы несравненны по своему могуществу и удобству в употреблении. Миниатюрной бомбой, величиною с горошину, можно взорвать на воздух целый город с расстояния в двадцать верст… Это делается в высшей степени просто, легко и изящно. Фьють! — и готово!.. Идеал взрывчатого вещества таким образом достигнут… Повторяю, что это уже последнее слово прогресса! Поспешим же его произнести и перейдем к чему нибудь другому…

— Нам, значит, придется опять перевооружаться и обзаводиться новыми снарядами? Вы меня положительно пугаете! Наш бюджет и без того уже слишком обременителен.
— Что прикажете делать, г-н министр финансов! Такова уже воля прогресса. Можете быть уверены, однако, что мы на этом не остановимся. Берусь до истечения двухлетнего срока приискать что нибудь лучшее, несравненно лучшее!..
— Неужели? Да ведь нам придется тогда через два года опять перевооружаться!
— Разумеется!.. Обождите, однако, и не проклинайте науки! Я ведь говорил вам, что эра взрывчатых веществ приходит к концу… У нас была эра железа, когда рыцари, закованные в брони, бросались в атаку, выставив вперед копья, или работали тяжелыми булавами, боевыми секирами и мечами. Ее сменила эра пороха с пушками и мортирами, в первое время довольно неловко выбрасывавшими ядра и бомбы. Потом перешли к разным взрывчатым веществам, убийственным химическим составам и усовершенствованным орудиям, дозволявшим посылать их на все более дальние расстояния. Этот период также приходит теперь к концу. Химическая война оказывается, в свою очередь, отсталой. Хотите, я открою вам предмет нынешних моих исследований, — дело, которому намерен посвятить себя всецело после того, как мы сговоримся относительно интересующего теперь нас вопроса? Мне кажется, что теперь назрело время медицинской войны. Взрывчатые вещества необходимо заменить миазмами. Начало этому, как вам уже известно, положено. В нашей армии имеется боевой медицинский корпус с небольшим количеством артиллерии, действующей смертоносными миазмами, но все это в сущности лишь опыт и притом сравнительно робкий опыт!.. Наш боевой медицинский корпус не дал еще до сих пор сколько-нибудь серьезных практических результатов!.. А между тем вся будущность войны зависит именно от них. Недаром туда клонятся замечательнейшие из новейших научных исследований. История с мигранитом, таинственной болезнью, которой не мог избежать никто, является наглядным доказательством боевого могущества миазмов. Несомненно, что мигранит наслан на нас соседней чужеземною нацией… В непродолжительном времени будут воевать не иначе, как при посредстве миазмов! Я рассчитываю теперь продолжать мои исследования в строжайшей тайне, и менее чем через два года окончательно преобразовать военное искусство. Армии можно будет тогда совершенно упразднить, оставив под ружьем лишь ничтожное число людей, строго необходимое для того, чтобы пользоваться плодами деятельности боевого медицинского корпуса. Предположим, что нам пришлось объявить войну какому-нибудь государству. Я посылаю на него тучи отборных миазмов, распространяю там такие сочетания болезней, какие мне вздумается, и затем вспомогательная армия при медицинском корпусе явится на сцену лишь для того, чтобы продиктовать хворому врагу, лежащему в растяжку, какие ей заблагорассудится условия мира… Это чрезвычайно просто, удобоисполнимо и, вместе с тем, человеколюбиво! Я заранее убежден, господа, что потомство придаст несравненно большую ценность моей деятельности, как филантропа, чем даже, например, как химика!..

— Ho ведь распространение миазмов за границей может угрожать опасностью и нам самим…
— Извините, генерал, я предварительно прикрою нашу границу непроницаемой для этих миазмов завесой изолирующего газа. Завеса эта помешает возвращению наших миазмов восвояси и не допустит вторжения неприятельских миазмов… He скрываю от себя трудностей, которые необходимо еще преодолеть, но это представляется, ведь, только вопросом времени. Ручаюсь, что года через два мне удастся выработать надлежащие практические методы. Тогда только изобретение мое окажется вполне созревшим и можно будет приступить к осуществлению новой системы военных действий… Науке, как вы тогда убедитесь, удастся еще раз радикально преобразовать войну и сделать ее кроткой и человеколюбивой, а не варварски истребительной. Борьба будет идти между боевыми медиками обеих воюющих сторон. Страшные гекатомбы молодых и здоровых людей, ужасное зрелище которых представляли нам все международные столкновения эпохи пороха и взрывчатых веществ, будут совершенно устранены. Какою целью задается вообще главнокомандующий в день сражения? Вывести из строя как можно более неприятелей, чтоб лишить их таким образом возможности наносить вред собственным его войскам и препятствовать наступательным его действиям. До сих пор для достижения этой цели надо было прибегать к кровопролитной резне, массовому избиению с помощью пушек, разрывных снарядов, смертоносных химических соединений, удушливых газов и т. п. Условия эти совершенно изменятся, когда я надлежащим образом усовершенствую придуманные мною способы действий. Сколько бы армий ни двинул на нас неприятель, я берусь свалить их все с ног, обессилить и довести до какого мне угодно болезненного состояния. Я пропитаю их до такой степени миазмами, что никто в неприятельских рядах не сможет в течение некоторого времени шевельнуть пальцем! Повторяю, что наука, совершенствуя войну, превратит ее, наконец, в самое гуманное занятие. Вместо того, чтоб делать из людей в цвете сил и здоровья окровавленные обрывки мяса и устилать сотнями тысяч трупов поля сражений, война, при посредстве боевых медиков, будет убивать лишь негодные наследственно-поврежденные организмы, которые окажутся не в силах перенести заражения. Очищая человеческую расу от таких негодных организмов, она будет приносить даже положительную пользу. Нация, побежденная на поле сражения, окажется взамен того, если можно так выразиться, облагороженной. Разве я не прав, называя эту будущую форму войны благодетельной и гуманной? Разве нельзя будет провозгласить меня благодетелем человечества за то, что я ниспровергну навсегда древнее варварство, заменив его чисто медицинскою войною? Дайте же мне два, или по меньшей мере полтора года, чтобы закончить усовершенствование некоторых специальных приборов и приспособлений, о которых я теперь мечтаю, — справиться с последними трудностями и приготовить достаточные запасы надлежаще изученных и дозированных сгущенных миазмов!.. А пока вернемся к нашему вопросу…

— О великом национальном лекарстве, — добавил Сюльфатен.
— Национальном, — повторил Филоксен Лоррис. — Лекарство, которое я намерен выпустить в свет и для которого хочу заручиться национальной поддержкой, является радикальным антимикробным средством, очищающим и возрождающим организм. Оно соединяет в себе, в концентрированном и до чрезвычайности усиленном виде, все полезные качества многих тысяч более или менее благодетельных лекарств, отпускаемых теперь нашими аптеками, и предназначается для замены всех этих лекарств… Государство, пекущееся обо всех и обо всем, вмешивается, как известно, в личные дела граждан, зачастую в большей степени, чем это представляется иногда желательным с точки зрения частных интересов. Только что успеет гражданин явиться на свет Божий, как оно уже заносит его в метрические и разные иные списки. Несколько позже государство начинает интересоваться его образованием и управлять значительной частью его действий, нередко надоедая ему, признаться, своим контролем. Оно хлопочет даже об удовлетворении порочных наклонностей своих граждан, присваивая себе монопольную торговлю табаком и спиртными напитками. Понятно, что при таких обстоятельствах государство имеет не только право, но и обязанность заботиться о здоровье граждан. Отчего бы ему в самом деле не взять в свои руки монополию лекарств, подобно тому, как оно в былое время присвоило себе монополию торговли спичками. Теперь монополия эта упразднена, так как спички вышли из употребления, но, ведь, табачная монополия остается еще в силе. Мера предлагаемая мною, не имеет поэтому сама по себе ничего революционного. Я ходатайствую лишь об учреждении новой монополии для эксплуатации моего национального и патриотического лекарства.
— Убеждены ли вы, однако, в совершенной его надежности?
— Еще бы нет!.. Подождите немного!.. Сюльфатен! распорядитесь вытребовать сюда вашего пациента Ла-Геропьера. Мы производили над ним наши опыты. Все вы, разумеется, знаете как нельзя лучше достопочтенного нашего соотечественника Адриена Ла-Героньера, дошедшего до последней степени телесной и душевной анемии. Организм его был до такой степени уже израсходован и надорван, что никто из врачей не смел браться за его лечение, несмотря на громадность обещанного гонорара, так как никому не хотелось платить в случае безуспешности лечения неустойку… Сотрудник мой Сюльфатен взялся, однако, за безнадежное на первый взгляд предприятие, и вы увидите, что удалось ему сделать в течение всего лишь полутора года из этого расслабленного, дышавшего, если можно так выразиться, уже на ладан… Г-н Ла-Героньер идет теперь совершенно уже на поправку и в непродолжительном времени будет обладать все равно что совершенно новым организмом.
— Все это прекрасно, но ведь следует также принять в расчет оппозицию в палатах, — заметил один из политических деятелей. — Учреждение новой монополии вызовет, пожалуй, сильные возражения со стороны народного представительства.
— Помилуйте, с какой стати!.. Если представить в палаты надлежаще изложенную пояснительную записку, доказать болезненное состояние народа, как бы роковым образом осужденного погибнуть от малокровия и вызываемого им физического вырождения… Здесь можно, знаете, нарисовать изящную картину малокровия, беспощадно обрушивающегося на организм, уже ослабленный вторжением мириадов разных микробов… И вдруг эта докладная записка заканчивается победною песнью. Верное средство от погибели уже найдено! Это великое национальное и патриотическое лекарство знаменитого ученого и филантропа Филоксена Лорриса. Великое национальное и патриотическое лекарство умерщвляет всех бацилл, вибрионов и бактерий, — изгоняет грозное малокровие, — возрождает национальный темперамент, — восстанавливает все функции поврежденных организмов, — победоносно борется с атрофией мышц и преждевременной старческой дряхлостью и т. д., и т. д. После такой докладной записки монополия будет разумеется вотирована большинством не менее как в четыреста голосов. Государственное казначейство и наша фирма приобретут при этой операции, кроме материальных выгод, радость и славу действительного возвращения здоровья и сил современному человеку, так много пострадавшему уже от переутомления!!!
III
 Эстелла Лакомб присутствует при супружеской распре. — Благодеяния науки в применении к семейным разногласиям. — Другие прелести фонографа. — Маленький сюрприз Сюльфатену.
Эстелла Лакомб присутствует при супружеской распре. — Благодеяния науки в применении к семейным разногласиям. — Другие прелести фонографа. — Маленький сюрприз Сюльфатену.
Эстелла, проводившая целые дни в доме великого ученого, редко лишь видела его жену, которую считала занятой составлением ученого трактата по высшей философии. Невеста Жоржа знала о внутреннем разладе в семье родителей будущего своего мужа. Ей было известно, что почти тотчас же после свадьбы обнаружилось непримиримое разногласие между г-жей Лоррис и многоученым её супругом, обладавшим систематически непреклонным и властным образом мыслей. Филоксен и его жена редко встречались друг с другом даже в столовой, так как знаменитый изобретатель, среди множества занятий, зачастую забывал обеденный час.
Однажды Эстелла разыскивала какую-то справку в одной из многочисленных библиотек Филоксена Лорриса, в доме которого книги и научные коллекции загромождали собою все комнаты во всех этажах, захватывая все углы и закоулки и пробираясь даже в коридоры. Вдруг она услышала ожесточенный спор, завязавшийся в маленькой комнате, выходившей в соседнюю большую залу. Невеста Жоржа незадолго лишь перед тем прошла через эту залу и не заметила ничьего присутствия в этой комнате.

Она узнала голоса г-на Лорриса и его жены, чередовавшиеся с короткими промежутками молчания. Г-жа Лоррись обращалась к мужу с самыми горькими упреками и затем умолкала, без сомнения, охваченная сильнейшим волнением. В следующее затем мгновенье раздавался ворчливый голос Филоксена Лорриса, звучавший иногда злобным раздражением.
Бедняжка Эстелла чрезвычайно смутилась. Она усиленно кашляла и передвигала стулья, чтобы сообщить таким образом о своем присутствии, но, без сомнения, в жару спора, супружеская чета Лоррисов не обращала ни малейшего внимания на это предостережение и продолжала обмениваться упреками самого интимного свойства. He осмеливаясь предстать перед грозные очи страшного Филоксена, молодая девушка должна была остаться в смежной библиотеке и против всякого желания инстинктивно вслушиваться в происходившую рядом ссору.
— Еще раз объявляю вам, что вы невыносимы, да, невыносимы до нестерпимости! Какую жизнь, позвольте вас спросить, создали вы для меня? Вы, с вашими особыми воззрениями и системами, были всегда неприятнейшим существом в мире!.. Проклинаю вашу науку, если только она на самом деле наделила вас таким характером. Выражаясь вашими собственными словами, — плевать я хочу на ваши лаборатории, на всю вашу химию и физику! Мне нет ни малейшего дела до ваших изобретений и открытий!.. Да, сударь, надеюсь, что наш Жорж не будет таким ученым дикобразом как ваша милость! Он унаследовал для этого слишком многое от меня…

За этим святотатственным заявлением последовало минутное молчание. Потом знакомый голос Филоксена Лорриса с негодованием возразил:
— Я вовсе не хочу встречать на каждом шагу с вашей стороны сопротивление моим планам и воззрениям… Неужели вы думаете, что у меня есть время рассуждать с вами о хозяйственных мелочах и разных ничтожествах, которым женские умы приписывают так много значения?..
Вы постоянно жалуетесь и говорите, будто я, погрузившись по уши в научные опыты, не забочусь доставлять вам яко бы необходимые развлечения… Я не намерен входить с вами на этот счет в безцельные препирательства!.. Вы совершенно бесконтрольно распоряжаетесь своим временем и можете убивать его так глупо или умно, как вам вздумается!.. Вы требуете развлечений, вечеров, светских праздников, что-ж, пусть будет по вашему… Мне все это как нельзя более противно, но если вы уж непременно хотите, то я дам или, лучше сказать, мы дадим большой, художественный, музыкальный и вместе с тем научный вечер!.. Да, сударыня, он будет также научным!.. Эту часть программы я беру на себя, относительно же всего остального рассчитываю всецело на вас!..
После новой паузы, прерванной несколькими фразами г-жи Лоррис, которые Эстелле не удалось хорошенько расслышать, Филоксен продолжал:
— Наше общественное положение, сударыня, создано этой самой наукой, от которой бессильно отскакивают тупые ваши сарказмы. Ваш неизлечимо легкомысленный ум не в состоянии даже подозревать всей важности научных трудов, поглощающих, как вы изволите знать, все мое время… Неустанное научное мышление, за которое вы меня упрекаете, — дни и ночи, проводимые мною в лабораториях в упорном искании неизвестного, т. е. еще ненайденного, — энергическая борьба со всеми стихийными силами, имеющая целью вырвать у природы её тайны, — все это именно в конце концов и создало могущество фирмы Филоксена Лорриса!.. позвольте спросить теперь, сударыня, какую долю затраченных фирмой гигантских трудов и усилий взяли вы на себя? Вам предстояло только пользоваться плодами этих колоссальных трудов, а вы!..
— Да, сударь, наш сын Жорж во многом походит на меня, и я сердечно этому рада… Из него не выйдет скучного полупомешанного ученого, способного поседеть и высохнуть среди реторт и разных других приборов вашей проклятой научной кухни! Бедное дитя! Быть может, и в самом деле душа моего прадеда, истинного художника и, без сомнения, человека, достойного жить, так как он, разумеется, ценил жизнь и в особенности любил хорошие её стороны, — и в самом деле возродилась в нашем Жорже… Вы упрекаете его за это, а я хвалю, так как вовсе не считаю себя обязанной разделять ваш черствый, прозаический образ мыслей.
Эстелла не слышала продолжения разговора. Приотворенная дверь комнатки внезапно распахнулась настежь. Смущенная вынужденной своей нескромностью, девушка уронила на пол груду книг и робко уткнула голову в отчеты Академии Наук.
— Что с вами, Эстелла? — спросила ее особа, вошедшая в лабораторию.
Эстелла с радостным изумлением подняла голову. В библиотеку вошел, вместо грозного Филоксена Лорриса, жених её, Жорж, казавшийся к тому же совершенно спокойным, хотя, несмотря на его прибытие, супружеская ссора в соседней комнате по прежнему шла своим чередом. Сконфуженная девушка, не смея намекнуть на это вслух, указала пальцем на дверь. Жорж весело расхохотался.

— Это сущие пустяки, — сказал он, — маленькое объяснение между папашей и мамашей, — легкая стычка, объясняющаяся вечным разногласием их взглядов и мнений…
— Я бы давно ушла отсюда, но, право, не смела пройти мимо них, — сказала шепотом Эстелла. — Я нахожусь здесь несколько минут словно в осаде и против воли вынуждена слышать…
— Вы не смеете пройти мимо них? Надеюсь, однако же, что со мной вам нечего бояться!.. Пойдемте же! Вы увидите, смею уверить, любопытную сцену…
— Нет, мне право неловко.
— Полноте, милая, пойдемте!
Он почти насильно вывел Эстеллу из библиотеки и заставил ее идти впереди себя. На пороге маленькой комнаты девушка остановилась, словно оцепенев от изумления. Да и было отчего. Голоса родителей её жениха с ожесточением продолжали препираться друг с другом, а между тем в комнате никого не было.
Жорж указал невесте движением руки на два фонографа, стоявших друг против друга на столе, посреди груды книг и разных научных приборов.
— Как вы видите теперь сами, папенька с маменькой ведут легкую перебранку чрез посредство своих фонографов… Пусть их бранятся на здоровье. Это никому не вредит, как я сейчас буду иметь честь вам объяснить…
— Так значит они ссорятся по фонографу? — с облегченным сердцем спросила обрадованная Эстелла.

— Понятное дело по фонографу! Судите сами, можно ли после того не преклониться перед благодетельными чудесами науки! Как вам известно, между моими родителями с самых давних времен возникли уже несогласия… Вы знаете ведь, что мой отец — грозный и систематически властный ученый!.. Постоянно занятый научными исследованиями и коммерческими предприятиями, он бывает по временам, сказать правду, довольно крутенек… Мамаша у меня совершенно иного характера. Она не сходится во вкусах с моим родителем, а это стало вызывать между ними, по видимому, на другой же день после свадьбы разные недоразумения и столкновения… Когда папаша бывало выходит из себя, он заканчивает ссору презрительным заявлением: „Вижу, г-жа Лоррис, что вы ничто иное как только… светская дама!!!". Мамаша ему не уступает. В то время, как все падает ниц перед авторитетом ученого, она мужественно отстаивает личные свои взгляды… Ежедневно, вследствие разногласия в воззрениях между моими родителями, дело у них доходит до распри и ссоры.
— Жаль, очень жаль! — грустно заметила Эстелла.
— Но это грех еще не столь большой руки, как вы предполагаете. Благодаря той самой науке, которую мамаша ни за что не хочет уважать, семейная распря разражается между фонографами. Когда у папаши очень уж накипит на сердце, так что он непременно должен разразиться выговором и сделать маменьке так называемую, сцену, он поспешно схватывает свой фонограф и облегчает душу, поручая этому инструменту передать кому следует увещания, попреки, упреки и т. д. Само собой разумеется, что фонограф принимает все без всяких возражений и прекословий, которые могли бы только усилить раздражение его хозяина. Затем, отослав этот прибор в комнату, посвященную семейным сценам, папаша совершенно успокаивается и как ни в чем не бывало принимается за свою работу. Маменька, с своей стороны, поступает подобным же образом. Когда она почему-либо недовольна папашей и желает сделать ему замечание, она тоже отчитывает его всласть перед фонографом, а затем успокаивается. Набежавшая тучка рассеялась, небо опять проясняется и за обедом или завтраком о предмете ссоры нет более и речи. Никому из посторонних не может прийти даже и в голову, что между Филоксеном Лоррисом и его супругой только что происходила ожесточенная перебранка… Я сильно подозреваю, впрочем, что оба они давно уже перестали слушать воинственные доклады своих фонографов. Фонографы эти, собственно говоря, проповедуют теперь в пустыне. Папаша присылает сюда свой фонограф, мамаша является со своим, пускает в ход оба аппарата и уходит. Никто обыкновенно и не слышит этого дуэта. Папаша находит, что ему недосуг терять время на такие пустяки, а потому, хотя и приспособил к фонографам самодействующие приборы, долженствующие записывать ответы, но никогда их не прослушивает. Впрочем, они все хранятся у него в особом картоне. Там собраны в строжайшем порядке фонографические клише всех супружеских нотаций, читанных ему мамашей более чем за двадцатилетний период. Это замечательная и, быть может, единственная в своем роде коллекция!..
Тем временем фонографы замолчали. Супружеская распря пришла к концу.
— Я, признаться, подозреваю у вас, Эстеллочка, такое же предубеждение против науки, как и у моей мамаши! Вы должны, однако, признать теперь, что и в науке есть кое-что путное. Благодаря ей, можно жить в состоянии полнейшего несогласия, не выцарапывая, однако, друг другу ежедневно глаз!.. Знаете ли, что! Если мы вздумаем после свадьбы ссориться друг с другом, — будемте делать это всегда по фонографу!

— Разумеется, это окажется гораздо удобнее, — со смехом отвечала Эстелла.
Разыскав требуемую справку, Эстелла собиралась уже уйти из комнаты, посвященной семейным сценам, в большую секретарскую залу, но Жорж остановил ее замечанием:
— Вы только что видели, Эстеллочка, одно из самых удачных применений фонографа. — He думайте, однако, чтобы оно было единственным в своем роде. Так, например, мамаша хранит у себя фонографическое клише первого моего младенческого крика при появлении на свет Божий. Мне самому доводилось несколько раз слышать этот крик, фонографически уловленный моим родителем. Само собой разумеется, что можно сохранять в виде фонографического клише не только первый крик младенца, но и последние предсмертные слова близкого родственника, или даже какого-нибудь отдаленного предка… Случай познакомил меня на днях с другим превосходнейшим применением фонографа. Оно, видите ли, в несколько ином роде, но эффект тоже выходит поразительный!.. Надо будет это вам рассказать… Как вам известно, общий наш приятель Сюльфатен, человек недоступный никаким увлечениям, тревожит всех с некоторого времени изумительной своей рассеянностью. Вообразите же себе, что я нашел ключ его тайны и выяснил истинную причину этой рассеянности: почтенный инженер-медик изменяет науке; сердце его не принадлежит уже ей всецело!
— Г-н Ла-Героньер заметил ведь это еще в Бретани.
— Тогда были еще только цветочки по сравнению с тем, что делается с Сюльфатеном теперь! Мне надо было на-днях осведомиться у него о чем-то. Я зашел в маленький особый кабинет, куда инженер-медик Сюльфатен запирается для размышления о предметах особенно важных, например, в тех случаях, когда ему надо разрешить какую-нибудь особенно сложную и трудную научную задачу. Вдруг я слышу в этом святилище Минервы женский голос, говорящий с глубоко прочувствованным выражением: „Милый Сюльфатен, обожаю тебя и никого кроме тебя во всю жизнь любить не буду!“… Можете вообразить себе мое изумление! Я, признаться, не утерпел и позволил себе бросить нескромный взгляд сквозь полуотворенную дверь, но не увидел в кабинете даже и тени красавицы, пленившейся Сюльфатеном. Оказалось, что он слушает сладкие речи фонографа, стоявшего у него на письменном столе.
— Вы, разумеется, поспешно ретировались?
— Как бы не так! Напротив того, я вошел. Сюльфатен, словно внезапно пробужденный от чарующей грезы, поспешно остановил фонограф и сказал обычным невозмутимо серьезным тоном: „Опять фонограмма из Чикаго. Тамошняя академия наук сообщает снова некоторые возражения по поводу сделанных нами за последнее время применений электричества. Эти американские ученые, с позволения сказать, настоящие ослы!" Признаться, мне было не легко сохранить надлежащий декорум. Я невольно подумал о том, что у этих американских ученых очень приятные и нежные голоса. Во всяком случае теперь мы посмеемся вдоволь. Пойдемте-ка в кабинет к Сюльфатену! Я подготовил ему там маленький сюрприз.
— Что же такое вы сделали?
Жорж остановился на пороге лаборатории.
— Действительно, обдумав хорошенько, я зашел, пожалуй, уже слишком далеко…
— Каким это образом?
— Признаться, я позволил себе отчасти даже неделикатность. Пользуясь тем, что Сюльфатен отвернулся, я похитил у него фонографическое клише объяснений американского ученого и…
— И что же?
— Приказал воспроизвести его в ста пятидесяти экземплярах, которые и разместил в фонографах нашей химической обсерватории, соединив все вместе электрическим проводником. Теперь все у меня там, как говорится, начеку. Сам Сюльфатен, усаживаясь в кресло, замкнет ток, и сто пятьдесят фонографов повторят ему то самое, что говорил тогда американский ученый!
— Боже мой, что вы сделали! Бедняжка Сюльфатен! Скорее отымите проволоку!..
Жорж еще колебался.
— Вы тоже думаете, что я зашел уже слишком далеко? Теперь, однако, делу не поможешь. Вот и Сюльфатен!
В главной лаборатории, перед разными приспособлениями и приборами самых странных форм и разнообразнейшей величины, среди нагроможденных книг, исписанных бумаг, реторт, колб и разных физических инструментов, работало человек пятнадцать первоклассных ученых. Все это были люди серьезные, более или менее бородатые и все без исключения лысые. Одни из них сидели, углубившись в размышления, другие же внимательно следили за производившимися опытами. Сюльфатен медленной поступью вошел в эту лабораторию, заложив левую руку за спину и слегка постукивая себя по носу указательным пальцем, что служило у него признаком самого интенсивного мышления.
Сотоварищи его были до такой степени заняты каждый своим делом, что никто даже и не поднял головы, когда он прошел мимо в свой угол и потихоньку пододвинул себе кресло. Перед тем, однако, чем сесть, он, стоя у стола, начал там разбираться в груде бумаг и разных приборов. Видя, что он еще не садится, Жорж хотел уже на цыпочках подбежать к его креслу и перерезать проволоку. Задуманная им не совсем приличная шутка, разумеется, осталась бы тогда невыполненной, но судьба судила иначе. Как раз в это самое мгновенье Сюльфатен, находившийся все еще в состоянии глубокой задумчивости, тяжело опустился в кресло.
Словно по мановению волшебного жезла, или, как бы на театральной сцене, раздались отовсюду разом электрические звонки:
— Дзин! Дзин! Дзин!
Этот трезвон у всех фонографов не мог не обратить на себя общего внимания. Все невольно подняли головы. Сюльфатен с изумленным видом глядел на маленький фонограф, стоявший на его собственном столе. Трезвон прекратился, и тотчас же затем все фонографы дружно заговорили:
— „Сюльфатен, друг мой, как ты мил и очарователен! Я тебя обожаю и клянусь, что всю жизнь буду любить только тебя одного! Сюльфатен, друг мой, как ты мил и очарователен! Я тебя обожаю и клянусь, что… Сюльфатен, друг мой, как ты мил и очарователен!.." Фонографы не останавливались и, дойдя до последнего восклицания, переданного с должною энергией, начинали фразу снова самыми нежными модуляциями голоса.
Все ученые оторвались от своих размышлений и опытов. Изумленные и сбитые с толку, как и сам Сюльфатен, они повскакали с мест и попеременно глядели то на своего коллегу, то на нескромные фонографы. Наконец, некоторые из них, постарше, расхохотались, насмешливо поглядывая на Сюльфатена, тогда как другие покраснели, наморщив чело и нахмурив брови с таким обиженным видом, как если б им самим было нанесено личное оскорбление.

— „Сюльфатен, друг мой, как ты мил и оча“…
Фонографы внезапно умолкли, так как Сюльфатен перерезал проволоку.
Пользуясь общим смятением, Жорж и Эстелла, незамеченные никем, удалились, затворив за собой двери. Им вслед доносился из лаборатории смешанный гул протестов и восклицаний: „Ого! — Эге! — Вот так штука! — He ожидал! — Скандал, да и только! — Что за гадость! — Это компрометирует французскую науку!“
— Бедняжка Сюльфатен! — сказала Эстелла.
— Ничего, он как-нибудь вывернется, — возразил Жорж. — Заметьте, Стеллочка, еще одно драгоценное свойство фонографа. Он записывает клятвы влюбленных и может повторять их по востребованию сколько угодно раз. В случае измены одной из сторон, другая может вместо всяких упреков привести в действие фонограф, в который вложено такое клише. Он не дает утратиться бесследно голосу возлюбленной и повторяет его нашему очарованному уху, как только мы этого пожелаем… Знаете ли, дорогая Эстелла, что я без вашего ведома изготовил уже несколько клише с вашего голоса и от времени до времени по вечерам доставляю себе удовольствие слушать их в моем фонографе.

IV
 Большой художественно-научный вечер в доме Филоксена Лорриса. — Удовольствие слушать фонограммы прежних великих артистов и артисток. — Некоторые из гостей. — Новая рассеянность Сюльфатена. — Больные фонограммы.
Большой художественно-научный вечер в доме Филоксена Лорриса. — Удовольствие слушать фонограммы прежних великих артистов и артисток. — Некоторые из гостей. — Новая рассеянность Сюльфатена. — Больные фонограммы.
Филоксен Лоррис собирался дать большой художественный, музыкальный и научный вечер, весть о котором сама по себе уже
возбудила величайшее любопытство во всех парижских кружках. В присутствии избранного общества, соединявшего в себе весь академический и политический Париж, — всех выдающихся людей науки и парламента, — в присутствии вождей партий, — министров и главы министерства, знаменитого могучего оратора Арсена Маретта, великий ученый рассчитывал, по выполнении художественного отдела программы, изложить в беглом обзоре научных новостей последние свои изобретения, преимущественно же идею о национальном и патриотическом своем лекарстве, — заинтересовать ею министров и завоевать ей симпатии в парламентских сферах. Редакторы, наиболее выдающиеся сотрудники и репортеры всех парижских газет были приглашены на этот праздник и таким образом поставлены как бы в необходимость говорить на другой день о колоссальном и филантропическом предприятии возрождения измученной, переутомленной расы малокровных людей с расшатанными нервами, — возрождении, которое достигалось словно по мановению волшебного жезла, оживляющей силой великого противомикробного, очищающего, подкрепляющего, антималокровного и национального средства, действующего на организм одновременно прививкою и в качестве внутреннего лекарства! Такова была цель Филоксена Лорриса. После концерта, — в публичной лекции, дополненной примерами и опытами, — Филоксен Лоррис намеревался лично представить доклад о грандиозном своем предприятии. Блистательнейшим сценическим эффектом должно было при этом служить появление сюльфатеновского пациента Адриена Ла-Героньера, которого в Париже знали решительно все. Всем было известно, что несколько месяцев тому назад он дошел до последней степени отупения и физического упадка. Подозрение в обмане являлось тут совершенно немыслимым. Живое наглядное подтверждение заявлений изобретателя, одним словом, субъект, выводимый на сцену, был не каким нибудь безымянным незнакомцем. Недавно еще все искренно сожалели о гибели такого высокого, светлого ума, пораженного преждевременной старческой дряхлостью. Тем с большим изумлением увидят теперь появление Ла-Героньера, совершенно исправленного и починенного — физически и нравственно — как в телесном, так и в умственном отношении, — достигшего опять почти такой же всеобъемлющей мощи гения, какою обладал в минувшие времена!..
Филоксен Лоррис возложил заботу о „легкомысленных развлечениях“, т. е. о художественном отделе, на свою жену, которой должны были пособлять Жорж и Эстелла Лакомб.
— Вам поручается несомненно важный в данном случае портфель мелочных забав и легкомысленных увеселений, — милостиво объявил он им. — Я требую только, чтоб все оказалось превосходным и открываю вам для этого неограниченный кредит.
Пользуясь этим разрешением, Жорж и не думал скупиться.

Он не удовлетворился маленькими простыми фонограммами, достаточными для каких нибудь мещанских вечеров. Его не соблазняли обыкновенные музыкальные клише, коллекции „избранных певцов" и „ангельские голоса“, продающиеся в мелочных лавочках по двенадцати штук в коробке, подобно тому как продают для более серьезных вечеров коробки с двенадцатью знаменитейшими трагическими артистами, дюжиной известнейших адвокатов или парламентских ораторов и т. п.
Посоветовавшись с некоторыми из лучших современных знатоков музыки, он добыл себе, не щадя издержек, фонограммы превосходнейших европейских и американских певцов и певиц в лучших пьесах их репертуара. He довольствуясь одними лишь современными артистами, он заручился также фонограммами прежних артистов — давно уже закатившихся, некогда блистательных светил и звезд. Ему удалось даже получить из музеё консерваторий клише с лучших голосов прошлого столетия в лирических и драматических ролях, записанные в первое время по изобретении фонографа. Благодаря этому гости Филоксена Лорриса должны были услышать Аделину Патти в самых дивных её пьесах и Сару Бернар, декламирующую один за другим, словно жемчужины, стихи Виктора Гюго, или же в драмах Сарду рыкающую словно львица, охваченная страстным порывом. Кроме того, собраны были фонограммы многих других великих артисток, отошедших уже в вечность, как например, г-ж: Миолан-Карвальо, Краус, Христины Нильсон, Терезы, Ришар и т. д.
Некоторые бесцеремонные продавцы пытались было подсунуть ему фоноклише Тальмы и Рашели, Дюпре и Малибран, но у Жоржа имелся тщательно составленный хронологический список. Он не дал поймать себя на удочку поддельных клише, будто бы снятых с голосов, на самом деле умолкших за долго до изобретения фонографа. В кружках средней руки и даже среди светских дилетантов такие фонографические подлоги, число которых с каждым годом к сожалению все возрастает, имеют, как известно, большой успех.
Наконец наступил давно жданный вечер. Весь квартал, занятый домом Филоксена Лорриса, осветился с наступлением сумерек великолепнейшими электрическими огнями, окружавшими словно венцом сияющих звезд все обширное скопление жилых помещений и лабораторий. Громадные электрические фонари горели также и над крышами зданий, образуя над всем кварталом нечто в роде системы колец, украшающих Сатурн. Вскоре в волнах электрического света начали мелькать быстроходные воздушные экипажи, отличавшиеся от извозчичьих кабриолетов изяществом форм и роскошью убранства. На них слетались со всех концов горизонта к великому ученому приглашенные гости. Городская полицейская стража на винтовых самолетах постоянно реяла вокруг воздушных пристаней, удерживая в почтительном расстоянии экипажи, не предъявлявшие пригласительных карточек.
Избранные знаменитости из всех сфер общественной жизни в разнообразнейших мундирах или во фраках, — разодетые дамы, сиявшие бриллиантами, проносились с воздушной пристани в парадные залы на больших изящных платформах, заменявших на этот раз обыкновенные подъемные механизмы.
Чтобы узнать имена наиболее выдающихся особ, с которыми будем иметь честь встретиться в гостиных Филоксена Лорриса, позволим себе бросить нескромный взгляд в записную книжку встреченной нами почти у самого входа репортерши большой телефонической газеты „Эпоха".
В числе прибывших уже знаменитостей отметим:
Вождя парламентской женской партии г-жу Понто, состоящую депутатом от XXXIII парижского округа.
Многомиллиардного банкира Понто, организатора стольких колоссальных предприятий, как, например, большой электро-пневматической трубы заатлантического сообщения между Францией и Америкой и преобразования Италии в общеевропейский парк;
Филиппа Понто, — знаменитого строителя шестого материка. Этот великий инженер только что прибыл в Париж, где в данную минуту можно было всего выгоднее купить большую партию железных и чугунных соединительных частей, потребных для скрепления громадных участков суши, получившихся от соединения друг с другом полинезийских архипелагов, промежутки между островами которых были уже предварительно засыпаны;

Арсена Маретта, — депутата от XXXIX округа, — государственного деятеля и великого оратора, держащего в своих руках нити всех министерских комбинаций;
Престарелого фельдмаршала Зоговича, — бывшего генералиссимуса европейских вооруженных сил, отразивших в 1941 году великое китайское вторжение и уничтоживших после восемнадцати-месячных битв в обширных равнинах Бессарабии и Румынии две армии Средиземного царства, в каждой из которых насчитывалось под ружьем по семисот тысяч человек, снабженных военными приспособлениями, гораздо более совершенными, чем все, что имелось тогда в Европе. Армии эти состояли под начальством искуснейших азиатских и американских военных мандаринов.

Старик — фельдмаршал, почтенный остаток минувших войн, прекрасно еще сохранился, несмотря на свои восемьдесят пять лет. Рослый и прямой его стан сразу выделяет фельдмаршала из группы тощих, худощавых и низеньких инженер-генералов, которые провели всю жизнь, сгорбившись над книгами;

Знаменитейшего Альберта Палла, — фото-никто-механика, члена Академии Наук, грандиозного артиста, снискавшего себе на последней художественной выставке такой громадный успех оживленной картиной „Смерть Цезаря“. Действующие лица на этой картине движутся, кинжалы подымаются и спускаются, а глаза убийц вращаются и сверкают с неизреченно свирепым выражением, являющимся, сколько можно судить, последним словом реализма в искусстве.
Заслуживают также быть упомянутыми:
Его превосходительство Артур Леви, герцог Вифанский, посол его величества Альфонса V, короля иерусалимского. Он прибыл прямо из великолепного своего швейцарского домика в Бейруте, несмотря на то, что в этом городе, славящемся превосходными своими морскими купаньями, должны были происходить чрезвычайно интересные воздушные прогулки с состязанием на призы между быстроходными самолетами;
Бывший синдик конкурсного управления над Блистательной Портой, — главный директор общества игорных домов на Босфоре, — Людовик Боннар-паша;
Некоторые из восьмисот кресел французской академии, т. е. знаменитейшие из знаменитых наших академиков обоего пола;

Влиятельнейший из современных публицистов, — редактор-издатель „Эпохи", — Гектор Пикфоль, покровительства и расположения которого заискивают монархи, вступающие на престол, и президенты республик после своего избрания. Он на днях только дрался на дуэли с наследным придунайским эрцгерцогом по поводу газетных статей, в которых читал его высочеству строжайшие выговоры за легкомысленное поведение. В настоящее время Пикфоль ведет переговоры с упрямыми министрами болгарского королевства, рассчитывая вынудить у них согласие на брак юного наследного принца;
Достопочтенная девица Купар — сенатор от департамента Сарты;
Учёнейшая девица Бардо, украшенная докторскими дипломами по всем отраслям человеческого знания;

Многочисленная группа бывших президентов южно-американских и океанических республик, удалившихся от дел после того, как нажили себе кругленький капиталец. Из них особенного внимания заслуживает генерал Менелай, сложивший с себя звание президента республики Антильских островов, после того, как ему удалось положить себе в карман полностью весь государственный заем, реализованный в Европе. Франция так поправилась почтенному генералу, что он решил остаться в ней на жительство и сделаться настоящим парижским обывателем.
Несколько азиатских и африканских монархов, частью добровольно отказавшихся от престола, частью же вынужденных к этому силою обстоятельств.

Международные миллиардщики: Иеровоам Дюпон из Чикаго, Антуан Гобеоп из Мельбурна, Целестин Кальо из Женевы — владелец нескольких мелких государств, управляемых королями и князьями, состоящими у него на службе и получающими жалованье сообразно с их саном и родовитостью, и т. д., и т. д.;
Жак Луазель, — один из представителей современных финансовых и промышленных феодалов, — смелый делец, пускавшийся в молодости в самые рискованные предприятия, вследствие чего первоначально разорил восемьсот тысяч акционеров и вместе с ними сам вылетел в трубу. Пробыв несколько времени заграницей во избежание неприятностей с судебным ведомством, он снова занялся финансовыми и промышленными операциями в крупных размерах. Первый пыл увлечений у него к тому времени уже прошел, уступив место необыкновеннейшему гению по части организации синдикатов в области закупки всего наличного сырья. Управляя делами этих синдикатов, он в несколько лет успел вернуть лично себе одному все миллионы, потраченные в неосторожных спекуляциях неопытной пылкой своей юности:

Известный революционер — Эварист Фогор, который в 1922 году разыгрывал в Рубе роль Иоанна Лейденского, но затем, нажив себе во время революции кругленький капиталец, вернулся к более здравым идеям и живет теперь доходами с собственных движимых и недвижимых имуществ, приютив свою философию мудреца, разочаровавшегося в прежних иллюзиях, в небольшом, но очаровательном кальвадосском замке. Он стал теперь настоящим патриархом и живет, окруженный многочисленной семьей и несметным множеством фермеров или инженер-земледельцев, поглядывая с благодушной, но слегка насмешливой улыбкой, на развертывавшуюся перед духовными его очами нескончаемую вереницу человеческих заблуждений.
Немногие представители остатков прежнего дворянства, — люди, сами по себе не имеющие ни малейшего значения. Тем не менее Филоксен Лоррис относится к ним с благоволением и довольно часто приглашает их к себе на вечера и обеды. Это делается, впрочем, единственно лишь ради исторических воспоминаний, связанных с их фамилиями. Сами же они в современном обществе играют в большинстве случаев довольно жалкую роль мелких департаментских чиновников, или младших инженеров, не имеющих перед собой никакой будущности;

Жан Гильден, — первоклассный ученый, старший инженер-медик фирмы Филоксена Лорриса и главный сотрудник Филоксена в бактериологических и микробиологических исследованиях, которые привели к открытию, среди бесчисленного множества видов разных бацилл, вибрионов и бактерий, между прочим, также и микроба здоровья. Последующие изыскания вытеснили все главнейшие свойства этого микроба, — его привычки и образ жизни, так что удалось определить условия, благоприятствующие его размножению путем прививки и культуры в соответственных бульонах…
Густая толпа гостей наполняла различные салоны громадного дома и теснилась даже в передних и коридорах, любуясь выставленными там новейшими изобретениями великого Филоксена. Желая доставить гостям маленькое развлечение перед началом музыкального отдела празднества, Филоксен Лоррис приказал пропустить через телефоноскоп большой залы клише, снятые с важнейших событий, происходивших после усовершенствования этого прибора. Исторические сцены разных катастроф, — бурных заседаний в палате депутатов и сенате, — революционных эпизодов и кровопролитий на полях сражений — до чрезвычайности заинтересовали все общество. Затем, когда гости уже съехались, признано было уместным приступить к выполнению музыкальной программы.

Известно, что в настоящее время на концертах и на балах обходятся без музыкантов и оркестра. Этим достигается сбережение места и денег. Абонировавшись в каком нибудь из многочисленных модных теперь акционерных музыкальных обществ, получают по телеграфной проволоке надлежащий запас музыки в старинных ариях древних композиторов, — больших выдержках из древних и новых опер, или же, по желанию, — бальную музыку: вальсы и кадрили Метра, Штрауса, Вальдтейфеля и современных композиторов.
Приборы, заменяющие собою оркестр и доставляющие музыку на дом, отличаются простотою и совершенством своего устройства. Между прочим, их можно регулировать, смягчая силу звука, или же возвышая его интенсивность, смотря потому, желают ли наслаждаться музыкой как бы издали, с целью вызвать мечтательное настроение (когда имеется на это время), или же оглушить себя бурным грохотом звуков, который в первое мгновенье причиняет почти болезненное ощущение, но зато мигом опоражнивает голову от всех забот и треволнений нашей деловой электрической жизни.
Необходимо во всяком случае устанавливать этот прибор где-нибудь в сторонке, чтобы кто-нибудь из гостей по рассеянности не нажал, как это иногда случается, на кнопку, соответствующую наибольшей силе звука. Подобный неожиданный казус, если он случится среди интересного салонного разговора, производит иной раз неприятное впечатление.

Вообще нельзя отрицать, что у нас теперь до известной степени злоупотребляют музыкой. Некоторые страстные любители пускают музыкальные свои фонографы в ход во время обедов, когда без сомнения было бы несравненно рациональнее слушать телефонную газету. Наиболее утонченные меломаны убаюкивают себя даже ночью музыкой.
Такое до сумасбродности громадное потребление музыки не представляет само по себе ничего удивительного. Дело в том, что, за немногими исключениями, наши современники со своей до-нельзя расстроенной нервной системой оказываются гораздо чувствительнее к музыке, чем их отцы, обладавшие более спокойными нервами. Тогда как здоровые люди, вообще говоря, относятся с презрительным невниманием к более или менее гармоническим комплексам бесцельных шумов, — болезненно раздражительные меломаны приходят от каждой нотки в такое же содрогание, как лягушки, сквозь которых пропущен гальванический ток.
Понятно, что Филоксен Лоррис не мог удовлетвориться обыденным концертом, поставляемым по телефону музыкальными обществами. Он предложил своим гостям увертюру знаменитой германской оперы, исполненную по телефоноскопическому клише, снятому в 1938 году с первого её представления, на котором дирижировал оркестром сам композитор, скончавшийся впоследствии, в 1950 году, в самый разгар своей славы.

Во время выполнения по телефопоскопу великого произведения внука Рихарда Вагнера, Эстелла Лакомб, сидевшая в уголку возле Жоржа, внезапно стиснула ему руку.
— Боже мой, что это такое? Послушайте-ка! — сказала она.
— С какой стати стану я слушать эту музыкальную алгебру и алхимию?
— Разве вы ничего не замечаете?
— Для того, чтобы заметить, надо предварительно понять, а мне кажется это совершенно немыслимым, если не прослушать сперва каждую такую музыкальную фразу по меньшей мере раз тридцать пять к ряду…
— Я слушала эту увертюру не далее как вчера. Меня интересовало попробовать, хорошо ли действует клише…
— Какая же вы, однако, лакомка!
— Представьте же себе, что сегодня получается совершенно иное впечатление… Случилось что-то неладное… Музыка эта визжит и скрипит: отдельные ноты словно цепляются друг за друга… Уверяю вас, что вчера ничего подобного не было…
— He беспокойтесь, никто этого не замечает! Даже и я сам был расположен видеть в этом визге одну из особых, непонятных обыкновенным смертным прелестей партитуры. Взгляните-ка! Все кругом чуть не падают в обморок от восторга и с трудом лишь удерживаются от громких изъявлений самого беззаветного одобрения.
— Все-таки, знаете-ли, у меня на душе не спокойно… Все клише были у Сюльфатена. Не знаю, что он с ними сделал. Он за последнее время стал до невозможности рассеянным… Я сейчас его разыщу!
Когда последние звуки увертюры знаменитой оперы стихли под громом рукоплесканий, инженер, которому было поручено выполнение музыкальной программы, поставил на передаточный вал телефоноскопа арию из „Фауста“, исполненную лет десять тому назад в Йокагаме знаменитой певицей тамошнего театра французской оперы. Сама артистка появилась в зеркале телефоноскопа. Вначале она немного жеманилась, но, вообще говоря, произвела своей наружностью самое приятное впечатление.
Публика слушала ее сперва в изумленном молчании, но, после нескольких уже мгновений, поднялся ропот негодования, совершенно заглушивший её голос. Дело в том, что у певицы обнаружилась страшнейшая хрипота. Она визжала, словно немазанное колесо, гнусила и квакала по истине невыносимейшим образом. Вместо великолепной певицы, обладавшей дивным серебристым голосом, пел, если можно так выразиться, жесточайший простудный насморк, а между тем в зеркале телефоноскопа она продолжала улыбаться, веселая и торжествующая как десять лет тому назад, — в самом расцвете своей славы и красоты.

По знаку, поданному Филоксеном Лоррисом, инженер поспешил остановить исполнение „Фауста", поместив взамен в телефоноскоп исполнение Аделиной Патти большой арии из „Ламермурской невесты". Уже при появления Патти, — этого соловья девятнадцатого столетия, ропот замолк. В продолжение целых пяти минут любители и любительницы музыки восторженно кричали „браво“ и, откинувшись в кресла, заранее предвкушали ожидавшее их наслаждение. Дзин… дзин… и г-жа Патти начинает исполнять свою арию… В толпе слушателей пробежало движение. Все переглядываются, не позволяя себе еще, однако, никаких замечаний… Патти продолжает петь… Нельзя более сомневаться в том, что и она, подобно первой певице, жестоко простудилась. Ноты задерживаются у неё в горле, или выходят оттуда измененными самой отчаянной хрипотой. Кажется, будто в голосовой щели у этого соловья сидит не то чтобы одна кошка, а целая стая котов, одновременно мяукающих на всевозможные лады. Все общество поражено понятным недоумением. Изумленные гости начинают переглядываться и перешептываться. Кое-где в задних рядах слышится даже сдержанный смех. Тем временем в зеркале телефоноскопа грациозная и улыбающаяся дива, нимало не смущаясь, продолжает с визгом и хрипом исполнять свою арию!
Филоксен Лоррис, озабоченный мыслями о своем крупном предприятии, не сразу обратил внимание на несчастную случайность с Аделиной Патти. Недовольный ропот гостей указал ему, однако, что с концертом у него обстоит не совсем благополучно. Он приказал тогда перейти к третьему нумеру программы, где исполнителем являлся певец прошлого столетия Фор.
С первых же нот выяснилось, что этот несчастливец страдает в такой же степени простудой, как Патти и звезда йокагамской оперы. Что бы это могло значить? На всякий случай решено было перейти от пения к декламации. Оказалось, однако, что Муне-Сюлли, один из знаменитейших трагических артистов минувшего столетия, выступивший в монологе Гамлета, был совсем без голоса. He было также ни малейшей возможности расслышать Кокелена младшого, в одной из самых забавных сцен его репертуара. Тоже самое приключилось и со всеми остальными артистами. Странно! Что бы могла значить такая шутка?
Уж не мистификация-ли это?
Взбешенный до нельзя Филоксен Лоррис приказал остановить телефоноскоп, и сам отправился разыскивать сына.
Жорж и Эстелла с своей стороны всюду искали Сюльфатена. Филоксен Лоррис встретился с ними в маленькой проходной комнате.
— На вас была возложена музыкальная часть программы. Потрудитесь же объяснить мне, что все это значит? — спросил он. — Я открыл вам неограниченный кредит, рассчитывая слушать превосходнейших современных и прежних артистов, а вы угощаете меня все, как на подбор, охрипшими и осипшими безголосыми певцами и певицами.
— Положительно не понимаю, как это могло случиться, — сказал Жорж. — Мы, само собою разумеется, купили превосходнейшие клише. Очевидно, с ними случился какой-то необычайный, неслыханный казус!..
— Мне это кажется тем более странным, что я, признаться, позволила себе испробовать многин клише на телефоноскопе г-жи Лоррис. — заметила Эстелла. — Исполнение оказалось великолепным. He было ни малейших следов охриплости…
— Вы пробовали клише Аделины Патти?
— Должна сознаться, что пробовала.
— И не заметили у неё насморка?
— Вся пьеса была дивно хороша!.. Я передала клише г. Сюльфатену, которого теперь ищу, чтобы спросить у него…
Жорж, который во время этого объяснения вошел в кабинет Сюльфатена, поспешно вернулся оттуда с несколькими клише в руках.
— Ну-с, я нашел теперь разгадку тайны! Сюльфатен оставил ночью наши музыкальные фонограммы у себя на веранде, чуть что не под открытым небом… Некоторые из них лежали там до сих пор. Ночь была холодная, и все наши фонограммы простудились, или, правильнее говоря, отсырели. Наши клише теперь никуда не годятся.
— Что за животное этот Сюльфатен! Ведь надо же ему было испортить мне весь концерт! Это идиотство, да и только. Весь мой вечер теперь не удается! Это выходит просто курам на смех. Вся печать начнет над нами издеваться. Фирма Филоксена Лорриса нажила себе немало врагов, и они не упустят случая поднять меня на зубок… Что теперь делать?
— He смею… — робко начала Эстелла и остановилась.
— Что тут стесняться! Говорите скорее!
— Видите-ли в чем дело. Г-н Жорж купил мне в подарок дубликаты некоторых из лучших пьес нашей программы. Я их и пробовала вчера… Угодно, я сбегаю за ними? Они не побывали в руках у г. Сюльфатена и, без сомнения, остались вполне безукоризненными..
— Бегите, милочка, поскорее бегите!.. Вы мне спасаете жизнь! — воскликнул Филоксен Лоррис. — О музыка! до какой степени был я прав, относясь с недоверием к притязательному твоему шуму и нелепому грохоту! Кажется, что теперь я скорее позволю содрать с себя живьем кожу, чем соглашусь хоть раз еще дать концерт!
Немедленно вернувшись в большой свой концертный зал, он извинился перед гостями, сваливая вину на ошибку младшого сторожа своей лаборатории. Вслед затем, когда Эстелла принесла собственные свои клише, Филоксен просил ее самоё заняться передачей их по телефоноскопу.
Эстелла была совершенно права. Клише оказались великолепными. Патти заливалась соловьем, у Фора не обнаруживалось ни малейшего следа простуды, певицы исполняли самыми дивными голосами чудные творения величайших композиторов. С каждым появлением в телефоноскопе какой-нибудь знаменитой дивы, или известного тенора, трепет удовольствия пробегал по рядам гостей, а дамы чуть что не падали в обморок тут же в креслах!
Еще раз, значит, Сюльфатен оказался виновным в рассеянности, чего с ним перед тем никогда не случалось. Надо признаться, что секретарь Филоксена Лорриса для человека нового, — небывалого еще до сих пор образца, — свободного от всех несовершенств, переданных нам по наследству поврежденными нашими предками, — становился из рук вон плох. Оказывалось, что прапрапрадед Жоржа, — художник, к которому Филоксен питал такую ненависть, не производил в мозгах у своего прапраправнука ничего подобного умопомрачению, нападавшему по временам на инженер-медика. Надо полагать, что химическая формула, по которой был составлен Сюльфатен, все-таки не была вполне безукоризненной. Во всяком случае Филоксен Лоррис был положительно вне себя и решился сделать своему секретарю строжайший выговор.

V
 Глава мужской партии депутат Арсен Маретть. — Лига эмансипации мужчины. — Опять Сюльфатен! — Арсен Маретт размышляет о своем большом сочинении.
Глава мужской партии депутат Арсен Маретть. — Лига эмансипации мужчины. — Опять Сюльфатен! — Арсен Маретт размышляет о своем большом сочинении.
В числе наиболее выдающихся представителей политики, финансов и науки, которых Филоксен Лоррис рассчитывал заинтересовать своею идеей, особенно важно было для него заручиться содействием человека, являвшегося по своему влиянию и общественному положению в данную минуту всемогущим. Это был депутат Арсен Маретт, создававший и ниспровергавший министерства, — истинный вождь палаты депутатов и глава мужской партии, организовавший грозную оппозицию против женской партии. Со времени фактического признания за женщиной политических прав, Арсен Маретт старается поставить преграду чрезмерным притязаниям, предъявляемым женщинами, и воздвигнуть оплот против женских захватов. С этою целью он недавно основал лигу эмансипации мужчины.
Эта попытка, в которой, сказать по правде, предстояла самая неотложная надобность, вызвала в палате, как и следовало ожидать, чрезвычайно резкий запрос со стороны девицы Мюш, депутатки Клиньянкурского квартала. Запрос её был поддержан самыми выдающимися ораторшами женской партии, а также, увы, — несколькими депутатами-мужчинами, — перебежчиками, имевшими постыдную слабость изменить благородному делу мужчины.

Арсен Маретт готовился заранее ко всему этому, а потому не был захвачен врасплох. Он не побоялся встретить лицом к лицу обрушившуюся на него грозу. В бурном заседании, подобного которому не видали у нас со времени великих дней последней революции, он четыре раза всходил на трибуну, среди оглушающего концерта бешеных женских криков и воплей. Несмотря на несколько пар пощечин и несколько десятков царапин, оставленных на его лице наиболее озлобленными депутатками, ему удалось добиться большинством 350 голосов перехода к очередным делам, одобрявшего строгий нейтралитет правительства по вопросу об организации мужской лиги.
Великий оратор вышел из этой борьбы более могущественным чем когда либо. С тех пор выяснилось, что, как в палате, так и вообще во Франции, нельзя сделать без его ведома и согласия ничего серьезного.
От сочувствия, или по меньшей мере нейтралитета Арсена Маретта зависел успех обоих крупных предприятий Филоксена Лорриса: — установления монополии великого национального лекарства и затем, в pendant к этому, — переход к системе миазматической войны, — полное преобразование всего государственного вооружения Франции в отношении как личного состава армии, так и материальной её части, преимущественно же расширения организации боевых медицинских корпусов.

Филоксен Лоррис убежден, что в конце концов идея его непременно восторжествует, но чтобы избежать лишней траты времени, ему необходимо безотлагательно заручиться одобрением Арсена Маретта. При таких обстоятельствах неудивительно, что ученый всячески ухаживал за этим государственным деятелем. Заметив, что Маретт в достаточной степени уже насладился музыкой и начинает засыпать, убаюкиваемый против воли оперными ариями, которыми угощал телефоноскоп, Филоксен Лоррис увел депутата в небольшую особую залу, где можно было серьезно с ним поговорить, пока большинство посетителей продолжало еще забавляться мелочами и пустячками художественного отдела программы.
— Любопытство мое до крайности возбуждено, любезнейший профессор, — сказал депутат. — Я невольно задаю себе вопрос: в чем именно могут заключаться научные тайны, которые вы обещаете теперь разоблачить? По слухам, вы собираетесь произвести опять в науке радикальнейший переворот…
— Я действительно рассчитываю представить коротенький доклад о нескольких новых научных фактах и теориях. Разумеется, все это будет общепонятно изложено и подтверждено практическими опытами… Дело в том, однако, что открытые мною новые факты и теории до такой степени вторгаются в область общественной и государственной жизни, что я, признаться, рад случаю переговорить о них здесь с вами перед докладом. Мне было бы до чрезвычайности лестно заручиться одобрением такого государственного деятеля, как вы, милостивый государь!..
— Вы говорите, что ваши новые открытия имеют гуманитарный и политический характер?
— Вы сами будете немедленно иметь возможность ответить на этот вопрос. Для этого прежде всего соблаговолите взглянуть туда, — в правую сторону от вас!
— На эту систему сложных приборов?
— Да. В самой середине реторт, разнообразных согнутых трубок, трубочек, медных колб, перегонных кубов и т. п. вы видите нечто вроде резервуара, к которому сходится все?..
— Да, вижу, — подтвердил Маретт, вставая с намерением коснуться пальцем до указанного ему резервуара.
— Советую вам лучше до него не дотрагиваться, — спокойно и хладнокровно заметил Филоксен Лоррис. — В резервуаре этом содержится теперь достаточное количество болезнетворных ферментов для того, чтоб заразить сразу все на двадцать верст кругом.
Арсен Маретт поспешно отскочил подальше от резервуара с миазмами.
— Если бы дамы и господа, слушающие теперь с таким увлечением наш телеконцерт, могли подозревать, что достаточно чьей нибудь легкой неосторожности, дабы вызвать здесь совершенно неожиданно взрыв самой страшной эпидемии, то они навряд ли стали бы следить с таким вниманием за руладами певиц! Поэтому до поры до времени мы ничего им не скажем… Между тем здесь, в этом приборе заключаются очень интересные миазмы, которые с помощью соответственной культуры, а также путем сочетания, смешения и слияния доведены до высшей степени заразительности и сгущены особыми способами для целей, о которых вы вскоре узнаете… Теперь, любезный друг, соблаговолите взглянуть налево…
— Но эти аппараты, такие же сложные, как и на правой стороне?

— Да, вы видите здесь группу перегонных кубов, холодильников, колб и трубок.
— С резервуаром посредине.
— Совершенно верно. Вот этот-то резервуар…
— Он может быть еще опаснее резервуара на правой стороне?
— На этот раз вы ошибаетесь, милейший депутат! Направо от нас болезни, составляющие как бы арсенал для наступательной войны. Там — самые ядовитые миазмы, которые тотчас же по объявлении войны я, в интересах отечественной обороны, готов выпустить на неприятеля. Налево от нас — здоровье. Тут мы имеем арсенал чисто уже оборонительный. В нем запасено благодетельное лекарство, — ограждающее от болезней, — исправляющее повреждения в нашем организме и восстанавливающее трату сил, вызываемую у нас всех чрезмерным переутомлением от электрической жизни, немилосердно крутящей нас в своем вихре.
— Левая сторона, признаться, нравится мне более правой! — заметил улыбаясь Арсен Маретт.
— Вам, без сомнения, известно, как жалуются теперь все на то, что тело наше изнашивается столь быстро в вихре нынешней электрической жизни. Мы все нетвердо держимся на ногах.
— Увы!
— Мускулы у нас совсем атрофировались.

— Увы!
— Желудок вконец испорчен.
— Увы! и трижды увы! У меня самого он совершенно не варит.
— Один только мозг еще кое-как действует.
— Чёрт возьми, однако! Как вы думаете, сколько лет можно мне дать по наружности?
— Примерно так между семьюдесятью двумя и семьюдесятью восемью, но, я думаю, что вы на самом деле много моложе.
— Мне идет всего лишь пятьдесят третий год!
— Все мы теперь становимся с сорокалетнего возраста дряхлыми старцами, но успокойтесь! Здесь, в этом самом резервуаре имеется верное средство исправить ваш организм так, что он будет действовать чуть-ли не лучше нового… Надеюсь, вы начинаете теперь предчувствовать важное значение темы моего доклада? Надо, однако, разыскать прежде всего моего сотрудника Сюльфатена и его пациента, недавно еще страдавшего крайнею степенью переутомления. Вы все знали этого господина и, смею уверить, очень удивитесь, увидев его теперь. Позвольте мне привести его сюда…

Сюльфатен исчез куда-то с самого начала концерта. Филоксен Лоррис, которого вовсе не интересовали бесцельная трескотня и шум музыки, не нашел в этом ничего предосудительного. Без сомнения, его секретарь предпочел беседовать где-нибудь в уголку с людьми более серьезного пошиба, чем заурядные меломаны. Действительно, в соседних гостиных, группы, состоявшие преимущественно из французских и заграничных научных знаменитостей, занимались интересными рассуждениями о различных более или менее важных материях в ожидании начала научного отдела программы, Сюльфатена, однако, с ними не было.
Куда он в самом деле запропастился? Уж не поднялся ли он на верхнюю платформу подышать свежим воздухом? Филоксен Лоррис навел необходимые справки, но, как и следовало ожидать, оказалось, что старший его секретарь и не думал восхищаться созерцанием дивного электрического освещения, устроенного над крышей дома и бросавшего яркие снопы света в неизмеримую глубь ночного неба, значительно выше искусственного звездного венца из многих тысяч маяков, украшавших ночью чело Парижа.
— Ага, понимаю! — сказал Филоксен Лоррис, ударив себя по лбу. — Удивительно, как это я не догадался сразу! Сюльфатену выпал свободный часок, и достойный мой друг, вместо того, чтобы томиться непроходимой скукой на этом глупейшем концерте, отправился к себе работать…
Флигель, в котором находилась особая лаборатория Сюльфатена, оставался запертым для посетителей. Туда вынесли из парадных комнат все наиболее громоздкие приборы, присутствие которых могло бы мешать гостям. Филоксен Лоррис поспешно направился в этот флигель и постучал у дверей лаборатории, думая, что Сюльфатен заперся там, вероятно, на ключ. He получая ответа, он машинально нажал пальцем кнопку, и дверь, оказавшаяся незамкнутою, растворилась без всякого шума.
Среди массы нагроможденных приборов Филоксен Лоррис сперва было не заметил своего сотрудника. За то он услышал, к немалому своему изумлению, женский голос, в котором звучало величайшее раздражение. Затем раздался негодующий сердитый голос Сюльфатена.
— Кого это мой Сюльфатен распекает подобным образом? — подумал изумленный Филоксен Лоррис, остановившись в дверях и не зная, следует ли ему войти, или, напротив того, удалиться. Его одновременно мучило любопытство и опасение оказаться нескромным.
— Прежде всего, сударь мой, — говорил женский голос, — я должна сказать, что вы начинаете мне надоедать ежеминутным вызыванием к телефоноскопу. Довольно уже и того, что вы каждый день навещаете меня лично! Я и за это время могу досыта насмотреться на вашу хмурую… физиономию ученого! К тому же и разговоры с вами выходят ничуть не интересные!.. Мне они положительно надоели!
— Верю, что я не похож на идиотов, которые швыряют около вас там в Мольеровском дворце! — возразил Сюльфатен, — но теперь, сударыня, речь не о том! Но увертывайтесь от объяснения!.. Извольте сейчас же сказать мне, это такой этот господин, который только что от вас улизнул!.. Я непременно хочу знать, кто он такой!..
— Поймите, что мне надоели сцены, которые вы постоянно делаете! Мне, наконец, наскучил строгий надзор, который вы изволите учреждать надо мной с помощью фонографов и разных других гадостей. Поймите, что вы меня оскорбляете всеми этими машинами, записывающими мои слова и поступки! Я не хочу более выносить такого обращения с собой!.. Надо мной смеются решительно все в театре!

— Смею уверить, сударыня, что мне вовсе не до смеху.
— Я не могу сделать у себя дома шага, — кого нибудь принять, — беседовать с приятелями — без того, чтоб тайно установленные аппараты не сняли фотографических и фонографических клише со всего, что я говорю и делаю!.. Получив эти клише и выслушав от фоношпионов все, что у меня говорится, вы начинаете дуться, или выкидываете настоящий скандал. Мне это надоело!..
— Спрашиваю еще раз, кто такой был этот господин?
— Мозольный оператор… нотариус… сапожник… дедушка… племянник… парикмахер, одним словом, кто вам угодно! — скороговоркой продекламировал женский голос.
— He смейтесь же надо мной… Умоляю вас, Сильвия, дорогая моя Сильвия! Вспомните!..
Подходя на цыпочках, Филоксен Лоррис увидел, наконец, Сюльфатена, кричавшего и жестикулировавшего наедине перед большим зеркалом телефоноскопа, отражавшим образ дамы, столь же возбужденной и взволнованной, как и сам инженер-медик. Это была рослая полненькая брюнетка, в которой ученый узнал звезду Мольеровского дворца, трагическую актрису-медиума Сильвию. Ему случалось видеть ее в нескольких классических ролях.
— Однако же дело плохо! — подумал Филоксен Лоррис. — Мне говорили, значит, правду. Сюльфатен начинает пошаливать! Кто бы мог этому поверить?
Сюльфатен, очевидно, на этот раз не выдержал характера. Голос его все более смягчался.
Вместо гнева в словах его звучал только оттенок упрека.
— Я ведь вас прошу лишь объяснить мне… Ах, Господи, ведь вы должны были бы понять это сами… Сильвия, припомните хоть то, что вы мне говорили еще недавно… то, в чем вы мне клялись!..
Брюнетка в зеркале телефоноскопа нервно рассмеялась.
— Чтоб кончить раз навсегда с вашими сценами ревности, объявляю вам, милостивый государь, что все клятвы с моей стороны были, как говорится у нас, — театральные. Они в счет не идут!..
— Не идуть? — бешено взревел Сюльфатен. — Ах ты, негодница!..
Треск и дребезжание разбитого стекла заставили Филоксена Лорриса устремиться вперед. Образ Сильвии исчез, так как зеркальная пластинка телефоноскопа разлетелась в дребезги. Сюльфатен, пустивший стулом в телефоноскоп, попирал теперь ногами обломки инструмента.
— Ах ты негодная, ах подлая!.. Клятвы твои в счет нейдут, так на же! Вот тебе, вот!..
Филоксен Лоррис бросился к своему сотруднику.
— Что вы делаете, Сюльфатен? — Я краснею за вас, стыдитесь!..

Сюльфатен внезапно остановился. Черты его лица, искаженные бешенством, смягчились и приняли обычное выражение, Бросив на своего патрона слегка сконфуженный взгляд, он заметил:
— Какая неловкость с моей стороны! Вот до чего, подумаешь, может дойти человек в припадке зубной боли… Придется, пожалуй, зайти к дантисту…
— Вы, сударь, ведете себя так, как если б находились в состоянии невменяемости. He довольствуясь тем, что оставили на ночь мои музыкальные фонограммы у себя на балконе, где они испортились от сырости, вы теперь ломаете и бьете ни в чем неповинные физические приборы… Нечего сказать, вы обещаете далеко пойти!.. Впрочем, теперь дело не в том, друг мой! Постарайтесь собраться с духом. Надо обеспечить успех нашей крупной операции… Где Адриен Ла-Героньер?
— Право не знаю, — пролепетал Сюльфатен, проводя рукою по лбу. — Я давненько уж его не видал.
— Но ведь его присутствие необходимо! — вскричал Филоксен Лоррис. — Он нужен нам, чтоб доказать могущество нашего национального и патриотического лекарства. Хороши, нечего сказать, у меня помощники! Наказание Господне, да и только! Надо же было, чтобы из моего сына вышел сентиментальный болван, из которого сам чёрт не выработает порядочного ученого!.. Я отказался от всякой надежды добыть из его мозгов хотя какую-нибудь искру гения… Теперь оказывается, что и вы, Сюльфатен, — вы, которого я считал вторым самим собою, — занимаетесь тоже глупостями! Извольте сейчас же сказать, куда вы девали Ла-Героньера? Что вы сделали с вашим бывшим больным?
— Я сейчас наведу справки и все разузнаю…
— Поторопитесь же и возвращайтесь с ним скорее в
мой кабинет… Там ждет нас Арсен Маретт… Пожалуйста только поскорее! Музыкальный отдел уже оканчивается. Надо будет сказать Жоржу, чтоб он добавил еще несколько пьес.
Пока Филоксен Лоррис разыскивал Сюльфатена и затем присутствовал при сцене, закончившейся столь трагически для телефоноскопа, Арсен Маретт, оставшись наедине в мягком кресле, впал с состояние легкой дремоты. Ничего удивительного в этом не было, потому что знаменитый государственный деятель, которому пришлось в продолжение парламентских вакаций усердно работать, сильно устал. Больших хлопот стоило ему, во первых, фонографическое издание его речей, так как пришлось пересмотреть одну за другой все оригинальные фонограммы, чтоб изменить кое-где интонацию голоса, или даже исправить оборот речи. Вместе с тем Маретт работал над большим сочинением, начатым уже много лет тому назад. Сочинение это требовало от автора громадной начитанности, несметного множества исторических изысканий и сверки с документами. Весь полученный таким путем сырой материал надлежало проплавить в горниле самого интенсивного философского мышления, чтоб получить в окончательном результате строго обдуманное гармоническое целое.
Это сочинение, долженствовавшее представлять величайший интерес для всех и каждого и предназначавшееся для Библиотеки социальных наук, носило многообещающее великолепное заглавие
ИСТОРИЯ НЕПРИЯТНОСТЕЙ,
ПРИЧИНЕННЫХ МУЖЧИНЕ ЖЕНЩИНОЙ,
С ПЕРИОДА КАМЕННОГО ВЕКА И ПО СИЕ ВРЕМЯ.
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕРНЫХ СВОЙСТВ ЖЕНСКОГО ПОЛА, ПОДРАЗДЕЛЕННОЕ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ.
Книга I. — Давнишние грехи женщины и пагубные их последствия.
Книга II. — Лицемерная тирания и деспотизм.
Книга III. — Повсеместное применение деспотических наклонностей в частной жизни.
Книга IV. — Смутные времена и действительные их причины. Века, ознаменовавшиеся легкомыслием и кровожадностью.
Книга V. — Царицы мира.
Книга VI. — Пагубное возрастание женского могущества со времени допущения женщин к общественным должностям.
Можно-ли себе представить, спрашивается, тему, более обширную и в большей степени способную приковать к себе интерес читателя, — тему, которая возбуждала бы более существенные вопросы и была бы теснее связана с тем, что во все времена так сильно озабочивало человечество? Грандиозный научный труд Маретта, берущий мужчину еще в доисторический период его существования и вытесняющий нам болезненные хронические последствия первых его ошибок, перевернет, если можно так выразиться, вверх дном всю историю. Действительно, Арсен Маретт замышляет создать новую историческую школу, — менее сухую, — не столь увлекающуюся политикой, но более реалистическую, чем нынешняя.
Можно заранее уже предвидеть совершенно неожиданные разоблачения исторических истин, долженствующие ниспровергнуть все прежние наши традиционные воззрения. Светоч истории вытеснит наконец многие причины, остававшиеся до сих пор неведомыми, или же незамеченными и выкажет народы и племена в их действительном виде. Понятно, что этот гигантский труд вызовет своим появлением самую ожесточенную полемику.
Это не безызвестно и самому автору, но он приготовился к борьбе и решился мужественно отстаивать то, что считает правым делом. Уже на основании одних только туманных слухов женская партия, отличающаяся как в парламентских так и внепарламентских сферах, самой неугомонной суетливостью, обрушивается при каждом удобном и неудобном случае на Маретта. Он в свою очередь нанес уже этой партии первый серьезный удар основанием лиги для эмансипации мужчины и поклялся издать накануне будущих выборов свою „Историю неприятностей, причиненных мужчине женщиной".

Не трудно угадать, что сам Арсен Маретт несчастный страдалец… Увы, глава лиги, отстаивающей права мужчины, был злополучною жертвою женщины!..
В давно минувшие времена своей молодости Арсен Маретт был женат. Назад тому тридцать два года у него произошли серьезные неприятности с г-жею Маретт, легкомысленной и капризной, а по слухам, — даже неверной женой. Вследствие этих неприятностей и разногласий, г-н Маретт и его супруга в одно прекрасное утро, словно сговорившись, покинули супружеский кров и разъехались каждый в свою сторону. Г-н Маретт уехал направо, а его жена налево.
Это послужило началом эры сладостного спокойствия. Арсен Маретт воспрянул духом, вернулся к дорогим его сердцу научным исследованиям и стал посвящать все свое время устной и печатной борьбе против тирании в многоразличных её формах.

В течение некоторого времени супруги встречались иногда в гостиных, — во время путешествий и на морских купапьях. Обменявшись грозными взглядами, каждый из них тогда поспешно отворачивался от другого. Потомь г-жа Маретт куда-то исчезла, и Арсен, к величайшему своему удовольствию, совершенно потерял ее из виду.
Откинувшись на спинку широкого удобного кресла, автор „Истории неприятностей, причиненных мужчине женщиной", дремлет, размышляя об этом творении, долженствующем увенчать его карьеру и воздвигнуть его славу на прочном фундаменте. Перед ним проходит в волшебной грезе вереница выдающихся женщин всех времен и народов, — женщин, которые пагубной своей красотой, или не менее пагубным умом, столь часто влияли на ход событий и судьбы царств, — женщин, которые, по убеждения Арсена Маретта, всегда и везде оказывались не только своими недостатками, но даже и достоинствами, в большей или меньшей степени зловредными для спокойствия народов.
Вот является перед ним на рассвете исторических времен Ева. Бесполезно было бы напоминать виновность этой первой женщины перед человечеством и все неисчислимые последствия греха, в который она вовлекла первого мужчину! Это не мешает русоволосой Еве предводить с победоносною улыбкой несметным сонмом красавиц, рождавшихся на пагубу своим современникам и потомкам. В числе их назовем: Семирамиду, Елену Прекрасную, Клеопатру, и множество других цариц и принцесс, безжалостно тиранствовавших над благодушными венценосными своими супругами. Тут были также ревнивые невесты, заливавшие потоками крови владения злополучных мирных государей, — грозные меровингские королевы, — гордые средневековые герцогини, вовлекавшие Францию в опустошительные войны и, наконец, фаворитки королей, умевшие своими интригами или даже просто коварной игрою хорошеньких глазок, нежно оттененных длинными ресницами, вызывать пагубные международные войны!..
Тут же вокруг этих исторических фигур толпились женщины всех времен и народов, не игравшие исторической роли. Вынужденные довольствоваться ограниченной сферой частной жизни, — не имея возможности терзать и мучить целые народы, губить и ниспровергать государства, — они должны были удовлетвориться домашней тиранией, доведенной, если можно так выразиться, до художественной утонченности…
Эта мелочная тирания, проявляющаяся на сравнительно ничтожной арене домашнего очага, в рамках четырех стен квартиры, или даже одной комнаты, хотя и не раскидывается от одной границы обширного царства до другой, но является, быть может, наиболее тягостной и невыносимой. Иго её давит неустанно, без передышки, несчастную свою жертву…

Злополучный Арсен Маретт знает это как нельзя лучше по собственному опыту.
Странно, однако, что все эти образы цариц, фавориток, вельможных дам и простых крестьянок, с Елепы Прекрасной до г-жи Помпадур включительно, обладают замечательным сходством с г-жею Маретт в том возрасте, в котором она была назад тому тридцать два года перед своим бегством из-под супружеского крова и какою постоянно вспоминает ее себе обиженный и огорченный супруг. Оказывается, что даже первая из всех женщин, Ева, была все тою же г-жею Маретт — недурненькою блондинкой с томными глазками. Гордая Семирамида — опять-таки г-жа Маретт, беспощадно стремящаяся к деспотической власти! Фредегонда — рассерженная г-жа Маретт, готовая выцарапать глаза мужу, или пустить в него тарелкой. Маргарита Бургундская, — вылитая г-жа Маретт. Мария Стюарт, обладавшая язычком, острым, как бритва, и за смертью своих мужей досаждавшая им Елизавете Английской — опять-таки оказывалась г-жею Маретт, сумевшей превратить медовый месяц в уксусный с помощью словесных обид, нанесенных мужу. Даже Екатерина Медичи, обладавшая страшным искусством составлять самые утонченные яды и смертоноснейшие эликсиры краткой жизни — опять-таки напоминала г-жу Маретт, приказавшую однажды подать гостям её мужа — важным государственным сановникам — вино, смешанное с минеральной водою Гунияди-янос!..
Да, все эти женщины, с первой и до последней, как две капли воды, походят на грозную г-жу Маретт… Все они являются как бы отражениями роковой неотвязной блондинки, терзавшей Арсела Маретта сперва наяву, а теперь мучающей его во сне.
Сливая таким образом воедино личные свои, еще болезненные, воспоминания с историческими фактами, Арсен Маретт видит, как проходят перед ним в строгой последовательности все главы значительно подвинувшегося уже вперед научного его труда, исторический отдел которого завершается философским. Логическая цепь выводов победоносно и неопровержимо констатирует психологическое явление, столь часто уже обращавшее на себя внимание мыслителей: женщина всегда остается женщиной, неизменно тождественной всюду и во все времена, — во все века и под всеми климатами, тогда как у мужчины обнаруживается величайшее разнообразие свойств, обусловленное влияниями расы, исторической эпохи и графической обстановки.

Г-н Маретт чувствует себя совершенно довольным и счастливым, думая о впечатлении, какое не замедлит произвести грандиозная его „История неприятностей, причиненных мужчине“, — о вероятных благодетельных последствиях этого впечатления и о возможности для мужчин оградить, наконец, свою самостоятельность, столь дерзновенно попираемую до сих пор женщинами.
Из этой историко-философской мечтательной дремоты вызвал Арсена Маретта неожиданно раздавшийся звонок телефоноскопа, — это беспрерывное дзин… дзин…, поминутно нарушающее наш покой и словно задающееся целью беспрерывно напоминать, что мы при существующих условиях ничто иное, как частичка громадного электрического механизма, — нечто вроде петельки в запутанной сети, сплетенной из многих миллионов проволок.
Привскочив в кресле, он протянул руку и машинально пожал кнопку приемного механизма.
— Слушайте: если депутат Арсен Маретт теперь на вечере у г-на Филоксена Лорриса, то его просят подойти к аппарату, — отчетливо сказал голос телефонистки с главной станции.
Оказалось, что вызывают как раз самого великого историка. Сон г. Маретта мгновенно рассеялся. Он немедленно же ответил:
— Я здесь! Кто говорит?
Пластинка телефоноскопа мгновенно осветилась и после нескольких секунд неопределенного мерцания на ней отразился совершенно явственно образ дамы; сидевшей в рабочем кабинете г-на Маретта, в холостом убежище, которым он обзавелся на холмах квартала Монморанси (в XXXII парижском округе). Это была уже пожилая, довольно полная дама, с характерными чертами лица и очень густыми бровями, раскидывавшимися черной дугой над изогнутым римским или, лучше сказать, орлиным носом.
Арсен Маретт упал, словно окаменелый, в кресло. Несмотря на годы и произведенные ими в этой женщине перемены, он тотчас же узнал ее. Это была она, — вечный непримиримый его враг, не дававший ему покоя даже во сне, — она — г-жа Маретт!
Когда-то она была стройной, весело улыбавшейся блондинкой, но тем не менее Арсен инстинктивно узнавал ее теперь после тридцатидвухлетней разлуки в величественной дородной даме, стоявшей перед ним с несколько обрюзглым, но все еще повелительным видом.
— Да-с, милейший супруг! Это я, — собственной моей персоной, — заявила она. — Надеюсь, вы оцените мое добродушие!.. Вы видите, что я, забывая законные поводы к неудовольствию, которые вы мне подавали, делаю первая шаг к примирению. Я нахожу, что нам с вами пора, наконец, забыть прежние мелочные разногласия!..
„Прежнее" — в данном случае обозначало происходившее тридцать два года тому назад. Мысль эта мелькнула у Арсена Маретта, но у него не хватило духу ее высказать.
— Волнение, в какое вы пришли, мой друг, при свидании со мной, меня радует. Оно говорит в вашу пользу, — продолжала дама. — Вижу, что вы не совсем еще меня позабыли!.. Ведь я не ошибаюсь?…
— He ошибаетесь, — едва слышно пролепетал Арсен.
— Подумаешь, какое долгое недоразумение существовало с вашей стороны и как прискорбно вы заблуждались!.. Надеюсь, впрочем, что одиночество вас исправило?..
Арсен тяжело вздохнул.
— Очевидно, что вы теперь сознаете сами свою вину, a потому — не будем более говорить о прошлом. Я готова простить вам все, — великодушно забываю ваши прегрешения и возвращаюсь на прежнее место у домашнего очага!.. Ах, я вполне понимаю сердечное ваше волнение, но прошу вас, Арсен, старайтесь его победить! Помните, что вы в гостях на вечере! Кланяйтесь от меня Филоксену Лоррису и его супруге! До свидания, мы успеем еще переговорить. Теперь я должна ведь кое-как устроиться в вашем логовище!..
Телефоноскопическое сообщение оказалось прерванным, и г-жа Маретт исчезла. Арсен Маретт лежал с минутку в креслах без голоса и почти бездыханный, словно человек, пораженный громовым ударом. Оправившись, наконец, он вздохнул, поднял голову и сказал с покорностью судьбе:
— Принесла же, ведь, ее нелегкая! Тут, разумеется, ни-чего не поделаешь!.. Может быть, впрочем, это и к лучшему. Мой исторический труд заканчивался немного вяло. Его заключения выходили как будто бледными и слабоватыми. Присутствие жены не преминет меня вдохновить… Она, разумеется, станет меня мучить так, что и не приведи Господи. Справедливо говорят, однако, что нет худа без добра! В „Истории неприятностей, причиненных мужчине женщиной с каменного века и по сие время“ важнее всего именно конец последней части. Теперь я уверен, что при содействии г-жи Маретт он окажется у меня блестящим фейерверком громов и молний.
VI
 Филоксен Лоррис излагает свои проекты. — Общеобязательное здоровье, доставляемое употреблением национального и патриотического лекарства. — Новая рассеянность Сюльфатена. — Резервуар с миазмами.
Филоксен Лоррис излагает свои проекты. — Общеобязательное здоровье, доставляемое употреблением национального и патриотического лекарства. — Новая рассеянность Сюльфатена. — Резервуар с миазмами.
Сюльфатену удалось, наконец, разыскать бывшего своего больного, Адриена Ла-Героньера, с увлечением игравшего в биллиардной зале оживленную партию с прежней своей сиделкой, аппетитной толстушкой Гретли. Заставив своего пациента прервать эту партию, инженер-медик вернулся вместе с ним к Филоксену Лоррису, вокруг которого успел уже сгруппироваться кружок серьезных людей, неспособных увлекаться такими пустяками, как инструментальная и вокальная музыка, хотя бы даже в произведениях наиболее выдающихся композиторов. Этот истинно-философский кружок украшали своим присутствием, между прочим, девица Бардо, доктор по всем отраслям человеческого знания и девица Купар, сенатор Сартского департамента. Обе они обсуждали с Филоксеном Лоррисом какой-то спорный, не вполне еще выясненный, отвлеченный научный вопрос.
— Оставляю тебя с этими барышнями, — сказал потихоньку Филоксен Лоррис сыну. — Поговори с ними. Ты убедишься, что это образцовые женщины, умы которых не имеют ничего общего с ветряными мельницами… Помни, что ты можешь одуматься. Время пока еще не ушло!.. Ничто не мешает тебе сделать предложение той или другой из них. Выбирай любую!
— Благодарю покорно!

Адриен Ла-Героньер за последние несколько месяцев очень изменился. Благодаря знаменитому национальному и патриотическому лекарству, действие которого, по распоряжению Филоксена Лорриса, испробовал над ним инженер-медик Сюльфатен, процесс восстановления надорванного его организма подвинулся замечательно быстро. Адриен, дошедший было до последней степени физической немощи и умственного отупения, вернул уже себе, по крайней мере, судя по наружности, прежнее здоровье и энергию. Жизненная сила, почти совершенно иссякшая перед тем, опять била могучей струею в обновленном его организме.
Пролежав несколько времени, словно недоносок, в изобретенном Сюльфатеном согревающем аппарате и перенесенный оттуда в кресло на колесах, где пробыл еще с месяц, изображая из себя нечто вроде сломанной куклы или несчастливца, разбитого параличом, Адриен Ла-Героньер превратился опять в настоящего человека. Он ходил, думал и действовал, как подобает гражданину, находящемуся в здравом уме и полной памяти и в тоже время пользующемуся вожделенным телесным здоровьем.
Филоксену Лоррнсу хотелось, чтоб г-н Маретт и прочие гости полюбовались этим действительно необыкновенным результатом. Великий ученый намеревался показать им образчик дивного исправления человеческой развалины, которую все считали пришедшей в полнейшую негодность. Однако же Адриен Ла-Героньер, у которого вместе с тем с пробуждением умственных сил воскресли также и прежние замечательные коммерческие способности, вступил в горячее препирательство с Сюльфатеном.
— Я совершенно вылечился, любезнейший, — это решено и подписано, а потому соглашаюсь немедленно уничтожить наше условие, уплатив громадные суммы, вытребованные у меня в то время, когда я не пользовался всеми способностями и был не в состоянии оспаривать предложенных мне условий. Взамен этого, однако, я считаю себя вправе требовать, в качестве вознаграждения, известной доли в барышах с вашего национального патриотического лекарства!..
— Это не входит в мои расчеты, — возразил Сюльфатен. — Договор наш остается в силе. Я не соглашаюсь его уничтожить, и вы будете мне уплачивать ежегодные премии в условленные сроки!.. К тому же, любезнейший, вы ошибаетесь, думая, что совершенно выздоровели. Починка у вас произведена лишь поверхностно и только на время, так что вас придется еще лечить…
— Однако же, если я потребую уничтожения контракта?
— В таком случае вы должны будете разом уплатить все премии и неустойку!..
— В таком случае я, не нарушая условия, подам на вас в суд. Я буду жаловаться, что вы пробовали на мне лекарства, в благодетельном действии которых не могли быть уверены…
— Да ведь эти лекарства поставили вас на ноги!..
— Следовало их пробовать не на мне, а на других…
Короче сказать, я служил для вас объектом для производства опытов, а вы, вместо того, чтоб платить мне за это, брали еще с меня деньги. Мне это кажется противозаконным, и я непременно буду с вами судиться! Я ведь не какой нибудь таинственный незнакомец, попавшийся к вам с ветра, а пациент, известный всему Парижу, — всей Франции! Вы пользуетесь моей известностью для того, чтобы дать ход вашему изобретению! Нет-с, милостивый государь, я знаю, где раки зимуют! Советую вам принять меня в долю, если не хотите судиться!..

— В ожидании, однако, вы, по точному смыслу нашего договора, обязаны повиноваться мне во всем! — возразил выведенный из терпения Сюльфатен. — Извольте же немедленно идти со мною, или я заставлю вас принять лекарство, которое вернет вас в прежнее положение. Надеюсь, вы не забыли, в каком состоянии находились, когда я взялся вас лечить? Я имею полное право уложить вас опять в мой согревающий аппарат! Там вы по крайней мере ровно никому не мешали!.. Я обязался ведь только продлить вашу жизнь; ну-с, вы и будете там существовать для того, чтоб выплачивать мне премии, причитающиеся на законном основании.
— He стоит, право, и спорить из-за таких пустяков, — с нетерпением прервал его Филоксен Лоррис. — Ла-Героньер получит известную долю в барышах. Я на это согласен и следовательно дело кончено! Тем временем г-н Маретт вероятно успел уже соскучиться…
Действительно, г-н Маретт прогуливался с взволнованным видом по маленькой гостиной, бормоча себе под нос что-то такое, в чем можно было только расслышать:
…Неискоренимый дух властолюбия… орудиями которого служат опасные, пагубные чары… глубокое коварство, скрывающееся под маской лицемерной нежности… женщина — это фальшивое и хитрое создание…
— Нет надобности обращаться к вам, великий муж, с просьбою о разъяснении, — заметил Лоррис. — Я узнаю как нельзя лучше этот портрет. Вы подготовляете речь, долженствующую громить противозаконные притязания женской партии…
Политический деятель провел несколько раз рукою по лбу и сказал:
— Извините меня, господа, я увлекся!.. И так мы с вами говорили?…
— Мы говорили, что я покажу вам человека, которого вы знали назад тому несколько месяцев в состоянии преждевременного полнейшего старческого изнеможения, вызванного повальным нынешним умственным переутомлением!.. He угодно-ли будет взглянуть на него теперь?…
Филоксен Лоррис взял за руку бывшего больного и поставил его так, чтоб на него падал по возможности яркий свет.
— Любезнейший Ла-Героньер! — вскричал Арсен Маретт. — Нет!.. Быть не может!.. Неужели это вы?
— Разумеется я сам, — ответил улыбаясь бывший больной. — Можете смело верить собственным глазам.
Затем, ударив себя несколько раз кулаком в грудь, Ла-Героньер добавил:
— Здесь у меня все в порядке; пищеварение — превыше всяких похвал, о мозговой же деятельности считаю с моей стороны нескромным распространяться.
— Действительно, чёрт возьми, ноги у вас, кажется, более уже не подламываются. Недавно ведь вы совсем было впали в младенчество. Неужели вы теперь опять из него вышли?
— Как видите, любезнейший!

— Можно действительно сказать, что он вернулся издалека. Желая, чтоб опыт оказался по возможности более убедительным, мы приняли этого беднягу на свое попечение лишь в то время, когда он был уже при последнем издыхании. Он нам наделал не мало хлопот. В первое время надо было воспитывать его на рожке в согревающем аппарате, чтоб постепенно укрепить организм и сделать его способным к восприятию наших прививок… Теперь можете сколько угодно осматривать и ощупывать г-на Ла-Героньера! Заставьте его проделать какие угодно мышечные движения — вы убедитесь, что с нашей стороны нет ни малейшего обмана!
Он стал опять настоящим молодцом, — двигается, ходит и говорит… Нут-ка, Ла-Героньер, покажите вашу прыть! Подымите вот это кресло!.. Он мог бы, кажется, подбросить вверх даже диван! Перейдем теперь к исследованию умственных способностей, например, хотя бы памяти! Потрудитесь сказать, каков был вчерашний биржевой курс двухпроцентной ренты? Прекрасно! Г-н Маретт надеюсь вполне убежден…
— Теперь, когда вы наглядно ознакомились с благодетельными результатами, которых нам удалось достигнуть, я объясню вам способ, при посредстве которого они получены… Сюльфатен, передайте-ка сюда вот эти маленькие флакончики!.. Да нет же! He оттуда! Это ведь аппарат для изготовления сгущенных миазмов! Пожалуйста, будьте повнимательнее, друг мой!.. He дотрагивайтесь до кранов!.. Боже мой, какой вы стали рассеянный!
Действительно, Сюльфатен не успел еще вполне успокоиться от перенесенного им потрясения. Всегда отличавшийся до сих пор философским спокойствием духа и самообладанием, инженер-медик был теперь в очевидно возбужденном состоянии. Он то и дело хмурил брови, нервно прохаживаясь взад и вперед по комнате.
Когда он, наконец, передал своему патрону требуемые стклянки, Филоксен Лоррис продолжал: — Вы видите здесь благодетельное лекарство, которому я бы желал присвоить наименование национального и патриотического. В маленькой бутылочке находится жидкость для антимикробных прививок… В большом флаконе — та же самая жидкость, но только значительно разбавленная и смешанная с различными препаратами, делающими из неё могущественнейший жизненный эликсир!.. С антимикробной прививкой раз в месяц достаточно будет принимать по две капли этого эликсира утром и вечером… Я обязуюсь с помощью такого простого способа лечения сделать из нынешних малокровных и переутомленных неврастеников крепкий, хорошо уравновешенный, здоровый народ, в жилах которого будет струиться новая кровь, обогащенная красными шариками и очищенная от всех бацилл, вибрионов и микробов. Для этого, однако, необходима поддержка влиятельных политических деятелей, — таких государственных мужей, как вы, г-н депутат! Мне нужно правительственное вмешательство! Я должен опереться на государственный авторитет для того, чтобы великое мое открытие могло принести всю пользу, которую я от него ожидаю!.. Позвольте мне изложить вам в двух словах идею, которую я намерен сейчас же развить на публичной лекции!..
— Излагайте, — благосклонно разрешил депутат.
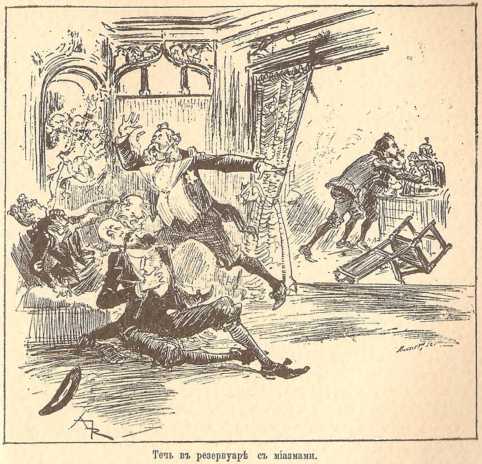
— Закон, предложенный вами, г-н депутат, и, благодаря увлекательному вашему красноречию, одобренный всеми парламентскими партиями, делает общеобязательным употребление моего национального и патриотического лекарства, гарантируя вместе с тем, под условием правительственного контроля, фирме Филоксена Лорриса монополию его приготовления и эксплуатацию… Само собой разумеется, г-н депутат, что лица, способствовавшие бескорыстным своим содействием успеху предприятия, получат законную долю в барышах!.. И так, я продолжаю!.. Мы устроим по всей Франции конторы для антимикробных прививок и продажи национального лекарства!.. Каждому французу раз в месяц будет делаться предохранительная прививка и выдаваться на руки флакон целебного средства. Обязательность лечения не может считаться стеснительной ввиду того, что в настоящее время существует весьма много обязательств, исполнение которых требуется от всех граждан! Совершенно очевидные на этот раз интересы общего блага как нельзя более оправдывают новое правительственное вмешательство!.. Законом этим, являющимся по истине мерою общественного спасения, вы предписываете всему французскому народу обязательное здоровье! Что вы на это скажете, любезнейший депутат?
— Я преклоняюсь перед вами и восхищаюсь великим вашим изобретением! — отвечал Арсен Маретт. — He позже, как через четыре дня, — тотчас же по возобновлении парламентской сессии, — я внесу законопроект о национальном и патриотическом лекарстве!.. Отчего, однако, здесь такой странный запах?
— Я передам вам набросок законопроекта… Да, вы правы, запах действительно очень странный!.. Сюдьфатен!.. Боже мой, что вы наделали!!!.. Ведь вы сдвинули с места какую нибудь из соединительных трубок. Там где-то оказалась течь! Приведите же скорее все в порядок!
— Где это оказалась течь? — спросил Арсен Маретт.
— Там, с правой стороны, — в резервуаре сгущенных миазмов для боевого медицинского корпуса… Я говорил уже вам, что у меня имеется еще проект радикальной реформы военного ведомства!
— Чёрт бы побрал все ваши сгущенные миазмы! — простонал депутат, опрокидывая стулья, чтобы скорее добраться до дверей. — Подайте мне воздушный кабриолет!.. Извините, меня ждут дома!.. Я чувствую себя не совсем здоровым!..
Сюльфатен и Филоксен Лоррис бросились к аппарату разыскивать обнаружившуюся там течь. Филоксену Лоррису вскоре удалось ее найти. Трубка, которую Сюльфатен по рассеянности сдвинул немного с места, пропускала сквозь обнаружившуюся скважину легкую струю миазмов, сгущенных в парообразную форму. Филоксен Лоррис и Сюльфатен до такой степени перепугались, что у них на лбу выступил холодный пот. Повреждение аппарата оказалось, однако, совершенно ничтожным и почти незаметным, так что его удалось тотчас же исправить. Это было во всяком случае большим счастьем, если б промедлили еще несколько минут, то роковая рассеянность Сюльфатена повлекла бы за собой самые бедственные последствия.
Испуганный вид Арсена Маретта, пытавшегося пробраться сквозь толпу в сени, где находились подъемные платформы, встревожил гостей до того, что пришлось прервать исполнявшуюся телефоноскопом музыкальную пьесу. Из числа более серьезных особ, не интересовавшихся музыкой, многия, с девицами Бардо и Купар во главе, бросились отыскивать хозяина дома, чтобы узнать от него причину такого казуса.
— Что с вами, почтеннейший профессор? — спросила девица Бардо, считавшаяся одним из наиболее блистательных светил парижской медицины. — Вы как-будто не совсем здоровы?.. Какой здесь у вас странный запах!..
— Успокойтесь, опасность теперь миновала, но голова у меня действительно кружится. Главное, не рассказывайте никому про несчастную случайность!.. Пусть все как можно скорее ложатся в постель… Это будет всего благонадежнее!
— Пожалуйста только никого не пугайте! — заметил Сюльфатен. — Особенно серьезных последствий это иметь не будет. Течь, слава Богу, обнаружена и прекращена… Ах, мне дурно!..
— Какой несчастный случай? Какая там течь? — спрашивали испуганные голоса.
— Из резервуара с миазмами, — простонал Арсен Маретт, который, вследствие сильного головокружения, не мог добраться до выхода и, вернувшись почти уже в бессознательном состоянии в маленькую гостиную, бессильно упал на диван.
— Успокойтесь! — вскричал Филоксен Лоррис, хватая себя за лоб. — Все это пустяки. Мы отделаемся легонькой эпидемией!.. Такой, что и говорить-то о ней не стоит!.. Ай, как у меня болит голова!..
— Эпидемией!!!
Смятение распространилось уже и в большой музыкальной зале. О концерте никто и не думал. Гости теснились ко входу в маленький боковой зал, сгорая нетерпением узнать, что именно случилось. Услышав про эпидемию, все побледнели. Многие почувствовали себя дурно, а некоторые дамы упали в обморок.
— Все ограничится легонькой заразной болезнью! Ручаюсь, что этот несчастный случай не повлечет за собою особенно пагубных последствий. Течь в резервуаре была сравнительно ничтожной!.. — объяснял прерывающимся голосом великий ученый.
— Мне теперь тоже что-то нездоровится, — сказала девица Бардо, щупая себе пульс.
— Это совершенно естественно, но, впрочем, пожалуйста не тревожьтесь!
He прошло и пяти минут, как зала, где произошел несчастный случай с резервуаром сгущенных миазмов, была уже переполнена людьми, которые, явившись осведомиться, в чем дело, тотчас же заражались сами и, спустя несколько мгновений, заболевали. Вскоре поднялся против Лорриса настоящий концерт ожесточенных жалоб. Смертельно бледные и обессилевшие гости валялись в изнеможении на диванах, стульях и даже на полу. Другие, охваченные, напротив того, лихорадочным возбуждением, мучились сильнейшими нервными припадками. Филоксен Лоррис до такой степени наглотался миазмов, что, вследствие сильного головокружения, не в состоянии был сделать необходимых распоряжений. Очевидно, надо было удалить всех из маленькой залы, пребывание в которой было сопряжено с особенной опасностью, и хорошенько проветрить эту комнату. Видя, что туда набирается все большее число гостей, Ла-Героньер догадался растворить там по крайней мере окна настежь.
Он с беспокойством считал биения собственного своего сердца и щупал у себя пульс, но не мог подметить ровно никаких болезненных симптомов. Один из всех присутствовавших он не поддавался заразе и чувствовал себя совершенно здоровым. Успокоившись за самого себя, бывший больной тем не менее испугался при мысли о том, что его врач захворал и, разыскав Сюльфатена, предложил ему снов услуги.
— Вы говорили, что мое лечение еще не докончено. Пожалуйста, не устройте такой штуки, чтобы оставить меня, как говорится, на бобах! Ведь если вы теперь умрете, я окажусь совсем на мели. Я готов всячески за вами ухаживать, не требуя за это с вас никакой платы, или хотя бы даже скидки с вашего гонорара, на что имел бы несомненное право!.. Как это, однако, могло случиться, что я остаюсь здоровым в то время, как все кругом захворали?..

— Благодаря сделанным вам прививкам, вы обеспечены от заражения миазмами, — отвечал Сюльфатен прерывающимся голосом. — Предложите гостям разъехаться. Те, кто не входил в эту комнату, отделаются… легкой головной болью.
Ла-Героньер продолжал таким образом служить живою рекламой для нового изобретения Филоксена Лорриса. Невосприимчивость его к заразе явилась блестящим подтверждением целесообразности теории общеобязательных прививок национального и патриотического лекарства, которую великий ученый развивал Арсену Маретту. До сих было достоверно известно лишь, что это лекарство исцеляло от пагубных последствий переутомления. Теперь же несомненно выяснилось, что применение его в форме прививок делает организм невосприимчивым к миллионам микробов, распространившихся в атмосфере вследствие несчастного случая с новоизобретенным аппаратом Филоксена Лорриса.

VII
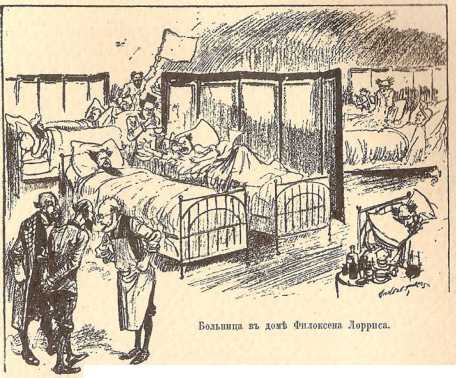 Катастрофа в доме Филоксена Лорриса. — Тридцать три мученика науки. — Возникновение новой, не существовавшей перед тем, заразной болезни. — Серьезный философский труд г-жи Лоррис. — Знаменитый ученый оказывается в крайне затруднительном положении.
Катастрофа в доме Филоксена Лорриса. — Тридцать три мученика науки. — Возникновение новой, не существовавшей перед тем, заразной болезни. — Серьезный философский труд г-жи Лоррис. — Знаменитый ученый оказывается в крайне затруднительном положении.
Дом Филоксена Лорриса обращен в больницу. Из тридцати четырех особ, вошедших в маленькую залу, где находился резервуар с сгущенными миазмами, тридцать три заразились. Один только Адриен Ла-Героньер остался вовсе незатронутым. Прочие гости великого ученого, не входившие в зараженную залу, отделались легким нездоровьем, которое на другой же день быстро рассеялось.
Больные остались в доме Филоксена. Дамы были размещены по особым комнатам, а мужчины — в парадных апартаментах, разделенных ширмами на небольшие больничные палаты. К счастью, эпидемия действительно оказалась не из тяжелых, хотя и представляла чрезвычайное разнообразие симптомов, одновременно напоминавших множество других уже известных заразных болезней.
Благодаря счастливой случайности, Жорж Лоррис, его мать и Эстелла находились как раз на противоположном конце дома в то время, когда в маленькой зале разразилась по неосторожности Сюльфатена эпидемия. Они отделались поэтому легким недомоганием вроде мигрени, сопровождавшейся головокружением, могли тотчас же принять на себя заведование больницей, которую пришлось устроить тут же в доме и всецело посвятить себя уходу за больными. Филоксен Лоррис, Сюльфатен и Арсен Маретт лежали в одной и той же палате. Они больше других надышались ядовитыми миазмами, а потому заразились сильнее, чем все прочие гости. У всех трех обнаруживалось поэтому сильнейшее горячечное состояние.
Филоксен Лоррис и Сюльфатен все время ссорились и перебранивались друг с другом. Великий ученый, в пылу горячности, осыпал своего сотрудника едкими насмешками и желчными упреками.
— Вы, г-н инженер-медик, с позволения сказать, осел! — говорил он. — Настоящий ученый никогда не позволил бы себе подобной рассеянности! Даже такой легкомысленный вертопрах, как мой молокосос Жорж, не сделал бы ни за что на свете такой пакости. Я, признаться, считал вас человеком совсем иного пошиба!.. Какое разочарование! Какой скандал! Ведь наше грандиозное предприятие провалится теперь из-за вас!.. Вы сделали меня посмешищем перед лицом всего ученого мира!.. Это вам даром не пройдет! Я предъявлю к вам иск судебным порядком и потребую возмещения проторей и убытков за неудавшееся предприятие!
Что касается до Арсена Маретта, то он в бессознательном бреду декламировал отрывки речей, произнесенных в палате депутатов, или же целые главы из своей „Истории неприятностей, причиненных мужчине женщиной“. Иногда он воображал себя дома, принимал Сюльфатена за свою жену, обращался к нему с самыми красноречивыми филиппиками и говорил:
— Ах вы, смешная, бессовестная старуха! И к чему вы, спрашивается, вернулись?.. Вам хочется опять забрать в когти прежнюю вашу жертву и снова наслаждаться моими мучениями?..
Девица Бардо, доктор всех наук и одна из самых блестящих медицинских светил Парижа, через недельку совсем поправилась. В первое время она страшно рассердилась и совершенно серьезно намеревалась возбудить против Филоксена Лорриса судебное преследование, но её негодование улеглось, когда она принялась изучать новую болезнь, сначала на себе самой, а потом и на других. Болезнь оказалась действительно очень интересной. Ее никоим образом нельзя было принять за видоизменение какой либо из признанных и классифицированных уже заразных горячек. В первой своей фазе она представляла много общего одновременно с ними всеми, проявляясь самыми разнообразными, сложными и хитросплетенными симптомами, осложнявшимися не менее странными аномалиями. Затем однако её течение внезапно становилось в высшей степени необычайным и своеобразным.

He подлежало ни малейшему сомнению, что это была совершенно новая болезнь, созданная в лаборатории Филоксена Лорриса и начавшая, мало помалу, эпидемически распространяться оттуда по всему Парижу. Несколько случаев её было уже констатировано в самых различных кварталах. Распространение заразы следовало, по-видимому, приписать тому обстоятельству, что ее разнесло по всему городу ветром, когда Ла-Героньеру вздумалось открыть настежь окна в маленькой зале, где находился резервуар с сгущенными миазмами. Могло случиться, впрочем, что болезнетворные зародыши были рассеяны гостями, которые вернулись домой, ощущая лишь легкое недомогание. Как бы ни было, образовалось несколько очагов, из которых эпидемия последовательно расходилась во все стороны, принимая вместе с тем все более определенный характер.

Выслушав несколько докладов девицы Бардо, инженер-медика и доктора всех наук, медицинская академия назначила комиссию из врачей обоего пола для всестороннего изучения новой болезни. Комиссии этой было поручено сорвать маску с таинственной незнакомки, — заключить эпидемию в рамки научной классификации и отыскать для неё соответствующее имя. Желаемого соглашения на этот счет, однако, не последовало. Каждый из членов комиссии подготовил особый мемуар, в котором высказывал свои особые заключения и предлагал для повой болезни особое наименование. Разлад, обнаружившийся при таких условиях среди последователей Эскулапа, тем более угрожал философскому спокойствию, свойственному этой корпорации, что мнения медицинских светил радикально расходились также и по вопросу о лечении новой эпидемии. К счастию, Филоксен Лоррис наконец выздоровел. В промежутке между двумя приступами горячки гениальный ум великого ученого обратил внимание на выяснившийся факт полнейшей невосприимчивости Адриена Ла-Героньера к заражению микробами новой эпидемии. Эта невосприимчивость, очевидно, обусловленная предшествовавшими прививками национального и патриотического лекарства, послужила для Филоксена драгоценным указанием. Чтобы проверить на опыте блеснувшую у него мысль, он сделал самому себе прививку и через два дня совершенно поправился. Великий ученый не счел, однако, нужным вступать в какие бы ни было объяснения с комиссией врачей, — оставил их судить и рядить о наименовании новой болезни и наилучших способах её лечения, а сам тем временем сделал прививку всем находившимся в его доме больным и, к величайшему изумлению медицинского факультета, сразу поставил их на ноги. История с новой эпидемией, наделавшая в течение приблизительно двух недель столько шума во вред репутации гениального изобретателя, внезапно приняла иной оборот. Враги Лорриса воспользовались, правда, благоприятным случаем для того, чтоб подпустить ему массу шпилек и выставить в смешном виде несчастную случайность с изобретенными миазмами.

Когда, однако, Филоксен Лоррис и его сотрудник Сюльфатен, восстав с одра болезни, мгновенно вылечили себя самих и всех больных, находившихся у них в доме, тогда как медицинский факультет все еще блуждал в дремучем лесу взаимно противоречащих гипотез и невообразимо странных теорий касательно неведомой новой болезни, — общественное мнение разом переменило фронт. Лорриса и Сюльфатена провозгласили мучениками науки. Со всех сторон посыпались им поздравительные адресы.

Итак, они были признаны мучениками науки. Все гости, присутствовавшие у них на вечере, удостоились до известной степени той же чести. Действительно, все в большей или меньшей степени хворали и тем самым приобрели законное право на пальму мученичества.
Наиболее влиятельные и лучше всего осведомленные газеты воздавали им публично почести и обстоятельно описывали вынесенные ими муки.
Телефоноскопическая газета „Эпоха“, издатель-редактор которой, Гектор Пикфоль, был тоже на пресловутом вечере и следовательно принадлежал к числу мучеников науки, напечатала жирным шрифтом на первой своей странице следующую заметку:
„В то самое мгновение, когда знаменитый изобретатель, великий Филоксен Лоррис, готовился увенчать свою карьеру, подарив сперва Франции, а затем и всему остальному человечеству не одно, как говорили об этом первоначально, a целых два колоссальных открытия, он чуть не погиб жертвою грандиозных своих опытов, вместе с отборным цветом столичного нашего общества“.

„Да, Филоксен Лоррис сделал не одно, а целых два колоссальных новых открытия, первое из которых должно произвести коренной переворот в военном искусстве и окончательно выбить его из прежней колеи, а второе — произвести подобный же переворот в врачебном искусстве, заставив его покинуть избитые тропы, по которым оно блуждает еще со времен Гиппократа".

„Оба эти великие открытия, несмотря на кажущуюся противоположность друг другу, находятся в тесной взаимной связи“.
„Первое из них влечет за собою упразднение прежних армий и всех прежних враждебных действий, место которых заступит медицинская война. Ее будет вести единственно боевой медицинский корпус, снабженный орудиями и приборами, насылающими
на врага самые вредоносные миазмы. Этим устраняется употребление взрывчатых веществ и даже удушливых газов прежней химической артиллерии. Они будут заменены артиллерией миазмов: микробами и бациллами, которые при содействии электрических токов заразят всю вражескую территорию".
„Какое дивное преобразование, какой громадный шаг вперед!
Беллона, благодаря Филоксену Лоррису, не станет обагрять кровью свои лавры!

„Второе открытие непосредственно ставит знаменитого ученого в первые ряды благодетелей человечества. Это — великое национальное и патриотическое его лекарство, действующее путем прививки и принимаемое внутрь, — лекарство, формула которого составляет пока еще тайну изобретателя. He подлежит, однако, сомнению подтвержденная уже опытами способность этого лекарства сразу возвращать здоровье и силу переутомленному люду, кровь которого обеднела от непомерных притязаний, предъявляемых ко всем нам условиями бешеного вихря жизни в наш электрический век“.

„Благодетель человечества, великий Филоксен Лоррис вдвойне достоин этого почетного титула! Он, — этот современный маг, — возвращает всем здоровье, возрождая физическую и умственную энергию благодаря составленному им лекарству. Вместе с тем грандиозная его идеё медицинской войны навсегда закончила кровопролитную эпоху взрывчатых веществ, истреблявших бесчисленные батальоны молодых здоровых воинов, покрывая поля сражений окровавленными клочьями их трупов… Медицинская война является громадным прогрессом над всеми предшествовавшими способами военных действий уже потому, что, задаваясь единственно только целью устранять возможность сопротивления со стороны неприятеля, она будет поражать его эпидемическими болезнями, которые хотя и свалят на некоторое время с ног все население вражеского края, но окажутся смертельными лишь для организмов, пришедших уже перед тем в состояние полной негодности".
„Подобно тому, как это случилось при изобретении пороха, когда монах Шварц, начавший эру взрывчатых веществ, стал первою жертвой великого своего открытия, также и Филоксен Лоррис, начиная эру медицинской войны изобретением необходимых для того дивных составов и приспособлений, чуть не погиб в своей лаборатории, на арене грандиозных своих научных побед, сраженный вместе с своим сотрудником Сюльфатеном сгущенными миазмами, приготовленными с целью исследования и опыта“.
„Действительно, он чуть не погиб. К счастью Провидение сохранило ему жизнь, являющуюся залогом торжества научных знаний. Он должен еще пособить переходу человечества в новую блестящую стадию развития. Благодаря ему священное дело прогресса и цивилизации значительно подвинется теперь вперед!"..
„Он едва не погиб, но остался в живых… Распростертый на одре болезни и терпеливо вынося тяжкие свои страдания, благородный мученик науки как бы расплачивается ими за колоссальный свой гений“.
В большом телефоноскопе, выставленном перед помещением редакции "Эпохи" и доставлявшем парижанам возможность любоваться зрелищем наиболее сенсационных событий, показывалась утром и вечером комната больного с кроватью, на которой лежал знаменитый ученый, страдавший новоизобретенной им заразной горячкой. Рядом с телефоноскопом вывешивался бюллетень, составлявшийся по утрам и вечерам наиболее выдающимися медицинскими светилами.
„Знаменитый ученый лежит в бреду“.
„Знаменитому ученому становится немного лучше“.
„У знаменитого ученого обнаружилось ухудшение".
Эти бюллетени издавались до тех пор, пока, наконец, в зеркале телефоноскопа не отразился мученик науки, облачившийся уже в халат и принявшийся как ни в чем не бывало за работу.

Государственный деятель, великий историограф и оратор Арсен Маретт, удостоившийся тоже чести считаться мучеником науки, поспешил тотчас же по выздоровлении внести в палату законопроект о национальном патриотическом лекарстве и потребовал признания этого законопроекта неотложным. В течение целых уже двух недель только и было толков, что об изобретениях Филоксена Лорриса. Они являлись бессменною злобой дня, — темою всех дебатов в академиях наук. При таких обстоятельствах законопроект, внесенный Мареттом, нельзя было положить под сукно. Он был рассмотрен чрезвычайной парламентскою комиссией, обсуждавшей совместно с знаменитым ученым его по статьям, разобранным, впрочем, уже заранее до последних мелочей столичными газетами. Когда вслед затем законопроект был внесен в парламент, за него высказались почти все партии, как правительственные, так и оппозиционные. Блогодаря поддержке, оказанной ему в палате депутатов г-жей Понто, а в сенате девицей Купар, представительницей Сартского департамента, женская партия впервые оказалась на одной стороне с мужскою и вотировала вместе со сторонниками лиги эмансипации мужчины, организованной Арсеном Мареттом.
Закон был одобрен громадным большинством голосов.

Сущность многочисленных его статей заключалась в следующем:
1) Прививка национального и патриотического лекарства обязательно предписывалась раз в месяц всем французам, начиная с трехлетнего возраста.
2) Монополия изготовления великого национального, патриотического, антимикробного и очистительного лекарства, исцеляющего малокровие и восстанавливающего израсходованные силы, предоставлялась на пятидесятилетний срок фирме Филоксена Лорриса.
3) Знаменитому Филоксену Лоррису народное представительство единодушно вотировало национальную благодарность.
Спешим присовокупить, что великий ученый согласился принять единственно лишь большую золотую медаль замечательно художественной работы, на которой, с одной стороны, изображался он сам в виде Геркулеса, победителя современных гидр. Надпись на оборотной стороне медали увековечивала намять об изобретении национального и патриотического лекарства.

После того оставалось уладить только второстепенные вопросы, относившиеся до организации новой общеобязательной повинности. Это было возложено на самого Филоксена, назначенного полномочным главноуправляющим её эксплуатации. Сверх того, по совету Филоксена Лорриса, учреждено было новое министерство общественного здравия, портфель которого был предоставлен выдающейся адвокатше и политической деятельнице девице Купар, сенатору Сартского департамента, докладывавшей в сенате законопроект о национальном и патриотическом лекарстве.

Правительственная регламентация всего, что относится до гигиены и общественного здравия неизбежно повлечет за собой массу упрощений и окажет населению Франции громадные услуги.
Национальное и патриотическое лекарство будет во многих случаях вполне достаточным для восстановления пошатнувшегося здоровья и приведения в должный порядок попорченных или переутомленных организмов, без всякого вмешательства врачей и аптекарей.
Страдающие малокровием, расстройством пищеварения, болезнями печени, почек, кишечного канала и т. д. не замедлят почувствовать значительное облегчение. Им не к чему будет прибегать к таким крайним средствам, какими в сущности являлись обеды и ужины в фармацевтических ресторанах, которые так размножились за последние несколько лет. Правда, что обеды там приготовлялись по рецептам магистрами фармации и провизорами, являвшимися одновременно учениками Эскулапа и профессоров гастрономии, но зато эти обеды обходились довольно дорого.
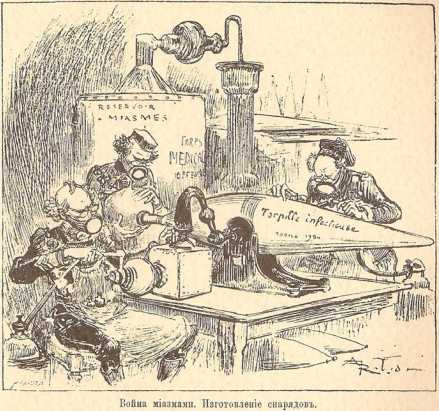
Филоксен Лоррис избавился таким образом от дальнейших забот по крайней мере об одном из крупных своих предприятий! Дело с национальным и патриотическим лекарством было, как говорится, в шляпе. Великий ученый был этому очень рад, так как начинал чувствовать уже кое-какие симптомы мозговой усталости. Он страшно много работал за последние несколько дней и под конец стал тоже подвергаться припадкам рассеянности, так что иногда чуть сам не смешивал флаконов великого национального и патриотического своего лекарства с колбочками сгущенных миазмов. Теперь он мог вздохнуть свободнее и, следуя привычке выбивать клин клином, т. е. переходить от одной утомительной работе к другой столь же утомительной, но приводящей умственные способности в новое возбуждение, принялся с величайшим жаром заканчивать свои исследования над изготовлением сгущенных миазмов и применением их в военных действиях.

Назначенная военным министерством комиссия генерал-инженеров должна была выработать, под покровом самой глубокой тайны, проект организации боевого медицинского корпуса. Комиссия эта собиралась ежедневно по вечерам под председательством великого ученого.

Эстелла Лакомб за последнее время почти не показывалась в лабораторию. Она заходила туда, правда, по утрам и являлась к Сюльфатену, но затем спешила удалиться в кабинет г-жи Лоррис, доступ в который был строго воспрещен всем друзьям и знакомым её мужа, — светилам научной, промышленной и политической деятельности. Всем им было объявлено, что г-жа Лоррис занимается в этом святилище глубочайшими философскими размышлениями, клонящимися к разрешению самых туманных задач метафизики, о которых трактует в подготовляющемся к печати большом научном своем сочинении.

Невеста Жоржа Лорриса до такой степени приобрела доверие и любовь будущей своей свекрови, что под конец проникла в это святилище и ознакомилась с работами, мысль о которых приводила ее до тех пор почти в такой же трепет, какой вызывали у неё обширные научные соображения Филоксена Лорриса. Однажды г-жа Лоррис таинственно привела ее в маленькую комнатку, которую великий ученый называл научным рабочим кабинетом своей супруги.
Это была небольшая веселенькая зала, убранная множеством цветущих и декоративных растений и прицепленная, словно стеклянный павильон на выдающемся углу парадного фасада, откуда открывался великолепный вид на парк и на безбрежное море крыш и монументов французской столицы.
— Видите, как велико мое доверие к вам, милая Эстелла, — сказала г-жа Лоррис. — Я открою вам заветную свою тайну. Мне кажется, что вы не совсем еще обратились в инженера и будете в состоянии меня понять.
— Увы, сударыня! Я к величайшему моему прискорбию и несмотря на все мои усилия оказываюсь таким плохим инженером, что г-н Филоксен Лоррис постоянно упрекает меня за это…
— Тем лучше, милочка! Это радует меня от души и дает мне смелость открыть вам заветную тайну… Я запираюсь здесь для того…
— Чтоб размышлять о вашем серьезном философском труде, о котором г-н Лоррис рассказывал как-то на-днях нескольким членам Академии Наук…
— Неужели он позволил себе такую нескромность?
— Г-н Лоррис не вдавался в подробные объяснения и объявил только, что ваш труд подвигается вперед…
— Вот он мой серьезный философский труд! Можете любоваться им сами! — воскликнула г-жа Лоррис, покатываясь со смеху.
Изумленная Эстелла увидела натянутую на пяльцы канву, на которой будущая её свекровь вышивала шелками и гарусом. Возле пялец стоял изящный рабочий столик, на котором лежали, среди груды модных журналов, несколько хорошеньких, оконченных уже вышивок гладью.
— Видите-ли, я запираюсь здесь, чтоб работать над этими безделушками, пристрастие к которым должна тщательно скрывать от многоученых моих приятельниц, подвизающихся на арене политической деятельности, или украсивших себя дипломами инженеров и докторов по всевозможным отраслям знания. Что ж делать, если мое легкомыслие упорствует в своей борьбе против тирании мужа и научных его теорий, являющихся воплощением нашего ученого и политехнического века!.. He угодно-ли будет и вам присоединиться к моему протесту?
— С величайшим удовольствием! Еще бы не присоединиться!.. Бог с ней с лабораторией! Я предпочитаю остаться здесь с вами! — воскликнула обрадованная Эстелла.
С тех пор Филоксену Лоррису почти не приходилось уже видеться с молодой девушкой, так что он начал совершенно забывать об её существовании. Жорж имел однажды случай в этом убедиться. Как-то раз, в промежуток между утренними работами в лаборатории сгущенных миазмов и вечерними заседаниями в организационном комитете нового боевого медицинского корпуса, великий Филоксен счел возможным посвятить несколько минут исполнению своих обязанностей отца семейства.
— Кстати, в каком положении твоя женитьба? — спросил он у сына. — Я хорошенько не помню, как мы с тобою на этот счет уговорились? Зачем теперь у вас дело стало?
— Единственно только за соблюдением установленных законом формальностей, — отвечал Жорж. — Вам, папаша, остается лишь назначить день…
— Прекрасно, жаль только, что я так сильно занят!.. Передай-ка мне записную книжку!.. Ну, чтожь? Разве в будущий четверг? Нет, впрочем! Надо ведь, чтоб прошла неделя между оглашением и свадьбой… Придется, значит, отложить до субботы! У меня остается тогда как раз свободный час около полудня. Напомни фонокалендарю у моего изголовья о том, что в субботу двадцать седьмого состоится бракосочетание Жоржа… Кстати, чёрт возьми! — с которой же из двух?
— Я, признаться, не понимаю вашего вопроса.
— Я спрашиваю, на ком же именно ты женишься: на девице Бардо, — докторе всех наук, или же девице Купар, — сенаторе Сартского департамента… Надо признаться, любезнейший сынок, что со мной за последнее время случались припадки рассеянности… Я положительно иду уже под гору, друг мой!.. Вообрази себе, что мне зачастую приходилось встречаться с обеими этими девицами в заседаниях комитета. Раз как-то я сделал от твоего имени предложение докторше Бардо, а два дня спустя, по совершенно непонятной для меня забывчивости, сделал совершенно такое же предложение и сенаторше… Боюсь, чтобы из этого не вышли теперь для меня серьезные затруднения и неприятности!
Для тебя-то разумеется получается самая выгодная комбинация… Ты, счастливчик, можешь теперь выбрать себе любую из двух!.. Обе, видишь-ли, безотлагательно изъявили свое согласие. Оне ведь девицы серьезные и считают совершенно неуместным тратить по пустому свое собственное и чужое время… На которой же из двух окончательно останавливаешь ты свой выбор?
— Ни на которой! — воскликнул Жорж, с трудом лишь удерживаясь от смеха. — Рассеянность у вас, папаша, оказывается не в пример сильнее, чем вы сами подозревали. Вы совершенно забыли о третьей девице, которая объявлена уже моей невестой, а между тем на ней-то именно я и женюсь!
— Кто же она такая, чёрт возьми?
— Эстелла Лакомб.
— Ай! — эта молоденькая барышня, — насквозь еще проникнутая легкомыслием минувших веков!.. Признаться, я совершенно о ней не думал, считая тебя окончательно выздоровевшим от столь нелепого увлечения!.. Впрочем, теперь мне некогда. Мы еще успеем с тобой переговорить и как-нибудь уладим дело… До свидания!
В субботу двадцать седьмого числа фонокалендарь напомнил Филоксену Лоррису, что день, назначенный для бракосочетания его сына, наступил. Экая, подумаешь, напасть! Утром надо было произвести в лаборатории целый ряд весьма важных опытов над сгущенными миазмами, а вечером предстояло в комитете чрезвычайное заседание!.. Филоксен Лоррис поспешно оделся и спросил по телефону у сына:
— На которой же из невест рассчитываешь ты жениться, друг мой?
— Разумеется, на Эстелле Лакомб.
— Так это, значит, у тебя решено?
— Решено и подписано. Приглашения на свадьбу разосланы, и мамаша уже одевается…
— Мне некогда с тобою спорить… тем более, что ты непростительно упрямишься!.. Пусть будет по твоему, друг мой! Предупреждаю тебя, однако, в последний раз, что твои потомки навряд-ли окажутся сильными в математических науках.
— Считаю долгом примириться с этой печальной перспективой.
— Смотри же, не пеняй потом на других! — объявил сыну великий Филоксен и затем добавил:
— Однако же для меня выходит тут, с позволения сказать, в чужом пиру похмелье! Я с двумя другими твоими невестами оказываюсь совсем на мели!.. Ты, друг мой, окончательно сбил меня с толку непостижимым легкомыслием, с которым устраиваешь свою жизнь и портишь себе столь прискорбным образом будущность. Вот теперь у меня на руках остаются из-за тебя две девицы: доктор Бардо и сенатор Сартского департамента Купар. И все это, подумаешь, из-за твоей милости!.. Они девицы солидные и, разумеется, маху не дадут, а предъявят ко мне судебным порядком иски о вознаграждении за убытки!.. Между тем мне не до судебных разбирательств. Я занят теперь в высшей степени интересными проектами новых изобретений. Как бы тут выпутаться из беды?
— Я в данном случае не могу ничем вам помочь.
— Постой-ка, мне пришла счастливая мысль: сенаторша и докторша окажутся как нельзя более пригодными для Сюльфатена!..
— Обе зараз?
— Нет, только которая нибудь одна из двух. Он человек серьезный и удовлетворится любою из них!.. Он ведь не тебе чета, дружок! Мозги у него не повреждены влиянием легкомыслия предков. Он стал теперь прежним Сюльфатеном, каким был до маленького своего грехопадения!.. Теперь никакие сентиментальные глупости не в состоянии уже на него действовать. Он утратил к ним всякую восприимчивость. Я убежден, что для Сюльфатена совершенно безразлично жениться на сенаторше, или докторше. Обе они стоят в его глазах друг друга!..
— Но ведь в таком случае у вас, папаша, все-таки же останется на руках одна невеста.
— Да, чёрт возьми, это правда! Ты можешь похвастать, что заварил со своей женитьбой кашу, которую мне придется расхлебывать как-раз в такое время, когда положительно не досуг заниматься всеми этими пустяками!..
Куда же нам девать другую невесту? Клянусь Богом, я не знаю, куда ее пристроить!
— Выдайте ее замуж за прежнего вашего пациента Адриена Ла-Геропьера!.. Он, впрочем, собирался жениться на Гретли, убедившись, что она отлично умеет за ним ухаживать!..
— Теперь ему в этом нет ни малейшей надобности. Он ведь уже не болен. К тому же никто не мешает ему жениться на девице Бардо, снискавшей себе репутацию блистательнейшего из наших медицинских светил. Сюльфатен в свою очередь не без некоторого честолюбия… Его можно женить на сенаторше!.. Надо будет непременно уладить оба эти дела, прежде чем идти по твоей милости к мэру!..

VIII
 Женитьба Жоржа Лорриса. — Затруднительные переговоры, которые приходится вести его родителю. — Улаживаются еще две свадьбы. — Возвращение в Керноель. — Наступление вакаций. — Прибытие дачников с расстроенными нервами.
Женитьба Жоржа Лорриса. — Затруднительные переговоры, которые приходится вести его родителю. — Улаживаются еще две свадьбы. — Возвращение в Керноель. — Наступление вакаций. — Прибытие дачников с расстроенными нервами.
Наконец, по устранении всех препятствий и улажении почти всех недоразумений, Жоржу и Эстелле удалось сочетаться браком.
Бракосочетание это имело торжественный и весьма внушительный характер. В то время, когда Филоксен Лоррис готовился, скрепя сердце, пожертвовать четвертью часа драгоценного своего времени, чтобы явиться в мэрию и расписаться там в книге, он сам был осчастливлен неожиданным, посещением адвоката. Одновременно с этим посыпался на него целый град повесток и фонограмм от присяжных поверенных, судебных приставов и т. д. и т. д. Дело в том, что обе девицы — докторша София Бардо и сенатора Сартского департамента Губертина Купар, — каждая с свой стороны, возбудили против него судебным порядком иск по поводу нарушенного его сыном обещания жениться. Как та, так и другая требовала шесть миллионов франков вознаграждения за протори и убытки.

Филоксен Лоррис не любил откладывать дела в долгий ящик и предпочитал как можно скорее выпутываться из нежелательных усложнений. Ворча сквозь зубы и проклиная свою участь, он подошел к телефоноскопу и приступил к многотрудным переговорам, имевшим целью склонить девиц Бардо и Купар в превращению процесса, который мог повести только к скандалу и даже повредить карьере их обеих. Великий ученый советовал им поэтому взять назад поданные уже в суд исковые прошения и вместо молодого ветренника Жоржа Лорриса, который во всяком случае не мог бы жениться на двух невестах разом и к тому же был положительно их недостоин, выбрать себе в женихи знаменитого инженер-медика Сюльфатена, правую руку и вероятного преемника самого Филоксена. Другим, столь же подходящим женихом, мог служить достопочтенный Адриен Ла-Героньер, — инженер и доктор всех наук, — специалист по финансовой части, — мастер устраивать крупные промышленные операции, — недавно лишь исправленный и починенный заново великим чудодейственным национальным лекарством, в барышах от которого он по условию будет иметь изрядную долю.
Поспешим воздать должную справедливость практическому уму обеих девиц. Под влиянием объяснений Филоксена Лорриса справедливое их негодование быстро улеглось, и они согласились, вместо того, чтоб вести дело судебным порядком, вступить в личные переговоры с ответчиком.
Чтобы не тратить даром времени, Филоксен Лоррис одновременно установил телефоноскопическое сообщение с обеими девицами. Таким образом ему не приходилось повторяться. Речь его была приготовлена так, что могла оказаться пригодной для обеих.
После двухчасовых телефоноскопических прений все было наконец улажено. Д-цы Бардо и Купар сменили гнев на милость и на пластинке телефоноскопа отразились мирно улыбающиеся их лица. Филоксен Лоррис привел тогда в действие все звонки своего дома, требуя Сюльфатена и Ла-Героньера к себе в кабинет или к телефоноскопу, чтоб сообщить им о положении дел. Начались новые переговоры весьма щекотливого свойства.
Приличия ради Филоксен Лоррис прервал телефоноскопическое сообщение с девицами. Таким образом он обеспечил себе возможность спокойного и серьезного обсуждения без напрасной траты времени на разные околичности.
Четверть часа ушла на объяснения.
Другая четверть часа употреблена была на обсуждение.
Итого потеряно было еще полчаса. Зато Филоксен Лоррис имел удовольствие заручиться согласием Сюльфатена и бывшего его пациента на комбинацию, улаживавшую нелепую путаницу и спасавшую фирму Филоксена Лорриса от скандального процесса.

Как только Сюльфатен и Ла-Героньер изъявили своё согласие, знаменитый ученый, испустив вздох облегчения, нажал пальцем кнопку, устанавливавшую сообщение с обеими бывшими истицами.
Увы, он слишком поторопился! С первых же слов Филоксен Лоррис убедился, что рассеянность сыграла с ним опять плохую шутку. Торопясь скорее окончить переговоры, он упустил из виду выяснить довольно существенный пункт и оставил нерешенным вопрос: которая из двух девиц выйдет замуж за Сюльфатена и которая сделается г-жею Ла-Героньер? Им обеим было предоставлено право выбора, и обе они отдали предпочтение знаменитому инженер-медику Сюльфатену, ввиду того, что его организм никогда не испытывал потребности в починке, и что перед ним открывалась великолепнейшая карьера.
Начавшиеся теперь переговоры оказались не в пример более трудными и щекотливыми, чем предшествовавшие объяснения. К счастью, Сюльфатен с первых же слов догадался прервать сообщение с Адриеном Ла-Героньером, который остался у себя дома, чтоб приодеться к свадьбе. В противном случае самолюбию бывшого больного пришлось бы порядком пострадать.
Переговоры длились еще целый час.
Филоксен Лоррис был вне себя от нетерпения. Сколько, подумаешь, времени пришлось ему потерять даром — и все по вине этого вертопраха Жоржа, который теперь воркует себе спокойно с своей невестой на такую избитую вконец тему, как любовь, которая, с позволения сказать, стара, как мир! Он, разумеется, и не думает, что отцу приходится из-за него ломать себе теперь голову, разбираясь в такой путанице, в которой сам чёрт ногу сломает!
Наконец все удалось уладить к общему удовольствию. Д-ца Купар, — сенатор Сартского департамента, согласилась выйти замуж за инженер-медика Сюльфатена, с условием, что её муж вступает по формальному договору в товарищество с фирмою Филоксена Лорриса, с правом по смерти Филоксена приобрести себе в собственность от его наследников и самую фирму. Девица Бардо, — доктор всех наук и специалистка по медицине, — согласилась, в свою очередь, принять предложение Адриена Ла-Героньера. Она обеспечила себе, таким образом, возможность наблюдать в высшей степени интересный случай восстановления поврежденного организма. Будущий её муж являлся замечательным образчиком чудодейственной силы медицинской науки. Понятно, что блистательнейшему светилу этой науки было как нельзя более уместно прибрать его к рукам.
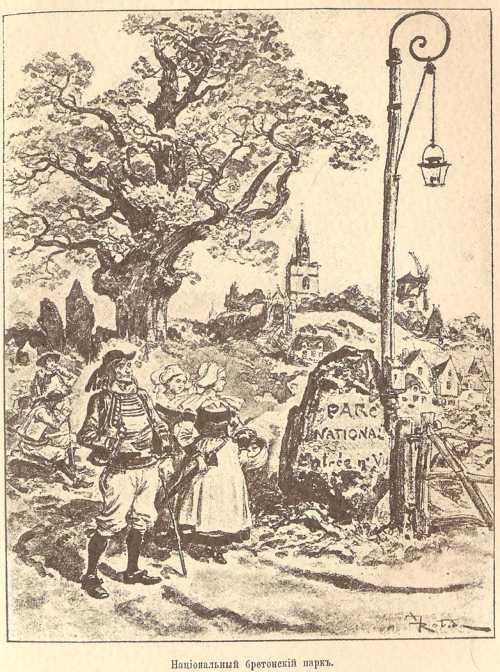
Тогда оказалось возможным восстановить сообщение с Адриеном Ла-Героньером, — поведать ему о выпавшем на его долю счастье, и окончательно договориться насчет будущих двух свадеб.
Освободившись от всех своих тревог и опасений, Филоксен Лоррис наскоро поздравил обе сосватанные им счастливые парочки и приказал подать воздушный свой экипаж, чтобы слетать в мэрию и таким образом исполнить родительские обязанности, оказывавшиеся для него столь обременительными.
В сущности он уже запоздал к заключению гражданского брака. Он только что собирался выйти из кабинета, как снова раздался звонок телефоноскопа, заставивший его остановиться.
Мэр LXII округа устранял разом все затруднения, предлагая ему присутствовать по телефоноскопу при заключении гражданского брака.
Филоксен Лоррис, чрезвычайно довольный любезностью мэра, которому впрочем и самому было недосуг, охотно принял его предложение и безотлагательно телефонировал родительское свое согласие.
Он имел таким образом удовольствие не только сберечь время, которое пришлось бы потратить на эту поездку, но вместе с тем избежал также и встречи с несколькими приставами. Они не были своевременно извещены о состоявшемся примирении и явились в мэрию при самом заключении брака перед молодыми супругами, чтоб лично заявить им от имени девиц Бардо и Купар о возбуждении судебного преследования. Выполнение этой судебной формальности обошлось ровнехонько в 7.538 франков и 90 сантимов.

Когда все, кому следует, расписались в книге, достопочтенный мэр, чтобы не тратить по пустому драгоценное время, передал Жоржу фонограмму речи, которую надлежало, собственно говоря, выслушать новобрачным. Сердечно поблагодарив мэра, Жорж положил фонограмму эту в карман. Само собой разумеется, что он обещал прослушать с должным вниманием и почтением на другой же день, или когда-нибудь позже, официальные увещания, содержавшиеся в этой речи.
Свадебный поезд направился затем к церкви, где толпились уже наиболее выдающиеся деятели в области науки, промышленности, политики, торговли, литературы, изящных искусств и т. п. Более тысячи двухсот воздушных экипажей колыхались над церковною папертью. Нельзя представить себе ничего очаровательнее вереницы этих изящных экипажей, проводивших затем новобрачных до дома Филоксена Лорриса.
После полудня молодые сели снова в воздушный корабль и быстро помчались в мирный уголок, огражденный законом от захватов современной науки, а именно в национальный бретонский парк, посещенный уже ими при обручальной поездке.
Молодая чета снова прибыла в Керноель. Жорж Лоррис выхлопотал себе особое разрешение доставить в одну из маленьких местных бухточек чрезвычайно уютный воздушный швейцарский домик, в котором он и поселился с Эстеллой, в двадцати пяти саженях над уровнем морского прибрежья. Там, в освежающем веянии морского ветерка, смешивавшемся с благоуханием лугов и лесов, раскидывалась перед ними восхитительно живописная панорама скалистых мысов, украшенных старинными колокольнями, диких бухт и дремучих дубовых лесов, окаймлявших трепетным изумрудом своей зелени древние развалины феодальных замков, или еще более древние таинственные кельтские дольмены…
Жорж и Эстелла, сами того не замечая, провели уже несколько недель в этой чарующей пустыне, когда вдруг она наполнилась дачниками. Начались уже вакации. Все местные дилижансы, брички, рыдваны и колымаги — катились наполненные бледными измученными людьми, головы у которых тряслись при каждом толчке колес по камням и ухабам. To был ежегодный наплыв горожан, искавших себе спокойствия и старавшихся запастись новыми силами на лоне матери-природы. Все это был переутомленный люд с расстроенной нервной системой, задыхавшийся от перенесенной борьбы и жаждавший успокоиться среди мирных полей, лесов и лугов. Бедняки сердечно радовались выпавшей на их долю возможности хоть на время вырваться из бешеного вихря электрической жизни!
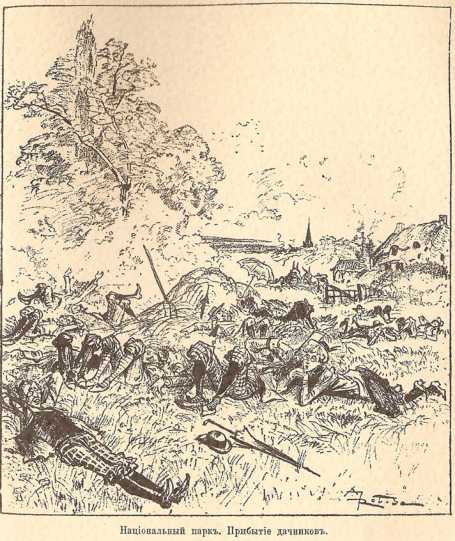
Нельзя было без сострадания смотреть, как вылезали из всех карет, дилижансов и колымаг, остановившихся у Керноельских ворот, измученные и расслабленные несчастливцы. Завидев где-нибудь траву, они тотчас бросались за нее, ложились в свежескошенных лугах или в сене — кто на живот, кто на спину, радостно вздыхая и трепеща от удовольствия.
Несчастливцы эти прибывали отовсюду несметными толпами!..
Наконец-то им удавалось вдохнуть в себя чистый воздух, незагрязненный мерзостным дымом чудовищных заводов и фабрик! Здесь можно было дать полный отдых мозгу и нервам, почувствовать неизреченное счастье возрождения к радости жизни!
Все они как-будто говорили: „Мы и оправимся здесь, — на этих мягких, зеленых, благоухающих лугах, — на бережке — в освежающем веянии морского ветерка. Мы здесь отдохнем, воскреснем духом и соберемся с силами для борьбы, ожидающей нас в будущем… Пусть же алчный и грозный механизм социальной жизни в век электричества работает теперь без нас, увлекая в своем вихре злополучных илотов, слишком крепко захваченных цепкими его зубчатыми колесами для того, чтобы они могли высвободиться из них и дать себе отдых хоть на несколько недель “.

Примечания
1
Вопрос о телефонировании с одного небесного светила на другое хотя еще не разрешен вполне удовлетворительным образом, но очевидно близится к разрешению.
(обратно)
Оглавление
Часть первая
I
II
III
IV
V
VI
VII
Часть вторая
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
*** Примечания ***

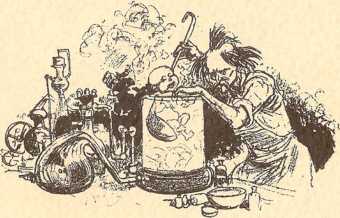


































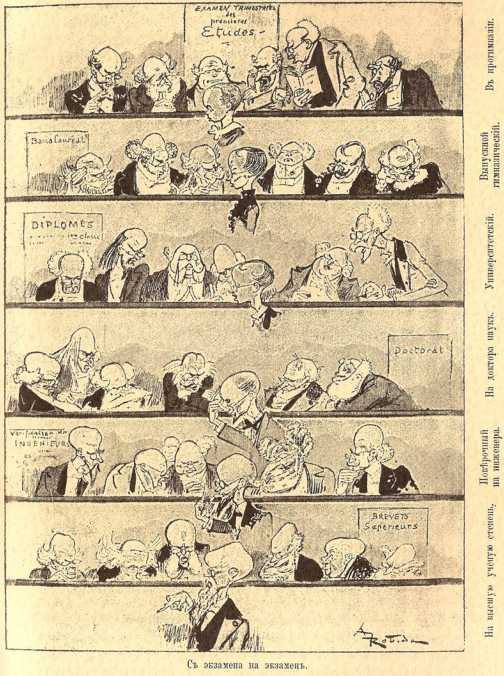




 Вырождение началось для этих старинных отборных пород с того дня, когда кровь гордых баронов смешалась с кровью разбогатевших мещан. Эти-то последовательно повторявшиеся неравные браки и нанесли смертельный удар дворянству. Нет ничего легче, как доказать мою тезу строго научным образом. Возьмем, например, потомка знаменитого Роланда. Пусть в жилах его течет кровь тридцати поколений самых доблестных рыцарей…. Если этот потомок храбрых воинов женится на дочери откупщика, то, в плоде от этого брака, драгоценная рыцарская кровь окажется измененной примесью совершенно иной, низкопробной крови!.. В силу атавизма, душа предков по матери, — каких нибудь лавочников или банкиров, — людей, торговавших бакалейными товарами, или отдававших деньги в рост под лихвенные проценты, возродится в теле роландова потомка. Что именно будет таиться тогда под гербом знаменитого паладина? Нельзя заранее ответить на этот вопрос. В результате помеси может оказаться и что-нибудь путное, но несравненно чаще получится ублюдок сомнительной ценности. Бедный Роланд! Какую гримасу состроил бы он, если б мог видеть, во что обратилось здесь его потомство!.. Пойми же, наконец, Жорж, что вопрос о естественном подборе заслуживает самого серьезного внимания! Надо относиться с известного рода уважением к своим потомкам и не награждать их такими душами, каких мы не желали бы иметь сами.
Вырождение началось для этих старинных отборных пород с того дня, когда кровь гордых баронов смешалась с кровью разбогатевших мещан. Эти-то последовательно повторявшиеся неравные браки и нанесли смертельный удар дворянству. Нет ничего легче, как доказать мою тезу строго научным образом. Возьмем, например, потомка знаменитого Роланда. Пусть в жилах его течет кровь тридцати поколений самых доблестных рыцарей…. Если этот потомок храбрых воинов женится на дочери откупщика, то, в плоде от этого брака, драгоценная рыцарская кровь окажется измененной примесью совершенно иной, низкопробной крови!.. В силу атавизма, душа предков по матери, — каких нибудь лавочников или банкиров, — людей, торговавших бакалейными товарами, или отдававших деньги в рост под лихвенные проценты, возродится в теле роландова потомка. Что именно будет таиться тогда под гербом знаменитого паладина? Нельзя заранее ответить на этот вопрос. В результате помеси может оказаться и что-нибудь путное, но несравненно чаще получится ублюдок сомнительной ценности. Бедный Роланд! Какую гримасу состроил бы он, если б мог видеть, во что обратилось здесь его потомство!.. Пойми же, наконец, Жорж, что вопрос о естественном подборе заслуживает самого серьезного внимания! Надо относиться с известного рода уважением к своим потомкам и не награждать их такими душами, каких мы не желали бы иметь сами.






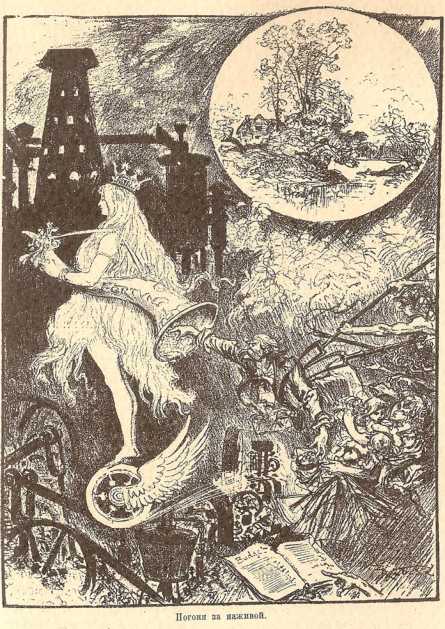

































 Окутав истинные свои намерения завесой самой непроницаемой тайны, Сюльфатен устроился так, чтоб познакомиться с родителями трагической артистки-медиума, а затем, по прошествии некоторого времени, сделал ей предложение. Свадьба затягивалась, однако, в долгий ящик, так как Сильвия в присутствии Сюльфатена вела себя до чрезвычайности странно. Она была иногда очень приветлива с женихом, но, порой, обнаруживала тревожное беспокойство. Случалось, что Сильвия почти уже соглашалась на брак, a на следующий день брала назад свое слово, не представляя на это никаких объяснений. Ко времени отъезда в обручальное путешествие артистка была занята репетициями новой большой пьесы, и Сюльфатену пришлось довольствоваться корреспонденцией с ней с помощью фонографических клише. Теперь, однако, он чувствовал потребность ежедневно видеться по телефоноскопу с великой актрисой. Отсутствие действительности развило у него недостаток, существования которого он до тех пор даже и не подозревал. Сюльфатен сделался ревнивцем, — невыносимейшим ревнивцем, разумеется в интересах науки. Соображая, что у кого нибудь другого могла явиться такая же идеё, как и у него самого, и что этот другой сумеет чего доброго за время его отсутствия завоевать себе симпатии Сильвии, инженер-химик горько сожалел о том, что не догадался поместить в различных местах хорошенького её домика миниатюрные и совершенно незаметные фотофонографические приборы, до такой степени облегчающие щекотливое дело тайного надзора.
Окутав истинные свои намерения завесой самой непроницаемой тайны, Сюльфатен устроился так, чтоб познакомиться с родителями трагической артистки-медиума, а затем, по прошествии некоторого времени, сделал ей предложение. Свадьба затягивалась, однако, в долгий ящик, так как Сильвия в присутствии Сюльфатена вела себя до чрезвычайности странно. Она была иногда очень приветлива с женихом, но, порой, обнаруживала тревожное беспокойство. Случалось, что Сильвия почти уже соглашалась на брак, a на следующий день брала назад свое слово, не представляя на это никаких объяснений. Ко времени отъезда в обручальное путешествие артистка была занята репетициями новой большой пьесы, и Сюльфатену пришлось довольствоваться корреспонденцией с ней с помощью фонографических клише. Теперь, однако, он чувствовал потребность ежедневно видеться по телефоноскопу с великой актрисой. Отсутствие действительности развило у него недостаток, существования которого он до тех пор даже и не подозревал. Сюльфатен сделался ревнивцем, — невыносимейшим ревнивцем, разумеется в интересах науки. Соображая, что у кого нибудь другого могла явиться такая же идеё, как и у него самого, и что этот другой сумеет чего доброго за время его отсутствия завоевать себе симпатии Сильвии, инженер-химик горько сожалел о том, что не догадался поместить в различных местах хорошенького её домика миниатюрные и совершенно незаметные фотофонографические приборы, до такой степени облегчающие щекотливое дело тайного надзора.


 Приказ явиться на службу. — Мобилизация воздушных, подводных и сухопутных сил ХII-го армейского корпуса. — Восьмой полк химической артиллерии отличается при обороне Шателье. — Разрывные и удушающие снаряды. — Завеса из дыма.
Приказ явиться на службу. — Мобилизация воздушных, подводных и сухопутных сил ХII-го армейского корпуса. — Восьмой полк химической артиллерии отличается при обороне Шателье. — Разрывные и удушающие снаряды. — Завеса из дыма.


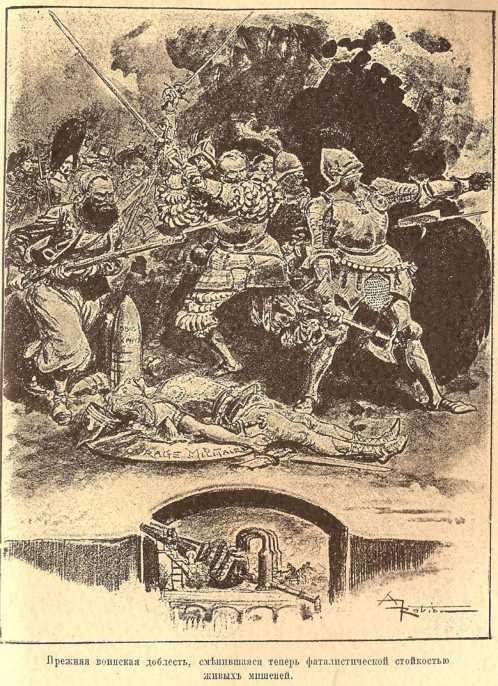



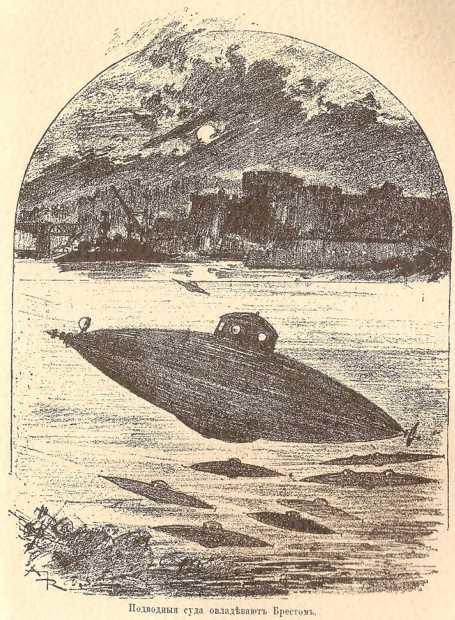





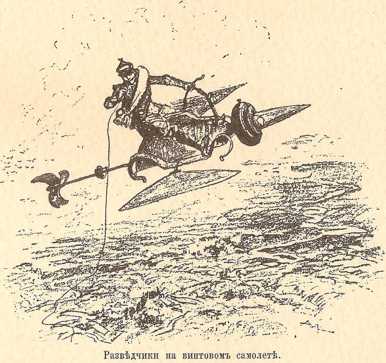



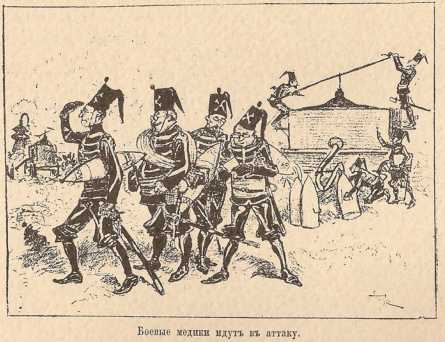





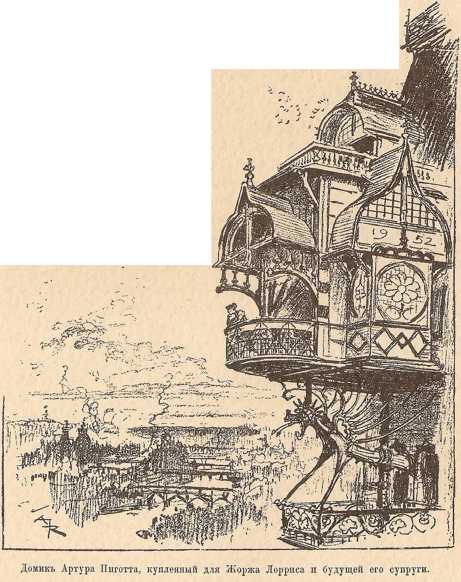


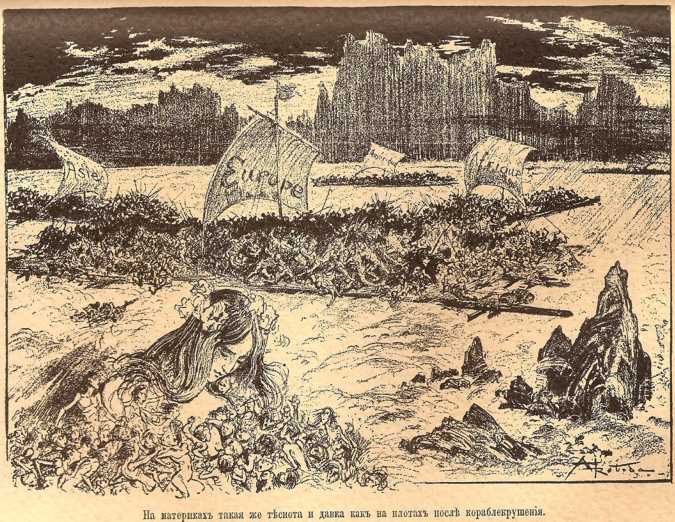







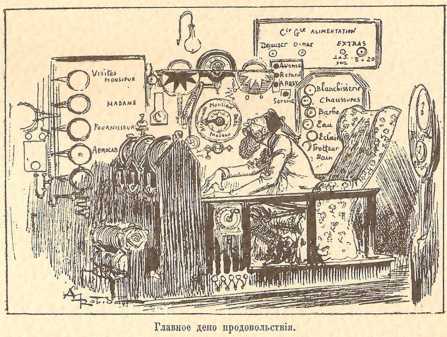










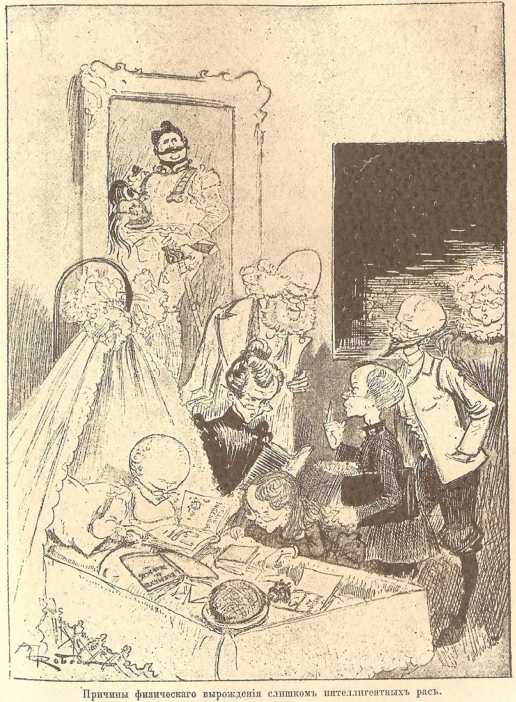















 Большой художественно-научный вечер в доме Филоксена Лорриса. — Удовольствие слушать фонограммы прежних великих артистов и артисток. — Некоторые из гостей. — Новая рассеянность Сюльфатена. — Больные фонограммы.
Большой художественно-научный вечер в доме Филоксена Лорриса. — Удовольствие слушать фонограммы прежних великих артистов и артисток. — Некоторые из гостей. — Новая рассеянность Сюльфатена. — Больные фонограммы.