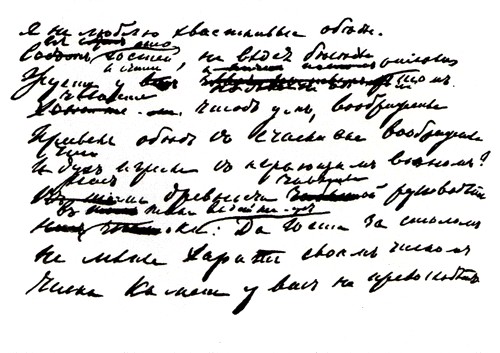В. Ф. Михайлов
Боратынский
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАЗУВЕРЕНИЕ
Глава первая
МАРА
Буба, Бубинька, Бубуша…
Предвесенье — пора смутная, неизъяснимая. Степь ещё в тяжёлых, слежалых снегах. Днём наст плавится под греющим солнцем, а ночью схватывается льдом. Погода переменчива: то оттепели, то метели — то радостно, то печально. Словно бы ожидание тепла и жизни в природе вдруг резко сменяется холодом и беспросветной тоской. Но всё же земля потихоньку освобождается от зимнего долгого морока, дышит розовым паром на проталинах. И только по оврагам, по лощинам недвижно лежат могучие сугробы и веют дремучей стужей…
Евгений Боратынский родился в один из таких дней. Произошло это 19 февраля 1800 года в имении Вяжля Кирсановского уезда Тамбовской губернии.
Если время года и место рождения как-то влияют на жизнь человека, на его характер, — а ведь не без этого, — то тем более они влияют на того, кому судьбой определено быть поэтом. Боратынский появился на свет в тамбовской лесостепи, там, где она постепенно переходит в неоглядные саратовские степи. Сердцевина страны, матёрая российская глушь…
Нам неизвестно, что поначалу ощущает младенец и как воспринимает он чуемое пространство. Но ведь неспроста, будучи уже в зрелых летах, Боратынский, находясь неподалёку от своей отчины, написал другу, Ивану Киреевскому: «Как путешественник, я имею право говорить о моих впечатлениях. Назову главное: скука. Россию можно проехать из конца в конец, не увидав ничего отличного от того места, из которого выехал. Всё плоско. Одна Волга меня порадовала <…>. Ежели я ничего не заметил дорогою, то многое обдумал. Путешествие по нашей родине тем хорошо, что не мешает размышлению. Это путешествие по беспредельному пространству, измеряемое одним временем: зато и приносит плод свой, как время».
Но прошли годы, и однажды, в зарубежном путешествии, незадолго до своей неожиданной смерти, он, во всю свою жизнь сдержанный в словах и чуждый патетике, воскликнул в письме Николаю и Софье Путята: «<…> Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна <…>». Тут невольно вырвалось наружу нечто глубинное, сокровенное. Возможно, он впервые — благодаря чужбине — осознал в себе это чувство. По крайней мере доселе оно никогда не выражалось им столь открыто и восторженно — ни в стихах, ни в письмах, а должно быть, и ни в изустной речи. Несомненно — такие признания изначально связаны с самым ранним детством, с его отчим домом.
Родители поэта любили Вяжлю, редко и неохотно покидали её — здесь они создали свой дом, свою семью. Абраму Андреевичу Боратынскому, генерал-лейтенанту в отставке, было 33 года, а его жене, Александре Фёдоровне Боратынской (в девичестве — Черепановой), воспитаннице Института благородных девиц при Смольном монастыре, — 22, когда у них появился первенец. Они назвали его — Евгений. Это имя восходит к древнегреческому языку и значит: «благородный», «знатный». Никто из предков поэта, по крайней мере известных истории и семейным архивам, не носил такого имени. Вероятнее всего, младенца нарекли по святцам. 19 февраля — день памяти преподобных исповедников Евгения и Макария. Это были пресвитеры Антиохийской церкви (IV век), жестоко наказанные царём Юлианом Отступником за отказ участвовать в языческих оргиях; после мучений их сослали в оковах в Аравийскую пустыню, где святые, свершив свой монашеский подвиг, по молитве преставились одновременно в 363 году.
Крестили новорождённого 7 марта, — свои именины Боратынский праздновал в этот день. Однако в метрической книге Вяжлинской церкви осталась следующая запись сельского попа отца Лариона Федотова: «У князя Аврама Андреева Баратынского сын Евгений родился 7 марта, крещён 8 марта. Восприемник Иван Егоров». Крестный отец — соседский помещик Иван Егорович не оставил по себе фамилии в истории, а вот имя крестной матери известно, это была родная сестра счастливого отца — Мария Андреевна Боратынская.
Исследователи установили: вяжлинский батюшка явно напутал в своей записи. Мало того что Абрама Андреевича назвал князем, так и день рождения его сына указал неверно. Выяснилось — священник время от времени скопом записывал имена младенцев, которых крестил, не придавая значения точной дате рождения крестьянских детей, да и барчат. Должно быть, святое крещение для него было куда как важнее самого нарождения на свет божий. По святцам именины Евгения выпадают не только на 19 февраля, но и на 22 февраля. В этот день Великого поста отмечается обретение мощей мучеников во Евгении — празднование в честь неизвестных святых страдальцев во времена гонений на христиан. Мучеников хоронили потаённо в Константинополе близ ворот и башни, называемых Евгениевыми; впоследствии на этом месте стали происходить чудесные исцеления, и братья по вере отыскали святые мощи и около 395–423 года перенесли их в храм…
…А по месяцеслову день именин Боратынского величается Василий Капельник: с крыш капает талая вода и пахнет весной. Несколькими днями раньше, на Гарасима Грачевника, обычно прилетают грачи. Тьма их на пашне. Гарасим пригнал, — говорят мужики, — грач на нос садится. 9 марта — день сорока мучеников, когда день с ночью равняется. Приход весны! Вот-вот прилетят певучие жаворонки. По избам пекут колобаны золотые, иначе, жаворонков — небольшие булочки в виде птичек. Поутру крестьянские детишки выбегают на крыльцо, расставляют на перилах ещё тёплые, духовитые хлебцы — и поют чистыми голосами, обращаясь в небо:
Жавороночки, прилетите к нам!
Весну-красну принесите нам!
Нам зима надоела —
Весь хлеб у нас поела…
Или же просто хором зазывают: «Жаворонки, прилетите, красно лето принесите».
Как и везде на Руси, так оно наверняка было в тамбовской Вяжле — в самые первые дни Боратынского на земле…
Вяжля — десяток деревень, разбросанных вокруг барской усадьбы Абрама Андреевича Боратынского. По приезде из столицы в 1799 году здесь он и поставил свой первый дом. А новый дом построил позже, в 1804 году, в пяти верстах от прежнего, выбрав себе для жилья в вяжлинских пределах урочище под названием Мара…
8 марта 1800 года петербургская подруга Александры Фёдоровны писала ей: «Вы не можете вообразить, дорогая Александрина, невыразимой радости, которую принесло прелестное письмо Абрама Андреевича, благую и счастливую весть он нам сообщил. Я поздравляю от всего сердца миленькую маленькую маму с новорождённым»
(перевод с французского).
Дядя мальчика, Александр Андреевич Боратынский, проживающий у отца в поместье Подвойское-Голощапово, пишет (вторая половина 1800 года): «Сделайте милость, поспешите нас уведомить, как вы там находитесь и как дорогой Бубинька вас там забавляет, как сия нежная веточка вашей любви оперяется в своём смысле и познании и какие уже даёт надежды. Нам всё это интересно будет ведать, и будьте уверены, что и мы не холодное примем в том участие».
Была у братьев Боратынских
тётушка — так они звали свою дальнюю родственницу и покровительницу Екатерину Ивановну Нелидову. В прошлом она была фрейлиной Екатерины II, а затем влиятельнейшей приближённой Павла I. Нелидова писала из столицы империи, что с нетерпением желает узнать «маленького Евгения» (июнь 1800 года), а позже, весной 1801 года, напоминала чете Боратынских: «Не забывайте никогда рассказывать о вашем малыше Евгении»
(перевод с французского).
Но всех теплее, конечно, крёстная мать — старшая сестра молодого отца, Мария Андреевна Боратынская (в замужестве — Панчулидзева): «Милого бубиньку бубушу Милочьку я и сама незнаю как бы мне его лудше назвать, я его так много, так много люблю что меры незнаю. Поцелуйте его от меня» (письмо 1800 или 1801 года).
Буба, Бубинька, Бубуша, — по имени в семье малыша и не называли, — растёт в любви и холе. Вскоре у него появляются: в 1801 году — сестра София (по-домашнему Соша, Сошичка), а в следующем году брат Ираклий, которого в семье прозвали — Аш, Ашичка, Ашонок (по первой букве французского аналога его имени — Hercule).
Весной 1800 года в Вяжле стало известно, что 11 марта государь Павел I скончался в Петербурге «от апоплексического удара». На самом деле Павла задушили заговорщики при дворе. Абрам Андреевич Боратынский, в начале службы обласканный императором, а затем попавший в немилость и опалу, мог бы теперь вернуться в столицу, ведь он был ещё молод — едва за тридцать. Однако он никуда не поехал из своей тамбовской глуши и не сделал даже попытки продолжить карьеру.
Осенью 1802 года между братьями Боратынскими произошёл раздел имения. Абрам и Богдан получили по тысяче крепостных душ, Пётр и Илья — по 300. Самый младший брат, Александр, в разделе Вяжли не упомянут. Поручик в отставке, он проживал в Голощапове с отцом, Андреем Васильевичем, и порой, как и другие родственники, наведывался к Абраму Андреевичу. По семейному преданию, Александр Андреевич, которому было немногим за двадцать, увлёкся женой старшего брата — Александрой Фёдоровной, своей ровесницей. Видимо, не обошлось без конфликта между братьями.
Впрочем, у Абрама Андреевича и до этого не всё ладно было в отношениях с ближайшей роднёй, недаром он в ту пору писал сестре Марии: «Не огорчайся, мой любезнейший друг, что я к тебе туда не буду — и зов мне был только одна проформа; но я не хочу ещё иметь дьявольских сцен с моими, которые против меня сделались извергами человечества. Прискорбно тебе, душа моя, слушать такие отзывы; но к несчастию моему, они истинны. — Я бежал бы в другую часть света, чтоб с ними никогда не встречаться, а особливо со вторым. — Я желаю ему всяческого благополучия, но с ним не увижусь уже во всю мою жизнь. К тому употребил все мои старания…»
Кто этот «второй»? Не иначе как младший брат, как видно, проявивший в поведении нечто непозволенное.
«Я хочу, — продолжал Абрам Андреевич далее в письме, — чтоб нам жить уже не в вяжлинском доме, и должен строиться от самого пола вновь. Я купил дом и перевожу в Мару, а в Вяжле всё оставляю им — и жить пусть приезжают, а всё буду от них за 5 вёрст».
Годом раньше, в 1803-м, отставного генерал-лейтенанта избрали предводителем тамбовского дворянства, и Абрам Андреевич приступает к своим обязанностям в столице губернии. А семья его насовсем перебирается в урочище Мару, в новый дом. Произошло это весной — осенью 1804 года…
Детство и добрая половина отрочества прошли у Боратынского в Маре. Эти годы «протекли в исключительно счастливой обстановке, царившей в богатой дворянской семье, — подчёркивает самый обстоятельный его биограф, финский филолог Гейр Хетсо. — Имение родителей было расположено в живописной местности, его окружали берёзы, липы, яблони, вишни, пруды. <…> В приветливо-ласковой местности Мары находила себе пищу и развивалась меланхолическая задумчивость поэта. Несомненно, что тихая тамбовская природа ещё в детстве производила на Баратынского чарующее впечатление, лелеяла в нём с раннего возраста поэтическое настроение».
В письмах Боратынский крайне редко вспоминал о годах своих младых, проведённых в Маре. В стихах — немногим чаще, зато с удивительной проникновенностью, с горячей любовью.
Я возвращуся к вам, поля моих отцов.
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы! <…>
Не призрак счастия, а счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! О край всегда любимый!
Родные небеса! <…>
«Родина», иначе «Сельская элегия» (под такими названиями первоначально печаталось это стихотворение), написана в Финляндии в 1820 году, — как вспоминают товарищи по службе, в пору затяжных осенних дождей. Боратынский служил тогда унтер-офицером. «Питая надежду на скорое производство в офицеры, он обнаруживал смело перед нами желание тотчас отставить службу и поселиться дома», — вспоминал его друг и сослуживец Николай Коншин. Двадцатилетний поэт удивлял Коншина и другим: «Я не знавал человека более привязанного к месту своего рождения, он как швейцарец, просто одержим был этой, почти неизвестной у нас болезнью, которую французы называют mal du pays». Но вернёмся к детству…
Внешне у подрастающего дитяти, а затем и отрока всё было вроде бы вполне благополучно. Любящие отец и мать, заботливые родственники — и сам он смирен, послушен, прилежен, порой до чрезвычайности, так что родители не нарадуются. Вдобавок сызмалу у него обнаружились замечательные способности к учению: четырёхлетним — уже читает на французском, в шесть лет умеет писать по-русски и по-французски. Александра Фёдоровна поначалу сама обучала детей, пока в 1805 году в имение не приехал выписанный для занятий гувернёр Джьячинто Боргезе. Бубуша и младшие Сошичка с Ашичкой разговаривали с матерью по-французски, а с отцом, не знавшим иностранных языков, по-русски. В письме от 17 февраля 1804 года сестре Марии — «моему милому Машурочку» — Абрам Андреевич пишет: «Ты не знаешь ещё нашего Ашичку и Сошу. А про Бубу и говорить нечего. Это такой робёнок, что я в жизни моей не видывал такого добронравного и хорошего дитя — он уже читает по-французски. Ашичка — это Ираклий. Мы ему дали это легчайшее имя. Мне можно тебе их всех хвалить. Этот Ашонок — такой красотка, что я редко видывал, и он у них всех фаворит. — Соша наша всё была больна, теперь поправляется, и преострая девчонка! А про неё не могу сказать, чтоб была смирна; иногда надо и розочки. А Бубинька 2 года не только розги, но ниже выговору не заслужил. Редкой робёнок!..» Весной — летом 1805 года Абрам Андреевич в письме с гордостью докладывал отцу в Голощапово, что Бубинька уже выучился грамоте и теперь пишет. «У него благодаря Бога понятие очень хорошее, и мы игравши с ним его учим».
Родители выписывали сыну домашних учителей; больше всех мальчик привязался к итальянцу Джьячинто Боргезе. Этот неудачливый торговец картинами, которого судьба занесла в Россию, преуспел, однако, в воспитании — и отнюдь не будучи учёным педагогом. Он развил в мальчике охоту к чтению, пристрастил к природе, разжёг воображение рассказами о своей благодатной южной отчизне, да так, что Боратынский полюбил всё это навсегда.
В стихотворении «Родина» есть строки, напрямую обращённые к Джьячинто Боргезе, и написаны они с благодарностью, от полноты сердца:
И ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отческих полях разведший в дни былые!
Ты поведёшь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
Я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет негою воскреснувшей природе,
С тяжёлым заступом явлюся в огороде,
Приду с тобой садить коренья и цветы <…>.
В первоначальной редакции элегии Боратынский величает своего воспитателя русским именем — «Прилежный Яков мой!..», явно выказывая сердечную близость.
Позже, покинув отчий дом, он не забывал слать приветы своему «усердному пестуну», а порой писал к нему отдельно. В самом конце жизни, находясь в Италии, он снова вспомнил о своём наставнике в послании «Дядьке-итальянцу», — по воле судьбы оно стало его последним стихотворением…
По обычаю, заведённому в дворянских семьях того времени, Боратынский познакомился с французской культурой раньше, нежели с отечественной. «Шести лет он уже свободно говорил по-французски и часто выступал в роли переводчика при разговорах родственников с учителями. Ранние письма поэта не оставляют никакого сомнения, что Баратынский в детстве лучше владел французским, чем русским языком», — пишет Гейр Хетсо.
Французский писатель Ансело заметил как-то о русских баричах: на нашем языке они выражают свои первые мысли, с нашими великими писателями развиваются — и это накладывает на всю их жизнь отпечаток, который невозможно стереть. По мнению Хетсо, это наблюдение «особенно справедливо и метко в отношении Баратынского: глубокое влияние французской культуры легко заметно в его стихотворениях, в его строгом художественном вкусе, очищенном от всяких излишеств и преувеличений. Важно в этом отношении его раннее знакомство с итальянской культурой. Восторженные речи Боргезе о природе и искусстве „отчизны лучезарной“ произвели неизгладимое впечатление на мечтательного мальчика, заставили его заочно полюбить „Небо Италии, небо Торквата“, которое ему довелось увидеть только в год своей смерти».
В октябре 1805 года отец впервые взял с собой сына в Тамбов, — до этого тот ни разу не покидал родительский дом, — и ненароком обнаружил в своём Бубе поразительное воображение. Вот что он тогда же написал жене: «Мне даже жаль, что ты не могла видеть и слышать его вопросы! Он даже до того расспрашивал, что сам останавливался отдыхать, жалуясь, что у него губы и язык болят. Он Тамбов в воображении своём <представлял> и садом и зверем или какой-нибудь рекою, словом, я очень много дивился на его воображение. Он несколько раз по дороге доставал свой рубль и тут-то было у него богатое воображение. Он провожает глазами каждую телегу и бегает из окошка в окошко смотреть». Простодушный папенька и не подозревает, что обнаружил в пятилетнем мальчике — поэта…
Первое сохранившееся письмо Боратынского относится к началу ноября 1806 года. Ему шесть с половиной лет и пишет он родителям в Петербург, куда они уехали, чтобы похлопотать за Абрама Андреевича и добиться его оправдания в затянувшемся конфликте с тамбовским губернатором:
«Милая мая мамінька і папинка. Желаю вамъ всякаго здаровья и благополучія навсегда мы очень бы желали васъ скарее видить, а без васъ нам скушна: паприказанію вашему уведомляю васъ мы точно такъ, же играимъ как привасъ играли, сошичка ашичка вавычка и федичка мы все здоровы, изаочно цалуемъ вас наши мілай: впрочем навсегда пребудемъ послушными: остаюсь покорный и послушнымъ вашъ сынъ евгеніи боратынскай».
Мальчик ещё путается в русской грамоте и, видно, много читает по-французски, коль скоро латинская буквица залетела в кириллицу… Но отписывает родителям — как старший в доме и ответственный за младших детей. Вавычка в письме — это второй брат Лев, родившийся в марте 1805-го, а Федичка — третий братик, ему едва исполнилось три месяца (умер младенцем после мая 1807 года).
Но уже несколькими месяцами позже он пишет по-русски грамотнее, хотя где ставить запятые, а где точки, ещё толком не знает:
«Любезная тётинька желая вам быть здаровым благодарим вас за вашу милость и любовь мы очень желаем с вами видется все дети цалуют ручки ваши и любят вас, дедушке и обеим бабушкам цалую ручки. — Остаюсь Евгений Боратынский. — Ираклий. — Вава спит, Соша также» (из письма Екатерине Андреевне Боратынской).
Проходит ещё полгода, и семилетний мальчик справляется с трудностями и пишет уже вполне ясно и грамотно: «Милая тётинька. — Поздравляем вас со днём вашего ангела и желаем вам всякого благополучия. Мы с Сонюшкою вышили для вас подвязки которые просим вас принять милостиво. Прошу засвидетельствовать глубочайшее наше почтение дедушке и дяденьке. Мы все целуем ваши ручки и любим вас от всего сердца. — Покорнейший ваш — племянник — Евгений Боратынский» (письмо тётушке Екатерине Андреевне).
Всего-то ошибок — запятая пропущена!..
Душа младая
В тех немногих поэтических произведениях Боратынского, где речь о родимой Маре, о родительском доме, нет и намёка на какую-то неурядицу в душе — лишь светлая грусть о детстве, о прошедшем.
Казалось бы, откуда и взяться печали, когда с младенчества обожаемый всеми мальчик воспитывается в заботе и ласке, да и сам непременно выказывает в своём поведении благой нрав, доброту и прилежание. «Исключительно счастливая обстановка» детских лет вроде бы обещает в нём одну лишь душевную негу и спокойствие. Однако детство отнюдь не так безоблачно, как это кажется со стороны. Никто из родных, близких и знакомых дитяти не заметил в нём ни малейшей дисгармонии, — сам же он впоследствии признавался, что не всё ладно было в душе.
В известном исповедальном письме к Василию Андреевичу Жуковскому, 1823 года, поэт неожиданно заявляет: «В судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное…»
Не странно ли —
всегда?.. Стало быть, это касается и ранних лет? — Да, и их.
Об этом свидетельствует другое письмо: «С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив. В молодости судьба взяла меня в свои руки…»
Как выясняется, это было коренным свойством его противоречивой натуры — в видимом счастье чувствовать себя несчастливым. Внешне всё благополучно — а внутри смятение. Судьба, казалось бы, благоволит — а сердце невидимо страдает. — Сызмалу Боратынский таил в себе, никак не показывая на людях, это душевное
единство противоположностей.
Воображение обоюдоостро. Оно то возносит в небеса, то пребольно ударяет о землю. Впечатлительность ещё первозданно свежа, отзывчивость чрезмерна. Никто не знает, как ребёнок, наделённый всем этим, справляется с самим собой. Кто измерит младую душу, когда она всё острее и глубже осознаёт себя, чуя вокруг таящиеся бездны? Чрезмерное по добронравию поведение порой как ничто иное свидетельствует о попытке упорядочить хаос, вторгающийся в тебя.
Само название его родного урочища веяло тайной.
Мара — это и морок, и наваждение — и грёза и мечта. Ещё — привидение, призрак.
Маром же звали на Руси сухой туман, мглу, знойный и тусклый, сумеречный воздух.
Мара, Мара-Морена — у всех славян одно из имён богини плодородия и жатвы, олицетворяющее также смерть. — Нельзя не признать, что всё это под стать самой поэзии Боратынского…
Однако поначалу Мара писана только светлыми акварельными красками. Как в «Сельской элегии», сочинённой в Финляндии в 1820 году. Он мечтал тогда вернуться из суровой северной страны — под родные небеса…
<…> незвучный голос мой,
В стихах задумчивых, вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем <…>.
Всё в родимом краю ему дорого и свято:
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;
Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы <…>.
Молодой поэт, сказочно, разом взлетевший на свой
финский Парнас, словно бы вовсе тому не рад — и мечтает спуститься долу, чтобы посвятить себя совсем другой поэзии — поэзии
земледелия.
Богиня пажитей признательней Фортуны!
Для них безвестный век, для них свирель и струны;
Они доступны всем и мне за лёгкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.
От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
А там, где ручеёк по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь осребренный;
В тени их отдохнёт мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой, и мирную цевницу.
(А ведь мечта двадцатилетнего поэта посадить лес — осуществилась спустя годы!.. Правда, не в Маре, а в Муранове…)
Через семь лет это настроение уступит место печали:
Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.
Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.
Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще —
Приют младенческих годов.
Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя
И, наблюдая, восскорбил <…>.
…Теперь на месте марской усадьбы Боратынских — пустошь. После революционной смуты 1917 года и последующего лихолетья не осталось ничего. Если что и уцелело, то лишь несколько могил на сельском погосте, где похоронены родственники поэта…
А в начале 1800-х годов, когда Абрам Андреевич Боратынский поселился со своей, год от года возрастающей семьёй в живописном урочище, Мара процветала. На склонах двух широких холмов был разбит парк, он террасами нисходил к большому овальному пруду; за сине-зелёной гладью воды простиралась роща и вдруг резко обрывалась глубоким, заросшим кустами оврагом, на дне которого бормотал ручей. Дуброва завораживала играющих барчат своим широким шумом в непогоду и тихим лепетом листвы в погожие дни. Аллеи парка дышали умиротворяющим покоем, а разбегающиеся в дебри тропинки обещали сказочные приключения. Всё это устроил для своих детей заботливый отец.
Усадебный дом был одноэтажным, с пристроенным к нему полукруглым бельведером в белоснежных колоннах. Неподалёку возвели причудливое строение, напоминающее старинный замок. Его прозвали — «грот». Оно было облицовано понизу раздробленными глыбами камня; сводчатые входы, забранные узорными коваными решётками, казалось, уводили в таинственные пещеры и дышали сумрачной сыростью. Мемуарист Б. Н. Чичерин писал в своих воспоминаниях: «Абрам Андреевич поселился в той части Вяжли, которая носит называние Мары, и здесь зажил на широкую ногу. Недалеко от дома лежит овраг, покрытый лесом, с бьющим на дне его ключом. Здесь были пруды, каскады, каменный грот с ведущим к нему из дому потаённым ходом, беседки, мостики, искусно проведённые дорожки. Поэт Баратынский в своём стихотворении „Запустение“ в трогательных чертах описывает эту местность, где протекли первые дни его детства, но которая была более или менее заброшена после смерти его отца, случившейся в 1810 году. Вдова не думала уже о поддержании красоты усадьбы, о старых барских затеях; она вся предалась воспитанию детей, и надобно сказать, что эта цель была достигнута ею вполне».
Элегия «Запустение» написана им осенью 1832 года после поездки в родное имение:
Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни весёлые живительного мая,
Когда, зелёными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень,
Когда ты веешь ароматом
Тобою бережно взлелеянных цветов, —
Под очарованный твой кров
Замедлил я своим возвратом.
Хрустела под ногой замёрзлая трава,
И листья мёртвые, волнуяся, шумели;
С прохладой резкою дышал
В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
А прошлых лет воспоминанья.
Душой задумчивый, медлительно я шёл
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провёл.
Увы, рука его изглажена годами! <…>
Душой задумчивый… — как необычно поставлены одно с другим эти два знакомые всем слова! Разом и метафора — и автопортрет, точный образ внутреннего мира и, возможно, всей своей жизни. Боратынский никогда не выставлял на публику, даже перед близкими и родными своего
личного. Говоря по-старинному, сокровенное души он держал —
про себя. То есть — не определяя словом это сокровенное — для одного себя. Дневников не вёл, мемуаров не оставил. О родном отце, если судить по стихам и письмам, почти не говорил. А вот тут вспомнил…
Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошёл я в дол заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель приветный!
Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады:
Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней…
Вотще! лишённые хранительной преграды,
Далече воды утекли,
Их ложе поросло травою,
Приют хозяйственный в них улья обрели,
И лёгкая тропа исчезла предо мною.
Ни в чём знакомого мой взор не обретал!
Но вот по-прежнему лесистым косогором
Дорожка смелая ведёт меня… обвал
Вдруг поглотил её… Я стал
И глубь нежданную измерил грустным взором,
С недоумением искал другой тропы;
Иду я: где беседка тлеет
И в прахе перед ней лежат её столпы,
Где остов мостика дряхлеет.
И ты, величественный грот,
Тяжёло-каменный, постигнут разрушеньем,
И угрожаешь вдруг паденьем,
Бывало, в летний зной прохлады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Ещё прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей. <…>
Глава вторая
НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА
Элегия времён
Настоящее, отошедши, сделавшись прошлым, словно бы перемещается в ту область времени, которое зовётся вечностью и не поддаётся ни тлению, ни изменению. Время едино: там и прошлое, и настоящее, и будущее. Времени известно всё. Мы устремлены в будущее, но оно ещё неизвестно нам. Мы живём в изменчивом настоящем, не успевая толком осмыслить то, что происходит. Будущее ещё не наступило, а настоящее ускользает из рук и далеко не всегда подвластно нашей воле. Лишь прошлое вполне принадлежит нам. И потому мы постоянно возвращаемся мыслями и чувствами в минувшее, которое, по сути, и есть единственное наше достояние.
Элегия «Запустение» как нельзя лучше раскрывает это.
Долгий разбег светлых воспоминаний, пробуждённых у Боратынского видами Мары — его «ещё прекрасного», но уже «заглохшего Элизея» — прелюдия к самому главному: вспыхнувшей памяти об отце. Эта память до сего времени таилась в нём, и никогда ещё он так осязательно не касался её своим поэтическим словом. И вот наконец воспоминания будто бы широкой волной накрывают его: окончание элегии — её девятый вал…
Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безымянной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к таинственному шуму
Сих клёнов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нём умолкнул слух,
Прияла прах его далёкая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь ещё живёт его доступный дух;
Здесь, друг мечтанья и природы,
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьёв,
Я тень священную мне встречу.
Как высока и чиста печаль этих стихов!.. Поэту открывается в них вечность…
Всюду в увядших чертах родимой Мары Боратынскому угадывается созидающая рука отца, «…отпечаток / Живой возвышенной мечты» (строки из ранней редакции элегии); везде, в парке, в руинах строений ему въяве чудится отец: что тут «ещё живёт его доступный дух». И этот дух «волнуется» в сыне «вдохновением», велит славить природу, жизнь. Однако отец уже в вечности, в той
полноте времени, которая объемлет прошлое, настоящее и грядущее. И оттуда, из своей вечности он «пророчит» сыну
несрочную весну. То есть обещает ту самую полноту времени, где ни тления, ни разрушения — где невянущие дубровы и нескудеющие ручьи.
Собственно, Боратынский здесь — в зримых образах — воспроизводит, невольно или же сознательно, глас 8-й кондака поминальной литии, которую обычно совершает мирянин по родному человеку дома или на кладбище: «…идеже несть болезнь, ни воздыхание, но жизнь безконечная».
Недаром он уточняет последнюю строку элегии. Если в ранней редакции было: «…У нескудеющих ручьёв / Я тень
отеческую встречу!», то теперь: «Я тень
священную мне встречу». — Восклицательный знак, признак восторга, сменяется точкой, символом твёрдой уверенности:
там, в святом вечном покое, так оно и произойдёт — они встретятся с отцом…
В преданиях и письмах
По отцу Боратынский принадлежал к старинному роду польских дворян. Предание гласит, что полководец Дмитрий Божедар (умер около 1370 года) первым взял себе это имя: он владел замком Боратын (Богом ратуемый, Божья Оборона) в Галиции (ныне село Боратынь на Львовщине) и стал подписываться по его названию — «de Boratyn». От этого имени и идут Боратынские.
(Разумеется, и фамилия поэта правильно пишется — по названию замка Боратын. Частные письма Боратынского обычно подписаны этим именем. Но в Пажеском корпусе, а затем на военной и гражданской службе его стали именовать — Баратынский: должно быть, по тому, как слышалось в речи, по привычному для многих аканью. Так оно и пошло в журнальных публикациях (тех из них, где фамилия писалась полностью) и в первых сборниках стихотворений — 1827 и 1835 годов. Однако последнюю книгу стихов «Сумерки», 1842 года, поэт подписал — Боратынский и, видимо, неспроста. Он явно желал впредь называться исконным именем. По его кончине в первом слоге фамилии снова и надолго появилась «а». Но всё же постепенно и всё чаще издатели и учёные принялись использовать этимологически верное имя — Боратынский. Последняя воля, что ни говори, — завещание. И мы в этой книге поступаем согласно позднему, зрелому желанию самого поэта — за исключением тех случаев, где приводятся цитаты с написанием фамилии с «а» в первом слоге.)
Потомки основателя рода Дмитрия Божедара отличались воинской доблестью и отмечены польской историей. Стешко-Ян Боратынский (первая половина XVI века) участвовал в походах короля Сигизмунда I Старого. Его сын Пётр служил при дворе короля Сигизмунда II Августа и прославился как законодатель и оратор, — на его надгробии выбили памятную надпись по-латински: «Петру Боратынскому, кастелану Бельсина и капитану Самбора, отмеченного знатностью и воинской славою, происходящему из славного по отцу своему рода, знаменитого мудростью, красноречием и добродетелями духа». Не эти ли качества далёких предков спустя два с половиной столетия унаследовал их потомок-поэт…
Во второй половине XVII века шляхтич Иван Боратынский в поисках фортуны переселился в Россию, перешёл в русское гражданство и покрестился в православную веру. Государь пожаловал именитого воина имением Голощапово в Смоленской губернии, где он и скончался в 1708 году. Гейр Хетсо замечает, что Иван Петрович, возможно, был не прямым потомком Петра Боратынского, а продолжал другую линию родства. Как бы то ни было, именно от него пошли «русские Боратынские».
«Прадед мой родной Иван Петрович Боратынский служил вечно-достойной памяти Его величеству государю царю Алексею Михайловичу. А дед мой родной Павел Иванов сын Боратынский служил блаженной памяти государю Петру Алексеевичу… Я же, именованный, начал служить Ея императорскому величеству с 1753 года в полку Смоленской шляхты рядовым…» — сообщал в записке, названной «Объявлением», отставной поручик Андрей Васильевич Боратынский, родной дед поэта. Он был небогат, но после женитьбы на дочери соседского помещика Авдотье Яцыной присоединил к своему поместью её имение Подвойское, и дела наладились. Эта женитьба — настоящее романическое приключение.
«В 765 году, 27-ми лет, Андрей Васильевич вышел в отставку и стал жить в Голощапове. Тут он влюбился безоглядно в Авдотью Матвеевну Яцыну из заречного Подвойского. Но Матвей Яцын сосватал дочь за другого и в скором времени насильно вёз её венчать. Когда проезжали мимо голощаповской мельницы, Авдотье Матвеевне стало дурно; её вынесли и положили на траву. Жених, ехавший впереди, придержал своих лошадей, но, увидав, что возле невесты отец, отправился далее. Когда экипаж его скрылся из виду, Авдотья Матвеевна спросила папеньку: — „Какой он будет мне муж, если даже не захотел остановиться, видя, что мне дурно?“ — Матвей Яцын в решениях был непреклонен. Авдотью Матвеевну отнесли в отцовский берлин, лошадей поворотили и вернулись назад в Подвойское.
Нового жениха Матвей скоро не приискал. А Андрей Васильевич, видя в том обмороке знамение судьбы, не терял надежд. Он увёз Авдотью Матвеевну тайно: переоделся конюхом и с одной лошадью прошёл на яцынский двор; Авдотья Матвеевна вышла; Андрей Васильевич помог ей сесть на лошадь, вспрыгнул сам, дёрнул поводьями и был таков.
Прошло время. Авдотья Матвеевна принесла сына; его именовали в память Авраамия Смоленского. Вторым сыном был Пётр; затем были ещё три сына и две дочери», — пишет Алексей Песков, автор книги о Боратынском.
По семейному преданию, бабушка Боратынского была склонна к меланхолии (как впоследствии её «задумчивый душою» внук) и впадала в глубокую печаль от шума берёзовой рощи. Её преждевременную смерть связывали с тоской от разлуки с сыновьями, которых рано отдали в военную службу. Заметим, что это очень напоминает неожиданную кончину её сына Абрама Андреевича и смерть самого поэта в Неаполе: он так сильно переживал за больную жену, что не вынес огорчений…
Возможно, от бабушки Авдотьи Матвеевны Боратынский и унаследовал свою чрезмерную чувствительность. Был ли его отец схож характером со своей матушкой, в неё ли пошёл? Стоит внимательнее приглядеться к его судьбе — ведь она и прямо и косвенно отразилась в сыне…
Абрам (Аврам) Андреевич восьмилетним был определён в лейб-гвардии Преображенский полк. На службу явился в 18 лет, в 1785 году. Вскоре его перевели прапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк, где спустя несколько месяцев он дослужился до сержанта.
В письме двадцатилетнего гвардейца родителям, которое он написал и от своего младшего брата Петра 22 апреля 1787 года, виден добродушный характер и изрядный запас веселья и молодой энергии:
«Милостивые государи батюшка и матушка.
<…> О себе честь имеем донести, что мы, слава Богу, здоровы, и время, которое мы здесь препровождаем, очень хорошо разделено от наших командиров: надобно всякой день в 3 часа встать в строй и после обеда тоже, дневать день и трое суток подряд, да ещё для закуски всякой караул в сутки. <…> Вот правило монашеское, которое мы исполняем поневоле, живучи в мире. Я думаю, вы рассуждаете, что мы обременены великою прискорбностью и за несносность оную считаем, но вместо того сие для нас малейшее зло, мы совсем и не примечаем и так к оному привыкли, что и беспокойство об оном почитаем за излишнее. — Надобно иметь достойный человеку предмет огорчения, чтоб о чём можно было ему предаться печали, но и то умеренной, дабы не понизить своего звания. Как скоро сие воображение будет иметь человек, то будет иметь и спокойный дух, а в спокойствии нет иной дороги, как преодолением досад и огорчений. (Склонность порассуждать позже ещё сильнее проявится у старшего сына Абрама Андреевича, Евгения, в письмах из Пажеского корпуса. —
В. М.) <…> Денег же у нас давно нет. Однако мы вас об оных и не беспокоим. Что делать? Как-нибудь покуда что будем перебиваться…
Ваши, милостивых государей всегда покорнейшие дети и покорнейшие слуги Абрам Боратынский и Пётр Боратынский».
На следующий год началась война со Швецией. В составе Семёновского полка Аврам и Пётр совершили пеший переход в Финляндию, в окрестности Фридрихсгама, но войны толком не понюхали, в перестрелки не попали. Рвались в настоящее
дело, завидуя младшим братцам — гардемаринам Богдану и Илье, которым уже довелось участвовать в морских сражениях со шведами. Не потому ли Аврам, назначенный фельдфебелем роты гренадёров, ворчал в письме, что из 120 подчинённых «десятая доля не сыщется порядочных людей, а протчие все пьяницы, дебоширы и невежи».
По возвращении в Петербург Аврама и Петра перевели капитанами в гвардию: за братьев замолвила слово великому князю Павлу Петровичу его приближённая, Екатерина Ивановна Нелидова, которой наследник престола в ту пору безоговорочно доверял. По протекции Нелидовой вскоре все четыре брата Боратынских были взяты Павлом Петровичем в его штат. Узнав про желание Аврама и Петра перейти из сухопутных в моряки, Павел благосклонно отнёсся к нему и даже распорядился, чтобы братьев за его счёт обучали французскому. Наследник, нелюбимый сын постаревшей императрицы, уже давно ждал престола и подыскивал добрых воинов, верных ему… К родителям немедленно ушло радостное письмо: «Он сказал, что ему давно хотелось придвинуть нас к себе поближе и теперь очень рад, что и наши желания с его согласны. Дозволил нам входить во все внутренние его покои, и какая нам нужда или какое притеснение встретится, чтоб относились прямо к нему…»
В новом повороте шведской кампании баталии шли с переменным успехом. В конце июня 1790 года императорский флот, неделей раньше праздновавший викторию, был сильно потрёпан, если не разбит в заливе Кюмень близ Роченсальма. Корабль Аврама Боратынского едва не пошёл ко дну и был захвачен шведами. Как только выдалась возможность, пленник хотя бы общими словами поспешил успокоить родителей:
«Милые государи батюшка и матушка! Я знаю, что вас сие известие чувствительно встревожит, узнавши о моей судьбе; но сего рока уже переменить не можно: и мне так суждено провести несколько времени вне своего отечества. Прошу вас всепокорнейше не беспокоиться обо мне, ибо и здесь с нами обходятся очень хорошо…»
Брату же Петру, что служил на другом корабле и избежал печальной участи, Аврам написал куда как откровеннее и в подробностях. Сообщил, что «принял совсем иной образ новой жизни, стал пленником, побеждённым и в неволе, отлучён ото всех и лишён всего…». И далее:
«<…> Сии все предметы,
предоставляющиеся моему воображению, жестоко терзают мою душу. Где мне искать успокоения? Кто меня утешить может? У всякого свои злополучия не дают времени утешать другого. — Итак, я оставлен без всякой помощи и должен внутри сердца своего питать грусть, меня снедающую. — Тебя нет со мною, тебя, который был утешитель в моей горести. Мы были подпора друг другу: теперь отдалённость места препятствует нам слышать стон или восторги наши. Судьба определила мне сию участь: противиться сему року смертным не возможно».
Вот так же всю жизнь и Боратынский-сын нуждался в настоящей дружбе и в настоящем друге, то обретая такого верного друга, то теряя…
Вернёмся к письму отца. Аврам пишет о томившем его в Выборге предчувствии, что долго не увидится с братом, о жестоком волнении, которое доводило его до отчаяния. «С горестию исполненным сердцем спешил я к своей галере. Ни с кем не будучи знаком, старался, сколько возможно, чтоб меня знали с хорошей стороны, и во оном скоро успел. Простоявши на рейде у Транзунда до тех пор, когда Чичагов дал баталию неприятельскому флоту и который ретировался с превеликим своим уроном, мы снялись с якоря и пошли в сторону Пуцелет, к которому поспешали с превеликой поспешностию, и день и ночь люди были в гребле, и как скоро стали подходить к оному заливу, то услышали пальбу, которую открыли наши лодки, бывшие впереди. Тут тотчас нам дан был сигнал к сражению, и как мы были в авангарде, то мы первые и вступили в бой. Признаюсь чистосердечно, что я сначала всё сие за шутку почитал и хохотал, когда ядры чрез нас летали, считая свой флот гораздо многочисленнее, и притом неприятель обескураженный не может долго нам противиться. Но совсем вышло иначе. Неприятель в порядке напал со всех сторон на наши передовые суда и такой сильный огонь произвёл с своих лодок, что мы уж начали сомневаться о победе. Ещё к несчастью нашему ветр гораздо сделался сильнее и мы не могли порядочной построить линии. Подлинно все стихии противу нас восстали, и мы явились с трёх сторон атакованные, а с правой стороны щебекою и фрегатом, которые толь проворно залпами по нас стреляли, что на одной стороне галеры только 8 человек осталось. Пушки все были подбиты, вёслы изломаны, течь сделалась сильная, ветр сильный стремил нас к неприятелю. Ни бросания якоря, ничто не удержало, итак, сделавши консилиум, спустили флаг. Я не могу представить, в каком были все волнении и отчаянии, когда увидели к себе приплывающие лодки шведские для забрания нас! Все были как вне себя: иной проклинал свою участь; иной рвал на себе волосы; иной плакал; и все были в такой дистракции, что сами не знали, что начать? Тогда только было у нас присутствие духа, когда сражались; но когда противиться уже невозможно было, тогда отчаяние нами овладело. Тотчас нас всех виновных забрали и повезли на неприятельскую галеру, которая ещё несколько часов была в сражении. Только то у меня осталось, что я имел на себе, т. е. мундир и сертук; прочее всё разграблено».
В конце концов пленник попал в город Нортупель, в 180 верстах от Стокгольма.
«<…> Вот, любезный друг, в какой я от тебя отдалённости. Но как отдалённость ни велика, мой дух всегда присутствует с тобою, и только лишь одна моя отрада, когда я тебя вспоминаю. Сии мечтательные соображения часто занимают мои мысли и очень много способствуют моей меланхолии».
Своё письмо он заканчивает просьбой по возможности утешить родителей и новыми восклицаниями о дружбе: «Ах, любезный друг! Сколько несносно быть в такой отдалённейшей стороне и не иметь себе друга! Я желал бы, чтоб ты попался в плен, уверен будучи, что ты не сочтёшь за несчастие, когда мы бы были вместе! Для меня и самый ад казался бы раем, когда бы ты был со мною. Но теперь, признаться, хоть не ад, но похоже на него. <…>»
Священная родная тень
Большинством российских исследователей жизни и творчества Боратынского принято считать «роль отца» в жизни поэта явно незначительной.
«…Отношения с отцом не оставили следов», — пишет во вступительном очерке к Полному собранию сочинений и писем Боратынского (М., 2002) крупнейший знаток его жизни Алексей Михайлович Песков. При этом он ссылается на строку из элегии «Запустение»: «Мне память образа его не сохранила». Однако очевидно, что Боратынский говорит здесь лишь о внешнем облике отца, который он изрядно подзабыл к тридцати двум своим годам. Что же касается его внутреннего образа, то многие стихи элегии, да и сам её дух свидетельствуют обратное: отец жив в памяти сына, неразрывно связан с ним, священная отеческая «тень» питает его вдохновение и пророчит
несрочную весну и грядущую встречу.
Филолог Ирина Медведева в работе «Ранний Баратынский» (1936) замечает: «Начиная с самого раннего детства и до женитьбы поэт окружён неусыпными заботами и „болезненной“ (как он сам определяет) любовью матери. Несомненно, она пользовалась гораздо большим влиянием на сына, чем отец». То есть «влияние» отца не отрицается, но и никак не определяется конкретно, словно бы это некая условная величина. Разумеется, в отличие от матери, с которой Боратынский, очно или заочно, был в общении всю жизнь, отцовское влияние трудно уловимо, ведь мальчик рано осиротел. Но кто же знает душу человека и то, чем она живёт? Некие знаки в судьбе Боратынского, его юношеские порывы и зрелые поступки (обо всём этом речь впоследствии) говорят о другом: отцовское начало жило в нём неизбывно.
Евгений Лебедев в «Тризне» вовсе обходит вопрос о влиянии отца, начиная книгу о Боратынском сразу с поступления его в Пажеский корпус в 1812 году.
Безусловно, Абраму Андреевичу совсем недолго довелось пожить рядом со своим первенцем: Боратынский-отец скончался 24 марта 1810 года, в 43 года. Произошло это внезапно и негаданно для всех, хотя Абрам Андреевич в последние годы побаливал… Незадолго до его кончины семья переехала (в 1808 году) в Москву, чтобы дать Евгению настоящее образование, которое в Маре от домашних учителей он, конечно, получить никак не мог. Александра Фёдоровна осталась с семерыми детьми на руках, причём младшую дочь Вареньку она родила уже по смерти мужа. Разумеется, растить детей выпало на долю одной матери. Однако значит ли это, что «роль отца» сводится только к воспитанию дитяти? Наследственные связи глубже и сильнее воспитательных уроков; незримое же взаимовлияние душ не поддаётся никакому «учёту»…
Конечно, Абрам Андреевич, сын отставного поручика, а затем сельского помещика, по малолетству «определённый в корпус», не получил путём образования и сильно уступал в этом качестве своей жене, любимой фрейлине императрицы, воспитаннице Смольного института благородных девиц. Александра Фёдоровна осталась в воспоминаниях близко знавших её гораздо более сложной натурой: «Её точно можно было назвать необыкновенной женщиной: в ней благородство характера, доброта и нежность чувства соединялись с возвышенным умом и почти не женской энергией».
Но вот эта «болезненная» любовь к первенцу и «почти не женская» энергия настораживают: мальчик с десяти лет уже не знал лёгкого, мягкого и весёлого добродушия отца и наедине, как мог, выдерживал напор пылких материнских чувств. Ирина Медведева замечает: «Детские письма Баратынского к матери свидетельствуют о том, до какой степени она была в курсе интересов сына. Она даёт ему первые литературные советы: она, очевидно, руководит и его чтением. Несколько требовательная, деспотическая привязанность её отчасти угнетала Баратынского». Медведева без обиняков связывает со всем этим позднее признание поэта о своей, с самого детства, тягостной зависимости, отчего ребёнком он «был угрюм, был несчастлив». Вполне вероятно, что исследовательница права, хотя в письме Николаю Путяте, содержащем это признание, Боратынский не называет имени матери, а высказывается, как говорится, общими словами. Он конкретно никого не винит в своём угрюмстве и несчастий. То есть всё это можно отнести и к свойствам его натуры, к свидетельству о собственной душе, вряд ли ясной ему самому..
Поэт всегда горячо любил свою мать и всю жизнь был её самым почтительным сыном. Но, очевидно, не меньше дорожил памятью отца. Так что отнюдь не следует умалять отцовского влияния на его судьбу…
Абрам Андреевич родился и вырос в семье по-настоящему ярких и даровитых людей: все его братья и сёстры смолоду вышли из общего ряда. Сам он стал генерал-лейтенантом, брат Пётр — сенатором, брат Богдан — вице-адмиралом, брат Илья — контр-адмиралом; и его сёстры Екатерина и Марья славились умом и способностями. Предание гласит, что император Павел I позвал к себе отца Боратынских, чтобы познакомиться с тем, кто родил и вырастил таких блестящих молодых воинов.
…В плену у шведов Аврам пробыл три месяца. По возвращении в Петербург его карьера развивалась стремительно, и уже в 1792 году он стал командиром Гатчинской команды. «<…> Ах, батюшка! Не могу вам описать, сколько нас любит Его Императорское Высочество! ибо когда я стану писать все подробности, то многие не поверят, только скажу: что мы во весь век наш счастливы бы были, когда оная будет такова, как теперь!..» — писал он отцу. Однако через несколько лет
оная любовь великого князя переменилась: Павел Петрович отправил его в отставку, определив местом «ссылки» Адмиралтейскую коллегию. Абрам Андреевич тем не менее оставил по себе стойкую добрую память: один из знакомцев Андрея Васильевича сообщал ему в письме про сына, что «каждый офицер, каждый солдат, житель, от мала до велика, с восхищением произносят имя его. <…> И самые начальствующие все преисполнены к нему почтением и любовью, как то: Алексей Андреевич Аракчеев. Григорий Григорьевич Кушелев <…> и все прочие».
В Адмиралтействе Абрам Андреевич пробыл недолго. В ноябре 1796 года скончалась государыня Екатерина II, и Павел стал императором. Он вновь призвал на службу своих проверенных гатчинцев, а среди них и опального гвардейца. В Голощапово к отцу тотчас полетело письмо: «<…> Имею честь поздравить вас с нашим милостивым императором, которого вступлением первое дело было изливать неисчётные всем милости. — Я опять не забыт. Меня вспомнил государь на четвёртый день вступления. Я взят к нему в адъютанты с чином полковника. Вчерашний день ввечеру я поздравлен, а севодни уже и вступил в должность. — Я ни у кого не в команде, кроме самого государя. — Брата Богдана также изволил взять к себе в адъютанты <…> и севодни послан курьер в Англию за ним нарочно. — Множество милостей для всех верноподданных излил преизобильно — рекруты уничтожены; хлеб отбирать не велено… и протчего много выгод для всего государства. — Теперь прошу вас, батюшка, просите Бога, чтоб Он укрепил меня и всех нас в подвиг, ибо Его неисповедимым промыслом всё нам делается. <…>
Аврам Боратынский».
Милости продолжали изливаться: вскоре Павел I пожаловал Авраму и Богдану Боратынским село Вяжлю на берегу одноимённой реки, притока реки Вороны, с двумя тысячами душ.
На следующий год император повелел генерал-майору Боратынскому «ехать <…> в Киев и Тульчин осмотреть, всё ли в порядке по предписаниям моим делается и всё ли исполняется, нет ли злоупотреблений». И также велено было — «равномерно привести часть Суворова в мирный обряд и распорядок». В Киеве, как вспоминает один из свидетелей этой проверки, «все вздрогнули»: «<…> ожидали видеть людоеда; тем приятнее все были изумлены, когда узнали сего почтенного, тогда ещё довольно молодого человека, благонамеренного, ласкового, с столь же приятными формами лица, как и обхождения. Казалось, он приехал не столько осматривать полки, сколько учить их новому уставу, и он делал сие с чрезвычайным усердием, с неимоверным терпением, как будто обязанный наравне с их начальниками отвечать за их исправность. Он охотно разговаривал о своём государе и благодетеле, уверяя всех в известной ему доброте его сердца, стараясь всех успокоить на счёт ужасов его гнева и чуть-чуть было не заставил полюбить его».
В Тульчине была на постое дивизия Александра Васильевича Суворова. Герой Измаила и многих победных походов, согласно жалобам и доносам, открыто не одобрял военные преобразования молодого государя и с издёвкой отзывался о новом уставе, составленном по прусскому образцу. Боратынский долго беседовал с легендарным полководцем и был покорён его личностью, широтой ума и любовью к Отечеству. Разумеется, молодой генерал не мог не знать о гневливом недоверии императора к дерзкому на язык Суворову, об интригах двора против фельдмаршала, беспощадного в правде, обличавшего в своих скоморошеских выходках горе-начальников без оглядки на их звания и чины. Но «благородная добросовестность» и «ангельское сердце» Абрама Андреевича были непоколебимы ничьими «установками». Ему не удалось справиться с предубеждением и подозрительностью императора, однако Боратынский, по рассказам адъютанта Суворова, «сожалел о судьбе, постигшей героя, и не в силах был, по-видимому, понять, что Суворов может быть отставлен от службы по наушничеству низких интриганов».
Так и продолжалось в его царской службе: добросовестности «мешало» благородство, а исполнительности —
ангельское сердце. Это не могло, рано или поздно, не столкнуться с необычной подозрительностью императора, который считал малейшее отклонение от исполнения его приказов преступным своеволием. Конфликт был неминуем. Осенью 1798 года, по рассказам очевидцев, государь, «будучи недоволен одним из лиц, близко стоявших ко двору, приказал генералу Баратынскому передать от его имени довольно резкую фразу». Абрам Андреевич, однако, уважал человека, навлекшего на себя высочайший гнев. Дальнейшее остроумно описал Алексей Песков: «Словом, пока Аврам ехал к достопочтенной особе, в уме его слова государя переставились так, что дошли до слуха сей особы в преображённом генерал-лейтенантской вежливостью образе. Когда же почтеннейший вельможа, возвысившись душой от любезного слова, отправился к государю благодарить за ласку, Павел пришёл в гнев и велел Аврама уволить». Последовал указ об отставке; в октябре Боратынский прибыл в родное Голощапово…
Все, кто помнил Абрама Андреевича, отмечали его необычайную мягкость обхождения и прирождённое благородство. «Кротость есть основа его характера, нужно как-то особенно раздражить его, чтобы вынудить переступить границы его миролюбивого нрава», — писала Е. И. Ланская в 1806 году неизвестному лицу
(перевод с французского).
Этими же качествами был наделён и его сын Евгений, — не иначе как передалось от отца…
Незадолго до отставки тридцатилетний генерал Боратынский, до предела загруженный службой и непрерывными разъездами, неожиданно для всех, а может и для самого себя, женился. Несмотря на видимую скоропалительность, брак оказался счастливым. Его избранницей стала Александра Фёдоровна Черепанова, фрейлина императрицы Марии Феодоровны. Будущая невеста воспитывалась в Институте благородных девиц Смольного (выпущена с высшей наградой) вместе с его сестрой, Марьей Андреевной, которую по-домашнему звали Машурок, Машурочек. Вероятно, она и познакомила брата со своей подругой, в которую он тут же влюбился.
В письмах домой той поры вполне зрелый по годам жених выглядит восторженным юношей — так он влюблён!
«11 декабря 1797 года. С.П.б.
Милостивый государь батюшка!
Я вам сообщаю новость. — Тут любопытно: какую? — Я не хочу долго томить вас. Я, я, я женюсь; и очень скоро уж сосватал, и по рукам ударили. <…> — Вы хотите знать, кто? — Вы её знаете: девица добрая, любезная, и такая, которая будет с нами всеми одна душа. Однако ж я ещё не сказал, кто такова? — Вы догадываетесь… отгадали. — Черепанова. — Дело совсем сделано. — Вчера представились государю и государыне. — Приезжайте, батюшка, скорее к нам. В исходе генваря брак наш совершится. <…>
Аврам Боратынский».
…И после венчания, когда он почувствовал в душе новую, неизведанную высоту:
«1 февраля 1798 года. С.П.б.
В 29-й день генваря совершилась судьба моя. Пред престолом самого Бога я клялся вечно соблюсти мой обет — я его не нарушу. — Я нашёл друга искреннего мне по сердцу моему. Я счастлив, батюшка! порадуйтесь благополучию преданного вам сына и благословите его хоть заочно. Она всем нам друг и будет вечно. — Третий день, как я вступил в сей священный союз, и вижу в себе уже великую перемену! Буйность пылких страстей исчезла; ещё в первый раз ощущаю тихое спокойствие в душе моей; дружество и любовь я ощущаю вместе, и каждая из них наперерыв даёт мне чувствовать моё счастие. — Примите, милостивый государь батюшка, вашу третию дочь, я надеюсь, что от вас она равную горячность и благословение получит со всеми нами. <…>
Аврам Боратынский».
Тут же приписано несколько слов рукой молодой жены: «При сем и я вам, милостивый государь батюшка, свидетельствую моё всенижайшее высокопочтение; рекомендую себя заочно вашей милости и остаюсь навек третья дочь ваша
Александра Боратынская».
Повторы в судьбах
Поразительны совпадения в судьбах Абрама Андреевича и его первенца Евгения Абрамовича, в их поведении и чувствах, — это не может не говорить о глубоком сходстве характеров отца и сына.
Того и другого жизнь занесла в Финляндию, причём в одни и те же места этого северного края — и не просто так, а на испытания.
Отец и сын совершенно одинаково женились — неожиданно и быстро, словно кто-то вёл их к этому. — И оба были счастливы в браке.
Тот и другой, — казалось бы,
сухопутные люди, одинаково сильно любили море. Разница лишь в том, что отец всё же попал в моряки и даже бился с неприятелем, а сын только лишь мечтал об этом, отроком в Пажеском корпусе, и наверняка бы пошёл в морскую службу, если бы мог позволить себе ослушаться матери…
Алексей Песков в своей книге-исследовании лучше всех уловил эту странную закономерность, повторившуюся во времени.
Сначала биограф словно бы примеривается к определению, пониманию этих удивительных совпадений:
«Судьба неизъяснимо играет человеками, сама прокладывая им пути и не надеясь на их самостоянье в сем мире. Откуда было знать Авраму, что она, испытуя его, на самом деле только ставит отметку у Роченсальма и Кюмени, чтоб не забыть, куда через тридцать лет завести старшего из Аврамовых сыновей? Она вообще любит всякие отражения и повторы, и коли кажется, что она искушает чем-то невиданным доселе, верить нельзя: всё, что предлагает она, испробовано ею по меньшей мере единожды. Быть может, судьбе не ведомо, что такое время. Быть может, ей угодно только (и не более) сверить, похоже ли ведут себя родственные души в одинаких местах — в семёновских ротах, в окрестностях Фридрихсгама, в Роченсальме или ещё где. Она играет в вас, не зная о быстротекущем времени, видя вас и вашего покойного родителя в одной точке бытия, в одном пространстве, на одной и той же скале. <…>
Как бы то ни было, ни Аврам в 790-м, ни сын его в 820-м не знали, что один и тот же роченсальмский берег был свидетелем их несчастий. Ибо как уведомиться, что будет через десять лет после вашей смерти или что было за десять лет до вашего рождения?»
А затем, через некоторое пространство книги, он снова возвращается к этим мыслям, чтобы подытожить:
«Аврам всегда мечтал о тихой нравственной жизни, о нежной подруге, и теперь ему недоставало только гнева государя да высылки из столицы; судьба расставляла флажки на карте его бытия, чтобы через 20–30 лет не тратить времени на обдумывание маршрутов старшего из Аврамовых сыновей, а между прочими заботами определять его в те места и те положения, кои уже размечены на сей карте. Полковая служба в нижних чинах, квартира близ Фонтанки в Семёновских ротах, унылый плен в Кюменской бухте против Роченсальмского маяка, визит в дом к Суворову, сама женитьба, скорая и внезапно решённая, сама жена, подруга нежная, чей образ Аврам не будет уметь оформить в нежном и благодарном слове, но это и не его дело, потому что слова Аврама были черновиком, обработанным твёрдой рукой его старшего сына. Ничего удивительного: судьбе дано только намечать общие контуры похожести: она может вовсе построить жизнь одного на повторах другого. Но она не всевластна над словом и душой и вынуждена идти на уступки, дав выговориться кому-то из них без всяких симметрий и отражений. Правда, и тут она всё старается о соблюдении буквальных, словесных совпадений, выплёскивая из нас по меньшей мере одинаковые междометия в одинаковых ситуациях и порой с облегчением видя, как мы, кажется, вполне вживаемся в её предначертания. И вот судьбе уже мнится, что Александрина Черепанова избрана Аврамом как прототип Настасьи Энгельгардт для первого Аврамова сына — Евгения, и едва обработав образ Александрины в душе Аврама, она откладывает свой труд до иных времён, чтобы при появлении перед лицом Евгения милой Настеньки докончить свою работу. И вот она уже знает, что и Евгений, едва женившись, тотчас чужую песню скажет и как свою её произнесёт: „Я женат и счастлив. Ты знаешь, как моё сердце всегда рвалось к тихой и нравственной жизни… и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастья“».
Скажем, наконец, и о последнем совпадении в судьбах отца и сына Боратынских: они закончили свой жизненный путь по сути в одном возрасте — в 43 и в 44 года…
Глава третья
В ПАЖЕСКОМ КОРПУСЕ
От письма до письма
В начале 1808 года в Вяжле было тревожно: пошли слухи, что с юга, из астраханских степей пришла в тамбовские края чумная зараза. Абрам Андреевич беспокоился за детей: мал мала меньше, а самый крохотный, Сергей, ещё не вышел из младенчества. Ко всему добавилось несчастье: в феврале у Александры Фёдоровны случились неудачные роды. Отец семейства, пропустив три почты, наконец всё же написал братьям Петру и Илье об этой беде: «…скажу вам истину, что это время я желал бы навсегда истребить из памяти моей…» и сообщил о жене, что только теперь она, слава Богу, немного пришла в себя.
Конечно, можно было отсидеться в усадьбе, переждать эпидемию, но в доме витало горе, и лучшим лекарством для забытья оставалась дорога, перемена места. «В соседстве у нас чума. Саратовская губерния вся заперта, и кордон многочисленный поставлен по всей границе, — писал он братьям. — Мы только дожидаемся весны и хотим ехать к батюшке, но не чума нас гонит; а хочется ему показать более сынов его. — И, может быть, ему и не удастся их ещё видеть по его слабости».
Абрам Андреевич и сам в последние годы всё больше хворал. «С виду он крепкого телосложения, но здоровьем вовсе не блещет и очень часто болеет», — заметила о нём в те годы подруга жены, Елизавета Ивановна Ланская. Может быть, предчувствуя недоброе, он и рвался к отцу в Голощапово — хотел, чтобы тот благословил внуков. Так и так пришла пора отправляться в дорогу: старшего сына надо было определять на учение…
Пожив у Андрея Васильевича в Голощапове-Подвойском, летом 1809 года семья перебралась в Москву. Поселились в Клённиках на Маросейке, в приходе церкви Николая Чудотворца. В конце ноября Абрам Андреевич писал родителю: «<…> так было сделался болен, что ещё и до сих пор с постели не схожу. Жестокая простуда сделала внутренний ревматизм».
24 марта 1810 года Абрам Андреевич Боратынский скоропостижно скончался; его похоронили на кладбище московского Спасо-Андроникова монастыря.
По смерти отставного генерал-лейтенанта два его старших сына, Евгений и Ираклий, были зачислены в Пажеский корпус с правом до времени оставаться в семье.
Не сохранилось никаких свидетельств о том, как десятилетний мальчик перенёс кончину своего горячо любимого отца. Не иначе как сильно горевал. Сирота утрачивает целый мир, жизнь его навсегда порушена. В благодатном семейном гнезде, где царили уют и любовь, образовалась чёрная, дышащая бездной дыра. О своих переживаниях отрок вряд ли кому рассказывал… Лишь однажды, уже в 14 лет, по случаю, в письме к матери он немного приоткрыл сердце:
«Любезная маменька. — С глубочайшей печалью мы узнали о смерти нашей бабушки. Я не имел счастия знать её, но если она была похожа на вас, как бы я должен был её любить! Я понимаю вашу печаль, но, любезная маменька, подумайте, что это закон природы. Мы рождаемся, чтобы умереть, и часом раньше или позже, но все равно надлежит покинуть навсегда этот крохотный атом, состоящий из праха и называемый землёй. Будем надеяться, что в ином мире мы сможем увидеть всех, кто был нам дорог здесь. Бог нас любит и, вероятно, не захочет ввергнуть нас после жизни, подверженной стольким ударам судьбы, в печальную вечность страданий. Мы отдали сегодня последний долг памяти нашей бабушки. Церковные церемонии полезны прежде всего для утешения сердца. Быть может, это заблуждение, но я верен этому заблуждению, ибо оно утешает меня в печалях. Прощайте, любезная маменька, желаю, чтобы эта потеря не слишком вас огорчала, но я осмеливаюсь просить вас забыть её, ибо знаю, как такие удары поражают чувствительное сердце. — Е. Боратынский»
(перевод с французского).
Последние строки, без всякого сомнения, воспоминание об отце. Это и признание о том, как его поразила, четырьмя годами раньше, утрата.
Юноша пытается выглядеть по-взрослому рассудительным — но невольно выдаёт своё сердце, говоря о страдании, неподвластном рассудку, о надежде на чаемую встречу в мире ином, предрекая свои стихи о
несрочной весне…
…Ребёнком,
Бубинькой, он вряд ли это ещё понимал. Конечно, и забывался в играх, чтении, подобно всякому дитяти…
Вот письмо «любезному Дядиньке», Богдану Андреевичу, относящееся к лету 1811-го, то есть год спустя после потери отца:
«Мы очень были обрадованы узнавши от тётиньки что вам получше и что вы уже катались в ваших дрожках; тётинька также сказывала что у вас есть прекрасные две лошади, я думаю что вам очень весело на них кататься <…>. Когда мы приехали в Вяжлю так нам показали всех ваших лошадей но как я вам стал рассказывать приключение приезда разкажу вам и отъезда как великий путешественник. Мы выехали из Москвы в 6 вечера по полудни и разположились: маминька и тётинька в карете, я и Mosieur Bories в колязке а маленькие дети в другой карете в брычке и двух повозках ехали постели и говядина и так мы выехали из Москвы. В сей день с нами ничего важного не случилось что от пыли только мы все чихали. Но как приехали на станцию то от хорошего куска курицы всё позабыли и так мы дотащились щастливо до Коломны. Когда мы выехали из Коломны то колесо у колязки начало танцавать так что на всяком шагу боялись упасть, впротчем дорога была щастлива. <…>».
Эта детская беззаботность разом улетучилась, когда весной 1812 года Бубиньку отвезли в Петербург и отдали в частный пансион Коллинса для подготовки к обучению в Пажеском корпусе. После родного семейного круга, привычной благодати взаимной любви на него повеяло холодом и чужетой от общества незнакомых подростков-сверстников. В первом же письме домой в Мару, куда вернулась Александра Фёдоровна с детьми, восторги столицей сменяются разочарованием от пансиона:
«<…> Ах, маменька, что за прелесть, Нева уже очистилась ото льда, сколько лодок и сколько парусников, сколько кораблей, но между тем, маменька, без вас всё кажется мне бесцветным, ибо когда я уезжал, я ещё не чувствовал всей печали, которую принесёт наша разлука, я не познавал её, но теперь, маменька, каково же различие. Петербург поразил меня красотой, всё вокруг кажется мне блаженствующим, но у всех здесь свои матери; я надеялся, что смогу радоваться с товарищами, но нет, каждый играет с другим как с игрушкою, без дружбы, без привязанности! Какое различие с тем, когда я был вместе с вами! <…> я надеялся обрести дружбу, но не обрёл ничего, кроме равнодушной и неискренней учтивости, кроме дружбы корыстной; когда у меня было яблоко или что другое, моими друзьями были все, но потом, потом всё как пропадало <…>»
(перевод с французского).
Отныне двенадцатилетний отрок живёт весточками из дому (к сожалению, письма Александры Фёдоровны сыну не сохранились). Общение с матерью становится для его души необходимейшей потребностью. Тут не просто обязательные эпистолы тоскующего по маменьке примерного сына — тут сердечный разговор, исповедальный по сути.
Лучше всего его душа сказалась тремя годами позже, когда Евгений дошёл до умения ясно и полно выражать свои чувства, но, конечно же, этими чувствами он жил с самого начала разлуки. Вот оно, то письмо, относящееся к апрелю — маю 1815 года:
«Любезная маменька. — Я прошу у вас тысячу и тысячу раз прощения за то, что столь долго не писал вам. Я постараюсь поправить свой проступок теперь и верю, что наша переписка никогда не прервётся. Вот уже весна, уже все улицы в Петербурга сухи, и можно гулять сколько угодно. Право, великая радость — наблюдать, как весна неспешно украшает природу. Наслаждаешься с великой радостью, когда замечаешь несколько пробившихся травинок. Как бы мне хотелось сейчас быть с вами в деревне! О! как ваше присутствие приумножило бы моё счастье! Природа показалась бы мне милее, день — ярче. Ах! когда же настанет это благословенное мгновение? Неужели тщетно я ускориваю его своими желаниями? Зачем, любезная маменька, люди вымыслили законы приличия, нас разлучающие? Не лучше ли быть счастливым невеждою, чем учёным несчастливцем? Не ведая того благого, что есть в науках, я ведь не ведал бы и утончённостей порока? Я ничего бы не знал, любезная маменька, но зато до какой высокой степени я дошёл бы в науке любви к вам? И не прекраснее ли эта наука всех прочих? Ах, моё сердце твердит мне: да, ибо эта наука счастья; вероятно, любезная маменька, вы скажете, что мои чувства обманчивы, что невозможно быть счастливыми, глядя только друг на друга, что скоро соскучишься. Я верю этому и повторяю это себе, но во мне говорит сердце — а оно безрассудно, всё это правда, но язык его так сладок… Это песнь Сирены. Прощайте, любезная маменька, будьте здоровы. Будьте так добры — позвольте купить мне лексиконы. Целую моих маленьких сестриц и братца. — Евгений Боратынский. <…>»
(перевод с французского).
«Наука любви к вам…» («la science de vous aimer») для него куда как важнее всех прочих наук, «ибо это наука счастья» («car c’est la science du bonheur»), В этих словесных формулах пятнадцатилетний юноша открыл и главное в самом себе — свою основу, свою душу, свой
камень веры.
…Первые же его письма из Петербурга, из пансиона, в который по сдаче экзаменов он поступил в мае 1812 года, были ещё полудетскими.
В столице его опекают двое дядюшек по отцу — Пётр Андреевич, генерал-майор, и Илья Андреевич, контр-адмирал, один холостяк, другой женатый; а помогают им разные тётушки — и родня, и маменькины подруги по Смольному. Ну а в их домах, разумеется, близкие по возрасту кузены и кузины… Пётр Андреевич даже явился на вступительный экзамен в пансион, дабы поддержать племянника. К одному из его писем домой весельчак дядюшка сделал шутливую приписку о том, как племянник учится музыке: «Что-то Бог даст нам, на скрипке играть начали, а охоты мало, охоту делаем. — Помолитесь хотя вы за нас, авось не услышит ли Бог ея и не пошлёт ли нам охоты?»
Дядюшка уже не величает его по-домашнему Бубинькой: Бубуша на глазах вырастал в Евгения. Братцам и сестрицам он шлёт в Мару подарки: Ашу — кораблик, Ваве — шлем, Софи и Саше — модные туфли и наказывает при этом, чтобы девочки «сделали побольше кукол — катать на корабликах». Маменьке же сообщает о том, что в пансионе после уроков состоялся бал и пришло много барышень; но пока не барышни его занимают, а забавное происшествие: как в разгар танцев лопнула струна у контрабаса и как у одной юной гостьи, танцующей экосез, порвались бусы и все кинулись подбирать, да больше пораздавили бусинок, чем подобрали… Он тоскует по лету в деревне и просит непременно рассказать, есть ли смородина в саду, как растут деревья и приведены ли в порядок дорожки.
Нашествие Наполеона, случившееся в июне 1812 года, похоже, не занимает подростка; впрочем, Петербург в стороне от военных действий, да и дядюшка Пётр, должно быть, успокаивал близких, что супостат далеко не продвинется… Евгения же, судя по письму, интересует другое: хорошо ли плавает посланный им кораблик: «Скажите Ашу, чтобы он не боялся пускать кораблик по воде, только надо прикреплять грузик к днищу, чтобы он не опрокинулся». Не иначе
море волнует его воображение: и парусники на Неве, и, должно быть, рассказы дядюшек о морских сражениях со шведами…
Что же до учения, то маменьке даётся полный отчёт в августовском письме 1812 года, писанном на этот раз по-русски:
«Любезная маменька. Вы мне говорите, чтоб я вам писал обо всём, что я учусь. Хорошо, я вам обо всём етом напишу. В географии теперь я скоро Европу кончу, а после каникулов начну Азию. Я всё хорошо отвечал на те земли, которые я учил, но как у нас очень сокращено, то в 3 месяца я её успел окончить. <…> В истории я начал с пунических войн, а по-немецки я могу кой-что переводить и начинаю говорить немного. По-французски я делаю переводы и сочинения на какой-либо предмет так же как по-русски, рисую же я головки и я стану рисовать в каникулы что-нибудь и вам пошлю, а в каникулы стану я учить геометрию и на скрыпке. <…>».
Чистосердечность или резонёрство?..
Биографы по-разному оценивали ранние письма Боратынского; впрочем, кто-то и вовсе не придавал им никакого значения, обходя стороной. В решительную кавалерийскую эпоху, когда не церемонясь рубили направо и налево, и не только
правду-матку (вторая половина 1930-х годов), филолог Ирина Медведева писала: «Облик Баратынского этого времени (имеется в виду обучение в пансионе. —
В. М.) довольно отчётливо вырисовывается в его письмах к матери. Это — маленький, избалованный резонёр». Согласно терминологии времён классовой борьбы «избалованными» называли исключительно барчуков, происходящих из сословия
угнетателей. «Резонёр» — тоже в общем ругательное слово, хотя и не с «классовым» оттенком. С этой, неоспоримой в советской науке оценкой не согласился в начале 1970-х финский учёный Гейр Хетсо. Он рассудил взвешенно, с присущей ему объективностью: «Конечно, в этих ранних письмах содержится немало книжных выражений, явно навеянных чтением французской литературы. Тем не менее было бы упрощением сказать, что письма Евгения показывают нам всего лишь „маленького, избалованного резонёра“. Не может быть сомнения в его искренности. Перед нами глубоко впечатлительный и чувствительный мальчик, попавший в чужой для него мир и находящийся в сотнях вёрст от материнской ласки. В этом чужом мире он больно переживает встречу с действительностью, жестоко убивающей его детское доверие к окружающим». Отсюда родом его разочарование и грусть, считает исследователь. В «романтических размышлениях о недоступности счастья и о расхождении идеала с действительностью уже вырисовывается образ будущего элегика, рано сетующего на то, что „всё хладный опыт истребил“».
Человек, его характер сказываются во всём — в любой подробности его жизни, в любом слове и поступке. В дитяти уже содержится взрослый, как в дубке раскидистый дуб. Взаимообусловленность детского и зрелого возраста — свойство цельной натуры, не изменяющей себе и своему назначению. Боратынский был именно такой натурой.
Любил мать, отца, родных, близких — и на всю жизнь остался верен этому чувству. Даже
дядьку-итальянца, много лет спустя его кончины, не забыл, сохранил как дорогое в душе.
Желал истинного счастья, предпочитая
науку любви всем учёным занятиям, — и не изменил себе. Был вознаграждён за это своей счастливой женитьбой, детьми.
Тянулся душой к морю — и хоть не служил моряком, как отец с его братьями, морю был обязан своим последним взлётом духа.
Даже, казалось бы, второстепенное: природа, сад-огород — и это стало важной частью его судьбы и жизни.
Что же до отроческого и юношеского «резонёрства», то вспомним, что слово это от французского глагола
raisonner — рассуждать; философствовать, умничать; обдумывать, — изначально никаких отрицательных значений не выражало, всё это потом «приклеилось». Сызмалу, вольно или невольно, он задумался о смысле жизни и сути бытия, словно был обязан разгадать эту неразрешимую тайну. Смолоду пытался выразить свои мысли. Вначале это, конечно, получалось с помощью чужих книжных слов, — но можно ли за это судить отрока или же не доверять его чистосердечности? Коли бы действительно вырос умничающим пустышкой или занудливым нравоучителем… однако кто больше его в зрелости сторонился скучных поучений и всякой позы.
А самая великая его тайна — поэтический дар. В юные годы почти незаметный, он вдруг разом проявился в молодости, словно за ночь вырос из какого-то таившегося до срока чудесного «зерна». И всё, что ни случилось в жизни, тут же ему пригодилось: и радости с печалями, счастливые мгновения и беды, очарования и разочарования, и непрестанные думы — всё преобразило вдохновенное воображение и отточило в поэтические формулы глубокий ум…
Под сводами Мальтийского дворца
31 августа 1812 года генерал-майор Пётр Андреевич Боратынский написал прошение в Пажеский Его Императорского Величества корпус: «Желая доставить благородному юношеству воспитание и обучение сына покойного брата моего генерал-лейтенанта Абрама Андреевича Боратынского Евгению, определённому по высочайшему повелению в оный корпус в пажи, <…> прошу <…> о принятии упомянутого сына покойного брата моего в число пансионеров на собственное содержание, с получением от меня <…> по пяти сот рублей в год <…>».
Конец августа — разгар Отечественной войны с наполеоновской ордой, вторгшейся на русскую землю: 26 августа наши войска бились на Бородинском поле. А днём позже в Пажеском корпусе состоялся досрочный выпуск: 38 пажей были произведены в офицеры и отправлены в действующую армию. Когда войско Наполеона покинуло сожжённую Москву, распустив слух, что собирается перезимовать в Смоленске, в Петербурге стало тревожно: не будет ли нападения? Но на самом деле французы с «двунадесятью народами» уже бежали. В Пажеский корпус, который чуть ли не хотели эвакуировать, стали набирать новичков.
Вскоре государь император «высочайше повелеть изволил поместить ныне в сей корпус» на «открывшиеся ваканции» более двадцати пажей — в числе их был и Евгений Боратынский. Среди новых товарищей, принятых вместе с ним, братья Павел и Александр Креницыны, Дмитрий Ханыков, с которыми он впоследствии подружился.
Пажеский корпус славился как одно из самых привилегированных военных учебных заведений, сам император Александр I дарил его своим вниманием и покровительством. «Право быть определённым пажем к высочайшему двору считалось особенной милостью и предоставлялось только детям высших дворянских фамилий. Кроме того, пажеский корпус в то время был единственное заведение, из которого камер-пажи, по своему выбору, выходили прямо офицерами в полки старой гвардии, куда стремилось всё высшее и почтеннейшее дворянство. При таких условиях поступление в пажеский корпус представляло значительные затруднения. — Пажеский корпус находился и в то время в числе военно-учебных заведений, причём состоял под начальством главного начальника этих заведений, но во многом резко отличался от них. Это был скорее аристократический придворный пансион. Пажи отличались от кадетов своим обмундированием: мундирное сукно было тонкое, вместо кивера они имели треугольную офицерскую шляпу и не носили при себе никакого оружия. Одни камер-пажи имели шпаги. Пажи не делились, как кадеты, на роты, — но на отделения. Вместо ротных командиров у них были гувернёры; вместо батальоного командира — гофмейстер пажей. Пажи часто требовались во дворец к высочайшим выходам. Их расставляли по обеим сторонам дверей комнат, чрез которые должна была проходить императорская фамилия», — вспоминал выпускник корпуса П. М. Дараган.
Он же описал тот блестящий дворец, в котором размещался Пажеский корпус:
«Бывший Мальтийский дворец, дом бывшего государственным канцлером при императрице Елисавете Петровне графа Воронцова, занимаемый пажеским корпусом, не был ещё приспособлен к помещению учебного заведения и носил все признаки роскоши жилища богатого вельможи XVIII столетия. Великолепная двойная лестница, украшенная зеркалами и статуями, вела во второй этаж, где помещались дортуары и классы. В огромной зале, в два света, был дортуар 2-го и половины 3-го отделений; в других больших трёх комнатах помещались другая половина 3-го и 4-е отделение <…>. Все дортуары и классы имели великолепные плафоны. Картины этих плафонов изображали сцены из Овидиевых превращений, с обнажёнными богинями и полубогинями».
В конце 1812 года новоиспечённый своекоштный пансионер писал в Мару:
«<…> Я теперь уже два месяца в пажеском корпусе. Меня екзаменовали и поместили в 4-й класс, в отделение же г-на Василия Осиповича Кристафовича. Ах, маменька, какой это добрый офицер, притом же он знаком дядиньке. Лишь только я определился, позвал он меня к себе, рассказал всё, что касается до корпуса, даже и с какими из пажей могу я быть другом. Я к нему хожу всякой вечер с другими пажами, которые к нему ходят. Он только зовёт к себе тех, которые хорошо себя ведут. <…> Географию я начал сызнова, перевожу с французского на русский и с русского на французский и с немецкого на русский. Российскую историю также теперь учу и прошёл три периода, а учу 4-ой царствование великого князя Юрия 2-го Всеволодовича, также начал я геометрию. Встаём мы в 5 часов, а в ½ 6-го на молитву до 6-ти, потом к чаю до ½ 7-го, в классы в 7 до одиннадцати, в 12 обедать, а потом в классы от 2-х до 4-х, в 7 часов и в 8 часов ложимся спать. <…> Прощайте, любезная маменька, будьте здоровы. Целую братцев и сестриц. Остаюсь вас много любящий сын Евгений Боратынский».
Не желая, видимо, огорчать Александру Фёдоровну, «много любящий сын» молчал о том, что он с самого начала учения очутился в довольно нелепом положении. В пансионе его увлекали рисование и математика, а вот в знании немецкого он так мало продвинулся, что его приняли лишь в четвёртый класс (младшим классом был 7-й, а выпускным 1-й), где ему пришлось учиться не со сверстниками, а с детьми на два-три года моложе. Наверное, от этого ему было не по себе; к тому же малолетки гораздо хуже знали другие предметы. Учиться с ними было и обидно, и неинтересно, да и в товарищи они не годились…
Уровень обучения в Пажеском корпусе отнюдь не отвечал великолепию залов Мальтийского дворца. Его директор, или по официальному названию главнокомандующий, Ф. М. Клингер, по натуре чиновник, странным образом сочетавший это с писательством, явно не
годился в педагоги. По воспоминаниям, это был жёлчный, угрюмый, педантично строгий человек, которого пажи и кадеты никак не занимали. В ответ воспитанники прозвали грубого и неповоротливого директора
белым медведем. «Снисхождение и ласковое обращение с питомцами были чужды его сердцу; дети боялись его», — писал в мемуарах один из бывших учеников, К. Зендергорст.
Согласно уставу корпуса, провинившихся секли розгами, причём не «втайне», но всегда в присутствии директора и при всех офицерах и воспитанниках, вдобавок наказанный должен был ещё и благодарить своих мучителей. Всё это жестоко било по самолюбию гордых дворянством подростков. Как-то один из пажей, самовольно покинувший корпус благодаря записке, написанной им самим от имени родственника, был разоблачён. Его высекли при товарищах по учёбе, унизив и оскорбив всех до единого.
Между тем Клингер, сам же сочинивший этот устав — «регламент», провозглашал в нём гуманное обращение с пажами. «<…> Домострой и Руссо уживались рядом, — замечает по этому поводу Гейр Хетсо, — но вредность такой воспитательной практики очевидна. С одной стороны, жестокие наказания в духе Домостроя приводили воспитанников в отчаяние, с другой стороны, свободное воспитание в духе Руссо делало учителей равнодушными».
По свидетельству барона А. Е. Розена, учителя довольствовались «безотчётным послушанием страха ради». Выпускник Пажеского корпуса А. С. Гангеблов вспоминал, как безучастно и бездушно педагоги обращались со своими воспитанниками: «Никогда не заводили они интимных с воспитанниками бесед о том, что ожидает их вне школы; не интересовались направлением их наклонностей, не заглядывали в те книги, которые видели в их руках; да если б и заглянули в которую либо из них, то едва бы сумели определить, насколько содержание её полезно и вредно. К тому же, как скоро, в 10 часов вечера, дежурный наставник „обошёл рундом“ дортуары, то считал своё дело законченным и преспокойно отправлялся к себе на квартиру, вне главного здания корпуса. Дежурный по корпусу тоже уходил на свою половину. Таким образом, на ночь воспитанники предоставлялись самим себе, и тут-то начинались разные проказы. То являлись привидения (половая щётка с маскою наверху и накинутою простынёю), то затевались похороны: тут и поп в ризе из одеяла с крестом из картона, с бумажным кадилом, тут и дьячок и певчие: они подкрадываются к кому-нибудь из своих souffrédouleurs <жертв>, берутся молча за ножки его кровати, и процессия отправляется в обход дортуаром. Чаще всего после рунда подымалась война подушками. Дежурный инвалидный солдат боялся: пожалуй, ещё побьют».
Впрочем, молодые отпрыски древних дворянских родов отнюдь не уважали своих незнатных, малообеспеченных и неудачливых по жизни педагогов, частенько нерях и пьяниц. Большей частью воспитатели и обучали неважно, отбывая свою службу как неприятную повинность, за что, бывало, и сами подвергались мстительной детской издёвке. П. М. Дараган вспоминал, что науки преподавались без всякой системы. «Из класса в класс пажи переводились по общему итогу всех баллов, включая и баллы за поведение, и потому нередко случалось, что ученик, не кончивший арифметики, попадал в класс прямо на геометрию и алгебру. В классе истории рассказывалось про Олегова коня и про то, как Святослав ел кобылятину. Несколько задач Войцеховского и формулы дифференциалов и интегралов, вызубренные на память, составляли высшую математику. Профессор Бутырский учил русской словесности и упражнял нас в хриях и других риторических фигурах <…>. Чиновник горного ведомства Вольгсмут читал нам физику — но также без системы и не умея придать ей никакого интереса. Почти каждый класс его начинался тем, что пажи окружали его и просили, чтобы в следующий класс он показал фокусы. Вольгсмут сердился, говорил, что это не фокусы, а физические опыты. Пажи не отставали, пока он не соглашался, с условием, чтобы на необходимые для этого издержки было приготовлено 3–5 рублей. Эти деньги собирались складчиной, но не иначе, как медными. Когда на следующий класс являлся Вольгсмут с пузырьками и машинками, пажи сыпали на стол свои пятаки, а он, краснея, конфузясь, торопливо собирал их, завязывал в платок и прятал в угол кафедры».
Подобный случай описывает А. С. Гангеблов: «Даже и священника не щадили, <…> он диктует, мы пишем, повторяя вполголоса последнее его слово, как бы давая знать, что оно уже написано. Например, он произносит: „Во спасение души“, — „…души, батюшка, души“, — повторяют пишущие, возвышая голос. Или: „беседование с Богом“. — „С Богом, батюшка, с Богом“, — как бы напутствуя священника, чтобы он шёл домой».
Книги, шалости и рифмы
В письмах к матери, что относятся к первым годам в Пажеском корпусе, Боратынский не рассказывает ни о превратностях обучения, ни о проделках сотоварищей. Вероятно, как примерный и послушный сын, он не желает понапрасну тревожить маменьку, которой и так хватает забот с малыми детьми. Лишь в одном из писем тринадцатилетний подросток не без иронии замечает, говоря о выпускниках 1813 года, что «ещё не выучившие четырёх правил арифметических действий могут стать офицерами, лишь бы им исполнилось 17 лет» (
перевод с французского). Про остальное молчит: то ли оно мало его интересует, то ли считает ерундой, не достойной внимания.
Похоже, куда как больше его занимает чтение новых книг, которые будят ум, фантазию, воображение. В бывшем Мальтийском дворце роскоши с избытком, но нет библиотеки, книгочеям приходится сидеть на голодном пайке. И Евгений просит у маменьки книг: «<…> пришлите мне историю России, которую вы мне подарили, маленького Грандиссона, Сендфорда и Мертона и идиллии <…>»
(здесь и далее — перевод с французского); «Вы хотите, любезная маменька, прислать мне „Юных изгнанников“, но это лишнее, ибо я уже читал их три, а может быть, даже четыре раза» (август 1814 года).
Кстати, в этом последнем письме он по-книжному высокопарно, но, видимо, вполне искренне отдаёт дань воображению и надежде как лучшим дарам, «коими нас наградил Всевышний»: «Воображение поддерживает нас в несчастьях, в разлуке; надежда вскоре увидеть предмет наших желаний сокращает время, которое мы проводим вдали от него». Всё это он относит к маменьке. «Желал бы я, чтоб какой-нибудь добрый волшебник заколдовал меня, и мне вечно бы казалось, будто я нахожусь подле вас».
…Лишь десять лет спустя, в письме Василию Андреевичу Жуковскому, Боратынский впервые поведал о том, как тягостно было ему, привыкшему к родному дому, к любви и пониманию, входить в чужую — холодную и равнодушную — среду Пажеского корпуса. Впрочем, то письмо, декабря 1823 года, он сам называл
исповедью:
«<…> В судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное. И это служит главным и общим моим оправданием: всё содействовало к уничтожению хороших моих свойств и к развитию злоупотребительных. Любопытно сцепление происшествий и впечатлений, сделавших меня, право, из очень доброго мальчика почти совершенным негодяем. — 12 лет вступил я в Пажеский корпус, живо помня последние слёзы моей матери и последние её наставления, твёрдо намеренный свято исполнять их, и, как говорится в детском училище, служить примером прилежания и доброго поведения. — Начальником моего отделения был тогда некто Кр<истафо>вич (он теперь уже покойник, чем на беду мою ещё не был в то время), человек во всём ограниченный, кроме страсти своей к вину. Он не полюбил меня с первого взгляда и с первого дня вступления моего в корпус уже обращался со мною как с записным шалуном. Ласковый с другими детьми, он был особенно груб со мною. Несправедливость его меня ожесточила: дети самолюбивы не менее взрослых, обиженное самолюбие требует мщения, и я решился отмстить ему. Большими каллиграфическими буквами (у нас был порядочный учитель каллиграфии) написал я на лоскутке бумаги слово
пьяница и прилепил его к широкой спине моего неприятеля. К несчастию, некоторые из моих товарищей видели мою шалость и, как по-нашему говорится, на меня доказали. Я просидел три дня под арестом, сердясь на самого себя и проклиная Кр<истафо>вича. — Первая моя шалость не сделала меня шалуном в самом деле, но я был уже негодяем в мнении моих начальников. Я получал от них беспрестанные и часто несправедливые оскорбления; вместо того чтобы дать мне все способы снова приобрести их доброе расположение, они непреклонною своею суровостию отняли у меня надежду и желание когда-нибудь их умилостивить <…>».
Большинство исследователей сомневались в правдивости жёстких слов Боратынского, сказанных Жуковскому о Кристафовиче, тем более что в первом письме матери из Корпуса (декабрь 1812 года) он сам называл своего воспитателя «добрым офицером». Однако, по мнению Г. Хетсо, который глубже всех «копнул» историю их взаимоотношений, противоречия нет, и Боратынский отнюдь не лукавит ни нарочно, ни по забывчивости. Его рассказ подтверждается воспоминаниями Михаила Креницына, который со слов однокашника повествует, что «при самом поступлении в школу маленький Евгений, невзлюбив своего командира, приклеил ему на спине лоскут с надписью „Пьянчуга“ (NB. Покойный капитан точно был ретивый любитель даров Вакха)».
По всей видимости, всё говорит о том, что столкновение и произошло —
при самом поступлении в Пажеский корпус. Вероятно, матери было доложено о происшествии: недаром спустя два месяца по поступлении в Корпус сын начинает письмо к ней со слов: «Мне прискорбно слышать, что я имел нещастие вас огорчить, но впредь я буду исправнее». Видимо, к этому времени отношения наладились: Кристафович отзывается в кондуитных списках о Боратынском: поведения хорошего, нрава хорошего, штрафован не был.
Внешне, со стороны — первый год в Пажеском корпусе прошёл у него довольно благополучно: учителя довольны воспитанником, по экзамену 1813 года паж Боратынский «за успехи в науках и добронравие удостоился получить награждение».
Осенью 1814 года Боратынский с нетерпением ждал, когда же дядюшка Пётр Андреевич привезёт из Мары его младшего брата Аша — Ираклия. Наконец в Петербурге появляются и Аш, и Вавычка — Лев: оба определены в один из пансионов. Братья Боратынские вместе гостят в праздники и каникулы у дяди Пьера. Казалось бы, Евгению уже не так тоскливо в Корпусе и учение по нраву: дядюшка «по своей доброте» нанял учителя математики, и сын спешит сообщить маменьке, что «уже преуспел в этой науке». Но, оказывается, далеко не спокойно у него на душе. Он провалился на экзаменах в 3-м классе. Гувернёры — капитан Николай Антонович Мацнев и подполковник Франц Егорович Де Симон то и дело отмечают в помесячных кондуитных журналах: «поведения и нрава дурного», «штрафован», «нрава скрытного».
Возможно, именно к этой поре относится его позднее признание Жуковскому: «<…> — Между тем сердце моё влекло к некоторым из моих товарищей, бывших не на лучшем счету у начальства; но оно влекло меня к ним не потому, что они были шалунами, но потому, что я в них чувствовал (здесь нельзя сказать замечал) лучшие душевные качества, нежели в других. Вы знаете, эти резвые мальчики не потому дерутся между собою, не потому дразнят своих учителей и гувернёров, что им хочется быть без обеда, но потому, что обладают большею живостию нрава, большим беспокойством воображения, вообще большею пылкостию чувств, нежели другие дети. Следовательно, я не был ещё извергом, когда подружился с теми из моих сверстников, которые сходны были со мною свойствами; но начальники мои глядели на это иначе. Я не сделал ещё ни одной особенной шалости, а через год по вступлении моём в корпус они почитали меня почти чудовищем. — Что скажу вам? Я теперь ещё живо помню ту минуту, когда, расхаживая взад и вперёд по нашей рекреационной зале, я сказал сам себе: буду же я шалуном в самом деле! Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу, мне казалось, что я приобрёл новое существование».
Нечто творится в нём новое, важное. В сентябре — октябре 1814 года он пишет матери: «Наш экзамен закончен. Я остался в том же классе. Я ужасно раздосадован тем, что не получил награждения, как в прошлом году, но вы знаете, что награждают отнюдь не всегда. Надеюсь, однако, отличиться в следующем году. Нынче же, в минуты отдохновения, я перевожу и сочиняю небольшие пиесы и, по правде говоря, ничто я не люблю так, как поэзию. Я очень желал бы стать автором. В следующий раз пришлю вам нечто вроде маленького романа, который я сейчас завершаю. Мне очень важно знать, что вы о нём скажете. Если вам покажется, что у меня есть хоть немного таланта, тогда я буду стремиться к совершенству, изучая правила» (
перевод с французского).
Кто из дворянских отроков не баловался рифмой!.. И Евгению, по преданию, доводилось сочинять лёгкие французские стишки, — но всё же это очень неожиданное признание, — по крайней мере прежде и намёков на такое не было:
…ничто я не люблю так, как поэзию. Я очень желал бы стать автором…
Поэтом — не осмеливается сказать; должно быть, не столько понимая, сколько предчувствуя,
что это такое…
«Истинно, маменька, но мне приходилось видеть русские переводы, которые были выполнены столь плохо, что я не мог постичь, как автор решился вынести на суд публики такие глупости, да ещё, торжествуя своё бесстыдство, выставил под ними своё имя. Без тщеславия уверяю вас, что я сумел бы перевести лучше. Чтобы дать вам о том понятие, скажу, что французское: Il jetait feu et flame, он перевёл: Огнём и пламенем рыкал. Что прекрасно по-французски, весьма дурно по-русски, а уж это выражение — самое нелепое, какое я когда-либо видел. Простите моё злословие в адрес этого несчастного, но мне хотелось бы, чтобы он услышал всё, что о нём говорят, и чтобы у него пропала охота мучить наш слух истинно варварскими выражениями. Впрочем, как настоящий французский журналист, я пишу вам здесь целую сатиру на дурных авторов. Простите, любезная маменька, я знаю, что мне ещё не пристало быть судьёю в искусстве, где сам я пока новичок, но мне всегда казалось, что своей матери можно высказывать всё, что думаешь, не опасаясь выглядеть нескромным» (
перевод с французского).
Где-то в глубине души юноша Боратынский начинает осознавать истинного себя, но он ещё далеко не уверен в собственном даровании, без которого — и он это уже знает — в литературе делать нечего.
Книги он глотал одну за другой — французские,
романтические. А что вокруг, в Корпусе? — Отупляющая рутина, глупая зубрёжка, может быть, никому не нужных сведений… Книжные герои блистали феерией страстей, подвигов, и всё это казалось правдой, — так оно и должно было быть в
настоящей жизни. Не оттого ли и металась его душа…
Грёзы о море
Вскоре, через месяц он пишет матери одно, а затем и другое письмо, где, увлечённый новой идеей, вроде бы расстаётся со своим желанием авторства:
«Осмелюсь ли вновь повторить свою просьбу, до мореплавания относящуюся? Умоляю вас, любезная маменька, согласиться на эту милость. Мои блага, вам столь дорогие, как вы сами говорите, требуют этого неотменно» (
здесь и далее — перевод с французского).
Он понимает: маменька ошарашена, коли не ответила на первую просьбу. И юноша бросает в бой, словно бы уже участвует в морском сражении, все что ни на есть
убедительные доводы, всё своё умение рассуждать:
«Я знаю, что должно выдержать вашему сердцу, видя меня на службе столь опасной. Но скажите мне, знаете ли вы место во вселенной, вне царства Океана, где жизнь человека не была бы подвержена тысяче опасностей, где смерть не похищала бы сына у матери, отца, сестру? всюду ничтожное дуновение способно сломать хрупкую пружину, которую мы называем бытием. Что бы вы ни говорили, любезная маменька, есть вещи, подвластные нам, а управление другими поручено Провидению. Наши действия, наши мысли зависят от нас самих, но я не могу поверить, что наша смерть зависит от выбора службы на земле или на море. Как? возможно ли, чтобы судьба, определившая исход моему поприщу, исполнила свой приговор на Каспийском море и не сумела бы настичь меня в Петербурге? Умоляю вас, любезная маменька, не приневоливать мою страсть. Я не мог бы служить в гвардейцах: их слишком щадят. Когда бывает война, они ничего не делают и пребывают в постыдной праздности. И вы называете это жизнью! Нет, ничем не смущаемый покой — это не жизнь. Поверьте, любезная маменька, можно привыкнуть ко всему, кроме покоя и скуки. Я бы избрал лучше полное несчастие, чем полный покой; по крайней мере живое и глубокое чувство обняло бы целиком душу, по крайней мере переживание бедствий напоминало бы о том, что я существую. И в самом деле, я чувствую, мне всегда требуется что-то опасное, всего меня захватывающее; без этого мне скучно».
И, наконец, вершина его мореплавательной мечты:
«Вообразите, любезная маменька, неистовую бурю и меня на верхней палубе, словно повелевающего разгневанным морем, доску между мною и смертью, чудищ морских, поражённых дивным орудием, созданием человеческого гения, властвующего над стихиями. А после… я буду писать к вам сколь возможно часто обо всём, что увижу прекрасного. <…> Любезная маменька, понимаете ли вы, в чём состоит моё счастье? неужели вы останетесь безучастны к нему? Не могу поверить этому. И даже если мне предназначено судьбой погибнуть на море через несколько лет, до этого я успел бы вас повидать и насладиться этим счастьем. Мгновения радости, счастья — не лучше ли это вереницы скучающих лет?»
А вот и отказ от
авторства:
«Итак, любезная маменька, надеюсь, вы не откажете мне в милости. Вы говорите, что вас радует моя тяга к плодам ума человеческого, но признайтесь, что нет ничего смешнее юноши, изображающего собой педанта и возомнившего себя автором оттого, что перевёл две-три страницы из „Эстеллы“ Флориана, сделав тридцать орфографических ошибок, — перевёл надутым слогом, который ему самому кажется живописным, — юноши, считающего себя вправе всё бранить и не способного ни оценить, ни почувствовать красот, которыми восхищается, да и восхищается он потому только, что другие считают их превосходными. Он восторженно хвалит то, чего сам никогда не читал. Истинно так, любезная маменька, у меня именно этот порок, и я стараюсь избавляться от него. Часто я хвалил „Илиаду“, хотя читал её ещё в Москве, и в столь нежном возрасте, что не умел не только почувствовать её красоты, но даже понять содержание. Я слышу, что все хвалят её, и вторю, как обезьяна. Я заметил, что многие люди, не обременяющие себя мыслями и имеющие обо всём лишь мнения, принятые в обществе, не выключая и мою персону, весьма похожи на болванчиков, приводимых в движение пружинами, скрытыми внутри их тел».
Понятно, что четырнадцатилетний Боратынский отказывается не от авторства вообще, а только — от скверных переводов, находя это мелкой самолюбивой суетою, которой по легковерному недомыслию на время поддался и сам. Его ум разоблачил самообман, эту смерть при жизни. —
Лучше полное несчастие, чем полный покой.
К этой осени относится и словесный портрет Евгения Боратынского, что оставил тогдашний новоиспечённый паж Михаил Креницын: «Евгений <…> с первой встречи оказал мне большое дружелюбие. В рекреацию, бродя в задумчивости по зале и скучая, увидел я у колонны стройную фигуру бледного юноши моих лет, в поношенном вицмундире. Лицо его в волнистых, взбитых слегка кудрях поразило меня необычным выражением. С нежной томностью и благородством истинно-поэтическим соединяло оно какую-то затаённую лукавость, игравшую порой на устах довольно явно. Можно сказать, что второе выражение, сменяя первое, вслед ему как бы подмигивало и смеялось. Но резкие эти смены не являли ничего неприятного, а, скорее, привлекали».
Гейр Хетсо высказывает вполне обоснованное предположение, что не только давняя любовь к морю послужила причиной его вдруг вспыхнувшего стремления перевестись на морскую службу. Боратынский, по его мнению, сам смутно предчувствовал ту «трагическую развязку», что произошла в феврале 1816 года… Он, конечно, не дождался от матери разрешения стать моряком — и взамен ему как бы приходится искать «бури» внутри Корпуса…
Действительно, всё к этому шло: слишком велико было смятение в его душе, которую раздирали самые противоречивые желания. Он жаждал свободы — и оттого ещё пуще ненавидел Пажеский корпус; рвался к самоутверждению — но натыкался на препоны. В роли покорного сына и послушного пажа Боратынскому уже было невыносимо тесно…
Глава четвёртая
КАТАСТРОФА
Пажи-разбойники
Мальчики, с которыми сошёлся Боратынский, были пажи Дмитрий Ханыков, братья Павел и Александр Креницыны и Лев Приклонский. Каждый из них не отличался примерным поведением и спокойным нравом: если о Боратынском писали в кондуитных списках — «скрытен», то про Ханыкова — «весел», а про Креницыных — «вспыльчивы». Всем опротивели неволя и зависимость в Пажеском корпусе, офицеры-гувернёры казались не иначе как тиранами. Выход, наверное, подсказала увлекательная книга Шиллера о разбойниках: по её образцу и составилось в Корпусе
общество мстителей.
Позже, в письме декабря 1823 года Жуковскому Боратынский признавался: «Мы имели обыкновение после каждого годового экзамена несколько недель ничего не делать — право, которое мы приобрели не знаю каким образом. В это время те из нас, которые имели у себя деньги, брали из грязной лавки Ступина, находящейся подле самого корпуса, книги для чтения, и какие книги! Глориозо, Ринальдо Ринальдини, разбойники во всех возможных лесах и подземельях! И я, по несчастью, был из усерднейших читателей! О, если б покойная нянька Дон-Кишота была моею нянькой! С какою бы решительностью она бросила в печь весь этот разбойничий вздор, от которого охладел несчастный её хозяин! Книги, про которые я говорил, и в особенности Шиллеров Карл Моор, разгорячили моё воображение; разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно-беспокойный и предприимчивый, я задумал составить общество мстителей, имеющее целию сколько возможно мучить наших начальников. <…> Нас было пятеро. Мы сбирались каждый вечер на чердак после ужина. По общему условию ничего не ели за общим столом, а уносили оттуда все съестные припасы, которые возможно было унести в карманах, и потом свободно пировали в нашем убежище. Тут-то оплакивали мы вместе судьбу свою, тут выдумывали разного рода проказы, которые после решительно приводили в действие. Иногда наши учители находили свои шляпы прибитыми к окнам, на которые их клали, иногда офицеры наши приходили домой с обрезанными шарфами. Нашему инспектору мы однажды всыпали толчёных шпанских мух в табакерку, отчего у него раздулся нос; всего пересказать невозможно. Выдумав шалость, мы по жеребью выбирали исполнителя, он должен был отвечать один, ежели попадётся; но самые смелые я обыкновенно брал на себя, как начальник <…>».
Ирина Медведева находила, что Боратынский преувеличил свою роль организатора общества мстителей. Однако Гейр Хетсо не согласен с ней: по его мнению, отнюдь не в интересах Боратынского было преувеличивать свою виновность в том полуофициальном письме, от которого зависело его будущее. К тому же среди
мстителей он был самым старшим…
Последним приняли в общество Льва Приклонского, сына камергера. У того всегда водились деньги, и немалые. Никто не мог поверить, что тринадцатилетнему отроку дома выдают по сто-двести рублей в неделю на карманные расходы. Вскоре вызнали правду: смышлёный паж попросту подобрал ключ к бюро своего отца, «где большими кучами лежат казённые ассигнации», и всякий раз брал себе по нескольку бумажек. «Чердашные наши ужины стали гораздо повкуснее прежних: мы ели конфеты фунтами; но блаженная эта жизнь недолго продолжалась» (Боратынский — Жуковскому).
Однажды паж Приклонский собрался в Москву повидаться с матерью — прощаясь, оставил ключ товарищам, сказав им «с самым трогательным чувством»: «Возьмите, он вам пригодится».
«И в самом деле он нам слишком пригодился!» — восклицает Боратынский.
Ханыков как родственник был вхож в дом камергера, а Боратынского хозяин сам как-то пригласил прийти.
Мстители, приунывшие без роскошных закусок на чердаке, решили воспользоваться ключом. Боратынский и Ханыков отправились в дом Приклонского; остальные дожидались в лавке. «Мы выпили по рюмке ликёра для смелости и пошли очень весело негоднейшею в свете дорогою. — Нужно ли рассказывать остальное? Мы слишком удачно исполнили наше намерение; но по стечению обстоятельств, в которых я и сам не могу дать ясного отчёта, похищение наше не осталось тайным и нас обоих выключили из корпуса с тем, чтоб не определять ни в какую службу, разве пожелаем вступить в военную рядовыми». (Из того же письма Жуковскому.)
Это произошло на Масленицу, 19 февраля, в день шестнадцатилетия Боратынского, — возможно, и деньги-то понадобились затем, чтобы отметить день рождения весёлым пиром.
22 февраля директор Корпуса генерал-лейтенант Ф. Клингер отправил на имя императора рапорт о краже двумя пажами у камергера Приклонского черепаховой в золотой оправе табакерки и пятисот рублей: «Пажи сии по приводе их в Корпус, посажены будучи под арест в две особые комнаты, признались, что взяли упомянутые деньги и табакерку, которую изломав, оставили себе только золотую оправу, а на деньги накупили разных вещей на 270, прокатали и пролакомили 180, да найдено у них 50 рублей, кои вместе с отобранными у них купленными вещами возвращены г. камергеру Приклонскому. По важности такого проступка пажей Ханыкова и Баратынского, из коих первому 15 лет, а другому 16 лет отроду, я, не приступая к наказанию их, обязанностью себе поставляю Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше о сем донести».
За Ханыкова тут же вступилась его тётушка, умоляя камергера простить племянника. Приклонский сам проклинал себя, что сообщил о пропаже, ведь обнаружилось, что и его сын замешан в истории. Камергер слёзно просил статс-секретаря А. Н. Голицына, к которому поступил рапорт Ф. Клингера, «пощадить несчастных пажей». (Спустя год обнаружилось, что камергер Приклонский растратил казённые деньги, за что его отдали под суд.) Однако по своей исключительности дело не могло уже миновать государева решения.
Биограф Алексей Песков замечает, что обычно подобные проступки карались сурово: так, кадетов С. Карновича и А. Мерлина, укравших в этом же 1816 году «51 пару казённых чулок», высекли розгами на виду кадетского корпуса и отдали в рядовые; юнкер С. Абаза за буйство, побои и «грубости» вышестоящим осенью того же года был порот и разжалован в солдаты. Нечто похожее с историей о деньгах и табакерке случилось несколько позже и в Пажеском корпусе, но «тайное общество» Александра Креницына —
квилки — заступилось за пажа Павла Арсеньева и спасло его от унизительной порки прямо перед началом экзекуции. Креницына и Арсеньева разжаловали в солдаты, причём Арсеньева вдобавок лишили дворянства. «На этом фоне, — заключает А. Песков, — наказание, определённое Александром I Боратынскому и Ханыкову, можно считать очень мягким: они избежали лишения дворянства, телесного наказания и принудительной отдачи в солдаты».
Кража есть кража, тем более такая серьёзная. И поныне за такой проступок строго наказывают в любом военном учебном заведении. Однако некоторым исследователям жизни Боратынского решение императора показалось излишне жестоким. Гейр Хетсо рассудил иначе: жестокость императора он видит «не столько в самом решении исключить Баратынского из корпуса, сколько в затянувшемся сроке его реабилитации».
25 февраля князь Голицын приписал на рапорте Клингера, что государь «<…> Высочайше указать соизволил Ханыкова, Баратынского, исключив их из Пажеского корпуса за негодные их поступки, отдать их родственникам с тем, чтобы они не были принимаемы ни в гражданскую, ни в военную службу, разве захотят заслужить свои проступки и попросятся в солдаты, в таком случае дозволяется принять в военную службу».
Поначалу, пока разбирались с ними, Боратынский и Ханыков ещё оставались в Корпусе. Но все пажи отвернулись от них, вспоминал П. Дараган. «К Баратынскому приставали мало, оттого ли, что считали его менее виновным или оттого, что мало его знали, так как он был малосообщителен. Но много досталось Ханыкову».
13 марта во все ведомства ушёл циркуляр об императорском решении касательно «пажей Дмитрия Ханыкова и Евгения Баратынского». — «О таковой Высочайшей воле я рекомендую Инспекторскому Департаменту объявить циркуляр по армии. Дежурный генерал Закревский». Департамент отпечатал текст огромным тиражом в 2400 экземпляров — как правительственный документ, а затем разослал во все полки. Государственная машина работала чётко: то же самое решение поступило и во все гражданские канцелярии. За провинившимися пажами было оставлено лишь одно право — самим выбрать полк, если пожелают идти в солдаты…
К середине марта Евгения Боратынского уже отчислили из Пажеского корпуса — и он был
сдан на руки своему дядюшке Петру Андреевичу…
«Не смею себя оправдывать…»
«Он споткнулся на той неровной дороге, на которую забежал потому, что не было хранителя, который бы с любовью остановил его и указал ему другую; но он
не упал! Убедительным этому доказательством служит ещё и то, что именно в такое время, когда он был угнетаем и тягостною участию, и ещё более тягостным чувством, что заслужил её, в нём пробудилось дарование поэзии. Он поэт!» — так добросердечно и мудро рассудил Василий Андреевич Жуковский о происшедшем с Евгением Боратынским.
Некоторые из исследователей впоследствии оправдывали проступок юноши, не находя тут особой вины; другие, напротив резко осуждали его, говоря о «глубокой нравственной распущенности». Конечно, воспитывать как следует своих питомцев в Пажеском корпусе не умели, да и не стремились, — карать проще, чем предупреждать проступки. Гейр Хетсо соглашался с К. В. Пигаревым, утверждавшим, что всё, по сути, произошло из-за казёнщины в воспитании и надзоре: никто не помог мальчику-сироте пройти трудный переходный возраст.
Николай Путята как-то заметил, что это было «минутное нравственное омрачение» — и оно не может затмить светлые стороны личности поэта.
Сам Боратынский не сделал ни малейшей попытки оправдать себя. Ни во время разбирательства, ни впоследствии — никогда. Более того, осудил себя — признавшись Жуковскому, что «<…> много сделал негодного по случаю». — «Но, — добавил тут же, — всегда любил хорошее по склонности».
Больше всего шестнадцатилетнему юноше было совестно перед матерью. Он и прежде винился перед ней в письмах за своё поведение и старался его выправить, чтобы маменька не тревожилась за него. А тут уже было — и в мнении государя, и в глазах корпусного начальства — настоящее преступление. Александра Фёдоровна, узнав обо всём, прислала сыну письмо (не сохранилось), — и он пишет в ответ:
«Любезная маменька. Я не знаю, как изъяснить вам, что я теперь чувствую. Могу ли надеяться когда-нибудь получить прощение в проступке, который я сделал. Не столько меня трогает наказание, которое я получил, как мысль, что я причинил вам столько горести <…>».
Снова и снова в коротком письме он повторяет это: «Простите меня, милая маменька, избавьте меня от мучения, которое терплю, думая о вашей горести. — Остаюсь ваш всепокорный и раскаивающийся сын — Евгений Боратынский».
Дядюшка Пётр Андреевич попытался было устроить племянника в какой-нибудь пансион — безуспешно. Тогда на подмогу приехал из Подвойского Богдан Андреевич. Вся родня озабочена, что предпринять и как сделать, чтобы со временем Евгению выхлопотать прощение. Старая заступница Боратынских Екатерина Ивановна Нелидова и сёстры Бантыш-Каменские посоветовали увезти юношу в деревню, а там история позабудется и появится надежда…
Однако дожидаться монаршей милости — всё равно что ждать у моря погоды. Императорское решение чуть ли не перечёркивает всю будущность молодого человека. Формально оно не обязывало Евгения идти в солдаты, однако все пути на гражданскую службу закрыты: ни один столоначальник не отважится нарушить царский циркуляр. Жить на доходы от Мары? Поместье принадлежало Александре Фёдоровне, и даже при возможном когда-либо разделе имущества Боратынский никак не мог по-настоящему участвовать в нём: нет дворянского свидетельства. Старое осталось в Пажеском корпусе и на руки его не выдали, а новое никто не выпишет. Дворянства вроде бы и не лишили, но свои дворянские права подтвердить нечем. Лишь через два с половиной года мать и дядюшки ясно поняли, что солдатской службы Евгению никак не миновать: без этого высочайшего прошения не последует никогда.
В июле 1816 года Богдан Андреевич увёз племянника в родовую вотчину — Голощапово-Подвойское.
Сам Боратынский семью годами позже, в декабре 1823-го, вспоминая происшедшее, писал Василию Андреевичу Жуковскому:
«<…> — Не смею себя оправдывать; но человек добродушный и, конечно, слишком снисходительный, желая уменьшить мой проступок в ваших глазах, сказал бы: вспомните, что в то время не было ему 15 лет; вспомните, что в корпусах то только называют кражею, что похищается у своих, а остальное почитают законным приобретением (des bonnes prises) и что между всеми своими товарищами едва ли нашёл бы он двух или трёх порицателей, ежели бы счастливо исполнил свою шалость; вспомните, сколько обстоятельств исподволь познакомили с нею его воображение. Сверх того, не более ли своевольства в его поступке? Истинно порочный, следовательно, уже несколько опытный и осторожный, он как бы расчёл, что подвергает себя большой опасности для выгоды довольно маловажной; он же не оставил у себя ни копейки из похищенных денег, а все их отдал своим товарищам. Что его побудило к такому негодному делу? Корпусное молодечество и воображение, испорченное дурным чтением. Из сего следует то единственно, что он способнее других принимать всякого роду впечатления и что при другом воспитании, при других, более просвещённых и внимательных наставниках, самая сия способность, послужившая к его погибели, помогла бы ему превзойти многих из своих товарищей во всём полезном и благородном».
Припомнив, как «по выключке из корпуса» он мотался по петербургским пансионам, как содержатели оных, узнавая, что «я тот самый», тут же отказывали от места, Боратынский признавался:
«Я сто раз готов был лишить себя жизни».
Глава пятая
ПОДВОЙСКОЕ
Мимолётные радости
Смоленская земля!.. Порубежье Руси с Литвой, Польшей… Веками здесь отбивали нашествия неприятеля-захватчика, первыми принимая на себя удары Запада, учились мужеству, стойкости, верности Родине…
Здесь, в Бельском уезде Смоленской губернии располагалось старинное имение Боратынских, дарованное некогда за службу. По смерти отставного поручика Андрея Васильевича его сыну Петру Андреевичу отошла небольшая деревня Подвойское, а Богдану Андреевичу досталась соседняя деревня Голощапово.
Тут Евгений снова очутился среди своих, в уютном семейном кругу. Тут жила его крёстная — тётушка Марья Андреевна с дочерьми-подростками Катей, Аней и Лизой, другая тётушка — Катерина Андреевна, дядюшка Илья Андреевич с женой Софьей Ивановной и малолетними детьми Сашей и Ваней. А неподалёку от Подвойского-Голощапова жили другие родственники, там тоже росли дети — троюродные братья и сёстры. В имении Горки проживала обворожительная Варенька Кучина, также приходящаяся ему дальней роднёй…
Перемена места развлекает тяжёлые мысли, а жизнь в Подвойском, конечно, исцеляла… Крёстная Марья Андреевна Панчулидзева как-то написала в Мару «несравненной сестрице», «душечке» Александре Фёдоровне: «<…> Евгений всегдашний наш теперь товарищ. Милый и чувствительный Евгений, я его до смерти люблю. <…> — Он никогда не бывает праздным, детей моих очень полюбил, ими всякой день занимается и учит <…>». А прекрасной соседкой Варенькой Кучиной Боратынский, по преданиям семьи, увлёкся…
«Мы проводим здесь время очень приятно: танцы, пение, смех — всё, кажется, так и дышит счастьем и радостию» (
перевод с французского), — писал он маменьке из деревни осенью 1816 года.
Однако на душе шестнадцатилетнего юноши отнюдь не радостно. И хоть соблазнительного желания разом расквитаться со своим позором и злосчастием он никому не поверяет и держится стойко, от писем той поры так и веет тяжкой думой, которой нет исхода и забытья.
Дядюшку Петра Андреевича он благодарит из Подвойского «за все милости» и заверяет, что его напутствия никогда не изгладятся из памяти: «<…> Нужно быть более развращённым или, лучше сказать, совсем без души и сердца, чтобы не чувствовать всю цену ваших наставлений. Так они всегда будут за мною следовать, всегда будут мне напоминать мой долг, честь, добродетель, и когда жестокая совесть будет укорять меня, то примирит меня с собою. <…> Нет истинного щастия без добродетели, и если кто в сём не признаётся, то дух гордости ослепляет его, и я это хорошо знаю! Когда страсти, пылкие страсти молодости перестанут ослеплять опытную старость, каким ужасным сном кажутся протекшие дни нашей жизни! Как смешны кажутся все предприятия радости и печали! Горе тому, кто может только вспоминать одни заблуждения! Извините меня, любезный дядинька, что я пишу вам это, что, может быть, несвойственно ни моей неопытности, ни летам, но я это живо чувствую, а чувствам своим повелевать не можно. <…> будьте уверены, что я никогда не позабуду, что вы столько времени были мне отцом, наставником и учителем, и если я когда-нибудь изменю чувствам моим, то пусть Тот, Который всё знает, Который наказывает злых и неблагодарных — накажет и меня вместе с ними <…>».
С матерью он ещё откровеннее:
«<…> Единственное, от чего в моих глазах тускнеет всё великолепие удовольствий — это мысль об их мимолётности: скоро мне придётся отречься от наслаждений. Я чувствую, что у меня совершенно несносный нрав, приносящий мне самому несчастье; я заранее предвижу все неприятности, которые могут выпасть на мою долю. А ведь было время, когда я о них не думал! Но время это пролетело, как сон или как мгновения счастья, отмеренные человеку в жизни. Любезная маменька, люди много спорили о счастье: не подобны ли эти споры рассуждениям нищих о философском камне? — Иной человек, посреди всего, что, казалось бы, делает его счастливым, носит в себе утаённый яд, снедающий его и отнимающий способность чувствовать наслаждение. Болящий дух, полный тоски и печали (un esprit chagrin, un fond d’ennui et de tristesse), — вот что он носит в себе среди шумного веселья, и я слишком знаю этого человека»
(здесь и далее — перевод с французского).
Скоро, скоро Боратынский найдёт то единственное, что, может быть, не совсем, но всё-таки спасает от тяжких состояний духа и разрешает мучения. А потом найдёт и точную словесную формулу избавления от страданий:
Болящий дух врачует песнопенье…
Но
песнопенье ещё не пришло, он ещё не выстрадал песен.
Пока только лишь сбивчивые юношеские размышления. Кому-то они потом покажутся чуть ли не досужим резонёрством…
Но это не так. Это настройка слова на выражение чувства, угловатая, робкая, подбирающая чужие слова —
не свои… Предвестие песни в эпистолярной прозе.
«<…> — Может быть, счастье — это только случайное сопряжение мыслей, не позволяющее нам думать ни о чём другом, кроме того, чем переполнено сердце, — не позволяющее осмыслить то, что чувствуешь? — Может быть, величайшее счастье — это только беззаботность! — Отчего душа бывает предрасположена к счастью? — от того, что всемогущий Творец, создатель всего сущего, желая воздать кому-то из крошечных атомов, позволяет им выдернуть несколько цветков из персти земной, нашей общей матери? — О атомы на один день! О мои спутники в бесконечном ничтожестве! Замечали ли вы когда-нибудь эту незримую руку, направляющую нас в муравейнике рода человеческого? Кто из нас мог анатомировать эти мгновения, такие короткие в человеческой жизни? — Что до меня, то я об этом никогда не думал.
Признаться надобно: жизнь наша — наважденье<…>».
И ещё: юноша Боратынский учится мыслить. Сызмалу это его потребность — предаваться думе, её прихотливому течению. Он подметил за собой: чем сильнее чувства, тем своевольнее дума. Чувство — душа мысли; мысль — дух чувства. Что жизнь без них!..
«<…> И пять телесных чувств — всё, чем душа богата.
Я знаю: человек пречудно сотворён;
Мы станем духами бесплотными когда-то,
Беспечны и вольны. Но здесь иной закон:
Учёнейший из нас, потомок Гераклита,
Когда он телом бодр, когда удачлив он,
Смеётся и поёт не хуже Демокрита.
Это строки того самого еретика, который, по мнению иных людей, всегда заблуждался, но чьи стихи часто исполнены правды и силы — я имею в виду Вольтера. Думаю, эти строки — лучшие из всех написанных за всё время мистических умствований о счастье. Но, боюсь, скоро наскучу вам своим философствованием. Страсть к рассуждению (la passion de raisonner) — не самый худший мой порок, и я не собираюсь от него избавляться», — словно бы предупреждает он маменьку.
И напоследок:
«Я провёл два дня у тётушки Марфы Александровны, обласкавшей меня, как родного сына. Мы посетили могилы наших предков, доблестных славянских рыцарей, погибших, защищая свои очаги во время войн с Литвой. Вероятно, вы не знаете этих краёв. Так вот, узнайте же, что после деревушки Капреспино, на берегу Обши, струящей свои серебряные воды меж зелёных холмов, возле города Белый, на Петербургской дороге, в 5 верстах от Подвойского, чьё имя само говорит о былых сражениях… <…>».
Той осенью Александра Фёдоровна собралась было вместе с детьми навестить сына в Подвойском (поездка не состоялась), и Евгений так обрадовался известию, что даже забыл своё философствование и воспарил — столь возвышен слог! — мечтой. «Итак, я увижу, обниму, буду говорить с вами, дышать тем же воздухом, что и вы!» Ему чудится коляска, запряжённая четырьмя лошадьми, галопом въезжающая во двор. «Пади, пади! Коляска останавливается <…>» — и он видит маменьку, сестру Софи, братца Сержа, «маленького философа», с которым ещё не знаком, двух черноглазых барышень сестриц. «Боже мой! миг счастия заставляет забыть столько невзгод! Так путешественник, пересекший океан и сражавшийся с
ветрами и бурями, возвращается в свою хижину, устраивается возле очага и с удовольствием рассказывает о пережитых кораблекрушениях, и улыбается, слыша вой вероломной стихии, нёсшей его по волнам. <…>».
Всё это, на сторонний взгляд, выглядит слащавым до приторности посланием, если бы не знать,
что последовало в ближайшее же время. Однако, зная это, понимаешь не только то, как соскучился он по маменьке и сестрицам — но ощущаешь сам накал чувств в шестнадцатилетнем Боратынском и представляешь, что в этом же
градусе, если не выше, он переживал свой проступок. Сам себя он вроде бы пытается сдержать — с тонкой иронией говоря: «Оставлю риторику, чтобы сказать вам, что все вас ждут с нетерпением», но тут же проговаривается: «Я боюсь чрезмерно радоваться и, подобно римскому полководцу, просившему Юпитера послать ему какое-нибудь маленькое несчастие, дабы усмирить восторги своим триумфом, я хотел бы слегка заболеть, тогда мне было бы много покойнее <…>».
Вскоре Боратынский действительно заболел — и не слегка, а очень тяжело. Нервическая горячка!.. Сказалось долгое и сильное страдание, что он держал внутри, не показывая никому.
В октябре — ноябре он был на грани смерти…
28 декабря, под новый, 1817 год, Александра Фёдоровна писала Богдану Андреевичу в Подвойское: «<…> Я не могу изъяснить вам сердечной моей признательности за все ваши милости и попечения об Евгении и обязана вам и исправлением его, и самою его жизнию. Опасность, в которой он был, так стесняет моё сердце, что я забываю, что она прошла благодаря Бога и вас, и я не могу удержаться от живейшей скорби и страха всякой раз, как она приходит ко мне на мысль. — Вот уж Рождество прошло, а он не приехал. Зная ваше родительское о нём попечение, я стараюсь ободриться и думать, что вы его не пускаете по слабости его, да и лучше в сем случае переждать, нежели торопиться. — Я во всём полагаюсь на ваше благоразумие. У нас все, слава Богу, здоровы, но только грустим во ожидании Евгения. — Я не могу отойти от окошка, ни за что не принимаюсь, ожидание очень мучительно <…>».
Только через месяц мать дождалась сына: в сопровождении слуги Богдана Андреевича Алексея, небольшим обозом Боратынский добрался из Подвойского до Кирсанова, где Александра Фёдоровна зимовала с детьми.
Спустя шесть лет он вспоминал в письме В. А. Жуковскому:
«Никогда не забуду первого с нею свидания! Она отпустила меня свежего и румяного; я возвращаюсь сухой, бледный, с впалыми глазами, как сын Евангелия к отцу своему.
Но ещё же далече сушу, узре его отец его, и мил ему бысть и тек нападе на выю его и облобыза его. Я ожидал укоров, но нашёл одни слёзы, бездну нежности, которая меня тем более трогала, чем я менее был её достоин. В продолжение четырёх лет никто не говорил с моим сердцем; оно сильно встрепетало при живом к нему воззвании; свет его разогнал призраки, омрачившие моё воображение; посреди подробностей существенной гражданской жизни я короче узнал её условия и ужаснулся как моего поступка, так и его последствий. Здоровье моё не выдержало сих душевных движений: я впал в жестокую нервическую горячку, и едва успели призвать меня к жизни».
По прошествии времени Боратынский мог немного подзабыть череду событий и отнести свою хворь не к осени 1816 года, а к февралю 1817-го, когда он приехал к матери в Кирсанов, а затем в Мару. Но, скорее всего, тяжёлая болезнь ещё не прошла и вновь вернулась к нему в отцовском поместье: весной 1817 года Александра Фёдоровна писала Богдану Андреевичу: «Евгений сделался болен и теперь, слава Богу, поправляется».
Это подтверждает его письмо дядюшкам в Подвойское, которое он написал из Мары через несколько месяцев, наконец-то оправившись от своего тяжёлого недуга: «Любезные дядиньки Богдан Андреевич и Илья Андреевич. — Я чрезвычайно виноват, что столько времени не засвидетельствовал вам своего почтения. Впрочем, будьте уверены, что я вас всегда столько же люблю и почитаю. Мы все, слава Богу, здоровы <…>».
Всё лето он провёл в родимой усадьбе, в любящей семье. Заново познакомился с младшими братцами и сестрицами, которых почти что не видел и не помнил: Сергею уже исполнилось десять, Наталье семь, а Вареньке шесть лет.
Александра Фёдоровна ещё весной собиралась «выбраться» с детьми в Петербург: «оно весьма нужно детям моим, да и, может быть, узнаю что-нибудь верного о судьбе моего Евгения».
Произошедшее с сыном в Петербурге потрясло её. Е. С. Телепнёва, знакомая бывшей фрейлины Александрины, записала в дневнике: «Несчастие сына так её убило, что она никуда не выезжает». Она ничем не укоряла Евгения, но было ли им обоим от этого легче?.. Сама Александра Фёдоровна позже, увидав сына, в письме от 1 марта 1817 года Богдану Андреевичу признавалась, что его печальное положение тяготит её душу, хотя он и ведёт себя «отменно». «Скажу вам, любезнейший братец, что я им чрезвычайно довольна во всех отношениях и что с трудом понимаю, как он мог себя так потерять в Петербурге, мне кажется это ужасным сном».
Летнюю поездку в столицу пришлось отменить: как предположил биограф Алексей Песков, «вероятно, потому, что Боратынские узнают о предстоящем с осени долговременном визите Александра I (вместе со двором и гвардией) в Москву». Белокаменная гораздо ближе к Подвойскому, чем Петербург: мать надеялась там вместе с Богданом Андреевичем выпросить у императора прощение…
В конце августа Боратынский уехал в Тамбов, где его ждал попечитель — дядя Богдан Андреевич. Прощание с Марой было печальным: здесь он будто бы вновь вернулся в детство, под родительский кров, здесь материнская любовь и привязанность домашних незримо залечивали душевные раны. Из Тамбова он написал прощальное письмо: «Мы уезжаем через два часа, любезная маменька, и сейчас я скажу дважды прощай этому краю, столь мне любезному. Что бы ни говорили — но отнюдь не всё равно, быть близко или вдали от тех, кого любишь: большие расстояния охлаждают и страшат сердце. Я покидаю Тамбов почти с тем сожалением, что Мару <…>»
(здесь и далее — перевод с французского).
Печаль и унылые мысли не помешали семнадцатилетнему Евгению приметить тамбовскую подругу сестры Софи: «<…> я не разговаривал с нею, а только внимательно её наблюдал. Какое прелестное создание! Она не прекрасна, но, увидев её, невозможно не полюбить! Какая кротость в глазах! Какая скромность в движениях! Её речь исполнена сердечного чувства <…>». По мнению Гейра Хетсо, в этой характеристике «можно уже разгадать женский идеал поэта», запечатлённый впоследствии в знаменитом стихотворении «Она» (1827):
Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой…
Меткое наблюдение!.. Дотошный исследователь жизни и творчества Боратынского сетует, что о его ранних сердечных историях «мы знаем мало», если не считать семейных рассказов об увлечении Варенькой Кучиной. Про личность
кузины Вареньки в самом деле почти ничего не известно. Спустя месяца три в письме маменьке из Подвойского мелькает её имя. С добродушной весёлостью Евгений сообщает, как они с детьми и гувернанткой навестили прелестную кузину и обедали у неё — и хотя ничего забавного не случилось, все, неизвестно почему, были очень довольны:
«Госпожа Святая Варвара должна бы справлять свой праздник по меньшей мере четырежды в год, и всякий раз доставлять нам столько же радости, сколько сегодня. — Тогда у нас было бы в году четыре счастливых дня, а как это много. Уф! Любезная маменька, если бы в жизни приходилось считать лишь счастливые мгновения, кто из нас прожил бы больше четверти часа?»
(перевод с французского).
Но не была ли Варенька Кучина, одно присутствие которой электризовало, приводило всех в веселье, тем другим типом женщины, к которым всегда влекло Боратынского, — весёлой, сильной, вольной, безудержной,
роковой?.. На эту мысль невзначай наводит упоминание её имени в дорожных записях генерала Закревского. Дежурный генерал Главного штаба посвятил ей, по замечанию А. Пескова, «целую строку», да ещё явно лирическую, хотя в этих записях был крайне немногословен, отмечая только числа и пункты назначения: «9-го марта приехал к Лутковскому обедать, где познакомился с премиленькой Варварой Николаевной Кучиной, живущей подле города Белого». — Дело в том, что женский идеал Закревского известен: женой генерала была знаменитая красавица Аграфена Александровна, которая «беззаконной кометой» летела по жизни и кружила головы всем подряд. Впоследствии под её чары попал и Евгений Боратынский. Впрочем, как и в своей взрослой жизни, Боратынский одним женским
типом увлекался, другой — свой
идеал — полюбил…
Первые стихи
В сентябре по дороге из Тамбова в Подвойское они заехали с дядей Богданом Андреевичем на два дня в Москву. Попали в праздничные дни — Рождество Пресвятой Богородицы, и Евгений был в отчаянии: все лавки закрыты — как выполнить поручения матери? Оббегал торговые ряды — и всё-таки смог купить подарки детям: ноты — Софи, Вареньке — шляпу, а братцу Сержу — часы. В одной из книжных лавок взял для маменьки «Клариссу» С. Ричардсона. Расспросил торговцев, каково прожить в Москве семьёю? Оказалось, «страшно дорого»: за съём квартиры — «непомерные деньги», и дрова дороги… — всё, от булавок до «самых изысканных предметов». Истинным дивом ему показался огромный, в четыре этажа экзерциргауз — манеж для зимних учений, который выстроили в несколько месяцев…
Дорога и её впечатления, встречи, беготня по Москве, разговоры со старым моряком дядей Богданом — всё это отвлекало от постоянных одиноких дум и незаметно вытесняло из памяти мрачное. И уже звучал в письмах другой голос — свежий, молодой, жизнерадостный:
«Так вот, после недели безмятежнейшего пути добрались мы до Подвойского; замечательнее всего то, что давно ожидаемый генерал Панчуладзев приехал часом раньше. Представьте, сколь радостна была встреча. Вечер прошёл в беззаботном веселье. Генерал — любезнейший человек, каких я только видел; в нём есть некая прямота, некая чистота помыслов, нечто от древнего рыцарства. Говорит он чрезвычайно громко, чтобы каждый мог знать, что у него на сердце. <…> Я назвал его рыцарем без страха и упрёка, и что-то говорит мне, что он достоин этого имени. Не буду рассказывать, как я был принят здесь. Вы знаете эту несравненную дружбу и этих несравненных людей. Всё, что они делают для меня, всё, что я чувствую к ним, превосходит любое изъяснение <…>»
(перевод с французского).
И далее — замечание, выдающее в нём
поэта, признающего только единственно точное слово, будущего мастера поэтического афоризма: «Полагаю, что подробно изъяснять столь сильные чувства значит лишь рассеивать их».
Действительно, молодого Боратынского, что оступился и попал в беду, все в Подвойском окружили сердечной заботой. Душевное тепло не подделать: Евгения просто любили. И как старшего сына покойного родственника, и как светлую душу. «Все, несколько знакомые с личным характером Е. А. Баратынского, не могут не отдать должной справедливости высоким качествам его и благородным побуждениям, лежавшим в основании всех его действий: пламенной любви к прекрасному, пренебрежению тщеславными почестями, искреннему и бескорыстному служению истине», — писал впоследствии его сын Лев Евгеньевич. Эти качества проявились в Боратынском смолоду, а родные знали его душу лучше других.
И сам поэт искренне и глубоко любил свою добрую родню. В юношеских письмах это особенно заметно:
«Любезная тётинька Катерина Андреевна. — Я не нахожу выражения, чтоб пред вами извиниться, сделайте милость, напишите мне несколько строчек, хоть побраните немного, да только напишите, а то, право, у меня не будет духа что-нибудь к вам писать. — Будьте, впрочем, уверены, что чувствования любви и благодарности всегда находятся в моём сердце. Хотя последнее иногда бывает тягостно, но всегда приятно находить причины ещё более любить тех, которых любишь. Ваш покорнейший слуга и племянник Е. Boratinsky».
Когда после душевного кризиса он поправился, его эпистолы заблистали тонким юмором. В конце 1818 года Боратынский сообщает маменьке, что дядюшка Илья Андреевич выезжает в Москву: «…он хотел взять меня с собой, но не вышло. Впрочем, мне нет никакой надобности появляться там, словно напоказ. Так рассудила Катерина А<ндреевна>, главное мыслящее существо в доме». — В Москве находился император с двором, но никто из старших Боратынских уже не надеялся на скорое прощение, — и Евгений легко подтрунивает над этим, желая, чтобы маменька не слишком торопила события и не переживала понапрасну. Не потому ли он тут же переходит к шутливому отчёту о домашних —
подвойских — развлечениях — о том, как праздновали именины Богдана Андреевича:
«<…> Праздник был отмечен роскошно, дети исполнили небольшой балет, а на следующий день играли комедию госпожи Гросфельд (гувернантки. —
В. М.), о которой я вам писал. Всё было очень весело, и у меня до сих пор болят ноги от танцев; восхитительный талант — умение двигать ногами в такт. Воистину он более нужен в свете, чем нагромождение геометрии, истории, географии и философии. Для разговора об этих материях редко найдётся собеседник, а танцоры есть повсюду. — В уединении больше нужны запасы ума, но в свете — о, в свете, любезная маменька, нужно танцевать, даже если у тебя жирные ноги. <…> Полк, стоявший здесь, переменил квартиры, и наши барышни оплакивают своё вдовство. Теперь все питают пристрастие к воинам, амуры покинули Цитеру и повсюду следуют за Марсом в мундирчиках и с барабанным боем. Чему ж удивляться? природа шумна, и военные игрушки вскружили им головы. Я шучу, но это почти правда <…>»
(перевод с французского).
До поздней осени 1818 года Боратынский живёт у родных в Подвойском. После катастрофы в Пажеском корпусе он уже два с половиной года в усадьбе — деревня его приютила, воспитала, возвратила душевные и телесные силы.
Здесь же в 1818 году написаны его первые стихи — из тех, что на следующий год стали известны публике. Лёгкие юношеские вирши на французском, сочиняемые
на случай, конечно, не в счёт — отныне к нему пришла русская, вполне важная Муза, не позволяющая бездумно сорить словом.
И в осень лет — красы младой
Она всю прелесть сохраняет;
Старик крылатый не дерзает
Коснуться хладной к ней рукой;
Сам побеждённый Красотой,
Глядит — и путь не продолжает.
Этот мадригал обращён к Марье Андреевне Панчулидзевой — родной тётушке поэта и его крёстной матери. Боратынский имел потребность и привычку совершенствовать свои стихи — и возвращался даже к начальным своим творениям, уточняя слова, образы, эпитеты. Через несколько лет — рукой мастера — он прошёлся по этому стихотворению, и оно обрело должную огранку, заиграло:
Взгляните: свежестью младой,
И в осень лет она пленяет,
И у неё летун седой
Ланитных роз не похищает;
Сам побеждённый красотой,
Глядит — и путь не продолжает!
К тому же 1818 году относят стихотворения «К Алине», «Тебя ль изобразить и ты ль изобразима?..», «Любовь и дружба». Первые два, по предположениям исследователей, адресованы Варваре Николаевне Кучиной — его
Вареньке… И второе из них уже по-боратынски изящно (хотя это можно сказать только о поздней редакции стихотворения):
Тебя ль изобразить и ты ль изобразима?
Вчера задумчива, я помню, ты была,
Сегодня ветрена, забавна, весела,
Понятна сердцу ты, уму непостижима.
Не все ль противности в характере твоём?
В тебе чувствительность с холодностью совместна,
Непостоянна ты во всём
И постоянно ты прелестна.
В августе 1818 года в письме к матери он среди прочего просто говорит: «Я здоров», и в этих двух словах всё сказано. Недуг миновал, он снова бодр и живёт полной жизнью. Сообщает, что в честь приезда Ильи Андреевича они с племянницами будут представлять комедию. «Мне препоручено руководить детьми — главным образом потому, что пьеса целиком сочинена мною, и кроме меня никто не может подсказывать им слова»
(перевод с французского).
Между тем дядюшки пытались устроить его будущность. В июле — августе Богдан Андреевич обращался в Смоленское губернское правление с просьбой выдать племяннику дворянское свидетельство — «с целью определить его в какую-либо иную службу, кроме солдатской». Губернский предводитель Ф. И. Лыкошин отказал адмиралу: «<…> из указа Правительствующего сената от 29-го февраля 1816-го года видно, что означенный дворянин Евгений Боратынский был на службе в Пажеском корпусе, куда поступил с свидетельством, а затем нового уже выдать не можно».
Без дворянского свидетельства — только в солдаты.
Один император мог изменить это. Но Александр I неприступен: никакие связи и ходатайства не помогают.
Последняя попытка избежать солдатчины была сделана адмиралами в сентябре в Москве, куда они забрали с собой и племянника. — Безуспешно…
И тогда наконец было решено отправить Евгения в Петербург — на солдатскую службу.
Всё же одно важное выхлопотали — возможность поступить в гвардию.
В ноябре 1818 года Боратынский уехал в столицу…
Глава шестая
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ
Знакомство с Дельвигом
«18 лет вступил я рядовым в гвардейский Егерский полк, по собственному желанию; случайно познакомился с некоторыми из наших молодых стихотворцев, и они сообщили мне любовь свою к поэзии. Не знаю, удачны ли были опыты мои для света; но знаю наверно, что для души моей они были спасительны», — вспоминал он в декабре 1823 года в письме В. А. Жуковскому.
Коротко и
по-боратынски негромко — о целом годе своей жизни, исключительно важном в дальнейшей судьбе.
Два с половиной года прошло после «выключки» из Корпуса. Младший брат Аш — Ираклий за это время перешёл уже в выпускной класс Пажеского корпуса, следом за ним шёл Вавычка — Лев. Старший из братьев Креницыных — Павел был выпущен и служил офицером в кирасирском полку. Младший, Александр, восемнадцатилетний бунтарь и сочинитель стихов, ещё доучивался. Всё это время Евгений, по-видимому, переписывался с друзьями (письма не сохранились) — и новая встреча в Петербурге была радостной. Однако сердечные приятели юности словно бы остались где-то в прошлой жизни. Душой ли он стал взрослее своих ровесников?.. — но это сразу сделалось понятно — всем.
Товарищ радостей младых,
Которые для нас безвременно увяли,
Я свиделся с тобой! В объятиях твоих
Мне дни минувшие, как смутный сон, предстали!
О милый! я с тобой когда-то счастлив был!
Где время прежнее, где прежние мечтанья?
И живость детских чувств, и сладость упованья?
Всё хладный опыт истребил.
Узнал ли друга ты? Болезни и печали
Его состарили во цвете юных лет;
Уж много слабостей, тебе знакомых, нет,
Уж многие мечты ему чужими стали!
Рассудок твёрже и верней,
Поступки, разговор скромнее;
Он осторожней стал, быть может, стал умнее,
Но, верно, счастием теперь стократ бедней.
Не подражай ему! <…>
Послание «К Креницыну» (к Александру) — по сути автопортрет. Поэтических достоинств тут мало, а риторический пафос напоминает французские, да и отечественные образцы, — но кто скажет, что здесь только романтическая поза?.. Алексей Песков сопровождает это послание таким толкованием; «Что ж! друг Креницына ещё не дошёл до середины своей жизни, но жизнь его уже разделилась на две неровные части, делая его в собственных глазах элегическим героем… Лет через десять, когда элегии выйдут из моды и появится словечко романтизм, таких героев станут называть романтическими <…>».
Тут, вольно или невольно, высказывается некое сомнение в искренности Боратынского. Филологическая игра тут на миг ослепляет добросовестность учёного. Ведь ещё недавно биограф писал, как его герой, молодой человек, буквально умирал в деревне от нервической горячки, вызванной переживаниями… Понятно, что юный поэт ещё не самостоятелен в выражении своих чувств, однако он отнюдь не любуется самим собой в качестве элегического героя. Пусть его послание — довольно книжное по лексике, но оно подтверждено жизнью. Слово оплачено страданием.
<…> Не сетуй на меня, о друге пожалей:
Всё можно возвратить — мечтанья невозвратны!
Так! были некогда и мне они приятны,
Но быстро скрылись от очей!
Я легковерен был: надежда, наслажденье
Меня с улыбкою манили в тёмну даль,
Я встретить радость мнил — нашёл одну печаль,
И сердцу милое исчезло заблужденье <…>.
И хоть, заключая послание, Боратынский восклицает: «Но для чего грустить! мой друг ещё со мной!» и взывает к
дружбе нежной: «Останься неизменной! / Пусть будет прочее мечтой!», становится ясно, что всё как раз-таки изменилось и эта былая дружба невозвратна, она уже воспоминание.
Судьба ли развела друзей юности?.. нет, скорее изжитая дружба. «О дальнейшем общении Боратынского и Креницына ничего не известно» (А. Песков).
«Боратынский в Петербурге. Он только что вернулся сюда и, кажется, нашёл для первых шагов в своём новом бытии ту форму, которая более других соответствует ныне его внутреннему состоянию, — преждевременную старость души, элегическое уныние и горькую усмешку над жизнью. Он уже пишет элегические стихи и готовыми жанровыми формулами осмысляет свою судьбу», — делает вывод Алексей Песков. Так, да не так.
Ищут форму обычно те, у кого внутри пусто, зато есть желание выставиться, показать свою значительность.
Содержание же само находит себе
форму. Грусть сызмалу преобладала в Боратынском. Разумеется, поначалу она была малозаметной для окружающих. О чём он задумывался в глубине души? О смысле жизни?.. Бренности бытия?.. Любой ребёнок про себя философ, только думает ещё не умом — чутьём. Подрастая, он забывает свои детские вопросы, на которые порой не могут ответить и взрослые. Но есть дети, которые ничего не забывают и мучаются этими вопросами всю жизнь… Раннее сиротство, исключение из Пажеского корпуса только развили в Боратынском его вечную печаль. Элегичность естественно сделалась свойством его поэзии — её
формой.
«Всем, с кем он видится, и всем, с кем он знакомится, бросается в глаза его бледное лицо, оттенённое тёмными волосами, его мечтательная задумчивость, его горящий пламенем взор. Он ещё не дошёл до середины своей жизни и, как все в таком возрасте (Дельвиг — исключение), строен. Можно даже сказать, что он красив, ибо разве бывает некрасив влюблённый юноша? А он влюблён и, кажется, беспрерывно. Счастлива ли его любовь? Кто его избранница? <…>», — набрасывает Алексей Песков несколько шаржированный портрет Боратынского.
Похоже, и сам биограф нашёл уже
готовую формулу для своего героя. Именно таким изображён Боратынский на известной литографии Ф. Шевалье, относящейся к началу 1820-х годов: одухотворённое чело; рука, задумчиво подпирающая высокий лоб; большие грустные глаза; небрежно повязанный
галстух; ну и, конечно, пара непременных томиков на круглом столе. Ну разве же может иначе выглядеть элегический поэт!..
Однако портреты передают только образ, сложившийся в воображении живописца — живой же человек неуловим. Тем более такой, как Боратынский — скрытный, глубокий, живущий не напоказ,
негромкий в своём постоянно изменчивом многообразии.
Первое время по приезде в Петербург Евгений в беспокойстве о здоровье маменьки: от неё нет писем, а уезжая из Москвы, он оставил её больною. Поэт, хотя и спрашивает Александру Фёдоровну, как дела «у господина Н.» — хлопотавшего за него, на прощение не очень надеется: «Пётр Андреевич сильно сомневается в благополучном исходе, и резоны его кажутся мне основательными»
(перевод с французского).
Но вскоре столичная жизнь захватывает молодого человека, и ему уже не до скучного, томительного ожидания маловероятных милостей…
Он пишет маменьке в конце 1818 года:
«Я не сообщал вам своего адреса, ибо сам ещё не знал, где поселюсь. — Мы сняли квартиру вместе с г-ном Шляхтинским — у нас три замечательные комнаты, которые только предстоит обставить, впрочем, мебель здесь дёшева. — Письма адресуйте так: в Семёновском полку в доме кофишенка Ежевского. Это славный старик, знавший в Гатчине батюшку. Он рассказывает мне всяческие подробности и анекдоты, которые я слушаю с немалым удовольствием. У него есть жена и дочь — воспитанная весьма неплохо, изъясняющаяся по-французски скверно, по-русски провинциально, играющая на рояли подобно нашим богиням из Оржевки, читавшая несколько романов мадам Радклиф и жалующаяся, что ничто в природе не отвечает возвышенным движениям её сердца. Весь этот мирок довольно забавен. В последнем письме я говорил вам о мадам Эйн-Гросс, с которой я познакомился; так вот, это превосходная женщина. Она весьма образованна, иначе говоря, образованна лучше меня. Она божественно играет на арфе, много читает, любит живопись, поэзию, словесность и даже способна иметь собственное суждение о каждом из искусств. Мы размышляем с нею о дружбе, о любви, о любовных увлечениях, об эпикурействе, о стоицизме — словом, обо всём. Я посещаю её каждый день после полудня, и пока мне это не наскучило; следует, однако, признаться, что в ожидании лучшего я был бы даже склонен влюбиться в эту божественную женщину, но не тревожьтесь, я слишком безрассуден, чтобы решиться на серьёзное безрассудство. — Прощайте, милая маменька. Быть может, вы считаете это несколько вольным. Думайте, что пожелаете, но помните, что только вас я люблю всем сердцем. Вчера вечером мадам Э. Г. живо напомнила мне Софи, она играла на арфе тирольскую мелодию. Знаете, пожалуй, она немного напоминает её и своею внешностью»
(перевод с французского).
Да, разумеется, он постоянно в кого-нибудь влюблён: влюблённость — естественное состояние поэта, а тут ещё и разговоры о стихах, звуки арфы, божественная музыка…
Арфа арфой, и мадам Эйн-Гросс — во всех ли, нет ли — отношениях, конечно, превосходная женщина, но, без сомнения, куда как интереснее был круг новых знакомств. — Молодые поэты! литературное братство! — вот чего ждала его душа и что так щедро обрушил на него Петербург!..
Кто свёл его с Дельвигом — вопрос. То ли друг юности Александр Креницын, то ли прапорщик Андрей Шляхтинский, сосед по квартире и земляк по Смоленщине, то ли кузен Александр Рачинский, подпрапорщик Семёновского полка, — точно не установлено. Ясно одно: они с Дельвигом не могли не встретиться, не сойтись. Это тяготение духовного родства, близких душ, — таких людей словно притягивает друг к другу. «Вряд ли будет преувеличением сказать, что Дельвиг стал его самым лучшим другом: недаром Н. Коншин называет его „любимцем души его, привязанность к которому питал как страсть“», — писал Гейр Хетсо. А где влюблённый в поэзию барон Дельвиг, там и лицейские его братья — Пушкин и Кюхельбекер, и все их друзья и приятели: А. Бестужев, В. Эртель, П. Чернышёв, П. Яковлев, М. Глинка, И. Болтин, С. Соболевский, П. Нащокин, младший Пушкин — Лёвушка. Там и шампанские бокалы, и «пунша пламень голубой», кипение молодости, задора, свободной мысли, смеха, рифм. (В письмах маменьке об этом почему-то ни слова — правда, и писем того года в Петербурге всего несколько.)
В феврале 1819 года Боратынского наконец определили рядовым в лейб-гвардейский Егерский полк. Попасть в гвардию было нелегко, но, как видно, помогли старые связи дядюшек. Служба не обременительная, без отупляющей муштры, а самое главное — гвардейцам дозволялось жить в столице. Наверное, именно Антон Дельвиг привёл своего нового друга на заседания Вольного общества словесности, наук и художеств и Вольного общества любителей российской словесности, где познакомил с известными литераторами и издателями: Н. Гречем, Ф. Глинкой, А. Измайловым.
В конце лета соседа по квартире Шляхтинского перевели в один из пехотных полков в провинции, и Боратынский переселился на квартиру Дельвига в Семёновском полку. В то время по соседству с ними, в нескольких минутах ходьбы от Семёновских рот жил Пушкин: его дом стоял у Калинкина моста на реке Фонтанке; на другом берегу реки была квартира Кюхельбекера… По воспоминаниям очевидца, Боратынский с Дельвигом «жили самым оригинальным, самым беззаботным и потому беспорядочным образом, почти не имея мебели в своей квартире и, не нуждаясь в подобной роскоши, почти постоянно без денег, но зато с неистощимым запасом самой добродушной, самой беззаботной весёлости. <…> Порядок, чистота и опрятность были качествами, неизвестными в домашнем быту обоих поэтов».
Там, где Семёновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),
Шли и твердили шутя: «Какое в россиянах чувство!»
Пышные гекзаметры, сочинённые в 1819 году Боратынским с Дельвигом в минуту веселья, тем комичнее, чем важнее. По воспоминаниям К. А. Полевого, Пушкин однажды на вечере у его брата вспомнил эту стихотворную шутку и заставил Боратынского прочесть. И хохотал, скаля свои ослепительно-белые зубы…
Князь Пётр Вяземский с видимым удовольствием поместил в свою записную книжку забавную историю про двух неунывающих пиитов:
«Молодости было много, а денег мало. Они везде задолжали, в гостиницах, лавочках, в булочной; нигде ничего в долг им более не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар; да где-то промыслили они три-четыре бутылки малаги. На этом сладком пропитании продовольствовали они себя несколько дней».
Это, разумеется, не значит, что поэты бедствовали: знатная родня того бы никак не допустила. Дельвиг был из баронов; Боратынскому присылала значительные суммы маменька, тамбовская помещица. Просто друзья никак не хотели обременять себя бытом, отчего порой и жили по-спартански. Молодецких пирушек от этого нисколько не убывало…
В поэме «Пиры», написанной годом позже, воспета бесшабашная разгульная молодость, которой каждый из них заплатил добрую дань.
Узы сердца и песенного дара скрепили
союз поэтов — так назвал Вильгельм Кюхельбекер поэтическое братство, куда вошли кроме него Пушкин, Дельвиг и Боратынский.
Всем четверым — по двадцать лет или около того: духом вольны, блестяще даровиты, умны, образованны — и каждый на взлёте своей судьбы. И все при этом — разные, каждый самобытен по стихам, образу мыслей, характеру..
Так! Не умрёт и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастье, и в ненастье твёрдый,
Союз любимцев вечных Муз! —
писал восторженный Кюхля в 1820 году в стихотворении «Поэты».
А Боратынский обратил свою поэму «Пиры» к Пушкину и Дельвигу…
Поначалу он пробовал свою лиру лишь в стихах
на случай. Альбомные мадригалы, задорные эпиграммы, пока ещё неумелые:
Здесь погребён армейский капитан.
Он честно жил и грешен не во многом:
Родился пьян и умер пьян,
Вот весь ответ его пред Богом.
Потом он открывает для себя
послания — свободный, искромётный, прихотливый жанр, где всё непосредственно, живо, где лирика мешается с остротами, древний миф соседствует с современностью, пафос — с бытовым разговором.
Так, любезный мой Гораций,
Так, хоть рад, хотя не рад,
Но теперь я муз и граций
Променял на вахтпарад;
Сыну милому Венеры,
Рощам Пафоса, Цитеры,
Приуныв, прости сказал;
Гордый лавр и мирт весёлый
Кивер воина тяжёлый
На главе моей измял.
Строю нет в забытой лире,
Хладно день за днём идёт,
И теперь меня в мундире
Гений мой не узнаёт! <…>
(«Дельвигу», 1819, <1826>)
Далее он рисует образ друга, «любимца души» — бегло, но с удивительной верностью и свободным изяществом:
Вольный баловень забавы,
Ты, которому дают
Говорливые дубравы
Поэтический приют,
Для кого в долине злачной,
Извиваясь, ключ прозрачный
Вдохновительно журчит,
Ты, кого зовут к свирели
Соловья живые трели,
Пой, любимец аонид!
В тихой, сладостной кручине
Слушать буду голос твой,
Как внимают на чужбине
Языку страны родной.
Антон Дельвиг не заставил себя ждать с ответом и откликнулся посланием — «Евгению»:
За то ль, Евгений, я Гораций,
Что пьяный, в миртовом венке,
Пою вино, любовь и граций,
Как он, от шума вдалеке,
И что друзей люблю — старинных,
А жриц Венеры — молодых. <…>
Благоуханной головою
Поникнув, Лидии младой
Приятно нежить слух игрою,
Воспеть беспечность и покой,
И сладострастия томленье,
И пламенный восторг любви,
Покинуть гордые желанья,
В венок свой лавров не вплетать
И в час весёлого мечтанья
Тихонько Флакку подражать
В науке дивной, в наслажденьи,
И с ним забавы петь свои.
Дельвиг душой — словно бы в Древней Греции, и в своей воображаемой эпикурейской неге не желает знать никаких забот. На каменных мостовых северной российской столицы, ещё веющей промозглым духом попранных Петром болот, ему чудятся Парнас, светлое вино, храм Цитеры, лавровые венки. Ему дела нет до караулов, разводов, вахтпарадов. —
Вольный баловень забавы, любимец аонид!..
Но этот потомок прибалтийских баронов вслед за счастливым детством человечества — Древней Грецией — потянулся душой к русской старине, к народной песне, к её прямоте и простодушию. Никакого противоречия! — Миф тоже был песней, сказочной, эпической, а русская песня — это народная поэзия, родом из древнего мифа, растворившая его в своём естестве.
Не кто иной, как
баловень и
ленивец Дельвиг оказался на редкость способным к действию: он сразу же почуял в Боратынском дарование и отнёс его первые, далеко не совершенные стихи в журнал. По семейному преданию, Дельвиг сделал это, не спросив разрешения у Боратынского. Это семейное предание, замечает Г. Хетсо, «подкрепляется ещё и Я. К. Гротом, утверждавшим, что Баратынский осмелился явиться в печати „только по приговору своего лицейского судьи“. Любопытно в этом отношении, что барон Дельвиг, по-видимому, „устраивал в печать“ и первые стихи Пушкина». В конце февраля 1819 года в «Благонамеренном» А. Е. Измайлова был напечатан мадригал «Пожилой женщине и всё ещё прекрасной», подписанный инициалами
«Е. Б.». Там же, в «Благонамеренном», в марте появились: «К Алине», «Любовь и дружба», «Портрет В…» — уже с подписью:
Е. Боратынскiй.
«Боратынский часто вспоминал о том тягостном впечатлении, которое произвело в нём это неожиданное появление его стихов, и говорил, что никакой впоследствии успех не мог выкупить этой мучительной минуты», — вспоминал Николай Путята.
Филолог А. Р. Зарецкий предполагает другое: более вероятно, что «неприятное впечатление» вызвала у Боратынского публикация трёх стихотворений за полной подписью, нежели мадригал, под которым были только инициалы. — Что ни говори, а причина досады в том, что стихи вышли
без ведома автора.
«Роль Дельвига в качестве ментора и поэтического руководителя, может быть, несколько преувеличена, но влияние его на Баратынского отрицать не приходится, — писала филолог Ирина Медведева в работе „Ранний Баратынский“ (1936). — Это было влияние человека с гораздо большей культурой, с огромным пониманием стиха и тонким литературным вкусом. Вероятно, именно он учуял в Баратынском элегика и направил его по пути, где он мог, и подражая, оставаться оригинальным. Он помог ему, явившемуся в литературу с традиционными стишками „на случай“, найти свой путь. Отсюда: „Ты ввёл меня в семейство добрых Муз“ и „Певца пиров я с Музой подружил“.
В частности, влияние Дельвига сказалось в метрическом разнообразии поэзии Баратынского. Разнообразие размеров (у Баратынского гораздо больше, чем у Пушкина) характерно было именно для Дельвига. Делал попытку Баратынский пойти по пути Дельвига и в жанре песни. Русская песня, однако, не удержалась в поэзии Баратынского, и единственный опыт в этой области как бы выпадает из его творчества. Можно наблюдать влияние Дельвига также в культуре горацианских посланий Баратынского, хотя здесь возможен только толчок уже усвоенному у Батюшкова и Парни».
Не случись этого самовольства Дельвига, Боратынский вряд ли скоро решился бы печатать стихи: он был ещё не уверен в себе как в поэте. Кроме того, выходить к публике с чем-то не доведённым до возможного совершенства было не в его характере, недаром он никогда не торопился с публикациями и постоянно переделывал и шлифовал написанное.
Гейр Хетсо замечает, что первое появление стихов в печати принесло молодому поэту «не только страдания»: Боратынский «никогда не мог забыть громадного значения Дельвига» в своей поэтической судьбе:
«Было бы бессмысленно утверждать, что поэтом Баратынского сделал Дельвиг. Он только побуждал Баратынского к деятельности, давно ставшей для него потребностью. Очень скоро поэзия стала для Баратынского чем-то святым, что заключало в себе ту гармонию, в которой отказывала ему жизнь. Более того, в поэзии он вновь обрёл веру в себя: его вступление в литературу явилось как бы моральным возвращением в жизнь».
В гостях у Пушкина
Один из новых петербургских товарищей Боратынского, Василий Андреевич Эртель, был уроженцем Пруссии и выпускником Лейпцигского университета. Приехав в Петербург в 1817 году, он преподавал немецкий в пансионе при Царскосельском лицее, через два года вышел в отставку и давал частные уроки; впоследствии обучал своему родному языку даже наследника престола, будущего царя Александра II… Позже, в 1832 году, Василий Эртель вместе с Александром Глебовым издал «Русский альманах на 1832 и 1833 годы», где было напечатано «сочинение более беллетристическое, нежели мемуарное», под названием «Выписка из бумаг моего дяди Александра». Алексей Песков считал, что доверяться этому сочинению можно разве что с оглядкой, «ибо, кажется, и сам дядя Александр, и его племянник — лица вымышленные, а всю выписку сочинил, может быть, лукавый Эртель». Но несмотря на некоторую путаницу в именах, фактах и датах (возможно, задуманную; так, Боратынский, к примеру, никак не был двоюродным братом Эртеля), в
выписке говорится о действительных людях: они легко угадываются по инициалам: б. Д. или б. А. А. Д. — барон Дельвиг, Е. Б. и Евгений — Боратынский, полковник Л. — Лутковский, А. С. П. — Пушкин и т. д. «А некоторые факты, сообщённые об этих действительных лицах, уж слишком точны, чтобы заподозрить сочинителя выписки в абсолютном вымысле». Словом, благодаря Эртелю становятся известны занимательные подробности жизни Боратынского, Дельвига, Пушкина — как раз таки того времени, когда Боратынский вернулся в Петербург.
«Тогда между молодыми людьми господствовал весьма приятный, непринуждённый тон и истинное товарищество, которое ныне едва знают по названию. В наших почти ежедневных сборищах много шутили и смеялись. Мы рассказывали свои похождения, причём немало прилыгали, а поимка во лжи подавала повод к новому смеху. Иногда мы даже играли на дворе в бабки. Бутылки шампанского с золотистою смолою, как почётные члены, принимали участие в наших собраниях и немало способствовали к оживлению нашей беседы. Они имели ещё особенное свойство развивать музыкальные таланты наши, так что у нас весьма часто раздавались весёлые хоровые песни, которые, хотя не отличались гармониею, но увеличивали нашу весёлость. В это время сборища наши получили новую прелесть от принятого в них участия милым двоюродным братом моим Е. Б., приехавшим из Финляндии навестить нас. <…> Я не видел Евгения с нашего детства, и признаюсь, что его наружность чрезвычайно меня удивила. Его бледное, задумчивое лицо, оттенённое чёрными волосами, как бы сквозь туман горящий пламенем взор придавали ему нечто привлекательное и мечтательное; но лёгкая черта насмешливости приятно украшала уста его. Он имел отличный дар к поэзии, но, несмотря на наружность, муза его была вечно-игривое дитя, которое, убравшись розами и лилеями, шутя связывало друзей цветочными цепями и резвилось в кругу радостей. Неизъяснимая прелесть, которою проникнуто было всё существо его, отражалось и в его произведениях. <…>
В одно воскресенье Евгений рано утром вышел из дома. Я уже намерен был один пойти на гулянье, как он вошёл с другим молодым человеком, по-видимому, одинаковых с ним лет, довольно плотным, в коричневом сюртуке. Большие, густыми тёмными бровями осенённые глаза блистали из-за черепаховых очков; на полном, но бледном лице его была написана мрачная важность и необыкновенное в его летах равнодушие. Как удивился я, когда Евгений назвал пришедшего б. А. А. Д. Имя его было мне известно и драгоценно по его стихотворениям. Зная также, что он был задушевным приятелем двоюродного брата моего, я с ним никогда до тех пор не встречался. Я не знал, как согласить глубокое чувство, игривый характер и истинно русскую оригинальность, которые отражаются в его стихотворениях, с этою холодною наружностию и немецким именем. Ах! когда я короче познакомился с ним, какое неистощимое сокровище благородных чувствований, добродушия, чистой любви к людям и неизменной весёлости открыл я в сем превосходном человеке.
Едва мы пробыли вместе с четверть часа, как всякая принуждённость исчезла из нашей беседы, и мне казалось, что
мы уже давным-давно знакомы. Разговор обратился к новейшим произведениям русской литературы и, наконец, коснулся театра.
— Непонятно, — сказал Д., — что мы до сего времени почти ничего не имеем собственного в драматической поэзии, хотя русская история так богата происшествиями, которые можно было бы обработать для трагедии, и притом вокруг нас столько предметов для комедии.
— Вы забываете Озерова, — сказал я.
— Правда, что Озеров имеет большое достоинство, — отвечал Д., — но хотя он обработал отечественное происшествие, однако ж в поэзии его нет народности. Трагедия его принадлежит к французской школе, и тяжёлые александрийские стихи её вовсе не свойственны языку нашему.
Евгений назвал „Недоросля“ Фон-Визина, и мы рассыпались в похвалах сей истинно-русской комедии. Когда я спросил барона, почему он сам не займётся этим родом, он откровенно признался, что непреодолимая лень не позволяет ему рыться в исторических материалах для избрания предмета, ни принудить себя старательно обдумать план. Он прибавил, что уже несколько раз говорил о том с приятелем своим А. С. П., но что сей последний занят сочинением эпической поэмы и вообще слишком принадлежит свету.
— Поверьте мне, — продолжал Д., — настанет время, когда он освободится от сих суетных уз, когда обратит обширный дар свой к высшей поэзии, и тогда создаст новую эпоху, а русский театр получит совершенно новую форму. <…>
А. С. также был товарищем по учению и другом барона.
В одно утро сей последний зашёл ко мне, чтобы по условию идти вместе к П. Евгений, который ещё прежде был знаком с П., пошёл с нами… Было довольно далеко до квартиры П., ибо он жил тогда на Фонтанке, близ Калинкина моста… Мы взошли на лестницу, слуга отворил двери, и мы вступили в комнату П.
У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бархатном халате, с ермолкою на голове. Возле постели на столе лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком учёного. При входе нашем П. продолжал писать несколько минут, потом, обратясь к нам, как будто уже знал, кто пришёл, подал обе руки моим товарищам со словами: „Здравствуйте, братцы!“ Вслед за сим он сказал мне с ласковою улыбкою: „Я давно желал знакомства с вами: ибо мне сказывали, что вы большой знаток в вине и всегда знаете, где достать лучшие устрицы“. <…> Мы говорили о древней и новой литературе и остановились на новейших произведениях. Суждения П. были вообще кратки, но метки; и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его заметна была большая наклонность к насмешке, которая часто становилась язвительною. Она отражалась во всех чертах лица его, и думаю, что он способен возвыситься до той истинно поэтической иронии, которая подъемлется над ограниченной жизнью смертных и которой мы столько удивляемся в Шекспире.
Хозяин наш оканчивал тогда романтическую свою поэму (речь о „Руслане и Людмиле“. —
В. М.). Я знал уже из неё некоторые отрывки, которые совершенно пленили меня и исполнили нетерпением узнать целое. Я высказал желание; товарищи мои присоединились ко мне, и П. принуждён был уступить нашим усильным просьбам и прочесть своё сочинение. Оно было истинно превосходно. И теперь ещё с восхищением вспоминаю я о высоком наслаждении, которое оно мне доставило. Какая оригинальность в изобретении! Какое поэтическое богатство! Какие блистательные картины! Какая гибкость и сладкозвучие в языке!
Откровенно признаюсь, что из позднейших произведений сего поэта ни одно не удовлетворило меня в такой степени, как сие прелестное создание юношеской его фантазии. Хотя в них нельзя не признать силы гения, хотя в них красота и блеск языка доведены, может быть, до высшего совершенства, но в них также заметно подражание иностранным образцам, недостойное их автора. П. кажется мне человеком, более назначенным к тому, чтобы самому проложить новый путь и служить образцом, нежели чтобы подражать образцам чужим, коих слава часто основывается на временно господствующем вкусе. Но довольно. Я не поэт и не должен судить о произведениях искусства. Моё дело владеть шпагой, а не пером <…>».
Посох странника
Петербург конца 1810-х — начала 1820-х годов показался Боратынскому
русскими Афинами (из послания Н. И. Гнедичу, 1823). Впрочем, и другому молодому поэту, Николаю Коншину, те годы виделись «прекрасным периодом умственного пробуждения». Литература процветала, интерес к ней был велик. В такой атмосфере молодой художник, если, разумеется, у него было дарование, вырастал как на дрожжах.
В короткое время Боратынский перезнакомился со всеми видными писателями и издателями: В. А. Жуковским, Н. И. Гнедичем, И. А. Крыловым, Н. И. Гречем, А. Е. Измайловым. Сдружился с П. Плетнёвым, И. Козловым, А. Бестужевым, К. Рылеевым, А. Одоевским, Ф. Глинкой. Но всех дороже ему, конечно, были друзья-ровесники, составившие
союз поэтов — «свободный, радостный и гордый». Из них четверых только Боратынский был новичком в литературе, имена Пушкина, Дельвига пользовались большой известностью, Кюхельбекер тоже был знаком читающей публике.
«К концу 1818 г. двух основных литературных лагерей: „Беседы“ и „Арзамаса“ уже не существует. „Беседа“ распадается ещё в 1816 г., „Арзамас“ — весной 1818 г., — пишет И. Медведева. — Однако культура арзамасская, если под нею понимать западничество французской и немецкой ориентации, объединявшее известную группу под знаменем Карамзина, переходит в иные формы, продолжая существовать и влиять на растущие литературные силы в качестве передовой. <…>
Литературные интересы группы, к которой примкнул Баратынский, выходят за пределы „арзамаства“. Литературная молодёжь, объединявшаяся вокруг лицейского центра Пушкин — Дельвиг, так называемый „Союз поэтов“, являлась передовым литературным фронтом, по существу не представлявшим полного литературного единомыслия. Конец 1810-х — начало 1820-х гг. было периодом индивидуальных литературных исканий, сменивших враждующие литературные партии, — в то же время это был период сплочения дворянской интеллигенции в тайные политические общества. Вопросы литературы сливались с политическими. Поэтому писательские объединения того времени трудно дифференцировать исключительно по узколитературным признакам.
1818 год был годом создания „Союза благоденствия“. Тайная организация стремилась к пропаганде своих идей. Создавались „вольные“ филиалы. Так было создано „вольное общество“, „Зелёная лампа“. Как пишет Бенкендорф в своей записке Александру I, „члены, приготовляемые мало-помалу для управы под председательством одного члена коренной, назывались для прикрытия разными именами („Зелёной лампы“ и пр.) и, под видом литературных вечеров или просто приятельских обществ, собирались как можно чаще“. Дух „вольного“ общества царил и в лицейском кружке, и на офицерских пирушках, и даже в некоторых салонах. Такова была литературная атмосфера Петербурга, в которую попал Баратынский».
Журналы и альманахи, а их было более десятка, в погоне за вниманием читателя отбивали друг у друга знаменитых авторов. Ведущими изданиями были «Сын отечества» Н. Греча и «Благонамеренный» А. Измайлова.
Первые же стихи Боратынского, появившиеся в печати, — а вслед за ними были опубликованы: эпиграмма «Дамон, ты начал, продолжай…», послания «К Креницыну», «К Дельвигу», стихотворение «Прощание», — были замечены и литераторами, и читающей публикой.
Осенью 1819 года старшие Боратынские, по-видимому, вновь стали ходатайствовать о высочайшем прощении рядовому лейб-гвардии. И снова безуспешно. Император был непреклонен. Мемуарист П. Г. Кичеев приводит рассказ самого Боратынского, относящийся ко второй половине 1830-х годов: «<…> офицерский чин не скоро мне дался, несмотря на некоторые протекции. Так, один раз меня поставили на часы во дворце, во время пребывания в нём покойного государя императора Александра Павловича. Видно, ему доложили, кто стоит на часах: он подошёл ко мне, спросил фамилию. Потрепал по плечу и изволил ласково сказать:
послужи! В другой раз, когда у одного вельможи (Баратынский назвал фамилию, но я её не помню) умер единственный сын, и государь соблаговолил навестить огорчённого отца, то последний стал просить государя — возвратить ему сына прощением меня, государь опять милостиво изволил отозваться:
рано, пусть ещё немного послужит».
Единственным способом получить повышение в чине и стать унтер-офицером было перейти из гвардии в армию. Троюродный дядюшка Е. А. Лутковский командовал пехотным полком в Финляндии — под его начало и задумали перевести молодого поэта, рядового гвардейца. Возможно, этого бы не удалось сделать, знай император все подробности, — но не мог же Александр I упомнить многочисленное родство дружного семейства Боратынских.
Перевод на новое место службы должен был произойти в начале нового года. А в канун 1820-го Ираклия Боратынского, бывшего братца Аша, выпустили из Пажеского корпуса прапорщиком в Конно-егерский полк. (Впоследствии Ираклий, который был младше Евгения на два года, стал генерал-майором, военным губернатором Казани и дослужился до сенатора.)
Старший брат-рядовой напутствовал младшего-офицера звонким посланием «Брату при отъезде в армию»:
Итак, мой милый, не шутя,
Сказав прости домашней неге,
Ты, ус мечтательный крутя,
На шибко скачущей телеге
От нас, увы! далёко прочь,
О нас, увы! не сожалея,
Летишь курьером день и ночь
Туда, туда, к шатрам Арея!
Итак, в мундире щегольском
Ты скоро станешь в ратном строе
Меж удальцами удальцом! <…>
Далее следуют воодушевлённые признания, довольно неожиданные для Боратынского:
Люблю я бранные шатры,
Люблю беспечность полковую,
Люблю красивые смотры,
Люблю тревогу боевую,
Люблю я храбрых, воин мой,
Люблю их видеть, в битве шумной
Летящих в пламень роковой
Толпой весёлой и безумной! <…>
Конечно, в этом послании больше гордости за младшего брата, любования им и воображения, чем
правды жизни: ведь Боратынский сам никогда не видел действительных сражений. «Пламень роковой», «весёлая и безумная толпа» — всё это, увы, отдаёт литературщиной. В реальной жизни он, похоже, был довольно равнодушен к военной службе, — разве только родовое, дворянское, служилое вдруг проснулось на миг…
Новый, 1820 год Боратынский встречал в доме Павла Яковлева вместе с Дельвигом и Кюхельбекером. Это было прощание с Петербургом…
…Перед отъездом он обратился со стихотворным посланием к Вильгельму Кюхельбекеру:
Прости, поэт! Судьбина вновь
Мне посох странника вручила,
Но к музам чистая любовь
Уж нас навек соединила! <…>
О милый мой! Всё в дар тебе —
И грусть, и сладость упованья!
Молись невидимой судьбе:
Она приближит час свиданья.
И я, с пустынных финских гор,
В отчизне бранного Одена,
К ней возведу молящий взор,
Упав смиренно на колена.
Строга ль богиня будет к нам,
Пошлёт ли весть соединенья?
Пускай пред ней сольются там
Друзей согласные моленья!
В ответном послании (при жизни автора не напечатанном) Кюхельбекер воспел «возвышенное страдание» друга, ставшего «добычей злых глупцов и зависти презренной»:
<…> И лавр, Каменой мне обещанный когда-то,
Но юной полнотой твоих душевных сил
И сладостью стихов пылающих отъятой
Тебе я радостный вручил.
Пышный, хотя местами и тёмный слог молодого Кюхельбекера поэзией не блистал, зато ярко выражал свойственную ему экзальтированность и восторженность. Дружеская симпатия двух поэтов, по замечанию филолога О. В. Голубевой, «была сильнее литературной». В 1825 году Боратынский писал Н. В. Путяте о Кюхельбекере: «<…> он человек занимательный по многим отношениям и рано или поздно в роде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он готов всё принести на жертву. Человек вместе достойный уважения и сожаления, рождённый для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия». Но о стихах Кюхли судил строго и, к примеру, о его «драматической шутке» под названием «Шекспировы духи» писал Пушкину: «Духов Кюхельбекера читал. Не дурно, да и не хорошо. Весёлость его не весела, а поэзия его бедна и косноязычна».
Сам Кюхельбекер, судя по его дневникам 1830-х годов, тоже был не в восторге от стихов Боратынского. Хоть и называл его порой «надеждой и подпорой нашей словесности», но лишь вслед за Пушкиным, Бестужевым-Марлинским, Кукольником и Сенковским; относил к «людям с талантом», но чаще ставил в ряд подражателей Пушкина, вместе с Языковым, Козловым, Шишковым-младшим: «<…> до Пушкина, правда, никто из них не дошёл, но все и каждый нанесли порознь вред Пушкину, потому что публике наконец надоел пушкинский слог».
Разумеется, ни о малейшей неискренности в посланиях молодых поэтов речи не может быть: это был взлёт братских чувств, ещё не охлаждённых трезвостью вкуса и зрелостью ума.
Судьба развела Боратынского и Кюхельбекера — после 1821 года они уже не виделись…
Стихи могут прийтись по душе — а могут и не прийтись; но братская любовь друг к другу, зародившись в молодые годы, не изменила им.
Осенью 1820 года Кюхельбекер стал секретарём А. Л. Нарышкина и уехал с ним в Европу. В путевом дневнике он то и дело вспоминает Боратынского. В Дрездене он провёл вечер с М. А. Одоевской, которая совершенно обворожила его своим разговором и напомнила ему «нашего Евгения» — манерой вести беседу и тем, что «переходит с тою же лёгкостью от предмета к предмету». А позже, близ Веймара, впервые увидев живописные утёсы и каменные горы, Кюхельбекер пишет: «<…> признаюсь, это стеснило мою душу, и меня утешила единственно мысль, что моё воображение получает те же впечатления, какие теперь в снежной утёсистой Финляндии живят и питают поэзию моего Б…»
В январе 1821 года чувствительный добряк Кюхля оказался в Марселе. Запись в дневнике обращена к Дельвигу и полна тоски по друзьям: «Когда встречали мы 1820 год, если не ошибаюсь, у Я<ковлева> и за здоровье своих друзей осушали бутылки шампанского, мы не подозревали, что наш хозяин увидит 1821 год в пустынной Бухарии; Б<оратынский> в суровой Финляндии, а я под благословенным небом древней Массилии. Ты один ещё в С.-Петербурге, Д<ельвиг>, любезный внук Аристиппа и Горация».
Глава седьмая
НА ФИНСКИХ БЕРЕГАХ
«Не вечный для времён, я вечен для себя…»
3 января 1820 года бригадный командир великий князь Николай Павлович предписал «во исполнение высочайшей воли Его Императорского Величества» перевести рядового Боратынского из лейб-гвардии Егерского полка унтер-офицером в Нейшлотский пехотный полк, расквартированный в Финляндии. В середине января снежной зимней дорогой Боратынский добрался до Фридрихсгама и явился в штаб полка.
После яркого, шумного Петербурга он не мог не грустить и не предаваться мрачной печали. Унтер-офицерство было лишь первым шагом к заветному освобождению от унизительного, подвешенного положения его бесправного дворянства. Конечно, он жил надеждой — стать через год офицером, тогда можно было бы самому распоряжаться своей жизнью. Но как пережить этот год — вдали от семьи, от дружеского круга поэтов, от «електрической» столичной круговерти?..
Фридрихсгам был расположен в 243 верстах от Петербурга. Геолог Василий Севергин набросал его облик: «Как во внешних, так и во внутренних своих строениях представляет он весьма приятный вид. Хотя домы в нём деревянные, но весьма чисты и красивы. На площади середи города находится прекрасно выстроенный каменный дом для ратуши. Жителей считается до 1000 человек. Промышленность их состоит наипаче в торгах. Домов около ста».
Ротный командир Николай Коншин был несколькими годами старше Боратынского и сам сочинял стихи. Чуткой душой собрата он сразу уловил душевное состояние молодого поэта. Вот как описывает он первую встречу в доме командира полка Георгия Алексеевича Лутковского:
«Однажды, пришед к полковнику, нахожу у него за обедом новое лицо, брюнета, в чёрном фраке, бледного, почти бронзового, молчаливого и очень серьёзного.
В Финляндии, краю военных, странно встретить русского во фраке, и поэтому я при первой возможности спросил: что за чиновник? Это был Боратынский.
Легко представить себе положение молодого человека, принадлежащего по рождению и связям к так называемой везде высшей аристократии, человека, получившего личную известность, и вдруг из круга блестящей столичной молодёжи брошенного в пехотный армейский полк, как на дикий остров. В первом столкновении с отысканными на этом острове людьми едва ли не был бы кто столь же молчалив и серьёзен, как Боратынский.
Лутковский нас свёл; мы разговорились сначала про Петербург, про театр, про лицей и Пушкина, и наконец про литературу. Лицо Боратынского оживлялось поминутно, он обрадовался, что и здесь можно разделить себя, помечтать и поболтать. Часа через два, переговоря и то и другое, мы дружно обнялись. Боратынский преобразился: он сделался мил, блестящ, прекрасен, а я из армейского франтика стал, по словам его, кладом, который [он] для себя нашёл».
Боратынский, конечно, считал себя
изгнанником, — так же думали и его петербургские друзья. Что делать! Поэты мыслят поэтическими образами, а порой и литературными клише, далеко не всегда соответствующими реальной жизни. «Романтики охотно принимали на себя роль изгнанника, наподобие Байрона и Овидия, — замечает Г. Хетсо. — Примечательно, что Пушкин в послании Баратынскому из Бессарабии (1822) называет своего друга „Овидием живым“. Кроме того, в русской поэзии стало уже традицией рассматривать Финляндию как место ссылки».
В конце 1820 года, когда Боратынский уезжал в отпуск в Мару — в надежде, что скоро будет прощён императором и уже не вернётся в Финляндию, он прощался с «отчизной непогоды», где
<…> дочь любимая природы,
Безжизненна весна;
Где солнце нехотя сияет,
Где сосен вечный шум,
И моря рёв, и всё питает
Безумье мрачных дум;
Где, отлучённый от отчизны
Враждебною судьбой,
Изнемогал без укоризны
Изгнанник молодой <…>.
Внешне, впрочем, всё было вполне благополучно: остановился он в доме командира полка, своего родственника, и, как с классовой чуткостью заметила И. Медведева (1936), «вёл существование более привилегированное, чем многие из офицеров <…>». Георгий Алексеевич Лутковский был старый вояка, добряк по натуре, любил вспоминать былые походы — Евгений заслушивался его рассказами. Служба ничем не обременяла его, даже мундир свой он надевал редко, а больше носил гражданский фрак. «В семье Лутковских он был своим человеком, — продолжает И. Медведева. — Он ухаживал за племянницей Лутковского, Анной Васильевной, и проводил вечера среди молодёжи, собиравшейся к ней. Там бывали девицы, дочери местных чиновников и военных; устраивались игры, танцы, домашние спектакли и гулянья. Стишки, записанные Баратынским в альбом А. В. Лутковской, свидетельствуют о том, что для молодых дворяночек он не был солдатом, человеком с запятнанной репутацией, недостойным общества». Николай Коншин вспоминал, что «наши старшины» вскоре полюбили Боратынского как сына. В полку его окружили уважением и заботой, «<…> усатые служивые с почтительным радушием ему кланялись, не зная ни рода его, ни чина, зная лишь одно, что он нечто, принадлежащее к полковому штабу, и что он Евгений Абрамович».
Но, как говорится, зачем соловью
золотая клетка, когда ему нужна
зелёная ветка. В первом же финском стихотворении — послании Дельвигу — видна беспросветная тоска Боратынского по утраченной жизни:
Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой весёлою мелькнувших?
Ужель душой твоей так скоро чуждым стал
Друг отлучённый, друг далёкий,
На финских берегах между пустынных скал
Бродящий с грустью одинокой? <…>
Его мучают сомнения:
Где ты, о Дельвиг мой! Ужель минувших дней
Лишь мне чувствительна утрата,
Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей
Судьбой отторженного брата? <…>
И где ж брега Невы? Где чаш весёлый стук?
Забыт друзьями друг заочной,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной!
И я, певец утех, пою утрату их,
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.
(10–15 января 1820 <1826>)
Эти жалобы просты и безыскусны. Но как окреп его стих! Чеканные ямбы приливают и отливают мерными волнами; чувство глубоко; мысль отчётлива.
Изгнанье — великая школа души и ума: слабого сомнёт, а сильный возродится в новом качестве. Не прошло и нескольких месяцев, как волна поэтического вдохновения захватила Боратынского. В апреле 1820-го он написал элегию «Финляндия». «Я помню один зимний вечер, на дворе была буря; внимающее молчание окружало нашего Скальда, когда он, восторженный, читал нам на торжественный распев, по манере, изученной у Гнедича, взятой от греков, принятой и Пушкиным, и всеми знаменитостями того времени, — когда он пропел нам свой
гимн к Финляндии» (Н. Коншин).
<…> Как всё вокруг меня пленяет чудно взор!
Там необъятными водами
Слилося море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
Сошёл тяжёлыми стопами,
Сошёл — и смотрится в зерцале гладких вод!
Уж поздно, день погас, но ясен неба свод;
На скалы финские без мрака ночь нисходит,
И только что себе в убор
Алмазных звёзд ненужный хор
На небосклон она выводит!
Так вот отечество Одиновых детей,
Грозы народов отдалённых!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвящённых!
Умолк призывный щит, не слышен скальда глас,
Воспламенённый дуб угас,
Развеял буйный ветр торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов;
И в дольнем прахе их богов
Лежат низверженные лики! <…>
О, всё своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон — закон уничтоженья,
Во всём мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья! <…>
И это величественное органное пение, словно бы исходящее от всего мироздания, не заглушает, однако, одинокий голос певца, которого приняли «граниты финские, граниты вековые», и который отдаёт свой признательный поклон «громадам, миру современным»:
Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времён, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!
Что нужды для былых иль будущих племён?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, невнимаемый, довольно награждён
За звуки звуками, а за мечты мечтами.
Одинокость человеческого существа, этого «мельчайшего атома» во Вселенной, здесь показана поразительным эпитетом:
Алмазных звёзд ненужный хор <…>;
но достоинство человека утверждается
вечностью мгновения: «я вечен для себя».
Незвонкие струны двадцатилетнего поэта уже предвозвещают то, что впоследствии — так просто, скромно, никак не желая возвышать себя, но зная своё достоинство — скажет умудрённый опытом и мастерством певец:
Мой дар убог. И голос мой негромок…
Поэт одинок — и довольно награждён — «За звуки звуками, а за мечты мечтами». И сам он, глубочайшей интуицией своей, предугадывает, что поёт для вечности, что, дарующий гармонию, несёт её всему мирозданию, всем временам.
Письма-доносы
Послание Боратынского Кюхельбекеру вышло в январе 1820 года в «Сыне отечества». Ответив, Кюхельбекер вскоре вновь вернулся к теме в большом стихотворении «Поэты». На этот раз он обобщил свои самые заветные чувства и мысли о назначении поэта — о его призвании на земле. Кюхля обращался к троим своим друзьям: Дельвигу, Боратынскому и Пушкину, ибо в первую очередь именно в них видел надежду российской словесности. Убедившись в «изгнании» Боратынского, он словно бы предчувствовал, что та же участь в скором времени постигнет их всех, и вспомнил трагические судьбы Джона Мильтона, Владислава Озерова и Торквато Тассо — и воззвал к собратьям послужить, несмотря ни на что, небесному началу поэзии:
<…> О Дельвиг! Дельвиг! что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых вдохновенных дел,
И сладостного песнопенья!
Так! не умрёт и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастьи, и в несчастьи твёрдый,
Союз любимцев вечных муз!
О вы, мой Дельвиг, мой Евгений!
С рассвета ваших тихих дней
Вас полюбил небесный Гений!
И ты — наш юный Корифей —
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина, и Врана? —
Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времён.
О други! песнь простого чувства
Дойдёт до будущих племён —
Весь век наш будет посвящён
Труду и радостям искусства. <…>
Возвышенная перекличка в печати
любимцев вечных муз, понятным образом, раздражала кое-кого из литераторов. Недовольство копилось исподволь и однажды прорвалось: нашёлся ретивый деятель, затеявший распрю. Василий Назарьевич Каразин, провинциальный дворянин, перебравшийся в столицу, был по натуре прожектёр «широкого профиля»: теоретик всевозможных реформ — с вечным зудом переустройства громыхающей по российским ухабам государственной телеги. Каразин предлагал императору план полного невмешательства в дела Европы, а затем выдвигал проект «оборонительной войны» против той же Европы; заново перекраивал на бумаге весь Кабинет министров и тут же учил, как печь вкусный хлеб из дубовых жёлудей — и прочее, прочее… Каким образом он попал в Вольное общество любителей российской словесности, остаётся загадкой. Впрочем, широк русский человек — стало быть, и Общество было не
у́же. Возглавлял его поэт Фёдор Глинка — и, надо же, Каразин сделался помощником. Как всегда у него, не обошлось без проектов. Сначала он предложил слить в единое два петербургских общества любителей российской словесности, а следом принялся исправлять
нравы в самой литературе.
1 марта 1820 года Василий Каразин прочёл за заседании Общества речь, обличающую молодых поэтов, пишущих «соблазнительные элегии» и альбомные стишки, в низменности устремлений. Издав речь брошюрой, он переправил её министру внутренних дел графу В. П. Кочубею. Через две недели на другом заседании Общества большинство писателей осудили этот поступок, найдя его «оскорблением». Однако у Каразина нашлись и защитники: так, его поддержал М. С. Загоскин, заявивший, что незачем в журнале Общества «Соревнователь просвещения и благотворения» печатать «похвалы пьянству, неге и сладострастию». Кюхельбекер прочитал на заседании Общества своё стихотворение «Поэты» и только подлил масла в огонь: в апреле Каразин послал министру Кочубею донос на Пушкина и «лицейских питомцев»:
«<…> Дух развратной вольности более и более заражает все состояния. Прошедшим летом на дороге из Украины и здесь в Петербурге я слышал от самых простых рабочих людей такие разговоры о природном равенстве и прочее, что я изумился: „Полно-де терпеть, пора бы с господами и конец сделать“. Самые дворяне, возвратившиеся из чужих краёв с войском, привезли начала, противные собственным их пользам и спокойствию государства. Молодые люди первых фамилий восхищаются французскою вольностию и не скрывают своего желания ввести её в нашем отечестве… В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей… Говорят, что один из них, Пушкин, по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи поступили. Пажеский корпус едва ли с сей стороны не походит на лицей. Всё это, взятое вместе, неоднократно рождало во мне мысль, что какая-нибудь невидимая рука движет внутри отечества нашего погибельнейшими для него пружинами, что они в самой тесной связи с нынешними заграничными делами и что, может быть, два или три лица, имеющие решительный доступ к государю и могущие сами быть действующими, не что иное, как жалкие только орудия… Стоит только вспомнить Францию и ужасное влияние, которое имели на неё тайные общества…
Кто сочинители карикатур и эпиграмм, каковые, например, на двуглавого орла, на Стурдзу, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно и пр. Это лицейские питомцы!..
Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в благодарность написал презельную оду, где досталось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом <…>».
Вскоре Пушкин попал под следствие, — лишь заступничество Н. М. Карамзина и А. И. Тургенева уберегло его от ссылки в Сибирь: поэта перевели по службе в Кишинёв под строгий надзор властей.
Но Каразин продолжал писать свои письма-доносы графу Кочубею о «безумной молодёжи», которая хочет «блеснуть неуважением к правительству», упоминая стихи Кюхельбекера, Боратынского, читанные в Обществе любителей российской словесности или же напечатанные в журнале «Соревнователь» и в «Благонамеренном»:
«Чтобы не утомлять Ваше сиятельство более сими вздорами, вообразите, что всё это пишут и печатают бесстыдно не развратники, запечатлённые уже общим мнением, но молодые люди, едва вышедшие из царских училищ, и подумайте о следствии такого воспитания! Я на это, на это только ищу обратить внимание Ваше <…>»
Конечно, не одними стараниями Каразина Пушкин угодил в служебную ссылку на юг: к тому времени император Александр I был озабочен прежде всего деятельностью политических тайных обществ, о которых поступали ему секретные донесения, но всё же и неудобные «стишки» были ему досадны. То ли правительство воздействовало на журналы, то ли сами журналисты решили выслужиться перед правительством, а, может быть, ко всему прочему примешалась и обычная литературная зависть, но с конца 1821 года высмеивание в печати «союза поэтов» сделалось постоянным. В «Благонамеренном» появилось стихотворение Б. Фёдорова:
Сурков Тевтонова возносит,
Тевтонов для него венцов бессмертных просит;
Барабинский, прославленный от них,
Их прославляет обоих.
В этих выдуманных именах легко угадывались Дельвиг, Кюхельбекер и Боратынский.
Слог Б. Фёдорова, укрывшегося под псевдонимом, не блистал художественностью:
Один напишет: мой Гораций!
Другой в ответ: любимец Граций!
И третий друг,
Возвысив дух,
Кричит: вы, вы, любимцы Граций!
А те ему: о наш Гораций! <…>
Друг друга прославляйте,
Друг друга разбирайте,
С Горацием равняйте,
Посланья сочиняйте,
В журналы отправляйте <…>
Друг другу посвящайте <…>
Такие же вирши замелькали в «Вестнике Европы» Каченовского…
В сатирическом приложении к журналу «Благонамеренный» появилось сообщение: «Некто из литературных баловней, недавно вышедших из училища, желает познакомиться с известными стихотворцами и составить себе репутацию. Он просит каждого из них написать к нему по одному похвальному посланию в эротическом или в элегическом роде, с
чашами бытия или с
отцветшею душою, или по крайней мере
борьбою с роком и т. п.».
Знал или нет Боратынский про эти иронические опусы, неизвестно. Вполне может быть, что они прошли мимо него, жившего вдали от литературной борьбы, в которой у него ни тогда, ни потом не было никакого желания участвовать. Ещё в начале 1820 года его заочно приняли в члены-корреспонденты Вольного общества любителей российской словесности, и он был признателен за это признание и поддержку. И Общество, и «союз поэтов» были для него, новичка и одиночки в литературе, литературной школой, которой он, несомненно, дорожил, но жизнь его проходила наособицу, в финской глуши. Из поэтов рядом находился только Николай Коншин…
Скалы, водопады и море
Характерами Боратынский с Коншиным не очень сходились. «Ты во всём охотно видишь хорошую сторону — я охотно дурную», — говорил Боратынский другу; но Коншин уверял, что впервые в жизни встретился с человеком, столь похожим на него и нравом, и сердцем. Впрочем, однажды Коншин выразился еще определённее: «Мы не столько любили один другого, сколько были нужны друг для друга».
Боратынский часто езживал по 15 вёрст из Фридрихсгама в Ликоловские казармы, чтобы навестить своего товарища. Виды вдоль этой дороги Коншину казались таинственными и романтическими: «На дороге горы, пропасть и какие-то странные каменные громады, мимо которых ночью проезжаешь как через деревни, когда-то оставленные и окаменелые. Дорога пустая, ни встречи, ни жизни по сторонам…»
Рота Коншина охраняла береговую линию Финского залива. Тут неподалёку стояла крепость Кюмень; вверх по течению одноименной реки ревел водопад Хэгфорс; ещё в десяти верстах находилась крепость Роченсальм. Гранитные утёсы и скалы, огромные, дышащие древностью валуны поразили Боратынского, привыкшего к тамбовской лесостепи и её плавным рекам.
Потом Боратынский и вовсе переехал в Кюмень и поселился с Коншиным. Сдружился с полковыми офицерами, ездил на пикники, на балы, устраивал с ними театр «в сюрприз полковнице». Бывший ротный командир вспоминал, что все с большим вниманием слушали этого «юношу, грациозного как камергер, высокого, стройного, с открытым большим лбом, через который небрежно перекинуты длинные чёрные волосы».
Коншин показывал другу окрестности, примечательные места и запомнил, как по весне, когда горы сбросили снег, они поразили Боратынского, встав «в каменной торжественности». А когда Нейшлотский полк разбил лагерь в Вильманстранде, он свозил Боратынского на знаменитый водопад Иматру. «В Финляндии есть чудо: это водопад Иматра, река Бокса, суженная гранитными берегами, с оторванным дном, летит в бездну. <…> Долго стоял поэт над оглушающей пропастью, скрестя руки на груди». Позже точно бы эхом это отозвалось в нём взволнованными стихами, в которых ощутимо прикосновение к тайне:
Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины! <…>
Зачем с безумным ожиданьем
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?
Как очарованный стою
Над дымной бездною твоею
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою <…>.
Ещё сильнее потрясло Боратынского открытое море близ Роченсальма, куда перебрался полк и где они вместе квартировали с Николаем Коншиным. Тот вспоминал: «Погода была ветреная, и когда мы взобрались на прибрежные скалы, море играло во всей красоте своей. Прекрасно, воскликнул поэт и умолк. Я оставил его, удалясь в сторону. Он сел при подошве огромной башни маяка и долго любовался на торжественное явление».
Позже Боратынский как-то признался Коншину, что никогда у него не было в жизни такого поэтического лета: его будто бы перенесло в мир баснословной старины «с его колоссальными размерами и силы, и страсти». Гейр Хетсо замечает по этому поводу, что поэт воспринял финскую природу в немалой степени под действием «чисто литературных, оссиановских представлений»: «Мятежная, бунтарская сторона его натуры, ненавидящая „беспрерывный покой“, должна была восторгаться этой страной, однажды населяемой „полночными героями“, исполненными „совершенным отвращением от спокойной жизни“. Вообще Финляндия в значительной мере расширила поэтический кругозор Баратынского. У себя в Маре поэт полюбил спокойный, идиллический ландшафт, а здесь в Финляндии он столкнулся с дикой, мятежной стороной природы. Несомненно, что это столкновение во многом способствовало развитию столь характерной для поэзии Баратынского антитезы „покой“: „волнение“».
Можно добавить лишь одно: то дикое, первозданное —
мятежное — в природе, что Пушкин, Лермонтов и другие поэты нашли для себя на Кавказе, Боратынский встретил в горных массивах сурового северного края.
А море — всегда его влекло как влажная стихия воли, простора и тайны, в её слиянии с другой стихией — неба…
На перепутье бытия
Во второй половине апреля 1820 года Боратынского отпустили на короткое время в Санкт-Петербург — там умирал его любимый дядюшка Богдан Андреевич. В столице поэт побывал на заседании Вольного общества любителей российской словесности, где читал или присутствовал на чтении своих стихов: элегии «Финляндия» и мадригала «Финским красавицам». В «Журнале учёных упражнений» Общества отмечено, что оба стихотворения «одобрены» и «избраны». В собрании присутствовали Фёдор Глинка, Дельвиг, Плетнёв, Кюхельбекер, Загоскин и другие литераторы.
Богдан Андреевич Боратынский скончался 23 апреля…
Опечаленным возвратился поэт в свою финскую ссылку. Глубокой грустью исполнено вроде бы ироничное послание Николаю Коншину, написанное этой весной. Он обращается к другу с призывом — «люби, мечтай, пируй и пой», называя «безумной» жажду славы, — и этот, внешне оптимистический, призыв больше похож на безнадежное отчаяние:
<…> Равно исчезнут в бездне лет
И годы шумные побед,
И миг незнаемый забавы!
Всех смертных ждёт судьба одна:
Всех чередом поглотит Лета,
И философа болтуна,
И длинноусого корнета,
И в молдаванке шалуна,
И в рубище Анахорета. <…>
И выход, если это только можно так назвать, один — жить мгновением:
Познай же цену срочных дней,
Лови пролётное мгновенье!
Исчезнет жизни сновиденье:
Кто был счастливей, был умней. <…>
В ранней редакции есть строки, которые потом Боратынский вычеркнул, должно быть, посчитав слишком откровенными или «непроходными» в духовной цензуре:
Что жизнь? — медлительный недуг,
Условный дар слепого неба <…>.
Давно ли он думал так?.. Быть может, что давно.
Николай Михайлович Коншин ответил на эти стихи своим «безнадежным» посланием…
И снова Боратынский пишет в стихах к нему. На этот раз ирония отброшена — он рассуждает о счастье и, словно бы мудрый наставник, поучает товарища, хотя сам семью годами младше его.
Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;
Не испытав его, нельзя понять и счастья <…>.
Счастливцы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?
Но кто постигнут роком гневным.
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачом душевным. <…>
От дружбы он переходит к любви и вслух мечтает о «чувствительной подруге», которой можно будет поверить «всё расслабление души твоей больной, / Забыв и свет, и рок суровый <…>» —
И на устах её, в её дыханье пить
Целебный воздух жизни новой! <…>
Не только жизнь порождает стихи, но и стихи вызывают к жизни желаемое или, по-нынешнему говоря, программируют жизнь. Молодой поэт словно бы выстраивает в стихах свою будущность, всё яснее сам её понимая. Это не заговор словом грядущего — а притягивание словом того, что больше всего желает душа…
В новом послании Боратынскому, написанному летом, «при выступлении из лагеря в деревню», Коншин, призывая друга забыть армейский шумный стан и «хлопотливые разводы» — в блаженном отдыхе на лоне природы, вдруг сознавался:
<…> Но что-то всё не веселит;
Ах, что-то всё не то, что было!
Уже восторг в груди молчит
И сердце ко всемуостыло;
Как будто радость отнята,
Как будто нет уж наслажденья!
Исчезла жизнь воображенья,
Способность чувствовать не та! <…>
Ответ Боратынского элегичен по тону, но он будто бы продолжает прерванный разговор о счастье:
Пора покинуть, милый друг,
Знамёна ветреной Киприды
И неизбежные обиды
Предупредить, пока досуг.
Чьих ожидать увещеваний!
Мы лишены старинных прав
На своеволие забав,
На своеволие желаний.
Уж отлетает век младой,
Уж сердце опытнее стало:
Теперь ни в чём, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам. <…>
Двадцатилетний поэт уже прощается с молодостью и её пустыми «забавами». Он ясно и отчётливо определяет — стихами и тоном — свою сокровенную мечту, которая тихо и долго зрела в нём всегда и которую не смогли убить ни петербургский «разгул», ни финляндские увлечения — никакие обольщения страсти:
Пресытясь буйным наслажденьем,
Пресытясь ласками цирцей,
Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ли найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чьё неизменное участье
Беспечно веровал бы я,
Случится вёдро иль ненастье
На перепутье бытия?
Где ж обречённая судьбою?
На чьей груди я успокою
Свою усталую главу? <…>
(1821)
Пушкин сразу же отметил это глубокое и искреннее стихотворение Боратынского: в том же 1821 году в послании «Алексееву» он буквально процитировал самые
важные строки:
Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной!
Нельзя ль найти любви надежной?»
И ничего не нахожу.
Что же до Боратынского… «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф., 7–7,8). — Ту, кого просил он у Бога всей душой, он получил — через несколько лет, сразу же после Финляндии…
Николай Коншин продолжал ещё писать послания Боратынскому — но для того тема душевной беседы была уже исчерпана…
Насытившись дикими красотами Финляндии, он вдруг заскучал по дому, по Петербургу, по России…
Круговая чаша «в семействе дружеском соратных шалунов» уже не грела сердце и не веселила.
<…> Но что же ? вне себя я тщетно жить хотел <…>.
А
внутри себя — печаль, уныние…
Даже
охота петь перестала владеть им:
<…> С бездействием любезен мне союз;
Лелеемый счастливым усыпленьем,
Я не хочу притворным исступленьем
Обманывать ни юных дев, ни муз.
Он вспоминает Мару в самых трогательных стихах:
Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы милые, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы! <…>
Прожив год в Финляндии, Боратынский надеется, что теперь-то получит офицерский чин и возможность вернуться на родину. Спешит «для сладкого свиданья» к стране родной и уже заранее прощается с «отчизной непогоды» — печальной финской землёй…
В новом послании Дельвигу — снова о недуге бытия, о невозможности «прямого блаженства» для земных детей Прометея. Одного
земного счастья мало для души, тут, пожалуй, не спасёт и
подруга нежная…
<…> Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться. <…>
Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..
Вотще! <…>
Полное счастье — невозможно. Напрасно его желать и стремиться к нему, это тщета, как и всё на земле. — Таков неутешительный вывод молодого Боратынского, который он прежде неясно предчувствовал, а теперь трезво осознал, и которому вряд ли изменит во всей своей жизни. Остаётся только улыбнуться своему наивному желанию счастья: в очередном, четвёртом, послании Дельвигу он признаётся, что каждый час готовится к смерти и уже не страшится её:
<…> О Дельвиг! слёзы мне не нужны;
Верь, в закоцитной стороне
Приём радушный будет мне:
Со мною музы были дружны!
Там, в очарованной тени,
Где благоденствуют поэты,
Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты,
И улыбнутся мне они.
И обещает, в том же шутливом тоне, встретить когда-нибудь своих друзей «у врат Айдеса», дабы и в загробном мире наполнить «радостные чаши» и огласить взаимными приветами «весь необъемлемый Аид»…
В начале декабря 1820 года Боратынскому предоставили отпуск, и он приехал в Петербург. 13 декабря в собрании Вольного общества любителей российской словесности звучат его стихи: поэма «Пиры» и послание «Дельвигу» («Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти…»). Сам ли поэт читал свои произведения или кто-нибудь другой — из протоколов Общества не ясно. Рядом с ним сидят на заседании друг Дельвиг, Фёдор Глинка, Плетнёв…
Боратынский заглянул в собрание накануне поездки в Мару, к матери, которую так долго не видел.
Тогда же, перед новым годом, полковник Г. А. Лутковский представил унтер-офицера Боратынского к званию прапорщика. — Император вновь ответил отказом…
Глава восьмая
ПУСТЫНЯ ЖИЗНИ И САДЫ ЛЮБВИ
«Хотел воскреснуть я душою…»
Как ни ждал он освобождения и как бы ни был опечален тем, что вновь не получил царского прощения, Боратынский ехал домой с лёгким и радостным сердцем. Год в Финляндии не прошёл даром. Душевные раны затянулись; он вырос мыслями, окреп духом. Музы не оставили в беде, разделили одиночество; и хоть томили грусть и печаль и пелось уныние, таинственным образом оно же и разрешалось в стихах. Пусть не исчезало вовсе — но уменьшалось, отодвигалось в сторону как несущественное, уступая место ясному самосознанию, душевной стойкости и твёрдости. То, что впоследствии отлилось в чеканную словесную формулу:
болящий дух врачует песнопенье — тогда, в первый год его финской жизни, проявилось будто бы само собой, пришло вместе со стихами: песни врачевали душу и укрепляли дух.
Отметим,
когда его спасла поэзия. После нравственного катарсиса, столь глубоко и остро пережитого, что он, преодолев соблазн самоубийства, едва не умер от нервической горячки.
Казалось бы, дело тут исключительно в личной совести Боратынского — и ничего другого не касается. Однако не все так думают. Евгений Лебедев, автор книги «Тризна», увидел в известном эпизоде из его жизни нечто совершенно иное:
«Так или иначе, Боратынский мог избежать солдатчины. Но он распорядился своей судьбой по-иному. Он переезжает в Петербург и в феврале 1819 года
сам поступает рядовым в лейб-гвардии егерский полк.
<…> пройдя через горнило раскаяния, он не смирился. Решение поступить на службу рядовым — это начало напряжённого духовного поединка между монархом, для которого все возможные последствия дела о краже казённых денег исчерпывались указом об исключении провинившегося из корпуса и запретом служить, и 19-летним юношей, который в продолжение трёх лет после совершённого проступка развился в нравственном отношении настолько, что сам осудил себя и пришёл требовать наказания. „Высочайшее“ наказание от 15 апреля 1816 года становилось как бы недействительным. Искреннее раскаяние юноши и приговор, вынесенный им самому себе, ставили под сомнение возможность нравственной опеки царя над своими подданными. Ведь в том упорстве, с которым молодой дворянин, запятнавший своё имя, стремился стереть с себя позор солдатской лямкою, для Александра I содержалось тревожное указание на то, что сила его как монарха утрачивала в нравственном качестве и на поверку являлась только грубой, материальной силой подавления, кары».
Если этот пассаж не игра «возвышенного» воображения, то тогда что же?.. О каком «духовном поединке» речь?.. У решения идти в солдаты была вполне земная причина — надо было, по-старинному говоря,
заслужить провинность и полностью возвратить свои дворянские права, без которых дворянину нельзя нормально жить. Юноша не только
сам принимал решение: вся его родня думала и ломала голову, — а это многомудрые адмиралы и царедворцы. Государево наказание было относительно мягким, оно отнюдь не «подавляло», а предлагало формальный выход — солдатскую службу. Да и «солдатчина» у Боратынского была лишь показная, а «солдатская лямка» оказалась весьма лёгкой. Его настоящие мучения были отнюдь не в службе и уж никак не в быту — а в неопределённости положения полусолдата-полудворянина, во временной несвободе действий. Но монарх на то и монарх, чтобы его воля не обсуждалась, а исполнялась.
Первый из дворян обязан следить за соблюдением дворянской чести всеми подданными. Ходатаи и радетели за судьбу провинившегося Боратынского, может быть, только навредили ему чрезмерными усилиями, которые государь, вероятно, счёл за назойливость и желание послаблений. Наверняка добавили своё и печатные доносы «собратьев»-литераторов…
Сам Боратынский, конечно, досадовал на то, что ему так долго не дают офицерства, но Александра I никак и никогда не осуждал. Ни до, ни после его кончины в 1825 году. Ни единой даже эпиграммки… Вряд ли это следствие осторожности или присущего ему отвращения к
политике. Ни при чём здесь и его обычное добродушие: при случае Боратынский был довольно ядовит в своих иронических стихах, а порой и беспощаден в эпиграммах.
Никакого «духовного поединка» с монархом у него попросту не было. Поэт отнюдь не являлся противником монархии и с царями никогда не задирался словом. Если ему что-то и не нравилось в государственном устройстве, это не касалось сущности власти на Руси.
За проступок свой Боратынский действительно, как сказал Е. Лебедев, «сам осудил себя», но разве же он «пришёл требовать наказания», записавшись в солдаты? Он пришёл — избывать наказание, полученное от Александра I. А это было возможно, только послужив
Царю и Отечеству…
Другое дело, к тому времени молодой Боратынский сурово поверил себя перед лицом собственной совести. Его внутренняя работа, судя по всему, была огромной, серьёзной и исключительно плодотворной — и это стало заметно по необыкновенной зрелости стихов, написанных в Финляндии. Ещё прежде, отроком и юношей, Боратынский имел склонность к строгому самоанализу — теперь же он отслеживал в себе каждую мысль, каждое движение души — и с беспощадной правдивостью судил себя. Причём эта постоянная работа души не была подневольной, деланой, а прямо исходила от его естества, неуклонно стремящегося к правде и истине.
Его мрачное настроение духа постоянно менялось — осветляясь; так небо, затянутое тучами, вдруг там и сям пробивают лучи солнца, и свинцовая хмарь исподволь переходит в прозрачную зарю. Это видно по элегии, написанной в мае 1820 года. В ранней редакции она называлась «Уныние»; но позже название переменилось на нейтральное «Лагерь» (в окончательном виде стихотворение вообще осталось без названия). Первоначальная неопределённость:
<…> за чашей круговою <…>
Я уповал ожить душою <…>
сменилась на твёрдое желание:
<…> Хотел воскреснуть я душою <…>.
Лишь через несколько лет, возвратившись к тексту, поэт уточнил строку и вместо слова «хотел» поставил: «мечтал», но глагол «воскреснуть» остался неизменным. Именно это и было главным, без чего он уже не мог жить и к чему постоянно стремился в Финляндии:
воскреснуть душою.
Поначалу в своей новой жизни это-то не слишком удавалось:
<…> Но что же? вне себя я тщетно жить хотел:
Вино и Вакха мы хвалили,
Но я безрадостно с друзьями радость пел:
Восторги их мне чужды были.
Того не приобресть, что сердцем не дано,
Всесильным собственною силой;
Одна печаль, уныние одно
Способен чувствовать унылой!
Разбирая эту элегию, Евгений Лебедев пишет:
«<…> даже в приведённых стихах, достаточно наивных по сравнению с его более поздними произведениями, Боратынский сумел не только воспеть традиционное для элегической поэзии „уныние“, но и выразить (покуда ещё неосознанно, интуитивно) такое состояние души, такой „фазис“ её, как сказали бы в XIX веке, о котором до него не писал ни один из русских поэтов. Ведь в этом стихотворении по-настоящему ценно отнюдь не финальное умозаключение и не противопоставление „унылого“ себя весёлой толпе пирующих друзей. Дело в том, что ведь поэт участвует в пирушке, и одновременно с этим происходит напряжённая работа души, не соответствующая радостному настроению окружающих. Это странное состояние раздвоенности человека в его „сиюминутной“, что ли, конкретности впервые в русской лирике уловил и запечатлел именно Боратынский. Отныне раздвоенность, отчуждение станет главнейшею темою его поэзии. Отсюда путь его лежит к одному из позднейших его шедевров, где раздвоенность натуры современного ему человека примет уже обобщённые формы (см.: „На что вы, дни?..“, 1840)».
Однако эта
раздвоенность и есть не столько
отчуждение, сколько запечатление ни на миг не прекращающейся работы его самосознания, такой характерной для Боратынского во всей его жизни, — это сам процесс
возрастания души, который он не смог бы прервать, даже если бы захотел. Обычный человек целиком растворяется в проживаемом мгновении, другой же не в силах полностью раствориться, потому что его ум и сознание тут же «расщепляют» текущую жизнь и подвергают её поверке совестью. Такой человек проживает
вдвойне, но он не может
забыться. Ни за «чашей круговой», ни за чем иным. Вряд ли он счастлив от этой постоянной работы самосознания и совести, но иначе
воскреснуть душою у него не получится. Его
отчуждённость от остальных — внутренняя, она свойство души, и это никуда не денешь.
«За год финляндской жизни к Боратынскому пришла слава: было напечатано и написано более 20 стихотворений <…> и поэма „Пиры“; 26 января 1820 г. он был в ободрение принят членом-корреспондентом в Вольное общество любителей российской словесности, и как минимум 9 его произведений были читаны в обществе и одобрены к публикации. Именно в этот год сформировалась устойчивая система его понятий о жизни, в основе которой — сознание своей отчуждённости от общей жизни, сознание своей избранности, сознание относительности всех истин», — подводит итоги Алексей Песков в очерке жизни и творчества Боратынского, открывающем полное собрание сочинений и писем (2002). Исследователь считает, что
сознание отчуждённости было воспитано как повседневной жизнью, так и литературой — «по элегическим стереотипам». Однако жизнь
воспитывает молодого человека лишь тогда, когда он к этому предуготовлен, и тому, что уже изначально содержалось в нём.
Об «ореоле изгнанника», окружавшем поэтическую «позу» Боратынского в Финляндии, которая была так «симпатична тогдашнему читателю», пишет и Евгений Лебедев. Если, вольно или невольно, так оно и было, то этот ореол существовал очень недолго: самокритичный, взыскующий правды ум и честность перед самим собой позволили поэту быстро справиться с издержками творческой молодости.
Первая поэма
Первая поэма Боратынского «Пиры» была написана в 1820 году в Финляндии. Начиналась она легко и шутливо:
Друзья мои! я видел свет,
На всё взглянул я верным оком.
Душа полна была сует,
И долго плыл я общим током <…>.
Но это поздняя редакция, относящаяся к 1832 году, и сделана она уже давно женатым человеком, чутко оберегающим семейное счастье. Не ради этого ли поэт порой подправлял свои былые строки, изменял даты? А может, с возрастом и мастерством ему уже претила былая прямолинейность и откровенность? Как бы то ни было, в ранней редакции было другое начало:
Друзья мои! я видел свет,
На всё взглянул я верным глазом,
Любовник, воин и поэт,
Трём божествам служил я разом.
В каждой шутке доля правды, иногда немалая. Любовь —
божество и поставлена на первое место среди других. Вполне естественно для молодого человека, не слишком увлечённого «божеством» воинской службы и ещё не совсем уверенного в своём поэтическом даровании. Однако поэма вовсе не о любви — буквально следующей же строкой: «Безумству долг мой заплачён…» на этой теме ставится крест. Дружество — вот основной мотив поэмы, святое братство таких же, как он, певцов, разделённых судьбиной, но верных своему единству.
«Пиры» вышли в свет в марте 1821 года в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». Эпиграф более чем прозрачно намекал на финляндскую «ссылку»: «Воображение раскрасило тусклые окна тюрьмы Серванта. Стерн». Издатели сопроводили публикацию словно бы шутливо извиняющимся предисловием: «Сия небольшая поэма писана в Финляндии. Это своеобразная шутка, которая, подобно музыкальным фантазиям, не подлежит строгому критическому разбору. Сочинитель писал её в весёлом расположении духа; мы надеемся, что не будут судить его сердито».
Всё это было: и пронизанный иронией непринуждённый слог, и весёлое настроение духа (хотя к концу поэмы стихи немного погрустнели). Всё свидетельствовало о том, что недавний душевный кризис преодолён и сердце молодого поэта раскрыто для новых впечатлений и жаждет жизни. Пусть уныние не исчезло вовсе — но оно отодвинулось в сторону и не так страшно…
В «Пирах» дышит свобода — и от былой подавленности духа, и от финляндского «изгнанничества». Не это ли раскрепостило Боратынского и вынесло его за пределы жанра: он пренебрёг традиционной литературной формой, «отпустил вожжи» повествования — и описательная поэма, повинуясь своей свободе, перешла вдруг в дружеское послание, а потом и в элегию.
Жизнелюбивый рассказ о роскошных, но незамысловатых пиршествах дворянских хлебосолов в Белокаменной сменяется воспоминанием о дружеских пирушках, куда как более дорогих сердцу:
В углу безвестном Петрограда,
В тени древес, во мраке сада,
Тот домик помните ль, друзья,
Где наша верная семья,
Оставя скуку за порогом,
Соединялась в шумный круг
И без чинов с румяным богом
Делила радостный досуг?
Вино лилось, вино сверкало;
Сверкали блёстки острых слов,
И веки сердце проживало
В немного пламенных часов.
Тут, на простой скатерти не хрустали, не «фарфоры Китая», а «стекло простое» — зато через край «любимое Аи»:
Его звездящаяся влага
Недаром взоры веселит:
В ней укрывается отвага,
Она свободою кипит,
Как пылкий ум, не терпит плена,
Рвёт пробку резвою волной,
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой.
Мы в ней заботы потопляли
И средь восторженных затей
«Певцы пируют! — восклицали. —
Слепая чернь, благоговей!»
Боратынский вспоминает и себя в этих вольных поэтических застольях: как пил «с улыбкой равнодушной» и как потом «светлела мрачная мечта». Воспоминание дорого… но оно вызывает в памяти родину, и оттого ещё острее ощущается разлука с ней.
О, если б тёплою мольбой
Обезоружив гнев судьбины,
Перенестись от скал чужбины
Мне можно было б в край родной!
Вместе с искристой влагой шампанского послание словно бы перетекает в элегию: поэт мечтает о новом пире, о том, как он собрал бы у себя в родном дому разбросанных по свету друзей:
Мы, те же сердцем в век иной,
Сберёмтесь дружеской толпой
Под мирный кров домашней сени:
Ты, верный мне, ты, Д<ельви>г мой,
Мой брат по музе и по лени.
Ты П<ушки>н наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано с проказливым умом
Быть сердца верным знатоком
И лучшим гостем за бутылкой.
Вы все, делившие со мной
И наслажденья, и мечтанья,
О, поспешите в домик мой
На сладкий пир, на пир свиданья! <…>
В ранней редакции поэмы о Пушкине другие стихи — может, не такие обдуманные, но не менее искренние и живые:
Ты, поневоле милый льстец,
Очаровательный певец
Любви, свободы и забавы,
Ты, П<ушкин>, ветреный мудрец,
Наперсник шалости и славы, —
Молитву радости запой,
Запой: соседственные боги,
Сатиры, фавны козлоноги
Сбегутся слушать голос твой,
Певца внимательно обстанут
И, гимн весёлый затвердив.
Им оглашать наперерыв
Мои леса не перестанут.
Именно эти строки прочитал тогда же, в 1821 году, Пушкин, сосланный
по службе на юг. Сочиняя третью главу «Евгения Онегина», он вспомнил дружеское обращение к себе Боратынского и ответил ему: ни много ни мало
попросил перевести письмо Татьяны к Онегину:
Певец Пиров и грусти томной,
Когда б ещё ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова,
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном…
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.
Стало быть, «Пиры» пришлись Пушкину весьма по душе. Пушкин всегда был щедр на похвалу и ободрение своих сотоварищей, но здесь видно и другое: по духу, по слогу поэма Боратынского была близка первым главам «Онегина». Заметим, однако, насколько мягче, яснее, добрее и серьёзнее обращение в «Онегине» Пушкина к Боратынскому: тут нет ни «льстеца», ни эпитетов «проказливый» и «ветреный», ни мифологической буколики…
Что же до «профессиональной» критики, то она поначалу мало заметила поэму и лишь в 1826 году, при её переиздании в книге, удостоила отзыва. «Московский телеграф» слегка журил Боратынского: «Поэт называет „Пиры“ описательной поэмой, но с этим едва ли можно согласиться, если поэму принять в собственном значении слова.
Пиры более похожи на эпистолу. Поэт в шутливом тоне описывает друзьям своим утехи пиров… Описание Московских пиров прелестно, но признаемся, что нам всего лучше кажется окончание стихов, где любимое чувство поэта преодолевает шутливость и весёлость смешивается с унынием». От «певца уныния» и требовали — уныния…
В том же духе оценил поэму в 1842 году и В. Г. Белинский: «„Пиры“ собственно не поэма; так — шутка в начале и элегия в конце».
«Литературные педанты» (Е. Лебедев) ничего не поняли: ни замысла Боратынского, ни его тонкого исполнения. Свободный дух поэмы, преобразивший сам жанр, сбил их с толку и не позволил разглядеть её внутреннюю целостность. Уже в наши годы филолог Евгений Лебедев воздал должное «Пирам»:
«Современники, критиковавшие „Пиры“ за эклектичность, были неправы. Боратынский создал стройную по композиции, соразмерную по архитектонике, связанную единой идеей поэму. К этому следует добавить и удивительно непринуждённую авторскую интонацию, ироничную по преимуществу. <…> „Растворив“ всё предметно-духовное содержание своей поэмы в иронической повествовательной интонации, юный Боратынский выступил убеждённым представителем романтического направления».
Единственный из современников, который верно оценил поэму, был Александр Пушкин…
В том же номере «Соревнователя» за 1821 год рядом с «Пирами» был напечатан трактат Боратынского «О заблуждениях и истине», где автор то ли в шутку, то ли всерьёз доказывает право всякого человека на свою истину. Относительность всех истин молодой поэт выводит из того, что всё в этом мире изменчиво —
проходчиво и каждый возраст по-своему прав.
«Молодость называют временем слепоты и заблуждений; самовластная старость умела определить её таким образом. „Юноши, — говорит нам ворчунья, — страсти ослепляют вас, мечты ваши украшают все предметы, воображение устилает цветами бездну, готовую расступиться под стопами вашими, но поживите с моё, и вы увидите истину без покрова“.
— Бабушка, — я бы отвечал ей, — твои уроки мне бы досадили в другое время, но сегодня я не расположен сердиться и тебе советую отвыкнуть от твоего брюзгливого ворчанья. Но послушай: глаза твои слабеют, а ты хочешь лучше меня видеть! чувства твои завяли, а ты хочешь лучше меня чувствовать! Как? потому что годы, лишив тебя зрения, накинули мрачное покрывало на окружающие тебя предметы, я должен верить, что они в самом деле одеты туманом! Как? потому что твоё воображение угасло, я назову мечтательными цветы, которые вижу при свете своего собственного воображения! Я не могу сомневаться в их существовании потому, что их вижу; а вижу потому, что имею хорошее зрение. Ты лишена глаз и чувства; займи их у меня, моя милая, и ты почувствуешь всю ветреность твоих заключений. <…>
Ты говоришь мне об опыте; но я не знаю ещё, что такое опыт. Он или прибавит что-нибудь к существу моему или уничтожит некоторую часть его: в обоих случаях я перестану быть самим собою — я переменюсь один, предметы не переменятся. И зачем мне променять мечты свои на твой рассудок? Ты сказала в какой-то книге: „Суди о человеке по его поступкам“. Нельзя ли сказать тоже: „Суди о правилах по их последствиям“? Суди же, моя радость; ты печальна, а я весел; ты подозрительна, а я доверчив; ты сердишься и кашляешь, а я смеюсь и напеваю шутливую песню; я умнее потому, что счастливее».
В этом воображаемом споре об истине (наверное, уже было немало действительных оппонентов) молодой поэт, отметая досужие поучения
старших, просто отстаивает своё достоинство и самостояние в мыслях и творчестве. Рискуя впасть в схоластику, он стоит на своём: в данный момент это для него важнее, чем отыскание высшей истины:
«Поэтому нет истины? Кто вам говорит что-нибудь подобное? Но истина, не есть ли она до крайности относительная? Каждый возраст, каждая минута нашей жизни не имеет ли собственные, ей одной свойственные истины? Предметы, нас окружающие, не так же ли относятся к нашему рассудку, как солнечные лучи ко внутреннему расположению наших глаз? Не безумно ли отречься от приятного чувства только потому, что другие называют его заблуждением? Не безумно ли называть человека безрассудным только потому, что поступки его нам кажутся безрассудными? Не странно ли писать рассуждение об истине, когда доказываешь, что каждый из нас имеет собственные свои истины?»
Всё же преобладающий шутливый тон трактата — свидетельство того, что и сами эти доказательства относительны.
Всё проходчиво…
Красавица по прозвищу Мотылёк
Боратынский встретил новый, 1822 год в родовом имении в Маре и прожил у маменьки полтора месяца. Свидетельств о его пребывании на родине не сохранилось, разве одно, косвенное. На старости лет декабрист А. И. Беляев вспоминал, как в ту зиму он, семнадцатилетний мичман, приехал на побывку к родителям в Чембарский уезд и как часто оттуда наведывался в Васильевку соседнего Кирсановского уезда — погостить в имении семейства В. А. Недоброво:
«В Васильевке, при своей хорошей музыке, очень часто танцевали… Тогдашние танцы 1820 года состояли из экосеза, попурри, котильона — он же был самый продолжительный, очаровательный для влюблённого, как и мазурка… Зимою, после обеда, ездили кататься. Для этого подавалось много троечных саней; все рассаживались как хотели, кавалеры размешались или в санях, или на запятках… По вечерам иногда устраивались различные игры, тоже живые и весёлые; игрывали в жмурки, в колечко, в рекрутский набор, в туалет, в почту, в цветы и множество других игр, в которых, конечно, как и в танцах, выражалась всё та же любовь, ясно понимаемая тем, к кому относились её робкие проявления. В играх эта истина хорошо знакома всем, кто был молод и влюблён.
Иногда все езжали к соседям, дружески знакомым, между которыми были Хвощинские, Баратынские, жившие недалеко от Васильевки. Поэт Евгений Абрамович Баратынский в этот год тоже приезжал из Петербурга. Другие его братья служили в каком-то кавалерийском полку юнкерами, вместе с младшими Недоброво. Все они в этом году бывали в Васильевке и участвовали во всех танцах, играх и общем весёлом настроении. Василий Александрович очень любил, когда вторая дочь Надежда Васильевна плясала русскую. Для этого она надевала богатый сарафан, повойник и восхищала всех гостей своей чудной грацией…»
В конце февраля Боратынский был уже в Петербурге, где ненадолго остановился по дороге в Фридрихсгам. В столице друзья как-то привели его в знаменитый литературный салон в доме Пономарёвых на Фурштатской улице, близ Таврического сада.
Хозяйка салона, молодая красавица Софья Дмитриевна столь ярко блистала, что не заметить её и не увлечься ею было невозможно. Она была пятью годами старше 21-летнего Боратынского, но выглядела ровесницей. С её единственного, быть может, сохранившегося портрета глядит на нас, склонив головку и легко улыбаясь, изящная молодая женщина-барышня, с тёмными волнистыми волосами и нежно-лукавым взглядом чуть раскосых чёрных глаз; она словно бы вопрошает: ну, сколько вы ещё будете сопротивляться моему непобедимому обаянию?.. Надо полагать, художнику удалось схватить — за павлиний хвост — тот игривый, летучий, воздушный шарм Софьи Дмитриевны, что она ежемгновенно источала в своём салоне. В забаву себе она создала общество под своими инициалами «С. Д. П.», которые смиренно раскрывала как «Сословие Друзей Просвещения». Конечно, это было сословие её поклонников, которые отнюдь не прекословили хозяйке салона…
Красочный её словесный портрет оставил в своих воспоминаниях московский старожил Дмитрий Николаевич Свербеев: «Она была дочь Дмитрия Прокофьевича Позняка, умного, хитрого сенатского обер-секретаря одного из петербургских департаментов, слывшего в своё время великим и даже просвещённым дельцом по судебной части. Эта молоденькая, плотненькая дама небольшого роста обладала необыкновенным искусством нравиться и не отличалась скромностью. Где получила она образование — не знаю, но воспитание её было самое блистательное: бойко говорила она на четырёх европейских языках и владела превосходно русским, что тогда было редкостью; лёгкая иностранная литература и наша домашняя были ей вполне знакомы. Она умела завлечь в свою гостиную всех тогдашних литераторов, декламировала перед ними их стихотворения и восхищала своей игрой на фортепьяно и приятным пением. Замужем она была за сыном богатого откупщика Пономарёва, который его отделил и дал ему средства к широкой петербургской жизни… Обычными посетителями были люди известные по литературе и по искусству, даровитые и любезные в откровенной, ничем не сдержанной беседе. Такими собеседниками бывали зрелых лет люди, как то: изредка баснописец Крылов, переводчик Гомера Гнедич, неразборчивый в своей литературной деятельности журналист Греч, издатель журнала „Благонамеренный“ циник Измайлов, трагики: Катенин и Жандр, закадычный друг Пушкина Дельвиг, Лобанов и Баратынский и другие; женщин не бывало ни одной… Порхала бабочкой между нами Софья Дмитриевна… Пожилые из собеседников, упитанные холодным ужином и нагруженные вином, в полусонье отправлялись по домам; кто помоложе оставались гораздо за полночь, а самые избранные — до утра… Изредка читал там Крылов новые свои басни ещё до печати; Гнедич, один из искуснейших чтецов того времени, хотя и чересчур напыщенный, как и вся его фигура, прочёл однажды в собрании всего кружка свою классическую идиллию „Рыбаки“, превосходное подражание Феокриту, в которой он с неподражаемым поэтическим талантом в этом роде описал светлую, как день, петербургскую ночь и плоские берега величественной Невы, окаймлённые великолепными зданиями. В другой раз по просьбе всех прочёл он нам остроумную комедию Крылова, которая тогда только что появилась в рукописи и, как переполненная злой иронией над правительством и высшим обществом, никогда не могла быть напечатана. Им же иногда читались отрывки из его „Илиады“… Кроме Гнедича читывал бывало благонамеренный Измайлов свои простонародные цинические басни, отличавшиеся русским юмором. Дельвиг приносил свои песни, которые тут же распевала хозяйка… Баратынский же был и тогда уже истинным поэтом, увлекательно говорил и отличался благородным тоном и изящными манерами… В этой гостиной была только одна женщина, её подставка, итальянка Тереза, участница во всех проделках, и чего-чего обе тут не делали!
В конце зимы… гуляя по набережной Фонтанки, встретил я двух, что-то уж чересчур щеголевато одетых охтенок; одна из них несла на плече ведро с молоком, их обыкновенным предметом ежедневной торговли. Я на них с любопытством взглянул, они захохотали и долго шли за мною, преследуя меня своим смехом. Оказалось, это была С. Д. с своей итальянкой. Куда и зачем они ходили, я от них не мог добиться…
…И как же она меня два раза напугала… Подходит ко мне, на одной из станций между Москвою и Петербургом, прехорошенькая крестьянка и предлагает яблоки: „Купи, барин, дёшево продам“, — да как бросится мне на шею!.. Смотрю, глазам не верю!.. Софья Дмитриевна! — Другой раз, что же вы думаете? Присылает за мною: „Софья Дмитриевна скончалась“; очень я её любил — не помню, как и доехал до её дома. Лежит в гробу; люди плачут. Я только бы подойти, а она как рассмеётся!.. „Это я, — говорит, — друзей испытываю; искренно ли они обо мне плачут!..“»
Многие из писателей — гостей салона враждовали между собой и не общались друг с другом, но в дом Пономарёвой тем не менее охотно приходили. То ли Скрепя сердце, то ли отдыхая от своей вражды. Тут, в атмосфере литературной игры, шуток, пения, лёгкого флирта всё забывалось. Литераторы дружно поклонялись на средневековый манер, «культу Софии», своей «Даме», — а она по-детски резвилась, не уставая обольщать молодых и старых, впрочем, никогда не заводя «банальной связи». Ей посвящались мадригалы, эпиграммы, экспромты, акростихи — и издатель Измайлов всю эту легковесную продукцию потом воспроизводил на страницах своего журнала. Он и сам посвятил Софье Дмитриевне стишок, отнюдь не цинический, а почтительный:
Всегда прелестна, весела,
Шутя кладёт на сердце узы.
Как грация она мила
И образованна, как музы.
Один из её поклонников, В. И. Панаев, автор весьма пристрастных воспоминаний, написанных в преклонном возрасте, также отдавал Пономарёвой должное:
«Всякий, кто только знал её, был к ней неравнодушен более или менее. В ней, с добротою сердца и весёлым характером, соединялась бездна самого милого, природного кокетства, перемешанного с каким-то ей только свойственным детским проказничеством. Она не любила женского общества, даже не умела в нём держать себя и предпочитала мужское, особенно общество молодых блестящих людей и литераторов».
Одно из прозвищ Софьи Пономарёвой было — Мотылёк, — она и переводила, и писала в прозе с мотыльковой лёгкостью, скорее тоже ради развлечения…
Видимо, тогда же, в конце февраля 1821 года, Боратынский записал в альбом Пономарёвой несколько стихотворений, ей посвящённых.
Когда б вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы;
Когда бы прелестью опасной
Не столь опасны были вы…
Когда б ещё сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной
Могли грозить душе моей;
Когда бы больше мне на долю
Даров послал Цитерский бог;
Тогда я дал бы сердцу волю,
Тогда любить я вас бы мог.
Предаться нежному участью
Мне тайный голос не велит…
И удивление — по счастью
От стрел любви меня хранит.
Видно, он попросту опасается увлечься всерьёз и остаться с неразделённым чувством, и очень хорошо понимает, что другого ожидать не приходится.
В том же духе и следующее стихотворение:
Приманкой ласковых речей
Вам не лишить меня рассудка!
Конечно, многих вы милей,
Но вас любить — плохая шутка!
Вам не нужна любовь моя.
Не слишком заняты вы мною,
Не нежность — прихоть вашу я
Признаньем страстным успокою. <…>
С толпой соперников моих
Я состязаться не дерзаю
И превосходной силе их
Без битвы поле уступаю.
Разумеется, провозглашённый отказ любить только раззадорил завоевательницу писательских сердец. И её усилия не прошли даром, судя по следующему стихотворению Боратынского «Вы слишком многими любимы…»: оно настолько небрежно, угловато, не похоже на изящный стиль поэта, а тон такой раздражённый, что видно: Софье Дмитриевне всё же удалось оцарапать коготками и растревожить его сердце.
Петербургская весна
Отпуск Боратынского окончился, и он вернулся в Фридрихсгам, в расположение Нейшлотского полка.
В это время опять решалась его судьба: родственники и старая подруга Александры Фёдоровны А. Н. Бантыш-Каменская предприняли новую попытку добиться прощения у императора. Они надеялись на помощь президента Академии наук С. С. Уварова — и чтобы ввести его в курс дела, Евгений направил Уварову сведения о себе:
«Ваше превосходительство милостивый государь Сергей Семёнович. — Вы приказали доставить Вам записку об унтер-офицере Боратынском — с благодарностью исполняю ваше приказание. — Боратынский по выключении своём из пажеского корпуса вступил солдатом в гвардейский полк; через год произведён в унтер-офицеры и переведён в Нейшлотский пехотный. Теперь представлен своим начальством в прапорщики, но производство его зависит от высшего начальства. — Вот всё, что до него касается — следует то, что касается и Вашего превосходительства: возвратить человеку имя и свободу; возвратить его обществу и семейству; отдать ему самобытность, без которой гибнет душевная деятельность; одним словом: воскресить мёртвого. — Всё это Вы сделаете и всё это Вам возможно сделать. Я бы не осмелился говорить таким образом, ежели б Анна Николаевна не заставила меня почти веровать в Ваше превосходительство. — Приобщите к числу тех, которые Вам обязаны, ещё одного благодарного. — С глубочайшим почтением — честь имею быть Вашего превосходительства, — милостивый государь, покорнейшим слугою — Евгений Боратынский. — 1821-го года — марта 12 дня».
Неизвестно, что именно предпринял Уваров, но Анна Николаевна Бантыш-Каменская явно преувеличила его возможности: производства в офицеры не последовало. Николай Коншин вспоминал:
«Отказ о производстве ожесточил его, сколько добрая, младенческая душа его умела роптать, он роптал и досадовал <…>.
Уединенье, столь глубокое, как в Финляндии, испытывали мы, отчуждённые и по языку, и по характеру от жителей страны, оно поучительно; жизнь в себе самом есть жизнь умная <…>».
По-прежнему выручали стихи: вместо производства в прапорщики последовало другое производство. В апреле Боратынский получил письмо из Петербурга от секретаря Вольного общества любителей российской словесности А. А. Никитина: «Общество, отдавая должную справедливость трудам и усердию вашему и найдя представленные вами учёные произведения достойными особенного уважения <…> произвело вас <…> в Действительные Члены, будучи уверено, что вы в сем новом и важном звании потщитесь усугубить ревность свою в трудах сего сословия и оправдаете то выгодное мнение, какое оно о вас имеет<…>».
Боратынский ответил Никитину немедля: «Милостивый государь Андрей Афанасьевич. — Долгом себе поставляю изъявить мою признательность почтенному обществу, снисходительно избравшему меня в действительные свои члены. Ежели усердие и любовь к искусству обратили на меня лестное его внимание — я постараюсь оправдать выгодное обо мне мнение и не пощажу для того ни трудов, ни усилий. — Не смею сказать, что я не достоин сделанной мне чести. — Просвещённые судьи мои не способны ни к ошибкам, ни к пристрастию, и я подчиняю собственное моё мнение — мнению общества, как нельзя более для меня лестного. — С истинным почтением честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою. — Е. Боратынский».
Тем временем судьба, по словам Коншина, готовила им праздник:
«<…> С одной почтой, ничего не обещавшей, неожиданно получает наша бригада повеленье: выступить в С. П. Бург для занятия караулов. Боратынский обрадовался этой новости, как дитя, обнимал всех нас с восторгом: нельзя 16-летней провинциалке живей обрадоваться неожиданному приглашению на бал. Память петербургской жизни не переставала волновать его огненную голову: он там оставил первую поэзию своей души, первых друзей, первую литературную известность, общество, кипящее деятельностью на стези учёного труда, всё, что греет и движет <…>». В апреле Нейшлотский полк прибыл в Парголово. На Выборгской дороге Боратынского встретили Дельвиг с Эртелем, и несколько дней все они праздновали неожиданное возвращение товарища.
В столице Евгений вновь поселился
на одной квартире с другом Антоном. Боратынский ездит на заседания «соревнователей», на литературные посиделки к Плетнёву, дышит петербургской весной…
Его ротный командир, поэт Николай Коншин, часто сопровождавший товарища, писал о тех днях:
«Перемена обстановки, расширенный круг действия, внимание просвещённого класса столицы, заинтересованного судьбой финляндского изгнанника, наконец, юность, легко заносящая, легко обольщаемая, — всё смягчало болезнь душевных ран поэта: ропот его умолк, он предался увлечению, и его П.-бургские Элегии и Антологические стихотворения суть цветы, которые, кружась по паркету, сеял он по следам своим. Это повесть сердечных похождений юноши, размолвок и любезностей, выходки, мщения, шалости, шутки и др. <…> Под строгим к себе и отчётливым пером его улегались мягко, блистали и нежили слух русские звуки, и аристократически завладели первенством в гостиных и будуарах: бледная французская поэзия скромно пряталась в этих альбомах in quarto наших блистательных дам, про которые восклицал Пушкин: … Вы, украшенные проворно Толстого кистью чудотворной иль Боратынского пером!..»
26 мая стихотворец Александр Крылов прочёл в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств свой памфлет «Вакхические поэты», написанные в благой надежде обличить чересчур занёсшихся «модных поэтов» пушкинского круга. Они, по мнению обличителя, и прославились-то лишь потому, что с непомерной страстью воспевали Вакха и лили в стихах вино, однако ж на самом деле только «потопляли гений свой» в «чаше круговой».
<…> У нас теперь в стихах звучат
Так громко рифмы и стаканы!.. —
восклицал А. Крылов — по сути, обвиняя в безнравственности «Союз поэтов». И клялся, любуясь своей праведностью:
<…> Я никогда не буду с ними
Среди мечтательных пиров
Стучать бокалами пустыми! <…>
Пространный памфлет оканчивался патетическим грозным пророчеством, клеймящим «дерзостных жрецов», пред которыми уже «<…> с шумом затворился / Бессмертия высокий храм!»:
Пускай трудятся: их творенья
Читателя обнимут сном,
И поглотит река забвенья
Венец, обрызганный вином!
Дельвигу, наверное, было просто лень опровергать профана; Пушкин с Кюхельбекером были далеко от Петербурга; — за всех ответил Боратынский.
Существуют две редакции этого стихотворения: в ранней — стих не так гладок, как в поздней редакции, зато — непосредственнее, живее и откровеннее:
Кто жаждет славы, милый мой!
Тот не всегда себя прославит:
Терзает комик нас порой,
Порою трагик нас забавит.
Путей к Парнасу много есть:
Зевоту можно произвесть
Равно и притчею, и одой;
Но ввек того не приобресть,
Что не даровано природой <…>.
Поэт и не скрывает, что видит перед собой банального завистника, и снисходительно вышучивает его:
Неисповедим Фебов суд.
К чертогу муз, к чертогу славы
Одних ведёт упорный труд,
Других ведут одни забавы!
Напрасно до поту лица
О славе Фофанов хлопочет;
Ему отказан дар певца;
Трудится он — а Феб хохочет!
Меж тем, даря веселью дни,
Едва ли Батюшков, Парни
О прихотливой вспоминали
И что ж? — Нечаянно они
Её в Цитере повстречали <…>.
Фофан — как толкует словарь В. Даля, простак, простофиля, дурак, глупец, — отсюда и выдуманный литературный тщеславец
Фофанов.
К тому времени, да и впоследствии этой комической клички был достоин не один только А. Крылов. Ведь слава как огонь в темноте: чем сильнее, тем больше обнаруживает вокруг себя завистливых недоброжелателей.
Впрочем, напоследок Боратынский вполне добродушно советует обличителю «Союза поэтов»:
Приятно петь желаешь ты?
Когда влюблён — бери цевницу!
Воспой победы красоты,
Воспой души твоей царицу.
Когда же любишь стук мечей,
С бессмертной музою Омира,
Пускай поёт вражды царей
Твоя возвышенная лира!
Равны все музы красотой:
Несходство их в одной одежде.
Старайся нравиться любой;
Но помолися Фебу прежде.
Шутливый ответ этот, конечно, не отнесёшь к лучшим произведениям Боратынского, однако тут важно иное —
тон стихотворения. Поэту всего 21 год, но он уже зрелый художник, вполне уверенный в своём даровании, в своих творческих силах. Не случайный гость на Парнасе — законный его жилец!..
Однако своему новому приятелю, Фаддею Булгарину (впрочем, их знакомство продлилось недолго), странно сочетающему жизнелюбие с дидактикой, Боратынский отвечает — на какие-то неведомые нам укоры — вполне серьёзно:
Приятель строгий, ты не прав,
Несправедливы толки злые:
Друзья веселья и забав,
Мы не повесы записные!
По своеволию страстей
Себе мы правил не слагали,
Но пылкой жизнью юных дней,
Пока дышалося, дышали <…>.
Во имя лучших из богов,
Во имя Вакха и Киприды,
Мы пели счастье шалунов,
Сердечно презря крикунов
И их ревнивые обиды <…>.
Тут всё в согласии с пушкинским восклицанием:
Блажен, кто смолоду был молод, — но как скоро проходит эта блаженная пора!..
В душе больной от пищи многой,
В душе усталой пламень гас,
И за стаканом, в добрый час
Застал нас как-то опыт строгой <…>.
С его пера слетают лёгкие строки, предназначенные не для печати, а только для дружеских альбомов; он поёт пиры, где «за полной чашей круговой» можно «поговорить душой открытой»; поёт любовь земную:
<…> Люблю с красоткой записной
На ложе неги и забвенья
По воле шалости младой
Разнообразить наслажденья.
(«Моя жизнь», 1821)
Блажен тот, кому дарует молодость своё пьянящее забвенье!..
Магия разуверения
Однако рядом и совсем другие стихи, элегические по настроению. Так, в альбом Павла Яковлева тем же летом 1821 года рукой Боратынского вписано двустишие:
Полуразрушенный, я сам себе не нужен
И с девой в сладкий бой вступаю безоружен.
С кем этот «сладкий бой»?.. не с Софьей ли Пономарёвой, салон которой они вновь усердно посещают вместе с Антоном Дельвигом, также сильно увлечённым ею?..
В том же альбоме Яковлева по соседству с двустишием другие записи, сделанные Боратынским, и они напрямую связаны с блестящей кокеткой:
«Яковлев, — сказала Софья Дмитриевна, — расположился жить в свете, как будто у себя дома, и позабыл, что жизнь пустое».
Ещё одна его запись на французском:
«Г-н Баратынский как-то за столом сказал, что он станет ухаживать за Мадам, когда волосы его побелеют, — записывает он свой разговор с Пономарёвой; — она отвечала: — Вы прежде будете пьяны, нежели белы». Беседа шла по-французски, и Софья Дмитриевна изящно играла словом, сказав это: «Monsieur, Vous serez plutôt
gris que blanc», ибо прилагательное
gris в переводе значит
серый, седой — и
пьяный.
И записывает уже своё
bonmot — остроту, рождённую в свободной застольной беседе: «Некто говорил о деспотизме русского правительства. Баратынский заметил, что оно „парит превыше всех законов“»
(перевод с французского).
Недолгая радость возвращения в Петербург вновь уступает место в его душе довлеющей печали:
Нет, не бывать тому, что было прежде!
Что в счастье мне? Мертва душа моя! <…>
Лишь вслед ему с унылым сладострастьем
Гляжу я вдоль моих минувших дней.
Так нежный друг в бесчувственном забвеньи
Ещё глядит на зыби синих волн,
На влажный путь, где в тёмном отдаленьи
Давно исчез отбывший дружный чёлн.
Эта, в духе Парни, элегия в общем-то весьма банальна, но всё же дарит самобытным
боратынским эпитетом:
…с унылым сладострастьем…
Зато вскоре за ней следует шедевр — «Разуверение»:
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больнова
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.
Это похоже на заклинание: магия простых слов, магия искреннего чувства, — и так необычно задеты старые элегические струны…
Тут открыто нечто новое в любовной лирике — глубиной психологического анализа угасшего влечения. Утрата любви переживается не менее сильно, чем первоначальное чувство. Любовный пламень перегорел в сновидение, но на смену любви пришла дремота разуверения, не менее живая и полная.
А. С. Пушкин с шутливым изумлением писал П. А. Вяземскому 2 января 1822 года: «Но каков Боратынский? Признайся, что он превзойдёт и Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор, — ведь 23 года счастливцу! Оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». (Боратынскому в ту пору было не 23, а неполных 22 года.)
Тогда же впервые имя молодого
счастливца в ряду первых русских поэтов упомянул в печати А. Бестужев — в отрывке из своей книги «Поездка в Ревель»: «<…>
Жуковскому и
Кршову едва ли прибавит достоинства и прекрасная критика —
Пушкина и
Баратынского не убьёт и дурная».
Несколькими годами позже П. А. Плетнёв, разбирая творчество русских поэтов, очень высоко оценил элегии Боратынского и в первую очередь «Разуверение»:
«Между тем, как мы воображали, что язык чувств уже не может у нас сделать новых опытов в своём искусстве, явился такой поэт, который разрушил нашу уверенность. Я говорю о
Баратынском. В элегическом роде он идёт новою, своею дорогою. Соединяя в стихах своих истину чувств с удивительною точностию мыслей, он показал опыты прямо классической поэзии. Состав его стихотворений, правильность и прелесть языка, ход мыслей и сила движений сердца выше всякой критики. Он ясен, жив и глубок <…>. Игривое и важное, глубокое и лёгкое, истинное и воображаемое: всё он постигнул и выразил. Рассмотрите его элегию:
Разуверение».
Тогда же, в 1825 году, Плетнёв писал Пушкину (письмо от 7 февраля):
«Мне хотелось бы сказать, что до Баратынского Батюшков и Жуковский, особенно ты, показали едва ли не лучшие элегические формы, так, что каждый новый поэт должен бы непременно в этом роде сделаться чьим-нибудь подражателем, а Баратынский выплыл из этой опасной реки — и вот, что особенно меня удивляет в нём».
В конце 1821 года «Разуверение» вышло в журнале «Соревнователь Просвещения и Благотворения», а ещё через четыре года молодой композитор Михаил Глинка написал на слова элегии свой знаменитый и бессмертный романс…
Конечно же, исследователи и биографы пытались установить, кому адресовано это стихотворение. Безуспешно!.. С. А. Рачинский связывал её с Варварой Кучиной, однако никаких подтверждений эта версия не нашла. Вряд ли стихи относятся и к Софье Пономарёвой, хотя и написаны в пору увлечения ею. Скорее образ той, к кому обращается Боратынский, собирательный. Элегия относится ко всем — и ни к кому. Она — о
разочаровании, которое, быть может, ещё сильнее и острее, чем сама любовь. А может, элегия обращена к самой жизни? И это
разуверение — в жизни, вообще в человеческом существовании на земле?..
Мысли, с лирической мягкостью выраженные в «Разуверении», вскоре получили философическую огранку в другом стихотворении, которое поначалу вышло под названием «Стансы», а потом называлось «Две доли». В нём слог Боратынского обретает ту алмазную твёрдость, афористичность, ясность и отчётливость, что ему так присуща в зрелой философской лирике.
Дало две доли провидение
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
Иль безнадежность и покой.
Верь тот надежде обольщающей,
Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разновещающей
С судьбой насмешливой знаком. <…>
Но вы, судьбину испытавшие,
Тщету утех, печали власть,
Вы, знанье бытия приявшие
Себе на тягостную часть!
Гоните прочь их рой прельстительный:
Так! доживайте жизнь в тиши
И берегите хлад спасительный
Своей бездейственной души. <…>
Не себе ли самому советует он?..
Пройдёт совсем немного лет, и он после отставки начнёт жить едва ли не в точности по этим печальным заветам…
Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мёртвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов, —
Так вы, согрев в душе желания,
Безумно вдавшись в их обман,
Проснётесь только для страдания,
Для боли новой прежних ран.
Эту элегию Боратынский вписал в альбом Софьи Пономарёвой.
К ней же обращено другое признание:
Когда неопытен я был,
У красоты самолюбивой,
Мечтатель слишком прихотливой,
Я за любовь любви молил <…>.
Огонь утих в моей крови;
Покинув службу Купидона,
Я променял сады любви
На верх бесплодный Геликона.
Но светлый мир уныл и пуст,
Когда душе ничто не мило <…>.
(Осень 1821; 1823–1826)
Однако огонь не утих, он только разгорался, — и
сады любви вовсе не увяли…
Он всё еще боролся с чарами салонной прелестницы, даже написал иронический трактат «История кокетства» — своеобразный экскурс в туманную мифологическую область, прозрачно намекающий на прихотливую натуру Софьи Дмитриевны:
«Венера почитается матерью богини кокетства. Отцом её называют и Меркурия, и Аполлона, и Марса, и даже Вулкана. Говорят, что перед её рождением непостоянная Киприда была в равно короткой связи со всеми ими и, разрешившись от бремени, каждого поздравила на ухо счастливым отцом новорождённой богини.
Малютка в самом деле с каждым имела сходство. Вообще она была подобием своей матери; но в глазах её, несмотря на их нежность и томность, было что-то лукавое, принадлежащее Меркурию. Тонким вкусом и живым воображением казалась она обязанною Аполлону <…>».
Портрет юной богини будто бы срисован с Софьи Дмитриевны:
«Жители Олимпа удивлялись быстрым её успехам и превозносили её дарования. <…> Многие недостатки были в ней заметны, особенно непомерное тщеславие. Она более любила высказывать свои знания, нежели любила самые науки; в угодительном её обхождении с богами было более знания, нежели истинного благонравия. Ко всему она имела некоторое расположение, ни к чему настоящей склонности, и потому никем и ничем не могла заниматься долго. Непостоянство её, может быть, происходило от её генеалогии, но усовершенствовалось её воспитанием <…>».
Что ещё свойственно нраву молодой богини? Изменчивость, вольное обращение, проворство, дурачество…
«Мечты блестящие, но почти не имеющие образа (так быстро они переходят из одного в другой), вьются, волнуются перед нею <…>».
Кокетка на всё идёт, чтобы удержать поклонников, и каждый надеется, что когда-нибудь она сдержит свои нежные обещания, что она даёт «наедине со многими»…
Боратынский слишком хорошо изучил характер красавицы, которая его так влекла, постоянный разве что в своём непостоянстве. Но ничего не мог с собой поделать… Тем временем стихи, ей посвящённые, возникали одно за другим.
О своенравная Аглая!
От всей души я вас люблю,
Хотя, другим не подражая,
Довольно редко вас хвалю <…>.
Первоначально в стихотворении было: «О своенравная София!..», но затем поэт заменил настоящее имя условным. Он так никогда и не назвал Софью Дмитриевну природным именем в своих печатных произведениях. Однако и замена имени лишний раз выдаёт его чувства:
Аглая — сияющая, это одна из трёх Харит — богинь красоты.
По всему видно: он любит салон Пономарёвой, его вольный воздух, где ни жеманства, ни скуки,
<…> Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжёлых
Ни на уменье, ни на ум;
Где для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним Указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы <…>.
(ранняя редакция, зима 1821/22)
Чувство всё полнее захватывает его, хотя рассудок и не забыт; всем существом он понимает, что своевольную кокетку по-настоящему заботит лишь одно: чтобы любовь к ней не ослабла и не обратилась в дружество. А поэт тем временем радуется, предавшись любованию и «нежному томленью», что его сердце ещё способно «к упоенью».
<…> Меж мудрецами был чудак:
«Я мыслю» пишет он, «итак,
Я несомненно существую!»
Нет, любишь ты и потому
Ты существуешь — я пойму
Скорее истину такую <…>.
Максиму «чудака» Декарта переиначили Вольтер и Жан-Жак Руссо:
я люблю — следовательно, существую. В юности Боратынский весьма увлекался Вольтером как поэтом. Однако заметим: вольное переложение в рифмах известных изречений больше похоже на мыслительную игру, нежели на истинную страсть. И слово «скорее» выдаёт автора стихов: любовь отнюдь не совсем победила в нём рассудок, в душе он понимает: и она — обольщение.
Но в жар краса меня не вводит:
Тяжёлый опыт взял своё.
Я захожу в приют её,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Вам лепечу я нежный вздор:
Увы! беру прельщенья меры,
Как он порою в храме том
Благоуханья сжёт без веры,
Пред сердцу чуждым божеством.
(«К…», зима 1821/22)
В четвёртом послании к Дельвигу («Я безрассуден — и не диво!» заметим, что Дельвиг тоже был влюблён в Пономарёву; впрочем, видно, поостыл, коль убеждает друга не верить «прелестнице лукавой») Боратынский, «полный неги, полный муки», признаётся, что страшится разуверения:
<…> И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье.
Да ввек безумцем буду я… <…>
Он уже предчувствует, что
безумство не продлится вечно, и в тоске вопрошает:
<…> Ужель обманщицу другую
Мне не пошлёт в отраду Бог?
(Зима 1821/22)
«Пономарёвский цикл» довольно сумбурен, если сравнить качество стихов с тогдашними лучшими образцами лирики Боратынского, но, может быть, это и свидетельствует ярче всего о том смятении, которое чувствовал поэт, обычно ясный и точный в слоге и глубокий в мыслях. Подлинным художественным достоинством отличается, пожалуй, предпоследнее стихотворение из посвящённых кумиру «Сообщества друзей просвещения»:
Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует моё воображенье:
И в шуме дня, и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдёт ли сон и взор сомкнёт ли мой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье;
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.
(1822)
Филолог И. А. Пильщиков замечает в комментарии к этому стихотворению, что «тема поцелуя» в европейской лирике идёт от Катулла к голландцу Яну Эверардсу, писавшему по-латински под именем Иоанна Секунда; а затем к французским поэтам Плеяды. «Сюжету об одном-единственном поцелуе, подаренном поэту и возбудившем в нём неутолённое желание, посвящён 111 поцелуям Иоанна Секунда. <…> Стихотворение с аналогичным сюжетом <…> есть у К.-Ж. Дора».
Боратынский, знаток французской и западной поэзии, вполне мог знать это, как и начитанная Пономарёва. Как бы то ни было, его «Поцелуй (Дориде)», как называлась ранняя редакция, написан на самом гребне любовной волны и пережит по-настоящему. Дальше начнётся обрушение «девятого вала» чувства: укоры, обвинения, отповедь, грозные предсказания, больше похожие на проклятия. Последнее стихотворение, обращённое к С. Д. Пономарёвой, относят к марту 1822 года, когда произошёл разрыв…
Зачем, о Делия! сердца младые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной:
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной <…>.
В ранней редакции стихотворения поэт открыто обвиняет свою «Дориду» в «нескромности двусмысленных речей», разжигающих в поклонниках «бесплодный пламень сладострастья», и говорит:
<…> Он незнаком тебе, мятежный пламень сей <…>.
Он предрекает «бесчарной Цирцее» безответную любовь и одинокую старость, где ей достанутся лишь «самолюбивые досады».
Гневное его пророчество не сбылось: Софья Дмитриевна Пономарёва умерла через два года на 30-м году жизни. Прекрасный и неверный Мотылёк сгорел в пламени мучений. Боратынский был тогда в Финляндии и не попрощался с ней. Один исследователь предположил, что поэт посвятил её памяти стихотворение «Звёздочка», однако доказательств нет. Это стихотворение также связывали с именем А. А. Воейковой. Однако потом Боратынский первым, среди пятнадцати других, вписал его в альбом своей невесты Настасьи Энгельгардт. Впрочем, он не раз переадресовывал свои стихи женщинам, как поступал и с некоторыми стихами, поначалу обращёнными к С. Д. Пономарёвой, переадресовав их Анне Лутковской…
Эпитафию Софье Дмитриевне написал Антон Дельвиг:
Жизнью земною играла она, как младенец игрушкой.
Скоро разбила её: верно, утешилась там.
Глава девятая
ЭЛЕГИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Узы дружества
Блестящий Петербург начала 1820-х годов кипел молодостью и жизнью, а на юге страны, в тесном городке Кишинёве Пушкин томился от скуки, ждал писем, жадно разрезал листы свежих столичных журналов. Про свою музу шутил с небрежной мрачностью: дескать, та «от воздержанья чахнет / И редко, редко с ней грешу».
Это — из послания к «парнасскому брату» Дельвигу.
<…> К неверной славе я хладею;
И по привычке лишь одной
Лениво волочусь за нею,
Как муж за гордою женой.
Я позабыл её обеды.
Одна свобода мой кумир,
Но всё люблю, мои поэты,
Счастливый голос ваших лир <…>.
Едва ли не пристальнее всех следил Пушкин за
счастливцем Боратынским: тот был близок вдвойне — и как собрат по Парнасу, и как собрат по неволе. В начале 1822 года именно ему посвящены два стихотворения:
БАРАТЫНСКОМУ
Из Бессарабии
Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиным воспета
И славой русскою полна.
Ещё доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого;
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.
И, видимо, следом:
ЕМУ ЖЕ
Я жду обещанной тетради:
Что ж медлишь, милый трубадур!
Пришли её мне, Феба ради,
И награди тебя Амур.
«Живой Овидий» тем временем бродит на набережных Невы: в Петербурге Боратынский вместе со своим полком провёл добрую половину всего 1822 года.
Братья по «Союзу поэтов» тоже сильно скучали по Пушкину. В начале марта Боратынский со своим приятелем Лёвушкой Пушкиным и его отцом Сергеем Львовичем посетили в гостинице Демута приехавшего из Кишинёва И. П. Липранди, чтобы в подробностях расспросить его о жизни сосланного поэта. А чуть позже семья Пушкиных дала обед для гостя с юга; за столом собрались Дельвиг, Боратынский, Розен и несколько близких товарищей: читали стихи Пушкина и пили его здоровье.
В «Послании к цензору» Пушкин вновь вспоминает Боратынского:
<…> Ни чувства пылкие, ни блеск, ни вкус,
Ни слог певца Пиров, столь чистый, благородной, —
Ничто не трогает души моей холодной <…>.
Не
трогает — но чувства не забывает же, о нём думает…
В сентябре 1822 года Пушкин пишет из Кишинёва Вяземскому: «<…> Мне жаль, что ты не вполне ценишь прелестный талант Баратынского. Он более, чем подражатель подражателей, он полон истинной элегической поэзии <…>».
А затем — младшему брату Льву: «<…> Читал стихи и прозу Кюх<ельбекера> — что за чудак! Только в его голову может войти жидовская мысль воспевать Грецию <…> славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия. Что бы сказали Гомер и Пиндар? — но что говорят Дельвиг и Баратынский? <…>».
Собратья-поэты были разлучены разве что судьбой, но не душой и сердцем. Как писал тогда же Боратынский:
<…> Развеселясь, в забвеньи сердце пели,
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели <…>.
(1822)
В этих строках из ранней редакции послания к Дельвигу незримо присутствуют и Пушкин, и Кюхельбекер…
Не один только Пушкин следил за тем, как стремительно взлетал к вершинам поэзии Евгений Боратынский. Прославленный переводчик Гомера Н. И. Гнедич прислал молодому поэту свежую книжку «Сына отечества» со своей идиллией «Рыбаки». Боратынский хворал — и ответил сердечной запиской: «Почтеннейший Николай Иванович, больной Боратынский довольно ещё здоров душою, чтоб ему глубоко быть тронутым вашей дружбою. Он благодарит вас за одну из приятнейших минут его жизни, за одну из тех минут, которые действуют на сердце, как кометы на землю, каким-то електрическим воскресением, обновляя его от времени до времени <…>».
В апрельском номере «Сына отечества» вышло «Письмо к издателю» Павла Катенина: известный поэт и драматург обращался к Н. И. Гречу, оценивая его труд об истории русской литературы, и замечал: «Из молодых писателей упомянули вы об одном
Пушкине; он, конечно, первый между ими, но не огорчительно ли прочим оставаться в неизвестности? <…> Признаюсь вам, мне особенно жаль, что вы не упомянули о
Баратынском. Хотя, к сожалению, большая часть его стихов написана в модном и несколько однообразном тоне мечтаний, воспоминаний, надежд, сетований и наслаждений; но в них приметен талант истинный, необыкновенная лёгкость и чистота». Греч ответил Катенину со страниц журнала, что собирается писать о Боратынском и других поэтах во втором издании своего труда.
Ангел Софи
В конце мая 1822 года в Петербург приехала навестить брата сестра София, сопровождаемая одной из тётушек. Соша, Сошичка, как её звали домашние, годом младше Евгения, была, наверное, ему ближе и любимее всех других сестёр и братьев. Они были погодки, выросли вместе и с детства лучше всех понимали друг друга. 30 мая она писала матери в Мару:
«Вот уже три дня мы в Петербурге, любезная маменька. Брата я застала здоровым. Вы не можете вообразить нашей радости, давно я не чувствовала ничего подобного. Если бы вы видели его восторг и удивление; он просто не верил своим глазам. Он совершенно здоров и телом, и душою; очень похорошел, прекрасно выглядит, и то же, всё то же сердце, которое живёт только надеждой видеть вас; его любовь к вам неизъяснима: ему мнится видеть во мне часть вас самой. — Он в самом деле поменял квартиру; когда мы наконец её нашли, то застали там порядок и чистоту, меня изумившие; он живёт с бароном Дельвигом; нам пришлось ночевать у них, ибо было очень поздно, а его друг уехал в гости на всю ночь <…>»
(здесь и далее — перевод с французского).
Утром гостьи попали под опеку дядюшки Петра Андреевича, устроились у него на даче, пили чай в саду; старый адмирал был так рад, что после обеда даже не соснул по обычаю и всё не отпускал от себя племянницу. «<…> потом он показывал мне примечательные места Петербурга; это красиво, очень красиво, но мы с братом не уставали повторять, что нет ничего лучше нашей деревушки! <…> надеюсь, очень надеюсь, что Бог наконец внемлет моим бесконечным молитвам, и брат вернётся навсегда; дядюшка так добр, что делает даже невозможное для его избавления; я передала ему вашу благодарность за доброту, с коей он относится к брату; сама благодарила его и ещё просила за брата, что его очень растрогало, он даже прослезился <…>. Есть много новых сочинений брата, из которых ни одно не напечатано, ибо они написаны только для себя; среди них весьма милые вещицы, мы привезём их вам. Сегодня обедал с нами Дельвиг; у него такое ужасное зрение, что он почти ничего не видит и только в очках кое-что разбирает <…>».
В последующих письмах Софии маменьке (а прожила она в Петербурге больше двух месяцев) брат Евгений по-прежнему не сходит с её уст:
«Чем более я наблюдаю брата, тем более обнаруживаю в нём достоинств; более же всего меня трогает то, что он говорит о вас и о том, что вы для нас делаете, с нежностью и признательностью неизъяснимой, это доказывает, как он понимает вашу нежность; такое открытие тронуло меня до глубины души. Да сохранит Господь то расположение духа, которое начинает в нём развиваться».
«Мы с братом строим воздушные замки и мечтаем, как вместе поедем есть вишни; а вдруг так и будет, кто знает? оставьте нам на всякий случай одно-два деревца. Флигель дядюшки занят французской семьёй, и трое малышей бегают по нашему саду; мы с Евгением забавляемся тем, что говорим с ними».
«<…> Брат мой в очень хорошем расположении духа, очень весел. Ах! да поддержит Господь его мужество! Сейчас его у него достаточно <…>».
«Мы живём в полном уединении, разве брат время от времени уходит к друзьям. Его дружба меня утешает».
На сердце у двадцатилетней Софии только одно —
освобождение брата.
«<…> Я молю Господа, чтобы он воодушевил тех, кто может действовать; будьте уверены, дядюшка и тётушка не упускают ни одного случая и используют все способы для освобождения брата. Да услышит Господь наши мольбы и избавит его. Мне кажется, время дорого. Сердце разрывается, когда я слышу, как говорят о чём-то другом, о каких-нибудь пустяках, а не о деле, те, кто знает положение брата и кто может помочь всем нам; счастье брата могло бы меня вполне утешить. Дядюшка делает всё возможное, уверяю вас. Я же не вижу никого и ничего, кроме вас, брата и его неволи; ваша материнская нежность может представить себе мои чувства; они — эхо ваших; вы одна можете простить моё нетерпение, ведь речь идёт о тех, кого любишь. Точно известно лишь одно: брат приедет из Финляндии нынешней осенью в отпуск — вот всё, что я могла пока выяснить. <…> Несколько дней назад мы были на прогулке в Летнем саду. <…> Брат показал мне Крылова; тот часто прогуливается в Летнем саду. Несколько раз его окружали дети и следовали за ним, а он читал им басни. <…> Брата не было весь день; только что он вернулся и рассказал много забавных случаев. К примеру, Крылов недавно написал трагедию, которую прочёл и которой восхитились все поэты; теперь его снова просили прочитать её; а он настолько рассеян, что уже забыл о написанном, ищет её дома и обнаруживает истоптанную ногами на полу. Брат рассказал ещё множество анекдотов о Хвостове <…>».
«<…> Г-н Лутковский был у нас позавчера; это очень славный человек и к брату относится как отец; пока он будет его полковником, можно быть в любом случае спокойным насчёт Евгения; он не перестаёт усерднейше рекомендовать брата перед теми, от кого зависит его судьба <…>».
«Ещё одна забава дядюшки: стоило мне надеть новое платье, он решительно пожелал, чтобы брат нарисовал на меня карикатуру. Евгений сделал несколько — в разных костюмах. <…> Я даю уроки музыки Евгению, он очень прилежный ученик и уже начинает играть гаммы; я объяснила ему ноты; он очень любит музыку и готов целыми днями наигрывать гаммы и песенки, какие знает, я хочу, чтобы он научился аккомпанировать <…>».
Приезд чистой и восторженной Сошички был, по всей видимости, как нельзя кстати: он совершенно исцелил Боратынского от душевной смуты, вызванной разрывом с Пономарёвой. Радостное настроение не покидает его — не ему ли он обязан одним из самых светлых своих стихотворений, ей посвящённым…
И ты покинула семейный, мирный круг;
Ни степи, ни леса тебя не задержали?
И ты летишь ко мне на глас моей печали —
О милая сестра, о мой вернейший друг!
Я узнаю тебя, мой Ангел-утешитель,
Наперсница души от колыбельных дней;
Не тщетно нежности я веровал твоей,
Тогда ещё, тогда достойный их ценитель!..
Приди ж — и радость призови
В приют мой, радостью забытой;
Повей отрадою душе моей убитой
И сердце мне согрей дыханием любви!
Как чистая роса живит своей прохладой
Среди нагих степей спасительной усладой —
Так оживишь мне чувства ты.
(1822)
Этим же светлым настроением дышит и его письмо маменьке, написанное в конце июля 1822 года: «Я именовал Софи ангелом не потому, что такова моя прихоть, но потому, что она того заслуживает. Если она будет и впредь вести себя столь же прекрасно, как ныне, я не премину возвести её в серафимы. Она взяла учителя музыки, она носит новые наряды, которые велела себе пошить, она с удовольствием сопровождает нас в театр и не знает ничего лучшего, чем летать по городу, — это ли не бытие сущего ангела? Мы только что отпраздновали именины Ильи Андреевича у здешнего дядюшки — обед был очень весел, а мой ангел — очень любезен. Мой ангел обретает в Петербурге самобытность, и это доставляет мне истинное удовольствие. Что до меня, то, беззаботный и равнодушный, как обычно, во всём, что касается себя самого, я всецело предаюсь счастью располагать моей Софи, мне нравится видеть её рядом, я смотрю на то, как она
существует, и с меня довольно. Тем не менее мне хотелось бы — у кого нет желаний? — мне хотелось бы никогда не расставаться с нею, следовать за нею повсюду, — и, коли она мой ангел, я желал бы надеяться, что однажды она возвратит меня к вам <…>»
(здесь и далее — перевод с французского).
Затем Боратынский переходит к самому главному — своему тайному и заветному желанию, которое он никак не смог бы осуществить без материнского одобрения и поддержки:
«Дела мои всё в прежнем положении. Обещают замолвить за меня словечко перед императором, когда будут выходить наши полки, иначе говоря, в конце августа; видимо, император, следуя своим правилам, откажет. В последнем случае я решился просить отставки, если вы не будете тому противиться. Я не охотник до званий, и как ни блистателен чин прапорщика, он мало соблазняет мою пресыщенную душу. Но надобно вам знать, что для осуществления моего намерения одной моей философии недостаточно. Нужно, чтобы за дело взялся дядюшка, если вы напишете ему несколько слов, любезная маменька, только для того, чтобы он знал, что моё намерение вас не устрашает и что ваш сын, отказавшись от чинов в свете, может, мечтая быть любезным для вас, получить высокий чин при вашей особе <…>».
Как легко и шутливо ни обставил Боратынский свою просьбу об отставке, Александру Фёдоровну это опечалило и насторожило. Она слишком хорошо понимала: без офицерского чина настоящего
освобождения не будет и сын лишится всякого положения в обществе. Годы службы в Финляндии пойдут насмарку; император воспримет поведение подданного не иначе как своеволие. — Мать с твёрдостью отказала сыну. «Поведение Александры Фёдоровны заслуживает похвалы: она осталась непреклонной», — подытоживает биограф Гейр Хетсо.
Тем временем Нейшлотский полк покидал Петербург и возвращался в Финляндию. Последние письма Софии к матери всё так же полны заботы о брате.
«Петербург сейчас в великих переездах: гвардия пришла, а те полки, что были на её месте, уходят. Быть может, суматоха и поход полка, в котором состоит брат, будут ему полезны? Им очень интересуются, дают обещанья, но я уж не верю обещаньям; они столько раз не исполнялись, что нельзя верить никому. Я не осмеливаюсь подавать вам уже ни малейших надежд. — Но всё-таки есть ещё некоторые способы, и у нас хватит решительности, чтобы использовать их, хотя бы для очищения совести. Я же не уеду отсюда, не испытав всех средств, не сделав всё, что зависит от меня. Успокоимся насчёт брата, прошу вас. Вы просто не знаете, что за человек полковник Лутковский! Брату так же хорошо у него, как в кругу нашей семьи. — И в конце концов, у нас есть надежда увидеть его в отпуске. — Как-то раз, болтая с Евгением, я сказала, что начинаю думать, будто он очень важная персона в Финляндии и без его там присутствия Петербург окажется в большой опасности; он ответил мне тем же тоном, что и Юг не может быть спокоен без него и что вообще он единственный, кто защищает границы, особенно когда спит, надев ночной колпак».
Наконец, она сообщает матери новый адрес Евгения в Роченсальме и добавляет о брате: «<…> Он рассказал мне странную вещь: Фридрихсгам сгорел дотла; квартира, где он жил, находилась в центре города и единственная уцелела». — Так оно и было на самом деле.
…София Абрамовна Боратынская прожила в Маре всю жизнь. Замуж не вышла; по всей видимости, до конца ухаживала за больной матерью. Она умерла в один год с Боратынским…
Ангел Софи, верный ангел…
Заочные беседы и перепалки
Крепость Роченсальм была построена русскими в Финском заливе на почти необитаемом острове Котка (в переводе с финского — Орёл) и охраняла южные границы завоёванной страны. Вход в гавань защищали батареи на островах, вдающихся в море.
Знал ли Боратынский, что попал именно туда, где когда-то, в русско-шведскую войну, его отец томился в шведском плену? Скорее всего, нет, если, конечно, дядюшки не поведали ему о своей и брата своего военной молодости и морских сражениях. Но постаревшие адмиралы, возможно, ничего не рассказали племяннику: по крайней мере ни в его письмах, ни в стихах ни намёка о том, что его занесло в те края, где прежде служил отец. Лишь свинцовые воды залива и мерный шум прибоя веяли промозглым холодом и словно бы напоминали о том, чего он не в силах был припомнить…
Боратынский устроился в Роченсальме и вскоре отправился в отпуск. Свидетельств о том, где он провёл время до января 1823 года, не сохранилось, — наверно дома в Маре, там его в ту пору и ожидали родные. Впрочем, миновать по дороге Петербург он никак не мог. Однако как раз в это время журнал «Благонамеренный» принялся осмеивать «Союз поэтов», не трогая лишь Пушкина. Биограф А. Песков не без оснований предполагает, что поводом для «полемической вспышки» послужили сатирические куплеты «Певцы 15-го класса», сочинённые «унтер-офицером Баратынским с артелью» незадолго до этого.
Возможно, вся
артель состояла из одного Антона Дельвига: проживая вместе с Боратынским, они порой вдвоём сочиняли шуточные стихи, — это повелось ещё с Семёновских рот. Да и в салоне Софьи Пономарёвой, куда приятели наведывались постоянно, им приходилось сталкиваться с «благонамеренными»: Измайловым, Панаевым и прочими. Тут замешивалось и личное: соперничество за прихотливое внимание обаятельной и взбалмошной хозяйки… Так, волей-неволей то в гостиной, а то и на заседаниях «соревнователей» они знакомились с весьма обильной, но не слишком доброкачественной литературной продукцией почтенных разве что возрастом литераторов. Немудрено, что однажды, в досужую весёлую минуту, приятели и нанизали весь сплочённый круг «благонамеренных» на свои острые молодые перья.
В Табели о рангах последним считался 14-й класс — ниже не было. Но чем не подаришь горе-певцов! Так и появился 15-й класс…
Князь Шаховской согнал с Парнаса
И мелодраму, и журнал;
Но жаль, что только не согнал
Певца 15-го класса. <…>
Не мог он оседлать Пегаса —
Зато Хвостова оседлал,
И вот за что я не согнал
Певца 15-го класса.
(Теперь певцы говорят сами:)
<…> Я перевёл по-русски Тасса,
Хотя его не понимал,
И по достоинству попал
В певцы 15-го класса.
Во сне я не видал Парнаса,
Но я идиллии писал
И через них уже попал
В певцы 15-го класса. <…>
Я конюхом был у Пегаса,
Навоз Расинов подгребал
И по Федоре я попал
В певцы 15-го класса. <…>
Хотел достигнуть я Парнаса,
Но Феб мне оплеуху дал,
И уж за деньги я попал
В певцы 15-го класса.
Кой-что я русскогоПарнаса,
Я не прозаик, не певец,
Я не 15-го класса,
Я цензор — сиречь, я подлец.
Братья по «Союзу поэтов» задели всю без исключения 15-разрядную братию: издателя А. Измайлова, переводчика Н. Остолопова, стихотворцев В. Панаева, О. Сомова, М. Лобанова, Д. Княжевича, Д. Хвостова, досталось и цензору А. Бирукову. Однако если сатирические куплеты Боратынского и Дельвига ходили только в рукописных списках, то журнал Измайлова развернул целую кампанию в печати, из номера в номер обличая «модных» поэтов. Поначалу «благонамеренные», недолго думая, ответили в духе самих куплетов, попросту собезьянничали:
Барон я! баловень Парнаса.
В Лицее не учился, спал
И с Кюхельбекером попал
В певцы 15-го класса.
Я унтер — но я сын Пегаса.
В стихах моих: былое, даль,
Вино, иконы, <б….>… жаль,
Что я 15-го класса.
Не только муз, но и Пегаса
Своею харей испугал
И, совесть потеряв, попал
В певцы 15-го класса.
Потом принялись сочинять вирши по отдельности. Измайлов туповато шутил, хромая ударениями, над Боратынским:
Остёр, как унтерский тесак.
Хоть мыслями и не обилен,
Но в эпитетах звучен, силен —
И Дельвиг сам не пишет так!
Остолопов бранил его же, неграмотно и неприлично:
Он щедро награждён судьбой!
Рифмач безграмотный, но Дельвигом прославлен!
Он унтер-офицер, но от побой
Дворянской грамотой избавлен.
Б. Фёдоров сначала попытался высмеять Боратынского в отдельном стихотворении («Он в людях ест и пьёт за трёх») — в упор не видя в нём поэта, а затем принялся за всю троицу:
Сурков Тевтонова возносит;
Тевтонов для него венцов бессмертья просит;
Барабинский, прославленный от них,
Их прославляет обоих.
Один напишет: мой Гораций!
Другой в ответ: любимец граций! <…>
Тевтонова Сурков в посланьях восхвалял:
О Гений на все роды!
Тевтонов же к нему взывал:
О баловень природы!
А третий друг,
Возвысив дух,
Кричит: вы баловни природы!
А те ему: о Гений на все роды! <…>
О. Сомову, видимо, показалось, что он написал сатиру: «<…> Хвала вам, тройственный союз! / Душите нас стихами! /
Вильгельм и
Дельвиг, чада муз, / Бард
Баратынский с вами! <…>» и т. д., хотя ничем сатирическим в стихах и не пахло…
Кюхельбекеру, пииту возвышенному, было не до вирш «благонамеренных»; Дельвиг вновь не пожелал тратить попусту время; Боратынский же ответил оппонентам не чинясь — несколько грубоватыми эпиграммами.
Я унтер, други! — Точно так,
Но не люблю я бить баклуши.
Всегда исправлен мой тесак,
Так берегите — уши!
И следом, издателю Измайлову:
Ты ропщешь, важный журналист,
На наше модное маранье:
«Всё та же песня: ветра свист,
Листов древесных увяданье»…
Понятно нам твоё страданье:
И без того освистан ты,
И так, подвалов достоянье,
Родясь гниют твои листы.
Но тут подошло время для вещей куда более серьёзных — посланий Гнедичу, который «советовал сочинителю писать сатиры».
Осталось неизвестным, насколько коротким было знакомство Боратынского с Гнедичем, как часто встречались они за важными беседами. Несомненно, такие встречи были: молодой поэт искренне уважал старшего собрата, а тот следил за его творчеством и видел истинный талант. Николай Иванович Гнедич был знаменит прежде всего великолепным переложением на русский язык «Илиады» Гомера. Современники ясно понимали: эта работа подвижничество и подвиг. Гнедич не скрывал своих взглядов: поэзии надобно служить, как отчизне, без высокой цели нет истинного поэта. Летом 1821 года он произнёс в Вольном обществе любителей российской словесности пламенную речь и призвал сочинителей к выполнению гражданского долга: «владеть пером с честью», бороться «с невежеством наглым, с пороком могущим». Вполне возможно, что Гнедич прочитал в списках куплеты о певцах 15-го класса: это могло его только огорчить: разве допустимо разменивать талант на пустяки! И, вероятно, при встрече или же в беседе он посоветовал Боратынскому всерьёз отнестись к сатире. Боратынский ответил Гнедичу двумя пространными посланиями, честными и глубокими. Сам размер, выбранный для них, — чеканный шестистопный ямб — свидетельствует, как ответственно он отнёсся к этому заочному разговору.
Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных;
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов:
Возвышенную цель поэт избрать обязан.
К блестящим шалостям, как прежде, не привязан,
Я правилам твоим последовать бы мог,
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог
И, едкой желчию напитывая строки,
Сатирою восстать на глупость и пороки?
Миролюбивый нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;
Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И, звуки лёгкие затейливой свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной. <…>
Боратынский не отрицает «полезности» сатиры для общества, но ему самому не по душе «язвительных стихов какой-то злобный жар», да и сомневается он в том, что слово способно ужаснуть порочных людей:
Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я устрашу, кому не страшен суд,
Кто в сердце должного укора не находит,
Кого и божий гнев в заботу не приводит,
Кого не оскорбит язвительный язык!
Он совесть усыпил, к позору он привык. <…>
Не верит он обществу: слишком велико «людское развращенье», и даже самого благородного гражданина оно судит по себе и видит в нём не его искренний подвиг, а «дурное побужденье».
Нет, нет! разумный муж идёт путём иным
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благонравно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единый
Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиной;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.
(«
Г<неди>чу», 1822–1823; 1826; 1833)
В более ранней редакции этого послания Боратынский впервые оценивает себя, свой дар:
я беден дарованьем. А в первой редакции — самооценка ещё суровее:
талантом я убог. Что это: самоумаление? скрытая гордыня?.. А если скромность, то какая — истинная или же ложная?..
Разумеется, к тому времени он знал себе цену и чувствовал в себе нарастающую силу. Да и прозорливые современники понимали это.
«Баратынский по гармонии стихов и меткому употреблению языка может стать наряду с Пушкиным», — писал А. Бестужев в конце 1822 года в своей статье о русской словесности. (Правда, В. Одоевский в отзыве на эту статью сомневается в том, что Боратынского можно упоминать в одном ряду с Пушкиным — «новым Прометеем и триумвиром Поэзии».) Самооценка Боратынского больше всего похожа на смирение и вызвана, пожалуй, пониманием того, что всё на свете относительно, а перед величием Творца и бесконечного Времени — и ничтожно. Даже вдохновенное поэтическое слово.
Так зарождалась его знаменитая поэтическая формула:
Мой дар убог, и голос мой не громок… —
та отшлифованная, как бриллиант, мысль о своей осуществлённой самобытности, которую он выразил уже позже, в 1828 году…
В этой же ранней редакции послания Гнедичу есть строки, напрямую связанные с травлей «Союза поэтов» и теми, кто её затеял:
<…> Признаться, в день сто раз бываю я готов
Немного постращать парнасских чудаков,
Сказать, хоть на ухо, фанатикам журнальным:
Срамите вы себя ругательством нахальным,
Не стыдно ль ум и вкус коверкать на подряд,
И травлей авторской смешить гостиный ряд;
Россия в тишине, а с шумом непристойным
Воюет Инвалид с Архивом беспокойным;
Сказать Панаеву: не музами тебе
Позволено свирель напачкать на гербе;
Сказать Измайлову: болтун еженедельной,
Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной,
И в нём ты каждого убогого умом
С любовью жалуешь услужливым листком.
И Цертелев блажной, и Яковлев трахтирный
И пошлый Фёдоров, и Сомов безмундирный,
С тобою заключив торжественный союз,
Несут тебе плоды своих лакейских муз <…>.
Меж тем иной из них, хотя прозаик вялой,
Хоть плоский рифмоплёт — душой предоброй малой!
Измайлов, например, знакомец давний мой,
В журнале плоский враль, ругатель площадной,
Совсем печатному домашний не подобен,
Он милой хлебосол, он к дружеству способен:
В день Пасхи, Рождества, вином разгорячён,
Целует с нежностью глупца другова он;
Панаев — в обществе любезен без усилий
И верно во сто раз милей своих идиллий.
Их много таковых — на что же голос мой
Нарушит их сердец веселье и покой?
Зачем я сделаю нескромными стихами
Их, из простых глупцов, сердитыми глупцами? <…>
Впоследствии Боратынский выбросил эти строки, да и вообще сильно сократил своё послание, местами рыхлое и торопливое. Может, потому оно сразу и не пришлось по сердцу Пушкину, написавшему 16 ноября 1823 года, по прочтении, Дельвигу: «Сатира к Гнед.<ичу> мне не нравится, даром что стихи прекрасные; в них мало перца; „Сомов безмундирный“ непростительно. Просвещённому ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостию писателя?»
По возвращении из Мары в Роченсальм Боратынский написал второе послание Гнедичу: теперь отставлена в сторону вся злоба дня и суета мирская — и разговор только о судьбе и поэзии.
Нет! в одиночестве душой изнемогая
Средь каменных пустынь противного мне края,
Для лучших чувств души ещё я не погиб,
Я не забыл тебя, почтенный Аристипп,
И дружбу нежную, и русские Афины! <…>
Нет, нет! мне тягостно отсутствие друзей,
Лишенье тягостно беседы мне твоей,
То наставительной, то сладостно отрадной:
В ней, сердцем жадный чувств, умом познаний жадный,
И сердцу, и уму я пищу находил. <…>
Новое послание ясно, мужественно, бодро по духу: никакого уныния, ни малейших жалоб на
изгнание:
Судьбу младенчески за строгость не виня,
И взяв тебя в пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать моё уединенье.
Леса угрюмые, громады мшистых гор,
Пришельца нового пугающие взор,
Свинцовых моря вод безбрежная равнина,
Напев томительный протяжных песен финна —
Не долго, помню я, в печальной стороне
Печаль холодную вливали в душу мне.
Я победил её и не убит неволей. <…>
И дальше о животворной радости вдохновения, о благодарной любви к искусству, о спасительной силе поэзии…
И, не страшась толпы взыскательных судей,
Я умереть хочу с любовию моей. <…>
(Заметим, последняя строка стихотворения оказалась пророческой.)
Однако ни любомудрие, ни стихи всё же не могут заменить друзей «для сердца милых». Все думы его — о
пышном Петрограде, о полноте истинной жизни, которую он ощущал только там:
За то не в первый раз взываю я к богам:
Свободу дайте мне — найду я счастье сам!
(«Н. И. Гнедичу», 1823)
Так, на высокой ноте, завершился его заочный разговор с тем, кто был «дарованиями, душою превосходный, / В стихах возвышенный и в сердце благородный!».
Стихия созерцаний и мысли
В Роченсальме они снова живут вместе с Николаем Коншиным. Домик упёрт окнами в каменную гору. Тишина, шум сосен, влажное дыхание моря… Сначала маются со скуки, ходят по гостям, заглядывая порой и к недругам. Слушают сочные рассказы старых моряков, как видно уже навсегда бросивших якорь на финской земле. Флотская молодёжь возит двух поэтов по кораблям, — в честь Боратынского там устраиваются пиры, порой даже под надутым парусом. Николай Коншин вспоминал: «<…> старики адмиралы ласкали его как сына, быв или друзьями, или сослуживцами его отцу и дядям; те же из офицеров, кои принадлежали более по образу мыслей и по просвещению к поколению новому, чтили в нём отечественного поэта, имя которого было уже из знаменитостей того времени». Когда однажды на пирушке Боратынский со скуки вдруг взялся за карты да и проигрался, полковые товарищи так взволновались, что чуть ли не обвинили в этом хозяев вечеринки. «—
Как можно играть с нашим Евгением в серьёзную игру, — говорили добродушные нейшлотцы, —
когда он прост в жизни своей, как младенец!» — приводит слова своих товарищей Коншин. Боратынский был тронут и обещал больше не играть.
«— Вот ещё картинка из того времени, — продолжает Н. Коншин. — Раз на утреннем ученье один из молодых капитанов, соперник Боратынского в паркетных финляндских победах, в слепом порыве ревности принёс мне на него жалобу за бальную перед собой неучтивость. Как я ни удивился этой новизне, но не возразил ни слова и обещал дать удовлетворение. Дитя моего сердца не думал, не гадал услышать подобную странность. Он весело встретил меня с чаем и начал было рассказывать свои любезности на вчерашнем бале. — Как громом поражённый остановился он от моих слов! —
Вот ты говоришь не роптать!.. Вот моё положение!.. Что я ему сделал! — говорил он с жаром. Успокоив его, показав вещь просто и прямо, я сказал: если он поступил с тобой как капитан с унтер-офицером, то и ты поступи с ним как унтер-офицер с капитаном: надень солдатскую шинель и поди просить прощения. Он одобрил мой план и развеселился. Ангелом кротости, покорный к своему положению, он, наш любимец, окружённый и славой, и любовью, и дружеством, окружённый участием целого края, побрёл в солдатской шинели к Нейшлотскому г. капитану просить прощения. Долго я смотрел на него из окон нашей хижины и помирал со смеху, как неуклюже перебирался он через каменья в своём странном наряде, которым взбудоражил целую казарму! Я предвидел сцену, какая произойдёт из этого: обиженный так растерялся, что не находил долго слов, он сам стал просить прощения у Евгения Абрамовича со слезами на глазах; но за всем этим, будучи благородным в душе человеком, долго совестился своей выходки и бегал от нас».
По весне в пасмурной Финляндии особенно томительно. Конец апреля, а каменистые склоны ещё в клочьях снега; ветер несёт с моря туманы, холод и влагу. Невольно вспоминаются тамбовская степь, ласковые волны тепла, запахи нагретой земли, аромат свежей травы, цветов. «<…> уже близится Пасха. Поздравляю вас от всего сердца. — У вас праздники будут великолепны, весна в разгаре, воображаю, как прекрасны небеса и солнце. — Наш удел не так счастлив: хорошая погода ещё не наступила <…>, — пишет он матери из Роченсальма. — Это томит меня, ибо я люблю весну и жду её прихода. Время я провожу весьма однообразно, впрочем, совсем не скучаю. Следую вашим наставлениям: много хожу. Рассеиваюсь тем, что взбираюсь на наши скалы, обретающие понемногу свою особенную красоту. Зелёный мох, покрывающий их, выглядит в лучах солнца дивно прекрасным. — Простите, что говорю лишь о погоде, но уверяю вас, здесь она занимает меня более прочего. Пребывая почти наедине с природой, я вижу в ней истинного друга и говорю с вами о ней… как говорил бы о Дельвиге, будь я в Петербурге. <…> Так проходят дни, и я рад тому, что чем больше их уходит, тем ближе моя цель — день, когда к удовольствию узнать Финляндию я смогу прибавить удовольствие покинуть её надолго <…>».
Внешне он живёт вроде бы обычной жизнью: необременительная служба, вечерние чаи среди офицеров, продолжительные прогулки по округе, шумные балы в доме полковника, стихи в альбом его племянницы Анетты Лутковской… А внутри душевное напряжение, непрерывная работа мысли…
Счастливцу 23 года…
Всё-таки недаром чуть ошибся в его возрасте Пушкин, когда восхищался элегиями друга: золотые, грустные, печальные, откровенные — совершенные строки слетают с его пера и уносятся в вечное небо Поэзии!..
Желанье счастия в меня вдохнули боги:
Я требовал его от неба и земли
И вслед за призраком, манящим издали,
Жизнь перешёл до полдороги;
Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу
И скромно кланяюсь прохожим.
(1823)
Первоначально эта элегия называлась — «Безнадёжность». Здесь в точности угадан срок, отмеренный Боратынскому на земле:
полдороги — ровно половина его жизни. И выражено здесь неуловимое: глубинной интуицией он понял, что рубеж своеволия пройден и отныне вся его жизнь неподвластна собственным желаниям. Надежда на свою волю, свои «требования» обернулась
безнадёжностью. Что же последует? Какой силе теперь отдана его жизнь? Божьей воле?.. — однако про Бога ни слова. Что же тогда незримо открывается вдали, чего и назвать-то нельзя словом, а можно лишь
скромно дожидаться?.. Ответа на эти невольно возникающие вопросы в стихотворении не дано, — поэт, наверное, и сам их не знает. Но одно очевидно:
безнадёжность ясно понята им, осознана — а значит, частично ли, полностью ли, изжита.
В одном из последующих стихотворений, впервые опубликованном под названием «Истина. Ода», Боратынский вновь возвращается к этой теме.
О счастии с младенчества тоскуя,
Всё счастьем беден я,
Или вовек его не обрету я
В пустыне бытия? <…>
«Младые сны» и надежды — отлетели, а «новой цели» нет.
«Безумен ты и все твои желанья», —
Мне тайный голос рек;
И лучшие мечты моей созданья
Отвергнул я навек.
Тайный голос принадлежит
Истине — её узрел поэт. И она отнюдь не «мечтанье», а реальность.
Истина, «гостья неземная», обещает покой, но это покой могилы, и ищущуму счастья не годится:
<…> Покинь меня: кой-как своей дорогой
Один я побреду.
Прости! иль нет: когда моё светило
Во звёздной вышине
Начнёт бледнеть и всё, что сердцу мило,
Забыть придётся мне,
Явись тогда! Раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети,
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти.
(1823)
Собственно, это стихотворение о том, что земное счастье невозможно.
О том, что человек принуждён жить, сознавая эту тяжкую истину. Обречён жить один,
кое-как брести своей дорогой по земле…
…А тот вопрос, что ранее был задан самому себе перед явлением
Истины: «<…> Но для чего души разуверенье / Свершилось не вполне? <…>» — остаётся без ответа.
«Романтический максимализм Боратынского сказывается в этом вопросе достаточно убедительно: если вера — то вера безграничная, если неверие — то уж неверие полное. Страстная душа поэта мечется между двумя противоположностями, не в силах совместить их в себе», — рассуждает филолог Евгений Лебедев.
Заметим, однако, что о вере говорить не приходится: поэт отвергнул навек свои лучшие мечты и разве что «слепое сожаленье» об утраченном ещё тлеет в душе. Евгений Лебедев продолжает развивать свою мысль:
«<…> Сознание Боратынского трагически разрывается между двумя мирами. Между логической Истиной, которая одна, сама по себе, не есть счастье, и „радостями земными“, которые также не равны счастью. Сознание его — посередине. Поэт отказывает умозрению в праве на выработку
практически безупречной,
практически действенной формулы счастья:
Покинь меня, кой-как своей дорогой
Один я побреду.
Куда „побреду“? Вновь в „пустыню бытия“, подчиняясь „дольному жребию“? Но ведь там-то счастья тоже нет! Ведь там вновь ожидает его крушение надежд, отсутствие цели, неверие, полная безысходность, безумие. По
грани двух миров? Но в стихотворении два мира — две необходимости — сталкиваются под таким острым углом, что линия их соприкосновения не может служить убежищем для сознания, терзаемого сомнениями, но может только усугубить его и без того невыносимую муку, в конечном счёте бесповоротно разорвать, рассечь его
надвое. Грань — это мучительная трагедия души, дерзнувшей на
соединение двух реальностей. И вот здесь Боратынский вновь, как и в „Безнадёжности“, всю философскую нагрузку стихотворения возлагает на его название — „Истина“. Абсолютная правда о жизни души не в том, что говорит Истина в тексте. Это один из противоположных полюсов, к которому тяготеет душа. Абсолютная правда — в метаниях, в разрыве души между ними. Иначе говоря,
всё, о чём рассказывается в стихотворении, и составляет содержание, само существо Истины».
Но эта
абсолютная правда о жизни души — исключительно земная по своему существу, она почти никак не затрагивает духовности, а следовательно,
Истина тяготеет лишь к одному «полюсу» — полюсу разуверения. Да, душа мечется, разрывается — но разрывается она между слабой верой в смысл жизни и полным безверием. Наверное, оттого
Истина и не способна разрешить томление по тому «разуверенью», что «свершилось не вполне».
Погружение в душевную смуту
Рассматривая круг идей в элегиях Боратынского 1820-х годов, Е. Лебедев определяет основной мотив поэта как «разорванное сознание»: «По всесторонности охвата, по интенсивности разработки и глубине трактовки этой темы уже молодой Боратынский не имеет себе равных среди русских поэтов. Причём, размышляя над причинами духовного раскола, раздвоенности натуры современного ему человека, поэт, как правило, приходит к выводу о том, что нарушение пропорций, отход от „идеала прекрасных соразмерностей“ носит фатальный характер именно в переходные периоды истории, когда разрушаются старые верования, а новые „сердечные убеждения“ ещё не успевают утвердиться. В пору исторического „промежутка“ свою родовую миссию выполняет в человечестве поэзия. По мысли Боратынского, выполняет только в том случае, если она находит в себе достаточно нравственной силы „изведать, испытать“ „всего человека“, измерить всю глубину его душевной смуты и всю его трагическую удалённость от идеала. Позднее он писал: „Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм — наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и ещё не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение“ (из письма И. В. Киреевскому, июнь 1832 г.). На первый взгляд может показаться, что Боратынский под эгидою „поэзии индивидуальной“ проповедует уход искусства от действительности, укрытие в цитадели субъективизма от враждебного натиска извне.
Но это не так. „Углубиться в себе“ для Боратынского означало подвергнуть беспощадному исследованию индивидуальность в том противоречивом виде, в каком сформировала ее жизнь <…>. Боратынского-лирика можно сравнивать с заболевшим врачом, для которого одинаково важно найти скорейший путь к выздоровлению и записать максимально точно историю поразившего его (и не только его) недуга. Вот отчего требование индивидуальной, „эгоистической“ поэзии и самоуглубления преследует у Боратынского самые гуманные цели: такая поэзия общественно полезна именно в силу своей исследовательской беспощадности».
Все эти рассуждения и доказательства были бы ещё вернее, если б прямо и определённо назвали главную причину душевного недуга индивидуальности, «сформированной жизнью», а причина эта очевидна, и сам Боратынский, хоть и косвенно, свидетельствует о ней. — Это утрата веры в Бога. Безверие в том или ином виде, избегая категоричности определения, поэт называет «свержением старых кумиров». Не отсюда ли пошла
индивидуальная поэзия, с её «законным божеством» в виде «эгоизма»…
Перед лицом Истины-смерти, обещающей душе вечный «суровый хлад» и «покой», Боратынский выбирает жизнь и тот едва заметный свет надежды, что ещё теплится во мраке разуверения…
Предельно глубокий и взыскательный взгляд на жизнь души, исключительно честный разбор всех её движений — вот что значит для него «красота правды». Элегия «Признание», написанная тогда же, в 1823 году, лучшее тому подтверждение: здесь эти качества выражены с необыкновенной художественностью, суть которой — в небывалой психологической глубине, в поразительной точности того, как поэт схватывает в целом и запечатлевает в подробностях душевную жизнь.
Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальной.
Ты права, в нём уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной. <…>
Пушкин, прочитав это стихотворение, был восхищён: «Баратынский — прелесть и чудо; „Признание“ — совершенство. После него не стану печатать своих элегий…» (Из письма Александру Бестужеву от 12 января 1824 года.) Может быть, последняя фраза сказана немного в шутку, зато первая — вполне серьёзно. Конечно, вовсе печатать своих элегий он не перестал, но, как заметил, уже в наше время, в своей статье Алексей Машевский (Литература. 2002. № 4),
было чему удивляться:
«Стандартной элегической темой были жалобы на изменившие чувства (но не поэта-меланхолика, а его возлюбленной), на разлуку с любимым человеком, на общую разочарованность в жизни. У Баратынского всё предельно конкретно и необычно: разлюбил сам герой, причём его холодность нелогична, измена, если только это можно назвать изменой, не спровоцирована новыми романтическими стремлениями, более того, поэт тоскует по прежней страстной взволнованности, но не может её оживить:
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил.
Вот эта „свышесильность“ любых наших обязательств, любых наших мечтаний, любой уверенности и становится темой стихотворения. В нём в столкновение приведены две стихии: мощная потенция аналитического рассудка, способного понять, предвидеть и назвать по имени каждое уклонение сердца, — и негодующее чувство изумления перед неверностью, опрометчивостью собственной природы. Всё понимаю — но принять этого своего понимания не могу. Не могу принять. Но осознаю, что деться будет некуда:
Грущу я, но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной.
Кто знает? Мнением сольюся я с толпой;
Подругу без любви — кто знает? — изберу я.
<…> Будничность интонации, безыскусность выражения, отсутствие сильных средств — всё это выводит данный текст за рамки элегической условности. Иллюзия непосредственности высказывания здесь полная, мы словно имеем дело не со стихотворением, а с жизненной реальностью. Как всегда в финале от личной ситуации Баратынский обращается к выходу в общую тему — темы без вины виновного:
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даём поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе».
Прямого адресата «Признания», как и других самых известных элегий Боратынского, исследователями не обнаружено. Стихотворение могло быть обращено и к предмету юношеской любви Вареньке Кучиной, и к недавнему сильному увлечению — Софьи Пономарёвой. А может, к некоей другой женщине… Боратынский умел хранить свои сердечные тайны. «Утаивая личные обстоятельства своей жизни, поэт с небывалой дотоле откровенностью бесстрашно обнажал глубины своей мысли», — точно заметила филолог Ирина Семенко. Знаменитая элегия посвящена
преходящести любви, тому неизбежному её исчезновению, с которым ничего нельзя поделать.
Любовь, да и всё на свете —
временное, а временное проходит, исчезает само собой. Именно это отчётливо обозначено поэтом при отделке стихотворения в 1832–1833 годах. В ранней редакции, относящейся к 1823 году, утрата любви объясняется, казалось бы, более непосредственным поводом:
<…> Верь, беден я один: любви я знаю цену,
Но сердцем жить не буду вновь,
Вновь не забудусь я! Изменой за измену
Мстит оскорблённая любовь! <…>
Но к кому или к чему относится эта «измена»? Не ясно! Может быть, к любимой, а возможно, к чувству любви, которое вдруг изменилось в нём и исчезло.
Исследователи давно отметили, что в «любовных» элегиях Боратынский не был «певцом любви». И. Семенко пишет, что в них «<…> предметом „анализа“ являются не события собственной жизни, а общие закономерности жизни человеческой. <…> В „Разуверении“ перед нами не недоверие к возлюбленной, а недоверие к самой любви („не верую в любовь“). У элегических поэтов любовь часто рисуется трагедией. У Баратынского она прежде всего —
иллюзия („сновиденье“). Чувству, а не героине адресовано слово „измена“». Вероятнее всего, и в «Признании» речь об
измене собственного чувства, чего не прощает любовь.
«Но иллюзорна не только любовь, — продолжает И. Семенко. — Пределы сна расширяются. Сон, „дремота“, „усыпленье“, поглотив прошлое, овладевают и настоящим. <…>
Близко к значению „сна“ и значение слова „мечты“. „Мечты ревнивые от сердца удали“ — говорится в „Признании“. „Любовные мечтанья“, „прежних лет мечтанья“, „мечтанья юные“ и т. п. всегда появляются у Баратынского в противопоставлении не „высокого“ „низкому“ (как у Жуковского), а
иллюзорного действительному.
Это равнозначно противопоставлению любви равнодушию, на чём основана одна из наиболее замечательных элегий молодого Баратынского — „Признание“ <…>».
Но «наука предательства» — слишком земная наука в сравнении с вневременными законами
вечности: вечность поглощает и мимолётные привязанности, и сильные чувства.
Пред бездной Времён меркнет всё, что ни есть на земле, — жалко выглядит временное перед вечностью:
<…> Служа приличию, фортуне иль судьбе,
Подругу некогда я выберу себе,
И без любви решусь отдать ей руку.
В сияющий и полный ликов храм,
Обычаю бесчувственно послушной,
Введу её, и деве простодушной
Я клятву жалкую во мнимой страсти дам… <…>
(«Признание», ранняя редакция, 1823)
В сияющем храме лишь очевиднее мрак, затмивший душу, обнажённее ложь перед Богом: вера в таинство венчания превратилась в бесчувственное соблюдение брачного обычая…
Чем пламеннее чувство, тем и мимолётнее: время словно бы стремительнее сгорает в нём.
В другом стихотворении — «Любовь» (1824) Боратынский говорит о разрушительной силе такого огненного чувства:
Мы пьём в любви отраву сладкую;
Но все отраву пьём мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.
Огонь любви, огонь живительный!
Все говорят; но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
Он душу объятую им! <…>
Одно из последующих стихотворений того времени («Череп») — о ничтожности самой человеческой жизни, которая в любое мгновение грозит нам «смертным часом»:
<…> Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное созданье,
О человек! уверься наконец:
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье! <…>
У
вечности другие законы, чем у быстротекущей жизни, — и эти законы неведомы смертному:
Нам надобны и страсти, и мечты,
В них бытия условие и пища:
Не подчинишь одним законам ты
И света шум, и тишину кладбища!
Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит:
Пусть радости живущим дарит жизнь,
А смерть сама их умереть научит.
(«Череп», 1824, 1826)
У Пушкина в «Послании к Дельвигу» (1827) есть строки, связанные с этим стихотворением: «<…> Или как Гамлет-Баратынский / Над ним задумчиво мечтай…», — философичность Боратынского, его
гамлетизм схвачены мгновенно. П. А. Плетнёв же сравнил Боратынского с Байроном, у которого в стихах тоже есть «подобный предмет»: «<…> Русский стихотворец в этом случае гораздо выше английского. Байрон, сильный, глубокий и мрачный, почти шутя говорил о черепе умершего человека. Наш поэт извлёк из этого предмета поразительные истины».
«Скрытый яд» мысли, который заметил в себе самом Боратынский ещё в юности, с годами открыл ему
временное — бренность бытия. Душа, даже в самые счастливые мгновения жизни, когда всё вокруг «славит <…> существованья сладость» («Песня», 1824–1825), томительно ощущает
преходящесть всего на земле, и этим глубинным знанием отравлен каждый счастливый миг…
Одна из «поразительных истин», что извлёк
Гамлет-Боратынский из своих созерцаний («Череп», 1824), состоит в том, что даже и мудрецу никогда вполне не откроются тайны жизни, тем более ему недоступны «законы кладбища» — тайны потустороннего мира. Парадоксальный вывод из этого таков: принимать радости, что дарит жизнь, не заботясь о смерти, которая сама «умереть научит». Не потому ли духовный взор Боратынского обращается к прошлому, к жизнелюбивым стихам Богдановича. Только с ним, воспитанным в «благодатный век» Екатерины — «не столько просвещённый», зато бодрый умом и неразвращённый вкусом — Боратынскому хочется поговорить про русский Парнас:
<…> Не хладной шалостью, но сердцем внушена,
Весёлость ясная в стихах твоих видна;
Мечты игривые тобою были петы.
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих,
И на лице земли всё как-то не по них.
Ну что ж? Поклон, да вон! Увы, не в этом дело:
Ни жить им, ни писать ещё не надоело,
И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к музам их немецкая хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошёл в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему Господь! Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделося чело,
Душа увянула и сердце отцвело.
«Как терпит публика безумие такое?»
Ты спросишь? Публике наскучило простое,
Мудрёное теперь любезно для неё:
У века дряхлого испортилось чутьё. <…>
Эта ирония, если не насмешка, относится в первую очередь к себе самому. Шутя, прощается поэт с набившей оскомину собственной хандрой, с вязким унынием; он сыт по горло «дряхлостью» века, тем более что видит на русском Парнасе достойных певцов:
Так, веку вопреки, в сей самый век у нас
Сладко поющих лир порою слышен глас,
Благоуханный дым от жертвы бескорыстной!
Так нежный Батюшков, Жуковский живописной,
Неподражаемый, и целую орду
Злых подражателей родивший на беду,
Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Всё под пером своим шутя животворящий
(Тебе, я думаю, знаком довольно он:
Недавно от него товарищ твой Назон
Посланье получил), любимцы вдохновенья,
Не могут поделить сердечного влеченья
И между нас поют, как некогда Орфей
Между мохнатых пел, по вере старых дней.
Бессмертие в веках им будет воздаяньем! <…>
Не искусство ради искусства привлекает Боратынского, а нечто совсем иное:
А я, владеющий убогим дарованьем,
Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
Что мыслю, то пишу <…>…
(«Богдановичу», 1824)
Самостояние в
красоте правды — вот что избирает он на исходе своей молодости…
Нежданные дорогие гости
В конце лета 1823 года, приехав ненадолго в столицу, Боратынский договорился с А. Бестужевым и К. Рылеевым, владельцами журнала «Полярная звезда», об издании своих стихов отдельной книгой и получил от них за это тысячу рублей.
В начале сентября в Роченсальм неожиданно приехали гости из Петербурга: Антон Дельвиг уговорил друзей проведать Боратынского в затянувшемся
изгнании. Николай Коншин вспоминал, как тот был обрадован приездом сюда «доброго Дельвига с Павлищевым и учёным Эртелем»: «<…> несколько дней прожито было поэтически в кругу полкового общества, постоянно неравнодушного к удовольствию своего поэта». (Позже, в апреле 1825 года, Дельвиг, уже в одиночку, навестил Пушкина в Михайловском Псковской губернии: он скучал по своим друзьям и понимал, как они ещё сильнее в своей глуши тоскуют по дружескому общению.) В Роченсальме на радость встречи Дельвиг сочинил застольную песню, посвятив её Боратынскому и Коншину:
Ничто не бессмертно, не прочно
Под вечно изменной луной,
И всё расцветает и вянет,
Рождённое бедной землёй.
И прежде нас много весёлых
Любило и пить, и любить:
Нехудо гулякам усопшим
Веселья бокал посвятить.
И после нас много весёлых
Полюбят любовь и вино,
И в честь нам напенят бокалы,
Любившим и пившим давно.
Теперь мы доверчиво, дружно
И тесно за чашей сидим.
О дружба, да вечно пылаем
Огнём мы бессмертным твоим!
Переслав в Петербург рукопись со стихами, Боратынский следом отправил своим друзьям-издателям письмо: «Милые собратья Бестужев и Рылеев! Извините, что не писал к вам вместе с присылкою остальной моей дряни, как бы следовало честному человеку. Я уверен, что у вас столько же добродушия, сколько во мне лени и бестолочи. Позвольте приступить к делу. Возьмите на себя, любезные братья, классифицировать мои пьесы. В первой тетради они у меня переписаны без всякого порядка, особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре; я желал бы, чтобы мои пьесы по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны. Второе: какие именно стихи не будет пропускать честная цензура: я, может быть, успею их переделать. <…> Четвёртое: о други и братья! постарайтесь в чистеньком наряде представить деток моих свету, — книги, как и людей, принимают по платью. — Прощайте, мои милые, желаю всего того, чем сам не пользуюсь: наслаждений, отдохновений, счастия, — жирных обедов, доброго вина, ласковых любовниц. Остаюсь со всею скукою финляндского житья душевно вам преданный — Боратынский».
В конце ноября верный спутник и друг Боратынского Николай Коншин вышел в отставку и вернулся на родину: решил создать семью.
Поэт остался один…
Но тут подоспели новые хлопоты о его
прощении. Кто посоветовал Боратынскому обратиться с письмом к Жуковскому, доподлинно неизвестно, да, наверное, это и не важно. К Василию Андреевичу как к добрейшей душе обращались многие. К тому же знаменитый поэт был, как никто другой из его пишущих собратьев, близок к императору. В конце декабря 1823 года Боратынский написал огромное исповедальное письмо Жуковскому (в самых важных положениях оно подробно цитировалось в начальных главах), где рассказал, не таясь, о своей юношеской катастрофе в Пажеском корпусе.
Оставалось ждать и надеяться…
Глава десятая
ГЕЛЬСИНГФОРС
Исповедь о проступке молодости
«Вы налагаете на меня странную обязанность, почтенный Василий Андреевич, сказал бы трудную, ежели бы знал вас менее, требуя от меня повести беспутной моей жизни, я уверен, что вы приготовились слушать её с тем снисхождением, на которое, может быть, даёт мне право самая готовность моя к исповеди, довольно для меня невыгодной <…>».
Жуковский получил его
исповедь в самом начале 1824 года. И сразу же написал большое письмо министру просвещения А. Н. Голицыну:
«Милостивый государь князь Александр Николаевич! — Я недавно получил письмо, тронувшее меня до глубины сердца: молодой человек, с пылким и благородным сердцем, одарённый талантами, но готовый, при начале деятельной жизни, погибнуть нравственно от следствий проступка первой
молодости, изъясняет в этом письме, просто и искренно, те обстоятельства, которые довели его до этого проступка. Несчастие его не унизило и ещё не убило, но это последнее неминуемо, если вовремя спасительная помощь к нему не подоспеет. <…> Письмо Баратынского есть только история его проступка; но он не говорит в нём ни о том, что он
есть теперь, ни о том, чем бы
мог быть после. Это моя обязанность. Я знаю его лично и свидетельствуюсь всеми, которые его вместе со мною знают, что он имеет полное право на уважение, как по своему благородству, так и по скромному поведению. Если заслуженное несчастие не унизило его души, то это неоспоримо доказывает, что душа его не рождена быть низкою, что её заблуждение проистекло
не из неё самой, а произведено силою обстоятельств и есть нечто ей совершенно чуждое. Кто в летах неопытности, оставленный на произвол собственной пылкости и обольщений внешних, знает, куда они влекут его, и способен угадать последствия, часто решительные на всю жизнь! <…> Возвратись он в свет, он возвратится в него
очищенный; можно даже подумать, что он будет надёжнее многих чистых: временная, насильственная разлука с добродетелью, в продолжение которой он мог узнать и всю её прелесть, и всю горечь её утраты, привяжет его к ней, может быть, сильнее самых тех, кои никогда не испытали, что значит потерять её <…>».
Чуткий знаток двора, Жуковский, дабы исключить всякие лишние домыслы, подчеркнул, что сам потребовал у Боратынского, чтобы тот написал своё письмо, а Голицына же выбрал в ходатаи, доверяя его сердцу, «всегда готовому на добро».
«Представьте Государю Императору письмо Баратынского; прочитав его, вы убедитесь, что оно писано не с тем, чтобы быть показанным. Но тем лучше! Государь узнает истину без украшения. Государь в судьбе Баратынского был явным орудием Промысла: своею спасительною строгостию он пробудил чувство добра в душе, созданной для добра! Теперь настала минута примирения — и Государь же будет этим животворящим примирителем: он довершит начатое, и наказание
исправляющее не будет наказанием
губящим. Заключу, повторив здесь те святые слова, которые приводит в письме своём Баратынский: „Еще ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и облобыза его!“ Сей отец есть Государь: последствия найдёте в Святом Писании. — С истинным почтением и сердечною привязанностию честь имею быть, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейшим слугою. — В. Жуковский».
По совету дяди Петра Андреевича Боратынский написал письмо принцессе Вюртембергской Елене Павловне, вскоре ставшей женой великого князя Михаила Павловича. Однако неизвестно, приняла ли она участие в его судьбе…
Весь январь и добрую половину февраля Жуковский с Голицыным обменивались письмами, уточняя, как повести дело. К нему подключился и Александр Иванович Тургенев, видный сановник и приятель всех литераторов. В конце февраля министр просвещения, докладывая государю по службе, рассказал ему и о ходатайстве Жуковского. Тургенев сообщал Вяземскому, что доклад князя Голицына для Боратынского «был счастлив <…>, но дело ещё не кончено».
5 марта Боратынский писал Жуковскому из Роченсальма: «Болезнь, почтенный Василий Андреевич, препятствовала мне изъявить вам мою признательность за трогательные строки, доставленные мне Дельвигом. Вы меня благодарите в них за письмо моё, как будто я обязал вас, потрудившись написать его, и забывая, что вы одни мне благодетельствуете, помните только, что я несчастлив и имею нужду в утешении. Поверьте, что мне не тягостна благодарность, особенно благодарность к вам. Я любил вас, плакал над вашими стихами прежде, нежели мог предвидеть, что мне могут быть полезны прекрасные качества вашего сердца. — До меня дошли такие хорошие вести о моём деле, что, право, я боюсь им верить. Препоручаю судьбу мою вам, моему Гению-покровителю. Вы начали, вы и довершите. Вы возвратите мне общее человеческое существование, которого я лишён так давно, что даже отвык почитать себя таким же человеком, как другие, и тогда я скажу вместе с вами: хвала поэзии, поэзия есть добродетель, поэзия есть сила; но в одном только поэте, в вас, соединены все её великие свойства. — Да будут дни ваши так прекрасны, как ваше сердце, как ваша поэзия. Лучшего желания не может придумать до глубины души вам преданный — Боратынский».
Опять
болезнь!.. Как только сильные волнения, — а наверняка так оно и было, — так сразу же поэта одолевают хвори.
Между тем о судьбе Боратынского прослышал поэт и прославленный герой 1812 года Денис Давыдов. Как раз в начале марта в Финляндию отправлялся его добрый приятель генерал-лейтенант А. А. Закревский. Давыдов черкнул ему несколько слов: «Любезнейший друг Арсений Андреевич! <…> Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты, он у тебя в корпусе. Гнёт этот он несёт около 8-ми лет или более, неужели не умилосердятся? — Сделай милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и верно будет полезен. Я приму старание твоё, а ещё более успех в сем деле за собственное мне благодеяние <…>. Твой верный друг Денис».
…
Неужели не умилосердятся?..
Наивное недоумение широкого сердца…
«Дней Александровых прекрасное начало» осталось далеко позади, — теперь император был не тогдашний молодой правитель, полный благих надежд и светлой энергии, а человек, утомлённый властью, одолеваемый подозрениями, предчувствиями смут… По кончине в бумагах государя нашли записку, начертанную его рукой: «Есть слухи, что пагубный дух вольнодумства или либерализма разлит, или, по крайней мере, сильно уже разливается между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселёв, Михаил Орлов и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров; сверх того большая часть штаб- и обер-офицеров». Император, насколько мог, сознательно и бессознательно,
натягивая вожжи, — не этим ли и объясняется его строгость по отношению к любым проступкам?..
Перед отбытием в Гельсингфорс на генерал-губернаторство Закревский побывал на приёме у монарха. Среди прочего просил и о провинившемся когда-то молодом дворянине. А. И. Тургенев узнал от генерала:
обещано или почти обещано. Написал П. А. Вяземскому: «<…> Страшусь отказа за Баратынского, ибо он устал страдать и терять надежду; но авось!» Увещевал писателя — передать издателям, чтобы пока не упоминали под стихами имя поэта: это может повредить ходу дела… Но тут как нельзя некстати «Литературные листки» Булгарина объявили в свежем номере: «Многие любители поэзии давно уже желают иметь собрание стихотворений Е. А. Баратынского, которого прекрасные элегии, послания, воспоминания о Финляндии и „Пиры“ снискали всеобщее одобрение. К. Ф. Рылеев с позволения автора вознамерился издать его сочинения».
Через несколько дней начальник Главного штаба И. И. Дибич представил Александру I докладную записку о Боратынском. Но… то ли с ходатайствами уже переборщили, то ли сами ходатаи стали чем-то не милы государю. Император наложил резолюцию:
«Не представлять впредь до повеления».
В столице на караулах
В конце мая 1824 года два батальона Нейшлотского полка отправились на смотр и учения в Вильманстранд: генерал-губернатор А. А. Закревский инспектировал свои войска. Вслед за генералом вдоль строя шёл его молодой адъютант Николай Путята. В знамённых рядах ему указали на рослого унтер-офицера, очевидно, представив как полковую знаменитость. «<…> Баратынский родился с веком, следовательно, ему было тогда 24 года. Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние, — вспоминал впоследствии Н. Путята. — В продолжении смотра я с ним познакомился и разговаривал о его петербургских приятелях. После он заходил ко мне, но не застал меня дома и ставил прилагаемую записку: „Баратынский был у вас, желая засвидетельствовать вам своё почтение и благодарить за участие, которое вы так благородно принимаете в нём и в судьбе его. Когда лучшая участь даст ему право на более короткое знакомство с вами, чувство признательности послужит ему предлогом решительно напрашиваться на ваше доброе расположение, а покуда он остаётся вашим покорнейшим слугою“».
Лучшая участь ожидала поэта ещё нескоро, а вот с молодым офицером они быстро сошлись и подружились. Николай Путята заменил ему Коншина, если не во всём, так во многом, — а спустя несколько лет стал ближайшим другом и даже родственником — свояком.
Денис Давыдов между тем продолжал писать свои короткие энергичные послания генералу Закревскому: «<…> Пожалоста, брат, постарайся о Баратынским. Ты мне обещаешь, но приведи обещание своё в действие, ты меня сим крайне обяжешь. Грустно видеть молодого человека, исполненного дарованиями, истлевающим без дела и закупоренным в ничтожестве. Пожалоста, постарайся, а пока нельзя ли ему дать пристанище, при тебе ему, конечно, лучше будет, нежели в полку, и он тебе будет полезен <…>».
Эту записку генерал получил в конце мая. А в июне Д. Давыдов писал Закревскому: «<…> Благодарю тебя, что сердце твоё не застывает ко мне и под созвездием медведицы <…>. Повторяю о Баратынском, повторяю опять просьбу взять его к себе. Если он на замечании, то верно по какой-нибудь клевете; впрочем, молодой человек с пылкостию может врать — это и я делал, но ручаюсь, что нет в России приверженнее меня к царю и отечеству; если бы я этого и не доказал, то поручатся за меня в том те, кои меня знают; таков и Баратынский. Пожалоста, прими его к себе <…>».
На замечании — значит не слишком благонадёжный у властей. Но поручительством своим Давыдов желает снять эти пустые, по его догадке, подозрения.
Участь Боратынского волновала и других писателей, из тех, кто по-настоящему понимал в литературе и в людях. Прямее всех высказался Пётр Вяземский в письме Александру Тургеневу: «<…> Пришлите мне послание Боратынского. Что его дело? Денис писал о нём несколько раз Закревскому. Долго ли будут у нас поступать с ребятами как с взрослыми, а с взрослыми как с ребятами? Как вечно наказывать того, который не достиг ещё до законного возраста? Какое затмение, чтобы не сказать: какое варварство! <…>».
В июне Нейшлотский полк вновь выступил в Петербург нести караулы.
В столице с Боратынским опять друг Дельвиг. Среди новых знакомых — поэт Николай Языков, а возможно, и Александр Грибоедов. Бывшие «арзамасцы» собираются на Чёрной речке, у Александра Ивановича Тургенева на даче — Боратынский приезжает с Дельвигом и, возможно, по его настоянию читает собравшимся послание Богдановичу. Жуковский тут же рядом: услышав, что заразил русскую лирику немецкою хандрой, первым хохочет. Внимательно слушают представителя племени младого слепец Козлов, Греч, Блудов, Дашков… Дельвиг писал потом Пушкину: «<…> Послание к Богдановичу исполнено красотами; но ты угадал: оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробиваются кой-где. Что делать? Это пройдёт! Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком. Но уж он начинает отставать от них. На днях пишет, что у него готово полторы песни какой-то романтической поэмы. С первой почтой обещает мне прислать, а я тебе доставлю с ней и прочие пьесы его, которые теперь в цензуре <…>».
В последних строках речь о поэме «Эда», которую Боратынский дописывал в Финляндии…
У Дельвига недавно случилась история: поссорившись с Булгариным (причина осталась неизвестной), он вызвал того на дуэль. Пройдоха издатель, в ту пору завзятый либерал, отказался стреляться, не без остроумия заметив: «Скажите барону Дельвигу, что я на своём веку видел более крови, нежели он чернил». Уладил ссору Кондратий Рылеев. Сохранилась его записка Булгарину: «<…> Дельвиг соглашается всё забыть с условием, чтобы ты забыл его имя, а то это дело не кончено. Всякое твоё громкое воспоминание о нём произведёт или дуэль, или убийство. Dixi».
Однако Булгарин «воспомнил» барона, хотя и не забыл, что по имени называть его не стоит. Уже в сентябре в своих «Литературных листках» он выпустил памфлет против
парнасских баловней. По форме это разговор между драматургом
Талантиным, в котором легко угадывается Грибоедов, и его другом
Архипом Фаддеичем (понятно кем) с литературными недорослями
Неученским (Боратынский) и
Лентяевым (Дельвиг). Автор одной комедии Талантин призывает молодых учиться наукам, мастерству — а те лишь хохочут:
«
Лентяев. Какой вздор!! Я вам докажу собою, что науки вовсе не нужны. Ещё в школе друзья мои (из которых теперь многие уже прославились) уверяли меня, что я рождён поэтом. Я перестал учиться, начал писать стихи: послания, мелодические песни и анакреонтические гимны — и прославился! Воспеваю вино, лень, себя и друзей моих…
Неученский. Это совершенная правда, о друг мой, мой Гораций! Впрочем, не думайте, чтобы мы никогда не заглядывали в книги: мы читали Парни, Ламартина и одну часть из курса Лагарпова.<…> На что науки? Я в четырнадцать лет бросил ученье, ничего не читал, ничего не знаю, но славен и велик. Я поэт природы, вдохновенья! В моих гремучих стихах отдаются, как в колокольчике, любовные стоны, сердечная тоска смертельной скуки, уныние (когда нет денег) и радость (когда есть деньги) в пирах с друзьями. Я русский Парни, Ламартин; если не верите, спросите у моего друга Лентяева.
Лентяев. Клянусь Вакхом — правда! Стихи моего друга образцовые <…>».
Грибоедова покоробила грубая лесть, и он прервал знакомство с Булгариным; впрочем, тот покаялся, и они помирились. Гнев Дельвига мало-помалу сошёл на нет, и миролюбивый поэт простил журналиста. А вот Боратынский, похоже, навсегда отстранился от бывшего знакомца — скорее, не только по брезгливости к его непорядочности, но и потому, что не терпел никаких понуканий в творчестве.
Памфлет Булгарина был, конечно, «идейным», — это хорошо почувствовала советский филолог Ирина Медведева в статье «Ранний Баратынский» (1936): «<…> Булгарин, сводя свои счёты, отлично учитывал ситуацию. С одной стороны, он брал уже готовые шуточки лагеря „Благонамеренного“ о „баловнях поэтах“ и тем самым как бы получал оттуда поддержку, а с другой стороны, он выражал весьма передовые взгляды. К этому времени довольно чётко выясняется при всём своём различии какая-то единая литературная позиция декабристов. Это позиция борьбы за национальную литературу, за самобытность и идейность художественной литературы. Отсюда тяга к изучению истории, быта народного и т. д. Здесь Булгарин учитывает новое, передовое направление в литературе. Осуждение „друзей поэтов“ за легкомыслие в их творчестве шло не только со стороны правого лагеря, с его требованиями благонамеренности и моральности, но и со стороны писателей, членов тайных политических обществ. Декабристы в литературе требовали сильных героев, национальной самобытности, положительных знаний и идей <…>».
То есть все, и справа и слева, чего-то
требовали — но Боратынский смолоду не выносил принуждения того или иного лагеря, а предпочитал всему свою собственную мысль и своё свободное развитие как художника. Кто бы и когда ни пытался приспособить его перо для своей партийной — то бишь частичной — пользы, он не поддавался. Он разделял лишь те взгляды, которые были ему самому свойственны, не прибиваясь ни к одному течению мысли или же политическому направлению. И это отнюдь не мешало ему поддерживать добрые товарищеские отношения с представителями «разных лагерей»… Не столь важно, догадывался он или нет о тайной деятельности А. Бестужева и К. Рылеева и других своих хороших знакомых, вышедших чуть позже на Сенатскую площадь, — он отнюдь не интересовался
политикой. Бестужев и Рылеев были для него товарищами по жизни и литературе — не более.
Петербургским летом 1824 года он побывал в гостях у Кондратия Рылеева, в доме у Синего моста. А. В. Никитенко вспоминал, что в тот вечер хозяин дома декламировал свою только что написанную поэму «Войнаровский»: «<…> Со мною вместе слушал и восхищался офицер в простом армейском мундире — Баратынский». (Мемуарист немного перепутал: поэт был унтер-офицером.) Покидая Петербург, Боратынский забрал у Бестужева и Рылеева тетради со своими стихами: то ли хотел пересмотреть написанное, то ли решил, по совету Тургенева, повременить с изданием книги, чтобы не помешать своему производству в прапорщики, своему
освобождению. Это издание потом так и не состоялось: поначалу друзья-издатели сильно обиделись, а потом случилось восстание декабристов…
Светские красавицы и пламя страстей
По возвращении в Финляндию в сентябре 1824 года Боратынский писал матери: «Мы собираемся покинуть Роченсальм, любезная маменька. Закревский, исполняя просьбу полковника, позволил ему занять просторный и прекрасный дом в Кюмени, дом принадлежит казне. Это всего в семи верстах от прежних наших квартир. Полковник берёт меня с собой в помощь жизни. Достойно примечания, что я займу в этом доме именно те две комнатки, которые занимал когда-то Суворов — когда строил Кюменскую крепость. <…> Я веду жизнь вполне тихую, вполне покойную и вполне упорядоченную. Утром занят немногими трудами своими у себя, обедаю у полковника, у него провожу обыкновенно и вечер, коротая его за игрой с дамами в бостон по копейке за марку: правда, я всегда в проигрыше от рассеянности, зато, благодаря этому, меня видят, по меньшей мере, учтивым. — У нас прекрасная осень. Кажется, она вознаграждает нас за нынешнее плохое лето. Я люблю осень. Природа трогательна в своей прощальной красоте. Это друг, покидающий нас, и радуешься его присутствию с меланхолическим чувством, переполняющим душу. — Полковник получил письмо из Ржева, принёсшее крайне неожиданные новости. Неурожай привёл там к настоящему бунту. Крестьяне уходят из своих домов. Более трёх тысяч человек оставили уезд. Все крепостные. Перемена мест не обходится без буйств: они начинают с того, что захватывают всё, что могут, в домах своих владельцев, собираются толпами и клянутся друг другу, одни против господ, другие против правительства, третьи против Ар. <Аракчеева>. Невесёлая забава. Вы уже получили эти новости?»
(перевод с французского).
Николаю Коншину, письмо которого «дышит счастием», Боратынский отвечает, что сердечно рад его женитьбе и предчувствует, что семейная жизнь доставит молодому мужу «всю отраду возможную». Немного о полковых событиях, ещё меньше о себе: «<…> Я живу помаленьку: ни весел, ни скучен. Волочусь от безделья за Анетой, обыкновенно по воскресеньям у Лутковского. Дома пишу стихи и лечусь от раны, которую мне нанесла любовь: но эта рана не сердечная <…>». И, наконец, в ответ на приглашение навестить друга: «Приехать к тебе — один из воздушных замков, которых почитаешь такими, но всё-таки строишь для своего удовольствия. Сердечно хотел бы посмотреть на твоё житьё-бытьё и полюбоваться твоим счастием, но это вряд ли когда случится. Я в себе несвободен и Бог весть буду ль свободным заживо <…>».
Ожидание царского прощения так затянулось, что кажется порой бесконечным…
Однако уже через месяц Боратынский воспрянул духом. Генерал Закревский выполнил просьбу своего «друга Дениса» и велел определить унтер-офицера при штабе Отдельного Финляндского корпуса. Вскоре Боратынский перебрался в Гельсингфорс, молодую финляндскую столицу. Николай Путята пригласил поэта остановиться у себя на квартире. Познакомил с другим адъютантом генерал-губернатора, Александром Мухановым. Все трое быстро сошлись и сделались добрыми приятелями. Одному из своих товарищей Путята писал: «<…> у меня гостит теперь Баратынский; он написал много нового, истинно хорошего <…>».
Три месяца в Гельсингфорсе стали, по замечанию Гейра Хетсо, самым счастливым временем поэта в этой стране. «Закревский и Путята оказали ему радушный приём и сразу ввели его в высшие светские круги столицы». Безнадёжное уныние сменилось подъёмом духа: Боратынский почувствовал настоящую поддержку и наконец-то в беспросветной сутеми ожидания забрезжило освобождение.
Но, может быть, и новая обстановка развлекла: никогда ещё, по признаниям столичной знати, светская жизнь в Гельсингфорсе не знала такой широты и блеска, как в зиму 1824 года. Роскошные балы у Закревского и в домах финской знати следовали чуть ли не день за днём.
В губернаторском доме собирались по 150–200 человек и гуляли порой до пяти-шести часов пополуночи. Здесь царила хозяйка приёмов Аграфена Фёдоровна, высокая, смуглая, вальяжная красавица, отличавшаяся поразительной яркостью натуры. Она была умна и добра — и при этом чрезвычайно эксцентрична и вольна в повадках: нисколько не считалась с правилами и нормами поведения в свете, которые считала предрассудками, достойными разве что презрения. Разумеется, все мужчины столичного света были у ног этой «Магдалины», «Альсины» (позже, в 1828 году, Пушкин называл Закревскую «Клеопатрой Невы»).
По возрасту Аграфена Фёдоровна была ровесницей Боратынскому и, надо полагать, поразила его не меньше, чем в своё время Софья Пономарёва. Возможно, его тянуло к знаменитой красавице ещё сильнее, чем прежде к той обаятельной кокетке: никто из женщин не умел, да и не смел так безоглядно жить своим чувством, пренебрегая всеми условностями света. Тогда же, зимой 1824 года, Боратынский написал своё известное стихотворение, обращённое к Закревской:
Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего ещё душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь!
Это была ярчайшая звезда из того типа роковых красавиц, к которому его необычайно влекло в молодости (да, может быть, и много позже) — но это влечение сопровождалось и сильнейшим внутренним сопротивлением. Ум и воля боролись с наваждением броситься в омут с головой и, конечно, погибнуть — они же заставляли взлететь в небеса.
Спасение притягивало и манило не меньше, чем
гибель. Не потому ли почти одновременно с поэтической данью далёкой от святости «Магдалине» Боратынским написаны стихи, посвящённые другому женскому типу — ангельскому:
Очарованье красоты
В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
Манишь за край земной,
И при тебе душа полна
Священной тишиной.
Стихотворение посвящено Александре Андреевне Воейковой, жене издателя и журналиста А. Ф. Воейкова, — незадолго до этого Боратынский познакомился с ней в её литературном салоне в Петербурге. Известный её портрет с детьми, наверное, не вполне передаёт её нежно-глубокий взор, то неповторимое обаяние, которое излучала она и которое так действовало на всех знакомых с нею. А. А. Воейкова, урождённая Протасова, была крестницей В. А. Жуковского, — ей поэт посвятил свою «Светлану». Она была образцом душевной чистоты и жертвенного смирения, благородства и доброты. «Всяк, кто знал её, кто только приближался к ней, становился её чтителем и другом <…>», — писал о Воейковой Н. Греч. Она помогала ослепшему поэту Ивану Козлову, который называл её своею Музой; внушила глубокое чувство Александру Тургеневу, Николаю Языкову… Вспыльчивый Языков, влюблённый в прекрасную Александрину, раздражённо писал своему брату: «Воейкова <…> чрезвычайно любит Баратынского и Льва Пушкина; это мне непонятно и не нравится; я их обоих знаю лично <…>». Лёвушка Пушкин, как видно, тоже ревновал Александру Андреевну к Боратынскому: недаром тот написал добродушно-шутливое послание, где величал себя «соперником не опасным», «на закате юных дней», и которое окончил не слишком весёлым признанием:
<…> А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рождённый иногда воззреньем красоты,
Умом оспоривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной.
Похоже, Боратынский
прикрывал перед молодым приятелем и своё глубокое понимание прекрасной женской души, которую он созерцал в Александрине Воейковой. Ведь именно с этой женщиной связан один из его лирических шедевров, написанный в то же время:
ОНА
Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.
Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечёт очарованье
К её ногам и под защиту к ней.
Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычица она;
Не мыслишь ты — и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.
Бредёшь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, в пустынный угол твой —
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.
(1824)
Свободы — и подруги, что «красоты прекрасней», чаяла его душа.
А сердце, оно влекло и к опытной «Магдалине», с её мятежными прихотями, и к новорождённой звезде финляндского света — свежей, как утренняя заря, шестнадцатилетней Авроре Шернваль.
Аврора была дочерью выборгского ландсгевдинга Карла Йоана Шернваля. «Описывая эту замечательную девушку, известный переводчик Рафаель Линдквист называет её „молодым солнцем высшего света финской столицы, который в то время не чуждался общения со знатными и умными русскими, что было выгодно и этому высшему свету, и стране в целом“», — сообщает Гейр Хетсо. Юную Аврору обожали все; за её благосклонность Боратынский соперничал с Александром Мухановым. Поэт посвятил «соименнице зари» стихотворение на русском: «<…> дохни нам упоеньем, / <…> Всех румяным появленьем / Оживи и озари! <…>», а затем изящный мадригал на французском, в котором вопрошал: для кого же рождается этот «прекрасный день», для кого же очаровательная Аврора станет «солнцем любви»?.. А друга своего Муханова, в другом — полушутливом — стихотворении «Запрос», с лёгкой ревностью
запрашивал про Аврору:
<…> Была ль прямой зарёй она
Иль только северным сияньем?
Прелестная красавица стихов в свою честь не отвергала, но сердце отдала «пылкому» адъютанту, которому она казалась «хороша, как Бог». <…> (В 1834 году должна была состояться их свадьба. Но внезапно, за несколько дней до венчания, жестоко простудившись и схватив воспаление лёгких, 32-летний Муханов умер.)
Перед новым, 1825 годом Гельсингфорс был на редкость оживлён. Балы следовали один за другим; одна из их постоянных участниц сообщала родителям в письме, что желает лишь одного — чтобы здоровья хватило, «<…> ибо оно при этом всегда проигрывает крупную ставку». (Судя по терминологии, молодая дама была неравнодушна и к картёжной игре…) А. Муханов едва успевал делать краткие записи в своём дневнике — всё о том, как хохотали за ужином, как кипело шампанское, «<…> а с ним радость», или о том, как полупьяным он бродил по улицам с Путятой и Боратынским.
Гейр Хетсо не без улыбки сообщает: «К счастью, здоровье Баратынского блестяще выдержало все испытания светской жизни. Более того: забавы и развлечения не мешали его поэтическому творчеству, а скорее вдохновляли поэта своими новыми впечатлениями, которые отразились в его поэзии, прежде всего в поэме „Бал“». Ирина Медведева также отмечает, что осень и часть зимы в Гельсингфорсе, несмотря на жизнь рассеянную, были «<…> удивительно плодотворны для поэзии Баратынского».
Новые песни лиры
Новое — по широте и разнообразию тем, по замыслам и настроению, по интонации и звучанию — возникло в эти три месяца в Гельсингфорсе, казалось бы, целиком отданные шумной светской жизни. Поэт окончил поэму «Эда», задумал и начал другую поэму — «Бал», написал совершенно необычные для себя стихи: «Буря», «Лада», «Веселье и Горе», эпиграмму на Аракчеева «Отчизны враг, слуга царя…» и другие. Этот поэтический взлёт лишний раз свидетельствует о том, какой душевный подъём испытал он в Гельсингфорсе, впервые почуяв себя в Финляндии почти свободным — как в Петербурге, в свете, среди блестящих красавиц и добрых друзей. Скорее всего, это было предощущение долгожданной
свободы…
Филологи советского времени, хотели они того или нет, были вынуждены во всяком крупном художнике отыскивать прежде всего революционера,
борца с царизмом. Не избежал этой участи и Боратынский, хотя, вроде бы и «обиженный» монархом, никак на эту роль не подходил. Вот что, например, пишет о нём Елизавета Купреянова в статье «Баратынский» (1953):
«<…> По мере нарастания декабристского движения вольнолюбивые настроения получают в творчестве Баратынского всё более отчётливое выражение. Очевидно, что известное влияние оказало на него в этом отношении и сближение с издателями „Полярной звезды“ Рылеевым и Бестужевым.
На протяжении 1824–1825 годов Баратынский создаёт ряд стихотворений, проникнутых вольнолюбием. Такова прежде всего замечательная эпиграмма на Аракчеева:
Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов — самовластью —
Какой-то адскою любовию горя,
Он не знаком с другою страстью.
Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней.
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней».
Однако ничего замечательного в эпиграмме нет: художественный уровень её невысок. Стихотворение замечательно разве что подчёркнутой инфернальностью, приписанной
злодею, да чрезмерностью обличительного пафоса, не свойственным Боратынскому ни прежде, ни впоследствии. Легче всего было бы объяснить это тем, что впечатлительный поэт попал под воздействие разговоров в ближайшем окружении генерала Закревского, который давно уже величал Аракчеева
змеем, считая его вреднейшим человеком в России. Но в том-то и дело, что Боратынский был не из тех, кто думает чужой головой и бездумно повторяет за кем-то обвинения. Чем же вызвана такая ярая вспышка гнева, что поэт уподобил чиновника, пусть и слишком ретивого, самому «владыке преисподней»? Тут многое может пояснить элегия «Буря», написанная в одно время с эпиграммой.
Е. Купреянова и другие исследователи называли эту элегию
бунтарской — и также относили её к вольнолюбивой декабристской литературе. Однако так ли это?
Обычно
негромкий, Боратынский в этом стихотворении необычайно экспрессивен:
Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревёт, и чёрные валы
Идут, до неба восставая.
Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы. <…>
Выразительная картина, написанная ярко и сильно, — а в словах «до неба восставая» — некий намёк на то, что
чёрные валы восстают на Всевышнего. Хотя «небо» — со строчной буквы, но следом идут строки, в которых поэт пытается разгадать
духовную суть этого чудовищного разгула стихии:
Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила тучи в облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной ро́злил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью? <…>
Совершенно очевидно: речь о
сатане, хотя поэт и не называет напрямую этого «злобного духа, геенны властелина».
В недавней эпиграмме был только намёк на
владыку преисподней: не названный по имени Аракчеев представлялся вроде бы как исполнителем сатанинской воли, — стихотворение «Буря» ещё ближе подводит к той чёрной силе, что ополчилась на
творенье, а стало быть — на
Творца. Она разрушает естественную счастливую жизнь человека.
Когда придёт желанное мгновенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан? <…>
И вот впервые звучит голос
поэта или, как предпочитают называть, в своей осторожной объективности, литературоведы —
лирического героя. (Но мы-то, зная личные обстоятельства Боратынского, уверены — это
его голос.)
Ввериться океану — это значит для Боратынского: обрести, наконец, свободу и достойную жизнь.
Но знай: красой далёких стран
Не очаровано моё воображенье. <…>
Поэт не мыслит жизни вне родины; он убеждён: и «под небом лучшим» нет для него «лучшей доли».
Меж тем от прихоти судьбины,
Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины <…>.
Вот где начинается бунт!..
Однако это отнюдь не протест гражданина и патриота, — это протест отдельного человека, протест личности, восстание против силы, уродующей и разрушающей его жизнь. (Не потому ли и на Аракчеева Боратынский обрушил свой гнев, что увидел в нём
разрушителя, исполнителя сатанинской воли.)
Поэт не персонализирует в «Буре» проводника этой чёрной силы по отношению лично к нему, но очень похоже, что это
государь. То есть наказание, когда-то определённое ему, по его мнению, затянулось и стало несправедливым. В этом наказании уже нет Бога — а есть только
сатана.
Окончание элегии — свидетельство того, что поэт не только не сломлен злой судьбиной, но, напротив, укрепился духом в самом себе и выстоит в борьбе за своё человеческое достоинство:
Как жаждал радостей младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!
Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.
(1824)
Пожалуй, вот когда уместно говорить о том духовном
поединке между поэтом и царём, о чём писал исследователь Евгений Лебедев в книге «Тризна»…
Прощение придёт лишь в следующем, 1825 году.
Многое же надо вынести Боратынскому душою, чтобы с покорной искренностью признаться Жуковскому в том, что он даже отвык почитать себя таким же человеком, как другие люди. За годы ожидания милости поэт, хотя порою и роптал в нетерпении, всё же действительно по-настоящему смирился. «Тяжесть наказания изнурила Баратынского, — пишет современный исследователь Николай Калягин в своих „Чтениях о русской поэзии“. — Сам поэт в глубине души не мог не признавать его заслуженным и справедливым. „Страдаю за дело“, „получаю то, что заслужил“… Тонкий, впечатлительный Баратынский пробыл под грузом подобных безотрадных мыслей слишком долго».
Н. Калягин, в отличие от Е. Лебедева, сходится во мнении с Жуковским: император в судьбе Боратынского послужил
орудием Промысла. Императорская строгость стала для поэта спасительной. В Англии 1816 года, напоминает Калягин, за такое преступление, что совершил шестнадцатилетний Боратынский, полагалась смертная казнь. Да и в любой современной «демократии» перед юношей навсегда закрылась бы дорога в хорошее общество. «Это надо было умудриться так повести дело, чтобы и наказание оказалось полновесным, и реабилитация — полной. Голова кружится, когда представляешь себе русского царя, победителя Наполеона и владыку полумира, который прилежно занимается судьбой одного оступившегося подростка, читает доклады о нём, произносит: „Ещё не пора“ (то есть не пора простить, произведя в офицеры), „Нужно подождать“, „Вот теперь пора“. Подростка провели по лезвию бритвы — и реально спасли. В этом суть патриархальной власти, действующей иногда в обход сурового и прямолинейного закона, внутренне обращённой к тому „штучному товару“, которым является искони душа человеческая. Это дела любви».
Не всегда
дела любви вызывают ответное чувство: Н. Калягин замечает, что Боратынский «не сумел полюбить» государя.
Однако и душой не ожесточился — и словом не попрекнул.
Глава одиннадцатая
«СТИХИ ВСЁ МОЁ ДОБРО…»
Финская повесть
Нетерпение было преодолено — Боратынский уже не торопит событий: и хлопотать об освобождении нужно с выдержкой, с умом. Прежняя безнадёжность сменилась твёрдой уверенностью, что рано или поздно он дождётся своего часа:
океан утихомирится…
31 октября 1824 года он писал А. И. Тургеневу из Гельсингфорса в Петербург: «Ваше превосходительство — Милостивый государь — Александр Иванович! — Если б я не был глубоко тронут великодушным вашим участием, я не имел бы сердца. Не скажу ни слова более о моей признательности: вы ни на кого не похожи; нет такого человеконенавистника, который не помирился бы с людьми, встретя вас между ними. Многое мог бы я прибавить, но моё дело не судить, а чувствовать. — Арсений Андреевич (Закревский. —
В. М.) прав, желая повременить представлением, настоящая тому причина решительна.
На последней докладной записке обо мне рукою милостивого монарха было отмечено так:
не представлять впредь до повеления. Вот почему я и не был представлен в Петербурге. Вы видите, что после такого решения Арсений Андреевич иначе как на словах не может обо мне ходатайствовать и что он подвергается почти верному отказу, если войдёт с письменным представлением. Едва ли не лучше подождать; два месяца пройдут неприметно, а я привык уже к терпению <…>».
Чем он мог отблагодарить усердного ходатая? Только стихами…
«Хотя ваше превосходительство сами удостоиваете осведомляться о поэтических моих занятиях, может быть, я поступлю нескромно, ежели скажу вам, что я написал небольшую поэму и ежели попрошу у вас позволения доставить вам с неё список. Стихи всё моё добро, и это приношение было бы лептою вдовицы. — С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего превосходительства покорный слуга — Е. Боратынский».
Поэма, о которой речь, — «Эда».
Её подзаголовок — «Финляндская повесть». Первоначально был и эпиграф, довольно иронический, с намёком и на собственную судьбу, на что сгодилась французская поговорка. «On broutte là ou lʼon est attaché». — «Где привязан, там и пасёшься».
Вот уже четыре года, как ему приходилось
пастись в чужом северном краю. Да, конечно, были и продолжительные походы в Петербург
на караулы, и увольнения в отпуск на родину — но всякий раз надо было возвращаться к финским молчаливым гранитам и холодному серому морю — и тянуть служебную лямку, ничего не ведая о дальнейшей судьбе.
За это время финская земля перестала быть для него экзотикой: он свыкся с нею и, быть может, даже отчасти сроднился.
…Позже, уже покинув Финляндию, Боратынский, в письмах Н. Путяте объясняет, че́м была для него эта страна.
«<…> Приезжай, милый Путята! Поговорим ещё о Финляндии, где я пережил всё, что было лучшего в моём сердце. Её живописные, хотя угрюмые горы походили на прежнюю судьбу мою также угрюмую, но по крайней мере довольно обильную в отличительных красках <…>» (1825).
И ещё, через пять лет:
«<…> Этот край был пестуном моей поэзии — и лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты».
В предисловии к изданию поэмы «Эда» Боратынский писал: «Сочинитель предполагает действие небольшой своей повести в 1807 году, перед самым открытием нашей последней войны в Финляндии.
Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников любопытною природою, совершенно отличной от русской. Обильная историческими воспоминаниями, страна сия была воспета Батюшковым, и камни её звучали под конём Давыдова, певца-наездника, именем которого справедливо гордятся поэты и воины.
Жители отличаются простотою нравов, соединённою с некоторым просвещением, подобным просвещению германских провинций. Каждый поселянин читает Библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в Або для земледельцев.
Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие её было в России, ежели б ход её не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала более поэзии и менее мелочных подробностей. Но долгие годы, проведённые сочинителем в Финляндии, и природа финляндская, и нравы её жителей глубоко напечатлелись в его воображении <…>».
Конечно, это довольно общие слова и поверхностные сведения, что немудрено: служба Боратынского проходила в русских крепостях и в среде офицеров, которые, по признанию Н. Коншина, были отчуждёнными и по языку и по характеру от коренных жителей страны.
Часть финских земель — до реки Кюмень — была в российском владении ещё с 1743 года и называлась Выборгской стороной. В 1809 году в войне со шведами Россия завоевала новые территории Финляндии. Восстание крестьян было подавлено, однако они не примирились с новой властью, тем более что те земледельцы, которые остались «под шведами», жили лучше. Финское дворянство было в основном не против отделения от Швеции, оно добивалось политической автономии под российским началом, думая обрести таким образом национальную самобытность; но националисты желали конституции для финляндского княжества.
Боратынский провёл в Финляндии отнюдь не «долгие годы»: разве что ожидание свободы показалось ему долгим. Удалось ли ему глубоко вникнуть в жизнь чужой страны? Вот что свидетельствует добросовестный биограф Гейр
Хетсо:
«В литературе о Баратынском были сделаны попытки выяснить, насколько финляндские знакомые поэта могли ознакомить его с либеральными идеями и общественными проблемами страны. Но все эти попытки не дали сколько-нибудь определённых результатов. Высшее финляндское общество, в котором вращался Баратынский, состояло из людей русской ориентации, которые вряд ли могли разбудить в поэте интерес к „финляндскому вопросу“. В частности, это относится к Карлу Клеркеру и Д. А. Нордману, о которых Баратынский упоминает в своих письмах. Оба эти офицера были известными русофилами, из которых первый долгие годы жил в Петербурге, а второй уже в 1820 году был возведён в российское дворянское достоинство. Правда, в Нейшлотском полку были распространены профинские настроения, что и отразилось на изображении Баратынским этого народа и его судьбы. Но присоединение Финляндии к России никогда не ставилось под вопрос. Поэтому можно с уверенностью сказать, что „возможное косвенное ознакомление с идеями финского национального движения не имело для Боратынского существенного значения“. Другое дело, что многие офицеры вокруг Баратынского были известными либералами, критически относящимися к усиливающейся реакционной политике на их родине. Влияние этих офицеров не прошло бесследно и для Баратынского. <…> Приходится отрицать и значение местной литературы для Баратынского. Хотя финляндские однополчане поэта проявляли большой интерес к литературе, но они вряд ли могли ознакомить поэта, не знающего шведского языка, со шведской поэзией. Нет никакого основания говорить о каком-либо влиянии шведской поэзии на Баратынского. Возможную близость финляндской поэзии Баратынского к поэзии современных ему шведских романтиков нужно объяснить общими литературными направлениями и интересами поэтов. Показательно, что единственное упоминание Баратынского о местной литературе относится к финским песням: „напевы грустные протяжных песен финна“. Итак, несмотря на долгие годы, проведённые в чужой стране, творчество Баратынского всегда было связано с русской поэтической традицией <…>».
Как бы то ни было, Боратынский достаточно хорошо знал природу края, куда его занесла судьбина, и, без сомнения, чувствовал характер народа, выпестованного финской землёй.
Суровый край, его красам,
Пугаяся, дивятся взоры;
На горы каменные там
Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновый лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нём гранит пирамидальный;
По дряхлым скалам бродит взгляд;
Пришлец исполнен смутной думы.
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы? <…>
«Что за прелесть эта Эда!»
Чухонку свою — Эду — он угадал верно: «отца простого дочь простая» блистала в сча́стливой глуши «красой лица, красой души». Она — дитя естества, дитя природы: недаром очи её «<…> бледно-голубые, подобно финским небесам».
Русский гусар, немудрёный обольститель, скучающий службой, без труда влюбил в себя эту невинную доверчивую деву. А потом, конечно, бросил — как только позвала его прочь бродячая военная судьба. И девушка умерла от горя и тоски…
Сюжет столь прост, что толкователи литературы были в досаде.
Каждый из них судил по своему разумению и вкусу.
Александру Бестужеву недостало от «Эды» гражданских обличений. Зимой 1825 года он писал Пушкину в Михайловское: «<…> Что же касается Баратынского — я перестал веровать в его талант. Он исфранцузился вовсе. Его „Эдда“ есть отпечаток ничтожности и по предмету, и по исполнению <…>».
Ему по сути вторил — но уже публично — Фаддей Булгарин, пеняя Боратынскому на «скудость сюжета», которая «имела действие и на образ изложения: стихи, язык в этой поэме не отличные».
Виссариона Белинского привёл в полное недоумение этакий незамысловатый рассказ. Критик ожидал трагедии и пафоса, приличного трагедии, а нашёл необычайную простоту. Что же это, как не «Бедная Лиза» в стихах? — решил он. И сделал вывод:
плохая поэма.
Другое дело — Пушкин.
Пушкин был читателем совсем иного качества: то не критик, а
поэт оценивал поэта. К Боратынскому, своему ровеснику и другу, он присматривался, быть может, как ни к кому другому. Мало того — Пушкин тосковал по общению (так, в мае 1825 года он писал из Кишинёва Н. Гнедичу: «<…> От брата давно не получал известий, о Дельвиге и Баратынском также — но я люблю их и ленивых <…>»). Боратынский притягивал Пушкина своей поэтической новизной. Это было не банальное соперничество — но освоение тех возможностей, что таила в себе ещё далеко не возделанная нива русской поэзии. Всей глубиной своей творческой интуиции Пушкин угадывал в Боратынском первооткрывателя, нового поэта, каких ещё не бывало. Вот почему Боратынский не покидал его дум: то на полях рукописи «Евгения Онегина» Пушкин набрасывал своим летящим точным пером его профиль, то требовал от Дельвига или самого поэта — свежих стихов, то использовал ту или иную тему Боратынского, разрабатывая её по-своему.
Узнав, что Боратынский пишет новую поэму, Пушкин буквально забрасывал младшего брата и друзей просьбами: немедленно прислать ему список «Эды». «<…> Торопи Дельвига, присылай мне чухонку Баратынского, не то прокляну тебя <…>» (из письма брату Льву, ноябрь 1824 года). «Пришли же мне Эду Баратынского. Ах он чухонец! да если она милее моей Черкешенки, так я повешусь у двух сосен и с ним никогда знаться не буду» (из письма брату Льву и сестре Ольге, 4 декабря 1824 года).
Прочитав наконец поэму, Пушкин пришёл в восторг. Ему хотелось, чтобы этот восторг разделили другие. Недаром 20 февраля 1826 года он отослал П. А. Осиповой в Тверь книгу Боратынского с «Эдой» и «Пирами», сопроводив посылку запиской: «Вот новая поэма Баратынского, только что присланная мне Дельвигом; это образец грациозности, изящества и чувства <…>».
А самому Дельвигу он писал в тот же день в Петербург: «<…> что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякой говорит по-своему. А описания лифляндской природы! а утро после первой ночи! а сцена с отцом! — чудо! <…>».
Тем же днём помечена эпиграмма Пушкина на убогую рецензию Ф. Булгарина в «Северной пчеле». И у себя в псковской глуши Пушкин следил за литературной жизнью столицы — и уж тем более, под впечатлением от «Эды», не мог пропустить свежеиспечённый отзыв на поэму. Булгарин не нашёл в поэме «<…> пиитической, возвышенной, пленительной простоты, которой мы удивляемся в „Кавказском пленнике“, „Цыганах“ и „Бахчисарайском фонтане“ А. С. Пушкина <…>».
Хотел ли критик сшибить лбами Боратынского и Пушкина? (С него станет: тот ещё провокатор!..) Однако, скорее, критик не уловил поэзии — по той же причине, что и Бестужев: как читатель оказался прямолинеен и толстокож: «<…> Даже в прозе повесть сия не увлекла бы читателя заманчивостью, а нам кажется, что поэзия должна избирать предметы возвышенные, выходящие из обыкновенного круга повседневных приключений и случаев: иначе она превратится в рифмоплётство <…>».
Заочный ответ Александра Пушкина поставил всё на место:
Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец.
Меньше всего Боратынский искал в «Эде»
заманчивости: по наитию и в то же время сознательно он избрал предметом поэмы —
простое, чтобы отыскать в нём
необыкновенное. Собственно, поэт предуведомил об этом читателя в своём предисловии:
«<…> Что же касается до остального, то сочинитель мог ошибиться; но ему казалося, что в поэзии две противоположные дороги приводят к почти той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом „Кавказского пленника“ и „Бахчисарайского фонтана“. Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь поэзиею, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию, и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою собственною дорогою».
Эту новую дорогу в поэзии тогда было дано почувствовать и понять лишь немногим. Николай Языков, например, нашёл, что в «Эде» слишком мало поэзии, слишком много «непристойного, обыкновенного и, следовательно, старого <…>». Пётр Плетнёв назвал «Эду» самым замечательным из тех стихов Боратынского, в которых описывается Финляндия. Он отметил как «простоту события», так и «новость слишком безыскусственной формы».
Новость была и в другом: психологический портрет героини, её чувства были обрисованы в тонких и точных подробностях, с необычайным искусством, — и этого тогда ещё не знала ни русская поэзия, ни проза. Любовь Эды зарождается по весне, расцветает летом, вянет осенью: всё по естеству заведённого природного круговращения. И вот, наконец, завершение назначенного жизнью цикла:
Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под одежды снеговой
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют за скала́ми,
Во мгле волнистой и седой
Исчезло небо. Зашумели,
Завыли зимние метели.
Что с бедной девицей моей?
Потух огонь её очей;
В ней Эды прежней нет и тени,
Изнемогает в цвете дней;
Но чужды слёзы ей и пени.
Как небо зимнее, бледна,
В молчанье грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна.
Сидит и бури вой мятежный
Уныло слушает она,
Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыл, печальный свет!
Конца дождусь ли я иль нет?
Когда, когда сметёшь ты, вьюга,
С лица земли мой лёгкий след?
Когда, когда на сон глубокий
Мне даст могила свой приют
И на неё сугроб высокий,
Бушуя, ветры нанесут?» <…>
По-настоящему художественную новизну «Эды» разглядели в подробностях лишь в XX веке (Л. Андреевская и другие). А современникам Боратынского, отличавших его как замечательного поэта, был присущ более общий, панорамный взгляд. Так, Н. Полевой в апреле 1826 года писал в рецензии на издание «Эды» и «Пиров»: «„Эда“ есть первая поэма, изданная Баратынским. Но это не
первый опыт. Читатели найдут в ней мастерское произведение опытного поэта. „Эда“ есть новое блестящее доказательство таланта Баратынского. Если должно согласиться, что романтическая поэма введена в нашу поэзию Пушкиным, то надобно прибавить, что поэма Баратынского есть творение, написанное не в подражание Пушкину. Два сии поэта совершенно различны между собою. Характер Баратынского <…> самобытно отразился в новой его поэме. — <…> поэт умел облечь свою повесть в прелестный поэтический рассказ. Героиня поэмы возбуждает живое участие. — Искусство Баратынского в отношении стихосложения превосходно. Рассказ в самых обыкновенных подробностях у него не только не прозаический и не вялый, но совершенно поэтический. — Нам чрезвычайно нравится также искусство Баратынского переносить смысл из стиха в стих. Этим он умеет избегать монотонии, которая к каждой рифме приколачивает утомительное однообразие <…>».
Боратынский никак не участвовал в этой журнальной и эпистолярной полемике, хотя внимательно читал журналы и альманахи. Как свидетельствуют все, кто с ним общался, он отличался превосходным литературным вкусом и на редкость верными и точными критическими суждениями. Л. Андреевская в работе «Поэмы Баратынского» (1929) высказала острую мысль по этому поводу:
«<…> Полемичность Баратынского была молчалива и действенна, не менее действенна, чем болтливая и откровенная полемика Пушкина. <…>
Баратынский ответил критике не эпиграммой, но новой поэмой „Бал“».
Разумеется, он был не только молчалив в полемике: без реплик, острот, эпиграмм у него порой не обходилось. Но отнюдь не
критикам он отвечал, — внимания и тем более расположения литературных судий поэт никогда не искал и что-то доказывать критикам нужды не имел, — Боратынский
отвечая всю жизнь только своей
музе — своему дарованию.
Насчёт характера пушкинской полемики Л. Андреевская, конечно,
загнула: откровенен — да, был, но только не болтлив: предельно лаконичен. У Пушкина — прозаика и критика — нет лишних, ненужных слов. Другое дело, часть его высказываний, опубликованных по смерти, ещё не предназначалась для печати: Пушкин постоянно оттачивал свою мысль. Например, по отношению к творчеству Боратынского, он снова и снова возвращается к своим оценкам, уточняя их. Вот начальный набросок, где речь о поэме Боратынского: «<…> появление „Эды“, произведения столь замечательного оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных, — появление „Эды“ подало только повод к неприличной статейке в „Северной пчеле“ и слабому возражению, кажется, в „Московском телеграфе“». А через два года Пушкин уже формулирует самое важное: «…перечтите сию простую, восхитительную повесть: вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь». — В последнем высказывании Александр Сергеевич, кстати, предвосхитил то, что было понято филологами и литературоведами лишь спустя век…
Любопытна история с эпилогом к поэме «Эда», который имелся в ранней редакции. Поначалу, печатая частями поэму, Боратынский собирался опубликовать и эпилог в «Мнемозине», но цензура его не пропустила. Тогда он отправил эпилог Рылееву и Бестужеву в «Звёздочку»; стихи были набраны, однако альманах не вышел из-за событий на Сенатской площади в декабре 1825 года. В свою книгу 1835 года Боратынский «Эпилог» не включил; и он был напечатан лишь спустя десятилетия — в сборнике сочинений Д. Давыдова среди произведений, ему посвящённых.
Ты покорился, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнёшь её пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытной!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал свою свободу.
Из-за утёсистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомлённая от ран:
Нож исступлённый поселян
Окрововлял её ночлеги!
И всё напрасно! Чудный хлад
Сковал Ботнические воды;
Каким был ужасом объят
Пучины бог седобрадат,
Как изумилися народы,
Когда хребет его льдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапною стеной
Их перед шведскими брегами!
И как Стокгольм оцепенел,
Когда над ним, шумя крылами,
Орёл наш грозный возлетел!
Он в нём узнал орла Полтавы!
Всё покорилось. Но не мне,
Певцу, не знающему славы,
Петь славу храбрых на войне.
Питомец муз, питомец боя,
Тебе, Давыдов, петь её.
Венком певца, венком героя
Чело украшено твоё.
Ты видел финские граниты,
Бесстрашных кровию омыты;
По ним водил ты их строи.
Ударь же в струны позабыты
И вспомни подвиги твои!
Н. В. Путята сопроводил одну из копий рукописи своим пояснением:
«„Эпилог“ этот написан в 1824 году в Гельсингфорсе, в то время, когда была кончена вся повесть Эды; но Баратынский не хотел напечатать его в том виде, как он вылился из-под пера в первую минуту вдохновенья. Он находил, что некоторые выражения могут показаться обидными и неверными для покорённого народа. По беспечности или по другим причинам он не исправил его, и „Эда“ вышла в свет без „Эпилога“».
«Эпилог» свидетельствует о том, что Боратынский всё-таки знал — и неплохо — недавнюю историю Финляндии и взаимоотношений с Российской империей. Н. В. Путята вряд ли прав: обидных для финнов и неверных выражений в «Эпилоге» нет, — напротив, поэт отдаёт должное «падшему народу», бесстрашно оборонявшему свою свободу. «Эпилог» исторически правдив: он поёт славу русских воинов, воевавших столетиями с завоевателями-шведами, и славу защитников Финляндии, отстаивающих независимость своей страны. Другое дело, он выпадает из лирической канвы стихотворной повести, — скорее всего, именно поэтому Боратынский по прошествии лет утратил к нему интерес и не стал включать в текст переиздаваемой поэмы.
Глава двенадцатая
ПРОЩЕНИЕ
Живое слово писем
В конце января 1825 года генерал-губернатор Финляндского края А. А. Закревский выехал из Гельсингфорса в Петербург. Ему предстояло встретиться с Александром I. Закревский уверил Боратынского, что замолвит за него слово…
Поэт немедленно сообщил об этом А. И. Тургеневу: «<…> Теперь, когда моя участь так решительно зависит от его представительства, не откажитесь напомнить ему об участии, которым вы меня удостаиваете, и тем поощрить Арсения Андреевича к исполнению его обещаний <…>». Прежде Боратынский обычно уныло дожидался, как повернётся его дело, — теперь он уже сам продуманно направлял ходатаев к цели…
К тому же времени относится и его дружеское письмо Вильгельму Кюхельбекеру, отправленное с оказией:
«Милый Вильгельм, письмо это тебе доставит Николай Васильевич Путята, человек, уважающий твои дарования, твой нрав и твоё сердце и потому желающий с тобою сблизиться. Мы вместе жили в Гельзингфорсе более двух месяцев; ежели подробности, до меня касающиеся, покажутся тебе занимательными, можешь его расспросить; он тебе расскажет всё, что невозможно уместить в письме. — Давно, и слишком давно, я к тебе не писал; но ты сам виноват, не доставя мне своего адреса. Послав мне 1-ю часть „Мнемозины“, ты не удостоил меня ни двумя строчками твоего рукописания; несмотря на то я желал поблагодарить тебя за приятный для меня подарок, но не мог, ибо не знал места твоего жительства, и решился для возобновления нашей переписки дожидаться того времени, когда ты до такой бы степени прославился своим журналом, чтобы можно было надписывать письма к тебе, как некогда надписывали их к математику Эйлеру:
Г-ну Кюхельбекеру в Европе. Не сердись на эту шутку, старый товарищ, а прими мой сердечный привет от доброго сердца <…>».
Далее следуют точные замечания о прочитанном и дельные советы: «Я читал с истинным удовольствием в 3-й части „Мнемозины“ разговор твой с Булгариным. Вот как должно писать комические статьи! Статья твоя исполнена умеренности, учтивости и, во многих местах, истинного красноречия. Мнения твои мне кажутся неоспоримо справедливыми. Тебе отвечали глупо и лицемерно. — Не оставляй твоего издания и продолжай говорить правду. Я уверен, что оно более и более будет расходиться; но я советовал бы тебе сделать его по крайней мере ежемесячным. Ты знаешь, что журнальная литература получает всю свою занимательность от занимательности вседневных обстоятельств, об которых она судит и рядит. <…> я тот же сердцем, надеюсь, что и ты не переменился <…>».
Боратынский передавал старому товарищу «Бурю», «Леду», «Веселье и Горе», отрывки из «Эды». Путята, однако, не нашёл Кюхельбекера в Москве и оставил стихи В. Ф. Одоевскому…
В свежих журналах бранили Плетнёва за «Письмо о русских поэтах», напечатанное в «Северных цветах»: на каком-де основании он назвал Жуковского, Пушкина и Боратынского поэтами «золотого века нашей словесности»?.. Добрая душа Пушкин писал брату Льву: «<…> Плетнёв неосторожным усердием повредил Баратынскому; но „Эда“ всё поправит». Сам, у себя в Михайловском, порой бесившейся от тоски в своей безвылазной ссылке, он беспокоился о дальнем друге: «И скоро ль, долго ль?.. как узнать? где вестник искупленья? Бедный Баратынский, как об нём подумаешь, так поневоле устыдишься унывать <…>».
А узнав через два месяца от младшего брата про ходатайство генерал-губернатора, черкнул: «<…> Уведомь о Баратынском — свечку поставлю за Закревского, если он его выручит <…>».
В начале февраля 1825 года Боратынский вернулся в Кюмень. По дороге он проводил до Фридрихсгама генеральшу Закревскую, с небольшой её приятельской свитой: Аграфена Фёдоровна выехала в Петербург. Уже из Кюмени написал матери о том, что Лутковские его вновь, «и с прежней дружбою», приютили. «<…> Я увидел их с истинным чувством, и как могло быть иначе? Пять лет я провёл с ними, всегда окружённый заботами, всегда принятый как лучший из друзей. Им я обязан всем облегчением моего изгнания. — Генерал простился со мною любезнейше и обещал сделать всё зависящее от него для представления. Я верю, что он сдержит слово. Но даже если вопреки его ко мне благорасположению дело не будет иметь успеха, я навеки сохраню к нему живую признательность за все наслаждения моей жизни в Гельзингфорсе. Три месяца, проведённые там, навсегда останутся сладостным моим воспоминанием <…>».
Опять его жизнь — полковое общество, уединение в крепости, стихи и тонкие живые нити писем, протянутые к друзьям.
Николаю Путяте (февраль 1825 года):
«В шумной Москве ты не забыл финляндского отшельника, милый Путята, спасибо тебе: да благо ти будет и долголетен будеши на земли. <…> Спасибо тебе за попечение твоё о моих стихотворных детках: ты всех их пристроил пристойным образом. Очень обяжешь, ежели исполнишь своё обещание и пришлёшь „Горе от ума“. Не понимаю, за что москвичи сердятся на Грибоедова и на его комедию: титул её очень для них утешителен и содержание отрадно. Что сказать тебе о моей Кюменской жизни? Гельзингфорские воспоминания наполняют пустоту её. С удовольствием привожу себе на память некоторые откровенные часы, проведённые с тобою и с Мухановым. Вспоминаю нашу общую Альсину (А. Ф. Закревскую. —
В. М.) с грустным размышлением о судьбе человеческой. Друг мой, она сама несчастна: это роза, это Царица цветов; но повреждённая бурею — листья её чуть держатся и беспрестанно опадают. Боссюэт сказал, не помню о какой принцессе, указывая на мёртвое её тело: „La voila telle que la mort l’a faite“ <„Вот что сделала с ней смерть“>. Про нашу Царицу можно сказать: „La voila telle que les passions l’ont faite“ <„Вот что сделали с ней страсти“>. Ужасно! Я видел её вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; но глубоко унылое чувство было тогда в моём сердце. Вообрази себе пышную мраморную гробницу, под счастливым небом полудня, окружённую миртами и сиренями, — вид очаровательный, воздух благоуханный; но гробница — всё гробница, и вместе с негою печаль вливается в душу: вот чувство, с которым я приближался к женщине, тебе ещё больше, нежели мне, знакомой. — Я заболтался, да немудрено заболтаться <…>».
Николаю Коншину в Петербург (26 февраля 1825 года): «<…> Что скажу тебе? Я всё тот же ветреник и брюзга, как и прежде; но зато ты во мне найдёшь и прежнего товарища финляндской жизни. <…> Нравы наши довольно несходны. Ты во всём охотно видишь хорошую сторону; а я охотно дурную. Впрочем, кажется, я не старался тебя разочаровывать и надеюсь, что ты никогда не разочаруешься, ибо счастие твоё основано не на мечтах, а на первых началах природы человеческой. Не спрашиваю тебя о твоём житье-бытье, ибо знаю, что женатые редко отвечают искренно на вопрос такого рода. Мы имеем с тобою общим только прошедшее, а настоящее и будущее принадлежит уже одному тебе и сопутнице твоей жизни. Так и должно быть <…>».
Усиленно хлопотавший за поэта Тургенев, между тем, призывал из столицы москвича Вяземского, и не его одного, «унять» «Телеграф» — чтобы тот никоим образом не подписывал стихи Боратынского его именем: ничто не должно было повредить
прощению. Биограф А. Песков предполагает, что Тургеневу было известно о неком негативном отзыве Александра I «<…> насчёт той вольготности, которой пользуется Боратынский в столичной периодике». Г. Хетсо пишет, что друзья поэта боялись раздразнить подозрительные власти авторством Боратынского. Впрочем, офицеры, сочиняющие и печатающие стихи, всегда вызывали у власти (да и в своей служилой среде) полупрезрительное раздражение: по их пониманию, военный был обязан служить, а не кропать стишки. А тут ещё —
унтер-офицер, которого император не желает
прощать.
С весны стихи Боратынского в московских и петербургских журналах стали выходить подписанными инициалом —
Б. — не иначе! Что не мешало, впрочем, давнишним «друзьям» поэта, таким как Измайлов, угадывать автора по стилю: «В новой „Полярной звезде“ много хороших стихов, но есть довольно и дрянцы:
плетнёвщины, баратынщины и т. п. <…>».
В конце марта Боратынский отвечал из Кюмени именитому поэту Ивану Козлову на его письмо, где тот поздравлял его с Пасхой: «Воистину воскрес, почтенный и любезный Иван Иванович, и у нас о том слухи носятся, да полно, верить ли? У вас в просвещённой столице, конечно, это лучше знают, нежели в нашей тёмной глуши. <…> Полк наш нынешним летом будет в Петербурге. У меня сердце трепещет от радости, когда подумаю, что скоро буду в кругу истинных друзей моих и обниму вас, милого брата-поэта. Ваша „Венециянская ночь“ без лести прелестна! В ней роскошная мечтательность искусно сливается с мечтательностью мрачною. Описание Венеции исполнено какой-то полуденной неги; а место, где красавица направляет гондолу свою к морю, едва ли не лучшее во всей пьесе. Так мне кажется, и я без обиняков говорю своё мнение, потому что вы сами к тому меня пригласили. Жду с нетерпением „Чернеца“ и благодарю за похвалы отрывку из „Эды“. В третьей части я воспользовался вашими советами и старался в ней поместить более лирических движений, нежели в двух первых. <…> Я до половины написал новую небольшую поэму („Бал“. —
В. М.) Что-то из неё выйдет! Главный характер щекотлив, но смелым Бог владеет. Вот что говорят в Москве об моей героине:
Кого в свой дом она манит?
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлён ли слух людей
Молвой побед её бесстыдных
И соблазнительных связей?
И вот что я прибавляю:
Беги её: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Обворожительной приманки,
Влюблённых взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар, а не любви!
Вы говорите о наших журналистах; но, слава богу, мы здесь не получаем ни одного журнала, и мне никто не мешает любить поэзию. Полевого я видел только раз, перед отъездом его в Москву: он мне показался энтузиастом вроде Кюхельбекера. Ежели он бредит, то бредит от доброй души и по крайней мере добросовестен. Всего досаднее Вяземский. Он образовался в беспокойные времена междоусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и ныне:
Войной журнальною бесчестит без причины
Он дарования свои:
Не так ли славный вождь и друг Екатерины
Орлов ещё любил кулачные бои?
Это экспромт; и я думаю, по стихам это заметно. Прощайте. — Преданный вам Боратынский».
Тем временем Александр Иванович Тургенев расспрашивал у Александра Муханова, адъютанта Закревского, как продвигается дело Боратынского. И записывал в дневнике: «<…> ещё не совсем удалось. Очень тяжело и грустно, но, впрочем, авось!..»
В начале апреля государь отправился в Варшаву. С ним начальник Главного штаба И. И. Дибич. Тургенев узнал, что Дибич «взял доклад в Варшаву» — то есть среди его бумаг и представление о производстве Боратынского в офицеры…
А сам поэт жил у себя в Кюмени ожиданием лета и нового похода полка в столицу. И вдохновенно сочинял поэму «Бал»: Закревская не выходила из головы. Во всех письмах той весны — взволнованный рассказ о поэме и о той, что разбудила в нём это вдохновение.
Заочный разговор по душам с Николаем Путятой, уехавшим в Москву: «Получил я второе письмо твоё из Москвы, милый Путята, спасибо тебе. <…> Заблуждения нераздельны с человечеством, и иные из них делают больше чести нашему сердцу, нежели преждевременное понятие о некоторых истинах. <…>
Зачем же раскаиваться в сильном чувстве, которое ежели сильно потрясло душу, то, может быть, развило в ней много способностей, дотоле дремавших? Не хочешь ли видеть предметы с новой точки зрения и, вместо нашей гробницы, не вспомнишь ли ты Шекспиров плуг, раздирающий и плодотворящий землю. <…> Фея твоя возвратилась уже в Гельзингфорс. Кн. Львов провожал её. В Фридрихсгаме расписалась она в почтовой книге таким образом: „Le prince Chou-Cheri, heritier présomptif du royaume de la Lune, avec une partie de sa cour et la moitier de sa serial“ <„Князь Милуша, вероятный наследник царства Лунного, с некоторыми из придворных и половиной своего сераля“>. Весёлость природная или судорожная нигде её не оставляет. Виделся я с генералом при проезде его через Ф<ридрихс>гам. Кажется, мне мало надежды на производство; но так тому и быть! Муханов оставил адъютантство, и корпусная квартира потеряла для меня половину своей приманчивости. Ты один теперь у меня остаёшься при Гельзингфорском дворе. Остальные лица для меня более нежели чужды. Не заедешь ли ты ко мне в Кюмень. Я живу в доме полкового командира и имею особую комнату. То-то бы ты меня обрадовал! — Пишу новую поэму. Вот тебе отрывок описания бала в Москве:
Блистает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Гудят смычки <…>».
И ещё одно письмо, ему же, о поэме «Бал»:
«<…> В самой поэме ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. Она моя героиня. Стихов 200 у меня уже написано. Приезжай, посмотришь и посудишь, и мне не найти лучшего и законнейшего критика. — Московская цензура либо невинна, как пятилетняя девочка, либо весела, как пьяная сводня; можно ли позволить напечатать такую непристойную поэму, как „Леда“. Неужели Одоевский вытиснул под ней моё имя? Сохрани Боже! мне нельзя будет показать глаз читающим дамам. Пиши после этого! Леда моя публично целуется со своим Лебедем, а буре шуметь не позволено. Неисповедимы судьбы твои, о цензура русская! — На Руси много смешного; но я не расположен смеяться, во мне весёлость — усилие гордого ума, а не дитя сердца. С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив. В молодости судьба взяла меня в свои руки. Всё это служит пищею гению; но вот беда: я не гений. Для чего ж всё было так, а не иначе? На этот вопрос захохотали бы все черти. — И этот смех служил бы ответом вольнодумцу; но не мне и не тебе: мы верим чему-то. Мы верим в прекрасное и добродетель. Что-то развитое в моём понятии для лучшей оценки хорошего, что-то улучшенное во мне самом — такие сокровища, которые не купят ни богач за деньги, ни счастливец счастием, ни самый гений, худо направленный <…>».
«Наконец я свободен…»
21 апреля 1825 года император Александр I наконец подписал приказ о производстве унтер-офицера Боратынского в прапорщики.
Обстоятельства сложились таким образом, что это случилось в Варшаве, на земле далёких предков поэта.
Первым эту долгожданную новость узнал на своей службе Александр Иванович Тургенев. 4 мая он писал П. А. Вяземскому: «Баратынский — офицер: вчера получил варшавский приказ от 21 апреля. Давно так счастлив не был».
4 мая «Русский инвалид» напечатал очередные приказы Александра I: «Его Императорское Величество в присутствии своём <…> в Варшаве Апреля 21-го дня <…> соизволил отдать следующий приказ:
Производятся за отличие по службе. По Армии <…>.
Из унтер-офицеров в прапорщики пехотных полков: Нейшлотского — Баратынский».
В Кюмень эту долгожданную весть через три дня привёз Боратынскому Николай Путята, который возвращался из России. Через неделю он писал своему товарищу А. Муханову: «Спешу, любезный Муханов, дать тебе отчёт в приезде моём в Гельсингфорс. Простившись с вами, я был грустен, но в Кюмени меня ждала истинная радость. Не могу пересказать тебе восхищения Баратынского, когда я объявил ему о его производстве; блаженство его в эту минуту, искреннее участие, которое все принимали в перемене его судьбы и которое доказало мне, как он был ими любим, откровенные разговоры о прошедшем и будущем — всё это доставило мне несколько приятнейших часов в моей жизни. С радостию также заметил я, что верная спутница его в несчастий — поэзия — не будет им забыта в благополучии. Хотя он не помнил сам себя, бегал и прыгал, как ребёнок, но не мог удержаться, чтоб не прочесть мне несколько страниц из сочиняемой им поэмы „Бал“, в которой он рассеял много хорошего и много воспоминаний об нашей Гельзингфорской жизни. Доселе поэзия была необходимостию души, убитой горестью и жаждущей излить свои чувства, теперь она соделается целию его жизни. Время докажет, выиграет или потеряет его талант при сей перемене обстоятельств <…>».
Боратынский же первым делом благодарил Тургенева: «<…> Наконец я свободен и вам обязан моею свободою. Ваше великодушное, настойчивое ходатайство возвратило меня обществу, семейству, жизни! <…> Вот уже несколько дней, как всё около меня дышит веселием, от души поздравляют добрые мои товарищи, и вам принадлежат их поздравления! Скоро возвращуся я в моё семейство, там польются слёзы радости, и вы их исторгните! Да наградит вас Бог и ваше сердце <…>».
Его воображение жило между тем поэмой — но к сочинительству добавились новые заботы: на носу поход в Петербург и нужно было срочно пошить офицерский мундир. А деньги кончились… Новоиспечённый офицер обратился к другу Муханову, находившемуся тогда в столице — в списке необходимого значились: темляк, шифр рублей в 100 серебром, репеёк, кишкеты серебряные, голубые эполеты с вышитым номером дивизии. На всё это добро требовалось рублей двести… «Ежели ты можешь купить мне всё это на свои и прислать в Роченсальм, много меня обяжешь. Ежели же у тебя деньги лишние не случатся, то сделай милость, потрудись доставить приложенную здесь записку дяде моему: он тотчас даст тебе оные. Впрочем, только мы выйдем в Петербург, т. е. 10 июня, я возвращу тебе что ты издержишь, и если можно, старика не беспокой <…>».
Появились и новые, офицерские обязанности — с прошлой, почти полной праздностью по службе теперь было покончено. Об этом — в письме от 15 мая своему ближайшему товарищу: «Спасибо, Путятушка, за пересланные письма и особенно за твоё собственное. <…> Скажу тебе между прочим, что я уже щеголяю в нейшлотском мундире: это довольно приятно; но вот что мне не по нутру — хожу всякий день на ученье и через два дня в караул. Не рождён я для службы царской. Когда подумаю о Петербурге, меня трясёт лихорадка. Нет худа без добра и нет добра без худа. Скажи, ежели можешь, Магдалине, что я сердечно признателен за её участие. Она не покидает моего воображения. Напиши мне, какую роль играет Мефистофелес и каково тебе <…>».
Мефистофелесом они прозвали молодого адъютанта, графа Александра Армфельта. В поэме «Бал» этот известный в Гельсингфорсе ловелас предстал в образе Арсения…
4 июня Денис Давыдов написал из Москвы генералу Закревскому: «<…> Я слышал, что Баратынский произведён в офицеры — если это правда, то радуюсь душевно и благодарю тебя, что ты твёрдостию своей содействовал сердечному моему желанию <…>».
В начале июня Нейшлотский полк вступил в Парголово. Боратынский вновь с друзьями — Дельвигом, А. Мухановым, Плетнёвым, Л. Пушкиным, Жуковским… Дельвиг влюблён — и знакомит его со своей невестой, Софьей Салтыковой; предсвадебные заботы не помешали взяться ему за издание «Эды» и «Пиров» отдельной книгой — впрочем, он ещё рассчитывал заработать денег, так необходимых для будущей семьи…
В Петербурге появилась Аграфена Закревская — и Боратынского, как мотылька на огонь, вновь неудержимо понесло к ней…
В начале августа он пишет Николаю Путяте: «<…> Ты можешь себе вообразить, как меня изумило и обрадовало неожиданное свидание с Агр. Фёд. <…>. Аграфена Фёдоровна обходится со мною очень мило, и хотя я знаю, что опасно и глядеть на неё, и её слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия. <…> Какой несчастный дар — воображение, слишком превышающее рассудок! Какой несчастный плод преждевременной опытности сердце, жадное счастия, но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний! Таково положение Муханова, и моё, и большей части молодых людей нашего времени. — Через несколько дней мы возвращаемся в Финляндию, я этому почти рад: мне надоело беспричинное рассеяние, мне нужно взойти в себя <…>. Спешу к ней: ты будешь подозревать, что и я несколько увлечён. Несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия чудесный талисман: очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары <…>».
По дороге в Финляндию, из Выборга, он написал письмо матери, в котором ещё сильнее сетует на «томительное несосредоточенное существование» в столице:
«<…> мы на пути к Финляндии — стране, которая ещё недавно была для меня местом изгнания и где теперь я ищу приют спокойствия. <…> собираюсь с духом, чтобы понять, как мне располагать своей судьбой отныне, когда я волен собой распоряжаться. Такое занятие непривычно мне: до сих пор я жил без мысли о будущем, ибо у меня его почти не было. И вот, свободный в конце концов, я желал бы воспользоваться, сколько можно, всем, что я видел и о чём мыслил доселе — всем, что я знаю о себе и других, чтобы быстролетящие дни не были утрачены безвозвратно <…>»
(перевод с французского).
Даже в письме маменьке не удержался он, чтобы не упомянуть о Закревской: написал о том, как встретил её с юной финляндкой, приехавши на Петергофский праздник: «<…> мы летали по городу вместе <…>».
Николай Путята сразу понял: его друг, как ни сопротивлялся, всё же угодил в «волшебные сети»
Магдалины — Альсины — Темиры. И сообщил об этом Александру Муханову. Что ж, никто из них этих
сетей не миновал!..
Пространных элегий, с помощью которых Боратынский рассчитывал освободиться от чар красавицы, он тогда, однако, не написал. Лишь сопроводил посылку тетради со стихами, предназначенную для Закревской, небольшим стихотворением:
В борьбе с тяжёлою судьбой
Я только пел мои печали:
Стихи холодные дышали
Души холодною тоской.
Когда б тогда вы мне предстали,
Быть может, грустный мой удел
Вы облегчили б. Нет! едва ли!
Но я бы пламеннее пел.
(1825)
Впрочем, что это, как не признание в том, что не увлечься Закревской было невозможно?..
Похоже, с образом роковой прелестницы связана тогда же написанная элегия «Ожидание», напечатанная впервые с подзаголовком «Подражание Парни»:
Она придёт! К её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим,
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Вряд ли он
подражал Парни, коль скоро месяц спустя в короткое письмо князю П. А. Вяземскому вписал стихотворение — ответ на сравнение его с французским поэтом:
Простите, спорю невпопад
Я с вашей Музою прелестной;
Но мне Парни ни сват ни брат:
Совсем не он отец мой крестный.
Он мне, однако же, знаком:
Цитерских истин возвеститель,
Любезный князь, не спорю в том,
Был вместе с вами мне учитель.
То бишь Парни —
был учителем, но это давно прошло, и теперь он —
ни сват ни брат. Но коли так, поэт уже ему не подражает — и подзаголовок к «Ожиданию» поставлен для отвода глаз. Это вполне объяснимо: Боратынскому было свойственно тщательно скрывать ото всех, тем более от читающей публики, свои чувства, и никогда он не упоминал в посвящениях действительных имён своих возлюбленных.
Любовь, как и всё на свете, лишь сон; пусть этот сон —
золотой, — разве это меняет его суть?..
В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Даёт известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.
(1825)
…Но хотел он этого или не хотел, —
сон длился, и ничего с ним поделать он не мог.
В январе 1826 года, в Москве, до него дошёл «необычный» слух, что
Магдалина ждёт ребёнка. «Я был поражён этим известием, — пишет Боратынский Н. Путяте. — Не знаю — почему, беременность её кажется непристойною. Несмотря на это, я очень рад за Магдалину: дитя познакомит её с естественными чувствами и даст какую-нибудь нравственную цель её существованию <…>».
Закревская не скрывала своего избранника — А. Армфельта, — и Путяте, и Боратынскому это было хорошо известно. Вскоре у неё родилась дочь…
«До сих пор эта женщина преследует моё воображение, я люблю её и желал бы видеть её счастливою».
Биограф Гейр Хетсо считал, что чувство Боратынского было гораздо глубже, чем он выставлял его перед друзьями: «<…> Страстная и таинственная красавица Закревская приобрела над душой поэта безграничную власть. Даже после его женитьбы эта „Фея“ появляется в его снах — опасная, недоступная, но тем более пленительная и соблазнительная. Конечно, нельзя считать надолго запечатлевшийся в памяти Баратынского образ Закревской лишь „противовесом созданному им идеалу кроткой и нежной женщины“. Это была сильная любовь, от которой ему было трудно избавиться. В настоящее время вряд ли можно сомневаться в том, что стихотворения
Фея и
Уверение оба посвящены Закревской. Как известно, поэт долго не хотел печатать этих стихотворений, опасаясь, что они
бросят тень на его семейную жизнь. Осенью 1828 года Баратынский пишет об этом барону Дельвигу, издателю альманаха
Северные цветы:
„Нет, душа моя Дельвиг: исключение фамилии и исключение пьес не всё равно. Я читал их некоторым, ты, вероятно, тоже, следственно, автор будет известен, и у каждого на языке естественный вопрос: для чего вы скрывали ваше имя? Верно, потому-то и потому-то. Потешь меня, мой ангел, уничтожь вовсе эти две пьесы“.
В неопубликованной до сих пор приписке к тому же письму поэт повторяет свою убедительную просьбу: „Сделай милость, не упрямься и выбрось известные пьесы. Тебе это ничего не стоит, а для меня очень важно“. Когда эти стихотворения наконец появились в печати в 1829 году, то для отвода глаз была указана заведомо неверная дата „1824“».
Элегия «Уверение» прямо говорит о неугасшем чувстве:
Нет, обманула вас молва:
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святые сердца:
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.
Стихотворение «Фея» — загадочнее: оно исследует неисповедимые законы тайных — подсознательных — желаний, продолжающихся в
мечтах-сновидениях, над которыми воля и сознание человека не властны.
Порою ласковую фею
Я вижу в обаянье сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? Странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощён,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!
В сентябре 1825 года Боратынский напоследок приехал в Гельсингфорс. Генерала Закревского, которого хотел горячо отблагодарить, не застал: тот был в инспекторской поездке по Финляндии. А. Армфельт разглядел в поэте большую перемену. В письме жене он сообщал: «Здесь Боратынский. Он неузнаваем — так похорошел, так любезен, тонкие непринуждённые манеры — всё это чудеснейше ему идёт»
(перевод с французского).
Светлое настроение духа не покидает его. Гельсингфорсским дамам света он сделался ещё милее, чем прежде. Однако в молодой финской столице ему пришлось пробыть недолго: пришло известие, что мать больна, и Боратынский вынужден был взять долгий четырёхмесячный отпуск.
Распрощавшись с Аграфеной Фёдоровной, с Авророй Шернваль и всеми своими добрыми знакомыми по Гельсингфорсу, Боратынский уехал в Москву, где его ожидали родные…
Московские встречи
Мать, Александра Фёдоровна, с детьми Сергеем, Софией, Наталией и Варварой, заранее перебралась в Белокаменную. Сняли дом в Огородниках, в приходе церкви Святого Харитония, в Гусятниковом переулке. Они хотели увидеть Евгения пораньше, не дожидаясь, пока он доберётся до Мары. Да и худое здоровье заставило переехать в Москву: Боратынская нуждалась в помощи врачей.
Имение в Маре пришло к тому времени в упадок: мать слишком поиздержалась, тратясь на образование сыновей в Петербурге. И старшему сыну уже помогать было нечем, недаром в Финляндии у него недостало денег на офицерский мундир. Боратынский был поражён видом своей горячо любимой матери: она превратилась в старушку, подавленное настроение не покидало её. Несчастное происшествие в Пажеском корпусе, многолетняя борьба за участь Евгения, хлопоты по дому и воспитанию детей изнурили её силы и дух…
В Москве Боратынский первым делом вернул долг Рылееву: 500 рублей — половину денег, полученных два года назад за книгу, издание которой не осуществилось. Сам Кондратия не нашёл — передал через Дельвига. По получении долга Рылеев оставил записку барону: «Потомку тевтонов, сладостно поющему на русский лад и мило на лад древних греков, не поэт, а гражданин желает здоровья, благоденствия и силы духа, лень поборающей! Вместе с сим уведомляет он о получении 500 рублей, этой прозаической потребности, которая и поэта, и гражданина мучит только тогда, когда нечего есть. Сего со мною не было, и потому гражданин Рылеев не помнил о долге поэта Баратынского».
…Октябрь 1825 года — рокового года для Рылеева. В декабре случится восстание в Петербурге, и Рылеев окажется в числе главных обвиняемых. А позже, когда следствие окончится и наступит день исполнения приговора, старый товарищ Антон Дельвиг будет весь день бродить сам не свой по городу вместе с Николаем Путятой: в конце концов они повернут в Петропавловскую крепость — чтобы хотя бы издали увидеть своего друга,
поэта и гражданина Рылеева, побыть с ним рядом в его последние минуты, — и станут свидетелями казни…
Боратынский в Москве редко выбирался из дому. Один из его визитов был к старому поэту Ивану Ивановичу Дмитриеву, где он познакомился с М. П. Погодиным и М. М. Карниолиным-Пинским. Погодин отметил в своём дневнике, что разговор шёл о театре, о Сенате, о журнале, о Пушкине. А позже, весной 1826 года, записал отзыв Дмитриева о Боратынском: пишет-де стихи хорошо, а читает их дурно, «без всякой претензии», не то что Василий Львович Пушкин, который «хочет выразить всякое слово». По мнению Дмитриева, Державин также читал очень дурно свои стихи.
Это свидетельство крайне интересно: значит, к тому времени Боратынский оставил всякую аффектацию в чтении, что была свойственна ему в молодости. То есть стал проще, естественнее. Ушла прочь малейшая театральщина в декламации. По Дмитриеву, это было дурно, — однако безыскусность и есть высшее искусство.
Литературовед М. А. Цявловский в 1914 году сделал такое замечание: «Баратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя после вечера, у него проведённого, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта». Однако, быть может, разгадка этой странности не так трудна, как кажется. Наверное, вечерам у Дмитриева была свойственна та ритуальная торжественность, без которой хозяин дома посчитал бы пиитическое общение приземлённым и пошлым. Но эти возвышенные условности, по-видимому, явно претили Боратынскому — как неестественные, и он воздавал им должное витиеватой иронией.
Другой визит был в Остафьево, в усадьбу князя Вяземского. Боратынский отправился туда полубольным, «с круговращением Меркурия в жилах», как пошутил Александр Муханов, составивший ему компанию. Но проехавши с десяток вёрст, друзья попали в метель, промёрзли и вернулись в Москву…
Глубокая ипохондрия матери, её внезапная немощь так поразили Боратынского, что он по-настоящему заболел. С ними повторилась обычная история: душевные переживания быстро оборачивались тяжёлым недугом. Юношей, после исключения из Пажеского корпуса, он перехворал особенно тяжко и чуть не умер. Теперь он страдал хоть и не так продолжительно, но всё же достаточно сильно.
Нет или не сохранилось никаких свидетельств от самых близких поэту людей о том, что́ же происходило той осенью в его московском доме. Но вот что сам поэт с прямотой и искренностью поведал Николаю Путяте, с которым он так сроднился душой в Финляндии:
«Ежели с приезда в Москву я к тебе не писал, милый Путята, я виноват не душой, а бренным моим телом, заболевшим через неделю после. Я теперь ещё не выезжаю: однако ж в первые дни успел повидаться с твоим батюшкой, с Рылеевым и с Мухановым. Странно, что, проживши почти два месяца в Москве, я принуждён писать к тебе как будто из Кюмени, ибо не знаю ничего нового, ничего не мог заметить, почти ни с кем не познакомился и сидел один в моей комнате с ветхим моим сердцем и с ветхими его воспоминаниями. <…> — За неимением занимательнейшего предмета буду говорить о себе. Я нашёл семью свою в Москве. Свидание было радостно и горестно. Я нашёл мать мою в самом жалком положении, хотя приезд мой оживил её несколько. Брат Путята, судьба для меня не сделалась милостивее. Поверишь ли, что теперь именно начинается самая трудная эпоха моей жизни. Я не могу скрыть от моей совести, что я необходим моей матери, по какой-то болезненной её нежности ко мне, я должен (и почти для спасения её жизни) не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности, теперь всё то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, но и в кости. Я решился, но признаюсь, не без усилия. Что делать? Противное было бы чудовищным эгоизмом… Прощай, свобода, прощай, поэзия! Извини, милый друг, что налегаю на твою душу моим горем, но, право, мне нужно было несколько излиться <…>».
Боратынский задумал перевестись в один из полков, квартировавшихся в то время в Москве, чтобы находиться рядом с матерью. Опять ему требовалась поддержка Дениса Давыдова, чтобы тот договорился с генералом Закревским. Уже и Финляндия, место его изгнания, рисовалась ему совсем иначе, чем прежде:
«Приезжай, милый Путята, поговорим ещё о Финляндии, где я пережил всё, что было живого в моём сердце. Её живописные, хотя угрюмые горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мере довольно обильную в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину <…>».
Его пасмурное настроение развеяло лишь знакомство с Денисом Васильевичем Давыдовым, с которым он встретился в доме Мухановых на Остоженке. До этого они никогда не встречались и были знакомы только заочно; знаменитый воин-партизан горячо участвовал в судьбе собрата-поэта и многим помог ему. Александр Муханов писал брату Николаю, что вместе с Давыдовым и Боратынским просидели они весь вечер: «<…> ты не можешь себе представить, как первый был хорош <…>». Радость от встречи была столь велика, что буквально на следующий день Боратынский написал стихотворение.
Д. ДАВЫДОВУ
Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел.
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминанье горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!
Давыдов благородный отличался редкой верностью к братьям по Парнасу, особенно к тем, к которым он благоволил. Он помогал и делами, и добрым советом. Он знал, что происходит в доме Боратынского, и ещё лучше знал его натуру. Когда дошло печальное известие о кончине императора Александра I в Таганроге, именно он сказал поэту: иди в отставку!
Действительно, лучшего момента для этого было бы не сыскать.
10 декабря Д. В. Давыдов вновь обратился с просьбой к старинному другу своему А. А. Закревскому: «<…> Мой протеже Баратынский здесь, часто бывает у меня, когда не болен, ибо здоровье его незавидное. — Он жалок относительно обстоятельств домашних, ты их знаешь — мать полоумная и, следовательно, дела идут плохо. Ему надо непременно идти в отставку, что я ему советовал, и он совет мой принял. Сделай милость, одолжи меня, позволь ему выдти в отставку, и когда просьба придёт, то ради Бога скорее — за что я в ножки поклонюсь тебе, ты меня этим навек обяжешь <…>».
Ожидание развязки с военной службой скрашивали письма друзей. Пушкин сообщал, что сочинил романтическую трагедию — «Бориса Годунова», звал в гости в Михайловское. (Увы, это его письмо не сохранилось.) Дельвиг сокрушался, что не получает ни строчки, и передавал поклон от молодой жены. «<…> Она думает, что при тебе я должен ей показаться ещё лучше, чем без тебя. Друг подсоусивает друга <…>», — шутил «божией милостью барон». А про современную словесность замечал уже не шутя — с горечью: «<…> Литература уже давно не принимается или не должна быть принимаема в гостиную: так она грязна. Об ней говоришь в передней с торгашами <…>».
Боратынский отвечал Пушкину — пространно и с необычайной серьёзностью:
«Благодарю тебя за письмо, милый Пушкин: оно меня очень обрадовало, ибо я очень дорожу твоим воспоминанием. Внимание твоё к моим рифмованным безделкам заставило бы меня много думать о их достоинстве, ежели б я не знал, что ты столько же любезен в своих письмах, сколько высок и трогателен в своих стихотворных произведениях. — Не думай, чтобы я до такой степени был маркизом, чтоб не чувствовать красот романтической трагедии! Я люблю героев Шекспировых, почти всегда естественных, всегда занимательных, в настоящей одежде их времени и с сильно означенными лицами. Я предпочитаю их героям Расина; но отдаю справедливость великому таланту французского трагика. Скажу более: я почти уверен, что французы не могут иметь истинной романтической трагедии. Не правила Аристотеля налагают на них оковы — легко от них освободиться — но они лишены важнейшего способа к успеху: изящного языка простонародного. Я уважаю французских классиков, они знали свой язык, занимались теми родами поэзии, которые ему свойственны, и произвели много прекрасного. Мне жалки их новейшие романтики: мне кажется, что они садятся в чужие сани. — Жажду иметь понятие о твоём Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен, я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвёл Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление <…>».
Такой мощный пафос никогда — ни прежде, ни впоследствии — не охватывал Боратынского.
По сути это молитва о русском языке, о русской поэзии, о Пушкине.
Быть может, лучше всех в России Боратынский понимает и предчувствует, что́ велено и суждено совершить Пушкину — и только Пушкину.
…Это письмо — впрочем, как и все высказывания Боратынского — начисто опровергает мнение некоторых толкователей литературы о соперничестве двух поэтов, о тайной зависти Боратынского к первенству Пушкина, о его якобы ущемлённом самолюбии и недовольстве тем, что пришлось остаться в тени того, кто горел и светил, как солнце, в русской поэзии.
Ничего этого никогда не было: Боратынский слишком серьёзно относился к Слову и слишком самодостаточен был в собственном гении, чтобы завидовать кому бы то ни было. Он отнюдь не страдал
комплексом Сальери перед моцартианством Пушкина. Он жил в Слове, как дал ему Бог — и знал, что Бог не ошибается…
Далее письмо Пушкину с патетических высот опускается на
землю:
«<…> Посетить тебя живейшее моё желание; но Бог весть, когда мне это удастся. Случая же, верно, не пропущу. Покамест будем меняться письмами. Пиши, милый Пушкин, а я в долгу не останусь, хотя пишу к тебе с тем затруднением, с которым обычно пишут к старшим. — Прощай, обнимаю тебя. За что ты Лёвушку называешь Львом Сергеевичем? Он тебя искренно любит, и ежели по ветрености как-нибудь провинился перед тобою — твоё дело быть снисходительным. Я знаю, что ты давно на него сердишься; но долго сердиться не хорошо. Я вмешиваюсь в чужое дело; но ты простишь это моей привязанности к тебе и твоему брату. — Преданный тебе — Боратынский <…>».
Эхо Сенатской площади
В конце второй декады декабря 1825 года в Москву вместе с известием о воцарении Николая I стали поступать слухи о мятеже войск на Сенатской площади. Петербургские газеты «Северная пчела» и «Русский инвалид» в своих коротких извещениях от 15 декабря только напустили туману. «Вчерашний день будет без сомнения эпохою в Истории России. В оный жители столицы узнали с чувством радости и надежды, что
Государь Император Николай Павлович принимает венец своих предков, принадлежащий Ему <…>.
Государь Император вышел из дворца без свиты, явился один народу и был встречен изъявлениями благоговения и любви: отовсюду раздавались усердные восклицания. Между тем две возмутившиеся роты Московского полка не смирялись. Они построились в баталион-карре перед Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединились несколько человек гнусного вида во фраках».
Вскоре в Москве начались аресты. Первым заключили под стражу отставного генерал-майора М. Ф. Орлова, потом кавалергардского полковника Кологривова и поручика Свиньина…
27 декабря Боратынский заверил в Московском ордонансгаузе своё прошение об отставке:
«Всепресветлейший Державный Великий Государь Император Николай Павлович Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший. — Просит Нейшлотского полка прапорщик Евгений Абрамов сын Боратынский, а о чём, тому следуют пункты:
1. В службу Вашего Императорского Величества определён я из пажей за проступки Лейб-гвардии в егерский полк 1819-го года февраля 8 числа, из оного переведён в Нейшлотский пехотный полк с произведением в унтер-офицеры 820 Генваря 4. Прапорщиком 825 года Апреля 21 числа; в походах и штрафах по суду и без суда не бывал, в домовом отпуску находился с 11 Декабря 1820 по 1-е Марта 1821 и 1822 Сентября с 21 по 1-е Февраля 823 года и на срок явился, холост, состоял при полку в комплекте, к повышению чином аттестован достойным. Ныне же хотя и имею ревностное желание продолжать военную Вашего Императорского Величества службу, но с давнего времени одержимая меня болезнь лишила к тому способов, а потому представляя у сего об оной лекарское Свидетельство и два Реверса всеподданнейше прошу по сему, дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие моё прошение с приложениями принять и меня, именованного, за болезнию от службы уволить по прошению. — Всемилостивейший Государь, прошу Вашего Императорского Величества о сем моём прошении решение учинить. — Москва. Декабря 27-го дня 1825 года. — К подаянию надлежит по команде. Прошение с сочинения просителя набело переписывал Московского Ордонанс-Гауза писарь Александр Васильев сын Любимов. Нейшлотского пехотного полка прапорщик Евгений Аврамов сын Боратынский руку приложил <…>».
Вместе с двумя
реверсами о том, что по увольнении казённого содержания просить не будет и что до получения указа об отставке станет проживать в Москве, а также свидетельством о болезни — «одержим сильным ревматизмом левой ноги» и «болью в груди» он отправил это прошение в Кюмень, в штаб своего полка.
Через неделю пришли новые газеты из Петербурга: в числе арестованных назывались братья Бестужевы, Рылеев. О Кюхельбекере говорилось: «вероятно, погиб во время дела», — впрочем, его объявили в розыск… А брат Александра Муханова Пётр — взят в Москве…
В начале января 1826 года Боратынский пишет Николаю Путяте в Гельсингфорс: просит передать письмо об отставке Закревскому:
«<…> Я послал просьбу мою в полк прежде петерб. смятений. Во время оных, несколько испуганный, я написал Лутк<овскому>, чтоб он удержал мою просьбу. Когда всё поуспокоилось, я снова просил его отправить прошение моё по команде. Теперь же я хорошенько не знаю (не получал известия от Лутковского), мог ли он остановить его или нет. Ежели нет, то прошение моё уже давно дошло до вас, ежели да, то вы на днях его получите. Окажи мне это одолжение, да ещё одно. Я, право, не знаю, жив ли мой Лутковский или нет: он мне не отвечает. Извини, что я беспокою тебя моими препоручениями, но ты чувствуешь, что на тебе одном все мои надежды <…>».
Путаный слог; видно, как он сбит с толку и не уверен в себе, как томит его неопределенность. Опять надо дожидаться, и неизвестно сколько, решения своей участи…
«— Я довольно часто вижу Александра Муханова. Кажется, что любовь его к Авроре очень поуспокоилась. На днях познакомился я с Толстым, Американцем. Очень занимательный человек. Смотрит добряком, и всякий, кто не слыхал про него, ошибётся. — Стихи у меня что-то не пишутся, и я почти ничем не занят. Когда решится судьба моя, более спокойным духом, снова примусь за перо <…>».
Пушкину в Михайловское он отправляет альманах «Уранию», отмечая в нём стихотворение восемнадцатилетнего Шевырёва. В стихах юноши он увидел мысль, а русской поэзии «очень нужна философия». Этому и посвящено письмо: «<…> Слог не всегда точен, но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком тёмная для стихов. Надо тебе сказать, что московская молодёжь помешена на трансцендентальной философии, не знаю, хорошо это или худо, я не читал Канта и признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков. Галич выдал пиэтику на немецкий лад. В ней поновлены откровения Платоновы и с некоторыми прибавлениями приведены в систему. Не зная немецкого языка, я очень обрадовался случаю познакомиться с немецкой эстетикой. Нравится в ней собственная её поэзия, но начала её, мне кажется, можно опровергнуть философически. Впрочем, какое о том дело, особливо тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову. Как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достаётся, да и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьэсе говорю, что стало очень притворно: вытьё жеманное поэтов наших лет. — Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтический, достойный тебя. Говорят, что, когда это известие дошло до Парнаса, и Камоэнс вытаращил глаза. Благослови тебя Бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг. — Я часто вижу Вяземского. На днях мы вместе читали твои мелкие стихотворения, думали пробежать несколько пьэс и прочли всю книгу <…>».
Про восстание в Петербурге и аресты — в тогдашних почтовых посланиях разве что намёки: все хорошо знают, что письма распечатываются и читаются.
В начале января Дельвиг пишет Боратынскому пространное письмо:
«Откликнись, милый друг, перестань писать мне, что тебе некогда писать к Дельвигу, и разговорись по-прежнему. Ужели ты нашёл другого поверенного в поэзии и любви или уж не тонешь ли в пропасти пустоты Московской? Письма ко мне могут послужить тебе доскою, за которую хватаются утопающие. Надеюсь, что воспоминание о товарище разнообразной и живой жизни может иногда пробуждать Евгения к деятельности сердечной. Никогда подобного не случалось с тобою. <…> С тех пор, как ты молчишь или отнекиваешься недосугом, сколько перемен было перед глазами твоего друга. Сколько ужасов! Но, слава Богу, всё кончилось счастливо для России, и я с радостию Поздравляю тебя с Новым годом и с новым императором. Дай Бог тебе начать новую жизнь для счастия и продолжать старую для дружбы. Поздравь от меня твоё почтенное семейство. Сонинька моя тебе очень кланяется, поздравляет с Новым годом и удивляется, с беспокойством о здоровье твоём, упорному твоему молчанию. Мы проводим очень тихо и мило нашу жизнь. Несколько добрых родственниц, несколько старых друзей составляют круг наш. Издание „Цветов“ (которые на днях выйдут), Вальтер Скотт и частию Вольтер наши занятия. Выезжаем из дома редко, гостям рады часто, мечтаем о тебе ещё чаще. — В самом деле, есть ли надежда с тобою скоро увидеться? Есть ли и когда? Что ты хочешь с собою сделать и что делаешь? Что твои? Всё это всегда занимало и всегда будет занимать меня. <…>».
Впрочем, Дельвиг явно скептически относится к мятежу декабристов. Особенно недоумевает: зачем поэтам лезть в это дело? «Напиши мне о московском Парнасе, надеюсь, он не опустел, как петербургский. Наш погибает от низкого честолюбия. Из дурных писателей хотелось попасть в ещё худшие правители. Хотелось дать такой нам порядок, от которого бы надо бежать на край света. И дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения. Бунтовали бы на трагических подмостках для удовольствия мирных граждан или бы для своего с закулисными тиранами; проливали бы реки чернил в журнальных битвах и спокойно бы верили законодателям классической или романтической школ и исключительно великому Распорядителю всего <…>».
На кого намекает он? На Рылеева с Бестужевым? На Кюхельбекера?..
Осталось неизвестным, как Боратынский относился к декабристам. Скорее всего, он придерживался примерно таких же взглядов, что и Дельвиг.
Среди участников восстания было немало его знакомых и даже близких товарищей: Кюхельбекер, Рылеев, Александр Бестужев. Однако его общение с ними вряд ли выходило за пределы литературы. Если в вольнолюбивых спорах и заходила речь о необходимости радикальных перемен в России, всё это наверняка казалось Боратынскому политическими химерами. Ещё за несколько лет до мятежа он писал в «Элегии» о тех, кто составлял его приятельский круг:
<…> И с каждым днём я верой к ним бедней.
Что в пустоте несвязных их речей? <…>
Советский филолог И. Медведева писала в своей работе 1936 года:
«<…> силою связей и дружеских отношений Баратынский все эти годы находится в атмосфере оппозиционных отношений. Роль „изгнанника“, „неободрённого“ поэта, человека, подвергнутого репрессии со стороны Александра I, невольно ставит его самого в оппозицию к правительству <…>».
Оппозиционность эта, по её мнению, ни в коем случае не носила «характера активного», хотя и «получила отражение в творчестве». Позицию Боратынского И. Медведева определила как «умеренно-либеральную, антикрепостническую». Однако можно ли называть «репрессиями» довольно мягкое —
отеческое по сути — наказание Александром I за проступок в Пажеском корпусе? Да и никакого противодействия — ни словом, ни делом — Боратынский никогда к монаршей власти не проявлял…
На следствии по делу декабристов имя Боратынского всё же однажды прозвучало. Граф Бенкендорф допытывался у Александра Бестужева, не совместно с Боратынским ли тот написал одну
агитационную песенку, дабы смутить «умы народа». Бестужев ответил, что сочинил куплеты сам, в одиночку. И. Медведева высказывает обоснованное предположение, что Боратынский всё-таки
согрешил в этом перед правительством. Как бы то ни было, прямых улик не сыскали, и, хотя Бенкендорф считал Боратынского не слишком благонадёжным, в
алфавит «членов злоумышленных обществ» он не попал…
В 1827 году в «Стансах» («Судьбой наложенные цепи…») Боратынский, вспоминая былое, вздохнул:
<…> Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?
Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные
И в мире нет уже других <…>.
В этих стихах исследователи видят намёк на вольнолюбивые мечты молодости, на друзей-декабристов: казнённого Рылеева, сосланных в Сибирь Кюхельбекера и А. Бестужева. Пожалуй, так оно и есть. Боратынский любил своих собратьев по духу, хотя далеко не всегда разделял их взгляды и устремления. Недаром это стихотворение, посвящённое возвращению в родную Мару, куда под её «святую тень» он привёл «<…> супругу молодую / С младенцем тихим на руках», поэт оканчивает признанием, касающимся и его родины, и его друзей:
Пускай, о свете не тоскуя.
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.
…Дельвиг расспрашивает о доме, о родных — и тут же переходит на самое важное:
«<…> Что стихи твои, льются ли всё, как ручьи любви, или сделались просто ручьями чернильными, как, с позволения сказать, у большой части ваших московских стихомарателей. Сохрани тебя Бог и помилуй, не заразись! Носи в кармане чеснок и читай поутру и ввечеру Пушкина <…>».
И напоследок благословляет друга «во имя Феба и святых Ореста и Пилада»:
Цвети, мой несравненный цвет, певцов очарованье.
Отставка. Предварительные итоги
Между тем в Гельсингфорсе генерал-губернатор А. А. Закревский подписал докладную записку об отставке прапорщика Боратынского и отправил её в Петербург, в Главный штаб.
Боратынский об этом пока не знает. — Он получил долгожданное письмо от Н. Путяты и пишет ответ. С тоской он признаётся другу, что скучает в Москве, что новые знакомства несносны своею пустотой: «<…> Сердце моё требует дружбы, а не учтивостей, и кривлянье благорасположения рождает во мне тяжёлое чувство. Гляжу на окружающих меня людей с холодной ирониею. Плачу за приветствия приветствиями и страдаю. — Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! И когда увидимся? Москва для меня новое изгнание. Для чего мы грустим в чужбине? Ничто не говорит в ней о прошедшей нашей жизни. Москва для меня не та же ли чужбина? Извини мне моё малодушие, но в скучной Финляндии, может быть, ты с некоторым удовольствием узнаешь, что и в Москве скучают добрые люди. Прощай, мой милый, обнимаю тебя <…>».
Это — самое главное. А так в письме всякая всячина: и шутливая благодарность одному чиновнику из Гельсингфорса за «замечания» к стихам, и едкая эпиграмма на Булгарина, также поучающего поэта. Всё, кажется,
на потеху, — о важном же сказано вскользь, как бы между прочим:
«<…> В поэзии говорят не то, что есть, а то, что кажется. На краю горизонта скалы касаются неба, следственно, всходят до небес».
Кажется — то есть видится воображению, разуму, интуиции.
Скалы, касающиеся неба, — твёрдая, непорушаемая крепость; и
всходят они до небес — по вдохновению, дарованному свыше.
Боратынский давно знал в себе это.
«<…> ведь и поэтическая юность его отмечена созданием поистине гениальных произведений (прежде всего лирических), — отмечает филолог Евгений Лебедев, глубокий знаток творчества Боратынского. — Ранний взлёт Боратынского был настолько стремительным и мощным, чувства, запечатлённые уже в первых его произведениях, настолько развиты, мысли настолько проницательны, а выражение их — исчерпывающе и совершенно, что поневоле встаёт вопрос: а что же дальше? И возможно ли, в принципе, это „дальше“ для поэта, самый дебют которого столь ошеломляюще похож на подведение итогов?
Попробуем всё-таки выяснить, почему „зрелость необыкновенная“ пришла к Боратынскому так скоро и что здесь сыграло решающую роль?
Талант? Безусловно, но не только это. Высокая общая культура? Да, конечно. Однако сам по себе факт раннего приобщения к культурным ценностям отнюдь не гарантирует ускоренного творческого развития, не даёт, так сказать, патента на глубину и зрелость в 18 или 20 лет. Можно быть юношей одарённым и образованным и тем не менее оставаться поверхностным до известной поры; можно вообще „промотать“ своё духовное богатство по мелочам и к периоду творческого возмужания прийти, что называется, с пустыми руками. Помимо таланта и эрудиции, здесь, по-видимому, необходимы ещё какие-то качества личности, необходим дополнительный внутренний стимул. И Боратынский его имел…»
Конечно же,
дебют вовсе не был
подведением итогов — зрелая и поздняя лирика Боратынского это ясно показала…
Е. Лебедев попытался понять, почему так рано далась Боратынскому необыкновенная зрелость в стихах. Вывод учёного таков: «Это очень трудно: найти самое нужное, самое точное — единственное слово, чтобы ни ты и никто другой никогда не спутал эту мысль, это чувство, эту вещь, этот миг с другими мыслями, чувствами, вещами, мгновеньями. Тут всё взаимосвязано: память существует или — как сказали бы в XIX веке — одействотворяется только через точность названий того или иного фазиса души. Но для этого надо отметать всё лишнее, снимать с вещи за покровом покров, пока не откроется её сущность <…>».
А вот и самое главное, восклицает учёный:
«<…> Пожалуй, до Боратынского не было на Руси поэта-лирика с таким, как у него, самоконтролем, с такою феноменальной требовательностью к самому себе. Причём требовательность эта была не только профессионального свойства, и проявилась она в Боратынском, по всей видимости, ещё до того, как он осознал себя поэтом. Вернее сказать: он и поэтом-то настоящим сделался и место своё рядом с Пушкиным занял лишь потому, что с самого начала был в буквальном смысле слова беспощаден к себе как человек — ищущий, думающий, неспособный на сделку с совестью <…>».
Насчёт феноменальной требовательности к самому себе Е. Лебедев, безусловно, прав, однако разве же это может быть решающим в том, чтобы сделаться «настоящим поэтом» да ещё и вровень с Пушкиным? Весьма спорное утверждение, если не сказать сомнительное. Гармония не поверяется алгеброй, а поэзия — доводами ума, рассудка и совести. Поэзия — воплощённая тайна; её можно лишь почувствовать, но не разгадать и растолковать.
Другое наблюдение Е. Лебедева — о чрезвычайно ранней богатой внутренней жизни Боратынского — представляется более верным:
«<…> Даже в русской литературе (которая, как никакая другая в XIX веке, сказала столько проникновенного о „внутреннем человеке“) не много найдётся писателей с такою же, как у Боратынского, высокой культурой самопознания, проявившейся в столь юном возрасте».
Узнав о том, что друг Евгений собирается в отставку, Антон Дельвиг сильно обеспокоился. Он шлёт Боратынскому письмо из Петербурга:
«<…> Что ты хочешь сделать с твоей головушкой? Зачем подал в отставку, зачем замыслил утонуть в московской грязи? Тебе ли быть дрянью? На то ли я тебя свёл к музам, чтоб ты променял их на беззубую хрычовку Москву. И какой ты можешь быть утешитель матери, когда каждое мгновение, проведённое тобою в Москве, должно широко и тяжело падать на твою душу и скукою безобразить твою фигуру. Вырвись поскорее из этого вертепа! тебя зовут слава, Дельвиг и в том числе моя Сонинька, которая нуждается в твоём присутствии, ибо без него Дельвиг как будто без души, как Амур, Грации и всё тому подобное без Венеры, то есть без красоты <…>».
Однако письмо это добралось до Москвы, когда всё уже было решено, — да и вряд ли бы оно повлияло на Боратынского.
В середине февраля 1826 года Боратынский получил приказ об отставке:
«По Указу Его Величества Государя Императора Николая Павловича Самодержца Всероссийского и прочая, и прочая. Предъявитель сего, Прапорщик Евгений Абрамов сын Баратынский… сего 1826-го года Генваря в 31 день по Высочайшему Его Императорского Величества Приказу, уволен от службы за болезнию. — В свидетельство чего, по Высочайше представленному мне полномочию, сей Указ дан Прапорщику Баратынскому за моим подписанием и с приложением герба моего печати, в г. Санктпетербурге.
1826 года. Февраля 9-го дня.
Его Императорского Величества Всемилостивейшего Государя моего Генерал-Лейтенант, Генерал-Адъютант, Финляндский Генерал-Губернатор, Командир Отдельного Финляндского корпуса…
Закревский».
А в Петербург генералу Закревскому тут же полетело письмо из Москвы, от Дениса Давыдова:
«<…> Благодарю тебя от души за отставку Баратынского, он весел как медный грош и считает это благодеяние не менее первого <…>».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СУМЕРКИ
Глава тринадцатая
ЖЕНИТЬБА
Темпераментный сват
Старый гусар и жизнелюб Денис Васильевич Давыдов, как всегда, преувеличил: отнюдь не так весел был его молодой собрат Евгений Боратынский, получив известие об отставке.
Прежней жизни как-то враз у него не стало.
Ни угрюмой чухонской тоски, впрочем, согретой друзьями по службе, и вином, и красавицами, и стихами, и отпусками в родимую Мару, в семейный круг. Ни многолетнего, изматывающего, уже привычного ожидания
свободы, — да, оно отравило юность и молодость каким-то медленным ядом, но и научило смирению, заставило собраться, окрепнуть волей, закалить стойкость в невидимой борьбе.
Всё сразу, махом обрушилось на душу: и производство в офицеры, и отставка, и Москва, и расслабленная матушка с её мучительной и обязывающей любовью, неотвратимо требующей сочувствия. Домашние заботы засасывали, как вязкое болото, и он, по старшинству, должен был взвалить их груз на себя. Всё это грозило беспросветным существованием, в котором много быта и никакой свободы, а стало быть, ничего для стихов, для поэзии. Надо было жить совершенно иначе, чем доселе, — но как?..
Между тем и сам Денис Давыдов вознамерился резко поменять свою жизнь. Давно отставному генералу наскучил вынужденный покой, устроенный ему бывшим императором. В жилах поэта-партизана, которому было едва за сорок, ещё не смолк тот зов, что он выразил в знаменитой своей «Песне»:
Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой! <…>
Среди декабристов было много его родственников и друзей, но как ни проверяла Следственная комиссия Дениса Давыдова, он вышел чист перед законом. Иначе и не могло быть:
Давыдов презирал тайные общества, злоумышляющие против власти. После кончины Александра I славный воин обратился к новому государю с просьбой вернуть его на службу. 23 марта последовал высочайший указ о возвращении генерал-майора Давыдова в армию с повелением «состоять при кавалерии». Когда новый государь Николай Павлович прибыл в конце июля в Москву для коронации, он дважды принимал Д. Давыдова и, наконец, предложил ему отправиться на Кавказ, где начиналась война с персами. Генерал-майор согласился…
Личное знакомство с Боратынским совпало с переменами в жизни Давыдова. Энергия так и кипела в Денисе Васильевиче. Зорким сердцем он с лёту понял, что его молодому другу, оказавшемуся на перепутье, надобна семья, семейное счастье. Что за жизнь без этого, коли оставлена служба!..
Боратынский уже давно стал своим человеком в его гостеприимном московском доме. Однажды он познакомился там с генерал-майором в отставке Львом Николаевичем Энгельгардтом и его 21-летней старшей дочерью Анастасией. Давыдов состоял в родстве по линии жены с её матерью и, надо полагать, хорошо знал характер девушки. Вряд ли это знакомство молодых людей было без умысла старого гусара: Москва, известно, город невест. Гейр Хетсо напрямую называет Дениса Давыдова
сватом и не без улыбки пишет, что в этой роли он оказался «не менее темпераментным, чем в роли поэта». Действительно, всё произошло очень быстро… Сохранилась записка Боратынского, относящаяся к началу весны: «Я чувствую себя превосходно, милая Настинька, и благодарю вас за все вчерашние заботы. Я сохраню о них сладостное воспоминание: ибо они — свидетельства вашей любви, а для меня нет в мире ничего дороже»
(перевод с французского).
В апреле он посватался к
милой Настиньке и получил согласие…
11 апреля Иван Муханов писал из Москвы своему двоюродному брату Александру: «<…> Вообрази, говорят, что Баратынский женится на какой-то барышне Энгельгардтовой, я его совсем не вижу, не знаю, где он скрывается <…>».
В конце апреля Боратынский сообщил о своей новости Дельвигу (письмо не сохранилось).
Пока он готовился к свадьбе, снимал квартиру для будущей семейной жизни (в Столешниках, в доме профессора Московского университета М. Я. Малова), его петербургские друзья вовсю обсуждали неожиданное известие. Сонинька, жена Дельвига, немного знакомая с Настасьей, сообщала подруге про неё, что невеста «дурная собою и сентиментальная, но в общем очень добрая особа, до безумия влюблённая в Евгения, которому нет ничего легче, чем вскружить голову». Зная, как близки Дельвиг с Боратынским, Сонинька заранее сетовала: «Вот ещё одна интимная подруга, которая свалится на меня, как бомба, после своего замужества <…>». Александр Муханов обижался, что Боратынский к нему не пишет, да и не только к нему, «трёхгодовому приятелю», но даже и к «закадышному Дельвигу»: «Как смешны мне отсюда московские франты, которые жениться даже не могут как порядочные люди <…>».
Но больше всех будущая женитьба Боратынского расстроила Льва Пушкина, его не менее
закадышного друга по былому светскому разгулу в Петербурге. 4 мая Лёвушка писал их общему приятелю Соболевскому: «<…> всё это время я проклинал тебя, Москву, московских, судьбу и Баратынского. Нужно было вам, олухам и сводникам, женить его! Чему вы обрадовались? Для того чтобы заняться сватовством, весьма похвальным препровождением времени, вы ни за грош погубили порядочного человека. Баратынский в течение трёх лет был тридцать раз на шаг от женитьбы; тридцать раз она ему не удавалась; en etait-il plus malheureux? <и что? он был от этого несчастлив?>. Он ни минуты, никогда не жил без любви и, отлюбивши женщину, она ему становилась противна. Я всё это говорю в доказательство непостоянного характера Баратынского, которого молодость не должна бы быть обречена семейной жизни. Ты скажешь, что он счастлив. Верю, mais attendons la fin <подождём, чем кончится>, говорит басня, а тяжело заплатить целым веком скуки и отвращения много, много за год благополучия. Баратынского вечно преследовала мысль, что жениться ему необходимо; но кто же из порядочных верил ему? Не говоря об характере Баратынского, спрашиваю тебя, обстоятельства его допускали ли его до этой глупости. Какую он выбрал себе дорогу? Я не разумею под этим денежных его обстоятельств: он может быть Шереметевым, но должен на чём-нибудь утвердиться. Для поэзии он умер; его род, т. е. эротический, не к лицу мужу; а теперь из издаваемого собрания своих сочинений он выкидывает лучшие пьесы по этой самой причине, а исключить Баратынского из области поэзии это шутка Эрострата, и тебе подобает слава сия — радуйся! Что ж ему остаётся? Быть помещиком, и в этом случае нужно было очень подождать вступать в брак. Да чёрт возьми, дело или безделье (но не безделка) сделано, и говорить нечего <…>».
10 мая Пётр Вяземский сообщал Александру Пушкину в Михайловское о предстоящей женитьбе Боратынского:
«<…> Ты знаешь, что
твой Евгений захотел продолжиться и женится на соседке моей
Энгельгардт, девушке любезной, умной и доброй, но не элегиаческой по наружности <…>» (
Элегиаческая, то бишь элегическая наружность, разумеется, подразумевала красоту.)
Вяземский добавляет — на редкость ярко и образно:
«Я сердечно полюбил и уважил Баратынского. Чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет. В нём кроме дарования и основа плотная и прекрасная <…>».
Сам же Пушкин, видимо, ещё не получив этого послания, пишет Вяземскому:
«<…> Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум. Законная <…> — род тёплой шапки с ушами. Голова вся в неё уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет ещё 10 был холостой. Брак холостит душу <…>».
9 июня Боратынский обвенчался с Настасьей Львовной…
«Я женат и счастлив»
Князь Пётр Вяземский женился девятнадцати лет. Стало быть, Александр Пушкин полагал, что вступать в брак в самый раз будет лет под 30. Общие пути — самые верные, и от них не уйдёшь… Но и Боратынскому в пору венчания было уже 26, — по тем временам возраст вполне зрелого мужчины… Конечно, беспокойство Пушкина за
ум друга было не напрасным: он ведь и за себя тревожился. Не просто расставаться с личной свободой. Да и поэзия!., одно дело полностью принадлежать
Музе, и совсем другое — делить её с женой. Однако как бы брак ни холостил ум, а весь не выхолостишь…
Простодушный и чистосердечный Лев Пушкин, оказавшийся, по словам Гейра Хетсо, куда как большим пессимистом, был в принципе прав, когда с горечью заключил, что для поэзии Боратынский умер: он ведь имел в виду эротическую — то бишь — любовную поэзию — «его род», который уже не к лицу «мужу». Он хорошо знал Боратынского как человека, знал его щепетильность и порядочность, — и потому искренне восскорбил о поэте. И действительно, любовных стихов у Боратынского не стало или почти не стало, не считая того, что он дописывал из ранее начатого или же задуманного. Но если внимательно взглянуть на его творчество, замечаешь, что река любовной лирики у поэта ко времени его женитьбы уже весьма иссякла и обмелела. Боратынский невидимо перерождался из эротического поэта в философского лирика; Парни в нём раз и навсегда исчезал — зато появлялся Боратынский-философ, самобытный и неповторимый. Ни Лев Пушкин, да и никто этого тогда не разглядел…
Он переживал творческий кризис, который должен был разрешиться новым качеством.
Что сочиняется Боратынскому в 1826 году в Москве? Всякие безделки
на случай. Эпиграммы, стишки в альбом, иронические наброски. Эпиграммы далеко не всегда даже остроумные… но вот короткое стихотворение об этом жанре — написано неожиданно свежо, живо, изящно и легко:
Окогчённая летунья,
Эпиграмма-хохотунья,
Эпиграмма-егоза
Трётся, вьётся средь народа
И завидит лишь урода —
Разом вцепится в глаза.
(По тем временам это, наверное, показалось грубоватым и слишком простонародным, — но вот прошло почти два века, а стихотворение нисколько не постарело ни по языку, ни по духу!..) Но продолжим… И вдруг среди этих иронических пустяков звучит чистая элегическая нота: восьмистишие называется «К Амуру»:
Тебе я младость шаловливу,
О сын Венеры! посвятил;
Меня ты плохо наградил,
Дал мало сердцу на разживу!
Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!..
Быть так; спасибо и за то.
(До ноября 1826)
Дата, установленная исследователями, конечно, приблизительная. Однако уж не в пору ли жениховства прозвучал этот печально-иронический вздох?.. Очень похоже на прощание с холостяцкой вольной жизнью, с той порою, когда он ни минуты не жил не влюблённым…
Элегия «Есть милая страна, есть угол на земле…», навеянная впечатлениями от первой поездки в сельцо Мураново — подмосковную усадьбу Энгельгардтов, набросана, по-видимому, тогда же, в 1827 году. Ранняя редакция оканчивается строками:
<…> Там наш блаженный дом — туда душа летит,
Там приютился бы я в старости глубокой!
Боратынский словно бы определяет наперёд всю свою жизнь в этом «вожделенном краю»: так приглянулась ему округа, с ясной далью и уютным прудом, с широким лугом и светлыми нивами «меж рощ своих волнистых».
Жизненный путь выбран; поэт ни о чём не жалеет и не желает ничего иного.
П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу:
«Баратынский женился на дочери Энгельгардта-московского. Брак не блестящий, а благоразумный. Она мало имеет в себе элегического, но бабёнка добрая и умная. Я очень полюбил Баратынского: он ума необыкновенного, ясного, тонкого. Боюсь только, чтобы не обленился на манер московского Гименея и за кулебяками тётушек и дядюшек».
…Не блестящий, а благоразумный… Точная характеристика брака, хотя и несколько двусмысленная. С одной стороны, что же плохого в
благом разуме; но с другой — определение всё же говорит о расчёте, об осторожности и предусмотрительности там, где должно преобладать чувство. Однако вспомним женитьбу Пушкина: у его невесты внешность была самая что ни на есть элегическая, и брак был самый блестящий. Но чем закончилось… Женился позже — погиб раньше. Всегда ли благоразумие ведёт ко благу, это вопрос. А ещё больший: приводит ли страсть к счастью…
Лев Пушкин в сердцах заметил, что Боратынский «теперь», то есть став мужем, «выкидывает лучшие пьесы» из книги, намеченной к изданию, — и всё по причине своего нового, семейного качества. В самом деле, почему-то нет в собрании его стихов 1827 года элегии «Признание», на редкость искренней, горькой и выразительной. Там, в ранней редакции (1823), есть строки, будто бы предсказывающие весьма возможный вариант его судьбы:
<…> Предательства верней узнав науку,
Служа приличию, Фортуне иль судьбе,
Подругу некогда я выберу себе,
И без любви решусь отдать ей руку.
В сияющий и полный ликов храм,
Обычаю бесчувственно послушной
Я клятву жалкую во мнимой страсти дам…
И весть к тебе придёт; но не завидуй нам;
Не насладимся мы взаимностью отрадной,
Сердечной прихоти мы волю не дадим,
Мы не сердца Гимена связью хладной —
Мы жребий свой один соединим <…>.
В окончательной редакции (1832) это откровенное
признание смягчено, но суть осталась прежней:
<…> Подругу без любви — кто знает? — изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам <…>.
«Сбылось ли это предсказание? — спрашивает Гейр Хетсо. — В нём есть доля истины, хотя нельзя сказать, что поэт женился без любви <…>».
Биограф считает, что вступление Боратынского в брак имело и светлые, и тёмные стороны.
«Светлые стороны брака заметить не трудно. Женитьба безусловно опиралась на взаимную любовь. Сохранилось много свидетельств о гармоничной совместной жизни „этих двух… исполненных поэзии меланхолических образов“, которые оба „видели в домашнем очаге единственную свою отраду, единственное счастье“. Письма поэта к жене тоже говорят об искренней любви <…>. Лишь однажды мы узнаём о какой-то „размолвке“ между супругами, которая, однако, быстро проходит, так как раскаявшийся поэт сразу берёт всю вину на себя. Нет сомнения в том, что Баратынский продолжал увлекаться красивыми женщинами и после своей женитьбы на Настасье Львовне. Но кроме внешней красоты поэт всегда искал у знакомых ему женщин ещё и другого: искренней дружбы, душевной красоты. Именно этими качествами в полной мере обладала Настасья Львовна <…>».
Сам же Боратынский начиная с осени 1826 года без обиняков пишет друзьям о своём счастье.
Александру Муханову в октябре он, среди прочего, коротко сообщает: «<…> Двор уехал, Москва глупа и тошна; но мне мало до этого дела, потому что я счастлив дома. Принялся опять за стихи… (за поэму „Бал“. —
В. М.)».
Николаю Путяте в ноябре пишет: «<…> Я живу потихоньку, как следует женатому человеку, и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастья. Из действующего лица я сделался зрителем и, укрытый от ненастья в моём углу, иногда посматриваю, какова погода в свете <…>».
А с давним другом Николаем Коншиным, неожиданное письмо от которого его сильно обрадовало, в декабре беседует и вовсе по душам:
«<…> Так, мой милый: вашего полку прибыло: я женат и счастлив. Ты знаешь, что сердце моё всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежнее моё существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам моим, и мнениям. Наконец я дышу воздухом, мне потребным; но я не стану приписывать счастия моего моим философическим правилам, нет, мой милый, главное дело в том, что Бог дал мне добрую жену, что я желал счастия и нашёл его. Я был подобен больному, который, желая навестить прекрасный отдалённый край, знает лучшую к нему дорогу, но не может подняться с постели. Пришёл врач, возвратил ему здоровье, он сел и поехал. Отдалённый край — счастие; дорога — философия; врач — моя Настинька. Какова аллегория? И не узнаёшь ли ты в страсти к метафизике твоего финляндского знакомца? <…>»
Может, затем и удалил Боратынский элегию «Признание» из своей книги, чтобы ничем не тревожить свою
Настиньку и
тихий сон тихого счастья…
В элегии «Есть милая страна, есть угол на земле…», исправленной и значительно дописанной в 1833 году, есть другое
признание, как бы подводящее итог первых лет его новой, семейной жизни:
<…> А там счастливый дом… туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
Ответ на всё, что в нём горело
И снова для любви, для дружбы расцвело,
И счастье вновь уразумело <…>.
В Настасье Львовне Боратынский обрёл не только любящую и преданную ему супругу, но и верного друга и помощника.
Милая Настинька, душенька Настя была далеко не лишена литературных интересов. Её отец, Лев Николаевич Энгельгардт, владел живым слогом и оставил любопытные воспоминания о военной жизни, а служил он — и отлично — под началом великого Суворова и замечательных полководцев Потёмкина и Румянцева-Задунайского. Рано умершая (в 1821 году) мать, Екатерина Петровна, была дочерью известного масона П. А. Татищева, одного из соратников Н. И. Новикова в его литературном кружке.
Настасья Львовна обожала стихи мужа, хранила и переписывала рукописи, часто была первой читательницей и первым критиком новых произведений. Со временем дошло до того, что, как пишет П. Г. Кичеев, Боратынский «<…> не выпускал в свет ни одной пьесы без её одобрения».
Старший сын поэта, Лев Евгеньевич, впоследствии вспоминал: «Настасья Львовна была одарена утончённым вкусом в литературных произведениях; поэт часто удивлялся её тонким замечаниям и справедливым возражениям, верности её критического взгляда. Он находил в ней ободряющее сочувствие его вдохновениям и спешил прочитывать только что вышедшие из-под пера его произведения». Наверное, так оно и было: кому бы ещё, вдали от старых друзей-поэтов, Боратынский мог показать свои новые стихи. Однако и в самом Боратынском достаточно много было
критика, чтобы вернее всех оценить свой труд. Тут скорее речь о возраставшей с годами замкнутости его жизни: всё больше и больше он сосредоточивался в семье, в общении исключительно с женой. Переехав в Москву и став помещиком, он поневоле отдалился от прежних друзей и товарищей, тем более что почти все они остались в Петербурге.
Семья росла; и чтобы её содержать, надо было заниматься хозяйством. Поначалу это было ещё не слишком хлопотно, но по кончине тестя Боратынскому пришлось то и дело колесить по отдалённым губерниям, чтобы управиться с делами в своих мелких поместьях. На литературные занятия почти не оставалось времени…
Кроме того, с годами всё отчётливее проявлялся и подлинный характер
милой Настиньки, в котором, как и в любом, было не только светлое и доброе. От отца ей, по-видимому, передалась его вспыльчивость. Современники вспоминали, что «<…> порою его горячность и раздражительность принимали чуть ли не деспотический характер, пугавший окружающих». Гейр Хетсо пишет: «<…> Надо думать, что эти черты характера в какой-то степени были унаследованы и его дочерью. Они проявлялись не только в желании властвовать над прислугой и детьми, но имели также вредное влияние на отношение поэта к старым и новым друзьям. Претензия жена на бо́льшую часть времени поэта в значительной мере усложняла поддержку прежних знакомств. Ещё осенью 1826 года поэт жалуется на приготовления к свадьбе и свои обязанности перед невестой, что почти лишало его возможности встречаться с Александром Мухановым в Москве: „Мне больно, что мы в Москве так мало виделись; но я в этом не виноват: я был в первых попыхах женитьбы и принадлежал обязанностям, может, более приятным, нежели обязанности службы, но столько же определённым“». (В сноске к этому отрывку Г. Хетсо замечает: «С годами трудные, быть может и болезненные черты характера Анастасии Львовны стали ещё более заметными. Так, в 1854 году, И. С. Тургенев отзывается о ней как о „совершенно сумасбродной женщине“». В этом замечании, должно быть, не без намёка на некоторые наследственные черты: единственный брат Настасьи Львовны, Пётр, с детства отличавшийся большими странностями, был потом признан душевнобольным…)
Впрочем, как считает биограф, Боратынский отчасти и сам был виноват в том, что постепенно растерял друзей. Он слишком мало им писал, если не вовсе замолкал; порой вдруг обижался не по делу. В письме П. А. Плетнёву поэт однажды посетовал: «Я имею несчастье быть мало известным моим знакомым или, лучше сказать, не возбуждаю в них довольно участия, чтоб они потрудились узнать меня». Между тем сам Плетнёв жаловался Пушкину: «Баратынский, которого я, право, больше любил всегда, нежели теперь кто-нибудь любит его, уехавши в Москву, не хотел мне ни строчки плюнуть <…>»
Семья мало-помалу отнимала товарищей — но могла ли даже жена заменить собою весь тот дружеский круг, что так скрашивал в молодости одиночество поэта?..
Спустя два года после женитьбы, весной 1828-го, Боратынский однажды писал Путяте: «Я перед тобой смертельно виноват, мой милый Путята: отвечаю на письмо твоё через три века; но лучше поздно, чем никогда. Не думай, однако ж, чтобы я имел неблагодарное сердце: мне мила и дорога твоя дружба, но что ты станешь делать с природною неаккуратностью?
Прости, мой милой, так создать
Меня умела власть господня:
Люблю до завтра отлагать,
Что сделать надобно сегодня!
Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в Межевую; но, слава Богу, мне дела мало; а то было бы худо моему начальнику. <…> Одним я недоволен в письме твоём: оно не совсем дружеское. Ты пишешь ко мне как к постороннему, которому боишься наскучить, говоришь много обо мне и о себе ни слова. <…> Думаешь ли побывать в красной Москве? Я теперь постоянный московский житель. Живу тихо, мирно, счастлив моею семейственною жизнью, но, признаюсь, Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать: помнишь? с кем бы мог потолковать нараспашку. Это тягостно. Жду тебя, как дождя майского. Здешняя атмосфера суха, пыльна неимоверно. Женатые люди имеют более нужды в дружбе, нежели холостые. Волокитство доставляет молодому свободному человеку почти везде небольшое рассеяние: он переливает из пустого в порожнее с какой-нибудь пригожей дурой, и горя ему мало. Человек же семейный уже не способен к этой ребяческой забаве; ему нужна лучшая пища, ему необходим бодрый товарищ, равносильный ему умом и сердцем, любезный сам по себе, а не по мелочным отношениям мелочного самолюбия. Приезжай к нам, мой милый Путята, ты подаришь меня истинно счастливыми минутами. Люби меня за то, что я люблю тебя душевно <…>».
Семья принесла счастье — но не избавила его ни от самого себя, ни от своих вечных дум…
Глава четырнадцатая
В МОСКВЕ
Возвращение Пушкина
22 августа в Москве состоялась коронация нового царя, Николая Павловича; наблюдал ли её Боратынский в многолюдной толпе зрителей, неизвестно. А спустя две недели, 8 сентября, в Белокаменную по приказу государя был привезён Александр Пушкин. Шесть лет он пребывал в опале и жил далеко за пределами двух российских столиц.
Поэта доставили едва ли не под конвоем: в коляске его сопровождал фельдъегерь. Трое суток они мчались без остановок из Михайловского в Москву, проделав 700 вёрст и пересчитав все кочки почтовых трактов. По прибытии Пушкина сразу же отвезли в Кремль, где продержали без всяких объяснений несколько часов в военной канцелярии. Лишь затем доставили в Чудов монастырь к Николаю I. Пушкин ожидал чего угодно и готовился к худшему. Всего лишь месяц назад в Петербурге повесили пятерых вождей декабрьского бунта, а десятки других заговорщиков, среди которых было много его друзей и добрых знакомых, разжаловали во время позорной церемонии и сослали в сибирскую каторгу.
Государь принял поэта с глазу на глаз; о чём они говорили целых два часа, так и осталось неизвестным.
Впоследствии Пушкин отделывался от расспросов коротким рассказом, что остался в нескольких записях, но сводится примерно к одному:
«<…> Всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет императора, который мне сказал:
„Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?“
Я отвечал ему, как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил:
„Принял ли бы ты участие в 14-ом декабре, если бы был в Петербурге?“
„Непременно, Государь, все друзья мои были в заговоре, я не мог бы не участвовать в нём. Одно лишь отсутствие меня спасло, за что я благодарю Бога“».
В письме к Осиповой поэт был так же лаконичен:
«Император принял меня самым любезным образом».
С князем Вяземским Пушкин был немного разговорчивее и поведал ему, что император говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею.
Княгине Вере запомнилось, какими словами государь закончил беседу.
«Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин».
Два года спустя, в стихотворении «Друзьям», поэт писал:
Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Подал — и с вами снова я.
Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?
Стихи, надо сказать, так себе и, пожалуй что, чересчур простодушны. Вряд ли император, человек военный, «почтил вдохновенье», — конечно, это был жест дальновидного политика, привлекающего на свою сторону того, чьи вольнолюбивые, а порой крайне резкие стихи напитывали мятежный дух чуть ли каждого
замешанного в дело, и который уже становился и ещё больше обещал быть —
народной любовью.
Адам Мицкевич посчитал, что Николай I «обольстил Пушкина», выказав себя человеком, глубоко любящим Россию, и не меньшим патриотом, чем декабристы. Век спустя была найдена другая формула, несколько сглаживающая это двусмысленное определение: «Младенчески божественная мудрость великого певца, человека вдохновения, уступила осторожной тонкости. Умный победил мудрого». Но в этом ли дело?
Пушкин за годы ссылки действительно изменился. Повзрослел, набрался разума, почувствовал наконец — после свободолюбивых мировоззренческих перехлёстов молодости — истинный исторический путь России. Поэт по-настоящему проникся русской историей, понял её самобытный ход — и созрел сердцем и умом для подлинного служения Родине. Если бы он в той беседе в Чудовом монастыре не уловил подобных верований, чувств и устремлений в новом государе, то и не был бы «обольщён».
Мудрый не уступает
умному, сердечного умиленья не вызовешь одной
тонкостью. Пушкин только что создал «Бориса Годунова»: он знал, что́ такое русский царь и
каким ему надлежит быть…
Москва широко праздновала коронацию. С. Т. Аксаков, приехавший в город из своей деревенской глуши в один день с Пушкиным, записывал: «Москва ещё полна гостей, съехавшихся на коронацию со всей России, из Петербурга, из Европы, гудела в тишине тёмной ночи. Десятки тысяч экипажей, скачущих по мостовым, крик и говор ещё не спящего четырёхсоттысячного населения производили такой полный хор звуков, который нельзя передать никакими словами. Над всей Москвой стояла беловатая мгла, сквозь которую светились миллионы огоньков. Бледное зарево отражалось в тёмном куполе неба, и тускло сверкали в нём звёзды. В эту столичную тревогу, вечный шум, гром, движение и блеск переносил я из спокойной тишины деревенского уединения скромную судьбу мою и моей семьи».
Пушкин захватил только окончание этих торжеств, но и того было достаточно. В письме к Осиповой он описывает народное гулянье на Девичьем поле, «три версты столов» с пирогами, которые «поставляют саженями, как дрова». Шутливо замечает: «Так как пироги пекли несколько недель тому назад, их будет трудно проглотить и переварить, но почтенной публике предоставят фонтаны вина, чтобы их размочить». Как управились с пирогами, он не видел, но небывалый фейерверк, конечно, наблюдал: десятки тысяч ракет унеслись в ночное небо…
Уже через два дня по приезде в Москву Пушкин читал на квартире С. А. Соболевского свою трагедию «Борис Годунов». Среди слушателей были П. Я. Чаадаев, П. А. Вяземский, Д. В. Веневитинов, М. Ю. Виельгорский, И. В. Киреевский. Прошло немного дней — и чтение повторилось уже в доме Веневитинова.
А вскоре он прочитал трагедию для одного Боратынского. В письме А. Муханову, написанному Евгением 20 ноября, есть краткое упоминание об этом: «<…> Пушкин здесь, читал мне Годунова: чудесное произведение, которое составит эпоху в нашей словесности <…>».
«Годунов» потряс пушкинских друзей; да и чтение было под стать. Голос Пушкина, простой и естественный, отличался редкой выразительностью. С. Шевырёв впоследствии вспоминал: «Это был удивительный чтец. Вдохновение так меняло его, что за чтением „Годунова“ он показался мне красавцем».
М. П. Погодин позже вспоминал о чтении в доме Веневитинова:
«Какое действие произвело на нас это чтение, описать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которые мы все знали наизусть. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Наконец, надо себе представить и самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим приятным голосом, в чёрном сюртуке и чёрном жилете, застёгнутом наглухо, в небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем поэтическую, увлекательную речь.
Первые явления выслушали спокойно, тихо или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущение усиливалось. Сцена летописца с Григорием всех ошеломила. А когда Пушкин дошёл до рассказа Пимена о посещениях Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков — „да ниспошлёт Господь покой его душе, страдающей и бурной“, — мы все просто как бы обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы подымались дыбом. Не стало сил воздерживаться. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах Самозванца — „Тень Грозного меня усыновила“. Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго, потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех… Полились слёзы, поздравления. Эван! эвое! дайте чаши! Явилось шампанское, и Пушкин воодушевился, видя такое действие на избранную молодёжь <…>».
…А тогда, 12 октября, по возвращении Погодин записал в дневнике: «Пушкин, ты будешь синонимом нашей литературы».
Боратынский понял это раньше — и даже прежде того, как узнал «Бориса Годунова»…
Дельвиг в письме от 15 сентября поздравил Пушкина с переменой судьбы:
«<…> У нас даже люди прыгают от радости. Я с братом Львом развёз прекрасную новость по всему Петербургу. Плетнёв, Козлов, Гнедич, Оленин, Керн, Анна Николаевна — все прыгают и поздравляют тебя. Как счастлива семья твоя, ты не можешь представить. Особливо мать, она на верху блаженства. Я знаю твою благородную душу, ты не возмутишь их счастия упорным молчанием. Ты напишешь им. Они доказали тебе любовь свою. <…> Обними Баратынского и Вяземского, и подумайте, братцы, о моих „Цветах“. <…> Ради бога, собирая фимиам себе, вербуй хорошенькие пьески мне, а более всего своего Вяземского и Евгения <…>».
Пушкина повсюду узнавали в Москве, где бы он ни появлялся; на балах прекрасный пол соперничал за его внимание и танец с ним, — поэт по-ребячески наслаждался своими свободой и славой.
Одно из воспоминаний, принадлежащее Т. П. Пассек, относится как раз к осени 1826 года:
«Мы страстно желали видеть Пушкина, поэмами которого так упивались, и увидали его спустя года полтора, в Благородном собрании. Мы были на хорах, внизу многочисленное общество. Вдруг среди него сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодые человека, один — высокий блондин, другой — среднего роста брюнет, с чёрными курчавыми волосами и резко-выразительным лицом. Смотрите, сказали нам, блондин — Баратынский, брюнет — Пушкин. Они шли рядом, им уступали дорогу».
Не хватало только Антона Дельвига!.. Тот был в столице, но мысленно, конечно, находился с ними.
Дружество троих собратьев было проверено временем; и в писательском сообществе, и в свете хорошо знали, как они близки друг другу. Один из современников, Ф. П. Фонтон, оставил в своих воспоминаниях лирический этюд:
«Три поэта, три друга, три вдохновения, ищущие в поэзии решение вечной задачи, борьбы внутреннего со внешним, а между тем три натуры во всём различные. Баратынский плавная река, бегущая в стройном русле. Пушкин быстрый, сильный, иногда свирепствующий поток, шумно падающий из высоких скал в крутое ущелье. Дельвиг ручеёк, журчащий тихо через цветущие луга и под сенью тихих ив».
Притяжение литературных салонов
Москва середины 1820-х годов, как и Петербург, славилась своими литературными салонами. Боратынского ввёл в них князь Пётр Андреевич Вяземский — наверное, самый яркий их тогдашний завсегдатай, человек, столь обильный дарованиями, что они, кажется, помешали ему вполне проявиться в чём-то одном. В Вяземском журналист спорил с поэтом, критик перебивал прозаика, историк мешал знатоку искусств, задорный остроумец брал власть над философом и мемуаристом, а пуще всех, быть может, вольничали жизнелюбец и волокита, — однако все эти его личины как-то органично уживались друг с другом, сливаясь в совершенно неповторимый лик творца и человека. Пушкин однажды, в частном письме, написал о своём старом друге, что критика Вяземского поверхностна и несправедлива, «<…> но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны; он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться <…>».
Вяземский был на восемь лет старше Боратынского и принадлежал по сути к другому поколению, захватившему Отечественную войну. В 1812 году он участвовал в Бородинском сражении и, хотя форму казачьего поручика надел в общем-то довольно случайно и воином был никудышным, угодил в самую гущу битвы и совершил подвиг — спас раненого генерала А. Н. Бахметева: вынес его с поля боя, — за что получил орден Святого Владимира. Плохой наездник, в очках, он, конечно, смотрелся нелепо на бранном поле — и сам потом трунил над собою: возможно, Льву Толстому эти остроумные устные рассказы и помогли создать образ Пьера Безухова во время битвы, — тем не менее в решающий момент, едва не разорванный неприятельским ядром, князь показал себя отважным человеком…
С Боратынским они как-то быстро и тесно сошлись — и по уму, и по характеру, — и дружба эта, основанная на взаимоуважении, впоследствии только укреплялась. Вяземский сразу оценил в своём молодом друге глубину мысли, благородство и добрый нрав. Все его слова о Боратынском за двадцать лет знакомства — в письмах, в записных книжках, в разговорах — неизменно положительны. «Чем больше вижусь с Баратынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь; везде и всегда найдёшь его с новою, своею мыслью, с собственным воззрением на предмет», — пишет он в одном письме 1828 года. — Очевидно, он заметил в Боратынском свои собственные черты: склонность к анализу (
раздробительный ум) и самобытность. Такое, если и встречалось, то крайне редко: молодая интеллектуальная элита Москвы повально увлекалась тогда Шеллингом. Предмет подражания, — а незрелым ещё умам свойственно увлекаться и подражать, — перешёл с французской философии на немецкую.
«Чем более знаю Баратынского, тем более ценю его ум и сердце. <…> Он, без сомнения, одна из самых открытых голов у нас: солнце так и ударяет в неё прямо», — отзывался о Боратынском Вяземский в другой заметке. Или ещё одно, довольно пространное высказывание из «Старой записной книжки»: «<…> Боратынский никогда не бывал пропагандистом слова. Он, может быть, был слишком ленив для подобной деятельности, а во всяком случае слишком скромен и сосредоточен в себе. Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался наружу с шумом и обилием. Нужно было допрашивать, так сказать, буровить этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю. Но зато попытка и труд бывали богато вознаграждены. Ум его был преимущественно способен к разбору и анализу. Он не любил возбуждать вопросы и выкликать прения и словесные состязания; но зато, когда случалось, никто лучше его не умел верным и метким словом порешать суждения и выражать окончательный приговор и по вопросам, которые более или менее казались ему чужды, как, например, вопросы внешней политики или новой немецкой философии, бывшей тогда русским коньком некоторых из московских коноводов. Во всяком случае, как был он сочувственный, мыслящий поэт, так равно был он мыслящий и приятный собеседник. Аттическая вежливость, с некоторыми приёмами французской остроты и любезности, отличавших прежнее французское общество, пленительная мягкость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость при уме самобытном, твёрдо и резко определённом — все эти качества, все эти прелести придавали его личности особенную физиономию и утверждали за ним особенное место среди блестящих современников и совместников его».
Историк и писатель Михаил Петрович Погодин в конце 1860-х годов писал о той эпохе: «В Москве наступило самое жаркое литературное время. <…> Вечера, живые и весёлые, следовали один за другим, у Елагиных и Киреевских за Красными воротами, у Веневитиновых, у меня, у Соболевского в доме на Дмитровке, у княгини Волконской на Тверской <…>». На закате жизни он как чудо вспоминал дар импровизации, открывшийся вдруг у Мицкевича; корил себя за то, что «страха ради иудейска» пропустил несколько из «этих драгоценных вечеров»: за Мицкевичем приглядывала полиция; «<…> да и сам Пушкин с Баратынским были не совсем ещё обелены», — а ему, редактору журнала «Московский вестник», не хотелось показываться в обществе людей, «подозрительных для правительства»…
Боратынский с удовольствием посещал по-домашнему тёплый дом за Красными воротами, чьей хозяйкой была Авдотья Петровна Елагина, мать братьев Киреевских. Там царила сердечная, умная беседа; там читались стихи, устраивались драматические постановки. «Если бы начать выписывать все имена, промелькнувшие за тридцать лет в Елагинской гостиной, то пришлось бы назвать всё, что было в Москве даровитого и просвещённого — весь цвет поэзии и науки», — писал биограф Киреевских В. Лясковский. В этом доме Боратынский свёл знакомство с молодым одарённым философом Иваном Васильевичем Киреевским, переросшее впоследствии в близкую дружбу; вновь повстречался и сошёлся с Николаем Михайловичем Языковым, — здесь, в этих стенах он ощутил добрый дух старинной Москвы…
В аристократической гостиной красавицы Екатерины Александровны Свербеевой, урождённой княжны Щербатовой, Боратынский познакомился с молодой поэтессой Каролиной Карловной Яниш, впоследствии Павловой. Они подружились: Каролина Яниш принялась переводить стихи Боратынского на немецкий, — а тот в ответ записал ей в альбом шутливый экспромт:
Когда заметить не грешно,
Альбом походит на кладбище:
Он точно так же, как оно,
Всем отворённое жилище;
Он также множеством имён
Самолюбиво испещрён.
Увы! народ добросердечной
Равно туда или сюда
Идёт с надеждой жизни вечной,
С боязнью страшного суда;
Но я (смиренно признаюся),
Я не надеюсь, не страшуся,
Я в ваших памятных листах
Спокойно имя помещаю:
Философ я: у вас в глазах
Моё ничтожество я знаю.
(ранняя редакция; до начала 1829)
Хозяйка салона, Екатерина Александровна, была замужем за старым приятелем Пушкина, дипломатом и историком Дмитрием Николаевичем Свербеевым. Она была дружна с Петром Яковлевичем Чаадаевым, Николаем Васильевичем Гоголем. В конце 1820-х годов Свербеевы и Боратынские сердечно приятельствовали и принимали друг друга у себя дома. А когда Свербеевы собрались надолго за границу, Боратынский попрощался с Екатериной Александровной стихами:
<…> Небо наше покидая,
Ты ли, милая звезда,
Небесам чужого края
Предаёшься навсегда?
Весела красой чудесной,
Потеки в желанный путь;
Только странницей небесной
Воротись когда-нибудь!
(май 1829)
Но всех в Москве превосходил блеском литературный салон княгини Зинаиды Александровны Волконской. Эта знаменитая красавица была прекрасно образована и одарена множеством талантов: пела, рисовала, играла, сочиняла стихи и прозу на трёх языках: русском, французском и итальянском. Пушкин назвал её «царицей муз и красоты». Вяземский писал об этом салоне: «В Москве дом кн. З. Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодёжь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Всё в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нём чтения, концерты артистами и любительницами, представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка». Однако это — уже воспоминание, тронутое дымкой времени. А вот его письмо тех лет, оно дышит живой жизнью: «<…> Дом её был волшебным замком музыкальной феи, ногою ступишь за порог, раздаются созвучия. До чего ни дотронешься, тысячи слов гармонически откликнутся. Там стены пели, там мысли, чувства, разговоры, движение, всё было пение».
Доподлинно неизвестно, когда Боратынский познакомился с княгиней — вскоре ли по своем приезде в Москву или же по прошествии времени. Возможно, это знакомство поначалу было заочным. Зинаида Волконская в конце декабря 1825 года написала стихотворение на смерть Александра I. С государем её связывали долгие дружеские отношения: она с мужем и ребёнком-младенцем была в императорской свите во время его Заграничных походов 1811–1814 годов, блистала на европейских конгрессах, пела в частных операх. Впоследствии княгиня обменивалась с Александром Павловичем письмами, причём, судя по тону своих записок, царь был увлечён обаятельной и артистичной красавицей. Нового императора княгиня
не приняла. После следствия над мятежниками-декабристами Сергей Волконский, брат её мужа, угодил на каторгу. Когда его жена, Мария Волконская, и другие жёны декабристов отправились к мужьям в Сибирь, Зинаида Александровна демонстративно устроила им проводы у себя дома на Тверской, за что попала в немилость Николаю I. Вдобавок, под влиянием иезуитов, она перешла из православия в католичество. Вскоре княгиня навсегда уехала в Италию.
Боратынский, по-видимому, прочитал её стихотворение памяти Александра: как раз вскоре по его публикации он написал остроумную эпиграмму о женщинах, пишущих стихи, — и предполагаемый адресат этой эпиграммы — княгиня
Зенеида (как называл её Дельвиг):
Не трогайте парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам не много в них добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
Уносят их летейские струи —
На пальчиках чернила остаются.
(Январь 1826)
Конечно, когда красавица поёт да ещё прекрасным голосом, все покорены и все в восторге, — разве что немногие знатоки замечают некие огрехи талантливой певицы. Но в напечатанных стихах не спрячешься за внешнее сияние и блеск, здесь всё на виду…
Однако когда Зинаида Волконская оказалась в Италии, Боратынский посвятил ей совсем другое стихотворение — там лёгкую иронию быстро сменило светлое настроение: Италия была с детства краем его мечты…
Из царства виста и зимы,
Где, под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон —
Одушевлённый, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафа́эль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,
Ваш Капитолий позабыть
Для капитолия Коринны <…>.
(К<нягине> З. А. Волконской, февраль 1829)
В блестящем салоне княгини Волконской больше всех поразил Боратынского Адам Мицкевич. Они были почти ровесники, схожи некоторыми чертами характера, да и судьбой, и, надо полагать, быстро сошлись друг с другом. Мицкевич отличался от всех поэтов удивительным даром — он импровизировал: по-польски — стихами, по-французски — прозой. Казалось, что он вдохновенно читает заранее написанные стихи, но это было не так: это была стихия мгновенно возникающего поэтического слова. По его предложению слушатели задавали написанную на бумажках и отнюдь не известную ему тему, а он тянул жребий и выступал с импровизацией…
Мицкевич, по определению одного из его биографов, считал себя паломником, которого гнали русские власти, «но любили друзья его, москали». П. А. Вяземский впоследствии вспоминал о нём: «Мицкевич был радушно принят в Москве. Она видела в нём подпавшего действию административной меры, нимало не заботясь о поводе, вызвавшем эту меру, в то время русские ещё не думали о польском вопросе. Всё располагало к нему общество. Он был умён, благовоспитан, одушевлён в разговоре, обхождения утончённо-вежливого. Держался он просто, то есть благородно и благоразумно, не корчил из себя политической жертвы. При оттенке меланхолического выражения в лице он был весёлого склада, остроумен, скор на меткие словца. Говорил он по-французски не только свободно, но изящно, с примесью иноплеменной поэтической оригинальности. По-русски говорил он тоже хорошо. Он был везде у места, и в кабинете учёного и писателя, и в салоне умной женщины, и за весёлым приятельским обедом. Поэту, то есть степени и могуществу его дарования, верили пока на слово и понаслышке. Только весьма немногие знакомые с польским языком могли оценить Мицкевича-поэта, но все оценили и полюбили Мицкевича-человека».
Когда в 1827 году Мицкевич покидал Москву, друзья подарили ему золотой кубок с вырезанными на нём своими именами, — среди них было имя Боратынского. А потом, через несколько лет, узнав, что Мицкевич вконец обнищал в Париже, писатели-москвичи — и Боратынский в их числе — собрали поэту крупную сумму денег, чтобы поддержать в беде. Мицкевич был очень тронут их сердечным участием в своей судьбе…
Польское восстание 1831 года, подавленное Николаем I, разделило две стороны на враждебные лагери. Жуковский и Пушкин написали яркие патриотические стихи. Мицкевич упрекал «русских друзей» в измене идеалам свободы.
Хоть он и не называл их по именам, у Пушкина были все основания отнести эти обвинения и к себе. В бумагах Пушкина по его смерти обнаружили неоконченное стихотворение, которое связано с мыслями о Мицкевиче:
Он между нами жил,
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал он, мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами,
И песнями (он вдохновен был свыше
И с высоты взирал на жизнь).
Нередко Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушёл на запад — и благословеньем
Его мы проводили. Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом и ныне
В своих стихах, угодник черни бурной,
Поёт он ненависть: издалека
Знакомый голос злобного поэта
Доходит к нам!.. О Боже, возврати
Твой мир в его озлобленную душу…
(1834)
Боратынский не написал стихов по поводу польских событий: он был далёк от политики и никогда не гнался за злободневностью. Но в то время, получив от И. В. Киреевского спешно отпечатанную брошюру со стихами Жуковского и Пушкина, ответил в письме своему другу, что ему особенно понравилось стихотворение Пушкина «Клеветникам России»: «<…> В нём сказано дело и указана настоящая точка, с которой должно смотреть на
нашу войну с Польшей».
Опыт литературной критики
Первую половину 1827 года молодожёны Боратынские провели в Москве. Как
тихихонько ни жили, а вторгалось и горе. В конце декабря 1826-го умерла от чахотки младшая сестра Настасьи Львовны Наталья, двадцати лет от роду. В 1833 году Боратынский переработал элегию о Муранове «Есть милая страна, есть угол на земле…» и дописал новые строки, посвящённые Наталье Львовне:
<…> Зачем же томный вздох и слёзы на глазах?
Она, с болезненным румянцем на щеках,
Она, которой нет, мелькнула предо мною.
Почий, почий легко под дёрном гробовым:
Воспоминанием живым
Не разлучимся мы с тобою!
Мы плачем… но прости!
Печаль любви сладка,
Отрадны слёзы сожаленья!
Не то холодная, суровая тоска,
Сухая скорбь разуверенья.
Но беда одна не приходит: в начале 1827 года единственного сына Льва Николаевича Энгельгардта, Льва, врачи признали душевнобольным, записав после освидетельствования: «<…> он действительно малоумен и легковерен как ребёнок».
Наконец пришла радость: 14 марта у Боратынских родилась дочь; её назвали в честь матери Евгения — Александрой.
В Москве поэт сблизился в ту пору с журналистом Николаем Алексеевичем Полевым и его братом Ксенофонтом. Николай Полевой вместе с Петром Вяземским издавал литературный журнал «Московский телеграф», печатавший литераторов-романтиков и поддерживающий идеи
европеизации России, близкие взглядам Боратынского.
В Петербурге Антон Дельвиг уже не первый год пытался издать книгу стихотворений Боратынского, но, видно, действовал ни шатко ни валко, хотя автор его никак не торопил. Если что и беспокоило поэта, так лишь качество стихов, и он вновь и вновь их переписывал, отделывал, шлифовал. Однако, когда рукопись ушла в цензуру, вдруг решил издать книгу в Москве — и попросил Н. А. Полевого помочь ему в этом деле. Тот согласился — и, как показало дальнейшее, отлично справился с изданием.
19 февраля Полевой устроил у себя дома вечер, на котором собрались Пушкин, Вяземский, Дмитриев, Боратынский, Мицкевич, Соболевский и другие. Главным на дружеском пире было то, что Пушкин рассказал о желании написать поэму об Агасфере и драму о Павле I.
…Десятилетия спустя Ксенофонт Полевой вспоминал ту далёкую пору, когда Пушкин вернулся из ссылки в Москву и начали широко печататься его сочинения: «Цыганы», новые главы из «Евгения Онегина», множество мелких лирических пьес. Кс. Полевому хорошо запомнился Боратынский, его тогдашние суждения: «<…> поговорить было о чём, и Баратынский судил об этих явлениях с удивительною верностью, с любовью, но строго и основательно. В поэмах слепца Козлова не находил он никаких достоинств и почти сердился, когда хвалили их, хотя отдавал справедливость некоторым его стихотворным переводам. <…> Он не был фанатиком ничьим, ни даже самого Пушкина, несмотря на дружбу свою с ним и на похвалы, какими тот всегда осыпал его. <…> В совершенстве зная только французский язык и французскую литературу, он уже в зрелых летах должен был знакомиться с современным просвещением, и успел в этом, чему способствовал ум его, чрезвычайно ясный, отчётливый, не останавливающийся на поверхности предметов. Потому-то в нашем обществе, где философские воззрения были тогда в величайшем ходу, он любил затрагивать самые трудные вопросы и восхищал наших молодых философов ясностью своего ума. Притом он был большой мастер говорить, и беседа с ним была всегда приятна».
Тогда же, в феврале 1827 года, Боратынский написал критический разбор книги Андрея Муравьёва «Таврида». По-видимому, молодой поэт сам попросил об этом, так как Боратынский не имел склонности публично оценивать литературные новинки, — ему вполне достаточно было при случае высказать своё мнение в беседе или же в частном письме.
Тем интереснее познакомиться с теми основами, какие он считал необходимыми в журнальной литературной критике.
«Полезна критика строгая, а не едкая, — начал он статью. — Тот не любит искусство, кто разбирает произведение с эпиграмматическим остроумием. Более или менее отзываясь недоброжелательством, оно заставляет подозревать критика в пристрастии и удаляет его от настоящей его цели: уверить читателя в справедливости своего мнения. Ещё замечу, что, разбирая сочинение, не одной публике, но и автору (разумеется, ежели он имеет дарование) нужно показать его недостатки, а этого никогда не достигнешь, ежели будешь расточать более насмешки, нежели доказательства, более будешь стараться пристыдить, нежели убедить сочинителя <…>».
Разбор, сделанный Боратынским, строг, точен, беспристрастен, доказателен. Поэму А. Муравьёва, давшую название сборнику, он назвал
ученической:
«Это риторическое распространение двух стихов Пушкина в Бахчисарайском фонтане:
Где скрылись ханы? где гарем?
Кругом всё пусто, всё уныло…» —
и не нашёл ни одной строфы, «сначала до конца написанной истинно хорошими стихами». Хотя в поэме, по его мнению, и не было «искусства», но «видны уже силы»:
«Таврида писана небрежно, но не вяло. Неточные её описания иногда ярки, и необработанные стихи иногда дышат каким-то беспокойством, похожим на вдохновение <…>».
Во всём сборнике Боратынский отметил лишь некоторые «мелкие стихотворения», да и то не целиком, а только отдельные строки в них. Подробно разобрав лирические пьесы, он сделал окончательный вывод:
«Скажем вообще о г-не Муравьёве, что, богатому жаром и красками, ему недостаёт обдуманности и слога, следовательно — очень многого. Истинные поэты потому именно редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего. Что касается до слога, надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего ж писать? Надеемся, что г-н Муравьёв в будущих сочинениях исполнит наши ожидания и порадует нас красотами, не затемнёнными столькими недостатками».
Заметим, что в стихах главным Боратынский видит
мысль, забывая или не желая говорить о передаче
чувств, — впрочем, скорее всего, для него чувства должны органически входить в передаваемые поэтом мысли и потому он не упоминает про это…
Андрея Муравьёва очень обидел этот критический разбор: он назвал его «жестоким ударом при самом начале литературного поприща». Он посчитал, что суждения Боратынского несправедливы, и начисто не согласился с ними. Молодой стихотворец, судя по его письму другу, В. Муханову, не усомнился в себе: «<…> итак, безрассудно бы было с моей стороны принимать на сердце критику и через то угашать в себе поэзию <…>».
Спустя два месяца он снова написал В. Муханову: «<…> Вчера также получил очень утешительное письмо от брата Михаила из Петербурга, который усовещивает меня бросить поэзию, доказывая подробно её ничтожество; также от дяди в том же роде, и от двоюродной сестры, которая уверена, что я брошу писать, прочитавши критику Боратынского <…>».
Боратынский, видимо, предполагал такую реакцию со стороны самолюбивого новичка: недаром свою рецензию в «Московском телеграфе» он предварил в предыдущем номере журнала стихотворением, напрямую относящимся к теме:
Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.
Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Её тафтяные цветы,
Прости, я громко негодую;
Прости, наставник и пророк, —
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.
Когда по рёбрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим пером.
(1827)
Это стихотворение некоторые исследователи относили к Пушкину и Мицкевичу — по-видимому, рассудив, что «мощный гений», «наставник и пророк» могут относиться лишь к знаменитым современникам Боратынского. Однако ничто не указывает на то, что оно адресовано какому-то определённому человеку, — зато всё говорит о том, что Боратынский обращается к
поэту вообще, который иногда может по человеческой слабости обмануться вольной или невольной лестью. Это, одновременно, и предупреждение самому себе…
Боратынский, готовясь напечатать первый критический разбор, словно бы обосновывает своё право судить стихи, и это право ему даёт твёрдая уверенность в том, что критические суждения должны служить одному —
правде искусства.
…Андрей Николаевич Муравьёв поэтом не стал, но вырос в интересного духовного писателя. Однако всё это случилось гораздо позже… а в ту пору с ним произошёл курьёзный случай. В салоне Зинаиды Волконской он однажды по неловкости отломил руку у гипсовой статуи Аполлона; казалось бы, можно было просто извиниться, но пылкий юноша, обуреваемый рифмами, тут же написал на постаменте статуи экспромт: «О Аполлон! поклонник твой / Хотел померяться с тобой…» и пр. Это, конечно же, позабавило присутствовавших в гостиной Пушкина и Боратынского: они откликнулись эпиграммами. Боратынскому, возможно, была известна и обида Муравьёва, отвергшего его рецензию, что, несомненно, он отнёс к незрелости ума; не потому ли его эпиграмма особенно едка (впрочем, при жизни она так и осталась ненапечатанной):
Убог умом, но не убог задором,
Блестящий Феб, священный идол твой
Он повредил: попачкал мерным вздором
Его потом и восхищён собой.
Чему же рад нахальный хвастунишка?
Скажи ему, правдивый Аполлон,
Что твой кумир разбил он, как мальчишка,
И, как щенок, его изгадил он.
(Начало 1827)
Понятно, печатать эту эпиграмму никак не стоило: случай пустяковый, да разве и недостаточно с Муравьёва разбора «Тавриды»!.. Но вот другую эпиграмму — на князя Шаликова, написанную в то же время, кажется, следовало бы отдать в печать.
В конце февраля — начале марта 1827 года Вяземский и Боратынский решили послать весточку за рубеж — Жуковскому и А. И. Тургеневу. Писали наперебой: то один брался за перо, то другой.
Вяземский шутил: «<…> Я теперь сделался журнальная душа: у меня же каждое лыко в строку, а всякую бы строчку в печать». Следом стихи, писанные уже рукой Боратынского:
Грузинский князь, газетчик русской
Героя трусом называл:
Не эпиграммою французской
Ему наш воин отвечал.
На глас войны летит он к Куру,
Спасает родину князька;
А князь наш держит корректуру
Реляционного листка.
Позвольте, почтенный Василий Андреевич, напомнить Вам о Баратынском, у которого Вы живёте в сердечной памяти <…>. Неужели нет надежды на скорое возвращение Ваше в отечество?
Но опять за перо берётся Вяземский: «Баратынский прервал моё письмо. Вот история епиграммы его. Князь Шаликов назвал где-то и как-то в своём „Дамском журнале“ Дениса Давыдова трусом, а Денис воюет теперь с персиянами <…>».
Всё же странно, что Боратынский не опубликовал свой ответ никчемному стихотворцу и наглому лгуну Шаликову. Вероятнее всего, решил, что и так дело сделано, коль скоро его стихотворение прочтут Жуковский с Тургеневым: остроумные эпиграммы передавались из уст в уста и были известны не менее напечатанных…
В начале мая Пушкин засобирался в Петербург. С Боратынским они теперь встречались чаще обычного — в салонах, в приятельских весёлых компаниях. Смеялись, балагурили — и даже вместе сочиняли шуточные стихи. Так, 15 мая, завтракая у Погодина, сложили эпиграмму, где предметом насмешки был «газетчик наш печальный», князь Шаликов. Будто бы своей унылой элегией он довёл до слёз мальчика-казачка, державшего свечку у листка бумаги, — да потом оказалось, что это были не слёзы восторга, а просто мальцу невтерпёж хотелось по нужде… А потом обоих сильно повеселил первый том сочинений Фаддея Булгарина с виньеткой на титульном листе, изображавшей саму Истину, сошедшую в кабинет автора. Друзья назвали сочинённую тут же эпиграмму — «Журналист Фиглярин и Истина»:
Он точно, он бесспорно
Фиглярин-журналист,
Марающий задорно
Свой бестолковый лист.
А это что за дура?
Ведь Истина, ей-ей!
Давно ль его конура
Знакома стала ей?
На чепуху и враки
Чутьём наведена,
Занятиям мараки
Пришла мешать она.
Эпиграмму они сочинили и прочли 16 мая на вечере у Николая Полевого.
Его брат, Ксенофонт, впоследствии вспоминал: «Весною 1827 года, не помню по какому случаю, у брата был литературный вечер, где собрались все пишущие друзья и недруги; ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохотал от резких сарказмов И. М. Снегирёва, вспоминал шутливые стихи Дельвига, Баратынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смешило то место, где в пышных гексаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые „В лавочку были должны, руки держали в карманах (перчаток они не имели!)“».
19 мая Александр Пушкин уехал в Петербург.
А чуть позже Боратынский с женой и крошкой-дочерью отправились в Мару, в гости к матери и сёстрам…
Глава пятнадцатая
ПЕРВАЯ КНИГА И «ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ»
Поэзия не опаздывает
Книга «Стихотворения Евгения Баратынского» получила разрешение в цензурном комитете в марте 1827 года, однако отпечатали её лишь полгода спустя, 21 сентября.
Она состояла из трёх частей: «Элегии», «Смесь» и «Послания». Открывалась книга элегией «Финляндия»; во второй части были собраны стихотворения
на случай; и, наконец, в третьем разделе шли послания к Гнедичу, Давыдову, Дельвигу, Пономарёвой и др.
Почти все произведения ранее были напечатаны, однако многие из них Боратынский переработал заново — и не только потому, что готовился издать отдельной книгой, а по своей привычке постоянно совершенствовать стихи. Из неизвестных читателю пьес были включены всего несколько свежих эпиграмм.
Книга ещё не вышла из московской печатни, а Пушкин у себя в Михайловском, куда он приехал, чтобы отдохнуть от столичной суеты, сделал свой первый набросок статьи о Боратынском, за творчеством которого он неотрывно следил все последние годы:
«Наконец появилось собрание стихотворений Баратынского, так давно и с таким нетерпением ожидаемое. Спешим воспользоваться случаем высказать наше мнение об одном из первоклассных наших поэтов и (быть может) ещё недовольно оценённом своими соотечественниками.
Первые произведения Баратынского обратили на него внимание. — Знатоки с удивлением увидели в первых опытах зрелость и стройность необыкновенную.
Сие преждевременное развитие всех поэтических способностей, может быть, зависело от обстоятельств, но уже предрекало нам то, что ныне выполнено поэтом столь блистательным образом.
Первые произведения Баратынского были элегии, и в этом роде он первенствует. Ныне вошло в моду порицать элегии — так в старину старались осмеять оды; но если вялые подражатели Ломоносова и Баратынского равно несносны, то из этого ещё не следует, что роды лирический и элегический должны быть исключены из разрядных книг поэтической олигархии.
Да к тому же у нас почти не существует чистая элегия. У древних отличалась она особым стихосложением, но иногда сбивалась на идиллию, иногда входила в трагедию, иногда принимала ход лирический — (чему в новейшее время видим примеры у Гёте)».
Что остановило Пушкина?..
Конечно, он писал по памяти, не имея ещё перед собой книги Боратынского. Конечно, другие образы теснились в воображении, иное просилось на бумагу… Но мысли о поэзии друга, о его поэтической личности всё же не покидали Пушкина: недаром в послании к Дельвигу, написанном в те же дни, есть и упоминание о Боратынском:
<…> Прими ж сей череп, Дельвиг; он
Принадлежит тебе по праву.
Обделай ты его, барон,
В благопристойную оправу.
Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти
Да запивай уху и кашу <…>.
Или, как Гамлет — Баратынский
Над ним задумчиво мечтай <…>.
Образ
Боратынского как Гамлета — многого стоит. Пушкин угадал в блистательном элегике — философского лирика. Причём угадал — в самый момент его явления, возникновения… Именно в это время Боратынский окончательно созревал как поэт в своём новом качестве: вот-вот появится «Последняя смерть», а вслед за ней другие подобные стихи — по содержанию и «удельному весу» мысли иные, чем прежде, — стихи тихого золотого свечения и литые, весомые, как золото… — И Пушкин всё это предчувствует, предвидит —
провидит.
В конце октября «Московский телеграф» напечатал объявление: «Издание
Стихотворений Баратынского исполняет давнишнее желание публики: иметь собранными в одну книгу все мелкие стихотворения певца Финляндии, Пиров и Любви <…>».
Как сам поэт отнёсся к своей первой книге, какие чувства испытывал?.. Он гостил тогда в Маре, среди родных, — и об этом его пребывании на родине ничего не известно. Друзьям своим он ни слова о книге не написал, словно бы считая её выход обычным событием, недостойным разговора. Впрочем, возможно, промолчал по скромности. К тому же издание сборника затянулось на несколько лет, и содержание его — новостью не было…
Издатель Полевой прислал Боратынскому в Мару несколько экземпляров книги и заодно положил в посылку издательские новинки, среди которых были новые главы «Онегина». Поэт в ответном письме сердечно благодарил «любезного Николая Алексеевича» и прежде всего завёл разговор о Пушкине:
«<…> Про „Онегина“ что и говорить! Какая прелесть! Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непринуждённая кисть живописца из живописцев. Что касается до меня, то не могу сказать, как я вам обязан. Издание прелестно. Без вас мне никак бы не удалось явиться в свет в таком красивом уборе. Много, много благодарен. Довершите ваше одолжение, исполнив ещё одну, покорнейшую просьбу. Пошлите барону Антону Антоновичу Дельвигу 600 экземпляров. На Большой Миллионной, в доме г-жи Эбелинг. Между нами особые счёты и отношения. Для отсылки такого количества экземпляров, разумеется, нужны деньги; может быть, вы теперь не имеете готовых, а потому я пишу к моему тестю, чтоб он доставил к вам 100. Я вам без того много должен. Позвольте вас уверить, что, ежели не окупится издание, я всё равно буду исправным должником. При выпуске издания сделайте одолжение доставить моему тестю 12 экз., в том числе 1 на александрийской бумаге. Это для раздачи моим московским родным. Вас же, любезный Николай Алексеевич, прошу доставить по экземпляру к<нязю> Вяземскому, Дмитриеву, Погодину, попросите вашего братца принять от меня на память мои мелочи, а ваш крепостной экземпляр удостойте поставить в вашей библиотеке между Батюшковым и В. Л. Пушкиным. Пришлите мне ещё 8 экземпляров. Сколько комиссий! Беда иметь дело с стихотворцем. Простите мне всё это во имя господа Феба <…>».
Сугубо деловое письмо, написанное добродушным светским тоном, — и ни слова о собственных стихах.
Сдержанны, в духе времени, и дарственные надписи на книге 1827 года: «Пушкину от Е. Баратынского и комп.», «Его превосходительству Ивану Ивановичу Дмитриеву от Сочинителя».
По мнению филолога Е. Купреяновой, сборник Боратынского подвёл итоги
пройденному пути. (Заметим, неполные итоги: ведь поэма «Пиры» в книгу не вошла.) «Это был путь „первоклассного элегика“ и блестящего стилиста. Само строение сборника, выдержанное в типе французских элегических сборников (Парни), толкало внимание критики в этом направлении. Намечавшийся в ряде стихотворений сборника отход Баратынского от жанровых норм и принципов французской элегической поэзии в сторону романтизма прошёл мимо внимания критики. Соответственно этому одобрение, выраженное сборнику, носило как бы ретроспективный характер. Критика отдавала должное уже сделанному Баратынским, но не прибавляла ничего нового к установившейся за ним репутации „элегика“ и молчала о дальнейших перспективах его творчества. Сборник, строение и состав которого в основном были намечены в 1824 г., опоздал выходом. Симптомом того явился выпадающий из общего хора похвал резкий отзыв о сборнике любомудра Шевырёва <…>».
Про этот отзыв любомудра немного позднее… а пока про то, опоздала ли выходом первая книга Боратынского.
Конечно, желательно, чтобы книжка появилась раньше: напечатанная книга показывает достижения поэта, отталкиваясь от сделанного, он идёт дальше в своём развитии. Но, с другой стороны, поэзия
не опаздывает: она всегда к сроку. Классицизм ли, романтизм ли или же что другое, определять это — забота критиков, думающих, что искусство имеет неуклонное поступательное развитие к новизне, однако новость в стихах — только
поэзия, а не то или иное литературное направление. А
поэзии — книга Боратынского была исполнена как редко какая из тогдашних, и потому выходом сборник, конечно, не опоздал.
Отклики на книгу появились быстро и были самого разного толку, хотя в основном благожелательные и одобрительные.
«Сын Отечества» отозвался в ноябре рецензией О. М. Сомова:
«<…> Стихотворения Баратынского удовлетворяют всем требованиям самых разборчивых любителей и судей Поэзии; в них найдёшь все совершенства, достающиеся в удел немногим, истинным Поэтам: и пламенное воображение, и отчётливость в создании, и чистоту языка, и прелестную гармонию стихов <…>».
Петербургская «Северная пчела» в декабре напечатала отзыв Ф. В. Булгарина. В литературе они с Боратынским, после недолгого сотоварищества, уже несколько лет были открытые и непримиримые противники. На «корриде» тогдашней русской словесности Булгарин носился, как бешеный бык, весь истыканный «бандерильями» эпиграмм, среди которых самые колкие, безусловно, принадлежали Пушкину и Боратынскому. Одну из самых беспощадных Боратынский опубликовал незадолго до этого в «Московском телеграфе»:
«Что ни болтай, а я великий муж!
Был воином, носил недаром шпагу;
Как секретарь, служебную бумагу
Вам начерню, перебелю; к тому ж,
Я знаю свет, — держусь Христа и беса,
С ханжой ханжа, с повесою повеса;
В одном лице могу все лица я
Представить вам!» — «Хотя под старость века,
Фаддей, мой друг, Фаддей, душа моя,
Представь лицо честного человека».
(1826)
Может, поэтому Булгарин начал свою рецензию исподволь:
«Не всякий журналист удостоился стольких сатир, эпиграмм и критик, в разных видах, как аз грешный! И верно ни один из моей собратии так мало не гневался на них, как я. Свидетельствуюсь всеми, кто меня знает. Напротив, если сатира или эпиграмма написана остроумно, — я первый утешаюсь ими, потому что имею о них моё собственное мнение. Я думаю, что если сатира или эпиграмма заключает в себе правду — надобно исправляться; если в них один вымысел, то они идут мимо; если стихи хороши и завязка замысловата, то сатира или эпиграмма, переменяя цель и применяясь в течение времени к разным лицам, доходят до потомства, как сатиры Марцияла, Персия, Ювенала, Боало. Сатиры и эпиграммы имеют то же действие, что стрельба в сражении: метят в одного, а попадают в другого. Пуля виноватого сыщет; сатира и эпиграмма найдут свой предмет в свете. Здоровый не боится лекаря, ни аптеки. — Долг платежом красен. Как аукнется, так и откликнется. Писал я критики, писали и противу меня. Наконец, попались и вы, любезный Поэт, в руки мои <…>. Прочёл раз, прочёл другой — и критическое перо полетело под стол. Честь и хвала, г. Поэт! Вы победили меня звуками своей лиры! <…>».
Весьма сомнительно, чтобы одобрение Булгарина было вполне искренним: слишком уж скользкий был человек. Скорее всего, хотел помириться… Однако Боратынский если в ком разуверялся, то навсегда.
В канун нового, 1828 года в Петербурге в «Северных цветах» вышла подробная рецензия Плетнёва, который по-прежнему пристально следил за творческим путём Боратынского:
«Появление стихотворений Баратынского, поэта, давно известного своим отличным дарованием и вкусом, должно быть принято с особым вниманием. <…> Сочинения Баратынского представляют образец точности слога. Он выражает мысли свои так верно, что читатель может заметить и почувствовать их самые лёгкие оттенки. Нет слов, поставленных не у места, необдуманно или невольно. Краткость речи не только не вредит ясности стихов его, но придаёт им особенную силу. <…> Что касается до гармонии стихов, Баратынский заменил однозвучную гладкость языка переливами тонов. <…> Он не увлёкся владычеством нынешней европейской поэзии, обольстительной по своей мечтательности, но справедливо порицаемой за изысканность и преувеличение украшений. Строгий вкус его воспользовался только тем в романтической поэзии, что картинам придаёт яркость красок, а истинам — заманчивость тайны. Его можно причислить к разряду прежних французских поэтов, вероятно, бывших руководителями отроческих его опытов. Но с ними сошёлся он в одной отчётливости слога и мыслей. Он также не поминает их в тех местах, где хочет быть шутливым и остроумным. Глубокие чувствования, поэтические объёмы предметов, мысли сильные и живые, привлекательное простодушие в весёлости принадлежат собственно его дарованию. — Баратынский преимущественно поэт элегический. <…> В его элегиях не уныние, не мечтательность, но (если можно сказать) раздумье. <…> Увлекаясь движениями сердца, он не перестаёт мыслить и каждую свою мысль умеет согревать чувством. <…> В нас примечают противоречие надежд и желаний. Оно-то и составляет прелестное разнообразие элегий Баратынского. Иногда близкий к слезам, он их оставит и улыбнётся, зато и весёлость его иногда светится сквозь слёзы. Детская чувствительность и ум философа под строгою властию тонкого вкуса составляют его главный характер».
Плетнёв вновь блеснул широтой взгляда и глубиной понимания поэзии Боратынского, что особенно чувствуется в окончании его рецензии.
В том же номере «Северных цветов» в подборке мыслей и замечаний Пушкина напечатан его афоризм о Боратынском:
«Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах».
Не обошёл своим вниманием книгу известный всему тогдашнему пишущему сообществу чудак и рифмоплёт граф Дмитрий Иванович Хвостов. Человек по натуре добрый, он прощал множеству насмешников, для которых служил потехою, все их шутки и издёвки, но страсти к неуёмному сочинительству не оставлял, будучи уверен в их великих достоинствах. (Кстати говоря, и титул графа он получил весьма нелепым образом — от короля Сардинии, что говорит о том, что сардинский суверен вольно или невольно также послужил
потехе.) Петру Вяземскому хватило двух фраз, чтобы нарисовать портрет графа: «Хвостов сказал: „Суворов мне родня, а я стихи плету“. — „Вот биография в нескольких словах, — заметил Блудов, — тут в одном стихе всё, чем он гордиться может и стыдиться должен“». (Суворов, действительно был
роднёй знаменитого графомана, только лишь по линии жены: Хвостов был женат на его племяннице.)
Весьма почтенный годами сочинитель прислал Боратынскому письмо, в котором витиевато благодарил его за удовольствие, доставленное «напечатанием стихотворений». Одну из эпиграмм он принял на свой счёт и сообщал, что она, «очень замысловатая», ему весьма полюбилась:
Поэт Графов в стихах тяжеловат,
Но я люблю не злобного собрата;
Ей! ей! не он пред светом виноват,
А перед ним природа виновата.
Конечно, и благодарные слова, и цитирование эпиграммы были только предлогом, чтобы поведать Боратынскому свои свежеиспечённые вирши:
Ты, Баратынский, прав, пусть слог тяжеловат.
Коль мал, посредствен дар, Графов не виноват.
Виновен тот певец неугомонный хват,
Кто с Фебом, музами живёт за панибрата,
Рассудку объявя в стихах своих разлад,
В один сливает ключ и небеса, и ад.
Кто мыслит, чувствует без цели наугад,
И благонравия устав отринуть рад,
Коль кто восторга чужд и чужд любви собрата,
Не может тот сказать: природа виновата.
Снабдив Боратынского своим «прибавлением», Хвостов заодно любезно подарил его и другими своими рифмами: «Я за удовольствие себе поставлю препроводить к вам ещё печатную мою переписку стихами с г. Языковым. Будьте к ней благосклонны, продолжайте, как начали меня любить и верьте почтению и преданности, с коими есть и буду и проч.».
Осталось неизвестным, ответил ли Боратынский что-нибудь сардинскому графу…
Своё место на Парнасе
В январе 1828 года журнал любомудров «Московский вестник» напечатал литературный обзор «за 1827 год» Степана Шевырёва, в котором он совершенно иначе, чем другие критики, оценил книгу Боратынского.
22-летний Шевырёв был ярым поклонником новой немецкой философии — и именно по её образцам судил современную русскую словесность. Боратынский отметил одно его стихотворение в альманахе «Урания» ещё в 1826 году и в письме Пушкину советовал приглядеться к молодому поэту: «<…> Нам очень нужна философия. Однако ж позволь тебе указать на пиэсу под заглавием „Я есмь“. Сочинитель мальчик лет осмнадцати и, кажется, подаёт надежду. Слог не всегда точен, но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком тёмная для стихов <…>».
Тут всё понято и угадано наперёд: как в стихотворении метафизика
затемнила поэзию, так и в жизни Шевырёва философия вскоре вытеснила стихи, хотя самобытным мыслителем он так и не сделался, а остался только лишь толкователем и распространителем идей своих кумиров.
В пору юности Шевырёва эти идеи, касаемо литературы, выразил его ровесник, друг и соратник Дмитрий Веневитинов: «<…> У нас язык поэзии превращается в механизм: он делается орудием бессилия, которое не может себе отдать отчёт в своих чувствах и потому чуждается определительного языка рассудка. <…> Давно ли сбивчивые суждения французов о философии и искусстве почитались <…> законами. И где же следы их? Они в прошедшем или рассеяны в немногих творениях, которые с бессильною упорностью стараются представить прошедшее настоящим».
С этих позиций, на которых стояли любомудры, Степан Шевырёв и обрушился на Боратынского: «В сем году издано собрание стихотворений Баратынского. Достоинство и характер поэта яснее определяются, когда мы вдруг смотрим на все его произведения в одном полном собрании. Посему, хотя стихотворения Баратынского и прежде были известны публике, но до сего собрания она не знала ещё определённой его физиогномии. По нашему мнению, г. Баратынский более мыслит в поэзии, нежели чувствует, и те произведения, в коих мысль берёт верх над чувством, каковы напр<имер> „Финляндия“, „Могила“, „Буря“, станут выше его элегий. В последних встречаем чувствования давно знакомые и едва ли уже не забытые нами. Сатиры его (в которых он между прочим обвиняет и себя, нападая на плаксивость наших поэтов) часто сбиваются на тон дидактический и не столько блещут остроумием, сколько щеголеватостию выражений. Это желание блистать словами в нём слишком заметно, и потому его можно скорее назвать поэтом выражения, нежели мысли и чувства. Часто весьма обыкновенную мысль он оправляет в отборные слова и старательно шлифует стихи, чтобы придать глянцу своей оправе. Он принадлежит к числу тех русских поэтов, которые своими успехами в мастерской отделке стихов исключили чистоту и гладкость слова из числа важных достоинств поэзии. Но несмотря на сии достоинства в слоге г. Баратынского, он однообразен своими оборотами и не всегда правилен, обличая нередкими галлицизмами влияние французской школы».
Очевидно, что молодому критику, столь небрежно обозревающему книгу, любезна лишь новизна идей и слога, а собственно поэзия его мало занимает. Отрицая
французскую школу, он превозносит
немецкую, будто бы та или иная школа определяет достоинство поэзии. Однако
хватить трудов Шеллинга и Фихте ещё не значит
схватить Бога за бороду и
Аполлона за лиру. Шевырёв не замечает, что в коротком отзыве противоречит сам себе, сначала говоря, что Боратынский более мыслит, чем чувствует, а следом утверждая, что он «поэт выражения, нежели мысли и чувства». Эта сбивчивость и резкая угловатость суждений показывают лишь то, что критик не чувствует и не понимает вообще
природу мысли у Боратынского. Мысль в стихах Боратынского вся основана на чувстве: слияние двух начал образуют
поэтическую мысль. Поэт и мыслит потому, что прежде всего чувствует; и как ни глубока его мысль, ещё глубже и сильнее чувство. Шевырёв же, как типичный
русский мальчик, увлечённый какой-либо новейшей теорией до запредельной крайности, оказался глух к поэтической гармонии мысли и чувства, воплощённой в отточенном слове.
Антон Дельвиг, прочитав этот номер журнала, откликнулся, как всегда, просто, живо и непосредственно. В начале весны он писал Боратынскому: «<…> любуюсь издалека на игру страстишек журнальных. Как это ты, живучи в Москве, не приучил к повиновению мальчишек Шевырёвых и им подобных? Это стыдно. Докажи им, что статья о литературе 1827 года совершенно школьническая, и какая! Даже Булгарин прав, говоря о ней. Не напоминаю уже, что, писавши по-русски, надо знать по-русски; не худо сказать им, что с должным почтением не оценив отживших и современных писателей, нельзя кидать взора на будущее, или он будет недальновиден. Скажи Шевырёву, что мы в нём видим талант в переводах с Шиллера, в свободе писать хорошие стихи, но ничуть не в вымыслах вдохновенных. Изысканность в подобиях, может быть, будет ещё смешнее плаксивости Карамзинской и разуверений ¼ века Жуковского. Скажи ему, что он смешон, укоряя меня в невежестве. Он ещё азбуке не учился, когда я знал, что роман, повесть, Геснерова идиллия, несмотря на форму, суть произведения
поэзии».
Александр Пушкин в письме Погодину (от 19 февраля 1828 года) отозвался о критике Боратынского коротко: «<…> Шевырёву пишу особо. Грех ему не чувствовать Баратынского <…>».
Филолог Е. Н. Купреянова пишет: «<…> Осенью 1826 г. Пушкин ввёл Баратынского в круг любомудров и пытался привлечь его к участию в „Московском Вестнике“. Приняв непосредственное и активное участие в организации журнала, Пушкин надеялся подчинить впоследствии „Московский Вестник“ своему влиянию. В этих целях Пушкин стягивал в „Московский Вестник“ свои кадры, агитируя в письмах к Дельвигу, Языкову, Туманскому, Вяземскому за участие в журнале. Естественно, не был забыт при этом и живший в Москве Баратынский <…>».
Конечно, не в характере Боратынского было что-то
доказывать Шевырёву. В конце февраля он передал с Вяземским, уезжающим в Петербург, своё письмо Пушкину. К тому времени он уже два месяца как возвратился в Москву из Мары и статью Шевырёва, конечно, прочитал. Однако ни словом он не упоминает о ней: разве что тень разочарования легла на письмо…
«Давно бы я писал к тебе, милый Пушкин, ежели бы знал твой адрес и ежели бы не поздно пришла мне самая простая мысль написать: Пушкину в Петербург. Я бы это наверно сделал, ежели б отъезжающий Вяземский не доставил мне случай писать к тебе — при сей верной оказии. В моём Тамбовском уединении я очень о тебе беспокоился. У нас разнёсся слух, что тебя увезли, а как ты человек довольно увозимый, то я этому поверил. Спустя некоторое время я с радостью услышал, что ты увозил, а не тебя увозили. Я теперь в Москве сиротствующий. Мне, по крайней мере, очень чувствительно твоё отсутствие. Дельвиг погостил у меня короткое время. Он много говорил мне о тебе: между прочим передал мне одну твою фразу и ею меня несколько опечалил. — Ты сказал ему: „Мы нынче не переписываемся с Баратынским, а то бы я уведомил его“ — и проч. — Неужели, Пушкин, короче прежнего познакомясь в Москве, мы стали с тех пор более чуждыми друг другу? — Я, по крайней мере, люблю в тебе по-старому и человека, и поэта. — Вышли у нас ещё две песни Онегина. Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят, и все читают. Я очень люблю обширный план твоего Онегина; но большее число его не понимает. Ищут романической завязки, ищут обыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностию вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех её изменениях, проходит перед их глазами, mais que le diable les emporte et que Dieu les benisse! <но чтоб их чёрт побрал, а Бог благословил!> Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нём почти свои чувства, почти свои мысли, облечённые в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большею обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его всё-таки не проза. Не принимай на свой счёт этих размышлений: они общие <…>».
И напоследок:
«Портрет твой в Северных Цветах чрезвычайно похож и прекрасно гравирован. Дельвиг дал мне особый оттиск. Он висит теперь у меня в кабинете, в благопристойном окладе <…>».
Писал или нет тогда Пушкин Шевырёву, неизвестно, но, набрасывая вновь в 1828 году свою статью о Боратынском, он вспомнил и об этом отзыве, когда бросил общий взгляд на журнальную критику творчества своего друга:
«Пора Баратынскому занять на русском Парнасе место, давно ему принадлежащее. — Наши поэты не могут жаловаться на излишнюю строгость критиков и публики — напротив. Едва заметим в молодом писателе навык к стихосложению, знание языка и средств оного, уже тотчас спешим приветствовать его титлом Гения, за гладкие стишки — нежно благодарим его в журналах
от имени человечества, неверный перевод, бледное подражание сравниваем без церемонии с бессмертными произведениями Гёте и Байрона (тут Пушкин сделал ироническое примечание: „Таким образом у нас набралось несколько своих Пиндаров, Ариостов и Байронов и десятка три писателей, делающих
истинную честь нашему веку“. —
В. М.): добродушие смешное, но безвредное; истинный талант доверяет более собственному суждению, основанному на любви к искусству, нежели малообдуманному решению записных Аристархов. Зачем лишать златую посредственность невинных удовольствий журнальным торжеством.
Из наших поэтов Баратынский всех менее пользуется обычной благосклонностию журналов. — От того ли, что верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность менее действует на толпу, чем преувеличение (exagération) модной поэзии — потому ли, что наш поэт некоторыми эпиграммами заслужил негодование братии, не всегда смиренной, — как бы то ни было критики изъявляли в отношении к нему или недобросовестное равнодушие, или даже неприязненное расположение. — Не упоминая уже об известных шуточках покойного Благонамеренного, известного весельчака — заметим, что появление Эды, произведения столь замечательного оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок — и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных, появление Эды подало только повод к неприличной статейке в Северной Пчеле и слабому возражению, кажется, в Московском Телеграфе.
Как отозвался Московский Вестник об собрании стихотворений нашего первого элегического поэта! — (Упоминаю обо всём этом для назидания молодых писателей.) — Между тем Баратынский спокойно усовершенствовался — последние его произведения являются плодами зрелого таланта <…>».
Набросок статьи Александра Пушкина так и остался в черновых записях, неизвестных читателю, но подобные мысли примерно в то же время высказал в «Северных цветах» О. М. Сомов в своём «Обзоре российской словесности на 1828 г.»: «<…> Как оценены были стихотворения Баратынского, одно из приятнейших явлений в русской поэзии? <…> Здесь или явное нежелание признать достоинства поэта, или умышленное недоразумение. Неужели только это и можно было сказать о поэзии Баратынского? Так позволительно судить о произведениях какого-нибудь недозрелого юноши с недозрелым талантом. Певец Эды, Пиров, Финляндии, творец многих элегий, дышащих чувством истинным и глубоким, и посланий, блестящих остроумием свободным и неподдельным, достоин был, чтобы, говоря о произведениях его, критик взвешивал слова свои с большею осторожностию и отчётливостию, а не распространялся об одном механизме стихов, которые не составляют главного совершенства поэзии Баратынского».
Быт и бытие
Однако отношение к стихам Боратынского в литературных изданиях не изменилось. «Дамский журнал» напечатал предлинный разбор «Стансов» («Судьбой наложенные цепи…»), автор которого (вероятно, сам издатель, П. И. Шаликов) тупо, неостроумно и мелочно пытался высмеять чуть ли не каждую строку; С. П. Шевырёв так топорно отозвался о стихотворении «Последняя смерть», что Дельвиг написал об этом в письме Боратынскому (март 1828 года): «<…> Суждение же его <…> воняет глупой посредственностью».
Между тем и «Стансы», и в особенности «Последняя смерть», написанные в 1827 году, — произведения, с которых начался новый этап творчества Боратынского: зрелый мастер, доведя элегию до совершенства, обратился к философской лирике и сразу же поднялся на невиданную высоту.
Предшествовал ли этому взлёту эмоциональный толчок?
Что так поразило, ранило его сердце, когда на исходе весны 1827 года он приехал в свою
тамбовскуюглушь, в Мару?
Может, сильно сдавшая за последние годы, какая-то потерянная и ушедшая в себя мать?.. Вконец ветшающий родимый дом, просевший, словно могила, в сырую землю посреди вековечного, неизбывного молчания степей?.. Старый, запущенный сад с порушенными строениями, которые когда-то любовно возводил отец?..
Судьба поэта была вроде бы улажена: и свобода, и любящая жена, и крошка дочь… — окончилось, казалось бы, бесконечное прозябание в неопределённости,
упали наконец
судьбой наложенные цепи, — но почему же и теперь он не ощущал всей полноты чаемого всю жизнь счастья?.. Какая
отрава точила кровь и мучила воображение?..
В Маре под прошлой жизнью была проведена черта:
<…> Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
Пришёл просить я не один.
Привёл под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах:
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.
Пускай, пускай в глуши смиренной
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия <…>.
(«Судьбой наложенные цепи…», весна 1827)
Но заклинание не помогло: другие урочища вселенной не отпускали…
Быт отступил — предстало
бытие.
Совершенно новое для себя стихотворение написал тогда Боратынский… Впрочем, эсхатологические мотивы тогда носились в воздухе. Это было время, когда и в Европе, и в России толковали о комете, которая должна была через несколько лет упасть на Землю и чуть ли не погубить всё живое. В. Ф. Одоевский даже написал книгу о гибели Земли в результате этого столкновения, причём человечество будто бы с восторгом ждёт своего растворения в огненной стихии, становясь Солнцем. Дж. Байрон, напротив, предсказывал в поэме «Тьма» гибель жизни на Земле от того, что Солнце погасло… Боратынский далёк от космических катаклизмов — ему вполне хватает земных. Может быть, единственное, что связывает «Последнюю смерть» с предыдущими его стихами, это несколько строк из написанного чуть раньше стихотворения «Судьбой наложенные цепи…»:
<…> Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя,
И, наблюдая, восскорбил <…>.
Глубочайшая скорбь, наверное, и подвигнула его к «Последней смерти»…
Неизвестно, начал ли он писать это стихотворение ещё в Москве или приступил к нему в Маре. Даты под стихами поэт обозначал крайне редко. Датировка же этого произведения условна: «До начала 20-х чисел ноября 1827» — и основана по времени вероятного срока посылки стихотворения из Мары в Петербург — Дельвигу.
Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье:
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он.
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный <…>.
Огранка этого большого стихотворения — мерный, завораживающий пятистопный ямб 12-строчной строфы, найденной для выражения невыразимого: долгое и отчётливое дыхание ясной и суровой мысли.
Это
бытие меж сном и бденьем, порождающее видения, интуитивно прозревает
стихийное смятение отчизны дальней — быть может, ещё довременный хаос, из которого появился мир, — и тут же оно открывает картину грядущего:
Созданье ли болезненной мечты
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?
Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуяся, подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого <…>.
Мечта — по-нынешнему
фантазия; природа видения непонятна самому поэту; ясно лишь одно: всем своим существом он давно, может быть, с самого раннего детства пытался понять: откуда взялось
всё это (жизнь)? и чем же
оно кончится?..
Сначала мир явил мне дивный сад;
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он.
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил;
Всё на земле движением дышало,
Всё на земле как будто ликовало <…>.
Видение поначалу открывается картиной царства человека, заселившего всю землю и властвующего над стихиями. Люди сумели покорить природу, выдумав «
хитрый свой закон». Каков эпитет! (Эпитетом Боратынский, как никто иной, мог разом обнажить суть, открыть, выявляя смысл, новые, неожиданные пласты образа.)
Хитрый — значит: искусный, мудрёный, изобретательный, замысловатый, затейливый, но и: злостный, лукавый, коварный (В. Даль). Самолёты и ракеты, чудо XX века, и рукотворные острова в море, появившиеся в конце XX века и в веке XXI, — всё это видится
во глубине полночной темноты посреди степных, почти что безлюдных пространств…
Но что-то тревожное уже таится в этом
дивном саду — и выражено оно всего одним зыбким словом —
как будто («Всё на земле как будто ликовало…»).
Пока ещё кажется, что могущество человека утвердилось на земле раз и навсегда:
Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветра, дожди, жары и холода,
И верною сторицей воздавали
Посевы им, и хищный зверь исчез
Во тьме лесов, и в высоте небес,
И в бездне вод, сражённый человеком,
И царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщённый дивным веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд, и в поученье,
Вот до чего достигло просвещенье! <…>
Однако разгадка той подспудной тревоги, что невольно ощущает видящий, в самой его лексике, в точно найденном слове:
прельщённый.
Боратынский, обычно избегающий в своих стихах религиозных образов, словно бы проговаривается этим словом.
Прелесть, по церковному толкованию, заблуждение, прельщение, обман.
Могущество разума в материальном мире, да, может быть, и сам разум, как и хвалёные достижения
просвещенья — не более чем прельщение, обман.
Не потому ли следом идут уже картины катастрофы человечества…
Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? Что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольних благ,
На всё они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.
Желания земные позабыв,
Чуждался их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в эмпирей и хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих,
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали <…>.
Движение, деятельность отцов, добившихся материального изобилия, показалось сыновьям суетой:
умственная природа, фантазии разума, оторванные от всего земного, победили в пресыщенном человеке — и началось вырождение, саморазрушение. Человечество будто бы перешло от одного заблуждения к другому, ещё более губительному, прельстившись на этот раз
умом. И гибель не заставила себя ждать:
Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершилася живущего судьбина.
Где люди? где? Скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье;
Мне слышалось их гладное блеянье <…>.
Люди выродились; человеческий род заглох; — и никакой надежды на дальнейшее существование вчерашних владык природы и умозрительных мечтателей…
Последняя строфа — о безлюдье на земле:
И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло.
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился.
Апокалипсис, нарисованный поэтом, случился как бы сам собой. Одно непонятно: то ли от старости выродилось и вымерло человечество, то ли всё же от грехов. Боратынский не даёт прямого ответа, а может, и сам его не знает. Ни слова и о том, возродится ли человек на земле? Ведь природа не погибла вместе с ним и солнце по-прежнему восходит над землёю. Не есть ли синеющий туман, что дымится
чистительной жертвой, символ того земного чистилища, которое способно возродить человека, прельстившегося когда-то сначала своим мнимым могуществом, а затем столь же мнимой силою ума?..
Фантазия или пророчество?..
Современники Боратынского, кажется, совсем не поняли этого стихотворения. Жена поэта, Настасья Львовна, обращаясь к сестре, Варваре Абрамовне Боратынской, писала: «<…> стихи Евгения Последняя смерть произвели большое впечатление <…>»
(перевод с французского). Н. А. Полевой особо отметил это стихотворение среди пятидесяти других, напечатанных в номере «Северных цветов», определив его как «<…> первую пьесу по предмету, где вдохновенная поэзия сливается с философическою идеею и по выражению поэтическому <…>». Однако критик посчитал стихотворение
неясным, приняв его за отрывок поэмы: «Неясная в нём мысль может объясниться в целом».
Странно, что Полевой не усмотрел
целого в этой полной и законченной картине падения и вырождения
прельщённого человечества. По-видимому, он безгранично верил в силу человеческого разума и не мог допустить даже в воображении такого печального исхода.
В. Г. Белинский, оглядывая в начале 1840-х годов поэзию Боратынского, отозвался об этом едва ли не самом важном, если не программном его стихотворении довольно поверхностно. Сначала он отметил превосходный слог и назвал стихотворение «апофеозой всей поэзии г. Баратынского», где «вполне выразилось его миросозерцание», но затем небрежно заключил:
«Великолепная фантазия, но не более чем фантазия! <…>».
Далее тон Белинского делается непререкаем:
«И главный её недостаток заключается в том, что она везде является чёрным демоном поэта. Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства, истина как губитель счастия — вот откуда проистекает элегический тон поэзии г. Баратынского и вот в чём её величайший недостаток. Здание, построенное на песке, недолговечно; поэзия, выразившая собою ложное состояние переходного поколения, и умирает с тем поколением, ибо для следующих не представляет никакого сильного интереса в своём содержании. Мало того: сделавшись органом ложного направления, она лишается той силы, которую мог бы сообщить ей талант поэта.
Конечно, этот раздор мысли с чувством явился у поэта не случайно, — он заключался в его эпохе. Кто не знает пушкинского Демона? <…>» — и тут же перешёл к пространным рассуждениям о демонизме, по сути забыв о разбираемом стихотворении.
В итоге критик пришёл к поистине парадоксальному выводу о Боратынском:
«Несмотря на его вражду к мысли, он, по натуре своей, призван быть поэтом мысли. Такое противоречие очень понятно: кто не мыслитель по натуре, тот о мысли и не хлопочет; борется с мыслию тот, кто не может овладеть ею, стремясь к ней всеми силами души своей <…>».
Заметим, Боратынской враждует не с мыслью, а с заблуждениями человеческого ума, с самообольщением человечества; а что касается «овладения» мыслью, то сам поэт ответственно сказал — разумеется, про себя — в первых строках стихотворения:
<…> Он в полноте понятья своего <…>.
Словом, как любомудрам 1830-х годов, которые выдвинули требование
поэзии мысли, мысль Боратынского показалась «неясной», так и «западнику» Белинскому, десятилетие спустя, помстилось то же самое — что поэт не сумел «овладеть ею». Это говорит лишь о том, что Боратынский разумел по-своему, — потому любомудры и критик, не сомневающиеся в истинности своих взглядов, и отвергали его. Никто из них не смог понять самобытность Боратынского, «критически переоценившего и просветительство, и байронизм, и натурфилософию» (И. Семенко).
Лишь в XX веке, когда многие черты нарисованной им в «Последней смерти» картины стали всё зримее и отчётливее проявляться, исследователям его творчества стало понятно, что его стихотворение, казавшееся кому-то лишь фантазией, — по сути пророческое.
Впрочем, оценки стихотворения по-прежнему весьма отличаются друг от друга и далеки от согласия.
Так, на П. Бицилли «Последняя смерть» произвела сильное впечатление, но он не нашёл в стихах того, чего искал, —
нового ритма — и посчитал Боратынского лишь провозвестником нового поэтического пути: «„Последняя смерть“ Боратынского — по глубине исторического раздумья, по тону пророческого „видения“, по стилю, наконец (в особенности начало: „Есть бытие; но именем каким / Его назвать: ни сон оно, ни бденье…“), поразительно напоминает Лермонтова;
На что вы, дни… кажется прямо-таки перенесённым из стихотворений Блока в издания сочинений Боратынского. Но Боратынский был именно предтеча. Поэт громадной силы, он был, однако, лишён гениальности. Он был весь во власти пушкинского ямба. Он лишь прозревал новый поэтический путь (т. е. новый ритм). Но вступил на него всё же не он, а Лермонтов <…>».
Всё это несколько спорно («предтеча», «лишён гениальности»), однако исключительно интересно: исследователь не сомневается в пророческом существе стихотворения.
Литературовед Э. Вацуро, отметив, что «Последняя смерть» включается в круг эсхатологических стихов, широко распространившихся в русской поэзии с начала 1820-х годов, подчёркивает, что Боратынский глубоко своеобразен в трактовке этой темы: «<…> Гибель мира приходит не как воздаяние за порочность общества, а в результате естественного закона, — и потому она фатальна и неотвратима. Концепция старения человечества получает здесь наиболее полное и развёрнутое выражение. Покорив себе природу, человек добился полного благоденствия, но тем самым порвал с ней естественные связи. „Телесная природа“ человека уступила „умственной“ — и он обречён на вымирание. В последней строфе круг замыкается: „державная природа“ вступает в свои права на обезлюдевшей земле».
Вряд ли учёный прав, сводя гибель мира лишь к естественному закону. Да, Боратынский никого
не судит, не говорит прямо о воздаянии за прегрешения, но разве же он не показывает твёрдо и ясно порочность человеческой мысли, заблудившейся в прельщениях материального мира?..
Филолог С. Бочаров плавно обходит вниманием принципиальный вопрос о «воздаянии за порочность общества», оценивая
в общем новый этап в творчестве Боратынского: «Начинающийся поворот к возведению „личной грусти в общее значение“, как об этом скажет Мельгунов, обнаруживается „Последней смертью“ (1827). Новое качество знаменуется обширной философско-исторической темой (молодой эпикуреизм поэта недавно не хотел знать истории). „Последняя смерть“ — видение, „пророческий бред“ (вспоминая опять-таки Тютчева) о грядущей истории человечества. Интимная тема рокового хода времени как судьбы человека и человеческих отношений, судьбы любви, расширяется до судьбы человечества, является романтической темой „старения человечества“ и его „последней смерти“ как парадоксального итога успехов „просвещения“, „пира разума“ на земле; лирическое сознание насыщается содержанием истории и актуальным содержанием современной мысли, романтической философией истории».
Филолог И. Семенко точно заметила, что «Боратынский 1830-х годов понимает „поэзию мысли“ как поэзию мысли философской». Она пишет: «Из круга русских шеллингианцев, бывших „любомудров“, вышли суждения о философской лирике Баратынского, уникальные для того времени по сочувственному пониманию. К сожалению, эти отзывы немногочисленны, но только в них затрагивается специфика поэзии „нового“ Баратынского. „Новый“ Баратынский ставится выше „старого“ <…>».
И. Семенко подробно прослеживает одну из главных тем «Последней смерти» — тему разъединённости человека и природы:
«В „Последней смерти“ Баратынский вдвойне скептик — и по отношению к просветительству, к грядущим победам человеческого разума, и по отношению к идеалам „любомудров“.
Наступает наконец эпоха, когда всё материальное достигнуто; когда человек может „гордо“ наслаждаться плодами своих трудов; когда „высоких снов призыв“ заменил практические „побужденья“. Последнее есть как раз осуществление того, чего жаждали „любомудры“. Но Баратынский недаром ещё в своей ранней лирике утверждал, что „жизнь“ и земные „волненья“ — „одно“; что земные „страсти“ — пища жизни и т. п.
Именно тогда, когда „душевные сны“ вытесняют материальную „суету“, когда дух человека подымается до самых высот „эмпирея“ и проникает в тайны „хаоса“, наступает конец человечества. <…>
Но природе человек не нужен; она прекрасно обходится без него. И „смертное“ тело человека, и его „бессмертный“ дух — исключены из её общей жизни. Земля продолжает свою жизнь, даже не заметив исчезновения человечества. <…>
В этом торжестве державной природы нет, однако, для Баратынского ничего ни прекрасного, ни умиротворённого; нет и никакого пафоса растворения в божественном <…>».
О
божественном говорит Фёдор Тютчев в стихотворении «Последний катаклизм», написанном несколько лет спустя после выхода произведения Боратынского:
Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды
И Божий лик изобразится в них!
Было ли это четверостишие отголоском
видения Боратынского?.. Скорее, поэтов волновали одни и те же мысли. Но у Тютчева, представившего конец всего
земного, единого с
небесным, и речи нет о человеке…
Для Боратынского же всё бессмысленно, если нет человека.
«Трагизм „Последней смерти“ Баратынского — следствие его представления об „одиночестве“ человечества в мире, — пишет И. Семенко. — Так же как, по Баратынскому, в обществе одинок один человек, человечество „одиноко“ в мироздании.
Хотя Баратынский ни в какой мере не является „индивидуалистом“ байронического толка, отправной точкой у него остаётся человек и человеческие „интересы“: это и разделяет его с „любомудрами“. Не будучи просветителем, он занимает гуманистическую позицию. Для него невозможен ни искренний, ни ложный пафос „растворения“ в космосе. Отсюда — глубина его скорби. Баратынский не хочет такого растворения. Оно не утешает его. Картина жизни Земли после гибели человечества бесконечно грустна.
О „Последней смерти“ хорошо написал когда-то Ю. Айхенвальд. Приведём его строки о Баратынском: „Он не понимает мира без человека… и первый рассматривает в связи с последним… Зачем нужна ненаселённая вселенная?“».
Литературовед Е. Лебедев подчёркивает стремление
зрелого Боратынского быть предельно точным в выражении того
видения, что возникло на грани двух миров —
земли и неба, «к минимуму дистанции между словом и реалией»:
«<…> Проблема переключается из плана чистой стилистики („слога“) в план мировоззренческий: стиль становится не только
средством выражения, но и
инструментом познания. Без этой метаморфозы движение вперёд было бы невозможным. <…>
Боратынский выступает здесь, говоря его же словами, „сатириком беспристрастным“. Он не навязывает читателям своего мнения. „Последняя смерть“ — это не мрачное пророчество. Это, скорее, мужественное предостережение, ибо читатели сами должны сделать для себя соответствующие выводы. Вот почему задача поэта, находящегося „в полноте понятья своего“, — показать это своенравное видение, ничего не искажая <…>».
Отказавшись
судить прельщённого человека, Боратынский всё же
предостерегает его от самообмана…
Глава шестнадцатая
«ГУБЕРНСКИЙ СЕКРЕТАРЬ ЕВГЕНИЙ БОРАТЫНСКИЙ»
На вершине известности
По возвращении из Мары в Москву Боратынский вскоре поступил на службу в Межевую канцелярию.
…Два века спустя нам уже кажется странным то, что было совершенно естественным для дворян в первой половине XIX столетия и что просто объяснил Д. Н. Свербеев в своих записках: «По понятиям того времени каждому дворянину, каким бы великим поэтом он ни был, необходимо было служить или, по крайней мере, выслужить себе хоть какой-нибудь чинишко, чтобы не подписываться недорослем».
Свербеев заметил это по поводу вступления Николая Языкова на то же самое место, так как спустя три года именно поэт Языков сменил поэта Боратынского в Межевой канцелярии. Это ведомство тогда в шутку прозвали «укромным местом» для поэтов.
Языков вспоминал, что его предшественник за всё время службы посетил
присутствие всего лишь один раз, да и то затем, чтобы принести присягу. Сам Боратынский весной 1828 года писал Николаю Путяте: «<…> Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в Межевую; но, слава Богу, мне дела мало; а то было бы худо моему начальнику». Его начальник, Богдан Гермес, действительно не загружал поручениями подчинённого, здраво рассудив, что они ему не по духу, да и не под силу. Это отнюдь не помешало Боратынскому продвинуться по службе: из коллежского регистратора он вскоре сделался губернским секретарём. Услышав звучание своей новой должности, поэт мечтательно заметил: «Мы, с моим новым чином, составляем славный Александрийский стих: Губернский секретарь Евгений Боратынский…»
Выслужив необходимый
чинишко, он вышел в отставку, что произошло летом 1831 года. При этом получил весьма положительный служебный аттестат: «Предъявитель сего служивший в Канцелярии моей Губернский Секретарь Евгений Баратынский в службу вступил, как по формулярным спискам значится из дворян, по Высочайшему повелению из Пажей за проступки рядовым Лейб-Гвардии в Егерский полк <…> произведён в унтер-офицеры <…> с переводом в прапорщики <…>; по Высочайшему Его Императорского Величества приказу уволен от службы за болезнию 826 генваря в 31 день; определён в Канцелярию Главного Директора Межевой Канцелярии 828 генваря 24, Указом Правительствующего сената переименован в Коллежские Регистраторы 828 февраля 20; а после сего Указом Правительствующего сената произведён Губернским Секретарём со старшинством с 14 апреля прошлого 1830 года; во время служения своего вёл себя похвально, должность исправлял прилежно, в штрафах и под судом не бывал <…>; к продолжению службы и к повышению чина всегда аттестовался способным и достойным, и к представлению его за службу <…> к знаку Отличия беспорочной службы в своё время препятствий совершенно никаких не имеется; после же по прошению его для определения к другим делам уволен, в засвидетельствование чего и дан сему Баратынскому сей Аттестат за подписанием моим и с приложению Герба моею печатаю. — Москва. Июля 26 дня 1831 года. — Богдан Гермес».
Распрощавшись с любезным Гермесом, Боратынский обратился с письмом к своему преемнику, Николаю Языкову, в котором добродушно шутил: «Заняв моё место у Гермеса, ты обязан вполне заменить меня. Я служил два года с отличной ревностью, за что и удостоился повышения в чине. Расспроси Киреевского о моих служебных подвигах: я уверен, что это воспламенит тебя благородным соревнованием».
Итак, Боратынского уволили из канцелярии
к исполнению других дел. Но всё у него по-прежнему, и нет ничего другого, кроме стихов, семьи да ещё, отчасти, литературных баталий, в которых волей-неволей приходится порой участвовать…
Весной 1828 года у Боратынских родилась вторая дочь — Екатерина; ей дали имя в память Екатерины Петровны, матери Настасьи Львовны. Вести хозяйство помогала Натали, младшая сестра Евгения, жившая в Москве. Это было как нельзя кстати: Софи, сестра Настасьи Львовны, уехала с отцом в подмосковную усадьбу Мураново.
Боратынский в 1828 году — на вершине своей славы и известности; ни до этого времени, ни тем более после у него не было такого. Биограф Гейр Хетсо отметил одно из частных писем, в котором содержится характерное свидетельство: «Баратынского все читали». Известный критик В. Т. Плаксин в статье «Взгляд на состояние русской словесности в последний период», вышедшей в 1829 году, назвал Василия Андреевича Жуковского «первым преобразователем» русской литературы, пробудившим новую поэзию, и далее заметил: «<…> среди множества мелочных и обыкновенных писателей стихотворцев явились два необыкновенные поэта». Речь о Пушкине и Боратынском. Пушкин, по мнению критика, отличается чрезвычайным богатством прекрасных картин и чистого вкуса; Боратынский — «<…> глубокостию чувствований, свойственною жителю севера и лёгкостию пиитической басни, или вымысла». Вывод критика таков: «Можно отгадать, на чьей стороне будет первенство; но время, судья независимый от настоящих успехов, решит, кому будет принадлежать первый венок — Пушкину или Баратынскому». О том, что Баратынский стал одним из знаменитых русских поэтов, свидетельствует и его избрание в один день с Пушкиным в действительные члены Общества любителей Российской словесности при Московском университете. Впрочем, поэт уже некоторое время принимал в нём активное участие.
Другое свидетельство его знаменитости — желание поручика Александра Тернберга издать литографированный портрет поэта в количестве 250 экземпляров. Прошение об этом издании поручик направил в Московский цензурный комитет; к бумаге было приложена копия письма Боратынского к Тернбергу (по-видимому, ответ на его обращение): «Милостивый государь Александр Францович! — Желание ваше напечатать мой портрет мне слишком лестно, чтобы я думал и вздумал ему противиться. Охотно даю согласие требуемое цензурою и почитая себя много обязанным вашим дружеским вниманием, честь имею быть и проч. — Евгений Баратынский. — 1828 года Апреля 13 дн.». Чуть позже жена, Настасья Львовна, писала сестре Боратынского, Варваре, что «Евгения должны награвировать в „Северных цветах“ и для этого с него недавно написали портрет, на который нужно долго смотреть — с первого взгляда не находишь никакого сходства <…>». Однако «непохожий» портрет Дельвиг так почему-то и не поместил в себя в «Северных цветах»… Впрочем, Боратынскому было совсем не до этого…
«Аристократы» и «промышленники»
Журнальную политику тех лет определяли «демократы» Греч с Булгариным, сделавшие ставку на низкопробное чтиво, имеющее коммерческий успех. Князь Вяземский поддерживал довольно «разношерстный» «Московский телеграф», но не издание любомудров «Московский вестник», который Пушкин с Боратынским хотели сделать выразителем «аристократической», высокохудожественной литературы.
В начале 1828 года П. А. Вяземский, уехавший в Петербург, попросил Боратынского оказать ему небольшую услугу — договориться с издателем Николаем Полевым о расчёте за работу в «Московском телеграфе». Выполнив «препоручение», поэт спрашивал Вяземского в письме: «<…> Что наше или, лучше сказать, ваше журнальное предприятие? Неужели вы остановитесь на одном проекте. Не знаю, принесёт ли этот журнал большую выгоду редакторам; но он, без сомнения, будет полезен литературе. Забавно подумать, что решительно у всех теперешних наших журналистов нет ни малейшего понятия о вкусе (именно того, что было бы нужно), что почти все наши журналы преимущественно литературные, а ни один из издателей не имеет настоящего литературного образования. И вот между тем наши судьи! Скажите, кто написал этот позорный разговор о Персидской войне, напечатанный у Булгарина? C’est le coup de pied de l’ane <Это пинок осла>. Можно ли так подло потворствовать правительству или так низко выказывать личную вражду? Сверх того, сатира эта отвратительно обыкновенна, и как не чувствовать, что кто кидает грязью в своего неприятеля, марает в ней, во-первых, собственную свою руку. <…>»
Очевидно, что Боратынскому очень хотелось бы, чтобы Вяземский был полностью на его с Пушкиным стороне и вместе с ними участвовал в создании литературного журнала нового качества.
Боратынский ответил в этом духе и попутно черкнул немного о себе: «Не могу вам сообщить новостей светских: вы знаете, что я не живу в свете. Москва для меня множество домов и только. Любуюсь на них снаружи и, может быть, она и лучше снаружи, чем внутри. Отсутствие ваше для меня истинная потеря и, проходя мимо вашего дома, жалею, что могу любоваться одною архитектурою и не могу зайти к милому хозяину <…>».
«Московский вестник» не оправдал их с Пушкиным надежд: любомудры не обратили внимания на советы Пушкина и гнули свою «шеллингианскую линию», да и Погодин оказался неразворотливым редактором. Вскоре подписчиков у журнала почти не осталось, и в 1830 году он перестал выходить.
Не осуществилось желание Вяземского и Боратынского создать свой альманах, который бы представил литературу
просвещённого дворянства.
Продукция литературных
промышленников всё больше раздражала Боратынского. На совет Вяземского писать прозу он отвечал в апреле 1829 года: «<…> ваше одобрение для меня очень искусительно. Ваши разговоры произвели уже на меня своё действие, и я уже планировал роман, который напишу, ежели станет у меня терпения, а в особенности дарования. Кстати о романах, вышел роман Булгарина „Выжигин“. Неимоверная плоскость! четыре тома, в которых вы не найдёте не только ни одной мысли, ни одного положения, ни одной картины, ни даже того достоинства, которого можно ожидать от Булгарина, т. е. особенного знания некоторого рода людей, с которыми не знаются порядочные люди, оригинальности шпионских, ежели не литературных замечаний, нет, душа Булгарина — такая земля, которую никакой навоз не может удобрить. Роман его, soi disant <так сказать>, вроде Жильблаза, заключает в себе одну только характерную черту: посвящение министру юстиции <…>».
А чуть позже поэт пишет Вяземскому об отношении к новой поэме Пушкина: «<…> „Полтава“ вообще менее нравится, чем другие поэмы Пушкина: её критикуют вкривь и вкось. Странно! Я говорю это не потому, чтобы чрезмерно уважал суждения публики и удивлялся, что на этот раз оно оказалось погрешительным; но „Полтава“, независимо от настоящего её достоинства, кажется, имеет то, что доставляет успех: почтенный титул, занимательность содержания, новость и надобность предмета. Я, право, уже не знаю, чего надобно нашей публике? Кажется, Выжигиных! Знаете ли вы, что разошлось 2000 экз. этой глупости? Публика либо вовсе одуреет, либо решительно очнётся и спросит с благородным негодованием: за кого меня принимают? <…>»
Разладились, а затем и прервались товарищеские отношения Вяземского и Боратынского с Николаем Полевым. Тот вдруг помирился с литературными дельцами Н. Гречем и Ф. Булгариным — и вскоре резко выступил против «аристократов». Поводом послужил только что вышедший двенадцатый том «Истории государства Российского». Купеческий сын, Полевой был уязвлён, что вся история свелась исключительно к правителям: князьям и царям — и раскритиковал Карамзина в своей рецензии. Более того, он написал свою историю — «Историю русского народа», в которой попытался выявить «народное начало» в вековом развитии России. Пушкин с друзьями глубоко оскорбились «поруганием» своего учителя и кумира: труд Полевого они назвали пародией на Карамзина. (Впрочем, Александр Пушкин в черновых набросках своей статьи всё-таки не поддался сословному гневу, отдав должное самостоятельности исторической версии Н. Полевого.)
Евгений Боратынский не прошёл мимо этой историософской полемики. По прочтении статьи Николая Полевого он тут же сочинил эпиграмму — более пристрастную, нежели справедливую, и с отзвуком аристократического высокомерия:
В восторженном невежестве своём
На свой аршин он славу нашу мерит;
Но позабыл, что нет клейма на нём,
Что одному задору свет не верит.
Как дружеским он вздором восхищён!
Как бешено своим доволен он!
Он хвалится горячею душою.
Голубчик мой! уверься наконец,
Что из глупцов, известных под луною,
Смешнее всех нам пламенный глупец.
(Июль — ноябрь 1829)
Н. Полевой ответил Боратынскому своими эпиграммами в «Московском телеграфе», — на что последовали новые сатирические выпады Боратынского, ещё более колкие:
«Он вам знаком. Скажите, кстати,
Зачем он так не терпит знати?»
— «Затем, что он не дворянин».
«Ага! Нет действий без причин.
Но почему чужая слава
Его так бесит?» — «Потому,
Что славы хочется ему,
А на неё Бог не дал права,
Что не хвалил его никто,
Что плоский автор он». — «Вот что!»
(Май 1830)
И чуть позже появилась ещё одна эпиграмма на Полевого, где тот назывался
глупым писачкой, который чванился в «Фебовом дому» и был изгнан за зазнайство богом искусства…
Сам по себе этот
обмен любезностями малоинтересен: эпиграммы Боратынского немногим лучше, чем вирши Полевого. Однако показательно, с каким накалом защищает Боратынский литературу от падения в
плебейщину, приносимую разночинцами, и в
пошлый рынок торгашей от словесности вроде Булгарина. Боратынский остро чувствовал, что с утратой «аристократизма духа» словесность обессмыслится и превратится в «товар», — и никак не хотел с этим мириться…
…Теперь-то, спустя почти два столетия, мы видим, до каких ползучих глубин — точнее,
низин — пошлости дошла коммерческая псевдолитература.
Аристократизм духа — это высота нравственных понятий народа и чистота народной эстетики, воплощённые в творчестве самых даровитых его сыновей.
Вера напрямую связана с
языком. Николай Калягин в «Чтениях о русской поэзии» приводит мысль выдающегося русского византиста Ф. И. Успенского: «Язык и религия — это два великих дара, из-за которых стоит бороться до истощения сил и с изменой которым народ необходимо теряет свою национальную самобытность и своё право на историческую роль». И следом объясняет, почему язык Пушкина за два века нисколько не устарел:
«<…> у русского языка есть
икона — язык церковнославянский. Язык нашего богослужения не меняется на протяжении 1150 лет, и это предохраняет народный живой язык великороссов от окончательной порчи. Человек, у которого на слуху годовой круг русского богослужения, просто не может говорить по-русски плохо. Сколько бы он ни уклонялся в сторону, сколько бы ни вихлял, он не сможет заблудиться в языке настолько, чтобы не найти потом дороги назад.
Но у нас есть и другая икона: русская классика. У нас есть Пушкин, про которого Страхов сказал: „У него был дар, превосходящий своей ценностью всякие подвиги и усилия; а именно —
красота душевных чувств <…> он не воспел ни единого злого и извращённого движения человеческой души, и каждое чувство, им воспетое, имеет бесподобную меру красоты и здоровья. Поэтому, — замечает Страхов, — Пушкина следует считать великим воспитателем своего народа“. Этика Пушкина, этика Баратынского, этика Тютчева сохраняется, она закреплена в их произведениях. Пока мы с ними сверяемся, нам нелегко будет окончательно расчеловечиться».
Первые в ряду классиков русской поэзии во многом обязаны лучшим качествам души своему сословию — дворянству. «<…> это последние русские поэты, — приходит к выводу Н. Калягин, — в чьём творчестве отсутствуют процессы тления, ржавения, гнилостного брожения — даже и в зародыше. К любому из них применимо острое словцо Баратынского: „Такая поэзия лучше хлору очищает воздух“.
<…> в поэзии этих дворян нас
ничто не обманывает. Она без всякого обмана (хотя бы даже и оптического) изящна и чиста, благородна и блистательна. Она такая — на самом деле».
…Эти две свои эпиграммы Боратынский напечатал в открытой Дельвигом в Петербурге, 1 января 1830 года, «Литературной газете». Она сразу же объявила: «Цель сей газеты — знакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы европейской, и в особенности Российской», имея в виду под «образованной публикой», разумеется, дворянского читателя.
Про открытие газеты Боратынский узнал накануне события — от самого редактора; он тут же написал Вяземскому: «<…> вы вместе с ним издаёте „Литературную газету“: правда ли это? И как хорошо, ежели это правда! Что бы вы ни издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником малосильным, но усердным».
Боратынскому было хорошо понятно, что Булгарин и компания берут не качеством, а валом написанного. Из дворянских авторов, пожалуй, один лишь Пушкин писал постоянно и много, остальные — от случая к случаю. Н. А. Мельгунов, разумеется, нарочно преувеличил, когда сказал, что
аристократы пишут чуть не по 90 строчек в год, тогда как
промышленники — по 90 листов в месяц, — но по существу был прав. «<…> Против партий должно действовать партиями. Составим своё общество, призовём всех людей с дарованием и будем издавать труды его, ежегодно, ежемесячно, как придётся. Мы теряем потому, что мы ленивы, а противники наши деятельны. На публику действует не качество, а количество произведений. Все её мнения похожи на мнения религиозные. Они впечатлеваются повторением, а не убеждением. Одним словом, надо действовать, — писал Боратынский в январе 1830 года Вяземскому. — Вы скажете: c’est bon à dire <легко сказать>, и я пойму вас, но не так c’est bon à faire <легко сделать>. Попробуем; ежели не удастся, не нам привыкать к беззаботности <…>».
Но это всё же было благим желанием — не более того. Жизнь распоряжалась по-своему. Самому Боратынскому всё больше приходилось заниматься хозяйством в имениях, на
рифмы времени не хватало. Да и вдохновению не прикажешь… Участие Боратынского в газете Дельвига стало совсем незначительным: он дал всего несколько эпиграмм.
Гимн отчаяния
Лирические стихи, написанные Боратынским вслед за «Последней смертью» в конце 1820-х годов, уже другие, чем прежде: они словно бы утяжелены суровой мыслью и весомым словом. Литой слог своею «плотностью» будто бы материализует то, что таилось в глубине предметов поэтического исследования. Как
поэт эротический, поэт радостной и лёгкой любви и наслаждения, Боратынский действительно
умер, как и предсказал в отклике на его женитьбу Лев Пушкин, хорошо знавший своего приятеля по молодому веселью. Но как поэт-мыслитель он только по-настоящему нарождался, — что его отпевшего и горюющего
Лёвушку уже вряд ли интересовало. Предвидением гибели человечества в «Последней смерти» Боратынский, конечно, не исчерпал эту вечную тему — он додумывал её в сопутствующих стихах.
Какой-то величавой иронией проникнуто стихотворение «Смерть», написанное в конце 1828 года и переработанное в 1832–1833 годах. Это мрачная, торжественная ода во славу смерти провозглашена подчёркнуто старинным слогом и исполнена предельной безнадёжности.
Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу её косой.
О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.
Когда возникнут мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твоё храненье Всемогущий
Его устройство поручил.
И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия
И в нём прохладным дуновеньем
Смиряя буйство бытия.
Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять возвращаешь океан.
Даёшь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.
А человек! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.
Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба,
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.
Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.
Глубокий и горький взгляд на существование природы и жизнь человека!..
«Дщерь тьмы», «согласье
прям» (от старинного «пря» — спор) — архаизмами стихотворение усилено именно при его
переработке, дабы сильнее показать эту древнюю могучую силу,
разрешающую всё и вся на земле. Если по прошествии веков человечество ожидает
последняя смерть, то потом та же участь постигнет и усмирённое «буйство бытия» на земле.
Филолог Ирина Семенко считает это стихотворение откликом на
натурфилософские построения любомудров, причём откликом весьма своеобразным: «Поэт приветствует мировую гармонию и поёт ликующий гимн её организатору, но им оказывается губитель, что противоречило учению натурфилософов… У В. Ф. Одоевского, например, говорилось в неопубликованном трактате „Сущее“, что жизнь есть „добро“, а смерть — „зло“. Прекращение жизни, как единственно возможное исправление её несовершенств, частных и общих, — таков парадоксальный вывод Баратынского. И вывод этот полон скорби».
Ликующий гимн — конечно, слишком: никакого ликования в тоне стихотворения нет, он скорее будничный, как обыденна неумолимая поступь всеобщей погибели. И торжественные ноты, и патетические восклицания — сгущённая до запредельного мрака ирония, неотличимая от скорби. Возможно, Боратынский таким образом и устроил свою «прю» с любомудрами, однако вряд ли это было для него важным: он выражал свой собственный взгляд на жизнь и смерть.
По мнению И. Семенко, в поздней редакции «Смерти» Боратынский скрыто полемизирует с двумя крупнейшими поэтами XVIII века Державиным и Ломоносовым, в частности, с известной одой Державина «На смерть князя Мещерского» и «Преложением псалма 103» Ломоносова.
«<…> По-видимому, около середины 1830-х годов Баратынский подверг активной переоценке также и философские основы — в своей сущности оптимистически просветительские — русской оды XVIII века. <…>
В ужасе Державина <…> больше оптимизма, чем в отчаянном „гимне“ Баратынского. Стихи Державина и заканчиваются оптимистическим призывом пользоваться „мгновенным даром“ — жизнью.
Для Державина жизнь — бо́льшая реальность, чем смерть. В стихотворении Баратынского, наоборот, смерть действительнее жизни и восхваление её — почти гимн божеству. Но он лишён радости.
По своему содержанию, по своему жанру („гимн“), по своей интонации стихотворение Баратынского — отрицательная параллель к „Преложению псалма 103“ Ломоносова. У Ломоносова устроитель вселенной — бог.
Совершенно излишне касаться здесь вопроса об отношении Ломоносова к религии; в центре внимания Ломоносова — прекрасная целесообразность мироустройства; ей радуется его просветительская мысль. <…>
Словесные совпадения <…> не оставляют сомнений в сознательной полемической направленности стихотворения Баратынского <…>».
Однако сам по себе спор с классиками русской поэзии — не главное для поэта: ему важно как можно полнее разобраться в собственной душе и в собственных мыслях.
Незадолго до стихотворения «Смерть» Боратынский перевёл с французского элегию А. Шенье о человеческой доле на земле — а по сути создал
своё стихотворение, поскольку оригинал сильно сокращён и переработан:
Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо моё утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую её, покой её люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Моё грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Всё обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой не строг,
Я жить и чувствовать услужливый предлог.
…Услужливый предлог — многого стоит этот поразительный эпитет!..
Скрытая ирония «Смерти», касающаяся и верховных, над-мирных сил («Всемогущий», «Святая дева!»), как и жалкая участь земного человека, что цепляется за жизнь («Из А. Шенье»), конечно, никак не решала вопроса: зачем так, а не иначе устроена жизнь.
О вере и неверии
Как ни крути, а
без Бога ни до порога… И Боратынский пишет, по-видимому, в том же 1829 году, по духу
религиозный диалог двух любящих друг друга сердец.
Это большое стихотворение впервые вышло под заглавием «Сцена из поэмы „Вера и неверие“»; впоследствии оно печаталось под названием «Отрывок», хотя совершенно очевидно, что перед нами не часть чего-то, а законченное произведение.
Сюжет этого стихотворения почти не связан с внешним миром — но с развитием мысли, обусловленной душевными переживаниями героев.
Он — на вершине земного счастья: небо чисто и светло, и они с любимой вдвоём под густой липой, на свежем лугу, в виду свежей дубровы и весёлой реки, овеянные благоуханным ветерком, будто бы дышащим самим счастьем, — и
Она, рядом с
Ним, чувствует то же самое, равно наслаждается каждым мигом.
Он с умилением созерцает «красу творенья» и думает: «<…> велик Зиждитель, / Прекрасен мир!..»; в глазах его невольные слёзы благодарения… И
Она — так благодарна жизни и любимому, что не знает, о чём ещё молить Создателя:
<…> Ах! об одном: не пережить
Тебя, друг милый, друг сердечный.
Одно лишь пожелание, высказанное непроизвольно, по привычке, по врождённому желанию любящих:
жить вместе и умереть вместе. — Но этих обычных слов, невзначай произнесённых, хватило, чтобы гармония счастья была тут же нарушена.
Он
Ты грустной мыслию меня
Смутила. Так! сегодня зренье
Пленяет свет весёлый дня,
Пленяет Божие творенье;
Теперь в руке моей твою
Я с чувством пламенным сжимаю,
Твой нежный взор я понимаю,
Твой сладкий голос узнаю…
А завтра… завтра… как ужасно!
Мертвец незрящий и глухой,
Мертвец холодный!.. Луч дневной
В глаза ударит мне напрасно!
Вотще к устам моим прильнёшь
Ты воспалёнными устами,
Ко мне с обильными слезами,
С рыданьем громким воззовёшь:
Я не проснусь! И что мы знаем?
Не только завтра, сей же час
Меня не будет! Кто из нас
В земном блаженстве не смущаем
Такою думой? <…>
Древний ужас исчезновения, живущий в смертном, проснулся от легчайшего прикосновения мысли. Блаженство держалось лишь забытьём от страшного видения смерти: счастье сиюминутно, ненадёжно и в любое мгновение может изменить.
Она — по обычаю веры — пытается успокоить
Его, напоминая, что есть другая жизнь, за гробом, обещанная Творцом:
<…> Ах! как любить без этой веры!
Но этот её вздох печален: яд сомнения любимого уже проник в кровь, и, наверное,
Она больше по привычке произносит эти слова.
Он же, выразив свой затаённый страх, постепенно освобождается от помрачения и наполняется
верой:
Он
Так, Всемогущий без неё
Нас искушал бы выше меры;
Так, есть другое бытиё!
Ужели некогда погубит
Во мне Он то, что мыслит, любит,
Чем Он созданье довершил,
В чём, с горделивым наслажденьем,
Мир повторил Он отраженьем
И сам Себя изобразил? <…>
Несовершенство человеческого мира, этого «пира нестройного» слишком очевидно, оно не могло быть устроено благим Создателем, Который не может быть «не прав»:
Нет! мы в юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья:
Там, за могильным рубежом,
Сияет день незаходимый,
И оправдается Незримый
Пред нашим сердцем и умом.
Что это? Вера ли, надежда? — или убеждение разума?..
Может быть, это не больше, чем недолгое облегчение после выговоренного, попытка
уверить себя?.. Да разве и Творец оправдывается перед творением?..
От былого блаженства под густой липой не осталось ничего, лишь только мятежная мысль о сиюминутности жизни коснулась души. Не есть ли сама мысль, само малейшее сомнение — мятеж против Всемогущего?..
Последние слова произносит подруга, — она по-прежнему не сомневаясь верит в Бога, но тот яд сомнения, что излил любимый, заметно поколебал её:
Она
Зачем в такие размышленья
Ты погружаешься душой?
Ужели нужны, милый мой,
Для убеждённых убежденья?
Премудрость вышнего Творца
Не нам исследовать и мерить;
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Пойдём; грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих.
Филолог Евгений Лебедев проникновенно и глубоко разобрал «Отрывок» в своей книге «Тризна», сравнив стихотворение-диалог с чем-то «вроде концерта для двух скрипок с оркестром». Он считает, что это стихотворение не имеет себе равных среди других произведений Боратынского «по
обнажённости отчаяния», добавляя; «А ведь отчаяние у него почти всегда сопутствует проникновению в сущность предметов». Особенно
страшным кажется исследователю «финал этого концерта»:
Он всё-таки пришёл к утишающему примирению с земным исчезновением — зато у неё всё только начинается, ибо
Она приняла на себя «весь этот ад, который он носил в душе». Е. Лебедев так заключает свои размышления:
«Всё, что продумал и прочувствовал Боратынский после 14 декабря 1825 года, сказалось в этом произведении. Но ведь по логике-то вещей после
таких стихов надо вообще прекращать писать. Ведь в „Отрывке“ этом присутствуют и Шекспир, и Гёте (которых Боратынский любил), и вообще все поэты до
Него и после
Него, которые задумывались или ещё только собираются задуматься над предметом
Его размышлений. Ведь если вышний-то творец не оправдается перед человеком, не объяснит ему,
ради чего человек в этой-то жизни мучился, то вся история человечества (и материальная, и духовная) предстанет
коллективным безумием. Ведь на такие стихи вдохновляет не муза, а жизнь…»
Верны ли эти, стилистически несколько путаные, суждения?
Да,
Она, без сомнения, разделила духовную трагедию своего любимого, но её «сердечный трепет» — ещё не разуверение в Боге, — поэт отнюдь не утверждает этого, — а глубина со-чувствия, со-переживания.
«Привязка» стихотворения к восстанию декабристов вообще весьма искусственна: Боратынский, по-видимому, с самого раннего детства испытывал религиозные сомнения. Он сам признавался о том
яде в сердце, который сызмалу отравлял его душу, хотя со стороны, наверное, казалось, что жизнь его вполне счастлива и безоблачна. Конечно же, эти тяжкие чувства и мысли касались сущности жизни и смерти, а не тех несправедливостей, которые были в общественном устройстве.
Детская душевная смута; юношеское увлечение Вольтером, да и всей тогдашней французской литературой, весьма далёкой от религиозного духа; запоздалое милосердие
Божьего помазанника — царя; наконец, наказание декабристов уже новым монархом, которое могло показаться излишне суровым, — всё это, возможно, повлияло на взгляды и убеждения Боратынского, увеличило его сомнения.
Вообще, верил ли он в Бога?
Безусловно,
мысль, мучившая его, не всегда, а быть может, и часто не совпадала с традиционным православным мировоззрением, в котором его воспитывали с младенчества. Ни творчество, ни личная переписка не дают ответа на этот вопрос. Боратынский словно бы уклоняется от прямого и определённого ответа. Если он
верил, то не считал нужным заявлять об этом; — но и
безбожником он себя не проявил. Его истинные религиозные убеждения остались глубокой личной тайной.
Известно письмо П. А. Вяземского своей жене В. Ф. Вяземской от 19 декабря 1828 года по поводу стихотворения «Смерть» («О смерть! Твоё именованье…»), в ранней редакции которого была строфа: «Ты Фивских братьев примирила; / Ты, в неумеренной крови / Безумной Федры, погасила / Огонь мучительной любви»: «<…> Твоя критика на Боратынского слишком христианская, а в его стихах нет философии христианской: он на смерть смотрит совсем не христианскими глазами. И потому примеры, приведённые им, не должны казаться неуместными. Фивские братья и Федра тут представители двух идей, двух страстей: ненависти и любви исступлённой, примеры эти всем знакомы и, следовательно, более кстати, чем другие. Впрочем, чтобы потешить тебя, скажу, что Пушкин с тобою согласен. Я вчера говорил ему и Боратынскому о твоём замечании, мы были одного мнения, а он твоего <…>».
Если говорить об «Отрывке», то «философия христианская» в нём, безусловно, есть — хотя и постоянно колеблемая сомнением…
Очевидно одно, — и «Отрывок» свидетельствует про это, — поэт ждал настоящего разрешения своих сомнений — «за могильным рубежом», где
<…> оправдается Незримый
Пред нашим сердцем и умом.
«<…> говоря о вере Баратынского, следует проявлять осторожность, — считает Гейр Хетсо. — Его тоска по вере несомненна, но достиг ли он её когда-либо по-настоящему? Как поэт-мыслитель Баратынский испытал на себе правду, заключённую в словах Льва Толстого: „Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в Боге можно только верой. Тертуллиан сказал: „Мысль есть зло““».
В «Отрывке», по мнению исследователя, перед нами внутренний диалог, происходящий в душе поэта. И Гейр Хетсо приводит убедительное доказательство того, что не «религиозная» жена учила вере Боратынского, а сам он убеждал её в правде религии: «Об этом у нас имеется высказывание Настасьи Львовны, которая говорит о муже, что „он стремился к тому, чтобы я так же веровала, как он, и когда я его просила не затрагивать этого вопроса, он весело отвечал, что надеется рассеять моё неприязненное отношение и убедить меня в невозможности разлуки двух любящих существ“».
…Боратынский, конечно, не прекратил писать стихов и после своего диалога о вере и неверии: постижение
отчаяния не знает пределов. Об этом говорят его более поздние стихи…
Для понимания противоречий, гнетущих поэта, показательно одно стихотворение, написанное два года спустя, — светлое, чисто-звонкое, исполненное радости жизни, совершенное по звукописи…
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурею живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несёт
На торжествующем хребте
Поднятый ею лёд!
Ещё древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поёт
Заздравный гимн весне.
Что с нею, что с моей душой?
С ручьём она — ручей
И с птичкой — птичка! С ним журчит,
Летает в небе с ней!
Зачем так радует её
И солнце, и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она? <…>
Высшую земную радость испытывает поэт — и вдруг в последней строфе говорит, на чём основана эта радость:
Что ну́жды! счастлив, кто на нём
Забвенье мысли пьёт,
Кого далёко от неё
Он, дивный, унесёт!
(Весна 1832)
Счастье, по Боратынскому, — в
забвеньи мысли.
Но это счастье если и доступно, то ненадолго.
Вряд ли ему приходилось надолго забываться и на радостном
пире стихий…
О том, что творилось у него внутри, быть может, точнее всего говорит одно из самых последних его стихотворений, написанное за несколько месяцев до внезапной кончины и обращённое к жене, Настасье Львовне:
Когда, дитя и страсти, и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить его волненья,
В нём таинство печали полюбя.
Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою:
Рай зрела в нём чудесная любовь.
О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.
(Январь — февраль 1844)
Это стихотворение свидетельствует об автобиографичности «Отрывка» или «Сцены из поэмы „Вера и неверие“»…
Дикий ад мысли сопровождал поэта всегда.
Глава семнадцатая
МУЗА ЭПИКИ И ЛИРИКИ
После «Бала»
В октябре 1828 года Боратынский передал Дельвигу переписанную набело поэму «Бал», над которой он работал более трёх лет. Отрывки из поэмы уже выходили прежде; наконец она была закончена. 3 декабря Антон Дельвиг писал Александру Пушкину: «<…> желаю тебя поскорее увидеть и вместе с Баратынским, который, если согласится ехать в Петербург, найдёт меня в оном. <…> „Бал“ отпечатан, в пятницу будет продаваться <…>». Повод повидаться был: по воле издателя Дельвига Пушкин и Боратынский
встретились под одной книжной обложкой — «Бал» вышел с «Графом Нулиным» одним томиком, озаглавленным «Две повести в стихах».
Сравнительно небольшая, в шестьсот с лишним стихов, отточенная, писанная блестящим живым слогом, поэма «Бал», пожалуй, не только не уступала, но превосходила и «Эду», и «Пиры» силою изображения страстей и энергией действия. Несомненно, Боратынский достиг новой своей эпической высоты, при этом подарив русской поэзии небывалый в ней доселе
женский характер — княгини Нины, который по обаянию, богатству натуры и силе чувств не уступал лучшим
мужским образам. Красавица Нина, прототипом которой Боратынскому послужила графиня А. Ф. Закревская, всевластная покорительница сердец, пала сама жертвой страсти, обернувшейся глубокой любовью, и, не пережив измены, покончила с собой…
Достаточно перечитать несколько строф, чтобы убедиться, с какой великолепной пластикой нарисован психологический образ героини и как ярко блещет его слог:
<…> Злословье правду говорило.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит,
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлён ли слух людей
Молвой побед её бесстыдных
И соблазнительных связе́й?
Но как влекла к себе всесильно
Её живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбалися умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец чёрных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фея самовластной
Не уступила б из харит?
Как в близких сердцу разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой
Являлась новая Медея!
Какие слёзы из очей
Порой катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В неё томленье слёзы те;
Кто б не отёр их у печали,
Кто б не оставил красоте?
Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом её заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги её: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюблённых взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви <…>.
Высок и его драматический талант; характеры Арсения, князя, мамушки очерчены ярко и живо; сюжет стремителен; повествование вольно меняет интонацию, всякий раз естественную и правдивую. У каждого лица — своя особенная речь, точно и выразительно рисующая его норов и душу, — и тут хороша
мамушка — старушка няня, единственная, кому дорога Нина:
<…> Ты ль это, дитятко моё,
Такою позднею порою?..
И не смыкаешь очи сном,
Горюя Бог знает о чём!
Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да неумно;
Ну, право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!
<…> Ты позабыла Бога… да,
Не ходишь в церковь никогда;
Поверь, кто Господа оставит,
Того оставит и Господь;
А Он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть! <…>
Связующей тканью повести выступает речь самого рассказчика — то важная, то сердечная, то комическая, то насмешливая: поэт владеет всей полнотой и «светотенью» интонации, отчего его образы и картины дышат жизнью…
Таков и неожиданный финал поэмы, иронический и светски-небрежный, но этим самым лишь зримее показывающий разыгравшуюся трагедию:
<…> Богатый гроб несчастной Нины,
Священством пышным окружён,
Был в землю мирно опушён;
Свет не узнал её судьбины.
Князь без особого труда
Свой жребий вышней воле предал.
Поэт, который завсегда
По четвергам у них обедал,
Никак с желудочной тоски
Скропал на смерть её стишки.
Обильна слухами столица:
Молва какая-то была,
Что их законная страница
В журнале дамском приняла.
Пушкин прочёл поэму ещё до появления её в книге, по-видимому, получив рукопись от Дельвига. В начале декабря 1828 года Боратынский отвечает Дельвигу на его письмо (оно не сохранилось): «<…> Я получил письмо от Пушкина, в котором он мне говорит несколько слов о моём „Бале“. Ему, как тебе, не нравится речь мамушки. Не защищаю её; но желал бы знать, почему именно она не хороша, ибо, чтобы поправить её, надобно знать, чем грешит она. Ты мне хорошо растолковал комический эффект моей поэмы и утешил меня. Мне бы очень было досадно, ежели б в „Бале“ видели одну шутку, но таково должно быть непременно первое впечатление. Сочинения такого рода имеют свойство каламбуров: разница только в том, что в них играют чувствами, а не словами. Кто отгадал настоящее немерение автора, тому и книгу в руки <…>».
Наверное, тогда же Пушкин начал свой разбор поэмы, увы, не законченный впоследствии, но чрезвычайно интересный:
«<…> Последняя поэма Баратынского, напечатанная в Северных Цветах, подтверждает наше мнение. Сие блестящее произведение исполнено оригинальных красок и прелести необыкновенной. Поэт с удивительным искусством соединил в быстром рассказе тон шутливый и страстный, метафизику и поэзию. <…>.
Нина исключительно занимает нас. Характер её новый, развит con amore < с увлечением >, широко и с удивительным искусством, для него поэт наш создал совершенно своеобразный язык и выразил на нём все оттенки своей метафизики — для неё расточил он всю элегическую негу, всю прелесть своей поэзии.
Напрасно поэт берёт иногда строгий тон порицания, укоризны, напрасно он с принуждённой холодностью говорит о её смерти, сатирически описывает нам её похороны и шуткою кончает поэму свою — мы чувствуем, что он любит свою бедную, страстную героиню. — Он заставляет и нас принимать болезненное соучастие в судьбе падшего, но ещё очаровательного создания.
Арсений есть тот самый, кого должна была полюбить бедная Нина. — Он сильно овладел её воображением, и никогда вполне не удовлетворяя ни её страсти, ни любопытству — должен был до конца сохранить над нею роковое своё
влияние (ascedant)».
Уже 15 декабря петербургская «Северная пчела» объявила о выходе «Двух повестей в стихах», вкратце представив поэму «Бал» читателю: «<…> Строгие моралисты могут здесь найти следующий наставительный для нравственности урок: человек, привыкший гоняться за суетностью в вихре большого света, не подкрепляемый ни верою, ни правилами, считает всё своё благо в пустой мечте и в угождении своим прихотям; с потерею обольщающих его призраков он гибнет, не оставляя по себе ни сожаления, ни соучастия. Так вёл и заключил Поэт наш повесть Княгини <…>. — Многие черты местные и современные, описание бала, туалет княгини, похороны ея и пр. списаны верною мастерскою кистью поэта-наблюдателя. Стихосложение свободное и звучное; множество прекрасных западающих в память стихов, движение и живость рассказа и счастливая способность поэта рисовать воображению читателя, часто одним словом, предмет в настоящем и полном его виде. Вот в чём должны согласиться самые строгие критики, прочитав сие новое произведение Баратынского».
Однако «самые строгие критики» оценили совсем другое — и по-своему. Первым делом они, кто косвенно, кто прямо, обрушились на «безнравственность» произведения.
Новый московский журнал «Атеней» напечатал рецензию М. А. Дмитриева, который вообще усомнился, что в такой героине, как княгиня Нина, можно отыскать предмет для поэзии. Критик никак не мог представить, что женщина, «утратившая невозвратно стыд и добродетель», способна влюбиться «всею силою души»: «<…> а ещё менее почтём сбыточным, чтобы подобная Лаиса отравилась от потери какого-нибудь Арсения, — заключил рецензент. — Таково, однако ж, содержание в стихотворении „Бал“ <…>. Без шуток, надобно иметь отличный талант Баратынского, чтоб из подобных невероятностей сделать что-нибудь годное для чтения <…>».
Вскоре на книгу «Две повести в стихах» набросился с каким-то неуёмным остервенением журнал «Вестник Европы» в лице Н. И. Надеждина, ну и, разумеется, редактора журнала М. Т. Каченовского, давнего недоброжелателя Пушкина и его друзей-поэтов. Критик, пытающийся быть поязвительнее, пишет каким-то петлистым слогом бывшего семинариста, который поступил на службу в канцелярию и сделался законченным
крючком:
«<…> С первого взгляда на сие chef-d’œuvre галантерейной нашей литературы, нельзя не полюбоваться дружеским союзом, заключённым так кстати между
Балом и
Графом Нулиным <…>. Вероятно, этот союз происходит от того, что
Граф Нулин, как человек светский, никак не может обойтись без
Бала <…>. После того, как самозаконные гении, закусив узду правил, пустилися
со всех четырёх ног, на славу, не взвидя света, ни дорог, смешно и совестно было бы измерять циркулем и подводить под мафематические формулы бурный бег их. Произведения подобных гениев всегда бывают
из рода вон. И ни один ещё Кювье не составил доселе полной систематической классификации для всех
выродков, которых произведением иногда бывает угодно забавляться Природе. — Равномерно, мы сделали бы ужасный литературный анахронизм, вздумав искать в разбираемых нами повестях
идеи, которая составляла бы их есфетическую <эстетическую> душу <…>. Это значило бы искать
порожнего места <…>. Начнём с „Бала“!.. Да не подумает кто, будто бы в етой повести хотят нам точить балы! Содержание ея есть самое трагическое: и мы, не був Мустын-Еддынами, можем предсказать смело, что сия небольшая поемка не умедлит одушевить вдохновением наших Шакспиров и Калдеронов. Ея Сиятельство, Княгиня Нина, покинутая неким Арсением ради некоей Олиньки, отравляется: какой богатый сюжет для антиклассической Мельпомены!.. Хотите ли ознакомиться покороче с характерами лиц, разыгрывающих сию высокопатетическую драму?.. Огненный резец поэта обозначил их яркими чертами. Княгиня Нина есть олицетворённый идеал беспредельной ненасытимости в наслаждениях, прорывающий тесные рамы стыда и добродетели, идеал, до которого не досягали Лаисы и Ниноны <…>. — Рядом с Ниною на пьедестальчике нашей повести стоит некто Арсений, силует, коего физиономия теряется во мраке мистической неопределенности. Это — как будто кто-то из фамилии Онегиных <…>. — Поэт поскупился красками для изображения других лиц <…>. — Займёмся же теперь музыкальною стороною „Бала“! Не берёмся отыскивать, в каком тоне поэтической гаммы аранжирована сия поэма: за нею не угоняешься: она переливается фугою по всем тонам, диезам и бемолям. Таково свойство гениальных произведений. Можно только заметить, что певец „Бала“ любит искусственные диссонансы. По праву гениального деспотизма он дразнит и тиранит угрюмый вкус нарочно (кажется) произведённою дисгармониею».
Заключая рецензию, Надеждин уже оставляет свои канцелярские вычуры, а попросту бранит поэмы Боратынского и Пушкина: «Это суть прыщики на лице вдовствующей нашей литературы! Они и красны, и пухлы, и зрелы». — Очевидно, что для молодого возрастом критика последнее сравнение подсказано самой жизнью…
Не замедлил присоединиться к этому критическому
лаю и «Дамский журнал», — рецензию, скорее всего, написал его издатель и редактор князь Шаликов, давний враг Боратынского, — по-видимому, чувствительно задетый последней строфой «Бала», где говорится о неком авторе, скропавшем стишки на смерть Нины:
«<…> с каким же намерением и для какой цели
вымышлен характер, самый безнравственный, самый бесстыдный, под именем
Княгини <…>. И неужели такая прелестница, как Нина, в
первый раз
позднею порою возвратилась домой? и, подобно
Наталье, боярской дочери <героине Карамзина>, позволит разболтаться
мамушке, вздумавшей читать ей проповедь? Тайна в том, что уже нельзя обойтись без
няни, когда есть няня у
Тани <Татьяна Ларина из „Евгения Онегина“>. Но какая разница в правдоподобии! <…> „Поэт, который завсегда / По четвергам у них обедал“, этот поэт гораздо чувствительнее нашего автора, скропавши, без сомнения, с сердечной, а не с
желудочной тоски „На смерть её (?) стишки“. На смерть, вероятно, не тоски, а Княгини, которая, вероятно, ласкала поэта, следственно, он исполнил долг благодарности <…>, но по какой желудочной причине автор, начавши описывать бал, вдруг забывает о нём и поёт на 40 страницах соблазнительную историю женщины,
каких мало; которая, не имевши во всю жизнь ни одного морального чувства, предпочитает собственную смерть отмщению сопернице; которая столь неожиданно превращается в новую
Лукрецию; которая наконец скорее могла бы заставить
поэта написать стишки на ужасный конец жизни своей, нежели
повесть в стихах о бесчестном своём существовании? <…>»
Пушкинский отзыв о поэме «Бал» лежал в черновиках, недоступный читателю, — а эти косноязычные рецензии выскочили на публику, как чёрт из табакерки. Эпоха Николая I была строгой и подозрительной — и обвинения того или иного произведения в
безнравственности больше походили на печатные доносы, нежели на критические замечания, — впрочем, этим и отличались журналы Каченовского и Булгарина.
Мелкотравчатому Шаликову Боратынский не счёл нужным отвечать, а вот Каченовскому вскоре посвятил ядовитую эпиграмму:
Хвала, маститый наш Зоил!
Когда-то Дмитриев бесил
Тебя счастливыми стихами,
Бесил Жуковский вслед за ним,
Вот Пушкин бесит. Как любим.
Как отличён ты небесами!
Три поколения певцов
Тебя красой своих венцов
В негодованье приводили.
Пекись о здравии своём,
Чтобы, подобно этим трём,
Другие три тебя бесили.
Разумеется, были и другие отзывы о поэме «Бал».
Н. Полевой в «Московском телеграфе», сравнив новую поэму Боратынского с «Эдой», пришёл к выводу, что поэт значительно
шагнул вперёд. Стихотворение «Последняя смерть» и поэма «Бал» — «<…> суть творения, показывающие талант Баратынского, в полной силе, совершенной оригинальности и зрелости. — Бешенство страстей, которые тревожат от времени до времени стоячие воды тихого и огромного озера, называемого „большим светом“, дало поэту нашему основание его творения, а пестрота подробностей, однообразие главных форм, противоречие светской жизни с природою дали ему краски блестящие, поразительные. <…> — Характеры, положения лиц, мелкая живопись предметов превосходны. Огонь поэзии освещает тёмную лампу светской жизни и ярко отражает изображения на оной <…>».
Альманах «Галатея» напечатал реплику на рецензию в «Атенее», назвав её
неосновательной, мелочной и пристрастной. «<…> Большая часть читателей прочитала её с негодованием, другие сердечно пожалели о рецензенте <…>».
Возразил «Атенею» и журнал «Сын Отечества и Северный архив»: «Русские журналы уже сказали своё мнение о сих двух повестях, особливо о первой <о „Бале“>. Все они отдали справедливость изобретению и поэтическому достоинству повести г. Баратынского, но „Атеней“, кажется, решительно объявил себя противником всего, что написано не в правилах школы аристотелевой и г. Критика Атенейского. Он говорит, что „в женщине, утратившей добродетель и всею силою души влюблённой, едва ли найдётся дело для поэзии“. Мысль совершенно ложная! Не спорим, что есть самозваные поэты, в которых ни добродетели, ни пороки не расшевелят поэзии, но талант истинный, каков талант г. Баратынского, умеет найти и находит поэзию там, где для близоруких его критиков она остаётся невидимкою. <…> Поэма „Бал“, в которой г. Критик Атенейский находит одно только истинно пиитеское место (приход мамушки в спальню Княгини), заключает в себе, по единодушному мнению других критиков, многие свежие красоты поэзии, как в новости положений, так и в способе выражения. Характер Нины есть прекрасное создание поэта. <…> — характеры в небольшой сей поэме начертаны мастерскою кистью, описания живы, подробности занимательны, стихи прелестны и многие из них сами собою остаются в памяти».
Боратынский, конечно же, лучше записных журнальных моралистов знал, что его княгиня Нина отнюдь не образец для поведения жён и барышень на выданье. Недаром он, принося в дар книгу со своим «Балом» семнадцатилетней свояченице Сонечке Энгельгардт, к которой горячо привязался после женитьбы на её сестре, сопроводил посылку изящным стихотворением:
Тебе ль, невинной и спокойной,
Я приношу в нескромный дар
Рассказ, где страсти недостойной
Изображён преступный жар?
И безобразный, и мятежный,
Он не пленит твоей мечты;
Но что? на память дружбы нежной
Его, быть может, примешь ты.
Жилец семейственного круга,
Так в дар приемлет домосед
От путешественника-друга
Пустыни дальной дикий цвет.
Придирчивые критики «Бала» напрасно торжествовали, «уличив» поэта в подражании Пушкину. Арсений лишь отдалённо напоминает Онегина, а мамушка вовсе не походит на няню Татьяны Лариной. Боратынский сознательно пошёл на это,
внешнее, сходство с пушкинскими образами, чтобы отчётливее показать
своё, собственное — новый характер, который он открыл в литературе образом мятущейся Нины. Критик Л. Андреевская в своей работе «Поэмы Баратынского» точно определила суть этой художнической новизны:
«„Картины светской жизни также входят в область поэзии“, — писал Пушкин Рылееву на его упрёк по поводу светской жизни, данной им в
Евгении Онегине. — И не это было смелой новизной Баратынского. Смелым и новым было то, что на этот раз он вовсе не обходит Пушкина и Байрона, а идёт откровенно на то и другое, не обходя, а преодолевая… Демоническим он делает не героя, а героиню <…>.
В критике было обращено особое внимание на создание этого образа. Даже придирчивый Белинский, и тот им остался доволен. Ещё находились под живым впечатлением
Дон-Жуана Байрона, а Баратынский не побоялся переключить его:
На грудь роскошную она
Звала счастливца молодого;
Он пересоздан был на миг
Её живым воображеньем;
Ей своенравный зрелся лик,
Она ласкала с упоеньем
Одно видение своё —
И гасла вдруг мечта её…»
Эда была жертвой смиренной любви — Нина стала жертвой любви страстной.
Эти два женских типа больше всего занимали воображение Боратынского — и поэта, и человека.
«Эда», несомненно, продолжилась «Балом»: одна героиня вступила в заочный разговор с другой. Поэту надобно было созерцать свою воображаемую картину вполне…
Что касается
мамушки, то первым догадался о замысле Боратынского П. Плетнёв: «Кто из любителей русской поэзии не помнит наизусть разговоры Татьяны Пушкина с её няней? Это верх грации и простоты. И что же? Баратынский не усомнился в своей поэме „Бал“ обработать подобную сцену. В ней и тени нет подражанья…»
Л. Андреевская замечает по этому поводу: «Нет подражанья, потому что вся сцена перенесена в иную плоскость, потому что именно этой сценой и завершается драма героини. Баратынскому нужно было подвести к эффекту самоубийства, обставив его психологически, а не бутафорски. Молитва няни и её шёпотливый разговор с княгиней тем и разительны, что княгиня уже ничего не слышит и ни на что не отзывается:
„…Ты знаешь, мало ли о чём
Мелю я старым языком;
Прости, дай руку мне“. Вздыхая,
К руке княгининой она
Устами ветхими прильнула —
Рука ледяно холодна…»
Дидактика, приписанная поэме «Северной пчелой», также нисколько не занимает Боратынского: его как художника волнует лишь одно: вполне ли нарисован образ княгини Нины.
Реальная
Аграфена Фёдоровна Закревская, «беззаконная комета в кругу расчисленном светил», дожила до глубокой старости, пережив и Пушкина (который некогда молил её: «<…> Но прекрати свои рассказы, / Таи, таи свои мечты: / Боюсь их пламенной заразы, / Боюсь узнать, что знала ты»), и Боратынского, —
княгиня же Нина умерла молодой.
Судьба Закревской — правда жизни; судьба Нины — правда искусства.
Притча о переселении душ
Поэму-сказку «Переселение душ» Евгений Боратынский сочинил в 1828 году. Видно, подустал от «Бала», от бесконечной доработки и отделки поэмы — и решил создать нечто лёгкое, игривое, воздушное, словом, причудливую шутку воображения, где бы важная мысль была запрятана, как драгоценный камень в изукрашенный ларец.
Осенью этого года князь П. А. Вяземский сообщил А. И. Тургеневу в Париж, что скоро в альманахе «Северные цветы» появится «прекрасно рассказанная сказка Боратынского». По тону письма видно, что Вяземский — в самом добром расположении духа: он хвалит Боратынского за чувства и за ум, тонкий, глубокий и самобытный, — и тут же, словно бы в доказательство, приводит их недавний разговор о московском митрополите Филарете, к которому Боратынского «возит его тесть Энгельгардт»: «Он говорит, что ему Филарет и вообще наши монахи сановные напоминают всегда что-то женское: ряса как юпка и в обращении какое-то кокетство, игра затверженной роли, и прочее. Мне кажется это замечание удивительно верно <…>».
По сути поэма «Переселение душ» — сказочная притча, и, как всякая притча, она поучительна.
Шутливая преамбула ненароком предупреждает, как не просто стало в размножившейся
семье людской найти себе достойную пару:
<…> Куда пойду? Мечтаешь с горем,
На хладный север, знойный юг?
За Белым иль за Чёрным морем
Блуждаешь ты, желанный друг?
Не всё. Задача есть другая.
Шатаясь по свету, порой
Столкнёшься с родственной душой
И рад; но вот беда какая:
Душа родная — нос чужой
И посторонний подбородок!.. <…>
Гоголевской «Женитьбы» ещё нет и в помине, а комическая завязка его пьесы
вся налицо в двух последних стихах…
Однако продолжим вступление:
Враждуют чувства меж собой;
Признаться, способ мировой
Находкой был бы из находок!
Но он потерян между нас,
О нём живёт один рассказ. <…>
Этот
способ — отыскать родную душу, которая дороже всего на свете.
Египетская краса-царевна Зораида отвергла всех женихов и все блага земные — и поменялась душой с простой пастушкой, в которую влюблён молодой певец, лишь бы только быть с ним рядом,
жить душа в душу, — а его, родную себе душу она сразу же угадала, когда он во дворце запел о любви. С пастушкой Ниэтой, «дурочкой степной», царевне было нетрудно договориться, — и вот её душа вошла в пастушку и навсегда покинула дворец, а душа пастушки оказалась в теле царевны, оставшейся в роскошных покоях. И чудесное преображение: от прекрасной Зораиды «осталась тень одна», а лицо пастушки молодой заблистало вдруг «дивной красотой»:
С главой поникшею Ниэта,
С невольным пламенем лица
Тихонько вышла из дворца,
И о судьбе её до света
Не доходил уж слух потом.
Так что ж? О счастии прямом
Поведать людям неудобно;
Мы знаем, свойственно ему
Любить хранительную тьму,
И драгоценное подобно
В том драгоценному всему.
Где искромётные рубины,
Где перлы светлые нашли?
В глубоких пропастях земли,
На тёмном дне морской пучины.
А что с царевною моей?
Она с плотнейшим из князей
Великолепно обвенчалась.
Он с нею ладно жил, хотя
В иное время не шутя
Его супруга завиралась,
И даже подсердитый час
Она, возвыся бойкий глас,
Совсем ругательски ругалась.
Он не роптал на то ничуть,
Любил житьё-бытьё простое
И сам, где надо завернуть,
Не забывал словцо лихое.
По-своему до поздних дней
Душою в душу жил он с ней. <…>
И там и тут нашедшие себя пары прожили —
душа в душу… Сказка на этом заканчивается, а
притчу заключает лирический монолог автора, обращённый к той, в ком он обрёл родственную ему душу:
Что я прибавлю, друг мой нежный?
Жизнь непогодою мятежной,
Ты знаешь, встретила меня;
За бедством бедство подымалось;
Век над главой моей, казалось,
Не взыдет радостного дня.
Порой смирял я песнопеньем
Порыв болезненных страстей,
Но мне тяжёлым вдохновеньем
Была печаль души моей.
Явилась ты, мой друг бесценный,
И прояснилась жизнь моя:
Весёлой музой вдохновенный,
Весёлый вздор болтаю я.
Прими мой труд непринужденный!
Счастливым светом озаренный
Души, свободной от забот,
Он — твой достаток справедливый,
Он первый плод мечты игривой,
Он новой жизни первый плод.
«Переселение душ» действительно, быть может, самое
непринужденное сочинение Боратынского — простое и светлое, написанное словно бы на одном дыхании.
Эта сказка-притча — по излучению счастливого внутреннего света, — наверное, и есть то самое чаемое Боратынским
забвенье мысли, которое вдруг подарила ему на миг судьба. Впрочем, в творчестве поэта это произведение не стало, да и не могло стать заметным явлением…
Альманах «Галатея» отметил сказку как «одно из примечательнейших стихотворений» в «Северных цветах»
на 1828 год: «<…> Достоинство его заключается не столько в содержании, сколько в пленительной поэтической форме рассказа, которая, впрочем, есть отличительное, главное преимущество сказки. Описание пирамид и великолепия пира свадебного прекрасно; но самое описание превращения нам не совсем показалось ясно. Заметили мы также два, три стиха, противоречащих благородному, хотя шутливому тону рассказа <…>».
Отстаивая самобытность
Так,
душа в душу, и жил Евгений Боратынский со своей молодой женой Настенькой. Суете света и развлечению души от её верных дум он предпочёл
хранительную тьму семейного очага: по зимам и полусезонью московский дом, а летом — подмосковную усадьбу Мураново, светло-зелёную, покойную, уютную, где плавные всхолмия отражались в тихих водах пруда, где цвела сирень и благоухали старые липы, и пахло разогретой на солнце сосновой смолой.
Счастливый свет души, свободной от забот!..
Достоверных бытовых сведений об этой поре жизни Боратынского очень мало, как мало было и событий. Маменька с сёстрами жили далеко, в тамбовской Маре; братья служили в столице. Письмами почти не обменивались, да и особенно не о чём было писать. Старинные друзья, те бывали в Москве время от времени, и тогда всё празднично оживало…
В начале 1828 года в Москву по пути в Харьков заехал Антон Дельвиг с женой Софьей Михайловной. Боратынский и Вяземский взялись познакомить его с писателями.
Видно, пирушка была славной, коль скоро Дельвиг потом
доносил Его поэтическому превосходительству Пушкину, как в первопрестольном граде почтенные братья князь Пётр и Евгений представили его
низшей братии московской: «<…> Видел я поющих, вопиющих, взывающих и глаголющих. Шевырёв пел, вопиял, взывал, но не глаголил; гнев противу „Северной пчелы“ носил его на крилиях ветра, но не касался до земли, разве изредка носками сапожными. Раич благоухал анисовою водкою и походил на отпущенника или на домового пииту. Хвалился милостию вашею и проч. Благослови, святой Александр, брата младшего твоего <…>».
По-видимому, был Боратынский и на дружеском ужине, который вскоре дал Соболевский в честь Дельвига и где собрались Погодин, Полевой, Мицкевич и другие литераторы.
Лето Боратынские провели в поместье Мураново; к обычным домашним хлопотам добавились новые, связанные с появлением на свет второй дочки, Катеньки.
А осенью в Москве снова появился Дельвиг, возвращающийся в Петербург. Друзья собрались своим кругом у Николая Полевого за обсуждением «текущей словесности», о чём позже князь Вяземский весело сообщал Пушкину: «<…> Тут был цензор Глинка, который уморителен и стоит Снегирёва, отказывается от Минина, Пожарского и Гермогена и говорит: „Чёрт знает, за что наклепали на меня какую-то любовь к отечеству: чёрт бы её взял!“ и тому подобное. Он нас смешил чрезвычайно <…>». — Шампанское и николаевская патриотическая риторика одолела даже и цензуру!..
Пуще того веселились на дне рождения Зинаиды Волконской — «в понедельник 3-го декабря 1828 года»: Вяземский, Боратынский, Шевырёв, Павлов и Киреевский сочинили вместе
куплеты, где каждая строфа непременно оканчивалась упоминанием о дате появления княгини на свет божий:
<…> Вокруг эфирной колыбели,
Где гость таинственный лежал,
Невидимые хоры пели,
Незримый дым благоухал.
Зимой весеннее светило
Взошло, безоблачно горя.
Когда же чудо это было?
То было третье декабря. <…>
Звездой полуденной и знойной,
Слетевшей с Тассовых небес,
Даны ей звуки песни стройной,
Дар гармонических чудес;
Явленье это не входило
В неверный план календаря,
Но знаем мы, что это было
Оно на третье декабря. <…>
Такая власть в её владенье,
Какая Богу не дана:
Нам сотворила воскресенье
Из понедельника она
И в праздник будни обратило
Веселье, круг наш озаря;
Да будет вечно так, как было,
Днём чуда третье декабря!
А днями позже в Москву приехал Александр Пушкин — и Боратынский, конечно, чуть ли не каждый день видится с ним. Однажды, перед отъездом Пушкина в Старицу, они собрались на завтрак, и Пушкин черкнул записку Вяземскому: «Баратынский у меня — я еду часа через 3. Обеда не дождусь, а будет у нас завтрак в роде en petit courage <игра слов: в виде поощрения и — немного навеселе>. Постараемся напиться не en grand cordonnier, как сапожники — а так, чтоб быть en petit courage, под куражём. Приезжай, мой ангел».
В январе 1829 года Вяземский писал Пушкину: «<…> А мы, то есть я и Баратынский, танцовали в Москве с Олениною, и кажется, у них были элегические выходки <…>». Стало быть, в свет Боратынский изредка, но выезжал…
В марте Пушкин вновь приехал в Москву и пробыл там до мая. Вяземского с ними не было, тот находился в Петербурге. Боратынский писал ему в начале апреля: «<…> Вы не можете себе представить, как Москва для меня без вас опустела! При вас я видался со многими людьми, с которыми теперь не вижусь, потому что уже не надеюсь встретить вас между ними. Вы были лентою, которая связывала пук, а без вас он распался. Пушкин здесь, и я ему отдал ваш поклон. Он дожидается весны, чтобы ехать в Грузию. Я с ним часто вижусь, но вы нам очень недостаёте. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух мафематических линий. Необходима третья, чтобы составить какую-то фигуру, и вы были ею <…>».
Тогда же Пушкин и Боратынский посетили концерт виолончелиста Бернара Ромбера в Благородном собрании. Многочисленная публика с жадным любопытством разглядывала двух поэтов; толпа расступалась перед ними…
В начале мая друзья расстались: Пушкин уехал в Грузию, а Боратынский, дав прощальный обед у Яра приятелям, отправился с семьёй в Мураново.
Но всё это, хоть и не слишком примечательные, — вехи
внешней жизни.
Внутри же идёт у Боратынского совсем другая жизнь, незримая и постоянная: работа творческого духа, понять которую если и возможно, то лишь по новым, появляющимся порой стихам да по откровенным строчкам в письмах…
Поэма «Бал», начатая несколько лет назад, когда его сердцем ещё полновластно владела
жрица давняя любви, в жажде наслаждений удержу никакого не ведающая, была окончена. Поэма эта наконец
разрешила обаяние его прежней холостяцкой жизни, и он стал свободен для жизни иной, семейной. С высоты преодоления вольной молодости, в крепости обновления духа Боратынский видел себя уже
стариком — и с некою печалью в шутливом тоне оглядывал прошлое:
Венчали розы, розы Леля,
Мой первый век, мой век младой:
Я был счастливый пустомеля
И девам нравился порой.
Я помню ласки их живые,
Лобзанья, полные огня…
Но пролетели дня младые,
Они не смотрят на меня!
Как быть? У яркого камина,
В укромной хижине моей,
Накрою стол, поставлю вина
И соберу моих друзей.
Пускай венок, сплетённый Лелем,
Не обновится никогда:
Года, увенчанные хмелем,
Ещё прекрасные года.
Это написано, по-видимому, осенью 1828 года…
Можно согласиться с Л. Андреевской и посчитать вместе с ней, что в поэме «Бал» Боратынский с непринуждённостью
преодолел Пушкина с Байроном, взяв у них то, что ему годилось, и преобразовав это в совершенно иное — по духу в
своё, собственное. Однако, если вспомнить, что
мамушка была у всякой светской барышни, а
демонический характер выдумал отнюдь не Байрон, а создала как модное явление тогдашняя эпоха, то ясно представляешь, что всё это вполне можно было позаимствовать у самой жизни.
Боратынский, разумеется, прекрасно понимал, что читатель скоропалительный в первую очередь увидит то, что лежит на поверхности и без раздумия припишет ему подражательство. Но не это по-настоящему заботило его, когда он
преодолевал Пушкина с Байроном в эпическом жанре. Самобытность поэта, неповторимое своеобразие в творчестве — вот что занимало поэта всерьёз, когда он почувствовал, что его
первый век, век младой, безвозвратно отжит. Недаром именно этой теме он посвятил, в переходное для себя время, сразу несколько стихотворений.
Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униже́нный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!
Стихотворение вроде бы обращено к Адаму Мицкевичу, у которого в начале 1828 года вышла весьма байроническая поэма «Конрад Валленрод», — но, конечно же, касается каждого поэта. Одновременно это и остережение самого себя от чрезмерного увлечения
кумирами, призыв к трезвой самокритичности, к взыскательнейшей точности самовыражения.
По мысли Боратынского, только самобытность в искусстве достойна памяти последующих поколений, а может быть, и вечности. С достоинством и простотой — нагой мыслью и обычным слогом — это высказано в другом тогдашнем стихотворении:
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах. Как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И, как нашёл я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.
(1828)
В этом восьмистишии одно лишь слово выдаёт глубокую важность признания:
Старинный церковнославянский оборот, словно удар в могучий древний колокол, заставляет по-иному звучать стихи: они будто бы наполняются гулом времён. Будничная речь вдруг обнаруживает в себе скрытое торжественное волнение — и звучит уже как заветная клятва об утверждении себя в вечности.
Чуть позже, в 1829 году, Боратынский вновь возвращается к этой теме — и выражает её в точной поэтической формуле, слегка прикрыв чеканный очерк определения тончайшей накидкой провидческой иронии:
Не ослеплён я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюблённою толпой не побегут.
Приманивать изысканным узором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражён бывает мельком свет
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной простотой;
И он скорей, чем едким осужденьем,
Её почтит небрежной похвалой.
И, наконец, своё высшее воплощение в его лирике эта тема нашла в стихотворении «Подражателям» (первоначальное название), написанном, как установили исследователи, до двадцатых чисел ноября 1829 года, а затем доработанном в 1832–1833 годах. Тут уже поэт не говорит —
глаголет: стих пылает огнём и пышет гневом той силы, которой отличалась речь древних пророков:
Когда, печалью вдохновенный,
Певец печаль свою поёт,
Скажите: отзыв умиленный
В каком он сердце не найдёт?
Кто, вековых проклятий жаден,
Дерзнёт осмеивать её?
Но для притворства всякий хладен.
Плач подражательный досаден,
Смешно жеманное вытьё!
Не напряжённого мечтанья
Огнём услужливым согрет,
Постигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.
В борьбе с тяжёлою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил.
И вот нетленными лучами
Лик песнопевца окружён
И чтим земными племенами,
Подобно мученику, он.
А ваша муза площадная,
Тоской заёмною мечтая
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращённой,
Молящей лепты незаконной
С чужим ребёнком на руках.
Это была пора его поэтического возмужания.
Вся мишура словес пала пред
речей спокойной простотой;
пестрота личин — следов былых увлечённостей
кумирами — уступила законное место
лица необщему выраженью.
Что́ надменный ум пред мудростью народа?..
Что́ молодое море литературы пред могучим океаном фольклора?..
Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймёт надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? точный смысл народной поговорки.
В одном из автографов последняя строка написана Боратынским несколько иначе:
<…> Что?
старый смысл народной поговорки.
Народу всё уже было известно — и давно…
Душе песнопевца потребно высокое уединение, чтобы понять себя, уловить в тонких промельках нахлынувших видимостей, в ещё несуществующих возможностях тот единственный образ, который воплотится в слове.
Об этом — и тоже в эти же годы и в том же возрасте — писал Пушкин в знаменитом стихотворении «Поэт»:
<…> Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…
У Пушкина — пророческий пламень!..
Пушкин — ещё одинок, и в поисках
подруги…
Боратынский — подругу нашёл и счастлив с нею. Может быть, поэтому у Боратынского это состояние души, предшествующее творчеству, выражено совершенно иначе —
эскизно: с мягкой мечтательностью и лёгкой грустью:
Чудный град порой сольётся
Из летучих облаков,
Но лишь ветр его коснётся,
Он исчезнет без следов.
Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.
(1829)
Оба поэта изнутри горели одним огнём — вечным желанием выразить невыразимое, воплотить невоплощённое…
Глава восемнадцатая
МЕЖДУ МОСКВОЙ И ТАМБОВОМ
По вдохновению сердца
С московскими
любомудрами Евгений Боратынский познакомился в 1826 году. Отношения как-то сразу не заладились из-за различных взглядов на мир и общество, да и на творчество. Лишь В. Ф. Одоевский и И. В. Киреевский сочувственно отнеслись к стихам Боратынского, другие отзывались о них с иронией и холодком и сторонились поэта. Характерные записи оставил в своём дневнике М. П. Погодин; судя по ним, он «затруднялся» говорить с Боратынским: «<…> не лежит к нему сердце». Впоследствии Погодин признался и в другом — что он опасался даже показываться рядом с Пушкиным и Боратынским, людьми
подозрительными для правительства. В свою очередь Боратынский скептически оценивал довольно многое из сочинений любомудров; так, о трагедии Погодина «Марфа Посадница» он сказал, что теоретические познания ещё никак не заменяют таланта.
Всё же с одним из любомудров поэт позже по-дружески сошёлся. Это был Иван Васильевич Киреевский. «<…> В силу своего необыкновенно логического, твёрдого ума Киреевский был родствен по духу Баратынскому <…>», — заметил по этому поводу биограф поэта Гейр Хетсо.
Иван Киреевский был шестью годами моложе Боратынского. Он происходил из старинного дворянского рода Калужской губернии, вырос в честной, умной, богобоязненной семье, уважающей, впрочем, и светские знания. Отец, Василий Иванович, владел пятью языками, был широко образован — и терпеть не мог кощунства: скупал сочинения Вольтера и предавал огню. Он отличался исключительной добротой, его крепостные жили в любви и достатке, а провинности искупали — земными поклонами. Однажды продавали соседнюю деревню другому барину: мужики кинулись в ноги Василию Ивановичу с просьбой купить их. Но денег у него не хватало, и тогда крестьяне собрали свои сбережения, лишь бы только у них был «добрый барин». В Отечественную войну 1812 года Василий Иванович создал на свои средства лечебницу для раненых пленных французов, пытался обратить их в истинную веру, но заразился тифом и умер. Мать, Авдотья Петровна, племянница Жуковского, оставшись молодой вдовой с тремя детьми, вышла замуж за Алексея Андреевича Елагина, бывшего боевого офицера, человека просвещённого и хорошо знакомого с немецкой философией. В Москве Авдотья Петровна стала хозяйкой одного из самых блестящих литературных салонов, что принимал гостей в её доме у Красных ворот.
Иван Киреевский сызмалу отличался необыкновенной даровитостью, к десяти годам был хорошо начитан в русской и французской литературе. В двенадцать лет он в совершенстве овладел немецким языком, после изучил греческий и латинский. Отчим беседовал с ним о немецкой философии; в Московском университете Киреевский слушал лекции профессора М. Г. Павлова, ученика Шеллинга.
Киреевский унаследовал лучшие качества своих родителей; впоследствии его друг и единомышленник Алексей Хомяков дал ему самую исчерпывающую и замечательную характеристику: «<…> Сердце, исполненное нежности и любви, ум, обогащённый всем просвещением современной нам эпохи; прозрачная чистота кроткой и беззлобной души; какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору; горячее стремление к истине, необычайная тонкость диалектики в споре, сопряжённая с самою добросовестною уступчивостью, когда противник был прав, и с какою-то нежною пощадою, когда слабость противника была явною; тихая весёлость, всегда готовая на безобидную шутку, врождённое отвращение от всего грубого и оскорбительного в жизни, <в> выражении мысли или в отношениях к другим людям; верность и преданность в дружбе, готовность всегда прощать врагам и мириться с ними искренно; глубокая ненависть к пороку и крайнее снисхождение в суде о порочных людях; наконец, безукоризненное благородство, не только не допускавшее ни пятна, ни подозрения на себя, но искренно страдавшее от всякого неблагородства, замеченного в других людях, — таковы были редкие и неоценённые качества, по которым Иван Васильевич Киреевский был любезен всем, сколько-нибудь знавшим его, и бесконечно дорог своим друзьям <…>».
Однако прошло два года, прежде чем Боратынский и Киреевский сблизились по-настоящему. В конце января 1829 года И. Киреевский писал С. Соболевскому: «<…> С Барат<ынским> мы сошлись до
ты. Чем больше его знаешь, тем больше он выигрывает <…>». Это высказывание чуть ли не дословно повторяет мнение Вяземского о поэте, высказанное месяцем раньше в письме А. И. Тургеневу. Очевидно, даже родственным по духу людям ум, сердце и характер Боратынского открывались не сразу, не вдруг, а постепенно. Поэт явно не держал душу нараспашку и, разумеется, никак не выставлялся лучшими своими качествами. Вряд ли он изучал,
что за люди его новые знакомые, но, по-видимому, сближаться с тем или иным человеком не торопился. Скорее, всё происходило своим чередом, само собою: по естественному ходу событий,
как Бог на душу положит. А со стороны такая сдержанность вполне могла показаться равнодушием или же холодностью…
Характерным примером сказанного может послужить небольшая история с любомудром Н. М. Рожалиным.
Весной 1829 года Рожалин писал из Дрездена в Москву А. А. Елагину: «<…> у вас теперь Пушкин, Баратынский и Вяземский <…>. Вы пишете, что они все любят и меня, особенно Баратынский. Позвольте вам отвечать на это одно, что я очень знаю, как они меня любят, особенно Баратынский. Знаю, что ежели он иногда поминает обо мне, то из лести вам, и потому не оскорбитесь, ежели я прошу вас никогда не поминать обо мне при нём; я имею на это причины и, будучи совершенно доволен одной вашею дружбою, не хочу, чтобы она отзывалась в таких людях, как Баратынский».
Но уже через полгода обиженный непонятно на что любомудр в корне изменил своё мнение, причём даже не выезжая из Дрездена. Он обратился с письмом к А. П. Елагиной, где, в частности, заметил: «<…> Вы полюбили Баратынского? Это значит, что он стоит любви и что я худо знал его. Часто я сужу о людях слишком поспешно; особенно бываю опрометчив в своих антипатиях. Так случилось и насчёт Баратынского <…>».
Сам поэт, возможно, и не знал про всё это…
Так или иначе Москва всё теснее сводила его с молодыми писателями и мыслителями из «Общества любомудров». Дельвиг был далеко и приезжал в Первопрестольную редко; Пушкин бывал тут короткими наездами; Вяземский подолгу жил в Петербурге; с кем ещё мог Боратынский приятельствовать и вести беседы в Москве, как не с любомудрами?..
Киреевскому поэт
предался «с полною дружбой», как сам выразился в письме его матери, А. П. Елагиной. Это особенно заметно по одному из писем молодому философу (осень 1829 года): «<…> я рад, что нахожу тебя таким, каков ты есть, рад, что моё чутьё меня в тебе не обмануло, рад ещё одному — что ты, с твоею чувствительностью пылкою и разнообразною, полюбил меня, а не другого. Я нахожу довольно теплоты в моём сердце, чтоб никогда не охладить твоего, чтобы делить все мечты и отвечать душевным словом на душевное слово. Береги в себе этот огонь душевный, эту способность привязанности, чистый, богатый источник всего прекрасного, всякой поэзии и самого глубокомыслия. Люди, которых охлаждает суетный опыт, показывают не проницательность, а сердечное бессилие. Вынесть сердце своё свежим из опытов жизни, не позволить ему смутиться ими, вот на что мы должны обратить все наши нравственные способности. <…>».
Последнее пожелание, похоже, относится и к самому себе, не меньше, чем к молодому другу. Боратынский, кажется, предчувствует те
сумерки, что вскоре начнут всё неумолимее окутывать его душу. Дружба видится ему одним из последних убежищ от суетного мира:
«Прекрасное положительнее полезного, оно принадлежит нам в большей собственности, оно проникает всё существо наше, между тем как остальное едва нами осязается. Я пишу эти строки с истинным восторгом, знаю, что твоё сердце не имеет нужды в подобных поощрениях, но мне, в мои теперешние лета, испытав, по некоторым обстоятельствам более другого, размышляя не менее других, мне сладко с глубоким убеждением принести это свидетельство в пользу первых чистых вдохновений сердца, простительных, годных, по мнению эгоизма, только в одну пору, а по мне — священных, драгоценных во всякое время. — Я заболтался, душа моя, но от доброго сердца. Желание моё состоит в том, чтобы ты воротился из дальних странствий каким поехал и обнял бы меня с старинною горячностью <…>».
Уезжая весной 1829 года с семьёй в Мураново, он дал своим молодым собеседникам (И. Киреевскому, А. Веневитинову, М. Погодину) «блистательный обед у Яра» (как сообщил Погодин Шевырёву в Рим).
А Дельвигу в то же время написал в письме про то, что тяжко занемогла его младшая дочь Катенька. Дельвиг отвечал из Петербурга: «Милый друг, посылаю тебе шинель непромокаемую для твоего тестя и желаю, чтобы письмо моё нашло тебя спокойнее, чтобы дети твои были здоровы. Ужели ты не знаешь, что болезнь очень частый гость у малюток? Надобно только заботиться о них, но не упадать душою. Вырастут, об нас будут заботиться. Зато как мы подгуляем, выдавая твоих дочек замуж. Я чувствую нынешний день себя лучше. Если бы не бессонница, то уже давно бы прыгал. Ты пишешь, буду ли я издавать „С<еверные> цветы“? Буду и прошу не оставлять их. Твой же запас желал бы прочесть поскорее. Ужели ты думаешь, что твои стихи мне только надобны для альманаха? Мне нужно для души почитать их, она, бедная, голодна и сидит на журнальных сухариках. Сжалься. Я тоже пишу кой-что и надеюсь прислать к тебе, что сделаю, да мне писать трудно. Если тесть мой в Москве, так не говори, что я болен, он, бедный, сам нездоров и беспокоится об нас во вред здоровью. Скажи, что я потому не еду, что ищу и ещё не получил места в Москве, что также правда. <…>».
Грустное письмо! Дельвиг хворал, и сильно. Кто знал тогда, что ему, тридцатилетнему, оставалось уже немного…
Были трудности с альманахом: Полевой, Булгарин и Погодин — отвернулись, обиженные тем, что
аристократы на них «смотрят сверху». Поддержал Дельвига только Киреевский…
По мнению Г. Хетсо, сближение с Иваном Киреевским наконец позволило Боратынскому найти своё место в новой литературной среде. «<…> Не то чтобы поэт чувствовал себя там духовно свободным. Отношения его со многими московскими писателями были двойственны и даже проблематичны. Но, сблизившись с Киреевским, Баратынский хорошо усвоил идеалистическую философию любомудров, и она наложила определённый отпечаток на его творчество. Несомненно, что перемена, которая в конце 1820-х годов становится заметной в поэзии Баратынского, во многом объясняется влиянием на него Киреевского».
В этом утверждении, которое биограф в дальнейшем всячески развивает, всё же есть нечто сомнительное. Тут кроется некое недоверие к самостоятельности мышления поэта, к его мировоззренческой зрелости. И сам собой возникает вопрос, примерно такой же, как в известной загадке: что же появилось раньше — яйцо или курица…
Так что же изначальнее: мысль или чувство? философия или поэзия?
Разумеется, беседы с Киреевским
повлияли на Боратынского, как, наверное, и беседы с поэтом
повлияли на философа. Кто на кого влиял сильнее, вопрос тёмный, мало поддающийся разрешению.
Вообще, так ли нуждается поэт в идейном учителе, как это кажется со стороны? Знания
теории, как с усмешкой говорил сам Боратынский о Погодине, отнюдь не заменяют природного дара. Да и трудно представить себе умного и самостоятельного Боратынского в роли примерного ученика, усваивающего уроки «идеалистической философии». Вряд ли такое неравенство породило бы сердечную дружбу между поэтом и молодым философом…
В записной книжке одного из виднейших любомудров, Владимира Фёдоровича Одоевского, есть интересная мысль о поэзии и философии, — причём записана она как раз в то время, когда Боратынский тесно подружился с Киреевским, — в мае 1830 года: «Что наиболее меня убеждает в вечности моей души — это её общность. На поверхности человека является его индивидуальный характер, но чем дальше вы проникаете во глубь души, тем более уверяетесь, что в ней, как идеи, существуют вместе все добродетели, все пороки, все страсти, все отвращения, что там ни один из сих элементов не первенствует, но находится в таком же равновесии, как в природе, так же каждый имеет свою самобытность, как в поэзии. Оттого наука поэта не книги, не люди, но самобытная душа его; кто в душе своей не отыщет отголоска какой-либо добродетели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом или — другими словами — никогда не достигнет до глубины души своей. Оттого поэт и философ одно и то же. Они развиты лишь по индивидуальным характерам лица, один стремится извергнуть свою душу, вывести сокровища из их таинственного святилища, философ же боится открыть их взорам простолюдинов и созерцает свои таинства внутри святилища. В религии соединяется и то и другое. Религия выносит на свет некоторые из своих таинств и завесой накрывает другие. Оттого в каждом религиозном человеке вы находите нечто почти что философическое, которое, однако же, не есть ни поэзия, ни философия; в древние времена она была их матерью, в средние они как бы заплатили ей долг свой, поддерживая её, в новейшие постарались заменить её, в будущем они снова сольются с ней. <…>
(Поэт — пророк. В минуту вдохновения он постигает сигнатуру периода того времени, в котором живёт он, и показывает цель, к которой должно стремиться человечество, дабы быть на естественном пути, а не на противоестественном <…>)».
И наконец:
«Кто же больше имеет значения — поэт или философ? Сей вопрос существовать не может! Поэт не столько проникает в глубину души, ибо он гость времени, которое философ употребляет на бо́льшее погружение в самого себя, он проводит обмен сокровища души в образы, но зато он всё же что-либо, но выносит на свет; истинный философ не унижается до сего, если он и берёт в руки перо, то есть становится на минуту поэтом, то ждёт образов наиболее близких к чистым идеалам души, следственно, неприступных для толпы. В будущей религиозной эпохе человечества оба сольются воедино, но мы того так же постигнуть не можем, как наши праотцы не могли постигнуть, что из религии разовьётся поэзия, что в звуках кроме мелодии есть гармония или, лучше, что мелодия в чреве своём носила гармонию».
Вот, пожалуй, лучший, современный Боратынскому и Киреевскому, ответ на вопрос: кто на кого и как повлиял…
В заботах семейных и литературных
Не успели толком расположиться в мурановском доме, как тяжко занемогла годовалая Катенька. Боратынский повёз дочку в Москву; Настасья Львовна осталась дома: она была на сносях, а дорога дальняя да и в тряской коляске… Впервые после женитьбы они разлучались. Добравшись до Москвы, Боратынский — так же впервые — писал жене:
«Я приехал цел и невредим, мой милый друг. Катинька теперь спит, но говорят, что ей лучше, кашляет она меньше и становится веселее. Не могу судить о том сам, ибо пишу к тебе тотчас по приезде. На сердце у меня тяжело, потому что мы разделены: это испытание разлукой — истинное наказание. Я чувствую себя совершенно потерянным. Увидел в нашей спальной твою шляпку и несколько платьев, и у меня так тоскливо сжалось сердце, что я испугался. Я как-то слишком бегло обнял тебя при отъезде, присутствие посторонних стесняло меня: а как только экипаж тронулся, я почувствовал, что мне недостаёт прощального поцелуя. Тоскующее сердце моё просило его. Очень непривычно писать к тебе. Как будто начинаешь письменное знакомство, совсем другое, чем наше с тобою. Что за ничтожное занятие — писать, и тот, кто сказал, что оно облегчает разлуку, был человеком очень холодным. Я хотел бы тебе изъяснить всё то, что не могу выразить. Я не выскажу никогда нужного мне, и всегда буду бояться, как бы все эти обороты, без коих не обойтись ни в одном письме, не уверили тебя, будто я пишу к тебе так, как к любой другой. Помнится, я рассказывал, как муж Марьи Андреевны заканчивал письма, которые он ей писал: то был перечень ласковых имён и прозваний; мы тогда весьма позабавились этому, но знаешь ли, сейчас мне кажется, что он очень любил свою жену, и в этом нет ничего смешного. А коли так, я хотел бы тебе сказать всё самое нежное, и не могу найти ничего лучше, чем назвать тебя Попинька, как будто ты рядом со мной. Душинька моя Попинька, да сохранит тебя Господь <…>. Если в течение вечера найдётся сообщить тебе что-нибудь занимательное, допишу. Обнимаю тебя сердечно. Девятковский приходил смотреть Катиньку вчера и сегодня <…>»
(перевод с французского).
Врач Девятковский не помог: Катинька умерла…
Спустя немного времени в письме Вяземскому Боратынский объясняет своё долгое молчание кончиной младшей дочери. Он пишет о своём глубоком унынии. «<…> Потеря ребёнка не есть великая потеря, но она живо напоминает возможность утрат важнейших; и эта смерть, которая так неожиданно, так невозвратно похищает у нас то, что мы любим, долго не выходит из памяти. Смерть подобна деспотичной власти. Обыкновенно она кажется дремлющею, но от времени до времени некоторые жертвы выказывают её существование и наполняют сердце продолжительным ужасом <…>».
Конечно, в то время в многодетных семьях кончина младенца была обычной и не казалась непоправимой бедой, но всё же некий налёт риторики, присущей Боратынскому в его юности, выглядит досадным…
Горе сменилось радостью: 18 июля у Боратынских родился первый сын — Лев, названный в честь Льва Николаевича Энгельгардта. (Заметим в скобках, снова имя выбрано родителями, а не священником по святцам.)
Бедную событиями жизнь в усадьбе скрашивали письма товарищей.
«Верный друг Денис Давыдов» (такой подписался) благодарил из своего симбирского имения Маза за память о нём. Красочно описывал, как пышно и чинно встречали его в Бугульме тамошние дамы и господа: «<…> ибо в провинции я также Бонапарте или, что ещё более, Паскевич». Дивился супруге своего старинного приятеля, бывшего адъютанта из Дрездена, к которому заехал на возвратном пути: «Жена — обрусевшая немка, хорошей фамилии, ибо родная племянница Алопеуса, посла нашего — но обрусевшая, и обрусевшая в Бугульме. Ты можешь вообразить ето химическое соединение <…>».
Пройдясь по бугульминским обывателям, старый партизан принялся за братьев-литераторов: «<…> — Ты описываешь приём персидского принчика — удивляюсь, как можно етого гузнодава так роскошно и великолепно принимать! — Вяземского, московского эмигранта, я видел только в Пензе на ярмарке, где мне очень весело было. После ждал его у <неразборчиво>, но не дождался. Получил от него письма недавно. Он был с каким-то оригиналом провинциальным Кашкарёвым, который, говоря о лесе, сказал: „Quand les bouleaux prennent d’embonpoint!“ <Когда берёзы становятся дородны.> Ещё, чтобы сказать, что у одной госпожи в деревне ярмонка, он говорит: „Cette dame à la foire dans le vein (минуту молчания) de la Campagne“ <в её жилах текут деревенские манеры>. — Видишь, что и мы не без смеха — но редко <…>».
Николай Путята бодро сообщал о победе в войне с Турцией. Вспоминал финляндскую молодость, юные мечты среди «мрачных картин угрюмой природы» о благословенных южных краях: «<…> Знамёна русские развеваются в Адрианополе и издали приветствуют родной щит Олега. С берегов древнего Герба, осенённых шатрами полуночных воинов, я пишу эти строки, чтобы изобразить тебе, как могу, окружающие нас новые для меня предметы. — Адрианополь, с дороги от Ямболя, по которой следовали наши войска, представляется отменно великолепно. Большое число высоких стройных минаретов, разнообразных куполов, блестящих позолотою и яркими цветами <…>; прекрасная тенистая роща вдоль реки, с развалинами обширного дворца султанов <…>» — и далее в том же духе…
Николай Коншин, обосновавшийся в Царском Селе, просил стихов для затеянного там с бароном Розеном литературного альманаха. Боратынский с радостью отвечал другу, винился за долгое молчание, но много стихов не обещал: «<…> Нынешний год за разными семейными заботами я писал особенно мало; но чем богат, тем и рад: братски поделюсь между тобой и Дельвигом <…>». Поздравлял «милого Коншина» с «семейственными надеждами» (у Коншина намечалось прибавление в семье): «Знаю по себе, как велика радость быть отцом. У меня, брат, уже порядочная семейка: сын и дочь, да я ещё потерял одну малютку <…>. Не забудь меня уведомить, что тебе Бог даёт. Я в моей татарской глуши выпью за здоровье твоего потомства <…>».
В сентябре 1829 года Боратынский с женой и детьми уехал в Мару и надолго, до следующей весны. «<…> Надеюсь, что в деревенском уединении проснётся моя поэтическая деятельность, — писал он Ивану Киреевскому, который собирался за границу. — Пора мне приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же, чем я более размышляю, тем твёрже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии <…>».
В октябре он поздравил Николая Коншина с отцовством: «<…> Воображаю твою радость и очень, очень бы желал вместе с Дельвигом быть у тебя на крестинах. Когда-то сведёт нас Бог! Моя жизнь, кажется, всегда будет делиться между Москвою и Тамбовом; ты основался в Царском Селе, но кому известно будущее! <…>».
И в деревне покоя не было, как писал он Вяземскому, от набега «целой орды соседей», этих «двуногих комаров», пьющих если не кровь, то «время на дело».
Как ни досаждали визиты скучающих помещиков и семейные хлопоты, Боратынский всё же принялся за большую работу. «<…> у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультра-романтическая, — писал он в конце ноября И. Киреевскому. — Пишу её, очертя голову <…>».
Давно у него не было в посланиях такой добродушной бодрости!..
Вяземский прислал из Москвы своё переложение романа Б. Констана «Адольф», и Боратынский отвечал князю, что ему будет чрезвычайно любопытен «<…> перевод светского, метафизического, тонко чувственного „Адольфа“ на наш необработанный язык», тем более выполненный такою рукою. Вяземский убеждал друга приняться за прозу, но поэт отговаривался тем, что проза ему не даётся и что «<…> суетное моё сердце всё влечёт меня к рифмам».
Прочитав «Введение к жизнеописанию фон-Визина», Боратынский заметил Вяземскому, что тот один на поприще русской литературы поступает как настоящий писатель: «<…> вы передаёте ваше мнение обо всём и, наконец, нам будет известно, что вы о чём думали, между тем как все другие русские писатели, даже с образованием, вовсе без образа мыслей».
Искренне полюбив Киреевского, Боратынский, наверное, был не против видеть его мужем своей обожаемой свояченицы, Сонечки Энгельгардт, — впрочем, скорее всего, это могло прийти раньше в голову его жене, Настасье Львовне. Молодые люди были уже представлены друг другу. Но что-то не заладилось между ними… В канун нового, 1830 года Иван Киреевский уехал в долгое заграничное путешествие. А в январе Боратынский писал из Мары младшей сестре жены, что весьма сердит на Киреевского: «<…> Измышления, которые он тебе передавал, — в то время как сам думал только о предстоящем путешествии, достойны сентиментального фата, столько же смехотворного, сколь непорядочного, — и тебе не стоит о нём жалеть. Твоя судьба, дорогая Софи, и те затруднения, с которыми ты столкнёшься в поисках сердца, столь же возвышенного, сколь твоё, огорчают меня; это примешивает толику грусти к тому удовольствию, которое доставляют мне твои успехи в свете. Впрочем, Бог милостив, и если уж Он создал тебя такой, какая ты есть, то, наверное, не для того, чтобы твоя прекрасная жизнь не нашла себе применения <…>»
(перевод с французского).
Подробности этого несостоявшегося брака мало известны, да и вряд ли причина разлада была достаточно серьёзной, коль скоро София Энгельгардт через полгода, в июле 1830 года, была с визитом в доме Елагиных-Киреевских, «просидела» там «всё утро» (как сообщала сестра Ивана и Петра в письме своим братьям) и «очень была любезна». По крайней мере, в тот раз дружбу Боратынского с Киреевским это не разрушило…
Под солнцем Болдинской осени
В январе 1830 года в альманахе М. А. Максимовича «Денница» вышел отрывок из новой поэмы «Наложница». В этом же номере было напечатано «Обозрение русской словесности за 1829 год» Ивана Киреевского, — там немало замечательных суждений о поэзии Боратынского, глубоких и точных:
«<…> муза Баратынского, обняв всю жизнь поэтическим взором, льёт равный свет вдохновенья на все её минуты и самое обыкновенное возводит в поэзию посредством осветительного прикосновения с
целою жизнью, с господствующею мечтою. Оттого, чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нём нового, не замеченного с первого взгляда — верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, эту благородную щеголеватость? Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка. — Между тем красота жизни поэтической, с лица которой муза Баратынского сняла покрывало до половины, доказывает нам, что поэт ещё не весь выразился в стихах своих; что мы должны ожидать ещё несравненно более того, что он совершил; что ему ещё предназначено столько превзойти наши ожидания, сколько разоблачение красоты может удивить воображение. <…>».
К поэме «Бал» Киреевский отнёсся более критически, однако выразил всё это довольно темно:
«Но в его „Бальном вечере“, напечатанном в прошлом году, есть недостаток, которого нет в „Эде“, ни в „Переселении душ“, этом милом, остроумно-мечтательном капризе
поэтического воображения: в „Бальном вечере“ Баратынского нет средоточия для чувства и (если можно о поэзии говорить языком механики) в нём нет одной
составной силы, в которой бы соединились и уравновесились все душевные движения. Несмотря на это, однако ж, эта поэма превосходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, наружною связью целого и совершенством отделки. В самом деле, кто, прочтя ее, не скажет, что поэт сделал успехи; что самые недостатки его доказывают, что он требовал от себя больше, чем прежде; что смешение тени и света здесь не сумерки, а рассвет, заря новой эпохи для его таланта <…>».
Мысли И. Киреевского о Боратынском вызвали отклики в печати.
Александр Пушкин в рецензии, опубликованной «Литературной газетой», заметил, что критик видит в Боратынском поэта «самобытного, своеобразного» и «справедливо ставит „Эду“, одно из самых оригинальных произведений элегической поэзии, выше „Бального вечера“, поэмы более блестящей, но менее изящной, менее трогательной, менее вольно и глубоко вдохновенной». Последние слова по сути говорят о том, что Пушкин видел в поэме «Бал» больше обдуманности и мастерства, нежели стихийного вдохновения и своеобразия.
Николай Полевой подвергнул мнение Киреевского саркастическому разносу, упрекнув автора в том, что «<…> даже недостатки он ставит г-ну Баратынскому в достоинство». Полевой в то время разорвал отношения с
аристократами, разошедшись во взглядах на «Историю государства Российского» Карамзина, и ругал их на чём свет стоит. А. П. Елагина, мать братьев Киреевских, писала С. А. Соболевскому в начале 1830 года: «<…> Недавно Полевой сказал при многих, что Пушкин, Вяземский и Баратынский одним им стали так известны и что он втопчет их опять в ту грязь, из которой вынул <…>». То же самое и в схожих выражениях сообщал и Погодин Шевырёву в Рим…
Н. Полевой не ограничивался критикой в печати и устной бранью, но и писал вдобавок эпиграммы, чаще всего на Боратынского:
Зачем мою хорошенькую Музу,
Голубчик мой, ты вздумал освистать?
Зачем, скажи, схоластики обузу
На жар ума ты вздумал променять?
Тебя спасал сто раз, скажи, не я ли?
Не я ль тебя лелеял и берёг,
Когда тебя в толчки с Парнаса гнали,
Душа моя, Парнасский простачок.
Полевой подписывался псевдонимом —
Гамлетов. Он всерьёз полагал, что поэты обязаны славой исключительно критикам, в упор не замечая, что его «хорошенькая Муза» способна лишь на корявые эпиграммы… Чуть позже
Гамлетов обратился уже
Обезьяниным — и спародировал пушкинское стихотворение «Собрание насекомых», задев вместе с Пушкиным всех его друзей по перу, — Боратынский был назван: «<…>
Финский наш
чертополох»…
Ни Боратынского, ни Вяземского, ни тем более Пушкина Полевой, несмотря на все свои потуги,
в грязь, конечно,
не втоптал, — разве что сам изрядно измарался…
По весне Боратынские вернулись в Москву и, как потеплело, стали наезжать в Мураново. Летом же Белокаменную поразила холера. Множество людей бежало куда глаза глядят: кто в ближние деревни, кто в дальние губернии. По опустевшим улицам тащились траурные процессии; по мостовым грохотали холерные зелёные фуры: пара лошадок да будочник с кнутом, оглядывающий запертые ворота. В дворах курился навоз: жители едким дымом хотели изгнать заразу…
Боратынские, как и другие оставшиеся в городе, закрылись дома, не выходя наружу. Первые недели, как позже признался поэт, были ужасны: никто не мог предвидеть, как разовьётся эпидемия, и ожидали самого худшего. Потом тревога вместе с болезнью пошла на убыль. В ноябре Боратынский писал Вяземскому в его подмосковное поместье: «Скоро ли, любезный князь, вы решитесь оставить Астафьево и взглянуть на воскресающую Москву? Ежели она вам ещё кажется опасною, то вы не правы. Можно сказать решительно, что у нас нет уже холеры. Вновь занемогающие, во-первых, малочисленны, во-вторых, болезнь их уже не та, и они почти все выздоравливают. Всё грозное время я провёл в Москве, и хотя мне не было весело, но в то же время не так и тошно, как я ожидал. Мы заперлись в своём доме, никуда не выезжая и никого не принимая. Теперь все оживились, но к моему полному оживлению недостаёт вашего присутствия <…>». Впрочем, уже через несколько дней поэт написал Вяземскому снова, заметив, что всё-таки благоразумнее будет пока не покидать усадьбу…
Пушкин в ту пору готовился к женитьбе, однако холера вмешалась в его планы. Она застала его в Нижегородской губернии; карантины преградили поэту путь в Москву, к невесте, — и на три месяца он задержался в селе Болдино. Тем временем настала осень, его самое любимое время года, когда он крепнул здоровьем и был готов творить. Поначалу он было впал в меланхолию, но мрачное настроение быстро прошло. Бешеная жажда увидеться с невестой и нежданная свобода от раздражающих предсвадебных хлопот, настоянные на ядрёном осеннем воздухе, вызвали в Пушкине небывалый душевный подъём. 9 сентября он писал Петру Александровичу Плетнёву в Петербург:
«<…> Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию. (Василий Львович Пушкин умер 20 августа, и его хоронила вся литературная Москва. —
В. М.) Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова? приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав:
как скучны статьи Катенина! и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином, на щите <…>. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты и засесть стихи писать. <…>
Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов. <…>».
Так начиналась его знаменитая
Болдинская осень…
Думы о грядущей семейной жизни, конечно, не покидали его. 29 сентября он писал Плетнёву: «<…> Баратынский говорит, что в женихах счастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим <…>».
Но осень в степном селе оказалась на редкость
детородной, как выразился Пушкин в письме Дельвигу, и когда в начале декабря он наконец прорвался сквозь карантины в Москву, то сообщил Плетнёву: «Скажу тебе (за тайну), что я в Болдино писал, как давно уже не писал. Вот что я привёз сюда:
2 последние главы „Онегина“, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Anonyme. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий <…>. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Ещё не всё (весьма секретное)* (* для тебя единого. —
примечание А. С. Пушкина). Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся — и которые также напечатаем Anonyme <…>».
Ржёт и бьётся — весёлое это
конское сравнение, возможно, происходит от псковской поговорки
«Ржёт конь к печали, ногою топает — к погоне». Она — из собрания пословиц и поговорок XVII века немецкого купца Тённиса Фенне, жившего некоторое время в Пскове и записывавшего русские пословицы и присловицы. Вполне вероятно, что Пушкину эта поговорка стала известна в Михайловском Псковской губернии, куда он был выслан после Кишинёва и Одессы и где жил со своей няней Ариной Родионовной и живо интересовался русским разговорным языком. Если это действительно так, то Пушкин явно намекает на
печаль Боратынского-эпика, которому не по силам угнаться за его поэмами, хотя тот и рвётся в творческую
погоню, дабы помериться силами в стихах и в прозе.
В своей «Летописи жизни и творчества Евгения Боратынского» Алексей Песков пишет об «интенсивном общении» Боратынского с Пушкиным в начале декабря 1830 года в Москве, о том, что Пушкин читал другу «Повести Белкина», сообщил о «Маленьких трагедиях», «Домике в Коломне», а возможно, и читал их, а Боратынский, в свою очередь, познакомил Пушкина со своей новой поэмой «Наложница». «<…> Соревнуя Пушкину, — замечает А. Песков, — Боратынский и Киреевский заключают между собой пари, по условию которого каждый должен написать повесть». Итогом этого пари стала написанная Боратынским в 1831 году повесть «Перстень».
Соревновал ли Боратынский Пушкину? Въяве это никак — ни словом, ни намёком — не проявилось. Поэзия не прыжки в высоту или в ширину. Задача истинного художника — отнюдь не
соревнование с кем бы то ни было из современников или предков, а стремление вполне осуществить в творчестве
свой природный дар. Без сомнения, Боратынский это понимал едва ли не лучше всех и неукоснительно тому следовал.
Заметим, что «Наложница» («Цыганка») стала последней его поэмой, а «Перстень» — первым и последним прозаическим произведением. То есть после 1831 года Боратынский сосредоточился в основном только на лирических стихах, отказавшись от поэм и прозы, хотя время от времени его и тянуло к ним. Все свои могучие силы он направил на философскую лирику и подарил русской и мировой словесности настоящие шедевры.
…Это лишь Булгарин не стеснялся заявлять, что если ему и есть соперник, то лишь Пушкин («Булгарин почитает себе соперником теперь одного Пушкина», — как писал в апреле 1829 года Погодин Шевырёву в Рим). Но что взять с простодушно-наглого Фаддея Венедиктовича!..
Впечатление Боратынского от того, что сотворил Пушкин за три месяца в Болдине, можно без преувеличения назвать огромным. В декабрьском, 1830 года, письме Д. Н. Свербееву он пишет, что Пушкин привёз с собою из нижегородской деревни четыре трагедии, поэму, две главы «Онегина» и целую папку прозы:
«<…> Деятельность его неимоверна <…>».
Возможно, Пушкин и не обмолвился при том, что среди всей этой роскоши был и новый, третий по счёту набросок к статье о самом Боратынском. Несомненно, этот набросок стал бы основой того, что Пушкин собирался высказать на публике в статье о собрате по перу. Приведём его полностью:
«Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одарённого вкусом и чувством. Кроме прелестных элегий и мелких стихотворений, знаемых всеми наизусть и поминутно столь неудачно подражаемых, Баратынский написал две повести, которые в Европе доставили бы ему славу, а у нас были замечены одними знатоками. Первые, юношеские произведения Баратынского были некогда приняты с восторгом. Последние, более зрелые, более близкие к совершенству, в публике имели меньший успех. Постараемся объяснить причины. — Первой должно почесть самое сие усовершенствование и зрелость его произведений. Понятия, чувства 18-летнего поэта ещё близки и сродни всякому; молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растёт, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. (Пушкин здесь по сути повторяет мысли, высказанные Боратынским в феврале 1828 года в письме к нему. —
В. М.) Поэт отделяется от их и мало-помало уединяется совершенно. Он творит для самого себя и если изредка ещё обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединённых, затерянных в свете. Вторая причина есть отсутствие критики и общего мнения. У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами. Публика мало ими занимается. Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе как о политической экономии, о политической экономии как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, безо всяких основательных правил и сведений, а большею частию по личным расчётам. Будучи предметом их неблагосклонности, Баратынский никогда за себя не вступался, не отвечал ни на одну журнальную статью. Правда, что довольно трудно оправдываться там, где не было обвинения, и что, с другой стороны, довольно легко презирать ребяческую злость и площадные насмешки, тем не менее их приговоры имеют решительное влияние. — Третья причина — эпиграммы Баратынского, сии мастерские, образцовые эпиграммы не щадили правителей русского Парнаса. Поэт наш не только никогда не снисходил к журнальной полемике и ни разу не состязался с нашими Аристархами, несмотря на необыкновенную силу своей диалектики, но и не мог удержаться, чтоб сильно не выразить своего мнения в этих маленьких сатирах, столь забавных и язвительных. Не смеем упрекать его за них. Слишком было бы жаль, если б они не существовали. [Сноска Пушкина: „<…> в эпиграмме Баратынского <…> сатирическая мысль приемлет оборот то сказочный, то драматический <…>. Улыбнувшись ей как острому слову, мы с наслаждением перечитываем её как произведение искусства“.] — Сия беспечность о судьбе своих произведений, сие неизменное равнодушие к успеху и похвалам, не только в отношении к журналистам, но и в отношении к публики, очень замечательны. Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта, никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчётливости, никогда не тащился по пятам свой век увлекающего гения, подбирая им оброненные колосья; он шёл своей дорогой один и независим. Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды <Батюшкова>».
На полях рукописи этого замечательного наброска — начертанный летучим пером Пушкина профиль Евгения Боратынского…
Прощание с Дельвигом
Не успела Москва толком отойти от холеры и зажить прежней жизнью, как навалились новые напасти, — и Боратынский, который крайне редко говорил о
политике, был явно ими встревожен. Даже в письме к матери в Мару он, поначалу рассказав о своих малышах Сашеньке и Лёвушке, вдруг упомянул про революцию в Бельгии. Ещё больше его поразило
возмущение в Варшаве и особенно то, что великий князь Константин принуждён был её оставить. «<…> Этого мало. С небольшим числом войска он поставил себя в западню. Висла, находящаяся за ним, не позволяет ему ретироваться в Литву. Прибавьте к этому, что и Литва ненадёжна. Литовский корпус весь составлен из поляков. Много, много, что половина его останется на стороне русских. Вот минута борьбы решительной, развязка, которая влечёт за собой неисчислимые последствия. Нам теперь нужна величайшая быстрота и энергия. После этой новости все другие маловажны <…>».
По этому письму видно: Боратынский, который никогда не выставлял себя патриотом и не слагал про то стихов, в глубине души был им и внимательно следил за тем, что творится в России и в Европе.
В том же письме Вяземскому он говорит и о несчастье, постигшем «Литературную газету» Дельвига: она была запрещена — «<…> за четверостишие де ла Виня, вероятно, по старанию Булгарина. <…> Как жаль, что вы <в> соседстве, а делать нечего <…>».
Это четверостишие было посвящено жертвам Июльской французской революции, и донёс на редактора действительно Фаддей Булгарин. Позже об этом сказал Дельвигу граф Бенкендорф, который вызвал поэта-редактора к себе и обвинил в действиях против правительства. Был крайне груб с благовоспитанным Дельвигом, оскорбительно
тыкал ему, а в конце пригрозил, что упрячет его с друзьями (Вяземским и Пушкиным) в Сибирь.
Запрещение «Литературной газеты», единственного издания
аристократов, было весьма чувствительным ударом по пушкинскому кругу литераторов. Ещё в Болдине Пушкин получил грустное письмо от своего лицейского друга, в котором тот возмущался, что по проискам корыстолюбивых подлецов он, «истинно привязанный к своему Государю», прослыл карбонарием. Пушкин полагал, что царь, в которого он так же, как и Дельвиг, верил, во всём разберётся. Но всё-таки по возвращении в Москву не без раздражения писал Плетнёву 9 декабря 1830 года: «<…> Итак, русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу! жаль — но чего смотрел и Дельвиг? охота ему было печатать конфектный билетец этого несносного Лавинья. Но всё же Дельвиг должен оправдаться перед государем. Он может доказать, что никогда в его „Газете“ не было и тени не только мятежности, но и недоброжелательства к правительству. Поговори с ним об этом. А то шпионы-литераторы заедят его как барана, а не как барона <…>».
Возможно, это писалось и в расчёте на тех, кто вскрывал письма и доносил о их содержании правительству, однако делу не помогло. Булгарин с Гречем
заели конкурента и не подавились…
Дельвиг, и без того в последние годы хворавший, был поражён этим ударом. Жестокая
гнилая горячка в несколько дней унесла его жизнь: 14 января 1831 года он скончался, не прожив и тридцати трёх лет.
В ту же ночь Плетнёв писал Пушкину: «<…> По себе чувствую, что должен перенести ты. <…> Теперь я остался один. <…> Милый мой, что ж такое жизнь?»
Через несколько дней из Петербурга пришло письмо и Боратынскому — от О. Сомова: «С чего начну я письмо моё, почтеннейший Евгений Абрамович? Какими словами выскажу вам жестокую истину, когда сам едва могу собрать несколько рассеянных, несвязных идей: милый наш Дельвиг — наш только в сердцах друзей и в памятниках талантов: остальное у Бога! <…> Право, мысли мои и все душевные силы растерялись <…>. Приготовьте Пушкина, который, верно, теперь и не чает, что радость его <женитьба> возмутится такою горестью. Скажите кн. Вяземскому, И. И. Дмитриеву и Михаилу Алексан. Максимовичу — и всем, всем, кто знал и любил покойника, нашего незабвенного друга, что они более не увидят его, что Соловей наш умолк на вечность <…>».
Пушкин уже знал о смерти друга. Когда на следующий день известие подтвердилось, он поехал к тестю Дельвига Салтыкову — и не смог сообщить больному старику ужасную новость.
Не имел духу — так объяснил Плетнёву в письме. «<…> Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная, — писал Пушкин ему в Петербург 21 января. — Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нём как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и всё. <…>
Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров — и постараемся быть живы».
Вновь, как прежде в тяжких душевных переживаниях, Боратынского свалил недуг…
На поминальном обеде в «Яре», где были Пушкин, Вяземский, Языков, он сказал о желании написать о жизни своего бедного друга. Пушкин загорелся этой мыслью: предлагал собрать в помощь все воспоминания. «<…> Я знал его в Лицее — был свидетелем первого незамеченного развития его поэтической души, — писал он Плетнёву. — <…> Я хорошо знаю, одним словом, его первую молодость; но ты и Баратынский знаете лучше его раннюю зрелость. Вы были свидетелями возмужалости его души. Напишем же втроём жизнь нашего друга <…>».
Однако у Пушкина совсем не было времени: его всё больше одолевали предсвадебные хлопоты. И чем ближе было венчание, тем мрачнее становилось у него на душе. 17 февраля, в канун свадьбы, он собрал в доме Хитрово на Арбате «мальчишник», где был и Боратынский. Иван Киреевский, присутствовавший на этом прощании поэта с молодостью, вспоминал, что Пушкин был так необыкновенно грустен, что гостям было даже неловко…
Плетнёв тоже не принялся за воспоминания о Дельвиге: горевал о кончине своего близкого приятеля Молчанова…
Проходил месяц за месяцем, а Боратынский всё не мог взяться за перо. В письмах товарищам корил себя за «леность», но снова и снова отлагал дело. И не семейные заботы, ни поездки в Мураново, и даже ни дальнее путешествие со всей роднёй в казанскую вотчину не были главной причиной этого молчания. Через полгода, в июле, в Каймарах, взволнованный письмом Плетнёва, Боратынский попробовал найти объяснение: «<…> Потеря Дельвига для нас незаменяема. <…> — Боже мой! как мы будем ещё одиноки! <…> потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений. Я ещё не принимался за жизнь Дельвига. Смерть его ещё слишком свежа в моём сердце. Нужны не одни сетования, нужны мысли; а я ещё не в силах привести их в порядок <…>».
Биографию Дельвига он так и не написал.
Помянул друга молодости печальным и светлым стихотворением, возникшим осенью 1831 года, — оно было напечатано в декабре в «Северных цветах на 1832 год», целиком посвящённых памяти Антона Дельвига:
Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизийские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нём мир цветущей старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств её не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! Там за чашей
Ещё со мною шутишь ты,
Поёшь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.
Глава девятнадцатая
«ДАРОВАНИЕ ЕСТЬ ПОРУЧЕНИЕ»
Писательский крест
Ранняя и неожиданная смерть Дельвига повергла Боратынского в болезнь, разбередила душу и заставила ещё больше задуматься о своём призвании.
Поправившись, он по весне уехал с семьёй в Мураново.
В канун этой поездки в московской типографии при Императорской Медико-хирургической академии вышла из печати его поэма «Наложница». Впрочем, на обложке значилось отнюдь не слово — поэма, а
сочинение, — но по сути это был роман в стихах.
К тому времени у Боратынского было, по-видимому, готово и сочинение в прозе — повесть «Перстень», которую он намеревался передать «Литературной газете». «Лета к суровой прозе клонят, / Лета шалунью рифму гонят…» — заметил про себя Пушкин в «Евгении Онегине», — не то ли самое чувствовал и его ровесник Боратынский, не спешивший, однако, расставаться со стихами. Именно в это время он глубоко задумывается о том, что же такое роман и каким он должен быть. В письмах Ивану Киреевскому (предположительно, весны 1831 года) эти мысли выражены с предельной остротой:
«<…> Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-то системы. Одни — спиритуалисты, другие — материалисты. Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только её духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом. Хотя всё сказано, но всё сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете. Вот тебе вкратце и на франкмасонском языке мои размышления <…>».
Это пока
теория, до дела ещё не дошло; сказывается давняя привычка всё досконально продумать, прежде чем взяться за перо.
«Я покуда ничего не делаю. Деревья и зелень столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе. Езжу всякий день верхом, одним словом веду жизнь, которой может быть доволен только Рамих <…>», — шутит Боратынский, упоминая имя семейного врача.
В следующем письме другу поэт сообщает, что летом, «…а в сентябре непременно», он будет в Москве и тогда уже вполне растолкует свои мысли о романе, которые он изложил «слишком категорически». Киреевский в то время сам работал над романом: с кем ещё, как не с ним, хотелось поделиться всем, что накопилось на душе:
«<…> Как идеал конечного возьми „L’ane mort“ и „La confession“ <романы Жюля Жанена „Мёртвый осёл“, 1829, и „Исповедь“, 1830>, как идеал спиритуальности — все сентиментальные романы: ты увидишь всю односторонность того и другого рода изображений и их взаимную неудовлетворительность. Фильдинг, Вальтер Скотт ближе к моему идеалу, особенно первый, но они угадали каким-то инстинктом современные требования и потому, попадая на настоящую дорогу, беспрестанно с неё сбиваются. Писатель, привыкший мыслить эклектически, пойдёт, я думаю, далее, то есть будет ещё отчётливее. Не думай, чтобы я требовал систематического романа, нет, я говорю только, что старые не могут служить образцами. Всякий писатель мыслит, следственно, всякий писатель, даже без собственного сознания, — философ. Пусть же в его творениях отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных произведений, как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках <…>».
В Муранове он читает Руссо:
«<…> он пробудил во мне много чувств и мыслей. Человек отменно замечательный и более искренний, нежели я сначала думал. Всё, что он о себе говорит, без сомнения, было, может быть, только не совсем в том порядке, в котором он рассказывает. Его „Confessions“ <„Исповедь“> — огромный подарок человечеству <…>».
В Муранове настроение поэта наладилось. Нет лучше лета, чем в деревне: и проснуться весело, и гулять весело; часом раньше, нежели в Москве, чай поутру, и обед, и ужин; да ещё беседы, прогулки верхом по окрестным полям и лесным просёлкам; да ещё «то чувство, которому нет имени», — всё, всё это и составляет «эту благодать семейного счастья».
Новое письмо Ивану Киреевскому исполнено необыкновенной сердечной теплоты. Утрата Дельвига только обострила его потребность в настоящем друге. И чувство его к жене, Настасье Львовне, стало уже таким, когда они — одно целое. Боратынский пишет письмо
слиянно — не разделяя себя с ней:
«Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастию; картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из неё не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто ещё не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру <…>».
Поэт с нетерпением ждёт обещанного ему разбора «Наложницы», пишет о слоге Пушкина и Жуковского в новых их произведениях, сообщает, что выслал другу интересные книги Сисмонди и Вильмена, которые сам недавно прочёл.
Слухи о том, что в Москве снова холера, переменили всё намеченное: Боратынские всей семьёй, вместе с Львом Николаевичем Энгельгардтом, спешно собрались и отправились в его имение Каймары близ Казани. Надо было уберечь малых детей от заразы, да и к тому же Настасья Львовна снова ждала ребёнка.
Дорога была дальней и непростой: пришлось объезжать те города и веси, где «показалась холера». Лишь по прибытии в Казань Боратынский, не меньше других уставший от жары и тряски, смог написать несколько слов Киреевскому. Получилось, как сам он определил,
ералаш: тут было и о скуке путешествия по однообразным степным просторам, и о том, как много он обдумал по дороге, и о своей надежде наконец-то, в деревенской глуши и уединении, «путём приняться за перо».
У Энгельгардта в Казани имелся собственный деревянный дом; здесь поначалу и остановились. Отдохнув, тронулись в усадьбу. Каймары были в двадцати верстах от города. Тесть поэта владел там большим двухэтажным каменным домом, рядом с которым были разбиты парк, фруктовый сад, вырыты пруды. Имение прежде принадлежало казанскому воеводе Никите Алфёровичу Кудрявцеву и было пожаловано ему Петром I. В 1722 году Пётр сам посетил Каймары и, по преданию, подарил местной церкви крест. В середине XVIII века барский дом был заново перестроен по проекту знаменитого архитектора Растрелли и располагал множеством комнат… Ныне от былого великолепия каймарской усадьбы сохранился лишь обломок кирпичной стены среди бурьяна; каменный же храм, хоть частью порушен, всё же уцелел и хранит остатки своей некогда прекрасной росписи.
Ещё в Казани Боратынский написал в Межевую канцелярию прошение об отставке от службы — и вскоре получил желаемый аттестат. Отныне поэт был совершенно свободен. Он горел желанием засесть за стол и целиком отдаться литературе. Не потому ли его так взволновало полученное накануне письмо от Петра Плетнёва, дышащее «разуверенностью и унынием»? Боратынский отвечал старому товарищу:
«<…> Поговорим о тебе. Неужели ты вовсе оставил литературу? Знаю, что поэзия не заключается в мёртвой букве, что молча можно быть поэтом; но мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнёв; не изменяй своему назначению <…>».
Кажется, эти пылкие слова обращены и к самому себе — недаром вслед за ними Боратынский прибавил — уже во множественном числе:
«Совершим с твёрдостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них — унылость <…>».
А далее — его обычная лёгкая усмешка над своей невольной патетикой: «Прощай, мой милый. Я стал проповедником. Слушай мои увещания, а я буду слушать — твои <…>».
Поэт поблагодарил петербургского друга за похвалы своей новой поэме, которые его утешили в
неблагорасположении других критиков, и передал поклон Пушкину…
Вокруг «Наложницы»
Свою
ультраромантическую поэму «Наложница» Боратынский сочинял, как он признавался Киреевскому в ноябре 1829 года,
очертя голову. После её выхода в свет написал Николаю Путяте, что считает «Наложницу» лучшей своей поэмой. Письмо другу с возражениями на его критику было написано в Казани в начале июля 1831 года, — как раз по дороге сюда поэт
многое обдумал, и потому это отнюдь не случайная самопохвала, а глубоко выношенное убеждение: «<…> Не спорю, что в „Наложнице“ есть несколько стихов небрежных, даже дурных, но поверь мне, что вообще автор „Эды“ сделал большие успехи в своей последней поэме. Не говорю уже о побеждённых трудностях, о самом роде поэмы, исполненной движения, как роман в прозе, сравни беспристрастно драматическую часть и описательную; ты увидишь, что разговор в „Наложнице“ непринуждённее, естественнее, описания точнее, проще. <…> Обыкновенно мне моё последнее сочинение кажется хуже прежних, но перечитывая „Наложницу“, меня всегда поражает лёгкость и верность её слога в сравнении с прежними моими поэмами. Ежели в „Наложнице“ видна некоторая небрежность, зато уж совсем незаметен труд; а это-то и нужно было в поэме, исполненной затруднительных подробностей, из которых должно было выйти совершенным победителем или не браться за дело. Я заболтался, милый. Извини, что с тобою спорю. Ты знаешь, что я охотно соглашаюсь с критиками, когда нахожу их справедливыми; но на твою не согласен <…>».
По тем временам, как заметила филолог Л. Андреевская, в смутное понятие
романтического входило и что-то таинственное, запретное и даже преступное. В этом смысле, считает она, Боратынский был прав, называя своё произведение ультраромантическим: «Незаметная и элегическая смерть Эды, во второй поэме („Бал“. —
В. М.) была заменена самоубийством героини, а в третьей поэме мы имеем убийство героя и сумасшествие героини. В сущности „психологизм“ здесь уже доведён до драматической высоты, но не мелодрамы, так как эффект не в занесённом кинжале, не в протянутом кубке с отравой, т. е. в убийстве, а эффект в сознании того, что убийство не нарочно, случайно. Поэтому поэма заканчивается сумасшествием».
Сюжет «Наложницы» прост, но на редкость драматичен, страсти накалены до предела. Елецкой безумно скучает в свете и открыто порывает с ним, взяв в дом молодую цыганку Сару. Но и разгульная жизнь надоедает ему, он чувствует душевную пустоту и неудовлетворённость. В нём внезапно вспыхивает любовь к чистой и доброй светской барышне Вере. С большим упорством Елецкой добивается от неё ответного чувства и наконец успевает в этом. Почуяв измену, Сара бешено ревнует и страдает, ибо по-прежнему любит. Старая Ненила приносит приворотный напиток, и влюблённая цыганка, не подозревая, что в нём яд, подносит кубок Елецкому. Тем временем Вера тайно покидает дом, чтобы бежать и тайно обвенчаться с Елецким. Но напрасно она его ждёт: герой мёртв…
Отныне Верой утрачен — и, возможно, навсегда —
Иль жизни цвет, иль цвет души <…>.
А цыганка Сара, возвратившаяся в табор, с тех пор «сурова и мрачна»: она «разум в горе погребла».
<…> Вотще родимые напевы
Уносят душу бедной девы
В былые лучшие года!
Так резвый ветер иногда
Листок упадший подымает,
С ним вьётся в светлых небесах,
Но, вдруг утихнув, опускает
Его опять на дольний прах.
Самооценка Боратынского верна: поэма исполнена
движения — той открытой, яркой и прямой силы жизни, когда чувствуют не вполнакала, а вполне,
наотмашь, когда отдаются страсти, не думая о последствиях, и коли падают, то не
подостлав соломки. Под стать этому
движению и слог поэмы: он жив, образен, прям, порой простонароден. Конечно, тогдашние чопорные критики никак не ожидали от «изящного лирика» такого своеволия: они, в большинстве, ханжески оскорбились «грубостью» стихов и «низменностью» содержания поэмы. Правду жизни и правду характеров эти «оберегатели устоев», разумеется, не заметили.
Издатель «Дамского журнала» Шаликов, по его уверению — «более других журналистов» призванный «уважать благоприличие», в своём отзыве не посмел даже
наименовать заглавие поэмы, дабы не оскорбить им своих читательниц. Слово «Наложница» он заменил сочетанием — «Новое сочинение Баратынского, в стихах», как будто бы прикрыв этим фиговым листком нечто неблагопристойное.
Некий рецензент
«Юр.» в альманахе «Сын Отечества и Северный архив» задался вопросом: «<…> Но зачем утомлять нас изображением порока, облекать его в краски поэзии и тем соблазнять слабых? <…> — Утверждая, что всякий предмет может быть безнравственным, поэт забыл, что часто тот же самый предмет может быть
неблагопристойным. Не говорим этого о „Наложнице“ решительно, ибо в ней неблагопристойнее всего заглавие <…>. Вопрос: как спросить мне у девушки, даже взрослой, которой дают все книги, у дамы, даже у мужчины в присутствии дам, читали ль они „Наложницу“, не заставив их покраснеть до ушей? <…>».
Хотя рецензент и отметил некоторые «места» в поэме, обличающие «талант поэта», и сказал несколько слов о «превосходном языке», впрочем, сбивающемся в «прозаизм», однако, по его мнению, всё это не искупает недостатков «всего романа, строго рассматриваемого в целом».
Боратынский предугадал все эти обвинения, предпослав изданию поэмы — словно бы в защиту своего любимого творения — пространное предисловие, больше напоминающее программную статью. Он восстал против наглого
суда «господ журналистов», привыкших обвинять то поэмы Пушкина, то его собственные в безнравственности. От писателя, по мнению Боратынского, требуются не нравственные поучения, а
истина показаний о человеке.
Не странно ли, говорит он вначале, что в государстве, имеющем цензуру, вообще слышать такие обвинения? Поэт легко опроверг лукавое требование критиков выставлять порок лишь отвратительным, а добродетель — только привлекательною. «<…> Мы погрешим против истины: не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющей линии между ними <…>» — и добавил, что в этом случае «отменно истинны шуточные стихи Панара», которые в дословном переводе с французского звучат так: «Избыток холодности — это равнодушие, избыток деятельности — суетность, избыток суровости — чёрствость, избыток тонкости — лукавство, избыток бережливости — скупость, избыток храбрости — безрассудство, избыток услужливости — низость, избыток доброты — слабость, избыток гордости — высокомерие и т. д.».
«Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями, — продолжил Боратынский свою мысль, — но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.
Нет человека совершенно добродетельного, т. е. чуждого всякой слабости, ни совершенно порочного, т. е. чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего: один был добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине; в одном не было бы заслуги, в другом вины; следственно, ни в том ни в другом ничего нравственного.
Характеры смешанные, именно те, которые так не любы г-дам журналистам, одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность <…>».
Прекрасное, по его глубокому замечанию,
не для всех, ибо непонятно даже людям умным, но не одарённым «особенною чувствительностью». Тут речь о врождённой способности понимать поэзию, о том чувстве, которым одарены немногие. Однако любой вполне может понять правду жизни, которую изображает художник: людские страсти и нравы, добродетели и пороки, добрые и злые побуждения.
Если
показания писателя верны, то «<…> впечатление, вами полученное, будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней Провидением, конечно, не развратительно и мир действительный никого ещё не заставил воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!
Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или несправедливы его показания?
Критика может жаловаться также на неполноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное <…>».
Боратынский закончил своё вступление утверждением, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; «<…> но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание тотчас рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противоречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги <…>» — и обратился к читателю с просьбой судить о нравственном достоинстве своей поэмы по правилам, изложенным им самим, а не по правилам господ журналистов, «довольно необдуманным».
Мысли Боратынского во многом совпали с пушкинскими замечаниями на ту же тему. Пушкин остроумно досадовал: «Граф Нулин наделал мне больших хлопот. Нашли его безнравственным, разумеется, в журналах… Но шутка, вдохновенная сердечной весёлостью и минутною игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или тёмное понятие, смешивая её с нравоученьем, и видят в литературе одно педагогическое занятие».
Впрочем, Пушкин знал цену критике. В письме М. Погодину (от 11 июля 1831 года) есть такие слова: «У нас критика, конечно, ниже даже и публики, не только самой литературы. Сердиться на неё можно, но доверять ей в чём бы то ни было — непростительная слабость».
Прежде Боратынский никогда не отвечал журнальным обозревателям
прозой — отделывался колкими эпиграммами. В предисловии к изданию «Наложницы» он осуществил давнее желание дать отповедь
литературным судиям, несведущим в поэзии, превратно толкующим творения поэта. Ведь в «Наложнице» он исследовал, только с ещё большей силой и глубиной, те же страсти и те же характеры, что раньше — в «Эде» и в поэме «Бал». Разумеется, его спокойный, твёрдый отпор только раздражил и раззадорил критиков.
Н. Полевой в «Московском телеграфе» посчитал, что поэт «с важностью» нагромоздил пустые слова и что «своим слабым опровержением» он только подал повод «соперникам (? —
В. М.) торжествовать над ним». Рецензент заявил, что его издание якобы никогда не поднимало тему нравственности художественных произведений и судит исключительно о поэзии. Не приведя никаких доказательств, он назвал поэму Боратынского холодной и несовершенной: «<…> стихи в „Наложнице“ тяжелы, неуклюжи, писаны так небрежно, что погрешности их непростительны едва начинающему писать <…>».
С Полевым всё понятно: он явно не забыл едких эпиграмм Боратынского и, видимо, не удовлетворясь своими ответными, сводил с поэтом старые счёты.
Полевого и подобных ему оппонентов превзошёл в таких же огульных нападках молодой критик Н. Надеждин из «Телескопа». В своей витиеватой статье он издевался над «апологетическим» предисловием и, наконец, пришёл к заключению, что «<…> наш стихотворец, занимая почётное место в литературе, не понимает, что такое литература <…>». Под стать этому нелепому выводу и разбор самой поэмы:
«<…> Безумен художник, оживляющий образ улитки на полотне или перелагающий на музыкальные ноты лягушечье кваканье: ещё безумнее поэт, источающий свою творческую деятельность на представление пороков и преступлений, коих гнусность гораздо отвратительнее <…>. Но хладнокровный рассказ, передающий официальные извлечения из архивов соблазна и преступления для одного удовольствия сообщать их — сколь бы ни был
справедлив и полон, — есть произведение безобразное и безнравственное <…>».
Донельзя путаное словесное крючкотворство предуготовило ядовитый парадокс: «Но мы смело защищаем его (Боратынского. —
В. М.) против самого себя и объявляем сочинение сие если не положительно
нравственным, то совершенно
невинным. Разврат представлен в нём так, что на него можно только
зазеваться: и не живо, и не ярко, и не полно! <…>».
И под занавес — лицемерная тирада: «Но заключением наших замечаний да будет искреннее повторение всегдашнего нашего желания, чтобы муза поэта, уважаемого нами более многих других — после прошедших неудачных опытов, изменив ложные понятия о назначении и существе изящной словесности — захотела быть не тем, что ныне, а <…> невестою истинно прекрасного!.. Мы б от души попраздновали на её обручении!..»
Пока выходили эти и другие отзывы, Боратынский находился в Каймарах, где задержался на целый год. Журналов он там не получал и далеко не сразу ознакомился со статьёй в «Телескопе» и с критикой в других изданиях. А когда прочитал — ответил статьёй «Антикритика» (напечатанной в журнале И. В. Киреевского «Европеец» в январе 1832 года), где по пунктам опроверг выспренние и путаные суждения Надеждина. Пушкин в письме Ивану Васильевичу назвал эту статью хорошей, но слишком тонкой и растянутой.
В том же номере журнала появилась и давно ожидаемая Боратынским статья Киреевского о «Наложнице». Этот замечательный отзыв, данный философом, — одно за самых глубоких и проникновенных суждений не только о разбираемой поэме, но и о всей поэзии Боратынского, о её духе и потаённой сути…
«Поэма Баратынского имела в литературе нашей такую же участь, как и трагедия Пушкина <„Борис Годунов“>; её также не оценили, также не поняли, также несправедливо обвиняли автора за недостатки небывалые, также хвалили его из снисхождения к прежним заслугам, и с таким тоном покровительства, который Гёте из деликатности не мог бы принять, говоря о писателях едва известных, — начал статью Киреевский. Эти нелепые учительские порицания критиков он назвал литературным самоуправством — и по крайней мере странным. — Но оно покажется ещё страннее, когда вспомним, что те же самые критики, которые поступали таким образом с Баратынским, большую половину статей своих о его поэме наполнили рассуждениями о нравственных и литературных приличиях <…>».
Киреевский убеждён, что «Наложница» отличается от других поэм Боратынского «большею зрелостью в художественном исполнении», что философ тут же и показал, сравнив её и с «Эдой», и с «Бальным вечером» («Балом»), Но художественное совершенство, по Киреевскому, качество второстепенное и относительное, оно не самобытно и «зависит от внутренней, его одушевляющей поэзии». Мыслитель зрит в основу, в корень: он пытается определить главное — характер поэзии Боратынского, её дыхание, её обаяние и аромат, и, лишь проникнув в самую суть его творчества, оценивает последнюю поэму:
«Музу Баратынского можно сравнить с красавицею, одарённою душою глубокою и поэтическою, красавицею скромною, воспитанной и столь приличной в своих поступках, речах, нарядах и движениях, что с первого взгляда она покажется обыкновенною; толпа может пройти подле неё, не заметив её достоинства; ибо в ней всё просто, всё соразмерено, и ничто не бросается в глаза ярким отличием; но человек с душевною проницательностью будет поражён в ней именно теми качествами, которых не замечает толпа. — Вот отчего нередко случается нам встречать людей образованных, которые не понимают всей красоты поэзии Баратынского и которые, вероятно, нашли бы его более по сердцу, если бы в его стихах было менее простоты и обдуманности, больше шуму, больше оперных возгласов и балетных движений <…>. — Но эта обуманность и мерность, эта благородная простота и художественная доконченность, которыми отличаются произведения Баратынского, не составляют случайного украшения стихов его; они происходят из самой сущности его поэзии, которая так же, как поэзия Батюшкова, дышит единственно любовью к соразмерностям и к гармонии. Вся правда жизни представляется нам в картинах Баратынского в перспективе поэтической и стройной; самые разногласия являются в ней не расстройством, но музыкальным диссонансом, который разрешается в гармонию. Оттого, чтобы дать простор сердцу, ему не нужно выдумывать себе небывалый мир волшебниц, привидений и животного магнетизма; в самой действительности открыл он возможность поэзии, ибо глубоким воззрением на жизнь понял он необходимость и порядок там, где другие видят разногласие и прозу. Оттуда утверждение его, что всё истинное, вполне представленное, не может быть ненравственное; оттого самые обыкновенные события, самые мелкие подробности жизни являются поэтическими, когда мы смотрим на них сквозь гармонические струны его лиры. Бал, маскерад, неприятное письмо, пированье друзей, неодинокая прогулка, чтение альбомных стихов, поэтическое имя — одним словом, все случайности и все обыкновенности жизни принимают под его пером характер значительности поэтической, ибо тесно связываются с самыми решительными опытами души, с самыми возвышенными минутами бытия и с самыми глубокими, самыми свежими мечтами, мыслями и воспоминаниями о любви и дружбе, о жизни и смерти, о добре и зле, о Боге и вечности, о счастьи и страданиях, о их цели, следах и поэзии. — Эти возвышенные, сердечные созерцания, слитые в одну картину с ежедневными случайностями жизни, принимают от них ясную форму, живую определённость и грациозную ощутительность, между тем как самые обыкновенные события жизни получают от такого слияния глубокость и музыкальность поэтического создания. Так, часто не унося воображения за тридевять земель, но оставляя его посреди обыкновенного быта, поэт умеет согреть его такою сердечною поэзиею, такою идеальною грустию, что, не отрываясь от гладкого, вощёного паркета, мы переносимся в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную. — Это направление поэзии Баратынского яснее, чем в других поэмах, выразилось в его „Наложнице“ <…>».
Несмотря на все достоинства поэмы, Киреевский заметил и её недостатки. По его мнению, это «что-то бесполезное стесняющее, что-то условно-ненужное, что-то мелкое», как в картинах голландского художника Миериса, что не позволяет художнику вполне развить поэтическую мысль: «<…> Уже самый объём поэмы противоречит возможности свободного излияния души <…>. Так самая любовь к прекрасной стройности и соразмерности вредит поэзии, когда поэт действует в кругу, слишком ограниченном <…>». Киреевскому кажется, что музе Боратынского, его воображению необходим более широкий простор, что поэт способен больше, чем другие, создать поэтическую комедию, «состоящую не из холодных карикатур, не из печальных острот и каламбуров, но из верного и вместе поэтического представления жизни действительной, как она отражается в ясном зеркале поэтической души, как она представляется наблюдательности тонкой и проницательной, перед судом вкуса разборчивого, нежного и счастливо образованного». Тогда, как мечтает критик, публика лучше поймёт всю глубокость его поэзии и оригинального взгляда на жизнь.
Пушкин в письме Киреевскому выразил сомнение по этому поводу этого мечтательного пожелания, ведь комедия, как и сценическая живопись, требует кисти более резкой и широкой, чем у Боратынского. Киреевский в ответном письме не согласился с Пушкиным; «<…> Говоря, что Баратынский должен создать нам нового рода комедию, я основывался не только на проницательности его взгляда, на его тонкой оценке людей и их отношений, жизни и её случайностей, но больше всего на той глубокой, возвышенно-нравственной, чуть не сказал гениальной деликатности ума и сердца, которая всем движениям его души и пера даёт особый поэтический характер и которая всего более на месте при изображении общества. Впрочем, Вы лучше других знаете Баратынского и лучше других можете судить о нём, потому я уверен, что по крайней мере в главном мы с Вами не розним <…>».
Желая от Боратынского новой комедии, Киреевский явно был под впечатлением ярких драматических диалогов в «Наложнице», — вот почему ему показалось, что поэт движется в своём развитии к драматургии. Однако Пушкину действительно было виднее: Боратынский по природе — лирик. Но и поэмы Боратынского он любил, вполне признавая его эпический дар: позже, в апреле 1832 года, он писал М. В. Юзефовичу: «<…> Отрадно, что „Наложница“ Баратынского Вам понравилась, ход поэмы любопытен, исполнение — поэтично и оригинально. Мне очень нравится предисловие, полное чувства и здравых рассуждений <…>»
(перевод с французского).
Боратынский, прочитав статью Киреевского, написал другу (февраль 1832 года):
«<…> Разбор „Наложницы“ для меня — истинная услуга. <…> Ты меня понял совершенно, вошёл в душу поэта, схватив поэзию, которая мне мечтается, когда пишу. Твоя фраза: „переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную“ заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже. Не могу не верить твоей искренности: нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Нимало не сержусь за то, что ты порицаешь род, мною избранный. Я сам о нём то же думаю и хочу его оставить <…>».
Удел помещика
Год в Каймарах, с лета 1831-го по лето 1832-го (частью прожитый в Казани), был для Евгения Боратынского исключительно напряжённым: он много писал, причём пробовал себя в новых жанрах, ещё больше думал и читал. Поэт словно бы выбирал свой дальнейший творческий путь и в этом смысле переживал переломное время.
Но и семья, семейные заботы всё больше забирали его, не давая желанного покоя для творчества. Тесть, Лев Николаевич Энгельгардт, старел, дряхлел, и Боратынскому приходилось чаще прежнего заниматься делами поместья. В конце августа 1831 года Пётр Вяземский в письме Александру Пушкину передавал шутливые слова Боратынского: «Пишу не для потомства, как Вы предполагаете слишком дружески, но для нижнего земского суда». С Иваном Киреевским Боратынский был ещё доверительнее и, как ни берёг своего друга-философа от мелочей быта, порой досадовал на свою жизнь: «<…> Вот уже месяц, как я в казанской деревне. Сначала похлопотал о хозяйстве, говорил с прикащиками и старостами. У меня тяжебное дело, толковал с судьями и секретарями. Можешь себе вообразить, как это весело. Теперь я празден, но не умею ещё пользоваться досугом. Мысль приходит за мыслью, но ни на одной не могу остановиться. Воображение напряжено, мечты его живы, но своевольны, и ленивый ум не может их привести в порядок. Вот тебе моя психологическая исповедь <…>».
Очевидно, и удел помещика оказался для Боратынского ярмом.
Поэту вообще необходима полная свобода. Но где ж её взять?.. Не отсюда ли «гипохондрическое расположение духа», о котором он весьма уныло сообщает Киреевскому? Мало того что деревня вдали от столиц и от света, и от товарищеского круга, так ещё и никаких писем от друзей…
Кое-как он дождался письма из Москвы от Киреевского: как и предполагал, у друга что-то случилось, потому тот и молчал: «<…> Чувствую, делю твоё положение, хотя не совершенно его знаю. Тёмная судьба твоя лежит на моём сердце. Ежели в некоторых случаях бесполезны советы и даже утешения дружбы, всегда отрадно её участие. Не хочу насиловать твоей доверенности; знаю, что она у тебя в сердце, хотя не изливается в словах, понимаю эту застенчивость чувства, не прошу тебя входить в подробности, но прошу хотя общими словами уведомить меня, каково тебе и что с тобою. Таким образом ты удовлетворишь и любопытству дружбы, и той стыдливой тайне, которую требует другое чувство. Что бы с тобою ни было, ты по крайней мере знаешь, что никто более меня не порадуется твоей радости и не огорчится твоим горем. В этой вере настоящее утешение дружбы. О тебе я думаю с тою же верою, и она пополняет моё домашнее счастие <…>».
Осенью Боратынский получил в Каймарах известие: его младший брат Сергей — по-домашнему Серж — женился на вдове Дельвига, Софье Михайловне. Поэт и здесь проявил свою удивительную деликатность: Софье Михайловне было неловко от этого скорого второго замужества — она не ведала, как к этому отнесётся старый друг её покойного мужа. Боратынский уверил молодую женщину, что будет не меньше любить её как жену брата: «<…> Я горячо желаю сохранить вашу привязанность и вот почему касаюсь вопроса, о котором мне сразу бы запретило говорить пошлое мнение. <…> вы несправедливы ко мне, дорогая Софи, если думаете, будто я упрекаю вас в том, что вы не похоронили свою молодость под вечным трауром, что вы вновь открыли свою душу для надежды, что вы составили счастье моего брата. Ведь нынешнее ваше чувство не имеет своим источником ненависть к тому, кого более нет на свете. Вы дали счастье одному, вы осчастливите другого, это предоставляет вам двойное право на мою привязанность. И это ещё не всё: когда я вновь увижу вас, то не стану натянуто молчать о времени, когда мы познакомились, я не только не присвою себе бесцеремонного права не назвать при вас имени того, кто был первым вашим избранником, но и надеюсь, мы вместе будем лелеять его память. Если чувство, привязывавшее вас к нему, и не было любовью, совершенным сродством, оно, однако же, всегда было достойно уважения, и именно в таком чувстве мы с вами едины. Не стану более говорить о том. Своею откровенностью мне хотелось бы предупредить те безосновательные мысли, которые всегда порождаются сомнением <…>» (
перевод с французского).
Боратынский по-прежнему не в силах взяться за книгу о Дельвиге: рана не затянулась. Лишь через несколько месяцев он сообщает Киреевскому, что принялся писать о друге, но, как видно, работа не заладилась. Если и были какие-то наброски, они до нашего времени не сохранились…
Стихи, расшевеливающие душу
Не воспоминания ли о молодости вдруг резко потянули его к Николаю Языкову и к его стихам
нараспашку!.. 16 ноября Боратынский отправил собрату-поэту, с которым они были давно знакомы, на редкость горячее и задушевное письмо с посланием в стихах:
Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета,
Когда смиренная диета
Нужна здоровью моему,
Когда и тошный опыт света
Меня наставил кой-чему,
Когда от бурных увлечений
Желанным опытом дыша,
Для благочинных размышлений
Созрела томная душа;
Но я люблю восторг удалый,
Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне; ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренную радость,
Счастливец, славить ты в правах;
Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах <…>.
Вскоре Боратынский получил письмо от Николая Языкова (не сохранилось). По-видимому, там было и стихотворение, посвящённое Ивану Киреевскому, в котором поэт заявил, что его муза пойдёт по
новой дороге — «И гимн отеческому Богу / Благоговейно запоёт». В ответ Боратынский написал своё второе послание, уже гораздо более обдуманное:
Бывало, свет позабывая
С тобою, счастливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздьем и плющом
И песни ветреные пела,
И к ней безумна и слепа,
То увлекаясь, пламенела
Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной девы
Ей непонятным божеством.
Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в её глазах
Или румянец вожделенья…
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает:
Лишь для любовника она
Наряд менады надевает;
Яви ж, яви её скорей,
Певец, в достойном блеске миру:
Дай диадиму и порфиру;
Державный сан её открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Её злословного судью,
Да в ней хулитель твой познает
Мою царицу и свою.
Боратынский признавался Языкову: «<…> Только твои стихи расшевеливают мне душу <…>».
А в следующем письме, И. Киреевскому, он повторил эти слова: «<…> Языков расшевелил меня своим посланием. Оно — прелесть. Такая ясная грусть, такое грациозное добродушие. Такая свежая чувствительность! Как цветущая его муза превосходит наши бледные и хилые! У наших — истерика, а у ней настоящее вдохновение! <…>»
Этот восторг и эта самокритика, пожалуй что чрезмерная, свидетельствуют лишь об одном: Боратынский жаждет новых стихов, новых напевов и настроений, хотя, возможно, и сам себе не признаётся в этом. Новое созревает исподволь, поначалу обнаруживая себя разве что творческим молчанием или недовольством тем, что написано прежде.
Немногим раньше, в сентябре 1831 года, Боратынский, шутливо чествуя Языкова, заступившего вслед за ним на службу к Богдану Гермесу в Межевую канцелярию, писал:
«<…> Кажется, бог поэтов ныне не Аполлон, но Гермес: кроме тебя и меня служил у него когда-то Вяземский. Как бы написать ему стихи, в которых хорошенько похвалить его за то, что под его управлением и Межевая канцелярия превратилась в Геликон. Кстати — о стихах: я как-то от них отстал, и в уме у меня всё прозаические планы. Это очень грустно.
Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра златая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но всё проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.
Вот единственная пьеса, которую написал я с тех пор, как с тобою расстался, стараясь в ней выразить моё горе. Что ты поделываешь и скоро ли будешь писать стихотворения? Пришли, что напишешь. Это разбудит во мне вдохновение <…>».
Это стихотворение вместе с другим («Не славь, обманутый Орфей…») Боратынский отправил в Петербург Пушкину — для выпуска «Северных цветов» памяти Дельвига. Но Пушкин напечатал только второе стихотворение, исключив первое без всяких объяснений. Похоже, он всё-таки не принял того, что его друг-поэт
остывает к гармонии стихов. Принял ли Пушкин его уныние за минутный упадок духа, остаётся загадкой: поэты не объяснились по этому поводу, а увиделись не скоро, когда всё, наверное, забылось.
Позже Боратынский обнаружил в своей душе и вовсе необычное чувство, прежде для него совершенно немыслимое:
О, верь: ты, нежная, дороже славы мне <…>
Это стихотворение, обращённое к жене, Настасье Львовне, обычно понимается как высокое признание в любви к подруге жизни. Но не есть ли эти строки — свидетельство того, что поэт ещё больше
отстал от стихов и готов принести в жертву свою «бунтующую музу»?..
О славе Боратынский прежде, кажется, даже не упоминал. Почему же теперь поэт сказал о ней да ещё как о второстепенном деле? Может быть, потому, что желание славы преодолено — и так же
отошло, как сам он от стихов. Он словно бы уже вполне понял суетность и этого — земного в сущности — желания. Он уверовал, что нашёл
друга в поколенье — стало быть, найдётся и
читатель в потомстве. А коли так — надобно ли что-то ещё?..
«<…> Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему должен подвергаться её ругательствам <…>» (из письма И. Киреевскому, ноябрь 1831 года).
А ведь
слава напрямую зависит от мнения
черни, — и Боратынский, как никто другой, это понимает. И он знает: публика не может поспеть за развитием поэта, — вот почему он рано или поздно обречён на одиночество…
Почтовая проза
Письма Боратынского того времени обращены большей частью к И. В. Киреевскому и показывают, как внимательно поэт читает — а скорее изучает — современную отечественную и зарубежную литературу и как глубоко задумывается о писательском призвании.
Круг его чтения и в деревенской глуши необычайно широк: Пушкин, Жуковский, Вяземский, Языков, Загоскин, Гоголь, Хомяков, Руссо, Гёте, Вильмен, Гизо, Барбье, Бальзак и другие, — и это только те, кто упомянут в письмах.
Боратынский никогда не выступал в печати как литературный критик (если не считать его рецензии на книгу А. Муравьёва), но по его письмам видно, насколько глубоко он чувствует и понимает литературу и как верно о ней судит.
Одним из первых поэт прочёл перевод романа Б. Констана «Адольф», сделанный Вяземским, и заметил князю: «<…> Вы избрали лучшую систему перевода, именно полезнейшую для языка. <…> Я перечитал ваше умное и остроумное предисловие <…>. Вы заставили меня сызнова продумать всё то, что мне внушило первое чтение „Адольфа“. Вы намекаете на недуг душевный, особенный нашему веку, который очень слегка обозначает автор „Адольфа“: он касается его вскользь, а вы более, нежели он, заставляете его заметить. Этот недуг ещё не вполне им исследован и может быть предметом нового романа. Подумайте; вы, может быть, его напишете. Ещё одно: неужели ничто не врачует развращения чувств, заметного в нашем веке? и точно ли мы хуже наших предков? Я не совсем вдаюсь в современные мечты усовершенствования, но склонен думать, что нет эпохи лучше или хуже другой <…>».
Перечитав «Элоизу» Руссо, он пишет Киреевскому: «<…> Каким образом этот роман казался страстным? Он удивительно холоден. Я нашёл насилу места два трогательных и два или три выражения прямо от сердца. Письма Saint-Preux лучше, нежели Юлии, в них более естественности; но вообще это трактаты нравственности, а не письма двух любовников. В романе Руссо нет никакой драматической истины, ни малейшего драматического таланта. Ты скажешь, что это и не нужно в романе, который не объявляет на них никакого притязания, в романе чисто аналитическом; но этот роман — в письмах, а в слоге письма должен быть слышен голос пишущего: это в своём роде то же, что разговор, — и посмотри, какое преимущество имеет над Руссо сочинитель „Клариссы“ <Ричардсон>. Видно, что Руссо не имел в предмете ни выражения характеров, ни даже выражения страсти, а выбрал форму романа, чтобы отдать отчёт в мнениях своих о религии, чтобы разобрать некоторые тонкие вопросы нравственности. Видно, что он писал Элоизу в старости: он знает чувства, определяет их верно, но самое это самопознание холодно в его героях, ибо оно принадлежит не их летам. Роман дурён, но Руссо хорош как моралист, как диалектик, как метафизик, но… отнюдь не как создатель. Лица его без физиономии, и хотя он говорит в своих „Confessions“, что они живо представлялись его воображению, я этому не верю. Руссо знал, понимал одного себя, наблюдал за одним собою, и все его лица Жан-Жаки, кто в штанах, кто в юбке <…>».
Позже поэт вновь продолжает этот разговор с другом, защищаясь от его обвинения в том, что он неумолим в критике Руссо. Боратынский настаивает, что чтением был по-настоящему увлечён и критиковал только лишь роман: «<…> Когда-то сравнивали Байрона с Руссо, и это сравнение я нахожу справедливым. В творениях того и другого не должно искать независимой фантазии, а только выражения их индивидуальности. Оба — поэты самости; но Байрон безусловно предаётся думе о себе самом; Руссо, рождённый с душою более разборчивой, имеет нужду себя обманывать; он морализует и в своей морали выражает требования души своей, мнительной и нежной. В „Элоизе“ желание показать возвышенное понятие своё о нравственном совершенстве человека, блистательно разрешить некоторые трудные задачи совести беспрестанно заставляет его забывать драматическую правдоподобность. <…> В составе души Руссо ещё более, нежели в составе его романа, находятся недостатки последнего. „Элоиза“ мне нравится менее других произведений Руссо. Роман, я стою в том, творение, совершенно противоречащее его гению. В то время как в „Элоизе“ меня сердит каждая страница, когда мне досаждают даже красоты её, все другие его произведения увлекают меня неодолимо. Теплота его слова проникает мою душу, искренняя любовь к добру меня трогает, раздражительная чувствительность сообщается моему сердцу <…>».
Очевидно, что Боратынский с пристрастием исследует жанр современного романа, явно намереваясь всерьёз заняться прозой. Естественно, он не обходит вниманием и отечественных писателей. Лучшим тогдашним романистом он считал Михаила Николаевича Загоскина, но и его поэт судит с исключительной строгостью. «<…> Мне очень любопытно знать, что ты скажешь о романах Загоскина, — пишет он Киреевскому. — Все его сочинения вместе показывают дарование и глупость. Загоскин — отменно любопытное психологическое явление <…>». А спустя некоторое время возвращается к своим мыслям: «<…> О Загоскине писать что-то страшно. Я вовсе не из числа его ревностных поклонников. „Милославский“ его — дрянь, а „Рославлёв“, быть может, ещё хуже. В „Рославлёве“ роман ничтожен; исторический взгляд вместе глуп и неверен. Но как сказать эти крутые истины автору, который всё-таки написал лучшие романы, какие у нас есть?»
Как-то Киреевский сообщил Боратынскому, что хочет познакомить его с ярким сочинением писателя из Малороссии. Вскоре в Каймары пришла книга «Вечера на хуторе близ Диканьки», — по-видимому, Николай Гоголь (носивший тогда ещё и фамилию — Яновский) сам прислал ему этот подарок. Боратынский с восторгом отозвался о книге в письме И. Киреевскому и даже высказал большое желание познакомиться с писателем: «<…> Ещё не было у нас автора с такою весёлою весёлостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нём виден наблюдатель, и в повести своей „Страшная месть“ он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает моё чувство к Яновскому <…>».
Но больше всего Боратынского, конечно, занимало творчество Пушкина. Когда в начале 1832 года он прочёл только что вышедшую 8-ю главу «Евгения Онегина», поэт тут же поделился с Киреевским своим впечатлением. Вначале признался, что в разные времена думал о пушкинском романе в стихах — «разное»: «<…> Иногда мне „Онегин“ казался лучшим произведением Пушкина, иногда напротив. Ежели б всё, что есть в „Онегине“, было собственностию Пушкина, то, без сомнения, он ручался бы за гений писателя. Но форма принадлежит Байрону, тон тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого (не понятно, у кого — „другого“? —
В. М.). Пушкину принадлежат в Онегине характеры его героев и местные описания России. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенности. Ленский ничтожен. Местные описания прекрасны, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт. Вообще это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием. Оно блестящее; но почти всё ученическое, потому что почти всё подражательное. Так пишут обыкновенно в первой молодости из любви к поэтическим формам более, нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее моё мнение об „Онегине“. Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, что оно останется между нами, ибо мне весьма некстати строго критиковать Пушкина. От тебя же утаить настоящий мой образ мыслей мне совестно <…>».
Это мнение, конечно, излишне строго, да и несправедливо, но нельзя не отдать должное искренности Боратынского в разговоре с другом, как и самостоятельности его критической мысли.
Летом 1832 года Боратынский прочитал сказку о царе Салтане и оценил её в том же духе, что и окончание «Онегина»: «<…> Это — совершенно русская сказка, и в этом, мне кажется, её недостаток. Что за поэзия — слово в слово привести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавляет к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберём их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки. Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и по возможности все их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинством одной из наших старых сказок — и только. Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Как далеко до этого подражания русским сказкам, до подражания русским песням Дельвига! Одним словом, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила <…>».
Чтение, конечно, попутное занятие: главное для Боратынского — писательский труд.
Осенью 1831 года, в Каймарах, он сочинил драму, но остался ею весьма недоволен. Поэт отправил рукопись Киреевскому, который только что создал в Москве свой журнал — «Европеец»: «<…> я ни за что бы тебе её не послал, ежели б не думал, что в журнале и посредственное годится для занятия нескольких листов <…>. Драму напечатай без имени и не читай её никому как моё сочинение <…>». Когда же Киреевский хорошо отозвался о его произведении, Боратынский ответил, что похвала приводит его в стыд, и поспешил уверить, что это лишь «драматический опыт» и что от своей драмы он «не в отчаянии» только потому, что со временем надеется написать «что-нибудь подельнее»: «Ежели б я вполне следовал своему чувству, я бы поступил с нею, как ты поступаешь с некоторыми из своих творений, то есть бросил бы в печь. Кстати: я не нахожу тебя в этом отменно благоразумным. Во-первых, не мне быть судьёю в собственном деле; во-вторых, каждый принимающийся за перо поражён какою-либо красотою, следственно, и в его творении, как бы оно ни поддавалось критике, наверно есть что-нибудь хорошее. Что ж касается до совершенства, оно, кажется, не дано человеку, и мысль о нём может скорее охладить, нежели воспламенить писателя. Это думает и Жуковский, который советует беречься
От убивающия дар
Надменной мысли совершенства <…>».
Киреевский, однако, не согласился с тем, что драма никудышная, и, видимо, привёл автору свои доводы (увы, все письма Киреевского утрачены). Но Боратынский ответил ему, что тот разбирает драматическую попытку серьёзнее, чем она того стоит: «<…> Я учился форме и думал более расположить сценами анекдоты, нежели написать настоящую драму. Я выбрал ничтожный предмет для того, чтобы ученическим пером не испортить хорошего <…>».
Журнал Киреевского вскоре был закрыт — и текст драмы затерялся…
Тогда же Боратынский написал и свою повесть «Перстень». К этому своему творению он был более благосклонен и даже велел поставить имя сочинителя, однако и «Перстень», по-видимому, считал не больше чем прозаическим опытом: «<…> всё это посредственно, но для журнала годится». Поэт признаётся другу, что у него готов план новой поэмы, «со всех сторон обдуманный». О том же самом он пишет в январе 1832 года его матери, Авдотье Петровне Елагиной: «<…> У меня в голове поэма; но я ещё не принимался: продолжительный труд пугает мою лень».
Конечно, дело не в лени и не в хозяйственных хлопотах: что-то иное, гораздо более значительное мешает ему приняться за поэму и, конечно, оно связано с творческими задачами.
Однако по прошествии времени оказалось, что ни поэма, ни новая драма, ни задуманные повести не были написаны. Даже неизвестно, набрасывал ли что-то Боратынский вчерне…
Глава двадцатая
НА ИЗМЕНЧИВОЙ ЗЕМЛЕ
Русский «Европеец»
О намерении Ивана Киреевского издавать свой журнал Боратынский узнал осенью 1831 года в Каймарах. Он был «истинно обрадован» и заверил друга, что готов быть ему непременным и усердным сотрудником — «<…> тем более что всё меня клонит к прозе». Обещал
доставить две-три повести в год и помогать живо вести полемику…
Двадцатипятилетний Киреевский был в ту пору, несмотря на молодость, одним из крупнейших русских мыслителей. Он принадлежал, по определению А. С. Хомякова, к числу людей, принявших на себя подвиг освобождения русской мысли от суеверного поклонения мысли других народов. Ещё в 1827 году Киреевский писал своему другу А. И. Киселёву: «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотой слога». В конце 1829 года Киреевский решил ехать в Германию, чтобы продолжить своё философское образование. В канун этой поездки он написал статью в альманах «Денница», в которой ясно и твёрдо определил задачу всей своей жизни: «Нам
необходима философия: всё развитие нашего ума требует её. Ею одною живёт и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займёт от неё изящество стройности. Но откуда придёт она? <…>
Наша философия должна развиваться из
нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов
нашего народного и частного быта».
По мнению Киреевского, лучшие достижения европейского просвещения станут колыбелью русской образованности:
«<…> Как младшая сестра в большой, дружной семье, Россия прежде вступления в свет богата опытностью старших. <…>
Совместное действие важнейших государств Европы участвовало в образовании начала нашего просвещения, приготовило ему характер общеевропейский и вместе дало возможность будущего влияния на всю Европу.
К той же цели ведут нас гибкость и переимчивость характера нашего народа, его политические интересы и самое географическое положение нашей земли.
Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других; судьба России зависит от одной России.
Но судьба России заключается в её просвещении: оно есть условие и источник
всех благ. Когда же эти
все блага будут
нашими — мы ими поделимся с остальною Европою и весь долг наш заплатим ей сторицею».
С начала 1830 года Киреевский — в Германии. В Берлине он лично знакомится с Гегелем и слушает его лекции по истории философии. В Мюнхене посещает Шеллинга и присутствует на его занятиях с учениками по натуральной философии, физиологии и новейшей истории искусств. Там же в Мюнхене Иван Киреевский с братом Петром, будущим знаменитым собирателем русских народных песен, побывал в гостях у поэта и дипломата Фёдора Тютчева.
По возвращении в Россию Иван Киреевский и решил издавать свой «журнал наук и искусств», испросив
благословение у Василия Андреевича Жуковского. Поначалу философ хотел, чтобы русская литература только бы дополняла в его журнале литературу европейскую. «<…> и с каким наслаждением, — писал он Жуковскому, — мог бы я говорить об Вас, о Пушкине, о Баратынском, об Вяземском, об Крылове, о Карамзине — на страницах, не запачканных именем Булгарина». Однако вышло так, что уже в первом номере «Европейца» основное внимание получила отечественная литература, а европейская — стала дополнением к ней.
Боратынскому название журнала не понравилось: он советовал Киреевскому выбрать другое, ничего не значащее и заранее не определяющее никаких притязаний. Впрочем, затею друга он одобрил и признался: «<…> Твой журнал очень возбуждает меня к деятельности».
В октябре в Каймарах у него родилась дочь. Ей дали имя в честь Марии Андреевны Панчулидзевой, его тётушки и крёстной матери. На «дружеское поздравление и милые шутки» Киреевского поэт отвечал, что в год рождения Машеньки непременно должен явиться в свет и «Европеец», а когда дочке исполнится двенадцать лет и она будет в состоянии слушать лекции друга-философа, тот просто обязан позаботиться о её просвещении.
Их переписка отнюдь не ограничивалась делами литературными — порой речь заходила даже о светской жизни: суждения Боратынского и тут отличались глубиной и меткостью:
«Со мною сто раз случалось в обществе это тупоумие, о котором ты говоришь. Я на себя сердился, но признаюсь, в хорошем мнении о самом себе: не упрекал себя в глупости, особенно сравнивая себя с теми, которые отличаются этою намётанностию, которой мне недоставало. Чтобы тебя ещё более утешить в твоём горе (горе я ставлю для шутки), скажу тебе, что ни один смертный так не блистал в petits jeux и особенно в secretair, как Василий Львович Пушкин и даже брат его Сергей Львович. Сей последний, на вопрос: Quelle difference у a-t-il entre m-r Pouchkine et le soleil? — отвечал: Toux les deux font faire le grimace. <Каково различие между г-ном Пушкиным и солнцем? — От того и другого щуришься.> Впрочем, говорить нечего, хотя мы заглядываем в свет, мы — не светские люди. Наш ум иначе образован, привычки его иные. Светский разговор для нас учёный труд, драматическое создание, ибо мы чужды настоящей жизни, настоящих страстей светского общества. Замечу ещё одно: этот laisser aller < непринуждённость >, который делает нас ловкими в обществе, есть природное качество людей ограниченных. Им даёт его самонадеянность, всегда нераздельная с глупостию. Люди другого рода приобретают его опытом. Долго сравнивая силы свои с силами других, они, наконец, замечают преимущество своё и дают себе свободу не столько по чувству собственного достоинства, сколько по уверенности в ничтожности большей части своих совместников <…>».
Не менее точно судил поэт и о делах журнальных, проявляя при этом изрядную сметку:
«<…> Я читал твоё объявление: оно написано как нельзя лучше, и я тотчас узнал, что оно твоё. Ты истолковал название журнала и умно, и скромно. Но у нас не понимают скромности, и я боюсь, что в твоём объявлении не довольно шарлатанства для приобретения подписчиков <…>».
Он подсказывал Киреевскому и темы новых статей: так, просил его написать о Шеллинге и «других отличных» людях Германии, чтобы познакомить с ними читающую публику.
Первый номер «Европейца» вышел в конце 1831 года. Поскольку литературных журналов в то время было совсем немного: в Москве выходили «Московский телеграф» Н. Полевого и «Телескоп» Н. Надеждина, а в Петербурге — «Северная пчела» Ф. Булгарина, — новый журнал сразу привлёк внимание писателей и читающей публики.
Открывался «Европеец» программной статьёй Ивана Киреевского «Девятнадцатый век», в которой философ определял дух нового времени как в области мысли, где на смену французского материализма пришёл немецкий идеализм, так и в области литературы, где романтизм занял место классицизма. Автор затронул и вопросы веры, отметив, что атеизм Вольтера отжил своё и религия вновь завоёвывает сердца. Киреевский отводил особую роль просвещению России: он мечтал разрушить «Китайскую стену» между Россией и Европой, чтобы освоить западноевропейское просвещение. По его мысли, русское просвещение должно отнюдь не подражать западным образцам, а обогатиться за счёт достижений европейской культуры, органически вобрав её в себя. «<…> Там, где
обще-Европейское совпадает с нашею
особенностью, там родится истинно-Русское, образованно-национальное, твёрдое, живое, глубокое и богатое благодетельными последствиями», — писал Киреевский.
Боратынский назвал первый номер «Европейца»
великолепным — и выразил уверенность в успехе журнала. В этом номере вышла его элегия «В дни безграничных увлечений…»; там же напечатано начало обозрения Киреевского, где важнейшими явлениями отечественной поэзии 1831 года названы «Борис Годунов», «Наложница» и «Баллады и повести» Жуковского. Боратынский снова дал издателю дельный совет: «Мне кажется, надо задрать журналистов, для того чтобы своими ответами они разгласили о существовании оппозиционного журнала. Твоё объявление было слишком скромно. Скажи, много ли у тебя подписчиков. Напечатай в московских газетах, какие статьи помещены в 1-м № „Европейца“. Это будет тебе очень полезно <…>».
К тому времени Боратынский с семьёй переехал в Казань. Они с женой отдавали визиты, и поэт очень скучал из-за этой ритуальной рутины: «Знакомлюсь с здешним обществом, не надеясь найти в этом никакого удовольствия. Нечего делать: надо повиноваться обычаю, тем более что обычай по большей части благоразумен. Я гляжу на себя как на путешественника, который проезжает скучные, однообразные степи. Проехав, он с удовольствием скажет: я их видел <…>».
Казань поначалу показалась ему
оживлённее Москвы: не то чтобы приятнее, но — деятельнее. Разговоры в гостиных порой были даже занимательны: бойко обсуждались местные дела и было заметно, что всякий из собеседников стремился к
положительной цели, проявляя в спорах и свой норов. «<…>. Не могу тебе развить всей моей мысли, — писал поэт Киреевскому, — скажу только, что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских знакомцев. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов политических и поэтических. Всмотрясь внимательнее в общество, я, может быть, напишу что-нибудь о нём для твоего журнала; но я уже довольно видел, чтобы местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному. Хвалю здесь твоего „Европейца“; не знаю только, заставят ли мои похвалы кого-нибудь на него подписаться. Здесь выписывают книги и журналы только два или три дома и ссужают ими потом своих знакомых <…>».
Боратынские прожили в доме Энгельгардта в Казани всю зиму.
У поэта появились новые знакомства: любительница литературы и хозяйка салона А. А. Фукс, известный математик Н. И. Лобачевский, историк Н. С. Арцыбашев — автор критических разборов «Истории государства Российского» Карамзина, литератор Э. П. Перцов.
Прошло немного времени, и провинциальная Казань неимоверно наскучила Боратынскому: пребывание здесь показалось ему новым
изгнанием. Лишь с молодым поэтом и драматургом Эрастом Перцовым, стихотворные шалости которого хвалил друзьям Пушкин, Боратынский, по его признанию, говорил своим натуральным языком, — общение с остальными не позволяло ему быть вполне свободным и естественным. «Страшный» Арцыбашев, хоть и оказался в разговоре приличнее, нежели в печати, выше хронологических чисел ничего не видел в истории. Жена ректора Казанского университета Александра Андреевна Фукс донимала Боратынского разговорами о литературе и, пуще того, чтением своих самодельных стихов. Этой сочинительнице знали цену и в Казани: в частной переписке осталась такая картинка:
математик Лобачевский читает стихи m-me Fuks, то и дело давясь хохотом, а почётный гость литературного салона поэт Боратынский сидит с потупленными глазами. Когда казанская поэтесса ещё и сочинила послание Боратынскому, тот оказался в крайне неловком положении. В письме И. Киреевскому (май 1832 года) есть небольшая приписка: «<…> Что поделывает Языков? Этот лентяй из лентяев пишет ли что-нибудь? прошу его пожалеть обо мне: одна из здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая ещё притязаний на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которые я должен отвечать».
Должен… светская дань в рифму, конечно, была самой тягостной…
Ответное послание Боратынского тоже написано —
без меры, таким пышным и льстивым слогом, будто бы сочинял кто-то другой. «Власы роскошные», «обворожительное лицо», «В душе довольной красоты / Затрепетало вдохновенье!»…
Прекрасный, дивный миг! Возликовал Парнас,
Хариту, как сестру, камены окружили,
От мира мелочей вы взоры отвратили:
Открылся новый мир для вас <…> и пр.
Конечно же, Боратынский знал цену виршам хозяйки салона не хуже её казанских знакомых. Уж не пародия ли — его послание? Другого ведь просто представить невозможно!..
Осенью 1833 года Александр Пушкин заглянул в Казань по дороге в Оренбург. Разумеется, и он был гостем А. А. Фукс… В Москву жене полетело письмо: «Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил её красоту и гений».
В январе 1832 года вышел второй номер «Европейца», — и он ещё больше понравился Боратынскому, назвавшему его
бесподобным: «Мысли, образ выражения, выбор статей, всё небывалое в наших журналах со времён „Вестника Европы“ Карамзина, и я думаю, что он будет иметь столько же успеха, как сей последний, ибо для своего времени он имеет все достоинства, которые тот имел для своего <…>. О слоге Вильмена статья прекрасная. Нельзя более сказать в меньших словах с такою ясностью, с таким вкусом, с такою правдою. Разбор „Годунова“ отличается тою же верностию, тою же простотою взгляда. Ты не можешь себе представить, с каким восхищением я читал просвещённые страницы твоего журнала, сам себе почти не веря, что читаю русскую прозу, так я привык почерпать подобные впечатления только в иностранных книгах <…>».
Пушкин тоже был в восторге от двух первых выпусков журнала и в письме Ивану Киреевскому пожелал изданию многие лета: «До сих пор наши журналы были сухи и ничтожны или дельны, да сухи; кажется, „Европеец“ первый соединит дельность с заманчивостью. <…> Ваша статья о „Годунове“ и о „Наложнице“ порадовала все сердца; насилу-то дождались мы истинной критики».
Пушкин выразил надежду, что журнал разбудит бездействие Боратынского, о лирике которого он вновь высоко отозвался.
Впрочем, были у Пушкина и замечания к журналу: он посоветовал Киреевскому избегать учёных терминов, переводя их на русский: «<…> это будет и приятно неучам, и полезно нашему младенчествующему языку».
Отдельные замечания высказали издателю и Жуковский с Вяземским, в целом горячо одобрившие журнал. Однако Боратынский не согласился с критикой своих товарищей: «<…> Приноравливаясь к публике, мы её не подвинем. Писатели учат публику, и ежели она находит что-нибудь в них непонятное, это вселяет в неё ещё более уважения к сведениям, которых она не имеет, заставляет её отыскивать их, стыдяся своего невежества <…>». Он заметил, что статья Киреевского о XIX веке непонятна лишь там, где речь заходит о философии, зато выводы литературные отменно ясны даже для тех, кто не силён в таинствах новейшей метафизики. «Не знаю, поймёшь ли ты меня; но таков ход ума человеческого, что мы прежде верим, нежели исследуем, или, лучше сказать, исследуем для того только, чтобы доказать себе, что мы правы в нашей вере. Вот почему я нахожу полезным поступать как ты, то есть знакомить своих читателей с результатами науки, дабы, заставив полюбить оную, принудить заняться ею <…>».
Между тем, пока писатели восторгались журналом и мечтали сделать его ещё лучше, в Третьем отделении Его Императорского Величества канцелярии подготовили доклад о статье Киреевского «Девятнадцатый век». Мысли философа нашли либеральными, статью — политической, недопустимой в печати. Сугубая строгость властей объяснялась недавней Июльской революцией во Франции и восстанием в Польше, а также общим революционным настроением в Европе. Документ лёг на стол государю, и тот повелел закрыть журнал «Европеец». По Москве поползли слухи, что Киреевского отправят в крепость, а цензора Аксакова — на гауптвахту.
В феврале стало известно о решении Московского цензурного комитета: на С. Т. Аксакова наложено
законное взыскание — «<…> и дабы издание оного журнала было на будущее время воспрещено, так как издатель оного г. Киреевский обнаружил себя человеком не благомыслящим и не благонадёжным». Цензор лишился работы — Киреевский остался с неизданной третьей книжкой журнала…
В марте 1832 года Боратынский в Каймарах получил от Киреевского письмо с этим печальным известием. Ответ его полон горечи:
«Я приписывал молчание твоё недосугу и не воображал ничего неприятного; можешь себе представить, как меня поразило письмо твоё <…>. От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик. Но что в этом утешительного? Где найти на него суд? Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным. Поблагодарим Провидение за то, что оно нас подружило и что каждый из нас нашёл в другом человека, его понимающего, что есть ещё несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своём кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимого в своё время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая. Может быть, придёт благопоспешное время <…>».
Чуть позже Боратынский попытался утешить друга: «<…> Много минут жизни, в которых нас поражает её бессмыслица: одни почерпают в них заключения, подобные твоим, другие — надежду другого, лучшего бытия. Я принадлежу к последним <…>».
Мать Киреевского, Авдотья Петровна Елагина, в письме Жуковскому сообщала, что Иван всё никак не умеет опомниться и сладить с собою. Немудрено: его заветное дело рухнуло, едва начавшись. Киреевский уехал в деревню, чтобы наконец прийти в себя. Сохранилось его письмо той поры Александру Кошелеву:
«Вечер славный: и свежо, и тепло вместе; я сижу под окном; на окне чай, который я пью, как пьяница, понемногу, с наслаждением, с сладострастием; в одной руке трубка, в другой перо — и я пишу, как пью чай, с роздыхом, с турецкою негою лени: хорошо и
мягко жить на эту минуту! Какая-то музыка в душе, беспричинная,
Эолова музыка, не связанная ни с какою мыслию. Зачем неспособен я верить! <…>».
Историю с запрещением «Европейца» обычно толкуют как трагедию в жизни Ивана Киреевского, пострадавшего от произвола и тирании императора. Однако русский философ Н. П. Ильин посчитал, что Николай I спас Киреевского. Не случись закрытия «Европейца», «<…> мы знали бы сегодня совсем другого Киреевского», скорее всего —
второго Чаадаева. «Своё твёрдое слово сказал Николай I — и Киреевский был спасён им как „национальный мыслитель“», — пришёл к выводу Н. П. Ильин.
Действительно, в последующие годы из увлечённого
западника Иван Васильевич превратился в убеждённого
славянофила (о его духовном перерождении чуть позже).
Николай Калягин обращает внимание на то, что 1832 год — это не только год запрещения «Европейца»: «В 1832 году был опубликован ещё исторический акт, провозгласивший Православие, Самодержавие и Народность основами русского государственного строя. С этого акта только и начинается у нас разделение мыслящих людей на „западников“ и „славянофилов“, только и начинается история самостоятельной русской мысли <…>». Калягин перечисляет тех, кто
справился со взыскательной и строгой —
отеческой — любовью государя к своим
детям: Пушкин и Гоголь, Боратынский и Киреевский, Лермонтов и Толстой, Достоевский и Аполлон Григорьев, Жуковский и Крылов, С. Аксаков и Даль, Тютчев и Вяземский и многие другие. (Были и те, кто не
справился: погиб Полежаев, «сломался» Н. Полевой…)
«<…> Золотой век русской литературы — век Николая I. Настоящее место этого царя во всемирной истории где-то неподалёку от Перикла, Августа Октавиана и Людовика XIV».
Преодолевая недуг бытия
Творческие поиски и возникшая склонность к прозе лишь слегка отразились в стихах Боратынского начала 1830-х годов. Всё это проявилось в балладе «Мадонна», повествующей о неизвестной картине Корреджо — «Корреджия», спасшей от голодного прозябания бедную итальянскую семью. Собственно, это притча о вере, о небесной награде за стойкость и чистоту своих убеждений.
«Охота рифмовать легенды», о которой Боратынский написал в январе 1832 года Киреевскому, возникла у поэта, когда он прочитал новую книгу баллад Жуковского: «<…> В некоторых необыкновенное совершенство слова и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях <…>».
Однако вряд ли Боратынский был доволен своим новым по жанру творением: как и в случае со стихотворной стилизацией, на манер Дельвига, русской песни (Песня, 1821), опыт с написанием баллады был первым и последним. Боратынский привык совсем к другому — к свободному дыханию и пространству элегии, к лаконизму и афористической точности своей философской лирики, — в тесноте и скованности сюжетной поэзии ему было не по себе. Поэт остался верен своему прежнему лирическому настрою… В элегии «Есть милая страна, есть угол на земле…» (1832), навеянной подмосковной усадьбой Мураново, он словно бы угадывает будущий
счастливый дом своей всё возрастающей семьи, где царят дружба и счастье и где бы он никогда не «охладел сердцем», даже в старости глубокой. А в элегии «Запустение» (осень 1832 года), в предчувствии будущего
счастливого дома, — прощается с домом детства, своим
заглохшим Элизеем — вотчиной в тамбовской Маре. Прощается с тенью отца — его духом, который пророчит ему страну
несрочной весны, где не заметишь следов разрушения, где не вянут тенистые дубровы и не скудеют свежие ручьи, — страну желанной и вечной встречи…
(Почти через два века поэт Иосиф Бродский назвал эту элегию лучшим стихотворением русской поэзии: «<…> В „Запустении“ всё гениально: поэтика, синтаксис, восприятие мира».)
Как ни упорядочена любовью, лаской и покоем его семейная жизнь, Боратынского по-прежнему не оставляет непреодолимый
недуг бытия:
Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробуждённым вдохновеньем
Природу снова обниму?
Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, её светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла
И, лёгкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.
(1832)
Поэт пытается заговорить это
омраченье, убеждая самого себя тем, что происходит в мире природы, где всё заведено по установленному порядку и вовек незыблемо:
К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путём неведомая сила
Влечёт. Бродячий ветр не волен, и закон
Его летучему дыханью положён.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим иль позабудем;
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим —
И будет счастлива, спокойна наша доля <…>.
Но тут же словно спохватывается:
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не её ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втеснённая судьбою.
(1832)
Но случаются в этом тягостном помрачении и минуты просветления — и они дарят его высоким и мудрым откровением, рождая поэтический шедевр:
Наслаждайтесь: всё проходит!
То благой, то строгий к нам,
Своенравно рок приводит
Нас к утехам и бедам.
Чужд он долгого пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадёжные часы.
Не ропщите: всё проходит
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда.
И веселью, и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.
(1832)
В этих стихах дышит какое-то новое состояние духа, высокая отрешённость от бед и печалей жизни. Сила рока, мучительный
недуг бытия тут преодолены поэтом. Простые истины, обычные слова… и только в последних строках, писанных старым слогом, светится древлее смирение. Архаика языка выявляет глубины времени; всё
проходит и пройдёт, кроме этого закона жизни…
Впоследствии это стихотворение стало одним из любимейших у «друга в потомстве» — Александра Блока, по складу души и по глубине переживаний очень близкого Евгению Боратынскому.
Любил Блок и другое стихотворение Боратынского, написанное чуть раньше, — удивительно ясное по духу и стройное по выражению чувства и мысли:
В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений,
Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал,
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал:
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.
Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твоё согласье захотел.
(Осень 1831)
Мысли о спасительной силе поэзии не покидают его в эти годы.
Друзей всё меньше и они далеко, общаться с ними можно лишь заочно, — в деревне Боратынский не пропускает ни одной почты, чтобы не отправить с нею нового письма. То ли дело было в Москве, когда за философическими мечтами и литературными спорами они засиживались с Киреевским далеко за полночь!..
Помещичий быт затягивает в своё болото. «<…> Сейчас я очень занят сельским управлением <…>. Можешь вообразить, какого напряжения нервов мне это стоит <…>», — пишет он своей любимице, Сонечке Энгельгардт, младшей сестре жены
(перевод с французского). В стихотворных черновиках появляются хозяйственные записи: «1-е. Нужно выбрать хорошего старосту, знающего поля и порядочного. 2-е. Распланировать место для дома и амбара хлебного и начать работать амбар. 3-е. Гумно по выбранному месту по сходе снега окапывать <…>» и пр. Будучи натурой цельной, Боратынский не мог чем-нибудь заниматься вполсилы, — и вот он заметил за собой
новое: «<…> Я ехал в деревню предполагая найти в ней досуг и беспечность, но ошибся. Я принуждён принимать участие в хлопотах хозяйственных: деревня стала вотчиной, а разница между ними необъятна. Всего хуже то, что хозяйственная деятельность сама по себе
увлекательна (выделено мной. —
В. М.); поневоле весь в неё вдаёшься <…>» (из письма И. В. Киреевскому, август 1833 года).
Стихи уже не раз спасали Боратынского в жизни — и в передрягах юности, и в неволе среди финских скал, и после, когда его одолевал болезненный дух. И наконец, вполне осознав эту благодатную силу поэзии, он выразил в чеканных, молитвенных по духу стихах свою давнюю благодарность:
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.
(1832)
Сходные мысли он уже прежде высказывал прозой в письме П. А. Плетнёву, но, как всегда у Боратынского, поэтическая формула предельно точна, афористична и благоуханна слогом.
Это замечательное стихотворение, как и многие другие его произведения, показывают, что вначале у Боратынского —
мысль. Разумеется, это не значит, что его чувство спит: такого и не может быть у поэта. Но мысль, определяя чувство, словно призывает к себе вдохновение — и требует выразить себя в поэтическом слове.
Недаром, по-видимому, буквально следом за этим прекрасным стихотворением Боратынский написал полушутливую, но и вполне серьёзную миниатюру:
О мысль! Тебе удел цветка:
Он свежий манит мотылька,
Прельщает пчёлку золотую,
К нему с любовью мошка льнёт
И стрекоза его поёт;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблёк —
Где пчёлка, мошка, мотылёк?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нём нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.
(1832)
По мнению И. Бродского, «<…> стихи Баратынского самые умные из всех написанных по-русски в его веке <…>».
Это, конечно, спорное суждение и отнюдь не лишённое полемического задора. Другое замечание Бродского более предметно: «Мысль и в самом деле отличает стихи Баратынского, в России никогда не было более аналитического лирика… Его стихотворения — это развязки, заключения, постскриптумы к уже имевшим место жизненным или интеллектуальным драмам, а не изложение драматических событий, зачастую скорее оценка ситуации, чем рассказ о ней».
Со времён «Наложницы» эпическая тяга Боратынского пошла на убыль, пока вовсе не иссякла. Обдуманная новая поэма так и осталась
в голове. А лирические стихотворения в последние годы писались у него редко…
30 мая 1832 года он сообщает Киреевскому: «<…> Это время я писал всё мелкие пьесы. Теперь у меня их пять, в том числе одна, на смерть Гете, которою я больше доволен, чем другими. Не посылаю тебе этого всего, чтоб было что прочесть, когда увидимся. Извини мне это Хвостовское чувство <…>».
К началу 1830-х годов Боратынский глубоко проникся философией Шеллинга: наверное, сказались влияние Ивана Киреевского, их горячие споры и беседы «с восьми вечера до четырёх утра» в Москве, обмен мыслями в переписке. Впрочем, это воздействие философа на эволюцию взглядов поэта не стоит преувеличивать: Боратынский и сам неустанно развивался как мыслитель и, естественно, его мировоззрение менялось. Тут скорее речь о том, что его понимание жизни, природы и человека с годами приблизилось к идеям натурфилософов. Однако он, без сомнения, с огромным интересом впитывал то, что ему проповедовал Киреевский, — не потому ли однажды в письме поэт словно бы шутя попросил друга указать на возможные
ереси против немецкого правоверия в своих стихах. В одной из статей Киреевский зорко подметил, что Боратынский и Пушкин, «начав своё развитие мнениями французскими, довершили его направлением Европейским, сохранив французского одну докончанность внешней отделки».
По мнению филолога И. Семенко, Боратынский не только хорошо знал, но и «взял на вооружение немецкую идеалистическую философию», творчески разрабатывая в стихах идеи о гармоническом единстве природы и человеческой души, о рассудке и интуиции, о противоположности «первобытного» и «цивилизованного» человека. Даже некоторые термины из лексикона «любомудров», такие как «стройность», «соразмерность», стали образами его стихов («Когда исчезнет омраченье…»). И. Семенко подчёркивает: «До сближения с „любомудрами“, до знакомства с натурфилософией в лирике Баратынского не была поставлена проблема „человек и мироздание“. Поэт сделал серьёзную попытку принять гармонизирующие мир шеллингианские идеи. Но в то же время, отталкиваясь от шеллингианских теорий, он вступил с ними в полемику поистине философского масштаба <…>».
Одно из самых значительных произведений 1832 года — «На смерть Гёте» — глубоко связано с шеллингианской идеей противопоставления мира «явлений» и мира «сущностей». Это стихотворение — торжественная и благодарная песнь творческому духу, мысли и «сердцу»
великого старца, совершившего «в пределе земном всё земное»:
<…> Погас! но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;
На всё отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа;
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашёл он предел.
Всё дух в нём питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времён упованья.
Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звёздная книга ясна,
И с ним говорила морская волна <…>.
Критика осталась равнодушной к этому стихотворению: «Московский телеграф» сравнил стихи с «выдохнувшимися цветами», с «образами без жизни»; а Н. Надеждин в «Телескопе» небрежно похвалил за «мысли, не так часто встречающиеся <…> в произведениях певца
Эды и
Наложницы». Лишь В. Белинский с истинным уважением оценил две последние строфы из приведённого отрывка: «В этих двенадцати стихах Баратынского о Гёте заключается высший идеал человеческой жизни и всё, что можно сказать о жизни внутреннего человека».
Наверное, именно таким в начале 1830-х годов Боратынскому и виделся идеал поэта. Филолог Е. Лебедев подметил, что в стихотворении на кончину Гёте Боратынским
впервые собраны воедино основные мотивы его лирики: «<…> и познание мировой сущности, и духовная свобода, и „идеал соразмерностей прекрасных“, <…> и вопрос об оправдании человека перед „вышними силами“ и „вышних сил“ перед человеком <…>». Вряд ли это было сделано намеренно, — но и случайного тут ничего нет: в творческой судьбе И. В. Гёте поэт невольно выразил и самого себя, свою поэтическую душу.
Изведан, испытан им весь человек! <…>
Несомненно: всё то, что осуществил Гёте, является целью и самого Боратынского, — и он устремлён к ней всею силой своего духа, всей своей интуицией и всем своим талантом: недаром эта строка оканчивается восклицанием. Достичь цели можно, лишь бесстрашно исследуя собственную душу. Но Боратынский, быть может, способен на такую отвагу и на тяжкий труд самопознания, как никто другой.
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век
И нас за могильной доскою,
За миром явлений, не ждёт ничего:
Творца оправдает могила его.
И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах сполна
Всё дольное долу отдавший,
К предвечному лёгкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.
(Апрель — май 1832)
Боратынский одинаково готов к любой загробной участи — лишь бы здесь, на земле, отдать «всё дольное — долу» и оправдаться перед вечной смертью или же перед вечной жизнью.
И, разумеется, это оправдание невозможно для него — без спасительной мощи поэзии…
Меж вдохновением и счастьем
С Киреевским он делится самыми заветными размышлениями:
«<…> Что ты мне говоришь о Hugo и Barbier, заставляет меня, ежели можно, ещё нетерпеливее желать моего возвращения в Москву. Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещённого фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он найдёт в нас отзыв. Поэзия веры не для нас. Мы так далеко от сферы новой деятельности, что весьма неполно её разумеем и ещё менее чувствуем. На европейских энтузиастов мы смотрим почти так, как трезвые на пьяных, и ежели порывы их иногда понятны нашему уму, они почти не увлекают сердца. Что для них действительность, то для нас отвлечённость. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм — наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и ещё не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение. Может быть, мы и вздумаем подражать, но в этих систематических попытках не будет ничего живого, и сила вещей поворотит нас на дорогу, более нам естественную <…>».
А Петру Вяземскому сообщает, что ничего нового не пишет и «возится» со старым. «Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений. Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой ещё не созрело <…>».
«Не прибавлю…» — книг? стихов?..
При всей своей выдержке он не справляется уже с резким перепадом настроений — впрочем, присущим любому поэту, тем более столь сильно и тонко чувствующему.
Но что делать, если таковы обстоятельства… Одухотворение творчеством — и бессмыслица жизни. Надежда «лучшего бытия» — и безнадежность вновь и вновь подступающего «помрачения»…
Конечно, у него оставалось спасение: любовь, семья, домашний круг. Недаром в стихах этого времени помимо темы о назначении поэта выделяется иная — о личном счастии, которое Боратынский не мыслит без семьи, без верной и преданной любви.
Стихотворение «Кольцо» («„Дитя моё, — она сказала…“») написано как раз в те годы.
«Дитя моё, — она сказала, —
Возьмёшь иль нет моё кольцо? —
И головою покачала,
С участьем глядя ей в лицо. —
Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое моё,
Ты будешь дум его царица.
Его второе бытиё.
Но договор судьбы ревнивой
С прекрасным даром сопряжён,
И красоте самолюбивой
Тяжёл, я знаю, будет он.
Свет к ней суровый, не приметит
Её приветливых очей,
Её улыбку хладно встретит
И не поймёт её речей.
Вотще ей разум дарованья,
И чувств, и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета. <…>
Но девы нежной не обманет
Моё счастливое кольцо:
Ей судия её предстанет,
И процветёт её лицо».
Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.
Иди ж с надеждою весёлой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжёлый
Всезабываюшей любви. <…>
Стихотворение обращено к Сонечке Энгельгардт, которой старшая сестра Настасья Львовна подарила кольцо. Боратынский не меньше своей жены желал барышне доброго и достойного мужа — как старший брат он наставляет свою любимицу на семейный подвиг, на
всезабывающую любовь.
И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора.
Мне, друг мой, руку протяни.
(1832)
К 1832 году относят элегию Боратынского «Я не любил её, я знал…». Это — воспоминание об одной прошлой любви (адресат неизвестен):
Я не любил её, я знал,
Что не она поймёт поэта,
Что на язык души душа в ней без ответа;
Чего ж, безумец, в ней искал?
Зачем стихи мои звучали
Её восторженной хвалой
И малодушно возвещали
Её владычество и плен постыдный мой?
Зачем вверял я с умиленьем
Ей все мечты души моей?..
Туман упал с моих очей,
Её бегу я с отвращеньем! <…>
Осознание былой ошибки чувства разливает свой тайный яд даже по прошествии времени, — но принесёт ли бегство от недостойного предмета любви желаемое избавление? Ответа на этот невольно возникающий вопрос поэт не даёт. Очевидно лишь одно: своим признанием —
врачующим песнопеньем — он желает разрешить — избыть — свою давнюю постыдную ошибку. О семье, о своём нынешнем счастье тут ни слова, ни намёка: автор не хочет, чтобы сегодняшний ясный день был задет былым
туманом. Однако душа живёт по своим законам, воспоминания без спросу приходят на ум, смущая его, — и потому поэт выносит прихотливой памяти свой, пусть и запоздалый, приговор.
Это воспоминание досадно и раздражительно для него: любовь к жене с годами только возрастает, становится полнее и глубже.
В одном из тогдашних стихотворений «Где сладкий шёпот…» описаны жестокая зимняя буря и пережидающий ненастье герой,
любимец счастья, которого укрывает надёжный кров и которого согревает пылающая печь. Аллегория так очевидна, что поэт и не скрывает, что говорит о семье.
<…> О Провиденье,
Благодаренье!
Забуду я
И дуновенье
Бурь бытия.
Скорбя душою,
В тоске моей,
Склонюсь главою
На сердце к ней,
И под мятежной
Метелью бед,
Любовью нежной
Её согрет,
Забуду вскоре
Крутое горе,
Как в этот миг
Забыл природы
Гробовый лик
И непогоды
Мятежный крик.
Его благодарное чувство к подруге жизни за нежную любовь и понимание выражено просто и непосредственно. Это чистый отзыв души, младенческое дыхание поэзии.
Но душа глубока, необъятна — а внимание поэта к её жизни так пристально и зорко, что он подмечает в себе почти неуловимые оттенки чувств. Свидетельство тому одно удивительное стихотворение, написанное в 1832 году или, может быть, чуть позже:
О, верь: ты, нежная, дороже славы мне.
Скажу ль? Мне иногда докучно вдохновенье:
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине!
Я сердце предаю сердечному союзу:
Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую музу.
Стихотворение посвящено жене, Настасье Львовне, — такого Боратынский не писал никогда и никому.
Филолог Евгений Лебедев в своей книге о Боратынском «Тризна» назвал эти стихи
поразительными — не имеющими «даже отдалённого подобия ни у предшественников, ни у современников».
Действительно, никто из поэтов так не обращался со своей
Музой, Боратынский открыто предпочитает ей сердечный союз и любовь в тишине, то есть жену и семейное счастье.
Муза, она чрезвычайно ревнива и не терпит ни малейшей измены, — коли отвергать её, мало быть творцом несуеверным, но надо быть готовым безбоязно распрощаться навсегда с нею, дарительницей вдохновения.
По существу Боратынский признался в том, что способен навек оставить поэзию.
Подтверждением тому служат и его слова в письме Вяземскому, кому он заметил, что,
кажется, ничего больше не прибавит к намечаемому собранию стихотворений.
Было ли то отзвуком временного уныния или укоренившейся безнадежности?..
Но чувство в стихотворении жене так живо и горячо, а тон столь неподдельно искренен, что становится ясно: лишь
все-забывающая любовь способна на такое признание.
Евгений Лебедев пишет: «До сих пор, когда перед поэтом вставал вопрос о том, что важнее: любовь или поэзия? — он отдавал своё предпочтение „святому ремеслу“, больше того, отводил любви второстепенную роль сырого материала, из которого гений творит новый мир, закрытый для виновницы его создания (пчела не делится мёдом с цветком, как об этом сказано в стихотворении „Лиде“). И вот теперь в жизнь поэта вошла такая любовь, перед которой „поэзия святая“ пасует, вдохновение становится „докучным“ <…> и примирения „болящий дух“ поэта ждёт уже не от „песнопенья“, а от любви. Живая жизнь важнее поэтического слова о жизни — вот о чём говорят эти стихи. Здесь — предвосхищение пронзительных стихов Ф. И. Тютчева из так называемого „денисьевского цикла“, где та же истина переживается поэтом уже трагически. Но заметьте себе — та же самая истина. Более сорока лет спустя Ф. М. Достоевский в „Сне смешного человека“ (1877) устами своего героя подведёт итоги освоения этой истины русскими писателями (которые <…> со времён Аввакума бились над нею) и в замечательно простых терминах сформулирует великую этическую задачу, стоящую перед человеком вообще и перед писателем в частности: „‘Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья' — вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас всё устроится“».
Всё это, конечно, так, если бы не одно «но», которое замечаешь, внимательно читая стихотворение:
<…> Мне иногда докучно вдохновенье <…>.
То бишь поразительное признание — связано с минутным настроением.
Исключение не отменяет правила: любовь ещё отнюдь не покорила «бунтующую музу», как бы того, быть может, ни желал сам поэт.
В конце концов жизнь показала, что вдохновение не только не оставило Боратынского, а подарило его ещё более совершенными стихами. А значит —
Муза простила его…
Однако и
любовь — вознаградила за верность:
Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчётное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно симво́л
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашёл.
Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нём свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит.
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милой,
Здешних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
Им к тебе воскликну я,
И душе моей навстречу
Полетит душа твоя.
(1832)
Встречи и расставания
После запрещения журнала «Европеец» Евгений Боратынский, наверное, понял, как резко сократилось, ужалось, а может, и почти сошло на нет то пространство, которое он привык считать
своим. В этом пространстве прежде обитали его друзья, жили его стихи, существовали его читатели, — там ощущалась незримая, тонкая связь между его творческим духом и излучением других душ, откликающихся на слово. Ему было больно сознавать, что такой великолепный критик, как Иван Киреевский, отныне отлучён и, по-видимому, надолго — от русского читателя. Поэт старался ободрить друга — а вместе с ним, пожалуй, и самого себя:
«<…> Неужели ты с тех пор ничего не пишешь? Что твой роман? Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления <…>».
Летом 1832 года поэт с семьёй отправился из Казани в Тамбовскую губернию, в Мару: пора было навестить мать, Александру Фёдоровну. Ему не слишком хотелось ехать на родину: отношения с некогда горячо любимой маменькой в последние годы разладились. Скрыть это было невозможно, тем более в собственной семье и родне.
В письме Софье Энгельгардт, написанном в июне вместе с женой, есть совершенно для него непривычные по откровенности слова, раньше просто немыслимые: «Мы отправляемся в Мару, любезная Софи, и я вполне этим доволен, ибо это путешествие было неизбежно в этом или следующем году, и чем долее оно откладывалось бы, тем более неприятным бы стало. Ты не можешь представить себе ни того, какую жестокую боль причиняет мне поведение маменьки по отношению ко мне, ни того, как борются во мне негодование и чувство почтения, которое я обязан питать к ней как сын. <…> мы будем с нею вежливо обходительны. <…> станем утешаться тем, что на несколько лет вперёд мы будем свободны <…>»
(перевод с французского).
По дороге, в Пензе, Боратынский повстречался с Денисом Давыдовым. Был разгар ярмарки: они вместе гуляли по рядам, весело говорили обо всём на свете и досадовали, что нет сейчас рядом ни Вяземского, ни Пушкина…
Прошло несколько дней, и Боратынский вдруг раздумал ехать в Мару и повернул в Москву. Возможно, уступил просьбам жены, которая снова была беременна и плохо переносила утомительную дорогу. К тому же Настасье Львовне ещё сильнее, чем мужу, не хотелось гостить в Маре: накануне поездки она жаловалась младшей сестре на
гадких марцев, с которыми нет желания видеться.
Лето, как повелось, провели в Муранове, а осенью вернулись в Москву. Боратынский принялся собирать для издания свою вторую книгу стихов, куда задумал поместить и поэмы.
В конце сентября в Москву приехал Пушкин; заглядывал в гости. Жене, Наталье Николаевне, писал в Петербург: «<…> Кто тебе говорит, что я у Баратынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера был у него. Мы всякой день видимся <…>».
Пушкин, узнав о книге, обещал переговорить с издателем Смирдиным — и слово своё сдержал: условился об издании собрания стихов, причём на выгодных для поэта условиях.
В октябре у Боратынских родился ещё один ребёнок — сын Дмитрий.
После деревенского уединения поэт снова радуется приятельству и товарищескому кругу: он познакомился с декабристом М. Ф. Орловым, ближе сошёлся с писателями: Н. Ф. Павловым, которого от души полюбил, А. С. Хомяковым, Н. А. Мельгуновым, А. И. Кошелевым, П. Я. Чаадаевым. Настроение Боратынского явно улучшилось, — его письмо Вяземскому в Петербург дышит весёлостью: «<…> В кругу, который некогда был вашим привычным, ещё чувствительнее ваше удаление. Д. Давыдов прислал мне начало вашего послания к нему, в котором вы поэтически подделались к его слогу. Он думает недели на две прискакать в Москву. Не решитесь ли и вы последовать его примеру и пригласить с собою Пушкина? Тогда слово будет делом, тогда
Будут дружеской артели
Все ребята налицо <…>».
В Москве Боратынские вели жизнь «самую простую», как сообщал отец Пушкина, Сергей Львович, своей дочери Оленьке, близкой подруге Настасьи Боратынской. «<…> Встают в семь утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в 9 часов вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всем довольными, спокойными, — следовательно, счастливыми <…>». А мать Пушкина, Надежда Осиповна, пишет дочери, что видала Боратынских у обедни, когда они причащались…
В январе 1833 года московские литераторы задумали к Светлому воскресению издать альманах «Шехеризада». Н. Мельгунов писал А. Веневитинову в Петербург, что участники — «все наши», и звал его быть «вкладчиком»: «<…> Два, три раза в неделю мы все в сборе; дамы непременные участницы наших бесед, и мы проводим время как нельзя веселее: Хомяков спорит, Киреевский поучает, Кошелев рассказывает, Баратынский поэтизирует, Чаадаев проповедует или возводит глаза к небу, Герке дурачится, Мещерский молчит, мы остальные слушаем; подчас наша беседа оживляется хором цыган, танцами, беганьем взапуски <…>».
Боратынского увлёкла затея с альманахом; он приглашает участвовать Вяземского и Пушкина, а заодно подключить к посильной вкладчине Гоголя и Козлова. Передаёт через Вяземского поклон Пушкину: «Я ему очень благодарен за участие, которое он принял в продаже полного собрания моих стихотворений. Я ему обязан тем, что продал его за семь тысяч вместо пяти <…>».
Ему нравились дружеские сборища с продолжительными беседами, которые отнюдь не были пустой светской болтовнёй: это были разговоры людей молодых, даровитых и умных —
аристократов духа. Вяземский называл такое общение —
словесным факультетом, «<…> который из любви к искусству для искусства и к слову для слова расточительно преподавал своё учение». Боратынский ценил именно такое общение, оживлённое, как он однажды писал Киреевскому, истинным
разговорным вдохновением, «то есть взаимною доверенностью и совершенною свободою». В кругу московских литераторов он прослыл отменным спорщиком, остроумным и глубоким собеседником.
Ещё полнее он высказывался — наедине с заветным другом. Иван Киреевский в письме от 17 мая 1833 года Владимиру Одоевскому пишет, как они прощались с Боратынским в канун его отъезда в Мару: «<…> Последнее воскресенье провели мы с Барат<ынским> вдвоём, и в пустом доме нашем нам одним стало
так innsinnlich <бесчувственно>, что мы опорожнили
несколько бутылок, и всё не наладились». О многом же, верно, было переговорено в этом грустном расставании в пустом доме, за вином… Впоследствии в памятном слове о поэте Киреевский писал:
«Стихи Баратынского отличаются теми же качествами, какие составляли особенность его поэтической личности: утончённость наружной отделки всегда скрывает в них сердечную мысль, глубоко и заботливо обдуманную. Но между тем сколько ни замечательно их поэтическое достоинство, однако они ещё не вполне высказывают тот мир изящного, который он носил в глубине души своей. Рождённый для искреннего круга семьи и друзей, необыкновенно чувствительный к сочувствию людей близких, Баратынский охотно и глубоко высказывался в таких дружеских беседах и тем заглушал в себе иногда потребность выражаться для публики. Излив свою душевную мысль в дружеском разговоре, живом, разнообразном, невыразимо-увлекательном, согретом теплотою чувства, проникнутом изяществом вкуса, умною, всегда уместною шуткою, дальновидностью тонких замечаний, поразительной оригинальностью мыслей и особенно поэзией внутренней жизни, Баратынский часто довольствовался живым сочувствием своего близкого круга, менее заботясь о возможных далёких читателях <…>».
В конце мая Боратынские покинули Москву и отправились в Мару. Элегия «Запустение», написанная в это время, наполнена тихой и ясной грустью воспоминания о родной усадьбе, об отце.
<…> Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Ещё прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей <…>.
В Маре жили маменька с сёстрами и брат Сергей со своей семьёй.
Боратынские поселились в стороне от барского особняка, в доме дяди, для чего пришлось заново обустроить жилище. Маменька, Александра Фёдоровна, «<…> великодушно на это согласилась, но мы обедаем и ужинаем у неё, что несколько неудобно; это меня будет стеснять, в особенности тогда, когда я что-то пишу», — писал Боратынский Соничке Энгельгардт, у которой они с женой оставили своего младенца Митиньку
(перевод с французского).
Поэт тяжко переживал натянутые отношения с родными: не мог забыть «зимние склоки» и прочие угнетающие его «сцены». Он явно не желал называть причину всего этого, но, похоже, она была в отношениях матери и сестёр с женой, Настасьей Львовной. Мать, Александра Фёдоровна, пребывала большей частью в глубокой ипохондрии…
Отстраняясь от разборок, Боратынский вёл существование монотонное и в то же время беспокойное. Впрочем, однажды он всё же достаточно подробно поведал свояченице домашние печали: «<…> Благодарю тебя, мой милый ангел, за всё, что ты нам пишешь. Твоя добрая и нежная душа дышит в каждой строчке. Не упрекай меня за умеренность, с какой я веду себя здесь. Я чувствую ко всему, что происходит, великолепное равнодушие. Перейдена какая-то граница, и отношения, некогда столь тяжкие, сделались в высшей степени простыми. Решившись не горячиться и не говорить ледяным голосом, я не выхожу из себя, с кем бы ни беседовал. Я безупречно вежлив, исполнен дружелюбия, не возвращаюсь к прошлому, словно оно забыто ко всеобщей выгоде. Забавно, что здесь не замечают происшедшей со мной разительной перемены и ещё обращаются ко мне с тем притворством, которым так долго меня дурачили. Всё это весьма печально: после тридцати лет нежности и любви найти такой холод в отношениях с теми, кого любил. Я в этом не виноват Зачёркнута одна строка> — вот что меня утешает <…>».
Но вот что особенно его мучит:
«Перестав любить, даже с полным на то правом, всегда чувствуешь, что стал хуже, чем прежде, и сам жалеешь об этом»
(перевод с французского).
Гейр Хетсо, внимательно изучивший переписку Боратынских с Софьей Энгельгардт и другие свидетельства, пришёл к выводу, что «<…> именно в это время неприязненные отношения Настасьи Львовны с родными мужа чрезвычайно обострились. <…> Правда, многое в этих письмах остаётся неясным. Подозрительная от природы Настасья Львовна прибегала часто к шифру, ключ к которому нам неизвестен. Но совершенно очевидно, что её отношение к сёстрам и братьям мужа (особенно к Льву Абрамовичу), не говоря уже о свекрови, к этому времени приняло весьма враждебный характер. Дело дошло до того, что мать поэта перестала показываться в гостиной и не являлась даже к обеду.
В результате всех этих унизительных семейных неприятностей, вынуждавших его, в частности, быть посредником между женой и матерью, Баратынский впадает в хандру и апатию <…>».
И былого досуга, так необходимого для творчества, в Маре уже не стало: Боратынского обуревали хлопоты по хозяйству, а те братья, что проживали в Маре, не годились в помощники.
В конце лета мать с детьми: Евгением, Ираклием, Львом, Сергеем, Софией, Натальей и Варварой подали прошение о разделе имения Мары. Как сказано в документе, из 1250 крестьян мужского пола, числящихся по ревизской сказке в Вяжле, Евгению Боратынскому по разделу досталось «<…> мужеска пола сто девяносто четыре души, с их жёнами, вдовами, девками, внучаты, приймуши, подкидуши и рождёнными после 7-й ревизии обоего пола детьми, с их домами, дворами, строением, скотом, птицею, усадебными местами, хлебом, в гумнах их стоящим и в землю посеянным».
В сентябре Боратынский отправился по хозяйственным делам в Каймары — и в Казани вдруг встретился с Пушкиным, который держал путь в Оренбург за материалами о Пугачёвском бунте. Казанская поэтесса Александра Андреевна Фукс вспоминала, с каким весёлым лицом вошёл к ней Боратынский, чтобы попрощаться: «<…> мне стало даже досадно», — так поэт был обрадован неожиданным свиданием с Пушкиным. И тот и другой торопились по своим делам, но всё же немного задержались в Казани по такому случаю. Вместе проехались по
пугачёвским местам города и окрестностей, беседуя на ходу. Денис Давыдов, узнав об этом, решил, что коль поэты сообща отыскивали сведения о Пугачёве, то не иначе «в союзе для сочинения какого-нибудь романа» о бунтовщике.
Лето 1833 года выдалось необычайно жарким и засушливым: в Маре дела с урожаем были плохи. «Я весь погряз в хозяйственных расчётах, — писал Боратынский Киреевскому. — Немудрено: у нас совершенный голод. Для продовольствия крестьян нужно нам купить 2000 четвертей ржи. Это, по нынешним ценам, составляет 40 000. Такие обстоятельства могут заставить задуматься. На мне же, как на старшем в семействе, лежат все распорядительные меры <…>».
Почти все в Маре уговаривали Александру Фёдоровну не покупать хлеба для прокормления крестьян, то есть пойти на «<…> поступок столь же бессердечный, сколь опасный при нынешних обстоятельствах», как писала сестре Настасья Львовна. Но Евгений Боратынский настоял на том, чтобы купить хлеб и выручить людей.
В Маре гостил тогда племянник Антона Дельвига — воспитанник его жены Софьи Михайловны. В его воспоминаниях запечатлены некоторые сведения о жизни в усадьбе. Так, А. И. Дельвиг пишет, что во всё своё пребывание ни разу не видал матери поэта — «больной старушки». Не показывался в доме и брат Лев Абрамович, женатый «на своей крепостной»: «<…> Он был большой пьяница». «Все четверо братьев Баратынских, — добавляет мемуарист, — любили выпить более должного. <…> Жизнь в деревне у Баратынских была устроена на английский манер, вероятно, в подражание их соседу Кривцову, большому англоману, человеку очень умному, но взбалмошному до неистовства <…>. — Утро в деревне Баратынских посвящалось занятиям каждого в своём помещении; все собирались к часу пополудни вместе завтракать; после завтрака некоторые оставались в общей зале, другие расходились до обеда, который подавался в семь часов вечера».
Софья Михайловна Боратынская-Дельвиг к тому времени уже три года прожила в Маре с мужем, Сергеем Абрамовичем. Сохранилось её письмо подруге, А. Н. Карелиной, с признанием, что она «вовсе не счастлива» в семействе мужа, хотя дело отнюдь не в нём, «молодом человеке редкого благородства»: «<…> я веду очень уединённую жизнь, будучи или беременною, или кормя детей, — что освобождает меня от визитов; мы тоже мало кого принимаем у себя: соседей у нас хоть и много, но лишь немногие ездят к нам, так как моя свекровь почти всегда находится в состоянии глубокой ипохондрии и не любит видеть у себя гостей. <…> Но то, что способствует украшению нашего уединения, это — присутствие моего шурина Евгения (поэта), который этим летом приехал, чтобы поселиться здесь со своими женою и детьми. Он счастливее нас, так как построил себе отдельный дом, сбоку от большого дома. Что это за человек, мой друг! Это поистине поэтическая душа! Какой возвышенный ум, какая нравственная чистота, какая высота чувств! У него много сходства в нравственном мире с моим покойным мужем. Ты знаешь, что они были связаны с ним как братья. Мы часто говорим о нём, это так сладко для меня. Его жена — особа, достойная его, они очень счастливы. Итак, чтобы дать тебе представление об этом семействе, скажу тебе, что эти столь благородные существа в нём не любимы… Им завидуют за их достоинства, за их превосходство. Как настоящие гарпии, они хотели бы пустить яду даже в их домашнее счастье. И только мой муж, у которого благородная душа, способен ценить достоинства Евгения, восторгаться им и понимать его. Поэтому они очень тесно связаны, и это наполняет моё сердце радостью»
(перевод с французского).
Даже если Софья Михайловна что-то и преувеличила по пылкости и в чём-то ошиблась, картина отчётливая; сам же поэт просто признавался свояченице: «Здешняя жизнь не по мне».
К зиме Боратынскому, видимо, удалось освободиться от хозяйственных забот: письма его Ивану Киреевскому, летом и осенью редкие и короткие, сделались более обстоятельными. Стало заметно: у него появилось время для чтения. Поэт взыскательно разобрал прозу Бальзака: «<…> Постоянное притязание на глубокомыслие не совсем скрывает его французскую ветреность. Как признаться мыслителю, что он не достиг ни одного убеждения и ещё более, не смешно ли хвалиться этим!» Сравнив эссе французского писателя с критической прозой Киреевского, Боратынский пишет: «Ты можешь быть Бальзаком с двумя или тремя мнениями, которые дадут тебе точку опоры, которая ему недостаёт, с языком более прямым и быстрым, и столько же отчётливым <…>».
В другом письме другу Боратынский ненароком высказал свою заветную мечту.
Рассуждая на тему, какая жизнь предпочтительнее: светская или затворническая? — видимо, это волновало Киреевского, коль скоро он «возобновил этот вопрос», — Боратынский отвечает, что для развития необходимы
и та и другая: «<…> Нужно получать впечатления, нужно их и резюмировать. <…> Остаётся определить, в какой доле одно будет к другому. Это зависит от темперамента каждого. Что касается до меня, то я скажу об обществе то, что Фамусов говорит об обедах:
Ешь три часа, а в три дня не сварится.
Ты принадлежишь новому поколению, которое жаждет волнений, я — старому, которое молило Бога от них избавить. Ты назовёшь счастием пламенную деятельность; меня она пугает, и я охотнее вижу счастье в покое. Каждый из нас почерпнул сии мнения в нашем веке. Но это — не только мнения, это — чувства. <…> Ежели бы теоретически каждый из нас принял систему другого, мы всё бы не переменились существенно. Потребности наших душ остались бы те же. Под уединением я не разумею одиночества; я воображаю
Приют, от светских посещений
Надёжной дверью запертой.
Но с благодарною душой
Открытый дружеству и девам вдохновений.
Таковой я себе устрою рано или поздно и надеюсь, что ты меня в нём посетишь <…>».
Устроил ли он себе это?.. — большой вопрос.
Другое куда как очевиднее: Иван Киреевский чаемое им уединение — не посетил…
Самого же Боратынского тогда гораздо сильнее волновало другое: соотношение жизни общественной и жизни индивидуальной, — и он напрямую задавал об этом вопрос Киреевскому:
«<…> Сколько человек по законам известной совести должен уделить первой и может дать последней? Законны ли одинокие потребности? Какие отношения и перевес (balance) наружной и внутренней жизни в государствах наипаче просвещённых, и что в России?
Я бы желал видеть сии вопросы обдуманными и решёнными тобою <…>».
Тут явно речь о гражданском долге, — и, понятно, поэту необходимо всё это решить прежде всего для себя самого. А стало быть,
счастие в покое отнюдь не удовлетворяло его и казалось неполным.
Той осенью и зимой в Маре Боратынский почти ничего не написал. Только читал корректуру своей книги, присылаемую из Москвы издателем Ширяевым, которому Смирдин продал права на издание. К началу 1834 года в типографии набрали лишь 1-ю часть книги, где были помещены одни стихотворения. Набор и чтение шли очень медленно: 2-ю часть книги — с поэмами — поэт вычитывал весь 1834 год, а сама книга появилась только в апреле 1835 года.
Известно лишь одно произведение, написанное им в ту пору:
предисловие в стихах, которым Боратынский намеревался открыть своё полное собрание стихотворений. Это был огляд и собственной жизни, и того, что сделано в поэзии:
Вот верный список впечатлений
И лёгкий и глубокий след
Страстей, порывов юных лет,
Жизнь родила его — не гений.
Подобен он скрыжали той,
Где пишет ангел неподкупный
Прекрасный подвиг и преступный —
Всё, что творим мы под луной.
Я много строк моих, о Лета!
В тебе желал бы окунуть
И утаить их как-нибудь
И от себя, и ото света…
Но уж своё они рекли,
И что прошло, то непреложно.
Года волненья протекли,
И мне перо оставить можно.
Теперь я знаю бытиё.
Одно желание моё —
Покой, домашние отрады.
И, погружён в самом себе,
Смеюсь я людям и судьбе,
Уж не от них я жду награды.
Но что? С бессонною душой,
С душою чуткою поэта
Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой,
Ещё, быть может, я возвышу
Мой голос, родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.
По неизвестным причинам это
предисловие в стихах — в книге не вышло; оно впервые было напечатано только в 1936 году. Но Киреевский прочёл это стихотворение: Боратынский привёл его в том письме.
Письмо же это Ивану Киреевскому, февраля 1834 года, оказалось последним: вскоре их дружба с Боратынским разладилась, а переписка оборвалась…
Глава двадцать первая
БОКАЛ УЕДИНЕНИЯ
Путём последнего поэта
Голос свой — он ещё
возвысил; струн —
не утаил…
По возвращении в Москву весной 1834 года Боратынские озабочены обучением и воспитанием подрастающих детей. Поздравляя маменьку с днём именин, поэт замечает, что всё последнее время у них множество хлопот с учителями, с гувернёрами и гувернантками, что очень трудно подыскать приличного педагога: никто не умеет даже заточить перо… Что до московской жизни, то она так однообразна, так глупа, что «удовольствия можно получить только от безоблачных небес»
(перевод с французского).
С небрежной иронией он пишет и о
свете — и вдруг замечает: «<…> Новых книг нет. Словесность
во всех странах истощена <…>» (курсив мой. —
В. М.).
Боратынский давно — с начала 1820-х годов — замечал, как «торговой логики смышлёный приговор» начинает всё больше властвовать в журналистике, в словесности, в искусстве. В первое время он легко высмеивал в эпиграммах «делового человека», потом не на шутку встревожился завоеваниями торгашеского духа, проникающего повсюду. «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом. Согласитесь, что это довольно грустно», — писал он поэту И. И. Козлову в январе 1825 года.
Со времён Кантемира и Ломоносова русская литература уже обрела большую силу, а критика только зарождалась, не поспевая за ней. Писателям приходилось самим создавать литературную критику: статьи и заметки писали Батюшков, Жуковский, Гнедич, Вяземский, а больше и лучше других — Пушкин. Для них, аристократов по происхождению и по духу, бескорыстных служителей искусства, была совершенно неприемлема логика дельцов от словесности. Причём своим происхождением писатели-дворяне хотя гордились, но отнюдь не кичились, — и тут образцом поведения в литературе был Александр Пушкин, как-то сказавший: «<…> Имена Минина и Ломоносова вдвоём перевесят, может быть, все наши старинные родословные <…>».
Пушкин одним из первых заметил ту опасность, которую привносили с собой в культурную и духовную жизнь народа представители напористого «третьего сословия» — дельцы, опошляющие высокие идеи. «Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне она вшивый рынок», — сказал он в письме М. П. Погодину весной 1834 года. Двумя годами позже в статье «Джон Тернер» Пушкин, исследуя «плод новейшего просвещения» и нравы в процветающей Америке, пророчески заклеймил душок нового времени: «<…> С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант из уважения к равенству, принуждённый к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленной перед нами».
Боратынский в одно время с Пушкиным понял, какие разрушения несёт наступивший век: грядущее сулило гибель — и поэту в мире, и лучшему в самом человеке.
Поэзия была для него — душой жизни; что же за жизнь без души?..
Большое, необычное по форме, стихотворение «Последний поэт» стало его откликом на самые тревожные думы, — оно, веющее дыханием нравственного апокалипсиса, за которым незамедлительно последует и настоящий конец света, вместило в себя и древность и новейшую эпоху, и реальность и мечту, и осмысление былого и предвидение грядущего.
Век шествует путём своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчётливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы. <…>
Глубокая ирония, пронизывающая эти строки, так безнадёжна, так тяжела и горька, что уже перестаёт быть сама собой, а изменяет качество на что-то несравненно более важное, значительное, действующее на душу больше, нежели на разум. Это — литое, выстраданное слово пророка, видящего сущность происходящего в мире и выражающего её с мужественной прямотой — как то, что необходимо знать всем, чтобы не заблуждаться впредь. «Насущное и полезное» —
бесстыдно, коли в сердцах корысть; «свет просвещенья», при котором исчезает детская чистота поэзии, —
тьма, притворившаяся светом; а раз так, то «поколенья» хлопочут, не зная того, о собственной гибели.
Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила,
Собрала свои народы
И столицы подняла;
В ней опять цветут науки,
Носит понт торговли груз
И не слышны лиры звуки
В первобытном рае муз! <…>
Эллада появляется не случайно: это родина Гомера, отчизна первобытной, ничем не замутнённой поэзии, — оттого и ритм стихотворения меняется. Но и эта святая земля нынче промышляет, считает, торгует, и звуки лиры здесь больше не слышны.
Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек.
Цветёт Парнас! Пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струёю бьёт;
Нежданный сын последних сил природы,
Возник поэт: идёт он и поёт.
Воспевает, простодушной,
Он любовь и красоту,
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету:
Мимолётные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля. <…>
Один поэт — не изменился и верен себе, своему назначению. Одному ему ведома
пустота и суета науки, обольстившей душу человека фальшивым знанием, где жажда пользы — материального благополучия и комфорта — самодовольно уничтожает радость, любовь и красоту. Потому-то и человек сделался «суров и бледен»…
А поэт простодушно поёт «поклонникам Урании холодной» — поклонникам науки — «благодать страстей»: ведь только чувства пробуждают в сердцах жизнь; поэт призывает верить «сладким убежденьям / Вас ласкающих очес / И отрадным откровеньям / Сострадательных небес».
Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста вещать полуотверсты,
Но гордыя главы не преклонил;
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край, но свет
Уж праздного вертепа не являет,
И на земле уединенья нет! <…>
Железному веку не покорна лишь
стихия — «море синее одно»: со времён Аполлона, «И свободно, и просторно, / И приветливо оно <…>». Стихии, породившей Афродиту, возвращает себя поэтесса Сафо, с Левкидовой скалы бросаясь в волны и там погребая «отверженной любви несчастный жар», — в стихии и поэт, «питомец Аполлона», погребёт
Свои мечты, свой бесполезный дар! <…>
А человек, с чем же он остаётся на земле, где поэзия уже никому не нужна?..
И по-прежнему блистает
Хладной роскошию свет:
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!
Свет — обездушел; скелет — сколько его ни серебри, ни позлащай, он отныне безжизненный остов.
Человеку остаётся лишь тоска по утраченной настоящей жизни…
Стихотворение «Последний поэт» было напечатано в первом номере нового литературного журнала «Московский наблюдатель» в феврале 1835 года. Этот журнал создали лучшие тогдашние литераторы: И. Киреевский, Н. Павлов, Н. Языков, А. Кошелев, Н. Мельгунов, А. Хомяков, М. Погодин, П. Чаадаев, С. Шевырёв, Д. Свербеев — в надежде отстоять русскую словесность в чистоте и силе от мутного вала коммерческой псевдолитературы. После запрещения «Литературной газеты» и журнала «Европеец» «Московский наблюдатель» стал в Москве последним оплотом борьбы с литературными дельцами. В нём печатались А. Пушкин, Н. Гоголь, П. Вяземский.
Евгений Боратынский был одним из создателей журнала: вновь поддержал собратьев по слову, хотя ещё не отошёл от недавних катастроф и вряд ли уже верил в успех дела. Он всё больше отстранялся от словесных баталий да и вообще от писательской жизни…
Первый номер нового журнала открывался статьёй Степана Шевырёва «Словесность и торговля», которая, по-видимому, задумывалась как программная, однако никакой глубоко продуманной стратегии не содержала. Критик лишь печалился о современном состоянии литературы:
«<…> Да, мой друг, торговля теперь управляет нашей словесностью — и всё подчинилось её расчётам; все произведения словесного мира расчислены на оборотах торговли; на мысли и на формы наложен курс!.. Умолкло вдохновение наших поэтов. Поэзия одна не покоряется спекуляции. В то счастливое время, когда каждый стих расценён в червонец, стихи нейдут!.. Тщетно книгопродавец сыплет перед взором поэта звонкие, блестящие червонцы: не зажигается взор его вдохновением. Феб не внемлет звуку металла… Почему же поэзия молчит среди этой осенней ярмарки? Потому, что только её вдохновение не слушается расчёта: оно свободно как мысль, как душа <…>».
Гоголь в своём обзоре журнальной литературы трезво рассудил, что коль скоро читателей становится больше, то и сама литература превращается в предмет торговли, а тут «<…> всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики ещё простоваты, выигрывают больше купцы оборотистые и пронырливые».
«Покупщики» — читатели действительно ещё были
простоваты, то есть глупы: успех стихов Бенедиктова в 1835 году затмил поэзию Пушкина. Чтиво пользовалось бешеным спросом: тираж «Библиотеки для чтения» Сенковского в десять раз превосходил пушкинский «Современник». Вяземский с горечью замечал, что век Карамзина и Дмитриева сменяется веком Сенковского и Булгарина…
Боратынский в «Последнем поэте» не предавался романтической, в духе Шевырёва,
печали: он поставил жёсткий диагноз
времени. С предельным мужеством, безоглядностью и глубиной он выявил мировоззренческий кризис новой, материалистической эпохи, единственный кумир которой — выгода,
польза. Железный век прямо и скоро движется к бездне, и человек предчувствует свою гибель, заранее тоскуя. Он предал собственную душу — а поэт, хоть и обречён, но «гордыя главы не преклонил», остался несломленным.
Последний поэт отдаёт себя
стихии — первородной божественной свободе и твёрдо знает: дух его — победил!..
Боратынский, наверное, и сам себя ощущал
последним поэтом, когда намеревался, после выпуска полного собрания стихов, навсегда «оставить перо». Дар, не ищущий пользы
железного века, живущий сам собою и для самого себя, —
бесполезный дар.
В «Последнем поэте» Боратынский доводит до логического конца, а прямо говоря — до апокалиптического исхода, пушкинскую тему
поэта и толпы, поэзии и пользы. В 1828 году Александр Пушкин написал стихотворение «Чернь» (в 1836 году, собирая книгу, он дал ему новое название — «Поэт и толпа»), в котором, в предчувствии наступающего
железного века, первым из русских поэтов прямо и остро ответил на его вызовы. В этом произведении «народ непосвящённый», бесмыссленно внимая поэту, поющему свою песнь, вопрошает певца:
<…> Какая польза нам от ней? <…> —
на что поэт даёт «черни тупой» свою гордую отповедь:
Молчи, бессмысленный народ,
Подёнщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нём не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже;
Ты пищу в нём себе варишь. <…>
Тогда «бессмысленная толпа» требует от поэта другой
пользы — блага нравственного поучения.
Поэт
Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор — полезный труд! —
Но, позабыв своё служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Заметим:
<…> Мы рождены для вдохновенья <…> —
поэт — ещё не одинок, у него есть собратья по лире, и вместе они сила, противостоящая тупой черни.
У Боратынского же —
последний поэт. Железный век, с его «насущным и полезным», одолел ненужную ему поэзию: человек отказался от своей души ради пользы тела.
Читал ли Пушкин «Последнего поэта»? Вполне вероятно, хоть и никак не отозвался о нём…
В «Памятнике» («Я памятник воздвиг себе нерукотворный…»), написанном в 1836-м, годом позже издания «Последнего поэта», есть такие всем известные строки:
<…> И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит. <…>
Стало быть, Пушкин допускал и возможность того, что когда-нибудь в мире может остаться только один —
последний — поэт. Не перекличка ли это с видением Боратынского?..
…За несколько лет до этого, 5 августа 1832 года, их старый друг, Вильгельм Кюхельбекер, томившийся тогда в заключении в тюрьме Свеаборга, записал в своём дневнике: «<…> Замечания Скотта о его подражателях очень справедливы и оправдываются тем, что испытал и наш Пушкин. Люди с талантом, не одинаковой степени, но всё же с талантом, — Баратынский, Языков, Козлов, Шишков младший, — и другие, вовсе без таланта, умели перенять его слог; до Пушкина, правда, никто из них не дошёл, но все и каждый порознь нанесли вред Пушкину, потому что публике наконец надоел пушкинский слог».
В
слоге ли только дело?..
И что такое, по сути,
подражания — коли истинный поэт берёт у другого только
своё — то, что у него
уже есть?..
Поэзия, она и перекличка слога, но ещё больше — перекличка заветных мыслей, догадок, прозрений, интонаций. Поэзия — общение душ во времени и в пространстве, и каждая душа, как ни перекликается с другой, остаётся неповторимой…
Современники Боратынского никак не отозвались на «Последнего поэта». Прошли долгие годы, прежде чем это стихотворение было по достоинству понято и оценено.
В 1883 году исследователь И. И. Ханенко написал:
«Баратынский предугадывал наступающую эпоху промышленной и торговой деятельности, вслед за которою у нас настала эпоха грубого материализма. Он как бы предузнал, что недалеко то время, когда один из корифеев молодого поколения во всеуслышание провозгласит, что всякий сапожник выше Шекспира и Пушкина».
Критик и философ С. А. Андреевский спустя пять лет заметил о начальной строфе «Последнего поэта», что она «точно вчера написана».
Позже поэт Валерий Брюсов выразился ещё определённее:
«Баратынскому суждено было предварять свой век. Он воистину был пророком… Его жалобы, что „век шествует путём своим железным“, относятся как бы к годам едва минувшим».
Гейр Хетсо, посвятивший жизни и творчеству Боратынского замечательную книгу, считает, что это стихотворение было предупреждением поэта не только своим современникам, но «<…> в высшей степени и своим потомкам <…>». Оно «<…> явилось необычайно резким выпадом против материалистического духа, развивавшегося в условиях современного капиталистического общества. Этот дух всё усиливался по мере того, как XIX век продолжал шагать по своему „железному пути“. <…> стихотворение „Последний поэт“ можно без всяких натяжек воспринять, как своего рода поэтическую иллюстрацию к некоторым сторонам учения молодого Маркса об „отчуждении“ человека. <…> Человек отчуждён от самого себя и своего внутреннего мира. Жажда наживы, или
корысть, как говорит Баратынский, проникла во все проявления жизни общества и владеет ими безраздельно. Стремление к приобретательству, стремление к тому, чтобы
иметь, перешло в наваждение, которое, всё извращая, разрушает самую способность человека
быть.
Понятие
отчуждение уже давно стало ключевым в современной западной социологии, философии и поэтическом творчестве. Со временем стало ясно, что картина болезни современного общества, представленная молодым Марксом и иллюстрированная хотя бы в „Последнем поэте“ поздним Баратынским, актуальна и действительна также и в наши дни».
Уточним лишь, что Боратынский никого не «иллюстрировал» — а выражал свои заветные мысли. Что до «актуальности», то диагноз поэта, поставленный эпохе, с годами только действительнее.
Вторая книга стихов
Лето и осень 1834 года Боратынские провели в деревне, а в канун зимы возвратились в Москву.
В январе 1835 года Боратынский купил двухэтажный каменный дом близ Арбата, в приходе церкви Спиридония, на Большой Спиридоньевской улице. С той поры они зажили в Москве, на лето выезжая в одно из поместий, чаще всего в подмосковное Мураново.
Семья росла: после третьей дочери Софии, родившейся в начале 1834 года в Маре, в конце 1835 года на свет божий появился младенец Николай. 4 декабря его крестили; восприемниками стали дед Лев Николаевич Энгельгардт с сестрой Александрой.
Поэт был заботливым отцом, и родительских хлопот у него только прибавлялось, как, впрочем, и хозяйственных забот. «Последний месяц я провёл в больших волнениях, любезная маменька, — писал он летом в Мару. — Сначала разболелась Сашинька, и нам пришлось перебраться в Москву. Едва мы вернулись в Мураново, заболел Лёвушка, и притом преопасно — мы снова возвратились в город, и там долго тревожились за его жизнь. Слава Богу, нынче он поправляется, хотя ещё очень слаб. У него было ни больше ни меньше как воспаление лёгких. Сейчас я занят необходимыми починками в доме, который купил. Обходится это довольно дорого, но всё же мне больше повезло, чем многим из тех, кто совершает такие покупки. Я переделываю только мелочи. Правительство приказало проложить от Москвы до Ярославля дорогу: она пройдёт через принадлежащую нам деревню в Переславском округе. Работы должны кончиться в два года. Это удвоит наши доходы и, главное, облегчит мне доставку в Москву великого строевого леса, какого в моём владении 150 арпанов. Прощайте, любезная маменька, целую ваши ручки, равно как жена моя и ваши внуки»
(перевод с французского).
Домашние дела были так неотступны, что ради них иногда приходилось жертвовать товарищеским общением. В ту пору в Москву проездом заглянул Николай Гоголь, только что написавший новую комедию, которую позже он назвал — «Женитьба». Друзья устроили ему чтение в доме Погодина: Гоголь читал прекрасно. Был зван и Боратынский — но прийти не смог. Он отправил хозяину дома записку: «К крайнему моему сожалению, почтенный Михайло Петрович, должен я изменить данному слову и лишиться великого удовольствия быть у вас. Знаю, что я пропускаю случай познакомиться с новым произведением нашего весёлого и глубокого Гоголя, и несказанно сетую на встретившееся препятствие».
Тем летом с поэтом свёл знакомство юрист Пётр Григорьевич Кичеев, написавший, по просьбе Боратынского, жалобу от имени Настасьи Львовны по поводу земельных споров с соседями-помещиками в Казанской губернии. Впоследствии Кичеев вспоминал: «Мы с ним познакомились <…> через приятеля его, тамбовского помещика Николая Фёдоровича Стриневского <…>. — При первом же свидании Евгений Абрамович произвёл на меня невыразимое впечатление. Его счастливая и симпатичная наружность, его скромный вид, тихая, умная речь сейчас же поселили во мне беспредельное к нему благоговение. <…> — На другой день приезжает ко мне Стриневский и говорит: — „Ну, брат, ты вчера сконфузил Баратынского“. — „Чем?“ — спрашиваю. — „Тем, что при нём, хотя и про себя, читал его стихотворения, лежавшие у меня на столе!“ — Вскоре приглашён был я Баратынским к нему обедать, в дом его, что на Спиридоновке <…>».
По-видимому, встреч больше не было, но знакомство продолжилось. Боратынский, рассказывает Кичеев, нашёл жалобу хорошо написанной, «он одобрял её в отношении слога и спрашивал меня, чрез Стриневского, сколько мне следует за труды? Получив в ответ, что от денег я отказываюсь, а желаю иметь в подарок его стихотворения, Баратынский прислал мне с Стриневским же свои стихотворения в отличном переплёте <…>».
Тут речь о книге «Стихотворения Евгения Баратынского», изданной незадолго до этого, в апреле 1835 года. В первой части книги были помещены стихи, во второй — поэмы.
Издание прошло почти незамеченным тогдашней литературной критикой: она уже давно охладела к Боратынскому. Впрочем, первый отзыв, вскоре по выходе книги, был сочувственным. «Библиотека для чтения» в безымянной рецензии писала о собрании стихов Боратынского, что в ней много страниц, написанных с пламенным чувством, глубокой мыслью. «<…> г. Баратынский — поэт элегический по преимуществу. Природа или обстоятельства дали это направление его несомненному таланту <…>. Этот мотив отзывается во всех его стихотворениях, даже весёлых, где поэт желал бы забыть свою обычную грусть. <…> Когда он выходит из элегий, он теряет всю свою силу и прелесть. Его эпиграмма не остра: она не колет, но тихо режет; его вакхические песни несколько принуждённы: заметно, что они сочинены; его мадригалы не льстят женского самолюбия: если бы мы были женщины, они бы скорее бесили нас тем презрением и холодностью, которых поэт не может скрыть даже под завесою угодливости и рифмованной любви. — г. Баратынский очень удачно оценивает Пушкина, Дельвига, Языкова, и если б решился излагать свои мысли в прозе, он был бы замечательным критиком. <…> В музе его точно — необщее выражение лица и необычайная простота речей, но кто же, познакомившись с ней покороче, вздумает почтить её только небрежной похвалою? Мы полагаем, что в неё можно влюбиться, прочитав „Череп“, „Мадонну“, „На смерть Гёте“ и многие другие стихотворения, из которых составлено ея прекрасное ожерелье. <…> Мелкие стихотворения все — решительно все хороши; каждое замечательно или по мысли или по стиху. <…> „Бал“, „Пиры“, „Переселение душ“ читаются с наслаждением, но мы отдаём решительное преимущество мелким стихотворениям — в них более силы, более полноты, более мысли <…>».
Через полгода последовал другой отклик. Самый яркий из молодых «властителей дум», Виссарион Белинский, с нескрываемым пренебрежением писал в своих «Литературных мечтаниях»:
«Г-на Баратынского ставили на одну доску с Пушкиным; их имена были неразлучны, даже однажды два сочинения сих поэтов явились в одной книжке, под одним переплётом. <…> теперь даже и в шутку никто не поставит имени г. Баратынского подле имени Пушкина. Поэтическое дарование г. Баратынского не подвержено ни малейшему сомнению. Правда, он написал плохую поэму „Пиры“, плохую поэму „Эдда“ („Бедную Лизу“ в стихах), плохую поэму „Наложница“, но вместе написал и несколько прекрасных элегий, дышащих неподдельным чувством, из коих „На смерть Гёте“ может назваться образцовою, несколько посланий, отличающихся остроумием. Прежде его возвышали не по заслугам; теперь, кажется, унижают неосновательно. Замечу ещё, что г. Баратынский обнаруживал во времена оны претензии на критический талант; теперь, я думаю, он и сам разуверился в нём».
Всё это не могло не коробить поэта, как и тех, кто знал истинную цену его поэзии.
Но что говорить о
молодых да ранних, если даже одна из «старых»
звёзд пушкинской плеяды, Вильгельм Кюхельбекер, весьма заблуждался в своих оценках. В своём дневнике он записывал летом 1835 года: «<…> Марлинский — человек высокого таланта: дай Бог ему обстоятельств благоприятных! У нас мало людей, которые могли бы поспорить с ним о первенстве. Пушкин, он и Кукольник — надежда и подпора нашей словесности; ближайшие к ним — Сенковский, потом Баратынский».
Ставить на одну доску с Пушкиным велеречивого Марлинского, напыщенного Кукольника и болтливого
Барона Бромбеуса — Сенковского и отодвигать при этом на задворки Боратынского — это больше, чем непонимание: это безвкусица. Кюхельбекера извиняет лишь то, что он сидел тогда в тюрьме и, скорее всего, многого не читал.
Белинский же был свободен и располагал всеми возможностями в чтении книг и журналов. Если ему что и мешало вполне знать, что же происходит в современной литературе, то лишь его собственные взгляды на неё. Они становились год от года радикальнее; самоуверенность возрастала куда быстрее, чем ум и восприятие поэзии. Даровитому критику весьма недоставало эстетической интуиции и душевной тонкости в понимании стихов, отчего его суждения порой грешили откровенной пошлостью, а оценки — ничем не оправданной грубостью. Так, в рецензии на новую книгу Боратынского в журнале «Телескоп» (октябрь 1835 года) Белинский, нимало не сомневаясь в своей правоте, писал: «<…> Несколько раз перечитывал я стихотворения г. Баратынского и вполне убедился, что поэзия только изредка и слабыми искорками блестит в них. Основной и главный элемент в них составляет ум, изредка задумчиво рассуждающий о высоких человеческих предметах, почти всегда скользящий по ним, но всего чаще рассыпающийся каламбурами и блещущий остротами. <…> перечтите все стихотворения г. Баратынского: что вы увидите в каждом из лучших? Два-три поэтических стиха, вылившиеся из сердца; потом риторику, потом несколько прозаических стихов; но везде ум, везде литературную ловкость, уменье, навык, щегольскую отделку и больше ничего <…>».
«Замечательных» стихов в большой книге Белинский обнаружил всего-то ничего, около десятка, да и те показались ему хороши — только «по мысли», а так — «холодны». Все же стихи вообще — оставили в его душе «такое слабое впечатление, как дуновение уст на стекле зеркала: оно легко и скоропреходяще».
Следом 24-летний критик преподал 35-летнему поэту поучительный и строгий урок:
«<…> В наше время, холодное, прозаическое время, надо в поэзии огня да огня: иначе нас трудно разогреть. — В числе необходимых условий, составляющих истинного поэта, должна непременно быть современность. Поэт больше, нежели кто-нибудь, должен быть сыном своего времени <…>».
Разбор стихов предполагает если не любовь к разбираемому, то хотя бы со-чувствие, со-мыслие. Зачем судить художника по тому, чего у него нет, — не лучше ли — по тому, что у
него есть.
Неистовый Виссарион даже не подозревает, что «надо то, надо сё» Музе говорить бессмысленно: Ей и сам поэт приказать не может…
Приведя несколько выписок из лёгких,
на случай, стихов, Белинский восклицает:
«И это поэзия?.. И это хотят нас заставить читать, нас, которые знают наизусть стихи Пушкина?.. И говорят ещё иные, что XVIII век кончился!.. <…> О поэмах г. Баратынского я ничего не хочу говорить: их давно никто не читает. Нападать на них было бы грешно, защищать странно. Однако замечу мимоходом, что в „Пирах“ блестят местами искры остроумия и даже изредка чувства <…>».
Больше откликов в печати на книгу Боратынского не было.
Лишь год спустя критическому разбору Белинского возразил в «Журнале Министерства народного просвещения» Я. М. Неверов. Он принялся доказывать отличие
поэта-гения от
поэта-таланта, чего, по его мнению, не сделал Белинский, но в итоге пришёл к весьма незначительным, неверным и поверхностным выводам, очень похожим на суждения Белинского: «<…> Кажется, что отказать в поэтическом таланте г. Баратынскому столь же невозможно, как и почитать его поэтом по преимуществу. В нём есть поэзия, есть и искусство, но они являются проблесками, и многие из этих проблесков превосходны, тогда как многие стихотворения остаются слабыми, потому что на них пала малая капля вдохновения; и эта же мгновенность поэтического расположения причиною слабости эпических его произведений».
Вот и всё, что наскребла по своим тощим сусекам тогдашняя литературная критика — говоря о книге Боратынского, вместившей в себя вдохновенный труд двух десятилетий.
Насчёт В. Г. Белинского в общем-то всё понятно: он уже начинал проповедовать свои взгляды о «современности», «социальности», для него уже был несносен дух аристократизма. Боратынский, конечно, был ему чужд, ибо считал поэзию самоцелью, а не средством для выражения тех или иных политических идей.
Гейр Хетсо находит некоторые суждения Белинского о Боратынском, высказанные в 1835 году, «оскорбительными и несправедливыми». Что касается статей критика 1840-х годов, то и там, замечает он, Белинский высказывается о поэте «самым обидным образом» — и чуть ли не советует Боратынскому «перестать писать».
«<…> Свойственная Баратынскому мысль о полной отрешённости искусства от грубой прозы человеческой жизни оказалась несовместимой с убеждением Белинского о том, что поэзия должна служить целям прогресса, — замечает Гейр Хетсо. — <…> Даже в самой доброжелательной статье 1845 года Белинский пишет, что „в стихе Баратынского есть поэзия, но как его второстепенное качество, и оттого он не художествен“».
Окончательный вывод этого объективного учёного нельзя не признать точным и справедливым:
«Не спорим, что в статьях Белинского о Баратынском есть много тонких наблюдений, достойных этого величайшего русского критика. Однако необходимо предостеречь от вредной тенденции видеть в Белинском непререкаемый авторитет, мнение которого считается чуть ли не законом, — считает исследователь. — На наш взгляд, Белинский, разбирая творчество Баратынского, явно злоупотребляет положением критика: вместо того чтобы читать и истолковывать стихотворения поэта в соответствии с их собственными предпосылками и затем беспристрастно исследовать, в какой степени эти предпосылки соблюдены, Белинский произвольно берёт на себя роль
судьи над поэтом, догматически заявляя, что его мысли „ложны“ и „неверны“. Вообще создаётся впечатление, что статьи о Баратынском написаны „неистовым“ фанатиком, наделённым раздражительной нетерпимостью к чужому мнению <…>.
Эпиграммы Баратынского на Белинского не оставляют никакого сомнения в том, что едкие, во многом несправедливые выпады „неистового Виссариона“ были для Баратынского обидны и мучительны. Известно, что Пушкин желал видеть в Белинском „более уважения к преданию, более осмотрительности“. В этой связи можно напомнить о замечании Брюсова: „Баратынский <…> не ожидал, что молодая критика отнесётся к нему так же свободно, как к любому новичку в литературе. Он был глубоко уязвлён“».
Звезда разрозненной плеяды
Стихи Боратынского середины 1830-х годов горчат ещё больше, чем прежние, — и что особенно заметно в них, так это, наверное, прямо не называемая тоска по дружеству. Былых близких сердцу людей или не осталось, или же они далеко. Стихотворение, обращённое к Петру Андреевичу Вяземскому, уехавшему жить в Петербург, стало последним в целой череде
посланий, раньше тесной, а теперь иссякшей. Этим посланием Боратынский откроет в 1842 году свою книгу поздней лирики «Сумерки» и даже выделит стихотворение курсивом — как запев:
<…> Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты
И между тем любви высокой,
Любви, добра и красоты. <…>
Князь Вяземский видится ему последним товарищем, который способен понять его душу и за кого ему хочется помолиться напоследок:
Счастливый сын уединенья.
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы.
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет, —
Ещё порою покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.
Ищу я вас, гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарившие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?
Что вам дарует Провиденье?
Чем испытует Небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!
Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благости молю <…>.
Звезда разрозненной плеяды!.. — о ком это? — о Вяземском?.. о себе?..
Пожалуй, и то и другое. Да, наверное, о всяком из
них — того,
пушкинского, круга, который рассеян временем.
«Разрозненная» — от слова «рознь»:
порознь теперь живут они: Пушкин, Вяземский, Боратынский, Языков, а Дельвига и вовсе нет на свете; но не коснулась ли рознь и их душ, ведь каждый идёт своим путём и думает свою думу.
Относил ли Боратынский к этой
плеяде Ивана Киреевского, младшего годами, недавно ещё такого близкого его душе?..
Почему их пути разошлись, а пылкая дружба — разладилась?..
Послание к Вяземскому, кажется, втайне напоено и этой невысказанной болью.
Ни к кому другому, за исключением Антона Дельвига, Боратынский не испытывал такой сердечной привязанности и расположения ума, как к Ивану Киреевскому. По кончине Дельвига Киреевский стал ему самым близким другом и почти восполнил ему утрату. Молодой философ был человеком кристально чистым, смиренным и добрым, вдобавок он столь же умён и даровит, как хорош своим нравом и сердцем. Все его любили: Алексей Хомяков отмечал, что жизнь Ивана Васильевича «<…> украшена была с первой молодости приязнию Пушкина, горячею дружбою Жуковского, Баратынского, Языкова и (слишком рано увядшей надежды нашей словесности) Д. В. Веневитинова».
Впоследствии Киреевский писал в некрологе о Боратынском:
«<…> От природы получил он необыкновенные способности: сердце глубоко чувствительное, душу, исполненную незасыпающей любви к прекрасному, ум светлый, обширный и вместе тонкий, так сказать, до микроскопической проницательности и особенно внимательный к предметам возвышенным и поэтическим, к вопросам глубокомысленным, к движениям внутренней жизни, к тем мыслям, которые согревают сердце, проясняя разум, — к тем музыкальным мыслям, в которых голос сердца и голос разума сливается созвучно в одно задумчивое размышление <…>».
О товарищеском союзе Боратынского с Пушкиным и Дельвигом Киреевский проницательно заметил, что «<…> внутреннее сродство сердечных пристрастий связало их самою искреннею дружбою, цело сохранившеюся до конца жизни всех трёх».
Подобное же
внутреннее сродство было у Боратынского и с Киреевским.
Гейр Хетсо недоумевает, как же молодой философ, человек редкой доброты, «духовный учитель поэта в начале 1830-х годов», мог попасть в число «недругов» Боратынского? Пытаясь отгадать эту загадку, исследователь доскональнее всех других изучил совокупность обстоятельств, что разрушили дружбу Боратынского с Киреевским.
Нельзя отрицать, считает учёный, что отношения Боратынского с целым рядом московских писателей, в первую очередь с Киреевским и его кругом, были «на грани разрыва», хотя для полного выяснения этого вопроса биографы располагают «чрезвычайно скудными материалами»:
«Во многих случаях приходится довольствоваться скромными предположениями <…>. Единственное, что можно установить достоверно, это то, что с конца 1830-х годов Баратынский всё сильнее и сильнее чувствует холодное и равнодушное отношение к себе со стороны многих московских писателей. Сознание, что он теряет своих друзей, становится для него сильным источником горечи и страдания. Так, в письме Я. К. Гроту от 1 августа 1844 года П. А. Плетнёв, ближайший друг поэта в последние годы его жизни, пишет: „Баратынский ужасно страдал всю жизнь от судьбы и от людей. Литераторы московские на него клеветали, не ценили его таланта“. Немного позднее он рассказывает о своём посещении вдовы Баратынского, „которая всё жаловалась на московских литераторов, как они огорчали её мужа“ <…>».
Сам Боратынский напрямую никого не обвинял, но в его стихах начала 1840-х годов порой звучит сильная душевная горечь. Такова эпиграмма «Коттерии» (это слово переводится с французского как «общества заговорщиков»):
Братайтеся, к взаимной обороне
Ничтожностей своих вы рождены;
Но дар прямой не брат у вас в притоне,
Бездарные писцы-хлопотуны!
Наоборот, союзным на благое,
Реченного достойные друзья,
«Аминь, аминь, — вещал Он вам, — где трое
Вы будете — не буду с вами Я».
В последних двух строках перефразированы известные слова Спасителя из Евангелия от Матфея (18, 20).
«Коттерии» обращены к тем писателям, что создали журнал «Москвитянин», ставший органом славянофилов. Ранее в письме Н. Путяте Боратынский назвал этих писателей «организованной коттерией». Впоследствии жена поэта сопроводила послание своей припиской: «Баратынский упоминает в этом письме о коттерии московских литераторов, которая вредно действовала на его нежную, раздражительную душу. Какое влияние развивало в нём подозрения, и были ли они болезненными снами воображения или не вовсе снами, как он сам выразился, — здесь не место это разбирать: „Сумерки“, изданные в 1842 г., носят многие следы мрачных впечатлений, полученных им в то время»
(перевод с французского).
В одном из последних стихов Боратынского «На посев леса» (1842) есть строфа, в которой виден явный отзвук этих «мрачных впечатлений»:
Велик Господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает Он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.
«Такие намёки наполняют некоторые из последних стихотворений Баратынского поистине ветхозаветным, хотя, может быть, и не всегда справедливым гневом, — пишет Хетсо. — <…> В самом деле трудно указать на конкретные причины возмущения и гнева поэта<…>».
Прямого — откровенного — разрыва у Боратынского с Киреевским не было, но в середине 1830-х годов их бурная переписка (поэт, находясь в деревне, не пропускал ни одной почты) вдруг резко оборвалась. Г. Хетсо считает: отчасти это связано с тем, что философ, после запрещения журнала «Европеец», находился под надзором полиции и не желал своими письмами, которые досматривались, вредить друзьям. Но через несколько лет, когда Боратынские уже обосновались в Москве, стало очевидно, что былой дружбе пришёл конец: поэт и философ почти не общались.
Биограф Алексей Песков уверен, что причиной этого разрыва стали «какие-то слухи», дошедшие до Боратынских «в таком виде», что они сочли их распространителями Ивана Киреевского и его мать, Авдотью Петровну Елагину: «Содержание слухов неизвестно. Скорее всего это был обычный светский вздор, который распространяют малознакомые или неприязненно относящиеся к нам люди». Однако пример, который привёл исследователь, свидетельствует, что «вздор» был весьма злоязычным.
В воспоминаниях Александры Осиповны Смирновой-Россет есть пересказ двух характерных сплетен: «Евгений был камер-пажем и проводил воскресение у дяди сенатора Баратынского, попросил у него денег, тот отказал, и несчастный Евгений украл у него фамильную табакерку, украшенную бриллиантами. Дядя на него пожаловался, его разжаловали в солдаты и отослали в Гельсингфорс <…>. Баратынский женился на Энгельгардт, сестре Софьи Львовны Путята. Его жена некрасива, грязна, скучна и ревнива; он начал пить, что вызвало ужасные сцены».
Язвительную и умную красавицу Александру Смирнову-Россет Жуковский в шутку называл «небесным дьяволёнком», однако вряд ли бы она, дружившая с лучшими поэтами эпохи, стала пересказывать подобные нелепые и грязные россказни: вероятно, правы те современники бывшей фрейлины, которые считали «Воспоминания» во многом вымышленными её дочерью, Ольгой Николаевной, по смерти матери подготовившей записки к изданию.
Как бы то ни было, Алексей Песков совершенно справедлив в своих выводах:
«Только при болезненном состоянии духа можно было заподозрить Киреевского и его мать в причастности к такого рода вздору. Боратынский и Настасья Львовна заподозрили и отвергли былую привязанность навсегда, отравив тем самым и собственную жизнь — памятью о предательстве друзей, и жизнь былых конфидентов».
Н. Калягин тонко замечает, что Боратынский «на равных участвовал со своей женой в играх против остального мира», а так как поэта в семье Киреевских-Елагиных «ценили чуть выше, чем его жену, <…> и этого микроскопического „чуть“ вполне хватило для разрыва». По-видимому, Боратынский решил, что в этой семье Настасью Львовну как-то «обидели» или «унизили», а это был для него уже «грех непрощаемый»… «За себя Баратынский мог всё простить, но обидчик Настасьи Львовны автоматически становился ему врагом».
«Знаете, разные
слухи ходили и распускались», — отвечал позже сын поэта, Лев Евгеньевич, философу Е. А. Боброву. Наверняка от своей матери он знал и подробности, но явно не хотел вдаваться в них. «Возможно, что острый язык поэта наделал ему врагов, — предполагает Гейр Хетсо. — Известно, что Баратынский из-за своих острот и насмешек иногда производил впечатление человека „злого“».
Но, быть может, и Киреевский ненароком повредил этим отношениям. В переписке T. Н. Грановского со своей женой есть пересказ разговора с И. В. Киреевским: «Кстати о пьянстве. И. В. уверяет меня серьёзно, что из того приёма, с каким я беру в руки рюмку вина, ясно, что я имею наклонность к пьянству и что я напомнил ему этим двух его друзей — Рожалина (покойник был пьяница) и Баратынского». Если Иван Васильевич делился этими своими наблюдениями не только с Грановским, то подобные разговоры вполне могли окольными путями дойти и до Боратынских. Понятно, всё это задело бы поэта, а тем более его жену, Настасью Львовну, ревностно относившуюся ко всему, что связано с мужем.
«Возможно, впрочем, что разрыв с Елагиными был виною не столько поэта, сколько его мнительной супруги, — считает Г. Хетсо. — „Отпугивала несколько друзей Баратынского его деспотическая жена, Анастасия Львовна, но никогда не он сам“, — пишет М. Л. Гофман <…>».
В одном из писем Авдотьи Петровны Елагиной Софье Боратынской-Дельвиг мать Киреевского передаёт сердечный привет брату поэта, Сергею Абрамовичу, и пишет: «<…> Как я рада, что он не враждебно обо мне помнит! Неужели дети моего вечно мне милого Евгения Абрамовича наследовали непостижимую для меня ненависть своей матери? <…>»
Кроме природных свойств характера и превратностей судьбы была и другая причина, по которой у молодых супругов развилась такая подозрительность: и она — в замкнутой семейной жизни. Центростремительная сила слияния двух душ со временем отметала всех посторонних. Боратынский был чрезвычайно цельной натурой и, отыскав себе верную подругу жизни, сосредоточился на общении только с ней. Возможно, это было в нём и защитной реакцией: ведь смолоду его томил соблазн увлечься натурой совсем другой — огненно-страстной и противоречивой, этакой
беззаконной кометой в расчисленном кругу жизни, с которой бы он погиб окончательно. Не потому ли, инстинктивно спасаясь, он бросился с головой в другой омут, под названием
семейное счастье? Без сомнения, Настасья Львовна подходила для этого, как никакая другая женщина.
С годами сердечная привязанность Боратынского к жене только возрастала, чему свидетельством его письма Настасье Львовне, которыми он засыпал супругу в вынужденных порой отлучках из дому. Так, в июне 1836 года Боратынский пишет жене из Москвы в Мураново: «<…> Чувствую себя хорошо, но слегка пьян. <…> обнимаю тебя нежно, мой ангел, как в первый день женитьбы. Впрочем, вздор: я тебя люблю теперь несравненно больше, но невозможно это изъяснить. Знаешь ли, десять лет со дня свадьбы — это событие торжественное! Это договор, который я продлеваю ещё на десять лет? Это закон законов. Прощай, мой милый друг, моё дорогое дитя. Не пеняй на дурачество моего письма. Несмотря на прекрасное настроение, я немного грустен оттого, что тебя нет рядом со мною. Храни тебя Господь!» (
перевод с французского).
Письма же самой Настасьи Львовны мужу (сохранилось лишь одно) просто пылали нежной любовью: «Обожаемый мой, жизнь моя, сокровище бесценное, дорогой мой, душа моя, как мог ты вообразить, что я затаила на тебя обиду? <…>» — обращается она к мужу в мае 1840 года (
перевод с французского). И далее в письме как только его не величает: «моя душичка», «моя милая душичка», «шеринька» (от французского
cher — милый, дорогой)…
Поэт вообще — существо необычайно чувствительное и впечатлительное; любая искра в нём мгновенно вспыхивает пламенем и вырастает в пожар, — такова сила воображения. Боратынский обладал этими свойствами в высшей степени, что столь же говорит о величине его поэтического дара, сколько и о боли и бедах, которые он наносил самому себе своим воображением, когда не мог справиться с ним. Это напрямую касается и его мнительности. Гейр Хетсо замечает: «<…> Жена поэта ничуть не рассеивала его подозрительности. Пользуясь всё возрастающим влиянием на своего мужа, она, по-видимому, ещё и поощряла в нём усиливающуюся с годами склонность к мнительности».
Биограф Алексей Песков, размышляя о разрыве поэта с Киреевским, пришёл к парадоксальному, но чрезвычайно точному выводу: «Одной из главных причин кризиса, вероятнее всего, стало то, что составляло вместе с тем его счастье — семейная идиллия. Мирный, размеренный семейный быт был для Боратынского необходим, как воздух. Однако в реальности тесный домашний круг являлся оплотом полноценного бытия лишь постольку, поскольку был возможен периодический выход за его пределы. Для Боратынского такими выходами служили, во-первых, общение с Киреевским, во-вторых, участие в литературе. Когда он писал Киреевскому после закрытия „Европейца“ о том, что теперь, несмотря ни на что, надо продолжать трудиться, как на необитаемом острове <…>, он не лукавил. Но одно дело — убеждённость человека в том, как следует действовать в экстремальной ситуации, другое — его действительное психическое состояние в такой ситуации. И, как выяснилось впоследствии, писать как на необитаемом острове, без повседневного общения с мыслящим другом и в отрыве от близкой литературной среды, Боратынский мог преимущественно об одном: фигурально выражаясь, о том, что он на необитаемом острове — об одиночестве художника, о бессмысленности и бесплодности жизни, об отчаянии человека, не находящего нигде отзыва своему слову (см. „Последний поэт“, „Недоносок“, „Бокал“, „Осень“, „Были бури, непогоды…“, „На что вы дни! Юдольный мир явленья…“, „Рифма“ и проч.)».
А. Песков с уверенностью заключает, что никакой действительной травли Боратынского со стороны московских писателей на самом деле не было. Боратынского не забывали приглашать на значительные писательские сборища (одно из них — именинный обед Гоголя в саду дома Погодина на Девичьем поле); весьма доброжелательно отзывались о нём в «Москвитянине». Более того, впоследствии выяснилось, что не было о нём и неприязненных отзывов в письмах, дневниках писателей из круга «Москвитянина». «<…> Дело было прежде всего в болезненном самоощущении — в ожидании нападения, в воспоминаниях об обидах, в страхе новых душевных ран. В результате незначительные мелочи превращались в знаки вражды». Однажды во время поездки Боратынского в Петербург его увидел Вяземский — и вдруг спросил о здоровье, а потом неожиданно сказал: «Вы несколько похожи на мнимого больного». Похоже, Вяземский подметил нечто новое в поведении поэта: настороженность.
Резкие перепады настроения, свойственные Боратынскому, со временем переняла и его жена (если только это не было ей свойственно и прежде даже в большей степени, чем мужу). Так, весной 1842 года в Мураново приехала Софья Львовна Путята (Соничка Энгельгардт вышла к тому времени замуж за друга Боратынского, Николая Путяту). Она решила навестить Боратынских, чтобы убедиться, всё ли у них в порядке. «Не волнуйтесь… о нашем расположении духа, — писала Путятам А. Л. Боратынская после отъезда сестры, — оно может оставить у вас плохое впечатление… Мы во всём, такие уж у нас характеры, доходим до крайностей: то, что в хорошую минуту вызовет прилив чрезмерной весёлости, в минуту уныния будет преувеличено противоположным образом, вот почему мы совершаем столько ошибок, повинуясь нашему воображению, порой бросаясь на шею людям, от которых следовало бы уклониться <…>; если бы вы услышали, насколько различно мы говорим об одном и том же в зависимости от состояния духа, вы посчитали бы нас в некотором роде сумасшедшими» (
перевод с французского). «В сущности, Настасья Львовна на свой лад объясняла доминантный принцип поэзии её мужы — относительность истин», — заключил по сему поводу Алексей Песков.
Однако же в своих толкованиях о поэзии Боратынского исследователь всё-таки чересчур прямолинеен: можно ли выводить такую тонкую материю, как стихи, только из обстоятельств жизни или же прихотей характера? Всё гораздо сложнее. Воззрение поэта на жизнь и на мир изначально даётся ему вместе с даром — и только проявляется потом всё с большей ясностью, полнотой и силой.
Скорее, слова Настасьи Львовны больше о том, как
слились они с мужем-поэтом своими характерами. Всё по старой русской пословице:
муж и жена одна сатана.
Николай Калягин пишет:
«Когда Баратынский за полгода до смерти обращается к жене со словами:
„О, сколько раз к тебе, святой и нежной, / Я приникал главой своей мятежной, / С тобой себе и Небу веря вновь“, — он создаёт в этих стихах „
ложный образ счастья“, изображает извращённую, „перевёрнутую“ иерархию бытия. Я с тобой — поэтому я могу верить в себя — поэтому я могу верить Небу. Неудивительно, что страх за здоровье жены убил Баратынского в Неаполе: потеряв жену, он автоматически терял и Небо, и самого себя… Правильный порядок совершенно противоположен: я верю Небу — поэтому я могу верить себе — поэтому я могу любить другого (другую)».
Как бы тяжко ни приходилось ему в жизни как человеку, Боратынский никогда не изменял своим взглядам. Он не поддавался никому и ничему, храня своё ви́дение мира и жизни в чистоте и поверяя его лишь своими убеждениями. Не оттого ли число литературных противников только росло? К началу 1840-х годов к его старым журнальным оппонентам: Н. Полевому, Надеждину, Булгарину, Сенковскому добавились новые — проповедники философии Гегеля, из кружков Герцена и Станкевича.
<…> Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос,
Я дни извёл, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.
признавался Боратынский в стихотворении «На посев леса» (1842).
Молодые гегельянцы уповали на разум, на логику, на достижения науки, — Боратынский же больше доверял интуиции. «Поэзия есть полное ощущение известной минуты», — говорил он.
В отличие от поклонников философии Боратынский познавал мир
как поэт и потому не мог не быть чужаком для того или иного литературного лагеря. Это ясно почувствовал и точно выразил Пётр Плетнёв: «Дорожа вдохновенными трудами своими как честию и не понимая так называемого ремесла литературного, Баратынский не мог принадлежать ни к одной из писательских партий: он был друг одних литераторов чистой сферы, которым нет никакой надобности в мелочных подпорах».
Да и сам поэт сознавал своё духовное одиночество: недаром он перестал посещать литературные салоны, бросив им напоследок насмешливую эпиграмму:
На всё свой ход, на всё свои законы.
Меж люлькою и гробом спит Москва;
Но и до ней, глухой, дошла молва,
Что скучен вист и веселей салоны
Отборные, где есть уму простор,
Где властвует не вист, а разговор.
И погналась за модой новосветской,
Но погналась старуха не путём:
Салоны есть, — но этот смотрит детской,
А тот, увы! — глядит гошпиталём.
(1840?; курсив мой. — В. М.)
И, наконец, последняя и едва ли не самая существенная причина его расхождения с Иваном Киреевским, причина, о которой почти совсем не пишут ни А. Песков, ни Н. Калягин, а Г. Хетсо — сообщает недостаточно полно. Она заключается в резко изменившихся после 1834 года взглядах Киреевского, испытавшего на этом рубеже духовное перерождение.
Весной 1834 года Киреевский женился; его избранницей стала Наталья Петровна Арбенева, доводившаяся ему троюродной сестрой, руки которой он до этого несколько лет безуспешно добивался. Наталья Петровна была воспитана, в отличие от Ивана Васильевича, в строгом благочестии. «В первые времена после свадьбы исполнение ею наших церковных обрядов и обычаев неприятно его поражало, но по свойственной ему терпимости и деликатности он ей в том нимало не препятствовал, — записал впоследствии друг философа А. И. Кошелев. — Она, с своей стороны, была ещё скорбнее поражена отсутствием в нём веры и полным пренебрежением всех обычаев Православной Церкви. Между ними были разговоры, которые оканчивались тем, что положено было ему не мешать ей в исполнении её обязанностей, а ему быть свободным в своих действиях, но он обещал при ней не кощунствовать и даже всячески прекращать неприятные для неё разговоры его друзей».
Через год Киреевский попросил жену прочесть книгу Кузена; она прочитала и сказала, что в книге много хорошего, но ничего нового: всё это есть в трудах Святых Отцов Церкви. Кощунника и насмешника Вольтера — читать отказалась. А когда вместе с мужем, по его просьбе, стали читать Шеллинга, ничему не поразилась, хотя философ «требовал удивления от жены своей»: светлые мысли немецкого философа лишь повторяли то, что она вычитала в книгах Святых Отцов. Иван Васильевич сверился с этими книгами и увидел, что жена права. «Неприятно ему было сознавать, что, действительно, в святых отцах — многое, чем он восхищался в Шеллинге. Он не любил в этом сознаваться, но тайком брал у жены книги и читал их с увлечением».
Потом Киреевский познакомился с духовником жены иеромонахом Филаретом (Пуляшкиным), прочёл труды
учителя безмолвия — Исаака Сирина, и как-то произошло чудесное событие:
«И. В. Киреевский никогда прежде не носил на себе креста. Жена его не раз его о том просила, но Иван Васильевич отмалчивался. Наконец однажды он сказал ей, что наденет крест, если он будет ему прислан от о. Филарета, которого ум и благочестие он уже давно уважал. Наталья Петровна поехала к о. Филарету и сообщила ему это. Старец, перекрестившись, снял с себя крест и, давая, сказал Наталье Петровне: „Да будет он Ивану Васильевичу во спасение“.
Когда Наталья Петровна приехала домой, то Иван Васильевич, встречая её, спросил: „Ну, что сказал о. Филарет?“ Она вынимает крест и отдаёт его Ивану Васильевичу. Иван Васильевич спрашивает её: „Какой это крест?“ Наталья Петровна говорит ему, что о. Филарет снял его с себя и сказал, что да будет он ему во спасение. Иван Васильевич пал на колени и говорит: „Ну, теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме своём положил: если о. Филарет снимет с себя крест и мне его пришлёт, то явно будет, что Бог призывает меня ко спасению“. С этой минуты заметен был решительный поворот в мыслях и чувствах Ивана Васильевича. Так действием благодати Божией распахнулись наконец двери сердца Ивана Васильевича в сретение Христа Спасителя».
По религиозному преображению философ вошёл в церковную жизнь и возглавил славянофильское движение. Боратынский же разделял далеко не все взгляды славянофилов. По определению Гейра Хетсо, поэт, будучи русским душою и сердцем, в то же время чувствовал себя в долгу перед духовной жизнью Западной Европы: «боевой клич» славянофилов о
гнилой Европе был ему чужд. Однако и непримиримым западником он отнюдь не был, недаром в 1836 году, после появления знаменитого философического письма П. Я. Чаадаева, поэт готовил «опровержение» на него. Как и славянофилы, Боратынский верил в славное будущее России, но ценил и лучшее в культуре Европы. «Надо думать, — считает Г. Хетсо, — что Баратынский чувствовал себя „между славянофилами и западниками“, подобно Н. А. Мельгунову, для которого „Россия есть Россия, но вместе и часть Европы“».
Так Боратынский и остался между двумя направлениями русской мысли, не примкнув ни к одному лагерю.
Понятно, и для славянофилов, и для западников он был если и не врагом, то чужим. И те и другие вскоре стали равнодушны к нему, да и сам поэт почувствовал к ним —
партийным, то бишь если по-русски —
частичным — отчуждение. Душа — шире партий, лагерей, всех могучих или же не очень кучек… Его литературные связи с «Московским наблюдателем», «Москвитянином» и «Отечественными записками» быстро прекратились; поэт отдавал немногие свои стихи только в «Современник», который после Пушкина возглавил П. А. Плетнёв. Но «Современник» выходил в Петербурге…
А в Москве же Боратынский остался — один.
«Мир я вижу как во мгле…»
К этому времени относятся стихи, развивающие горькие мысли «Последней смерти» и «Последнего поэта». В «Недоноске» (1835) Боратынский повествует о неком существе «из племени духо́в», которое в тоске мечется между небом и землёю, ненужное никому и ничему, — причём весь рассказ, что весьма необычно для его стихов, ведётся от первого лица.
Это стихотворение, несомненно, самое таинственное произведение Боратынского, выражающее тёмные глубины его интуитивного постижения мира.
Недоносок не в силах взлететь до райских высот, но страшится и земли, исполненной «людских скорбей». Что это? — человеческий ли дух, неполноценный и несовершенный, или олицетворённое сознание человека, понимающее своё бессилие перед стихиями природы и земных страстей?..
Поэт не даёт определённого ответа на этот вопрос, словно бы лишний раз подчёркивая межеумочную сущность Недоноска:
<…> Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных — скорби тесных!
В тучу прячусь я и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.
Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу… На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!
Филолог Ирина Семенко, толкуя это стихотворение, пишет, что в нём сказались религиозные сомнения поэта:
«<…> Образ Недоноска, в сущности, столь же кощунствен, как кощунственны были ранние стихи Баратынского о „случайном“ даре жизни („Дельвигу“, 1821; 1-я редакция „Стансов“, 1825). Ведь христианския религия основывалась прежде всего на учении о бессмертии духа, о доступности ему „эмпирея“, о божественной природе „души“».
Однако духовная цензура, пропустившая стихотворение в печать, по-видимому, не посчитала Недоноска человеком, а только лишь — игрой воображения, фантастическим
существом.
И. Семенко, очевидно, придерживается другого мнения: она продолжает свою мысль, замечая, что в «Недоноске» Боратынский, по сути, вступает в полемику с державинской одой «Бог».
Г. Р. Державин в своей знаменитой оде прямо пишет — о человеке:
<…> Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил Ты духо́в небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров повсюду сущих <…>.
Недоносок же Боратынского — «из племени духо́в, / Но не житель эмпирея».
«„Срединность“ положения человека в мироздании Державина вполне устраивает, — заключает И. Семенко. — Для него эта срединность „почтенна“… Для Баратынского она — источник неудовлетворённости и страдания. Его Недоносок <…> и державинский Человек <…> совершенно по-разному относятся к своей „срединности“. Ведь Державин доказывает бытие Бога, создавшего человека, и осмысленность человеческого существования с помощью рационалистически-просветительских аргументов — в чём своеобразие его гениальной оды („Умом громам повелеваю…“). Таким образом, Баратынский сокрушает многие „твердыни“; опять мы сталкиваемся с разносторонней направленностью его скептицизма. „Ты есть — и я уж не
ничто…“ (Державин). „Бедный дух,
ничтожный дух…“ — парирует Баратынский. Недоносок Баратынского не только не способен „повелевать громами“, но оглушён и обессилен ими „под небом громовым“. Этому неполноценному, „метафорическому“ недоноску хватило творческой силы лишь для того, чтобы оживить, притом на короткий миг, мертворождённого реального, земного человека. Так поэт создаёт символ угнетавшей его „роковой скоротечности“ существования человека и ничтожности его поприща во вселенной».
Другой современный исследователь В. Н. Ильин в статье «Таинство печали» (1966) сопоставляет поэзию Боратынского с экзистенциализмом, возникшим как учение спустя век с лишним. По его мнению, стихотворение «Недоносок» расширяется «до размеров выражения очень характерной для эпохи Боратынского мировой скорби, переживания мирового и общечеловеческого неблагополучия, порядка уже вполне экзистенциального, где ситуация и роковое стечение обстоятельств раскрываются как онтология».
С этим наблюдением сходятся мысли филолога С. В. Рудаковой:
«Размеры катастрофы, переживаемой Недоноском и описанной Боратынским, чудовищно велики. Место действия в стихотворении — божественное мироздание, время действия — вечность. Трагедия Недоноска внутриличностная, его метания сравнимы с „бесплодностью земного подвижничества Последнего Поэта“ (Е. Н. Лебедев), который мог с полным правом заявить о своей судьбе, как это делает лирический герой стихотворения „На посев леса“ (1842?):
Я дни извёл, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.
Можно предположить, что „Недоносок“ представляет собой воссоздание страшной трагедии, переживаемой как отдельным человеком, так и в его лице всем человечеством. <…>
Недоносок Боратынского — это образ, воспринятый многими как некая метафора, свидетельствующая о положении человека в современной жизни. Нам же видится в Недоноске прежде всего отражение метаний души Поэта, лирического героя „Сумерек“, который чем глубже погружается в историю европейской цивилизации, в бездны человеческого духа, тем острее ощущает страшный разрыв между желанной гармонией и реальной действительностью <…>».
Другое стихотворение — «Бокал» (1835) — не менее трагично. Оно — об участи художника в мире, который уже постиг всю земную правду и перед которым теперь открываются тайны «бессмысленной вечности». Если Недоносок видит мир — «как во
мгле», то перед Художником — самим поэтом —
мгла рассеивается.
Поначалу поэт с беспощадностью осознаёт своё одиночество:
Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристалл…
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин, —
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.
Чем душа моя богата,
Всё твоё, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата
И свободны сны мои;
За струёю вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной
Разногласною толпой.
Мой восторг неосторожный
Не обидит никого,
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего,
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд!
Вот теперь со мной беседуй,
Своенравная струя!
Упоенья проповедуй Иль отравы бытия;
Сердцу милые преданья
Благодатно оживи
Или прошлые страданья
Мне на память призови! <…>
Поэт прямо смотрит на жизнь: на былое и настоящее — и взыскует только одной правды:
О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой;
Плодородней, благородней,
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней
Иль небесные мечты. <…>
Как ни тяжка правда, но только ею поверяется истинное мужество художника, только она даёт поэту пророческую силу:
И один я пью отныне!
Не в людском шуму пророк —
В немотству́ющей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченье
Общежительных страстей —
В одиноком упоенье
Мгла падёт с его очей!
Этими гениальными стихами Боратынский навсегда прощается с пирами молодости — тем блеском общей светлой радости, искрящегося ума, живых плодотворных мыслей, — всем, чем пылало их былое товарищеское общение, которое по сути было бескорыстным служением добру, истине и красоте. Дельвига уже нет на свете, погиб Рылеев, где-то томятся на каторге Бестужев и Кюхельбекер, с Пушкиным они отдалились друг от друга…
Горькое вино одиночества пьёт поэт — но зато расстаётся с последнею
мглою былых самообманов, благих надежд.
Не всякий вынесет
немотствующую пустыню, но лишь там можно обрести
свет высок…
Глава двадцать вторая
ОСЕНЬ ЖИЗНИ
«Покинул лиру ты…»
Стихотворения «Бокал» и «Алкивиад», напечатанные «Московским наблюдателем» в начале 1836 года, стали последними произведениями Боратынского в этом журнале. Его отношения с
Наблюдателями (как в шутку называл московских писателей Пушкин) разладились, и Боратынский больше ничего своего туда не отдавал. Его участие в литературной жизни сошло почти на нет, да и в салонах, где прежде он был постоянный гость, поэт больше не появлялся.
«Покинул лиру ты…» — вздыхал Николай Языков в своём послании к другу той поры.
1 февраля 1836 года в Москве скончался дядюшка Боратынского, Илья Андреевич, контр-адмирал в отставке. Евгений Абрамович наверняка проводил его в последний путь на кладбище Спасо-Андроникова монастыря: почтенный моряк вместе с другими дядюшками Богданом Андреевичем и Петром Андреевичем столько сделали для него в юности…
В апреле 1836 года вышел в свет первый том пушкинского журнала «Современник». Там было опубликовано литературное обозрение Николая Гоголя, в котором писатель довольно критически отзывался о «Московском наблюдателе», отметив лишь как
перлы русской поэзии стихи Боратынского и Языкова. До двух вышеупомянутых стихотворений там у Боратынского выходили «Последний поэт» и «Недоносок».
Изящная миниатюра «Алкивиад» написана величественным гекзаметром и сделана мастерски: словно бы вырезана алмазом по древней певучей бронзе:
Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,
Дланью слегка приподняв кудри златые чела,
Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом
Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;
Девы, тайно любуясь челом благородно-открытым,
Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.
Он же глух был и слеп; он, не в меди глядясь, а в грядущем,
Думал: к лицу ли ему будет лавровый венок?
Так и Боратынский
глух был и слеп — ввиду шумного успеха таких писателей, как Бенедиктов и Барон Бромбеус, — и гляделся в грядущее затем, чтобы понять: к лицу ли ему была бы
слава? Пушкин, и тот уже полузабыт младенческой по вкусам толпой, кумиры которой лишь на день, не дольше…
В мае Александр Пушкин приехал в Москву из деревни, дабы порыться в архивах да похлопотать среди книгопродавцев о своём журнале. Остановился у Павла Воиновича Нащокина. Легко писал жене в Петербург: «<…> С литературой московской кокетничаю как умею, но Наблюдатели меня не жалуют. Любит меня один Нащокин. <…> Слушая толки здешних литераторов, дивлюсь, как они могут быть так порядочны в печати и так глупы в разговоре. <…> Баратынский однако ж очень мил. Но мы как-то холодны друг ко другу
<…>».
У Пушкина в конце марта умерла мать, Надежда Осиповна. Из всей семьи он один поехал из столицы в Святогорский монастырь Псковской губернии, чтобы похоронить её. Там же, рядом с материнской могилой, присмотрел землю для вечного покоя и себе — и купил место. Гостя у Нащокиных, Пушкин однажды рассказал его жене, Вере Александровне, как любовался песчаным, сухим грунтом, когда служители рыли могилу, и вспомнил вдруг про Войныча (как он порой звал её мужа): «Если он умрёт, непременно его надо похоронить тут; земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины, как покойно ему будет здесь лежать». Вера Александровна, по свидетельству П. И. Бартенева, «очень опечалилась этим рассказом, так что сам Пушкин встревожился и всячески старался её успокоить, подавал воды и пр.».
Но к чему московскому барину Нащокину псковский монастырь? — не о самом ли себе думал тогда Пушкин?.. Как раз к 1836 году относят его не опубликованное при жизни стихотворение «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…»:
<…> а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрём. <…>
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
В октябре всю читающую публику взбудоражило философическое письмо Петра Чаадаева, напечатанное в русском переводе в «Телескопе»: западники восхищённо превозносили мыслителя, а славянофилы — проклинали. «Опыт времён для нас не существует, — писал Чаадаев, — века и поколения протекли для нас бесплодно… мы миру ничего не дали… мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чём не содействовали движению вперёд человеческого разума, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке <…>» и прочее в таком же духе.
В московских гостиных без конца говорили о статье, ожидая из Петербурга «грозу». А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому, что от споров «<…> голова моя, и без того опустевшая, сильно разболелась», и сообщал ему, что Боратынский пишет «опровержение».
Пушкин, прочитав письмо Чаадаева, написал своему старому другу ответ. Изрядно возразив философу насчёт его трактовки русской истории, поэт заключил:
«<…> Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; — как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблён, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал. <…>
Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили <…>»
(перевод с французского).
Его опасения сбылись — и очень скоро. Государь Николай I повелел закрыть «Телескоп». После расследования редактор журнала Надеждин был выслан в Усть-Сысольск, а Чаадаеву официально объявили, что он считается невменяемым. Своё письмо Пушкин не отправил…
У Боратынского как раз в ту пору умер тесть, Лев Николаевич Энгельгардт, — и «возражение» по поводу статьи Чаадаева он, занятый множеством домашних хлопот, так и не закончил…
Скорбь по Пушкину
В первые дни февраля 1837 года в Москву пришли горестные известия о тяжёлом ранении Александра Пушкина на дуэли и его кончине.
4 февраля к Боратынскому приехал Погодин. «<…> Говорили о Пушкине и плакали», — записал потом Михаил Петрович в дневнике.
На следующий день Боратынский отправил Вяземскому в Петербург крайне взволнованное письмо:
«Пишу к вам под громовым впечатлением, произведённым во мне и не во мне одном ужасною вестью о погибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепенного, может быть, ещё не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если б в последней, отчаянной его схватке с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясён глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? В какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России Провидение отвело око своё от поэта, давно составлявшего её славу и ещё бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) её великою надеждою? <…>».
Далее Боратынский пишет, как пришёл в скорбный час в дом Сергея Львовича Пушкина:
«Я навестил отца в ту самую минуту, как его уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец на общие весьма не убедительные увещания сказал: „Мне остаётся одно: молить Бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл“. Это было произнесено с раздирающею ласковостию <…>».
«Есть люди в Москве, узнавшие об общественном бедствии с отвратительным равнодушием, — с возмущением заключает письмо Боратынский, — но участвующее поражённое большинство скоро принудит их к пристойному лицемерию <…>».
Пушкин скончался 29 января.
Накануне Пётр Андреевич Вяземский с женой, Верой Фёдоровной, были у него, в доме на Мойке: Пушкин, тяжко страдающий от боли, прощался с друзьями…
1 февраля поэта отпевали. Когда вынесли на руках гроб, Вяземский упал без сознания перед процессией; Жуковский поднял его — Вяземский рыдал и бился в его руках…
Он хотел сопровождать гроб с телом Пушкина на Псковщину в Святые Горы, но царь не позволил, отрядив для этого Александра Ивановича Тургенева, единственного из друзей поэта, не занятого
по службе. С горя Вяземский слёг… А Тургенев повёл себя странно: поручение его обидело; кроме того, в одном из писем он посочувствовал убийце, который отделался разжалованием в солдаты и высылкой из страны: «Но несчастный спасшийся — не несчастнее ли?..»
Вяземский же — мучился и нравственно. «Пушкин не был понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями, — осознал он. — Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти».
7 февраля Екатерина Михайловна Хомякова (Языкова), молодая жена Алексея Хомякова, писала из Москвы сестре, Прасковье Михайловне Бестужевой: «<…> Здесь были Баратынские и сказывали, что жена Пушкина сошла с ума, и точно, есть с чего. Государь дал на его похороны 10 тысяч и 11 тысяч детям, которых взял под своё покровительство. Баратынский говорит, что благодеяния государя растрогали его до слёз. Честь ему и слава, что он умеет ценить таких людей, каков был Пушкин».
То же самое она сообщила и своему родному брату, поэту Николаю Михайловичу Языкову.
А в конце февраля Е. М. Хомякова написала П. М. Бестужевой, что Боратынский «<…> стал ужасно пить». Муж, Алексей, заглянул к поэту и «<…> нашёл его дома пьяным, ужасно жаль — 8 человек детей <…>».
По мнению А. М. Пескова, слова Хомяковой не стоит «принимать полностью всерьёз: она была склонна к преувеличению многих городских новостей <…>». Вполне убедительно: Екатерине Михайловне было всего двадцать лет; она, разумеется, по благовоспитанности отнюдь не была любительницей слухов, но, видно, сильно обеспокоилась за детей: у страха глаза велики. Да и вряд ли она могла понять то, как горюет поэт о своём собрате…
В апреле Боратынский получил из Петербурга от Жуковского посмертную маску Пушкина; такая же маска была прислана отцу Пушкина, Сергею Львовичу, и другу, Павлу Воиновичу Нащокину.
Сохранилось письмо неизвестного лица к неизвестному же адресату от 6 мая 1837 года: «Третьего дня я был у Баратынского, он мне показывал маску Пушкина, снятую с него в день его смерти, она страшно похожа. Витали, который сделал очень похожий бюст Карла Брюллова, делает и бюст Пушкина. Говорят, это не так удачно. Баратынский говорил целый час о смерти Пушкина и о нём самом. Его стоило записывать. Он рассказывал все подробности этой истории, которые были ему сообщены Жуковским, Вяземским и, наконец, доктором Далем, людьми достоверными. Баратынский говорит, что он умер как христианин и во всём оправдывает Пушкина, а обвиняет его жену. Я верю всему, потому что было заметно, что он и жены его не хотел обвинять из уважения к нему».
Прошло несколько месяцев — а скорбь о погибшем друге не стала меньше…
Остаётся только пожалеть, что этот неизвестный не записал слов поэта о Пушкине. Но и того, что высказано самим Боратынским в письмах, вполне хватает, чтобы понять, как высоко он ценил гений Пушкина и как любил его.
В молодости они вместе с Дельвигом и Кюхельбекером были собратьями по
Союзу поэтов, — и Боратынский не изменил этому братству. В пору пушкинского расцвета, вершиной которого было создание «Бориса Годунова», не кто иной, как Боратынский предугадал, ещё даже не прочитав трагедии, что она
исполнена красот необыкновенных, и обратился к другу с пламенной, торжественной речью: «<…> Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвёл Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление».
Это написано в декабре 1825 года.
Высокопарно? Да!.. Но вспомним, что слово это соединяет два другие —
высоко парить: духом, разумом, вдохновением, — то есть взлететь над сиюминутным и разом схватить смысл и сущность явления.
Теперь-то, по прошествии двух веков, очевидно, что эти слова Боратынского были пророческими, что никто лучше его не осознал тогда истинного значения Пушкина в истории русского духа и русской словесности. А ведь Евгению Боратынскому было в то время всего 25 лет, да и Александр Пушкин был всего на год старше…
«<…> В самом деле примечательно, — замечает Гейр Хетсо, — что высказывание это исходит от Баратынского, которого многие ставили наравне с Пушкиным! Но сам Баратынский весьма далёк от мысли сравнивать себя с Пушкиным. Ему с самого начала было ясно, что к Пушкину надо подходить с другой меркой, чем ко всем остальным писателям. Даже когда он позволяет себе критиковать
Евгения Онегина, исходя из требования писательской оригинальности, он ясно сознаёт, что ему „весьма некстати строго критиковать Пушкина“.
То чувство уважения и восхищения перед Пушкиным <…> вряд ли могло возникнуть от зависти к сопернику. И ничто не указывает на то, что уважение Баратынского к Пушкину с годами уменьшилось. Напротив, оно становилось всё сильнее».
Боратынский был всего годом младше Пушкина, но однажды признался ему в письме, что пишет к нему с тем затруднением, с которым обыкновенно пишут «к старшим». Это не иначе как следствие того внутреннего благоговения, которое он невольно испытывал к поэтическому дару Пушкина и его творениям. По-видимому, то же самое испытывал Боратынский и при личных встречах, несмотря на самые короткие товарищеские отношения. «Пушкин здесь и я ему отдал ваш поклон, — писал он Вяземскому в 1829 году. — <…> Я с ним часто вижусь, но вы нам очень недостаёте. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух мафематических линий. Необходима третья, чтобы составить какую-нибудь фигуру, и вы были ею».
С годами они встречались всё реже, от случая к случаю и, понятное дело, несколько отдалились друг от друга. У обоих появились свои семьи и хватало житейских забот; каждый шёл своим путём в литературе. Что до личных взаимоотношений, они не прерывались, но, естественно, не могли остаться такими, как в беспечной молодости. Чувства — вещь чрезвычайно тонкая, переменчивая, тут всё — по наитию, по настроению, по прихотям памяти, по стечению обстоятельств места и времени. Но одно дело жизнь — и совсем другое поэзия: жизнь разводила в стороны, а поэзия сближала…
Скорбь по Пушкину была у Боратынского искренней, сильной, глубокой — непреходящей. Поначалу, как заметил М. Л. Гофман, поэт попросту негодовал, как друзья Пушкина могли допустить его смерть, — «<…> и впал в состояние, близкое к отчаянию и болезни души».
Узнав, что в Петербурге издаётся 5-й том «Современника» в память Пушкина и в пользу его семьи, Боратынский отправил Вяземскому своё едва законченное стихотворение «Осень» — одно из самых прекрасных и глубоких своих произведений. «Препровождаю вам, — писал он, — дань мою „Современнику“. Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения <…>».
Не случись благотворительного издания, Боратынский наверняка бы ещё долго отделывал это большое и сложное стихотворение, прежде чем отдать его в печать. Потому поэт и объяснился вдруг Вяземскому, невольно приоткрыв свои творческие тайны: «Всякий работает по-своему. Лирическую пьесу я с первого приёма всегда набрасываю более чем с небрежностию; стихами иногда без меры, иногда без рифмы, думая об одном её ходе, и потом уже принимаюсь за отделку подробностей. Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию. Многим в ней я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе. Препоручаю себя вашей дружеской памяти <…>».
Смерть —
всех загадок разрешенье; она разом выявляет сущность и значение человека в той полноте, что прежде была недостижима. Опадает шелуха привнесённых жизнью личин — проступает
лик.
Вяземский недаром прозрел лишь по кончине Пушкина — признавшись, что поэт не был понят при жизни даже его друзьями, не говоря о людях, к нему равнодушных. И Боратынскому истинный Пушкин — открылся только по смерти…
В феврале 1840-го Боратынский приехал в Петербург. Остановился в доме родственников на Почтамтской улице, близ Исаакиевского собора. С Николаем Путятой они к тому времени породнились: друг его финляндской молодости, к радости поэта, женился на его свояченице, Сонечке Энгельгардт, и у них уже подрастала малышка дочь. Вскоре Боратынский побывал в гостях у Жуковского: вместе они разбирали ненапечатанные стихи Пушкина. Боратынский был потрясён, когда прочёл их: «<…> Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою, — писал он жене, Настасье Львовне, 6 февраля. — Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною! Он только что созревал.
Что мы сделали, Россияне, и кого погребли! — слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навёртывались слёзы художнического энтузиазма и горького сожаления <…>».
Эти скорбные и торжественные —
высокопарные — слова звучат посреди в общем-то бытового отчёта жене о прожитом дне. Снова, как и в 1825 году, Боратынский сравнивает Пушкина с Петром Великим.
Николай Васильевич Путята вспоминал, что Жуковский, коему государь поручил разобрать бумаги Пушкина, дал тогда Боратынскому одну из рукописных тетрадей
in folio в переплёте. В ней был и неизвестный поэту набросок статьи о нём. «<…> Тетрадь эта оставалась у последнего самое короткое время; он был уже в отъезде и просил меня тотчас возвратить её Жуковскому, что я и исполнил. Кроме помянутого отрывка в этой тетради находились некоторые другие статьи в прозе и клочки дневника Пушкина разных годов. Помню из него почти слово в слово следующие места: 1) число, месяц. „Сегодня приехали в Петербург два француза, Дантез и маркиз Пинна“. В этот день ничего более не было записано. Что замечательного мог найти Пушкин в их приезде? Это похоже на какое-то предчувствие! <…>»
7 февраля Боратынский провёл утро с Вяземским: говорили о Пушкине. Вяземский предложил ему навестить вдову поэта, сказав, что она очень признательна всем старым друзьям мужа, которые посещают его дом. Боратынский намеревался это сделать, но вскоре повстречал Наталью Николаевну в салоне Карамзиных. «<…> Вяземский меня к ней подвёл, и мы возобновили знакомство, — сообщал он жене. — Всё так же прелестна и много выиграла от привычки к свету. Говорит ни умно, ни глупо, но свободно. Общий тон общества истинно удовлетворяет идеалу, который составляешь себе о самом изящном, в молодости по книгам. Полная непринуждённость и учтивость, обратившиеся в нравственное чувство. В Москве об этом не имеют понятия <…>».
По приезде Боратынский писал маменьке в Мару, что возвратился из Петербурга в лучшем настроении, нежели мог ожидать. Откуда это настроение? Не от новых ли стихов Пушкина и той недописанной пушкинской статьи о поэзии Боратынского?..
Нет сомнений в том, что Боратынский всегда относился к Пушкину с любовным уважением, даже когда порой критически высказывался в своих письмах о его творчестве. То была не завистливая ревность к товарищу по перу, свойственная тщеславным писателям мелкого разбора, а ревностная любовь к собрату по Парнасу. От гениально одарённого он и ждал гениальных сочинений, оттого был особенно требовательным. Зато и восхищался гением, как никто другой.
Поздний Пушкин, прежде неизвестный Боратынскому, что предстал перед ним в феврале 1840 года в Петербурге, восхитил как никогда. Он увидел поэта, достигшего истинных высот духа и мастерства, познавшего жизнь вполне, с мужеством и смирением христианина принимающего всё, что посылает ему судьба.
Вовсе новые духом и формою стихи Пушкина были необыкновенно созвучны и его собственным мыслям и настроениям. «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Не дай мне Бог сойти с ума…», «Отцы пустынники и жёны непорочны…», «Напрасно я бегу к сионским высотам…», «Когда за городом задумчив я брожу…», «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права…»), «Подражание итальянскому» («Как с древа сорвался предатель ученик…»), «Памятник», «Мирская власть» — все эти шедевры Пушкин хранил только для себя и не отдавал в печать, на пустое любопытство досужей толпы, которая всё равно толком ничего не поймёт.
Боратынский осознал эти стихи как поэтическое завещание русского гения, при жизни не понятого по-настоящему никем.
Отвратительное равнодушие части общества к погибшему Пушкину мучило его и вызывало возмущение. Это отразилось в заключительных строфах стихотворения «Осень», которое поэт дописывал в феврале 1837 года:
Но не найдёт отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешёл.
15
Пускай, приняв неправильный полёт
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечёт;
Пусть заменит её другая;
Не яствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения её далёкий вой,
Равно как в вы́сотах эфира
Её сестры новорождённый свет
И небесам восторженный привет! <…>
В 1841 году ему припомнились народные гулянья в Новинском под Москвой: там они были с Пушкиным в сентябре 1826-го, когда тот вернулся из псковской ссылки. Нарядная толпа разглядывала знаменитого поэта… а вот когда он погиб — далеко не все пожалели его. Боратынский заново переработал своё старое стихотворение, посвящённое другу. В первом варианте, 1826 года, «красота» своей улыбкой оживляет поэта, — в новых стихах всё загадочнее, и даже если речь по-прежнему о
красоте, она оказывается — роковой, губительной. Но, может, тут говорится уже о судьбе?..
Она улыбкою своей
Поэта в жертвы пригласила,
Но не любовь ответом ей,
Взор ясный думой осенила.
Нет, это был сей лёгкий сон,
Сей тонкий сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви — для вдохновенья.
А ещё через два года Боратынский написал одно из самых горьких своих стихотворений — о посмертной судьбе поэта. О ком оно?.. то ли о Пушкине, то ли о себе самом…
Когда твой голос, о поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит, —
Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стеснённой грудию восстонет,
И тихий гроб твой посетит,
И, над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?
Никто! Но сложится певцу
Канон намеднишним зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.
Нечистые догадки
Давно известно: лучшее в человеке,
Божие, притягивает бесов.
Спустя полвека с лишним досужие нечистые догадки, в которые лениво маскировалась пошлая клевета, попытались замарать ту чистоту чувств, с которой относился Боратынский к Пушкину…
Всё началось, наверное, с одного восклицания Павла Воиновича Нащокина, близкого друга Пушкина.
1 октября 1851 года с ним и его женой, Верой Александровной, встретился историк Пётр Иванович Бартенев, собиратель воспоминаний о Пушкине. В той первой их беседе Нащокин среди прочего неожиданно заметил, что Боратынский с Пушкиным «<…> не был искренен, завидовал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глубокомыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал».
Переписанную в тетрадь беседу Бартенев дал прочесть не менее давнему другу поэта, Сергею Александровичу Соболевскому, — и тот на полях напротив этих слов написал: «Это сущая клевета!»
В самом деле, мнение Нащокина никто и никогда не подтверждал: все современники поэтов были уверены в том, что между Пушкиным и Боратынским всегда были добрые отношения. Да и сам Павел Воинович за семь лет до этой беседы был совершенно иного мнения о Боратынском. 21 августа 1844 года, под впечатлением его неожиданной смерти он писал старому другу поэта, Н. М. Коншину:
«Истинно добрый и почтенный Николай Михайлович, прежде чем благодарить тебя за твоё ко мне внимание, погорюем о Баратынском — и его не стало. Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву, тогда мы были вместе с Пушкиным, и он, обратясь ко мне, сказал: „Ну, Войныч, держись: в наши ряды постреливать стали“. Многих из товарищей твоих и общих наших уже нет на свете, о которых не говорят и говорить не будут;
слава же, известность и
некрология не умолкнут повторять имён Пушкина, Дельвига и Баратынского в дальнейшее время потомства; но много ли людей осталось, которые бы могли помянуть их как товарищей и друзей по сердцу и по душе; все трое были нам близки, но ты был ближе всех к Баратынскому, и, можно сказать, в единственно интереснейшую эпоху его жизни. Итак, любезный друг Коншин, оставим журналистам, газетчикам и лексиконистам славословить или поминать их лихом… а мы с тобою помянем их, во-первых, как христиане… а во-вторых, помянем их как друзей и товарищей нашей беспечной и добросовестной молодости: спасибо им, что пожили с нами и любили нас <…>».
Что же такое вдруг нашло на
Войныча, что он переменил своё мнение на противоположное?..
Стоит учесть, что к 1851 году он был уже весьма больной человек (скончался через три года): что-то могло исказиться в его памяти…
Бартенев никак его не расспросил насчёт этих слов, — так они и пошли кочевать по его книгам, и, что совсем худо, в переизданиях мнение Соболевского выпало из текста (издатели не утруждают себя «лишними» репликами), и
сущая клевета осталась даже без возражения.
Скорее всего, никто тогда, в первые годы, и не обратил на неё внимания, до того она казалась нелепой.
Но прошло полвека с лишним, и случайно оброненное крапивное семя проросло: его, всячески удобрив, выходил писатель Иван Щеглов. В 1900 году он напечатал в одной из петербургских газет статью «Нескромные догадки», в которой выставил Боратынского тайным предателем и врагом Пушкина, что вредил ему из зависти, — этаким отравителем Сальери при беспечном Моцарте.
Сам Щеглов сознавался, что «фактические данные на этот счёт крайне скудны, зато психологические, так сказать, „междустрочные данные“, в высокой степени характерны и значительны». То есть мало того, что без стеснения объявил о том, что у него нет никаких фактов для обвинений, но ещё и похвалил сам себя за «проницательность».
Если уж говорить о
психологических данных, то они напрямую касаются самого Щеглова: наглость и извращённое воображение сделало его банальным клеветником. Тут всё по русской поговорке:
свинья грязи найдёт.
Даже обычно сдержанный в выражениях Гейр Хетсо в этом случае не выдержал: «Автор статьи, несмотря на то что в подтверждение своих высказываний не может привести никаких доказательств, уверенно заявляет, что Пушкин в трагедии
Моцарт и Сальери изображает себя в образе Моцарта, а в образе Сальери Баратынского. Как Сальери отравил Моцарта, так и Баратынский якобы „отравил“ Пушкина своей „завистью“ и „вероломством“. Статья Щеглова не что иное, как злостная и ни на чём не основанная клевета на Баратынского. Об уровне аргументации Щеглова говорит и то обстоятельство, что он не брезгует даже враждебными намёками на польское происхождение Баратынского и, вопреки фактическим данным, уверяет, что Баратынский в своё время не захотел оказать материальную помощь Гоголю <…>».
Странно, что этим «нескромным догадкам» тут же, не разобравшись, посочувствовал В. В. Розанов, — не иначе его подвело газетно-журнальное многописание. Превратно истолковав письмо Боратынского Киреевскому с критикой «Евгения Онегина», Розанов, по сути, одобрил измышления Щеглова да ещё и дополнил их своими
догадками, легковесными и сомнительными: «В самом деле, отчётливы отношения к Пушкину Языкова, Дельвига, Пущина (он-то при чём, когда речь о писателях? —
В. М.), горе по нём Гоголя, стихи о нём Лермонтова; но один друг, о котором сам Пушкин высказал самые шумные похвалы в печати (заметим, что при жизни Пушкина до
печати дело не дошло. —
В. М.), всегда выдвигая его с собой и почти вперёд себя, до сих пор оставался в тени и не рассмотренным в своём обратном отношении к Пушкину. В то же время Пушкин время от времени вскрикивал от боли какой-то „дружбы“ и наконец запечатлел мучительное и долгое её впечатление в диалогах поразительной глубины. Догадки г. Щеглова так интересны и многозначительны, что хочется, чтобы он приложил дальнейшее усердие к их разработке. Они очень правдоподобны, и мы должны быть благодарны автору уже за то, что он наводит мысль исследователя, открывает дверь исследованиям».
Опять-таки, что за морок нашёл на Василия Васильевича Розанова, который в общем-то был самого хорошего мнения о Боратынском? (Так, своего горячо любимого учителя Н. Н. Страхова он сравнил не с кем-нибудь, а именно с поэтом, назвав Страхова «Баратынским нашей философии» и пояснив свой образ следующими словами: «Есть какое-то несравненное изящество и благородство в чертах их обоих, в трудах их; и мы охотно отвращаемся от более звонких, но неустроенных струн, чтобы сосредоточиться на этих — где нас ничто не оскорбляет, не мучит, не раздражает и не смущает; где, наконец, нас ничто не
обманывает».)
Между тем «наводка» Розанова подействовала: к полемике, правда, неохотно, подключился поэт Валерий Брюсов. Разбираться в сути вопроса он также не стал, а взял себе то, что занимало тогда его мысли о двух типах поэтов — интуитивного и рефлектирующего. Пушкина он относил в первому типу, Боратынского — ко второму. Брюсову пригодилось сравнение одного — с Моцартом, а другого — с Сальери. Его комментарии были весьма противоречивы, но Гейру Хетсо показалось, что Брюсов отверг «бесстыдные догадки» И. Щеглова. Это не так: мнение Брюсова половинчато.
Так долгие годы и тлела полузатушенной эта искра клеветы; если кто порой и пытался её раздуть, то без успеха: нелепое занятие… Но и достойного разбора «нескромных догадок» — не было.
Лишь недавно, в 2012 году, писатель Иза Кресикова написала глубокую и аргументированную статью «По следам тенденциозных догадок…». На слова Брюсова о том, что Боратынский всегда сознавал величие Пушкина, но «никогда не упускал случая отметить то, что почитал у Пушкина слабым и несовершенным», Кресикова заметила:
«Да что же в этом вероломного? Они — литераторы, значит, и критики. Всё естественно. Но Брюсов без протеста присоединяется к обвинениям Баратынского (имеются в виду Щеглов и Розанов) в зависти к Пушкину и к тому, что „Сальери Пушкина списан с Баратынского…“, то есть поэта, который подолгу трудился над своими стихами и не мог будто бы без зависти вынести крылатость пушкинского дара.
Ну, то, что и у Пушкина, и у Баратынского если стихи поначалу и сыпались с небес, а затем обдумывались и отделывались с помощью высокого ремесла, теперь уже известно и не пушкинистам».
И. Кресикова в подробностях разбирает все доводы Щеглова — и убедительно их опровергает.
В конце своей статьи Иза Кресикова обращается к природе творчества, к соотношению труда и вдохновения:
«<…> Щеглов в „догадках“ констатирует: „Самый процесс писания стоил Баратынскому мучительного труда и огромной подготовки <…>“. Поддерживающий Щеглова Розанов замечает, что в этом-то и есть главная трагедия Баратынского-Сальери: „Сальери глубок, но Сальери не даровит тем особенным <…>, почти случайным даром <…>, который творцу ничего не стоит…“ И оба литератора, увлечённые разоблачением, заверяют читателей, что именно „райские видения“ Моцарта-Пушкина являются предметом бесконечной зависти Сальери-Баратынского и всей его недоброжелательности к Пушкину».
Вывод И. Кресиковой справедлив: «открытия» Щеглова с толкованиями их Розановым — тенденциозны; Щеглов извратил смыслы и стихов Боратынского, и его писем «в угоду своей действительно нескромной „увлечённости“».
«<…> Нынче большинство пушкинистов знают, — пишет в заключении И. Кресикова, — что гений Пушкина включал в себя и „райские видения“ вдохновения (впрочем, Пушкин называл это „быстрым соображением понятий“!), и отделку этих видений, прибегая к кропотливому ремесленничеству — труду. Ни один из обсуждаемых здесь поэтов — ни Баратынский, ни Пушкин — не мог завидовать другому. Они знали и ценили в себе и друг в друге тайны поэтического взлёта и ремесла.
И именно об этом, вероятно, хотел сказать Мандельштам своей фразой: „В каждом поэте есть и Моцарт, и Сальери“. Конечно, в миг произнесения, он и о себе подумал. И Анна Ахматова без возражений согласилась с естественной сутью такого понимания творцов и творчества. Конечно, в естестве этой сути труда и вдохновения может возникнуть и зависть, чёрная или белая („хорошего роду“). В „Моцарте и Сальери“ она — самая страшная. Но несмотря ни на что, трагедия „Моцарт и Сальери“ — не только о зависти. Она о многом в человеческой жизни, и главное — о добре и зле. Наши „отгадки“ на „догадки“ И. Л. Щеглова тоже о добре и зле».
На грязной возне, затеянной некогда недобросовестным автором вокруг имени Боратынского, наконец-то поставлен крест.
На предельной высоте
Гениальное стихотворение Боратынского «Осень» (1837— <1841>) отдалённо перекликается с другим гениальным стихотворением — пушкинской «Осенью» (1833). Прежде всего — благоговейным созерцанием природы, по-осеннему просторным оглядом жизни.
У Пушкина:
7
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса —
В их сенях ветра шум и свежее дыханье
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч — и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.
У Боратынского:
3
Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Весёлый сон минутных летних нег!
Вот это в рощах обнаженных
Секирою тревожит дровосек,
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.
Совершенные стихи! — как у того, так и у другого. Непревзойдённые по гармонии, по звучанию, по красоте!..
Если у Пушкина всё напоено упругой радостью ощущений, здоровой бодростью духа (Пушкин особенно любил это время года: осенью он —
творил), то осень Боратынского — пора прощания с жизнью, с надеждами, пора подведения итогов прожитого — и они горьки, печальны, трагичны.
«Осень» Пушкина — волнующее и радостное предчувствие творчества, вдохновения, которое вот-вот, словно корабль под надутыми парусами, понесёт поэта в неизвестное (знаменитая последняя строка, обрывающаяся в эту неизведанность: «Плывёт. Куда ж нам плыть?..»), — «Осень» же Боратынского тоже затрагивает судьбу художника, но иначе: он уже отягощён «хладным опытом» и оторван, как палый лист, от земного, он уже в других пределах — в
краю возмездий.
Земное, в чистом виде, это простодушный мир селянина, о котором говорится в первых строфах: его святое торжество — по осени собрать урожай и вкусить с семьёй в тёплой избе «хлеб-соль и пенистую брагу», благословенный плод своих трудов.
Но у художника, тоже некогда лелеявшего «сны позлащённые», совсем другие
приобретенья:
<…> Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
Тобой скоплённые презренья,
Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид!
8
Твой день взошёл, и для тебя ясна
Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
Людских безумств и лицемерий.
Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь — и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушён. <…>
Садись один и тризну соверши
По радостям земным своей души! <…>
Художник Боратынского,
последний поэт, поверяется самым суровым испытанием — испытанием духовным:
13
Пред промыслом оправданным ты ниц
Падёшь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ,
И утолённым разуменьем, —
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И лёгких чад житейской суеты
Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана. <…>
Его взору открывается беспощадная правда и о земном, и о самом себе:
16
Зима идёт, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей, —
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нём тебе грядущей жатвы нет!
Это большое, в 16 величественных строф, стихотворение необыкновенно музыкально: оно звучит как симфония. В нём незримо присутствует и державинская мощь выражения, и ломоносовская глубина думы, и пушкинская гармония, но в целом оно — по мысли и по духу — совершенно
боратынское. При всей предельной безнадёжности мыслей и чувств это всё же не реквием по напрасно утраченной жизни. Воплощение словом пережитого, осознание правды, какой бы она ни была, — путь к истине, к дальнейшей жизни.
«Осень» была напечатана в журнале «Современник» и произвела сильное впечатление на читателей. Степан Шевырёв, до того весьма холодно отзывавшийся о стихах Боратынского, сразу же по выходе «Осени» в печать написал пространную статью о поэте:
«<…> Направление, которое принимает его муза, должно обратить внимание критики. Редки бывают её произведения; но всякое из них тяжко глубоко мыслию, отвечающею на важные вопросы века. Баратынский был сначала сам художником формы; вместе с Пушкиным, рука об руку, по живым следам Батюшкова и Жуковского, он содействовал окончательному образованию художественных форм стихотворного языка. Но теперь поэзия Баратынского переходит из мира прекрасной формы в мир глубокой мысли: его муза тогда только заводит песню, когда взволнована, потрясена важною таинственною думою. Она вносит в этот новый мир красоту прежних форм, но эти формы как будто тесны для широких дум поэта. Лёгкий дух слишком хрупок и ломок, чтобы служить оправою полновесному алмазу мысли. Ещё не всегда ей покорный, он иногда даже тёмен и непонятен простому глазу: впрочем, свойство глубины — темнота. Но зато, когда мысль совершенно одолеет стих и заставит его во всей полноте принять себя, тогда-то блещет во всей силе новая поэзия Баратынского и рождаются такие строфы, которых не много в русской поэзии. <…> В этом глубокомысленном стихотворении сходятся два поэта: прежний и новый, поэт форм и поэт мысли. Прежний заключил бы прекрасным описанием осени, которое напоминает своими стихами лучшие произведения Баратынского-описателя, его „Финляндию“ особенно. Новый поэт переводит пейзаж в мир внутренний и даёт ему обширное, современное значение: за осенью природы рисует поэт осень человечества нам современную, время разочарований, жатву мечтаний. <…> Пьеса, подающая повод к таким наблюдениям, свидетельствует зрелость таланта. Поэт не хотел окончить хладною картиною разочарования: он чувствовал необходимость предложить утешение. Мысль, развитая далее и едва ли для всех доступная, есть следующая: чем бы ни кончилось твоё разочарование, знай, что ты не передашь тайны жизни миру. <…> Тайна каждой души в ней самой: бесконечное выражено быть не может. — Не потому ли так тёмен и конец этого замечательного стихотворения? Много мыслей не досказано здесь, но мы уверены, что поэт когда-нибудь их доскажет: ибо, как мы думаем, между вдохновениями истинного лирика есть непрерывная невидимая цепь, которая связывает его отрывки в одну большую и полную поэму, где герой — душа самого поэта».
Другой критик, Николай Полевой, в своём обзоре о русской литературе за 1837 год привёл цитату из стихотворения — и изумлённо вымолвил лишь несколько слов: «Голос Баратынского услышали мы в „Осени“ и — почти не узнали его».
В конце 1837 года в одной из германских газет был напечатан отрывок из книги Г. Кёнига, посвящённый Боратынскому; автор рассказал о его жизни и творчестве, заметив, что многие его стихи превосходны. «Всё, что он написал в последние годы, отличается поэтической глубиной и серьёзностью, граничащей с меланхолией, проникновением в душу каждого явления, и одновременно выражает тонкий аналитический дар поэта. — Не подвергая сомнению оригинальность поэзии Баратынского, осмелимся назвать его русским Бальзаком в стихах <…>».
Не бог весть что за сравнение да к тому же и странное. Впрочем, Кёниг, как оказалось, немного прибавил от себя. Позже Н. А. Мельгунов написал А. А. Краевскому, что представлял Кёнигу Боратынского как поэта элегического в первом периоде творчества, который, однако, «<…> в своём втором периоде возвёл
личную грусть до
общего философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества. „Последний поэт“, „Осень“ и пр. это очевидно доказывают».
Замечательное уточнение!
Мельгунов первым определил то качество, что было тогда понятно очень немногим: лирика Боратынского стала принадлежать всему человечеству.
Усталость
Николай Коншин, повидавший поэта в 1837 и 1839 годах, заметил, что его старый друг «страшно поседел», но «душа его сохранила прежнее созвучье ко всему прекрасному».
Гейр Хетсо, внимательно изучив немногие портреты поэта, пришёл к выводу, что в сорокалетием возрасте Боратынский «кажется стариком», дескать, жизненные бури наложили на него свой отпечаток и от прежнего мечтательного романтика, которым он глядит с юного портрета, почти ничего не осталось.
Однако на «взрослых» портретах лицо Боратынского всё время другое: он мало похож на самого себя. Должно быть, поэт
не давался портретистам, ускользал он от их пера и кисти. Это не удивительно, если вспомнить об изменчивости его настроений и глубине и тонкости его души. Стариком он, конечно, ещё не был, но изрядно устал — и, быть может, не столько от жизни внешней: частых поездок, хлопот помещика и семейных обязанностей, — сколько от жизни внутренней: резкости и глубины переживаний.
Усталость с годами наваливалась и всё сильнее томила душу. А ведь Боратынскому некому было толком даже рассказать об этом: сердечных друзей не осталось, жену он вряд ли бы решился тревожить. Лишь в стихах, в их интонации всё вырывалось наружу, да ещё, изредка, в письмах, где поэт порой невольно проговаривался о своём состоянии.
В июле 1837 года у младшего брата Сергея, живущего в Маре, случился некий душевный кризис. Боратынский сильно встревожился; и когда сосед по имению, Н. И. Кривцов, проявил участие в судьбе брата, горячо благодарил его за это внимание: «<…> К вашему голосу он прислушается более, чем к чьему-либо другому. Впрочем, по моим понятиям, самый опасный момент уже миновал. Меланхолическое неистовство имеет свою критическую точку и не может длиться долго, оно непременно сменяется упадком сил». Не о себе ли тут ненароком что-то сказано?..
А в 1839 году в письме П. А. Плетнёву, испытанному и старому товарищу, Боратынский выговорился напрямую:
«Милый мой, всегда по-старому милый Плетнёв! Родственница моя Путята пишет мне, что ты на меня сердишься. Спасибо тебе за это. Кто сердится, тот помнит, а может быть, любит. <…> Можешь ли ты думать, что прошедшее мною забыто? Что бы после этого
помнить! Но судьба <…> бросила меня потом и в свет, и в мелочи обыкновенной жизни. Мужем мне нужно было учиться тому, чему учатся дети, понимать отношения, приобретать привычки, угадывать то, что другие твёрдо знают. Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения. Я утомился, впал в хандру. Не тебя я поставил в уровень с людьми, которых узнал после; но при новых впечатлениях, которых постепенность и связь тебе неизвестна, при этой долгой и сложной повести, которая меня так глубоко изменила, с чего начать? Как передать себя дружбе давних лет, а не хочется посылать холодные и неполные строки. Не по этой ли причине старики молчаливы? Вся эта болтовня значит в крайнем выводе: ты, дружба твоя, память прошедшего мне драгоценны, а если в какую-либо минуту тебе показалось иначе, тебя обманывала наружность <…>».
Лямка жизни обыкновенной оказалась потяжелее былой неволи…
По смерти тестя, Л. Н. Энгельгардта, всё управление поместьями перешло к Боратынскому; женитьба Николая Путяты на Софье Энгельгардт не убавила ношу: Путяты жили в Петербурге, в делах не участвовали, зато каждое решение нужно было с ними обговаривать, как с совладельцами имений. А в Маре брат Сергей помощником тоже не был — и там всё лежало на плечах Евгения как старшего из мужчин в семье.
Боратынский мечтал вырваться из этого тягостного
вихревращенья — уехать за границу. В мае-июне 1838 года он пишет матери в Мару о желании повидать чужие края — Германию, страну поэтов и мыслителей, и благословенную Италию, к которой манило с детства: «<…> Мне тяжело расставаться с семьёй, но это путешествие — нравственный долг перед самим собой, ибо настанет, может быть, эпоха, когда я упрекну себя в том, что не сделал этого вовремя».
Но денег на это путешествие нет — да и надо перестраивать московский дом на Спиридоновке. Всё лето 1838 года поэт занят строительством и ремонтом. Свалив наконец это ярмо, он зарёкся навсегда связываться с московскими рабочими, «жуликами и наглецами».
В следующем, 1839 году Боратынские намереваются переехать на зиму в Одессу, посетить Южный берег Крыма, пожить там года полтора, полечиться, укрепить здоровье детей. От частых родов Настасья Львовна «расстроила нервы», и врачи прописали ей морские купания; да и муж сдал за последние годы… «Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной, — признавался поэт Плетнёву. — Думаю опять приняться за перо, и если всё, что скопилось у меня в уме и легло на сердце, найдёт себе исход и выражение, надеюсь быть добрым слугою „Современника“».
Но и эта поездка не состоялась…
Вместо желанного покоя поэт занят поиском учителей и гувернёров для детей, составлением опекунских отчётов для свояченицы Сонечки, разборами со старостами и управляющими в поместьях. «<…> Точно ли почти весь каймарский овёс жат в прозелень и не годится ни на пищу, ни в продажу <…>» — вот образец его тогдашней деловой прозы. Вместо «пера» он занят перестройкой мельниц, определением величины крестьянского оброка…
В декабре 1839 года в Москву приехал Николай Коншин: навестил Боратынского, и вместе они отправились в Английский клуб, устроили застолье в «уединённой комнате».
Коншин впоследствии вспоминал:
«Вслед за этим я провёл у него вечер. Это был вечер, на котором мы простились до свидания там, где позволено надеяться свидания христианину. Мы сидели в кругу его милого семейства, все около стола, и вдруг, совсем неожиданно, лампа, перед нами стоящая, погасла и оставила нас в тёмной комнате. — Люди суеверные не разделят ли со мной чувства, что эта догоревшая неожиданно лампа была для меня голосом неба».
Глава двадцать третья
НА БЕРЕГАХ РЕКИ СУМЕРЬ
Сияние и тьма
«Ещё, как патриарх, не древен я…» — задумчиво шутил Боратынский, обращаясь с коротким посланием к некоей «деве красоты» и давая ей своё «благословенье» древним —
патриаршим — слогом.
В другой раз ему просто напелась песня: её то ли навеял ему старинный русский язык, то ли выдохнула из своих глубин кровная память:
Были бури, непогоды,
Да младые были годы!
В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий,
Вольной песнью разольётся,
Скорбь-невзгода распоётся! <…>
Но уж, видно, и песнопенье не разрешает — не лечит скорбь-невзгоду болящего духа…
А как век-то, век-то старой
Обручится с лютой карой,
Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалой,
Не положишь ты на голос
С чёрной мыслью белый волос!
(1839)
Давно поблекли его
румяные дни; потускнел свет в душе, — и в самих стихах будто бы закатывается солнце. Они всё откровеннее, беспощаднее…
На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.
Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!
И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь, а оно
Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды день сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!
(1840)
Грёзы о молодости — возвратные сновидения — навевают лишь дремоту; утро, с его наивным светом, уже бессмысленно, коль скоро его сменит бесплодный вечер и мрак ночной.
Притяжение по-жизненной бездны, где пустота, тьма…
И в повседневности тех лет сшибка света и мрака всё необратимее. Жизнь, как солнце к закату, клонится к этой бездне. Рождение дочери Юлии (сентябрь 1837 года) — и вскоре потеря малышки Софи. «<…> Я уже давно разуверился в её выздоровлении, но жена моя всё не могла расстаться с надеждой и в роковую минуту ещё питала иллюзии. Оба мы много выстрадали <…>», — пишет он матери в конце сентября 1838 года
(перевод с французского).
Радостная для Боратынских свадьба Николая Путяты и Софьи Энгельгардт — и печальная кончина Ивана Ивановича Дмитриева (Боратынский был на отпевании незабвенного ему поэта в Донском монастыре). Потом смерть «старой Пашковой», Евдокии Николаевны, доброй, гостеприимной барыни, дом которой они с Настасьей Львовной так любили, где по-старинному привечали всю достопочтенную и молодую Москву.
В мае 1839-го из Симбирской губернии пришла весть о смерти Дениса Васильевича Давыдова.
Скорбные утраты множились — радости убывали…
В романе Дмитрия Голубкова «Недуг бытия», посвящённом Боратынскому, описывается прогулка поэта близ речушки Талицы в окрестностях Муранова, как потом выбрел он к другой речке, течением посильнее. Запущенный редкий лесок, кусты бузины и черёмухи, овраги, болотины… Крестьянская изба, серая от дождей… брюхатая баба в панёве на пороге…
«— Скажи, а как речка ваша называется?
— Сумерь прозывается река-т. Сумерь, батюшка. А овраг и вся места округ — Сумерьки <…>».
Далее автор видит своего героя шагающим наобум к лесу, продирающимся сквозь цепкий кустарник:
«Впереди посветлело: берёзы разредили сумрак. Чёрная вода тускло проблескнула отраженьем белизны — словно старческое бельмо, глянула из кудлатых зарослей.
Это была старица, полная мёртвой, неподвижной воды.
Он остановился на податливом болотистом берегу.
„Вот жизнь моя, — подумал он. — Вот верная картина моего бытия…“
— А Настинька? Дети? Стихи мои? — спросил он и замер, суеверно вслушиваясь в овражную тишину.
„Всё бессмысленно, — прошелестел бесстрастный голос. — Всё недвижно, и вечна только смерть. Всё бессмысленно: созидание домов и храмов, книги и тупая баба, готовая разрешиться новой рабской жизнью. И эти липы, покорно принимавшие любые очертанья и так же покорно превратившиеся в полумёртвых химер. Ты жив, но могила обстаёт тебя и удушает твой ненужный дар. Не противься же. Остановись“.
Он закинул голову и двинулся сквозь тьму и враждебно шуршащую тишь».
Всё оно так могло и быть, разве что в мысли не заглянешь…
Так же мог произойти в жизни Боратынского и другой эпизод, в домашнем кабинете, связанный с этой прогулкой по берегу Сумери:
«<…> — Но где я бродил сейчас, дремлючи? — Он нахмурился, потирая взмокший лоб с обильными залысинами. — Да: мёртвый парк, дом… Сумерь. Сумерки. — Мрачно воодушевляясь, зашагал по комнате. — Сумерки… А не худо бы так окрестить мою новую книгу. Последнюю книгу. Да, да: последнюю! Разумеется — последняя. И точка будет поставлена наконец».
…До сего времени, как и два века назад, течёт близ Муранова невзрачная речка Сумерь.
Когда-то, в XV столетии, её называли в писцовых книгах — Соимирь; позже — Сомь, Сумерь, Сумер. А в XIX веке в межевых бумагах она обозначалась как Сумерка, Сумрак. Из финноугорского слова, что в переводе — «озеро», «река» (Сумерь вытекает из озера, потому так и назвали), имя этой речки по созвучию «впало» в русские смыслы и стало обозначать совсем другое: закатные часы, утрату света, медленное погружение во тьму.
И, наконец, река Сумерь невидимо «перетекла» в последнюю книгу Евгения Боратынского — «Сумерки». Такую же тихую и небольшую, всего в 26 стихотворений, но уже — вековечную.
Эта книга собиралась постепенно, по стихотворению, — а писались стихи в конце 1830-х — начале 1840-х годов всё реже и реже.
Душа словно привыкала к убыванию света; прибывающий мрак не тяготил; тьма хоть и ужасала, но влекла своею тайной.
Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легковерных грёз, детей волшебной тьмы,
Видений дня боимся мы,
Людских сует, забот юдольных.
Ощупай возмущённый мрак —
Исчезнет, с пустотой сольётся
Тебя пугающий призра́к,
И заблужденью чувств твой ужас улыбнётся. <…>
«Видения дня» — это
обыкновенная жизнь, с её суетами и юдольными заботами. День тревожен — тьма волшебна. Ночь пробуждает мечты, безмолвие — слова. А дневная суета плодит свои химеры, наваливающиеся огромными облаками. Они грозятся раздавить, если ослабеешь душой. Они застят истинный свет духа — и только мужество и воля способны пробиться к нему:
О сын фантазии! Ты благодатных фей
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,
Весёлый семьянин, привычный гость на пире
Неосязаемых властей!
Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:
Ей исполинский вид даёт твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою —
Исчезнет, а за ним опять перед тобою
Обители духо́в откроются врата.
(«Толпе тревожный день приветен, но страшна…», 1839)
Почему же душа устремлена к этим двум равновеликим безднам — мраку и свету? Не потому ли, что чует: только там она может по-настоящему познать себя, достигнуть своих потаённых пределов:
<…> Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы <…>.
(«Благословен святое возвестивший…», 1839)
И всё это происходит в
обыкновенной жизни — в повседневном существовании, которое, хочешь или нет, нужно отбывать по законам толпы…
Поездка в столицу
Впрочем, к этому существованию Боратынский приноровился — и настолько, что выказал и житейскую, и деловую сметку.
Собственный дом на Спиридоновке он обустроил с возможным удобством и элегантно обставил модной мебелью, о чём не без довольства сообщает маменьке в Мару. Дань высокосветскому вкусу весьма разорительна, однако, «сообразив это», он нашёл выход: сдал внаём первый этаж «тщеславцам» и получил искомые деньги на меблировку. Кое-кто из гостей, посетив его «уголок», даже последовал этому примеру. Правда, сам поэт в письме к матери слегка подшучивает над своей «спекуляцией»: воображает, что его могут сравнить с мольеровским ловкачом, г-ном Жоссом, — и заранее готовит философический отпор: «<…> Но знаете ли, что можно отвечать? Что заблуждения рассеиваются и что сейчас многие были бы рады вернуться к своему собственному
я, отсутствие которого всегда изгоняло из общества всякое простодушие и придавало общению беспримерную скуку, пошлость и холодность. Я уверен, что люди, вынужденные вращаться в свете, будут изумлены справедливостью этого замечания <…>»
(перевод с французского).
То бишь и в светской жизни следует оставаться самим собой и не терять естественности поведения и присущего человеку здравого смысла.
Всё же дом с жильцами на первом этаже, наверное, не так мил, как прежде, когда его весь занимала собственная семья. Да и Москва уже опротивела своей
холодностью: редакции кажутся ему враждебными, друзей не осталось, салоны скучны… Боратынского неодолимо потянуло в город его молодости — в Петербург: там верный Плетнёв, умный Вяземский… — и чудится: там нет ползучей житейской суеты…
И вот в начале 1840 года он снова едет в Петербург. Конец января — не самая лучшая пора для свидания с городом, в котором не был пятнадцать лет, но Боратынский словно и не замечает погоды. Столько встреч!.. В столице брат Ираклий, невестки — жёны Ираклия и Николая Путяты, старые товарищи, с которыми прежде был «очень дружен». Он заранее готов к печальным впечатлениям, ведь многое переменилось за эти годы. Однако у поездки есть и «практический смысл». «<…> Я намерен выгодно продать Смирдину, единственному из наших издателей, располагающему капиталом, право на третье издание моих рифмоплетений, прибавив к ним ещё один том последних своих грехов, — пишет он маменьке, Александре Фёдоровне. — Деньги, при этом вырученные, весьма пригодятся для путешествия в Крым»
(перевод с французского).
С потаённой настороженностью он встречается с теми, кого хотел увидеть. Видно, сказалось сугубое уединение в Москве и в своих поместьях, где общение замыкалось на жене Настеньке, с её подозрительностью ко всем на свете и непременным желанием отгородить мужа от всего, что не она и не семья. Но Боратынскому так искренне рады в доме Путяты, что он даже растрогался. Плетнёв тоже ни в чём не изменился в дружестве и в своём «святом простодушии»: он зовёт поэта «обедать
вдвоём», — и Боратынский замечает в письме жене: «Не правда ли, что этот зов целая характеристика?»
В столице, где он пробыл две недели, Боратынский каждое утро начинает с письма Настасье Львовне: в подробностях описывает всё, что случилось за день, в шутку называя это своим «петербургским журналом». Сначала полный отчёт жене, а потом визиты.
У Одоевского он повстречался с Вяземским; вместе слушали чтение повести Соллогуба «Тарантас»: нимало не понравилось. Ему представили Мятлева, которого Боратынский знал по его шуточным стихам: ожидал увидеть перед собой молодого повесу, а тот оказался «человеком важным», лет сорока пяти, — и в эти-то годы «придворный забавник». «<…> Познакомился с Лермонтовым, который прочёл прекрасную новую пьесу; человек без сомнения с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то нерадушное, московское, — сообщает жене 4 февраля. — Мятлев читал своё путешествие г-жи Курдюковой по чужим краям, в стихах, вперемешку русского с французским. Много весёлости, и он мастерски читает. Потом тешил всех разного рода анекдотами; но меня менее других, потому что напоминал мне брата Льва, который решительно его превосходит и особенно вкусом и чувством некоторого приличия даже в этом роде».
В последующие дни визиты к Карамзиным, у которых «в полном смысле salon», к Жуковскому, где они три часа кряду разбирают ненапечатанные стихи Пушкина, оставшиеся по смерти в его тетрадях.
По вечерам или дружеский ужин, или посещение театра…
Не прошло и недели, как он признаётся жене, что, хотя приятно проводит время, его уже тянет домой.
Что же мешает ему забыться в развлечениях и в приятельском обществе? Отсутствие уединения, к которому он привык и которое необходимо для души. Без этого приятная петербургская жизнь похожа на заведённое круженье, на
беспрерывное мытарство.
«У Дюме», в ресторации, Вяземский с «молодёжью»
пьют его здоровье, — Боратынский тронут; пляшут и поют цыгане, все «порядочно подгуляли», — но как это всё утомительно… Он идёт на бенефис Тальони: удивительна, прелестна, неожиданна, и такая «правда поз: дух захватывает»… — но и знаменитая танцовщица не приносит забытья. Даже от дяди, Петра Андреевича, который в первую встречу «облил его слезами», Боратынский потом, в Дворянском собрании, «ускользает»: душой он уже страшится треволнений и рвётся в спокойную Москву.
Вяземский корит молодое поколение в неумении пить и веселиться, косвенно намекая на Боратынского: гуляке князю поэт кажется похожим на человека, который вообразил, что болен. Вяземский явно раззадоривает Боратынского: гуляй, наслаждайся, забудь про всё на свете!.. Но Боратынский вроде бы не понимает задорной шутки — отвечает всерьёз. Объясняет: дескать, он вовсе не преувеличивает воображением свои немощи, напротив, не заботится о своём здоровье и не любит лечиться.
В Собрании Боратынский с интересом разглядывает наследника, Александра Николаевича, и великого князя Михаила, и огорчён тем, что так и не увидел государя. Зачем ему царь? Чтобы составить личное впечатление?..
В этой повседневной кутерьме визитов, обедов, салонных чтений, театральных вечеров Боратынский ненароком подмечает, что столица, в которую он так мечтал перебраться, уже не та, что была в его поэтической молодости. «Скажи Павлову, что благодаря Бога здесь ещё меньше заботятся об отечественной литературе, нежели в Москве», — пишет он жене в письме от 8 февраля. Печальная усмешка!..
Лишь посещение Академии художеств стало делом содержательным:
«<…> видел Последний день Помпеи Брюлова. Всё прежнее искусство бледнеет перед этим произведением; но одно искусство, а не сущность живописи. Колорит, перспектива, округлость тел, фигуры, выходящие будто вон из полотна, всё это выше всякого описания; но думаю, что изучающий Рафаэля, Михель Анджела, Тициана найдёт в них больше мысли, больше красоты. На лицах Брюлова однообразное выражение ужаса, и нет ни одной фигуры идеально прекрасной <…>».
Прославленная и модная картина не затронула души. Зато портреты Жуковского, Крылова, которые он увидел в мастерской, понравились.
Но и это сильное впечатление тут же было смазано визитом к армянской родне невестки Аннеты, жены брата Ираклия: «Обедал у Христофора Лазарева на Арарате, как говорил Ираклий. Было ужасно скучно, хотя я сидел подле Аннеты. Христофор меня преследовал литературными вопросами и между прочим добивался, чтоб я ему сказал откровенно, у кого больше таланта — у Николая или у Ксенофонта Полевого».
Это, конечно, вопрос вопросов: кто из братьев Полевых даровитее…
Немудрено, что любознательный Христофор не получил никакого ответа. Что, однако, не умерило его пыл, коль скоро на следующий же день он опять «насел» на Боратынского с теми же расспросами. «Армяне несносны», — только и вздохнул поэт в письме жене.
Разумеется, всё это издержки писательства: о чём же ещё в застолье поговорить с родственником — известным поэтом, как не о литературе. Недаром вскоре Настасья Львовна в письме Боратынского матери припишет несколько слов о том, что очень рада «путешествию Евгения», потому что ему в Петербурге оказали очень лестную встречу, везде принимали «как общепризнанную знаменитость» и «<…> судя по тому, что пишут мне некоторые дамы, он имел большой успех, или, если повторить дословно их выражение, колоссальный успех любезного человека».
Сам же Боратынский сообщает маменьке лишь о том, что настроение его после поездки поправилось, что завязаны новые весьма приятные связи и следовало бы, наверное, задержаться недели на две, чтобы несколько их укрепить, да не терпелось вернуться в семью…
В апреле, на Пасху, Боратынские дали обед самым почтенным для них людям: Закревскому, Ермолову, Тургеневу, Вяземскому и «другим московским знаменитостям», дабы исполнить «свой долг перед обществом». «Нет в мире человека лучше, чем граф Закревский, — писал поэт матушке. — Можно подумать, что это я оказал ему услугу, а он хранит признательную память о моём пребывании в его доме — настолько он добр со мною»
(перевод с французского).
Вскоре Настасья Львовна повезла в Петербург детей Машу и Митю, чтобы устроить их там в пансионы, — предполагалось, что позже они переедут в столицу всей семьёй. А Боратынский, по отъезде жены, отправился 9 мая к Михаилу Погодину на Девичье поле: там в живописном саду отмечались именины Гоголя. Собрался весь цвет писательской и культурной Москвы: А. И. Тургенев, П. Я. Чаадаев, М. Н. Загоскин, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков, М. Ф. Орлов, М. С. Щепкин и другие; были и знаменитые гости из столицы: П. А. Вяземский, М. Ю. Лермонтов.
На следующий день Боратынский сообщил жене про именины в саду, впрочем, без особых подробностей. Его впечатлило, как дружелюбен был с ним подвыпивший генерал Орлов. Описал лёгкий разговор с Вяземским: «Я ему сказал: „Наша жизнь разделяется на две половины: как быть с людьми, которых любишь, как быть с людьми равнодушными? Может быть, я это узнаю в чужих краях. Мне о многом надобно поразмыслить“. Он одобрительно промычал. Расстались хорошо <…>». Чаадаев звал поэта на свои понедельники. Поделился с ним вдруг своим замечанием о том, что Вяземский прежде с ним дружески сплетничал, — на что Боратынский, решив, что эти слова предполагают одно: прежде сплетничал недружески, отвечал: «Лучше следовать правилу мадам Жанлис — поддерживать личные отношения, а сплетен не слушать». «Я не думал быть остроумным и говорил от души, — уточнил он жене, — но мне после сказали, что я был очень зол. Видно, ничего нет злее правды. Ты понимаешь, что цитировать мадам Жанлис Чаадаеву — значит зачислять его в старики. Я об этом не думал».
Ни слова об имениннике, о чтении стихов и прозы, что были в саду Погодина: только то, что интересно
Настеньке, — а ей же хочется знать лишь одно: как другие относятся к её мужу…
Однако настроение у Боратынского в те дни было подавленным: когда они расставались с женой, то повздорили и он тяжело переживал размолвку. «<…> Я сижу один с Демоном болезненного воображения и, может быть, равно болезненной совести. Ты знаешь меня по себе. Жду от тебя несколько слов, которые могли бы меня успокоить, и моя лучшая вера состоит в том, что ты их точно напишешь; да полно, об этом я бы не кончил <…>».
Далее в письме вымараны четыре строки, так, что не прочтёшь. Настасья Львовна, по смерти мужа перечитывая письма, бывало, кое-что вычёркивала. Подправляла, по её мнению, лишнее, наводила свою ретушь.
Получив тревожное письмо, Настасья Львовна сразу же ответила и успокоила Боратынского. В своём горячем послании, дышащем неподдельным чувством, она обласкала мужа любовными эпитетами, удивляясь, как он мог вообразить, что она обиделась на него: «<…> Если бы я могла предположить, что эта наша глупая размолвка произведёт на тебя такое удручающее впечатление, я не стала бы писать эти свои письма, столь поспешные и столь глупые, представляю, как они должны были быть неприятны тебе, а ты, моя душичка, ты написал мне письмо, исполненное такой любви, такой нежности, которые пронизали меня столь глубокой признательностью, что я готова была помчаться, как на крыльях, благодарить тебя, и вообрази, как нарочно, именно теперь, только что, учреждены почтовые дилижансы, которые добираются до Москвы за два дня <…>»
(перевод с французского).
Осенью Боратынские собирались перебраться в Петербург, однако ничего не вышло: одна из казанских деревень сгорела в пожаре, и хлеб, предназначенный к продаже, пошёл на прокорм погорельцев; пришлось покупать зерно на семена; словом, чтобы располагать деньгами для переезда, надо было подождать до будущего урожая.
Боратынского всё больше поглощало хозяйство. Летнюю поездку в Мару ему пришлось на время отложить: ходили слухи, что на дорогах неблагополучно «из-за отчаяния умирающего с голоду народа». Только в августе поэт добрался до родного поместья. С грустной шутливостью он пишет оттуда Соболевскому, которого прежде просил приискать квартиру в столице: «Радуйся: я нашёл здешнее моё имение в таком положении и получил из других такие вести, что я думать не могу ехать в П-бург. Остаюсь в деревне на год, кругом меня прекрасные степные виды, но дальнейшие мне не позволены. <…> Очень обязан тебе за участие, принятое тобою в моей заботе, и жалею, что ещё долго тебя не увижу».
Пильная мельница и новый дом
Решено было год прожить в Маре, а уж потом думать о столице. Боратынский обсуждал с Путятой, как продать мурановский лес, чтобы покрыть текущие долги. Уехав в деревню, он надолго пропал из виду московских писателей; лишь изредка его новые стихи появлялись в журнале «Современник». Фёдор Глинка писал Петру Плетнёву: «<…> Баратынский уехал в Тамбов; уехал — и все его забыли! а пока был на глазах — кадили, чествовали!! <…>».
Только в мае 1841 года поэт с семьёй вернулся в Москву из Тамбовской губернии. По приезде он написал матери, Александре Фёдоровне, как неудачна была обратная дорога, как однажды под тяжёлой каретой провалился гнилой мост, и что в Муранове ему отнюдь не до отдыха: так много дел.
Всё лето в Москву они не выезжали. И, видно, не только потому, что не отпускало хозяйство: «<…> в Москве сейчас нет общества в истинном значении этого слова».
Исподволь Боратынский собирает свою новую книгу «Сумерки», тщательно продумывая её композицию. Что до стихов, то они приходят всё реже и реже…
Внешняя жизнь — вся в
хозяйстве, что отразилось в многочисленных письмах к Николаю Путяте, совладельцу поместий. Так, в сентябре — ноябре 1841 года он пишет другу: «Долго я думал о сбыте нашего мурановского леса, о причинах, по которым он и за среднюю цену не продаётся, и нашёл главные две: 1-е, что купцы так часто у беспорядочных дворян имеют случай покупать лесные дачи почти задаром, что им весьма мало льстит покупка, представляющая только 20 обыкновенных процентов: 2-е, боязнь ошибиться самим в настоящей ценности леса неровного, неправильно рубленного и проч. Из этого я на первый случай заключил, что должно хотя несколько десятин свести самому хозяину и постараться сбыть брёвнами и дровами. Наконец вспомнил, что я в Финляндии видел пильную мельницу. Надобно, во-первых, вам сказать, что, думая сам сводить нашу лесную дачу и не зная, как предупредить злоупотребления и облегчить сбыт, я обратил внимание на нашего Бекера, который имеет очень много хозяйственных сведений и как купеческий сын сохранил в Москве по сию пору разные коммерческие связи. Я предложил ему взять на себя присмотр за сводом леса и продажу материалов за 10 процентов, когда выручка будет превышать 600 + за десятину, и он принял моё предложение. Я стал ему говорить о пильной мельнице. Вышло, что они очень обыкновенны в Курляндии и стоят вовсе недорого. Когда же я вычислил баснословную выгоду, которую нам может принести устроение подобной мельницы, я ухватился за мысль и тотчас принялся за дело. — Вот вкратце расчёт. Я вымерил самую среднюю десятину и счёл на ней 400 пней. — 400 пней дают 800 брёвен (и с лишком, потому что лучшие деревья дают 3 бревна). — Каждое бревно даёт 4 доски, итого 3200 досок. — В Москве доски самого последнего сорта стоят 200 сотня. — Если положить доску только по одному рублю, то десятина даст 3200. — Сверх этого остаются: третье тонкое бревно, которое пилится на тёс, и осиновый и берёзовый лес, равно и горбыли, которые пилятся в дрова, макушки, которые пойдут на домашнее отопление и на кирпичный завод, который я хочу устроить в то же время. Кругом десятина, при самом среднем счастии, должна дать до 5000+. — Я отыскал механика г-на Прагста, который подобную мельницу строил на Нарвском водопаде. Он приезжал ко мне в Мураново, потому что я сначала думал заменить нашу мукомольную мельницу пильною, но вода оказалась недостаточной. Наша мельница будет приведена в движение 8-ю лошадьми. <…>
Мельница будет давать до 500 досок в сутки; в год можно свести до 25 десятин. В пять лет вся операция будет окончена. Если же продажа будет успешна, то я поставлю другую мельницу, которую Прагст обязуется мне устроить за 5500, и тогда сведу лес в 2 ½ года. — Ты видишь, какой ничтожный капитал нужен для самых блестящих результатов! Надеюсь, что ты не поколеблешься взять убытки на барыши предприятия пополам, но за свою мысль и за свои хлопоты я прошу 10 процентов, когда десятина будет приносить свыше 1000. — Контракт с Прагстом уже сделан. К наружному строению приступаю. — Главный ежегодный расход состоит в корме лошадей, но часть вознаградится лучшим удобрением полей. Я надеюсь, что все ежегодные издержки покроются одним доходом с кирпичного завода. — Прощайте, устал смертельно от длинного делового письма <…>».
Проза
обыкновенной жизни…
Боратынский решил разом, «одним годом», так устроить все свои хозяйственные дела, чтобы «вперёд» они его почти не занимали. В Муранове он задумал возвести лесопилку и кирпичный завод, перестроить заново, значительно расширив по площади барский дом; в казанских имениях — завести оброк и посадить на управление честных и сметливых старост. Только после этого он мог бы с чистой душой вернуться «к прежним, более привычным занятиям» — то есть наконец посвятить своё время
рифме. Давнишняя мечта уже казалась ему вполне достижимой, и это согревало душу, подстёгивало предприимчивость. Окончание дел, долгожданное путешествие по дальним странам, которое освежит кровь и обновит мысли, — и вдохновенная жизнь в новом дому, на благословенной подмосковной земле. Вот всё, что нужно было уму и сердцу…
«Я между прочим бодр и весел, как моряк, у которого на виду пристань. Дай Бог не ошибиться», — признался он Николаю Путяте, оканчивая это многотрудное деловое письмо.
Как в ранней юности, вспомнилось —
море!.. Только тогда ему виделись сражения с врагом, борьба с бушующей стихией, — теперь же чудилась свобода от забот, преодоление вечной отупляющей качки житейской зыби, вольная пристань
трудов и чистых нег, о коих мечталось в конце жизни и Пушкину.
В октябре 1841 года Боратынские сняли просторный дом в соседнем селе Артёмове у помещицы Пальчиковой и переехали туда. «Мы живём в столь глубоком уединении, любезная маменька, что все новости, которые я могу вам сообщить, касаются только нашего здоровья, слава Богу, хорошего, — писал он Александре Фёдоровне в Мару в начале зимы. — Подмосковная усадьба зимой — убежище куда более мирное и тихое, нежели деревня в глубине России. Надо сказать, что у нас тут зима в разгаре — земля покрыта снегом, и установился санный путь. Мы собрались было починить четырёхместный возок, чтобы на нём ездить в Москву, где бываем всё же время от времени, но отказались от этого намерения из-за здешних дорог, таких узких в этом лесном краю, что в большом экипаже добраться до шоссе невозможно. Эти дороги — не что иное, как едва заметные следы от крестьянских саней, остающиеся после редких поездок какого-нибудь крестьянина в соседнюю деревню. Все барские дома кругом пустуют. Мы так мало ожидаем гостей, что в доме, который сняли (а это большой дом, построенный по-старинному, то есть очень неудобно), закрыли все двери и оставили только чёрный ход — это нужно как для того, чтобы защититься от ветров, дующих сквозь щели, так и для того, чтобы разместить всех наших домашних, а среди них пополнение: француженка, она также даёт детям уроки музыки и рисования, учитель латыни, русского языка и математики. Прихожая, дверь из которой выходит на парадное крыльцо, теперь забита и служит обиталищем француженки. Жизнь наша течёт в высшей степени однообразно. Часы отличаются один от другого лишь различными уроками детей да разными музыкальными пьесами, которые они разучивают; по ним мы и определяем время. У Сашиньки, кажется, открылся подлинный талант к живописи <…>»
(перевод с французского).
Про себя он сообщил только одно — что всё время занимался пильной мельницей: здание для неё наконец выстроено и скоро можно запускать машину…
Боратынский никогда не был богат и отнюдь не стремился разбогатеть: ему нужны были средства для семьи, для воспитания детей и относительная материальная свобода для творческой жизни. Ни на чью помощь рассчитывать не приходилось — создать эти необходимые условия он мог только сам. Вести хозяйство в казанских имениях и в Подмосковье было весьма непросто, а он ещё затеял собственное дело с лесом и постройку дома. Помогли природный ум, знание людей, смекалка и твёрдая воля. Мысль о лесопилке была замечательной: поэт совершенно верно понял, что «лес после хлеба первая необходимость». Но он сумел ещё и основательно изучить, как с наилучшей пользой устроить своё дело.
Мурановский лес оказался изведённым: где пусто, а где густо; местные ели имели «весьма невыгодное свойство на половине необыкновенно суживаться», отчего на пилку выходило меньше брёвен, чем он первоначально предполагал. Но всё равно изготовлять доски было гораздо выгоднее, чем по дешёвке продавать купцам лес на корню, как это делали ленивые и нерадивые соседские помещики. Крестьяне же, подметил Боратынский, не любили работать, и ему как хозяину стоило больших трудов наладить вырубку леса. А когда в феврале 1842 года попробовали пильную машину «начерно», то чуть не случился казус: «На 8-ми лошадях, новая, не обтёртая, она пошла хорошо и даже слишком. Лошади привели её в первое движение с большим напряжением, но вдруг, почувствовав облегчение от действия махового колеса, понесли, всё затрещало, и мужики наши разбежались в страхе» (из письма Н. Путяте, февраль 1842 года).
В другом письме Боратынский до мельчайших деталей объясняет своему родственнику-компаньону свои новые, уточнённые расчёты «всей операции» по пилке леса: есть даже чертёж, разъясняющий механику этого процесса. Он подробнейшим образом сообщает, во что обойдутся наём управляющего, питание занятых в деле крестьян и прокорм лошадей, причём рассчитывает издержки и доходы не на год, а сразу на пять лет. «<…> Из Англии я получил 100 пил, каждая обошлась по 12 р. 50 к. Если машина чуть-чуть искусно сделана, нам некуда девать и 50-и. 50 можно будет продать по 25. Пилы эти обыкновенные продольные, служащие и для ручной пилки, только вдвое лучше тульских, которые продаются за цену, поставленную мною выше. — Теперь мы толкуем о важном деле, о том, чтобы заменить лошадей волами. Вместо 20 лошадей нужно только 10 волов. Для машины они лучше, потому что идут ровнее, содержание дешевле вчетверо. Цена с лошадьми одна. Я колеблюсь, потому что, по крайней мере в Тамбовской губернии, на них часто бывает падёж; но тамбовский климат особенно злокачествен. Собираю сведения, и если они будут благоприятны, то это совершенно обезопасит нашу операцию. — За одно нынешнее лето я вывезу на этих волах из Глебовского всё сено, нужное на их продовольствие в течение пяти лет. Ты знаешь, что волы летом не требуют никакого содержания и довольствуются подножным кормом <…>».
Эти письма Путяте — своеобразное свидетельство предельной добросовестности Боратынского в ведении хозяйственных дел. Николай Путята — старый друг и молодой родственник, он, конечно, и так полностью доверяет поэту, однако они несут общие затраты — и тем щепетильнее Боратынский в своих сметах. «Очень рад, что кончил письмо и дал тебе отчёт, который давно хотел тебе дать во всех моих соображениях и действиях. Желаю, чтобы ты был доволен. Ты видишь по крайней мере, что я усердно занялся хозяйством».
Его затея с пилкой леса, хоть и не принесла особой прибыли, в общем удалась. 8 марта 1842 года поэт не без торжественности объявил Николаю Путяте: вчера, «в день моих имянин, я распилил первое бревно <…>. Доски отличные своей чистотой и правильностью».
С таким же умом и основательностью Боратынский возводил свой обновлённый дом в Муранове — по собственному плану и чертежам, обнаружив изрядный архитектурный вкус. Он предусмотрел всё возможное, чтобы дом был удобным для обитания, уютным и зимой не продувался ветрами. Перед зданием разбили цветник; к пруду сбегал широкий зелёный луг, а за гладью воды поднимались округлые холмы, поросшие ельником. Двухэтажный дом, сложенный из могучих брёвен, и слегка возвышающуюся над ним башню у одноэтажной пристройки обложили кирпичом. Поэт писал Николаю Путяте, что дом «снутри ощекотурен глиною, способ, вывезенный мною из Тамбовской губернии, где он в общем употреблении». Наверху устроили детям классную комнату для занятий — что характерно, без окон в стенах; комната освещалась сверху, через узкие окна под крышей, посередине по скатам крытой стеклом. По преданию, всё это задумал и устроил сам Боратынский — чтобы ничто не отвлекало детей во время уроков. Конечно, детишки
тужили, не имея возможности глазеть в окна, — недаром домашние прозвали эту комнату —
тужиловкой. На нижнем этаже анфилада комнат завершалась зимним садом, расположенным между библиотекой и башней…
Летом 1842 года Боратынский написал матери, что дом почти закончен и что «получилось славно: миниатюрная импровизация Любичей» (Любичи — имение Кривцовых, соседей Боратынских по Маре).
Труды минувшего года, проведённого в утомительных хозяйственных делах и хлопотах, Боратынский с полным основанием назвал —
ненапрасными.
Его занятия хозяйством были, конечно, не только
усердие, но постижение сельского труда как такового. Боратынский относился отнюдь не к тем помещикам, для которых главным являлось упрочить своё дело, — он по самому своему естеству был
созидателем на земле. Те незаметные уроки, что дал ему в детстве отец, не прошли даром. Добродушный мечтатель Абрам Андреевич, изукрасивший своё поместье Мару прекрасным садом и постройками, передал своему старшему сыну любовь к земле и к устроению собственного дома, внушил уважение к труду крестьян.
Когда-то в далёкой юности 21-летний Боратынский в элегии «Родина» воображал для себя скромную участь «спокойного домоседа», который в кругу семьи наблюдает со стороны за «бурями света», и признавался:
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча, полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
В Муранове начала 1840-х эти желания осуществлялись наяву.
Боратынского как помещика отличали трезвый ум и благой разум: он подобрал способных управителей в своих имениях и положил им приличное жалованье; обременительную барщину в казанских имениях заменил посильным оброком; своим тамбовским крестьянам «дозволил почтовую гоньбу». Два раза в год возчики доставляли обозы с рожью в Москву, а на обратный путь загружались в Муранове досками и дровами, смотря что было выгоднее везти в ту или иную пору. На валку и пилку леса Боратынский взял рабочих по вольному наёму, а его мурановские крепостные только подвозили брёвна к «машине» — пильной мельнице.
Поэт сочувствовал участи крепостных крестьян, хорошо зная их жизнь; чем мог, помогал мужикам, особенно в голодные годы. Он считал, что подневольный труд на земле давно изжил себя, что рабское состояние унизительно для человека. Это подтверждает его чрезвычайно горячий отклик на проект закона об «обязанных крестьянах», предложенный в 1842 году графом П. Д. Киселёвым. Согласно этому нововведению крестьянам на определённых условиях давалось право получать от помещиков землю в постоянное наследственное пользование, то есть крепостные обретали частичную свободу. «<…> Нельзя было приступить к делу умнее, осторожнее! — писал Боратынский Путятам, поздравляя их с Пасхой. — <…> У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем. Вижу, осязаю возможность исполнения великого дела и скоро, и спокойно <…>».
Проект свободолюбивого государственного мужа был сильно отредактирован в Министерстве внутренних дел, а принятый вслед за этим закон свёл права крепостных почти на нет. Впоследствии историк В. О. Ключевский писал: «Помещики, говоря о неудаче закона, смеялись над ним, но они не заметили, какой переворот свершился в законодательстве; свобода крестьянской личности, следовательно, не оплачивалась. <…> Как скоро молчаливо было признано законом это начало, тотчас же из закона могли вывести, что личность крестьянина не есть частная собственность землевладельца, что их связывают отношения к земле, с которой нельзя согнать большую часть государственных плательщиков <…>». Боратынский сразу же и одним из первых понял суть этого коренного перелома в отношении к крепостным крестьянам — и от души порадовался. В конце апреля 1842 года он писал сестре Наталье в Мару: «<…> Вы получаете московскую газету и, следовательно, знаете о замечательном указе, превосходном своей сдержанностью и предусмотрительностью и разрешающем самые трудные проблемы, хотя с первого взгляда это и не очевидно. <…> Все мои молитвы — за того, кто не побоялся взяться за труднейшее и прекраснейшее дело. Взаимные права помещиков и крестьян до некоторой степени уже определены, а это — пробный камень <…>»
(перевод с французского).
Осуществилось и его давнее желание о
спокойном домоседстве: добрая, любящая жена, многочисленное семейство; размеренная жизнь вдали от суеты…
Старший сын поэта, Лев Евгеньевич, впоследствии вспоминал, что воспитание детей было мягким. «Телесных наказаний не было и в помине, детей даже не ставили в угол; наказания для провинившихся состояли в лишении за столом
сладкого или ещё одного блюда. Отец на детей никогда почти не сердился, прикрикивал на них очень редко и вообще относился к ним нежно; разговаривал он с ними серьёзно, а со старшими детьми своими поэт старался держать себя как с друзьями, почти на товарищеской ноге».
Сам Боратынский писал матери, Александре Фёдоровне, летом 1842 года из Артёмова (в Муранове дом ещё достраивался):
«<…> Вы понимаете, что я обосновался в деревне надолго. Моя энергическая деятельность — по сути не что иное, как следствие глубокой потребности в покое и тишине. Дом наш в настоящее время напоминает маленький университет. У нас живут пять иностранцев, среди которых судьба подарила нам превосходного учителя рисования. Скромное существование, которое мы ведём, и доходы, которые, мы надеемся, даст нам продажа леса, позволяют много тратить на обучение детей, так как они и их учителя оживляют наше уединение. Этой осенью я испытаю наслаждение, прежде мне неизвестное, — буду сажать деревья. У нас есть хороший старик-садовник, и я рассчитываю на его добрые советы <…>»
(перевод с французского). Дети радовали отца: старшая дочь Александра прекрасно рисовала, Лев делал успехи в музыке и, кроме того, как и брат Николай, пробовал сочинять стихи. Боратынский приветствовал его первую «стихотворную сюиту» на редкость светлым и радостным экспромтом:
Здравствуй, отрок сладкогласной!
Твой рассвет зарёй прекрасной
Озаряет Аполлон!
Честь возникшему пииту!
Малолетнюю хариту
Ранней лирой тронул он.
С утра дней счастлив и славен,
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жавронок живой
Чуткой грудию своею,
С первым солнцем, полный всею
Наступающей весной!
Беседуя с сыном о поэзии, Боратынский радовался его удачам, но всегда судил о стихах «беспристрастно и нелицеприятно», не щадил ошибок. Льву Евгеньевичу запомнились слова отца о том, что первые свои произведения «должно посвящать богам, предавая их всесожжению». Впрочем, из сына поэта не получилось, — его больше влекла музыка.
Для музыкальных уроков Боратынский пригласил в дом «m-me Fild» — вдову выдающегося пианиста и композитора Джона Фильда, у которого учились многие русские музыканты. Поэт любил и понимал музыку, он и сам играл на фортепьяно. Госпожу Фильд он, несмотря «на довольно невыгодную репутацию», выбрал потому, что она знала «методу» своего мужа. Боратынскому доводилось слушать игру этого замечательного пианиста, близкого по манере исполнения к тогда ещё новой и необычной игре Фридерика Шопена, сочетающей тонкую лиричность и проникновенность с безукоризненно строгим вкусом. Поэту очень хотелось, чтобы пианистка привила его старшим детям те «маленькие артистические тонкости», которые передал своей супруге её знаменитый муж.
Вожделенные
тишина и покой — и ежедневные суета и заботы: пилка леса, изматывающие формальности с опекой, продажа проса, строительство дома… В одном из писем Боратынский упомянул, что «всё это время» ему приходилось кормить в Муранове «по пятьдесят рабочих», занятых на стройке…
10 августа 1842 года поэт, извиняясь за опоздание, отвечает Петру Плетнёву: «<…> Письмо твоё застало меня средь материальных забот, тем более поглощавших всё моё время и мысли, что по привычке моей к жизни отвлечённой и мечтательной, я менее способен к трудам, требуемым действительностью. Чтоб в самом деле вести тихую жизнь мудреца, нужно глубокое и покорное внутреннее согласие на некоторые суеты житейские. Этого у меня нет, но надеюсь, что будет <…>».
То есть ему ежедневно приходилось пересиливать себя и напрягать волю…
«Обстоятельства удерживают меня теперь в небольшой деревне, где я строю, сажу деревья, сею, не без удовольствия, не без любви к этим мирным занятиям и к прекрасной окружающей меня природе, — продолжает он, — но лучшая, хотя отдалённая, моя надежда: Петербург, где я найду тебя и наши общие воспоминания. Теперешняя моя деятельность имеет целью приобрести способы для постоянного пребывания в Петербурге, и я почти не сомневаюсь её достигнуть. С нынешней осени у меня будет много досуга, и если Бог даст, я снова примусь за рифмы. У меня много готовых мыслей и форм, и хотя полное равнодушие к моим трудам гг. журналистов и не поощряет к литературной деятельности, но я, Божиею милостью, ещё более равнодушен к ним, чем они ко мне <…>».
А матери в Мару он пишет, посылая книгу Бальзака, что зимой, когда с «ненапрасными трудами» будет покончено, попробует написать роман «в его роде» — и обещает впредь не предпринимать ничего, что может помешать литературным занятиям.
Осенью Боратынские наконец переехали в новый дом — красивый, удобный, тёплый.
Однако до самого Рождества там ещё стучал молоток: что-то всё приходилось доделывать, — и поэт никак не мог привыкнуть к своему обновлённому жилищу…
Последняя книга
20 мая 1842 года газета «Московские ведомости» объявила о том, что в типографии Августа Семёна вышла книга «Сумерки. Сочинение Евгения Б
оратынского».
Это была последняя книга поэта.
Впервые за два десятка лет в печати он вернулся к старинному — верному — написанию своей фамилии:
Боратынский.
Кроме того, вместо слова «стихотворения», что было на его прежних книгах, появилось новое — «сочинение», и это было неспроста: поэт словно бы подчёркивал, что его небольшой томик един по духу и целостен по мысли и настроению.
Отправляя книги в Петербург Петру Александровичу Плетнёву — «для доставления разным лицам», Боратынский скромно написал: «<…> Знаю, что даю тебе очень скучное поручение, но ради нашей давней связи позволю себе не слишком совеститься. Тут есть экземпляры, адресованные старым товарищам, которые, может быть, с тобою не в сношении. Отдай их Льву Пушкину: это знакомцы нам общие. Не откажись написать мне в нескольких строках твоё мнение о моей книжонке, хотя почти все пьесы были уже напечатаны; собранные вместе, они должны живее выражать общее направление, общий тон поэта».
Из двадцати шести стихотворений книги лишь три «пьесы» были новые, зато ни одно из стихотворений не входило в прежние книги.
На экземпляре, предназначенном в дар Софье Карамзиной, была надпись в стихах:
Сближеньем с вами на мгновенье
Я очутился в той стране,
Где в оны дни воображенье
Так сладко, складно лгало мне.
На ум, на сердце мне излили
Вы благодатные струи
И чудотворно превратили
В день ясный сумерки мои.
Общий тон поэта и был —
сумерки.
Ни свет, ни мрак; ни день, ни ночь, — а именно то переходное время суток, которое как нельзя точнее отражало состояние духа и выражало
общее направление поэта, его
тон.
Посылая экземпляр книги князю Вяземскому, Боратынский сопроводил его ещё более скромной запиской: «Это небольшое собрание стихотворений предано тиснению почти, если не единственно, для того, чтобы воспользоваться позволением вашим напечатать посвящение. Примите и то и другое с обычным вашим благоволением к автору <…>».
«Сумерки» и открывались стихотворением, посвящённым Петру Андреевичу Вяземскому.
Другой экземпляр «Сумерек» поэт просил передать его жене, Вере Фёдоровне, любезно приписав: «Почту себя счастливым, если моё приношение будет ей хотя мало приятным».
Ещё один экземпляр книги был послан в дар Наталии Николаевне Пушкиной…
Эта небольшая книга, которая была поистине
томов премногих тяжелей, по воспоминаниям литератора Михаила Лонгинова, «произвела впечатление привидения, явившегося среди удивлённых и недоумевающих лиц, не умевших дать себе отчёта в том, какая это тень и чего она хочет от потомства».
Впрочем, Лонгинов был сам из этого недоумевающего «потомства» — он описывал свои юношеские впечатления. Что было ему до какой-то
звезды разрозненной плеяды, даже и пушкинской!.. Архаичный слог… старинные чувства… чересчур серьёзные мысли… Конечно, Боратынский был ему непонятен и чужд.
Однако и сам Боратынский, без сомнения, не обольщался насчёт читательского сочувствия. Он слишком хорошо знал, как далеко ушёл от публики, не способной воспринимать по-настоящему глубокую поэзию. Собрав воедино свои редкие, невиданной силы стихи последних семи лет (1834–1841), поэт, несомненно, представлял, что он чужероден не только давно равнодушным к нему господам журналистам, но и отвыкшему от него читателю, который всегда гонится за модой и новизной. Недаром первое стихотворение «Князю Петру Андреевичу Вяземскому» он велел выделить курсивом. Это был не просто запев книги — в старом друге Боратынский словно бы видел одного-единственного — своего — читателя и обращался только к нему. Сам же автор посвящения, добровольно покинувший свет, пребывал «как бы во гробе», в созданной для себя «Лете» — и покидал её только иногда лишь затем, чтобы, «с тоскою жаркой и живой», облетать «степи мира».
Не исключено, что и образ
тени навеян мемуаристу М. Лонгинову самим Боратынским — его восьмистишием, которое идёт вослед первым стихам книги:
Всегда и в пурпуре и злате,
В красе негаснущих страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей
И юных Граций ты прелестней!
И твой закат пышней, чем день!
Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень!
(1840)
Поначалу это стихотворение имело заголовок — «С. Ф. Т.»; адресат остался неразгаданным.
Судьба таинственной незнакомки, даже не вздыхающей об утрате
какой-то младости своей, метафорически отражена и в судьбе «позднего» Боратынского, который предпочёл одиночество и безвестность светскому шуму и «славе», но на закате своём сделался ещё
пышней, телесней в сияющем существе поэзии.
Железный век самонадеянно отринул божественную природу человека; доверившись расчётам, презрел первозданное чутьё; убил в себе чувство, возгордившись суетным умом. Вот почему и тоскует
последний поэт, наделённый не плоским, а всеобъемлющим знанием.
Он видит, что предрассудок, то есть интуитивное знание, ближе к истине, нежели доводы прагматического ума:
Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его — потомок
Языка не угадал.
Гонит в нём наш век надменной,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.
Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу,
Как уснёт он, предку дай.
(1841)
Он понимает, что человек, оторванный от природы, предаёт жизнь и обрекает себя на погибель:
ПРИМЕТЫ
Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой;
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил её знаменья с верой;
Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала:
О нём дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.
Почуяв беду над его головой,
Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.
На путь ему выбежав из лесу волк,
Крутясь и подъемля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
Бросал он на вражью дружину.
Чета голубиная, вея над ним,
Блаженство любви прорицала:
В пустыне безлюдной он не был одним,
Нечуждая жизнь в ней дышала.
Но чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий…
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.
(1840)
Это стихотворение, наверное, показалось прогрессистам XIX века просто-напросто смешным, — только теперь, спустя два столетия, оно явлено во всей своей пророческой силе.
Чем похваляется возомнивший себя богом «материалист», — спрашивал себя и читателя поэт, — если по сути своей человек лишь только
недоносок, «бедный дух, ничтожный дух! — но не житель Эмпирея»?.. Средь горечей, страхов, скорбей этому жалкому духу почти не осталось надежды на спасение, хотя он ещё слабо слышит «арф небесных отголосок». Однако глаза ему застилает мгла — сумерки сознания, и скоротечное существование того и гляди канет в «бессмысленную вечность»…
Судьбой
последнего поэта на земле пронизана вся книга «Сумерки»: от стихотворения к стихотворению — до предельных глубин бытия, человеческой души, мировой истории — доходит, разворачиваясь, этот поразительный по безоглядной правдивости и самоотверженному мужеству монолог.
В восьмистишии «Мудрецу» Боратынский печально усмехается над самим собой — над своим наивным желанием
тишины и покоя:
Тщетно, меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,
Хочешь ты пристань найти, имя даёшь ей: покой.
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье одно.
Тот, кого миновали общие смуты, заботу
Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;
Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!
(1840)
С той же горечью он свидетельствует о непомерном для земного человека
даре мысли, которому он сам сызмалу поклонялся и, несмотря на всю обретённую скорбь познания, остался верен до конца:
Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец её! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.
(1840)
Образ
последнего поэта — символ заблудшей человеческой души в обездушенном мире. Разумеется, он не во всём совпадает с личностью самого его создателя, но несомненно и другое: этот образ во многом отражает внутренний мир Боратынского, глубину его сознания, чувства и мысли. Явления ли «внешней» жизни пробуждают воображение поэта или же напряжённое внутреннее переживание вызывает в нём видения, — но в них неизменно присутствует этот сквозной образ. Он позволяет Боратынскому с безусловной правдивостью осознать и выразить свою душу.
Не столь существенно, видел ли он когда-нибудь въяве слепого нищего, поющего перед толпой, или же всё это пригрезилось ему, — а важно то, что в этом бедном безымянном певце он разглядел и
последнего поэта, и самого себя:
Что за звуки? мимоходом
Ты поёшь перед народом,
Старец нищий и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издеваясь над тобой.
А с тобой издавна тесен
Был союз Камены песен,
И беседовал ты с ней,
Безыменной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей!
Бедный старец! слышу чувство
В сильной песне… Но искусство…
Старцев старее оно:
Эти радости, печали, —
Музыкальные скрижали
Выражают их давно!
Опрокинь же свой треножник!
Ты избранник, не художник!
Попеченья гений твой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горнем клире
Звучен будет голос твой!
(1841)
Горний клир — это небеса, это песнь Богу.
Не о себе ли и пророчит поэт?..
Во всём своём творчестве Боратынский будто бы уклонялся от прямого разговора о Боге. Крайне редко обращался к теме веры и неверия… Исследователями обычно приписывается поэту «христианский скептицизм». Однако в книге «Сумерки», при всей её душевной
мгле и при всей безнадёжности её
тона, то там, то сям, где искрами, а где и языком пламени вырывается из глубин тот потаённый религиозный огонь, что так редко выказывал в своём творчестве поэт.
Всем известно: Бог есть любовь. Боратынский не говорит этого напрямую, у него только намёк на то — в обращении к другу:
<…> Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты,
И между тем любви высокой,
Любви, добра и красоты.
(«Князю Петру Андреевичу Вяземскому»)
Монах, уходя в пустынь, даёт обет безмолвия, обретая потом дар пророка. У поэта — пустынь в миру:
<…> И один я пью отныне!
Не в людском шуму, пророк
В немотству́ющей пустыне
Обретает свет высок!<…>
Сама ветхозаветная архаика библейского слога сгущается в поздних стихах Боратынского, как никогда ранее: «Ещё как патриарх не древен я; моей / Главы не умастил таинственный елей: / Непосвящённых рук бездарно возложенье! /И я даю тебе моё благословенье / Во знаменье ином <…>»; «юдольный мир»; «благословен святое возвестивший» и т. д. Сквозь языческую мглу Античности, явившей миру
первого поэта, высвечивается дух единобожия, спасительной для
последнего поэта силы веры:
Влага Стикса закалила
Дикой силы полноту,
И кипящего Ахилла
Бою древнему явила
Уязвимым лишь в пяту.
Обречён борьбе верховной,
Ты ли, долею своей
Равен с ним, боец духовной,
Сын купели новых дней?
Омовен её водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал!
(«Ахилл», 1841)
Тут ни слова о Христе, — но не подразумевает ли «купель новых дней» крещение?..
Биограф и филолог Гейр Хетсо заметил, что в программном стихотворении «Осень» Боратынский рисует
последнего поэта посланцем «золотого века» в «век железный» (отблеск благодатной Античности заметен и в стихотворениях «Последний поэт», «Алкивиад», «Мудрецу», «Рифма»). Но этот новый век, пришедший на смену былой гармонии, угнетает поэта своею бездуховностью и пустотой, и потому он ищет надёжной опоры в религии, в живой вере. Наверное, поэтому в «Рифме», заключительном стихотворении книги «Сумерки», Боратынский говорит напоследок о божественном духе поэзии, сравнивая стихи с библейским голубем, который принёс спасающимся на ковчеге от гибели благую весть о прощении:
<…> Меж нас не ведает поэт,
Высок полёт его иль нет!
Велика ль творческая дума?
Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный жар —
Смешной недуг иль высший дар?
Реши вопрос неразрешимый,
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света,
Своею ласкою поэта
Ты, рифма! радуешь одна,
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного брега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаёшь его мечты!
«Высшие звуки» поздней лирики
Отклики современников на последнюю книгу Боратынского были редки, большей частью неглубоки, если не маловразумительны.
Если молодым литераторам «Сумерки» показались
привидением, тенью, то его ровесники не разглядели в книге главного, а скорее всего — даже не поняли его. Софья Карамзина, хозяйка литературного салона, прислала в ответ на подаренную книгу любезное письмо, в котором описала свои впечатления от
надписи, сделанной Боратынским: «прелестные стихи»; уверила, что перечитывает её «с наслаждением», и вовсе «не из-за самолюбия, а по сердечному чувству». И ни слова о самой книге, о её стихах.
Николай Языков написал брату: Боратынский «крайне помрачился духом, как видно из его стихотворений „Сумерки“, — видно, что судьба его угнетает <…>». Конечно, письмо было частным и этих слов давнего поэтического собрата Боратынский никак знать не мог, — но неужели это и всё впечатление от книги, где так много истинных шедевров? За шесть лет до этого Н. Языков в своём послании сетовал, что Боратынский «покинул лиру» и призывал: «Не медли, друг и брат! Судьбу твою решила / Поэзия. О, будь же верен ей всегда! / Она одна тебе прибежище и сила, / Она твой крест, твоя звезда!» — Вот и представился случай убедиться, что призыв не пропал втуне, что «друг и брат» остался верен своему кресту, своей звезде… Ан нет! сочувствия хватило только на печальный вздох по человеку. Впрочем, Языков и прежде в своих доверительных письмах невысоко отзывался о Боратынском-поэте…
Одна лишь Александра Фёдоровна Боратынская,
маменька, пожилая и больная, целиком одобрила поэта. Когда-то Денис Давыдов по горячности своей назвал её «сумасшедшей», но Александра Фёдоровна сохранила и ясный ум, и любовь к литературе (постоянно читала новинки французской прозы), и верность старшему сыну, — недаром в последние годы он часто писал ей в Мару. Боратынский ответил на её письмо (оно не сохранилось) с искренней и тёплой признательностью: «Ваши похвалы моей книге, любезная и милая маменька, — самые приятные и лестные из всех, какие я когда бы то ни было получал. Поэтому я наслаждался ими со всем простодушием и чистосердечным удовольствием, на какие способен <…>»
(перевод с французского).
Каролина Павлова ответила на «Сумерки» благодарными стихами:
<…> Но вы, кому не изменила
Ни прелесть благодатных снов,
Ни поэтическая сила,
Ни ясность дум, ни стройность слов, —
Храните дар богоугодный!
Да цепь всех жизненных забот
Мечты счастливой и свободной,
Мечты поэта не скуёт!
В музы́ке звучного размера
Избыток чувств излейте вновь;
То дар, живительный, как вера,
Неизъяснимый, как любовь.
Из критиков первым отозвался Пётр Плетнёв в своём журнале «Современник». Увы, в его рецензии много общих слов и нет предметного разбора: такое впечатление, что Плетнёв не потрудился душой — толком не прочитал книгу и, увидев в ней уже известные ему по прежним публикациям стихи, ограничился давно определённым мнением:
«В литературе есть имена, есть таланты, которые появлением своим каждый раз вносят в душу читателя особый мир идей, образов, ощущений и хотя на мгновение облекают жизнь лёгкою, светлою радостью. Это те
немногие из художников, которые, постигнув своё призвание, ему одному оставались всегда верны, любили искусство, потому что в его только сфере чувствуешь дыхание чистой красоты и высокой истины, не изменяли вечным законам творчества и, уклонившись в обитель созерцательности и гармонии, не узнали о существовании изменчивых приговоров толпы. <…> К числу поэтов, так действующих на образованного читателя, бесспорно, принадлежит
Евгений Баратынский, писатель, на котором глубокая истина идеи всегда равна простоте и точности выражения, писатель, столько же открывший новых воззрений на жизнь, новых картин, незамеченных до него оттенков в красках элегического рода, сколько Крылов в области аполога. Прочитайте в „Записках“ Пушкина, что он говорит о Баратынском. Это приговор самого беспристрастного, самого сведущего, самого законного судьи. Давно мы расстались с поэтом. Он не мог разлучиться с поэзиею, которая живёт в душе его; но он не издавал ничего, кроме редко попадавшихся в „Современнике“ небольших стихотворений <…>».
Всё это, конечно, верно — только нет открытий, нового взгляда на Боратынского и на его книгу, которая предоставляла наилучший для этого «материал».
Следом, в июле 1842 года, откликнулась «Библиотека для чтения»:
«Сумерки, и луны нет! сумерки, и девы нет! Даже мечты нет!.. которая, впрочем, то же, что дева. Что ж это за сумерки?.. Но они именно тем и хороши, что в них нет ни луны, ни девы, ни мечты. Это сумерки без всяких пошлостей, сумерки comme il faut, благородные сумерки <…>. Стихотворения <…>, и прежде напечатанные, и нынешние, имеют своё самостоятельное достоинство. В них много прелести, много ума. Почти каждая пиеса запечатлена удачною мыслью, и, главное, ни в одной из них, несмотря на сумерки, нет ни девы, ни мечты, ни луны <…>».
Болтливый, легкомысленный слог, будто речь о дебютанте-стихотворце, а не о зрелом поэте, который представил вниманию читающей публики свои отборные — вершинные — стихи. Не в силах понять и оценить книгу, нимало не почуяв её глубины, безымянный рецензент только лишь скользнул по поверхности да еще напоследок пожурил автора за «несколько тяжелые фразы» в гениальной «Осени», приведя строфы, которые можно сократить как «лишние»…
Что, кроме досады, мог чувствовать Боратынский, читая эту легковесную невнятицу…
Через полгода, в декабре, вышли «Отечественные записки» с рецензией Виссариона Белинского на «Сумерки».
«Давно ли г. Баратынский, вместе с г. Языковым, составлял блестящий триумвират, главою которого был Пушкин? А между тем как уже давно одинокою стоит колоссальная тень Пушкина <…>. Давно ли каждое новое стихотворение г. Баратынского, явившееся в альманахе, возбуждало внимание публики, толки и споры рецензентов?.. А теперь тихо, скромно появляется книжка с последними стихотворениями того же поэта — и о ней уже не говорят и не спорят <…>. Да не подумают, что мы этим хотим сказать, что дарование г. Баратынского незначительно, что оно пользовалось незаслуженною славою: нет, <…> мы высоко уважаем яркий, замечательный талант поэта уже чуждого нам поколения <…>».
Высоко, да не очень: разобрав «чудные, гармонические стихи» в «Последнем поэте» и в «Приметах», Белинский объявил
идею Боратынского, его
мысль — ложной: поэт-де грешит, обвиняя век в духе меркантильности: «Если наш век и индюстриален по преимуществу, это нехорошо для нашего века, а не для человечества: для человечества же это очень хорошо, потому что через это будущая общественность его упрочивает свою победу над своими древними врагами — материею, пространством и временем <…>».
Размышляя о других стихах книги и даже припомнив «Последнюю смерть», напечатанную в прежнем сборнике, Белинский пришёл к окончательному выводу:
«Этот несчастный раздор мысли с чувством, истины с верованием составляет основу поэзии г. Баратынского, и почти все лучшие его стихотворения проникнуты им <…>. Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства, истина как губитель счастия — вот откуда проистекает элегический тон поэзии г. Баратынского и вот в чём её величайший недостаток. (Заметим в скобках, что все эти доводы попросту передёрнуты. —
В. М.) Здание, построеннное на песке, недолговечно; поэзия, выразившая собою ложное состояние переходного поколения, и умирает с тем поколением, ибо для следующих не представляет никакого сильного интереса в своём содержании. <…> — Эта невыдержанная борьба с мыслию много повредила таланту г. Баратынского: она не допустила его написать ни одного из тех творений, которые признаются капитальными произведениями литературы и если не навечно, то надолго переживают своих творцов».
Таким образом критик приговорил всё творчество Боратынского к забвению — и чуть ли ещё не при жизни поэта. Критерий один: поэт «чуждого поколения» мыслит неправильно, не идёт вслед за
общественностью и прогрессом человечества. Как видим,
соцреализм зародился лет на сто раньше, чем обычно считается…
Для «неистового Виссариона»
социальность всегда была важнее всего: не этим ли он возносил себя на высоту
судии, сам себе давая право поучать художников, направлять их перо…
Молодой критик был явно доволен собой: сразу по выходе журнала он писал В. П. Боткину: «Как тебе моя статья о Баратынском? Она скомкана, свалена, а, кажется, чуть ли не из лучших моих мараний».
В 1843 году — возможно, вскоре после появления этой статьи — Боратынский написал одно из самых горчайших своих стихотворений «Когда твой голос, о поэт…» — о непонимании, на которое обречено творчество истинного художника.
Некоторые исследователи предполагали, что это произведение — отклик на смерть М. Ю. Лермонтова. Возможно, отчасти верно. Хотя к Лермонтову — писателю и человеку — Боратынский, отдавая должное его дару, относился довольно прохладно. Об этом свидетельствует его первое впечатление от поэта, с которым он познакомился в Петербурге в 1840 году, а также молчание в письмах по поводу трагической дуэли в Пятигорске (впрочем, не все они сохранились). Плетнёв, сообщая Гроту о том, как в Петербурге к нему внезапно явился «старый друг Боратынский с 14-летним сыном Львом», писал 8 сентября 1843 года: «<…> У Баратынского очень много натурального ума — и в его взгляде на нашу литературу есть что-то независимое и отчётливое. Между прочим, я помню его отзыв о Жуковском и Лермонтове. Они, сказал Баратынский, в некотором роде равны И. И. Дмитриеву. Как последний усвоил нашей литературе лёгкость и грацию французской поэзии, не создав ничего ни народного, ни самобытного, так Жуковский привил нашей литературе формы, краски и настроения немецкой поэзии, а Лермонтов (о стихах его говорить нечего, потому что он воспринимал лучшее у Пушкина и других современников) в повести своей „Герой нашего времени“ показал лучший образец нынешней французской прозы, так что, читая его, думаешь, не взято ли это из Евгения Сю или Бальзака».
Всё ли верно запомнил и передал Плетнёв? Коли так, мнение Боратынского несправедливо: и
народного и
самобытного у Лермонтова более чем достаточно. Возможно, Боратынский не со всеми его стихами был знаком?.. Суждение же о романе Лермонтова — слишком предвзято. Впрочем, Боратынский не жаловал и прозу Пушкина, лишь Гоголь удостоился его похвалы. Что-то иное он ждал от русской прозы, нежели
лучших французских образцов, и сам, после своего явно неудачного опыта с повестью «Перстень», вновь намеревался взяться за роман… Кроме того, Лермонтов был для него — из другого поколения, к которому он, как признавался в стихотворении «На посев леса», «летел душой», да не получил «ответа».
Было ли стихотворение «Когда твой голос, о поэт…» ответом на статью Виссариона Белинского, с его «уничтожающим» приговором? Большой вопрос. Скорее всего Боратынский вновь рассматривал в целом участь
последнего поэта в современном мире, вспоминая Дельвига, Пушкина — и уже «примеривал» на себя свою посмертную поэтическую судьбу. Коль так, то здесь исключительно важна его общая самооценка и, в частности, мнение о собственной последней книге. Эта оценка почти напрямую высказана в первых двух строках стихотворения:
Когда твой голос, о поэт,
Смерть в высших звуках остановит…
По этим стихам, во-первых, видно, что Боратынский считал «Сумерки» вершиной своей лирики. Во-вторых, относил себя к тому типу поэтов, которые развиваются в течение всей своей жизни, набирая всё новую и новую высоту, и только смерть останавливает их. И, наконец, в-третьих, в стихотворении невольно высказано предчувствие кончины, о чём поэт никогда не говорил, по-видимому, не желая тревожить ни жену, ни друзей…
Качественное изменение Боратынского как поэта почувствовал Степан Шевырёв, выпустивший рецензию на «Сумерки» в январе 1843 года в «Москвитянине»:
«Поэзия стихотворная предходит в истории всем прочим произведениям словесности: потому и начнём с неё. Здесь всего более обращает внимание наше книжка маленькая, едва заметная по наружности в груде книг прошлого года: это „Сумерки“ Баратынского. Поэт принадлежит к поколению Пушкина и, по связи особенной с музою Жуковского и Батюшкова, может быть назван даже старшим его сотоварищем. Всего более поражает в „Сумерках“ Баратынского чудное изменение, в нём происшедшее: глубокая сосредоточенная меланхолия — плод опыта жизни — удалила всё прежнее, лёгкие, светлые мысли и чувства, покрыла самою чёрною тенью живой образ его возмужалой музы и воцарилась на нём одна, без спутников, без всякого иного окружения. Такая метаморфоза в одном из сверстников Пушкина есть событие весьма замечательное и достойное изучения: мы к нему возвратимся и постараемся разгадать её причину».
Остаётся сожалеть, что Шевырёв не выполнил этого своего обещания…
Из современников поэта, пожалуй, непримиримее всех оценил его позднюю лирику Николай Васильевич Гоголь. В статье «В чём наконец существо русской поэзии и в чём её особенность» (1846) он пишет: «Баратынский, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они ещё не вызрели в нём самом; тёмный и неразвившийся, стал выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким». Статья вошла в самую «категоричную» книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», и его мнение отнюдь не бесспорно. Поэт — всё же не философ, с какой-то определённой системой взглядов, и уж тем более не религиозный мыслитель, каким был или же хотел стать сам Гоголь в ту пору, — поэт принадлежит глубинам интуиции, и судить его надо по законам поэзии…
Только потомки разглядели то, что современникам не открылось в Боратынском, — поистине
большое видится на расстоянье.
Само название его последней книги — символ; Боратынский одним из первых русских поэтов выбрал в заглавие слово, разом определяющее и собственное душевное состояние, и дух того
железного века, в котором ему довелось жить.
Первоначально поэт хотел назвать свою книгу «Сон зимней ночи», — может быть, чтобы подчеркнуть «зиму дряхлеющего мира». По счастью, потом он подыскал куда более образное слово —
сумерки, вполне отвечающее замыслу всей книги. По замечанию филолога М. Н. Дарвина, «„Сумерки“ — это не просто слово, но как бы имя текстов, объединённых под одной обложкой поэтической книги <…>. „Сумерки“ включают в себя как бы некие универсальные антиномии мира: свет и тьму, день и ночь, видимое и невидимое, уходящее и наступающее. Во взаимодействии этих разнообразных, а нередко прямо противоположных смыслов и возникает образная семантика заглавия, обозначающая некое
переходное и незавершённое состояние мира».
Потомки-исследователи подтвердили прозорливые слова Н. А. Мельгунова, высказанные ещё до появления «Сумерек», в 1838 году, о том, что Боратынский «<…> в своём втором периоде возвёл личную грусть до общего, философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества». Так, Алексей Песков заметил, что если в первых своих двух сборниках Боратынский «<…> акцентировал индивидуальный смысл <…> душевных состояний и духовных исканий, то в „Сумерках“ эти состояния и искания „укрупнены“ (С. Бочаров) и предстают как общие свойства бытия и мышления. „Сумерки“ — книга философических ответов, данных с позиций сверхзнания — знания, выходящего „за грань чувственного“, „страстного земного“ <…>».
Действительно, в «Сумерках» лирика Боратынского, оставаясь столь же искренней и честной, как прежде, преобразилась в новое качество — «сверхплотное» по энергии слова и образов, по отчётливости самосознания, по глубине мысли — и до предела постигла как свой век в перспективе времён, так и жизнь человечества в целом. «Перед нами человек, погружённый во тьму сумерек и подводящий итоги протекшего дня, человек, проживший свою жизнь и спрашивающий самого себя о том, принесла ли она плоды и имеет ли хоть какую-либо ценность, — пишет Гейр Хетсо. — Его ответ может показаться отрицательным: „Сумерки“ — книга о больших сомнениях. Но пессимизм Баратынского, в силу своей искренности и правдивости, очищающий пессимизм. Он скорее укрепляет, чем разрушает».
«„Сумерки“ стали первой целостной книгой стихов в русской поэзии, — подводит итоги осмысления последней книги Боратынского критик Алексей Машевский. — Не сборником отдельных произведений, сгруппированных по жанровому принципу, а именно книгой с единым смысловым полем, единым авторским взглядом на мир, единой лексической и интонационной канвой. <…> При этом Баратынский ориентировался, конечно, на западноевропейских литераторов (в частности, Барбье, Гюго — у последнего был поэтический цикл под названием „Песни сумерек“), однако шёл дальше них в решительном преодолении жанровой однородности объединённых в едином смысловом ряду произведений.
Книга замечательно решена в композиционном отношении. Можно сказать, что каждое последующее стихотворение вытекает из предыдущего, внося всё новые и новые оттенки в захватывающий, очень глубокий разговор о судьбе человеческой духовности в новую эпоху. <…> Мы всё время сталкиваемся с рефлексией по поводу высказанных мыслей, постоянными возвращениями к тому или иному мотиву на новом уровне. Наконец, все они сойдутся в грандиозном стихотворении „Осень“, в котором Баратынский как бы и попытается прорвать роковой круг одиночества и обречённости, замыкающий человека. Эта попытка не приведёт ни к каким положительным утверждениям, даже напротив — финал пьесы будет пропитан безысходной тоской и горечью, но парадоксально окажется, что именно честная констатация самых неутешительных истин (с которыми одновременно никак не может и никогда не сможет примириться дух) выглядит как этическая, по крайней мере эстетическая победа».
От современников Боратынского ускользнула тайна его последней книги: по привычке они посчитали «Сумерки» рядовым стихотворным сборником, не заметив, насколько духовно близки друг другу стихи и как они дополняют одно другое, восходя мыслью и чувством словно бы по спирали на высоту познания жизни. Силой своего гения поэт преобразил небольшое собрание произведений — в
книгу стихов. А это уже
послание — и современникам, и потомкам.
По мнению филолога Евгения Лебедева, уникальность творческого опыта Боратынского заключается в том, что он сумел примирить, казалось бы, непримиримое: оставаясь поэтом, был ещё и исследователем. «Умение это проявилось в нём достаточно рано и органично <…>. Но высшей точки в совершенствовании дарованного ему исследовательского качества Боратынский достиг, конечно же, в „Сумерках“, которые показывают, что
методом своей лирики, типом своего художественного мышления он, как никто из его современников-поэтов, был близок к выдающимся нашим „прозаторам“ — Н. В. Гоголю, М. Ю. Лермонтову, В. Ф. Одоевскому, а из более молодых — Ф. М. Достоевскому».
Евгений Лебедев подчёркивает, что «Сумерки» особенно замечательны по своему «исследовательскому пафосу», по умению точно понимать и определять явления жизни, — «по совершенно уникальной для лирика способности подойти к своему духовному опыту как к
объекту познания, взглянуть на него со стороны, отделить его от себя, провести почти скрупулёзный анализ того или иного состояния души и дать почти „клинически“ безупречную его картину <…>».
Тем самым Боратынский, считает исследователь, предварил главное в развитии русской словесности 1830–1840 годов — но и «отпугнул» от себя читателя тем, что «перегрузил» стихи мыслью, оказавшись «между небом поэзии <…> и едва опознанной землёй прозы».
Е. Лебедев вовсе не настаивает на безоговорочной верности своих заключений, заявляя, что это лишь его авторская позиция. В самом деле, так ли уж «перегружены» мыслью стихи в «Сумерках»? Нарушено ли в книге то золотое чувство меры, когда поэзия ненароком «впадает» в прозу? Думается, всё же нет, хотя гармония поэзии «позднего» Боратынского, несомненно, изменилась: на смену светлой грусти прежних элегий пришла сумрачная, безысходная печаль. Однако и «нагой меч мысли» не разрушил ту глубокую непреходящую музыку, которой пронизана его последняя книга. Напевны хореи «второго голоса» в «Последнем поэте»; «невесомая» лёгкая мелодия слышна в воздушных мытарствах
недоноска; насквозь музыкален отрешённый речитатив «Бокала»; стихотворение «Были бури, непогоды…» — поётся как народная песня. Что же говорить об «Осени», удивительной по разноголосию, по оркестровке стиха: это поистине симфоническая песнь!.. Так что уникальность Боратынского, по-видимому, не столько в «исследовательском пафосе», а в том, что его природный лиризм растворил в себе и одолел ту необычайно весомую мысль, которая присуща его поздним стихам.
Подводя итоги своему исследованию книги «Сумерки», Евгений Лебедев высказывает глубокое, хотя и парадоксальное, наблюдение о том, что эта книга одна из тех, что подготовила почву для великой прозы Достоевского: «„Сумерки“ представляют собою первую пробу художественного метода, характерного для „романа идей“. Боратынский, в сущности, одновременно с нашими прозаиками <…> понял необходимость перемен во взглядах на композицию. Однако же стихотворная форма книги обусловила тот печальный факт, что ростки принципиально нового художественного мышления в „Сумерках“ не были узнаны. <…>
Прочитанная как единое художественное целое эта книга наряду с „Героем нашего времени“, „Мёртвыми душами“ и „Выбранными местами из переписки с друзьями“, „Русскими ночами“ <…> представляет собою выдающийся литературный памятник одного из сложнейших периодов русской общественной и культурной истории. Без „Сумерек“ противоречивейшая картина духовной жизни эпохи была бы неполной. Это глубокий поэтический и пронзительный человеческий документ её: эпоха как бы очнулась от тяжёлого забытья, в котором она пребывала после декабрьской катастрофы, очнулась
посреди сумерек — и человеку трудно понять, то ли это сгущается вечерняя мгла и за нею идёт беспросветная ночь, то ли это редеющая утренняя мгла, предтеча нового дня».
«Сумерки», по твёрдому убеждению Е. Лебедева, представляют собою редкий пример «высшей смелости» художника, о которой писал Пушкин, — «смелости изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслию».
Глава двадцать четвёртая
ЭЛИЗИЙ ЗЕМНОЙ
Молитва
Новый, 1843 год Боратынские встречали в Муранове дружной большой семьёй. Отстроенный заново, после двухлетних трудов дом оказался, как и мечталось, хорош и очень тёпел: даже в бури при сильных морозах «никто не знал, с которой стороны непогода». Дом был полон детей: к собственным семерым прибавились ещё две крошечные дочери Путят. Николай и Софья со старшей дочерью в то время путешествовали по Европе, «наслаждались Италией», и Боратынский сообщал родителям, что их малютки живы-здоровы и что «Олинька всякой день милее», а Катинька «чрезвычайно похорошела». Деревенское уединение скрашивали гости: сначала приезжала сестра Путяты Анна, а потом сёстры Боратынского Натали и Софи. Хозяйственные перемены, затеянные Боратынским, шли неплохо: лесной торг в околотке, как он писал Н. Путяте, «совершенно в наших руках». В Москву по зимним дорогам добираться было непросто, и взрослые больше, на радость детям, сидели дома. Поэт обдумывал будущую зарубежную поездку и спрашивал путешествующего друга, не дорого ли проживание в Европе. Ему хотелось наконец побывать в любимой с детства, по рассказам своего дядьки «Жьячинто», Италии, да и познакомить старших детей с Европой, что так необходимо для их воспитания и образования.
С сестрой Софи Боратынский передал маменьке в Мару французские литературные новинки: романы Жорж Санд «Консуэло» и «Занони», заметив про них в письме: «Европейские умы поворачиваются к мистицизму. Материальная революция завершена. Да будет угодно Господу, чтобы нынешний период усталости оказался сном, предшествующим новому рождению поэзии, чьё существование одно лишь и свидетельствует о счастье народов и их подлинной жизни»
(перевод с французского).
Не о себе ли невзначай проговаривался? Стихов у него в ту пору почти не было, и хоть с выходом книги «Сумерки» он в очередной раз «попрощался с поэзией», всё равно в глубине души ожидал своего возрождения. В редких произведениях того времени видны усталость от помещичьей жизни и раздражение от критиков, ничего толком не понимающих в его поэзии. В эпиграмме «Коттерии» поэт с презрением пишет о «бездарных писцах-хлопотунах», в стихотворении «На посев леса» намекает на некие «пиры злоумышленья». Равнодушие собратьев по перу, по-видимому, всё же было нестерпимо для него, отошедшего в сторону от журнальной борьбы. Вряд ли, что это лишь мнительность, порождённая острой чувствительностью. Ведь в очередной рецензии В. Белинского, вышедшей в начале 1843 года в «Отечественных записках», есть и новые нападки: «<…> и лучше совсем не писать поэту, чем писать такие, например, стихи»: критик приводит стихотворение «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!..», заключая словами: «— Что это такое? неужели стихи, поэзия, мысль?» Такая критика вкупе с мрачным воображением делали своё…
Спасибо злобе хлопотливой,
Хвала вам, недруги мои!
Я, не усталый, но ленивый,
Уж пил летийские струи.
Слегка седеющий мой волос
Любил за право на покой;
Но вот к борьбе ваш дикий голос
Меня зовёт и будит мой. <…>
Спасибо! молодость вторую,
И человеческим сынам
Досель безвестную, пирую
Я в зависть Флакку, в славу вам!
(1842?)
Но в общем своём настроении письма Боратынского той поры дышат благодушием: самые хлопотливые дела почти завершены, всё ощутимее предвкушение долгожданного путешествия. Он сообщает матери об успехах младшего брата Ираклия, который стал губернатором в Ярославле и вызвал в обществе своими манерами, снисходительностью и приветливостью «искреннее одушевление». Поздравляя Александру Фёдоровну с Пасхой, поэт желает ей и всему семейству яркого солнца, свежей зелени и цветов. А у них в Муранове ещё лежат снега и по ночам морозно. Пешком не пройдёшься, зато дети совершают верховые прогулки. «Весна принесёт мне развлечения, состоящие из новых трудов, — легко шутит он. — Надо закончить несколько построек и произвести много земляных работ. Затем последуют работы полевые, в которых я тоже участвую, ибо как только я выхожу из дома, сразу вижу трудящихся крестьян: наше маленькое поместье можно окинуть одним взглядом. Я забавляюсь тем, что отдаю приказание с ошибками, чем доставляю старосте удовольствие указать мне на них. Знаете ли, что это единственный способ добиться у этих людей того, что им известно? <…>»
(перевод с французского).
Сестре Наталье пишет с ещё большей самоиронией: «Через несколько дней я вновь начну страдать семейной болезнью — манией строительства, а пока лишь взором слежу за неспешным таянием снега»
(перевод с французского).
В словах о «семейной ценности — мании строительства» поэт, разумеется, вспоминает отца, создавшего в Маре замечательный уголок для жизни, с красивым, удобным домом и парком, в котором было столько чудес, пленяющих детское воображение. Конечно, мурановское поместье куда как скромнее по размерам, тут не развернёшься, не то что просторная Мара, но ведь и в нём всё можно неплохо устроить. Тягой к совершенству Боратынский, несомненно, обязан отцу, Абраму Андреевичу, — и это особенно проявилось в бесконечной отделке стихов и поэм…
С годами весеннее пробуждение природы стало наводить на него острую тоску. В ту ли весну 1843-го или предыдущую поэт сочинил своё прекрасное стихотворение «На посев леса»:
Опять весна; опять смеётся луг,
И весел лес своей младой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.
Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольний мир уходит от очей,
Пред вечным днём я опускаю вежды.
Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира <…>.
Весна природы смешалась в стихах с
зимой возраста и
вечным днём загробной жизни: в пору цветения земли чувство смерти сильнее всего…
Но праг земли не перешёл пиит,
К её сынам ещё взывает лира. <…>
Однако напрасен этот зов: ровесники, как чудится ему, умышляют зло; а «новые племена» пустоцветны и не слышат его голоса:
Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несёт рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.
И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: её заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети.
Но разве же семена деревьев — скорбны? Похоже, тут речь не только о них. По своему
могучему и сумрачному существу что же это, как не собственные стихи Боратынского. (Даже один из эпитетов буквально повторяет название его последней книги.) Стихи, они и есть
дети поэта, зародыши духа и души, посеянные в нескончаемые времена…
«Страстное земное…»
К 1842 или 1843 году, как раз к той поре, когда он «оставил лиру», относят его стихотворение «Молитва». Совсем немного слов — и ещё меньше просьб. Шесть строк, простых, строгих и трагичных….
Боратынский смотрит и на себя, и на
дольний мир, словно бы тот отдалился и виден весь в огляде прожитой жизни. В его сердце предчувствие недалёкого уже —
вечного дня. Не потому ли поэт ещё взыскательнее, требовательнее к себе: душе предстоит Высший суд…
Прежде во всей поэзии Боратынского молитв не было.
Единственность такой скупой мольбы свидетельствует о её необычайной важности.
Царь Небес! Успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай.
Не исцели, не избавь —
успокой. Поэту даже и не мечтается о полном освобождении от мучений, он попросту не верит в своё выздоровление, считает его невозможным.
Чем же
так болел дух этого на вид вполне благополучного человека?
…Да, был проступок в юности; потом наказание, довольно мягкое, хотя и продолжительное; однако это лишь эпизод его жизни, внешне в целом весьма счастливой: безоблачное детство, рано воплощённый дар, дружба с лучшими из современников, любовь и согласие в семье…
Критик Дмитрий Мирский (1934) считал, что Боратынский остро и мучительно переживал своё идейное и творческое одиночество, бессилие «стать нужным обществу» и обиды «на его равнодушие». Его
дикий ад («Когда, дитя и страсти и сомненья…»), по Мирскому, — это «эгоизм», пустотой которого поэт мучительно тяготился, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход из него. И всё это происходило на фоне «безверия» и смутной, ясно не определившейся тяги к религии…
Отчасти, пожалуй, и так. Но это касается лишь последних лет жизни. А как же с признаниями в письмах в том, что он был несчастлив и в самом раннем детстве? Стало быть, ещё тогда в нём проявился его
болезненный дух…
Писатель Сергей Андреевский (1888) гораздо глубже в своём интуитивном постижении Боратынского: «Поэт-мыслитель, поэт-метафизик, Баратынский постоянно порывался „перейти страстное земное“, и вся его муза есть муза глубокой скорби о каком-то необретаемом идеале».
Что это за «необретаемый идеал», Андреевский не поясняет.
Образ «страстного земного» появляется в 14-й строфе стихотворения «Осень». С горечью заметив, что «пошлый глас, вещатель общих дум» иногда находит в толпе «звучный отзыв», Боратынский утверждает:
Но не найдёт отзы́ва тот глагол,
Что страстное земное перешёл.
Конечно, это о себе, о своей поэзии.
Страсть — страдание, муки, мучение, душевная скорбь — и ещё: алчба, безотчётное влечение.
Словом,
страстное земное — земные мучения человеческого духа.
Стихи
перешли — преодолели их (хоть и не нашли отклика в людях, в обществе), однако сам поэт — не перестал мучиться.
«<…> Рассудочность и мечтательность в разладе у многих людей, но между этими враждебными сторонами человеческой сущности у большинства наступает со временем некоторый слад, водворяющий внутреннее равновесие. У Баратынского же наблюдается феномен какого-то особенного непримиримого развития этих сил. Он вложил в искусство живую книгу своего страдания, книгу искреннюю, глубокую и потому прекрасную», — заключает С. Андреевский.
Исследователь далёк от того, чтобы точнее определить причину этого «феномена», понимая, что
чужая душа потёмки.
Попытку разгадать тайну Боратынского сделал поэт Юрий Колкер. В своей статье «Загадка Боратынского» (2000) он так же, как и С. Андреевский, замечает, что, хотя ничего особенно трагического в жизни Боратынского не было, «<…> ни у одного русского поэта трагичность мироощущения не достигает такой напряжённости».
По мнению Ю. Колкера, подлинная трагедия Боратынского началась после отставки и женитьбы. «Для Боратынского женитьба связана с поисками смысла жизни, с жаждой совершенства, иначе говоря — с богоискательством. Не в силу старинной церковной формулы, а на самом деле она для него — таинство перед Богом». Поэт духовным взором увидел, что его молодая жена
прекрасна. «Таковой она и осталась для него с первого до последнего дня. Он и умирает от сердечного приступа, вызванного страхом за её здоровье». А загадка Боратынского в том, что он пытался «превзойти человеческую природу (и природу вообще) <…> или, говоря его словами,
перейти „страстное земное“. <…> Этот беспримерный порыв к сверхчеловечеству состоял не в отвержении
слишком человеческого, а принятии его на себя во всей полноте — и в пресуществлении духовным подвигом».
Ю. Колкер и толкует этот поэтический образ («страстное земное») в основном
по-земному — как выражение «природной» страсти:
«Заточение, изгнание, бедность, непризнание и лишения — всем этим испытаниям поэты подвергались на протяжении веков и преспокойно выдерживали их. Ни одно из этих испытаний не идёт в сравнение с испытанием полным счастьем, ибо не отнимает у поэта будущего, не лишает авантюрного начала, не посягает на инстинкт охотника. Зов предков, биологическое задание, состоящее в том, чтобы пристроить своё наследственное вещество наилучшим и наиширочайшим образом, через это утвердившись в потомстве; зов, преломляемый и претворяемый в творческий инстинкт, — этот неистребимый зов Боратынский хочет в себе подавить. Он бросает вызов природе или, если угодно, Творцу. Адюльтер, светские ухаживания, а с ними — и свою молодость, поэт отвергает как пошлость. В главном, в поэзии, он торжествует: его стихи приобретают небывалый по глубине и насыщенности тон. Но цель его не в этом, и трагедии он не домогался. Цель его состояла в чистоте, полноте и целостности, в идеале прекрасных соразмерностей, воплощённом не только в поэзии. И этой цели он не достигает. Трагическую сущность бытия лучше всего заслоняет от нас суетное: слава, успех (для мужчины прежде всего — успех у женщин). Усилием разума и воли отвергнув суетное и пошлое, Боратынский на чувственном уровне остаётся всего лишь человеком. Добровольным затворничеством он тяготится; последней и безупречной целостности не достигает, — и это своё несовершенство переживает как величайшую трагедию».
Что ни говори, эта разгадка трагичности поэта — весьма приземлённая.
Как нам видится, по-настоящему мучило Боратынского не столько личное несовершенство, сколько вообще несовершенство человека. Всё это в высшей степени проявилось в «Недоноске» — в образе фантастического межеумочного существа, томящегося «меж землёй и небесами». Не за эту ли участь по смерти, в «обители воздаянья», жаждал поэт получить
оправданий Незримого — Бога («Отрывок») — «пред нашим сердцем и умом»?..
Иван Киреевский знал Боратынского очень хорошо: в течение шести лет теснейшим образом дружил с ним. Категорически ничего не утверждая, он в некрологе высказал лишь предположение о том, в чём была причина «неотразимой грусти» поэта:
«Впрочем, может быть, он и от природы уже был склонен к этому направлению мысли, которое очень часто замечается в людях, соединяющих глубокий ум с глубокою чувствительностью. Оно происходит, вероятно, оттого, что такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют её высокую тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступно чувствуют бедность земного бытия. Оттого они даже в кругу забав и шумных удовольствий часто кажутся печальными; оттого самое чувство радости для них бывает соединено с непреодолимою задумчивостию и скорее похоже на грусть, чем на весёлость обыкновенных людей».
То есть трагичность миросозерцания была в Боратынском
врождённой — и с годами только развивалась, превратив наконец его жизнь, по собственному же признанию, в
дикий ад.
В одной-единственной своей «Молитве» он ничего не говорит о неизбывности первородного греха, о всех превратностях пути человечества — он просит у Царя Небес лишь
забвенья «заблуждений земли» и сердечных сил на Его
строгий рай.
«Проповедь Баратынского — это проповедь сомнения, — пришла к выводу Ирина Семенко; — у него „откровенья“ — „откровенья“ преисподней <…>. Но именно в этом и заключалась сила его духа, именно это наложило печать
бесстрашия на поэзию Баратынского, сумевшего „улыбнуться ужасу“. <…> Человек в лирике Баратынского наделён величайшим самообладанием. Силой своего высокого искусства он эстетически преображает жизнь, о несовершенстве которой скорбит <…>».
С этими мыслями сходятся и выводы Евгения Лебедева:
«<…> Боратынский уже с самых первых шагов в литературе остро ощутил своё высокое предназначение, осознал его беспредельную власть над собой, ещё не вполне понимая, какого рода это предназначение, ещё не умея дать определение этому категорическому императиву своей поэзии. Однако ж туман рассеялся очень скоро, слово нашлось, задача была определена, и цель засияла перед молодым поэтом во всём её нестерпимом величии:
Я правды красоту даю стихам моим.
<…> Великий поэт потому и велик, что в решающую минуту всего себя, без остатка, отдаёт истине. Подчиняется ей безоговорочно. <…>
В известном смысле вся поэзия Боратынского представляет собою потрясающее человеческое свидетельство того, какою тяжёлой ценой даётся познание „правды без покрова“».
Необычная метафора Боратынского о
строгом рае напоминает о словах Христа из Нагорной проповеди: «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 14).
«У нас нет никакого основания сомневаться в том, что Баратынский умер „созревшим для Неба“», — пришёл к выводу Гейр Хетсо, говоря о последних стихах поэта.
За границей. Германия, Париж
С наступлением лета Боратынскому было уже не до созерцания природы. Целый месяц он «на ногах»: побывал на межевании в своих имениях Скуратово Тульской губернии и Глебовское на Владимирщине.
Проездом в Москве, сходил на концерт знаменитого пианиста и композитора Ференца Листа — и написал маменьке о своём впечатлении, обнаружив чрезвычайно тонкое понимание исполнительского мастерства:
«<…> Я слышал Листа и остался не так доволен, как ожидал. Стремительность его игры превышает всё доступное воображению, но превышает и возможности фортепьяно. Звуки следуют один за другим так скоро, что сливаются в смутный шум, не приносящий особенного удовольствия. От этой быстроты рояль задыхается. К тому же я не нашёл у него подлинно музыкального чувства. Прекраснейшие мелодии он портит украшениями, не имеющими ни смысла, ни цели. Его форте и пиано-пианиссимо, великолепные сами по себе, не производят впечатления, ибо не выражают подлинного музыкального замысла. Он претендует на импровизации, а исполняет одни гаммы. Я решительно предпочитаю ему Тальберта. Здесь ему устроили овацию, смешную по двум причинам: во-первых, потому что это был заёмный энтузиазм, главная цель которого — не отстать от берлинцев, а во-вторых, будь даже этот восторг неподдельным, он превышал всякую меру, большего не могли сделать даже для спасителя отечества. Есть отчего разочароваться в славе <…>»
(перевод с французского).
В конце августа давний знакомый Боратынского Пётр Кичеев случайно встретил поэта с семьёй в небольшом сельском храме, расположенном между Мурановом и Троице-Сергиевой лаврой. «<…> я отправился с женою в своё переяславское имение, сельцо Деревково, намереваясь на обратном пути заехать в Мураново, — вспоминал Кичеев. — По дороге мы посетили Хотьков монастырь. При входе в храм слышим поют:
со святыми упокой и в эту же минуту нас окружают Евгений Абрамович, его супруга и семейство его. Пошли взаимные приветствия и рекомендации, так как со мной была второбрачная жена, ещё незнакомая с Баратынскими. Наконец, они просили нас заехать к ним на обратном пути в Мураново и объявили, что в первых числах сентября они отправляются за границу».
По-видимому, 7 сентября 1843 года Боратынские всей семьёй приехали в Петербург. Остановились у Путят. На следующий день поэт, взяв с собой старшего сына Лёвушку, навестил Петра Александровича Плетнёва, — для хозяина дома этот визит был неожиданным и приятным.
Плетнёв по смерти Пушкина издавал его журнал «Современник», и с каждым годом держаться на плаву становилось всё труднее: подписчики убывали. Боратынский настоятельно попросил его не «прекращать» журнала: возвратившись из-за границы, он собирался поселиться в Петербурге, вот тогда они вместе и начнут «деятельно работать»…
«Деревня и Москва ему ужасно надоели», — сообщал Плетнёв после этой встречи Я. К. Гроту. Впоследствии, по внезапной кончине поэта, Плетнёв писал Николаю Коншину, что Боратынский перед поездкой много толковал с ним о будущем: «<…> Он непременно хотел соединиться со мной для работы по
Современнику, почувствовав, что только журналом можно противодействовать возрастанию бесстыдного самохвальства невежд».
10 сентября Боратынский отправил записку Петру Андреевичу Вяземскому: «Очень мне совестно, что я не догадался вам оставить адреса новой квартиры Путята, чем и лишил себя удовольствия видеть вас сегодня. Завтра я целое утро в хлопотах и потому прибегаю к вам вместе с моими хозяевами с покорнейшею просьбою: не откажите у нас обедать. Вы увидите, между прочим, Одоевских. Сбираются в 5 часов. Во всяком случае я не оставлю Петербурга, с вами ещё раз не повидавшись и не получив вашего благословения на моё европейское пилигримство. — Е. Боратынский».
Дружеский обед у Путят состоялся, как и было намечено. Присутствовали Одоевские, Соболевский, Россет, Плетнёв. Это была последняя встреча поэта с его старыми друзьями…
Вскоре Боратынские отправились в своё дальнее путешествие. Вместе с родителями поехали старшие дети Александра и Лев и младший сын Николай; Мария, Дмитрий, Юлия и Зинаида остались в Петербурге на попечении Николая и Софьи Путят.
До прусской границы ехали в шестиместном дилижансе; потом через Кёнигсберг до Берлина добирались на почтовых.
Около 10 октября Боратынский написал из Дрездена маменьке в Мару о своих первых заграничных впечатлениях:
«<…> Дороги великолепны, и почтовая часть в удивительном порядке. Мы провели два дня в Кёнигсберге и одиннадцать дней в Берлине. Со мною было рекомендательное письмо к секретарю нашего посольства, которым я воспользовался. Я представился нашему посланнику барону Мейндорфу, человеку весьма вежливому и весьма любезному. Я обедал у него с графом Блудовым, с которым уже прежде был знаком. Он путешествует с дочерью и возвращается теперь в Петербург. Я провёл у них один вечер. Мы в первый раз испытали впечатление железной дороги, съездивши в Потсдам; видели там дом, где жил Вольтер, и небольшие покои Великого Фридриха, без сомнения великого, если принять в соображение, что он, почти один, создал Пруссию и положил первые основания её теперешней администрации. — Берлин — прекрасный город; он не так хорош, как Петербург, но лучше в отношении размеров. — Жизнь в нём отличается крайней правильностью. Возможные отношения здесь предвидены и установлены навсегда; торговые — давностью, общественные — обычаями, никогда не нарушаемыми. Здесь гражданин, сам того не подозревая, подчиняется такой же дисциплине, как солдат. В несколько дней применяешься к заведённому порядку и наслаждаешься чувством чрезвычайного спокойствия, доставляемым этим совершенным отсутствием всего непредвиденного <…>» (
здесь и далее — перевод с французского).
В Дрездене они, «само собою разумеется», побывали в знаменитой галерее. Боратынского, как впоследствии и Достоевского, больше всего поразила «Мадонна» Рафаэля: «<…> это торжество идеи христианства: восторг, ею возбуждаемый, никогда не истощится. Лучше не говорить о ней, и пусть поколение за поколением преклоняются перед этим божественным произведением».
О христианстве, как и вообще о религии, о вере, он высказывался крайне редко и скупо, предпочитая молчать, — но тут обронил несколько слов, обнаружив полное понимание увиденного шедевра. Конечно, это косвенное свидетельство, а не прямо проявленное чувство, но всё же такое сердечное впечатление свидетельствует не о религиозном скептицизме, который часто приписывали поэту, а о врождённом религиозном целомудрии, которое пуще всего опасается многоглаголания.
«Не могу не упомянуть о произведении менее знаменитом, но, может быть, столь же великом по выражению возвышенной скорби — это
Христос с динарием Тициана», — продолжает Боратынский. И вновь он совпадает во мнении с Достоевским, который позже утверждал, что
Христос с монетой «<…> может стоять наравне с
Мадонной Рафаэля».
Характерно, что оба писателя как бы и не придают значения эстетическому удовольствию от гениальных полотен, а созерцают их духовную сущность.
В поездке по Германии Боратынские испытывали двойное наслаждение красотами природы, поскольку радовались ещё и «живым и свежим» восторгам своих детей. Особенно всех впечатлила «прелестнейшая» Тарентская долина близ Дрездена.
Однако, когда по дороге из Лейпцига в Дрезден они въехали в длинный туннель, поэт вдруг испытал настоящий ужас. «Представьте себе подземелье, — продолжает он письмо, — которым едешь более трёх минут, где совершенный мрак заставляет как-то опасаться, что не достанет воздуха. Я так беспокоился о жене, которая склонна к удушьям, что был совершенно бледен, когда мы возвратились к свету».
Это страшное беспокойство за его Настеньку, что внезапно обрушилось на него, — предвестие того, что случится позднее, в Италии… В последний раз до этого Боратынский заболевал от своей чрезмерной чувствительности шесть лет назад, когда узнал о трагической кончине Пушкина. И вот опять повторилось то, что преследовало его всю жизнь, начиная с юности, и о чём он, вероятно, сообщил только родной матери…
В те полтора десятка лет, что они прожили с женой одной семьёй, одним существом, Боратынский настолько сроднился с любимой женщиной, что не представлял без неё своей жизни. Эта сроднённость дала ему силы, вознесла над обыденностью, но и сделала особенно уязвимым. Малейшее недомогание Настасьи Львовны, — а их было немало, — отражалось в поэте сугубой болью. Неспроста именно в заграничном путешествии Боратынский написал одно из самых проникновенных своих лирических стихотворений, которое было напрямую обращено к жене: «Когда, дитя и страсти и сомненья…» По воспоминаниям сына, Льва Евгеньевича, стихотворение было создано зимой 1843/44 года в Париже, то есть буквально через месяц-другой после происшествия в туннеле…
Позже, в Лейпциге, Настасья Львовна написала письмо к Путятам, и Боратынский добавил к нему несколько слов: «<…> теперь едем в Франкфурт, на немецких длинных, т. е. с лонкучером. Будем останавливаться на ночь и в пятый день должны быть на месте. Я очень наслаждаюсь путешествием и быстрой сменой впечатлений. Железные дороги чудная вещь. Это апофеоза рассеяния. Когда они обогнут землю, на свете не будет меланхолии <…>».
Последнее замечание, конечно, шутка — чуть грустная, но благодарная: рассеяние, доставленное железной дорогой, хоть на время послало ему
забвенье заблуждений земли…
Из Франкфурта Боратынские добрались до Майнца, откуда по Рейну поплыли в Кёльн. Далее был поезд в Брюссель, а после — в Париж. В столице Франции было решено провести всю зиму.
Боратынский радовался, что хоть на несколько месяцев, но закончились «труды дальнего путешествия». Семья поселилась в центре Парижа на улице Дюпо близ бульвара Мадлен. Детям вскоре подыскали учителей, и жизнь пошла своим заведённым порядком, разве что теперь поэт отдавал много времени светской жизни, которую он так избегал в Москве.
Первым делом он заглянул в Сен-Жерменское предместье, где проживала аристократия, писатели и русские эмигранты, — благо рекомендательными письмами его снабдил в Петербурге Сергей Соболевский, неплохо знавший парижский свет. Поначалу Боратынскому всё нравилось: и новые знакомства, и в особенности парижский люд, «<…> приветливый, умный, весёлый и полный покорности закону, которого он понимает всю важность, всю общественную пользу». Насчёт многого поэт, конечно, заблуждался, пленённый внешней лёгкостью обращения, тем не менее в письме Путятам даже сравнил свои германские и французские впечатления:
«В Германии чувствителен ещё некоторый ропот на законы общественного устройства, которым повинуются: здесь ими гордятся люди, принадлежащие последней черни. Несколько ясных мыслей общежития сделались достоянием каждого и составляют такую массу здравого смысла, что мудрено подумать, чтобы можно было совратить народ с пути истинного его благосостояния. Между тем партии волнуются. Я много слушаю и много читаю. Люди, вышедшие из рядов и наполняющие газеты и салоны, не тверды в своих мнениях. Здесь переметчики менее подлы, чем кажется с первого взгляда, и многие из них принимают мнение, противоположное прежде выраженному, с совершенно искреннею ветреностью <…>».
Светская жизнь Боратынского в Париже началась с места в карьер. В том же письме, второй половины ноября, он пишет:
«<…> Сегодня я буду у m-me Aguesseau, завтра у Nodier, послезавтра у Thierry. Всеми этими знакомствами я обязан Сиркурам. <…> Кланяюсь очень Соболевскому, Плетнёву. Я вижу почти каждый день А. И. Тургенева, который теперь несколько нездоров. Он пеняет Вяземскому за то, что он к нему не пишет. Напомните ему обо мне. Вижусь с Балабиным, человеком очень умным, очень сведущим, с которым всякая встреча меня более и более сближает».
Дипломат и литератор, граф Адольф де Сиркур был женат на русской, Анастасии Семёновне Хлюстиной, в юности подруге Натали Гончаровой. В 1830-х годах, когда Сиркуры приезжали в Россию, графиня познакомилась и с Пушкиным; позже переписывалась с Жуковским. В Париже она была хозяйкой салона. Академик Н. И. Кошкаров, посетивший её в 1842 году, то есть за год до приезда Боратынского, вспоминал: «Графиня де Сиркур постоянно жила в Париже и сделалась почти француженкой. Она была высокого роста, стройная, вовсе не хороша собой, но по своему уму, такту и элегантности достигла того, что весь образованный Париж преклонялся перед нею. Многие её называли „Коринной Севера“. В её гостиной <…> собирались лучшие представители аристократии, знаменитости наук и искусств <…>».
35-летняя графиня, сама литератор, автор многих статей, с восторгом отнеслась к знакомству с Боратынским и свела его с известными французскими писателями. Это были: Альфред де Виньи, братья Тьерри, Шарль Нодье, Шарль Огюст Сент-Бёв, Мишель Шевалье, Альфонс Ламартин. Боратынский также познакомился с Проспером Мериме и Маргаритой Ансело.
Боратынского представляют завсегдатаям аристократических салонов Сен-Жерменского предместья. Он пишет матери в первой половине декабря: «Я вижу здесь графиню Т, маркизу А., внучку известного Президента, находящуюся в свойстве с родом Мортемар, который с нею пересекается, герцогиню Р… которую я вам уже называл, графиню Ф… дочь Академика, графиню Б., жену наполеоновского посланника в Швеции, а потом в Испании. Последняя принимает у себя дворянство времён империи, и я имел удовольствие видеть у неё маршала Сульта <…>»
(здесь и далее — перевод с французского).
Сен-Жерменское предместье бедновато: все живут в маленьких квартирах, — «<…> но оно стоит чрезвычайно высоко в мнении счастливцев мира сего, и всякий стучится у дверей его, которые редко отворяются настежь <…>».
Поэту бросилось в глаза, что у «герцогини Р… лакей без ливреи, в помочах» — и докладывает о гостях, даже не растворив толком дверь, — а в комнате сплошь
аристократы старинного века. «Весь этот мир, щепетильный до крайности, превозносит предания и вежливость прежнего времени, как бы обряды некоего священнослужения, коего тайны ему одному доступны. За неимением первенства в политике он бросился в пуританизм не нравов, а форм. Он не стеснителен для русского, живущего в Петербурге или Москве, почти при тех же общественных условиях, но он раздражает и возбуждает против себя ненависть француза нового времени. <…> Предместье содействует духовенству, почитая принцип легитимизма нераздельным с принципом владычества церкви, и все в большом движении <…>».
В тогдашнем Париже обосновалось много русских эмигрантов. Самым почтенным среди них был Николай Тургенев, с которым Боратынского познакомил его брат, Александр Иванович Тургенев, старый покровитель поэта. Боратынский часто посещал приёмы у Анны-Софьи Свечиной, близкой подруги госпожи де Сиркур, которую она уговорила вслед за собой перейти в католичество. В домах братьев Тургеневых и Свечиной поэт «познакомился или возобновил знакомство» с литераторами Н. М. Сатиным и Н. П. Огарёвым, публицистом И. Г. Головиным и другими русскими оппозиционерами. «Русские ищут русских в Париже и вообще в чужих краях. Самые ветреные из них догадываются, что у нас на сердце и готовы на сантиментальность», — заметил он в письме Путятам. И в этом же послании первой половины декабря 1843 года Боратынский тонко усмехается над своей новой участью:
«Хорошо, что я проведу в Париже одну только зиму, а то из человека с некоторым смыслом я бы сделался совершенным зевакой, а что хуже — светским человеком. Не я один, все парижане с одиннадцати часов утра до 12 вечера на ногах и проводят часы в визитах. Для настоящих парижан, имеющих свои виды, то деловые, то политические, посещающих каждое лицо с известною целию, эта жизнь не совсем убийственна; но для заезжего, несмотря на любопытство, она утомительна до крайности. Несмотря на приветливость лиц, на новость явлений, чувствуешь недостаток прямых отношений, и если бы я был в Париже без семейства, не знаю, вынес ли бы я подобное существование <…>».
Недостаток прямых отношений его уже явно угнетает своей показной радушностью, в которой никакой искренности и сердечности, а только привычное лицемерие…
Между тем Пётр Андреевич Вяземский бодро пишет Александру Ивановичу Тургеневу: «<…> Баратынскому мой сердечный привет. Дай ему раскусить Париж и дай особенно же Парижу раскусить его. Я не знаю человека умнее и приятнее его <…>».
Раскусил ли Боратынский Париж?
В чём-то да, в чём-то нет…
Внимательно изучив Сен-Жерменский свет, он проницательно подметил косность французских аристократов, которые не читают ни Гюго, ни Эжена Сю, ни Бальзака, а лишь навязчиво склоняют новых своих гостей к перемене веры на католичество.
В смысле политических страстей тогдашней Франции Боратынскому явно не удалось разобраться, да, может, он и не стремился к этому. Гейр Хетсо справедливо замечает по этому поводу, что оценка Боратынским парижских событий не лишена наивности и легковерности: «Хотя поэт у „нового француза“ находит известное недовольство положением дел во Франции, но он вовсе не понимает классовых противоречий, лежавших в основе политической борьбы того времени. Читая письма Баратынского из Парижа, даже не подозреваешь, что Франция в то время находилась на грани революции. Поэт, скорее всего, несколько наивен, когда с заметной благожелательностью изображает удовлетворённость французского народа существующими политическими порядками <…>».
Впрочем, Боратынский скоро заскучал в Париже и перестал вникать в сложности политических интриг, где и чёрт ногу сломит. В нём проснулась вдруг тоска по родине, радостное осознание того, что где-то есть его Россия, её снега, её просторы… Его предновогоднее письмо Николаю и Софье Путятам совершенно необычно для него по своему лирическому пафосу, по своей сердечности: «Поздравляю вас, любезные друзья, с новым годом, обнимаю вас, ваших и наших ребятишек; желаю вам его лучше парижского, который не что иное, как привидение прошлого, в морщинах и праздничном платье. Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и красноречием мороза зовёт нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживём их, может быть, 12-ю столетьями. Каждую из этих фраз я могу доказать учёным образом; но теперь не время, оставим это до свидания, ибо из русских писателей нет ни одного, который менее бы любил писать того, который вас так нежно любит <…>».
Светская суета ему не только наскучила, но сделалась «отменно тяжела». В начале января 1844 года он пишет Путятам: «<…> Буду доволен Парижем, когда его оставлю <…>».
С мрачным сарказмом он отзывается теперь о салонах Сен-Жерменского предместья: «Мы разъезжаем по вечерам fb. St.-Germain, верные покуда что православной греко-российской церкви. Католический прозелитизм здесь несносен. Меня заставили прочесть кучу скучных книг, и теперь у меня лежит на столе: „Institut des Iesuits“ отца Равиньяна. Как ты думаешь, что это такое? Изложение статутов ордена, писанное с простотою младенца или невинностью старика, потерявшего память, человеком лет сорока, замечательным своею учёностью и дарованиями. Вот моё определение этого произведения: livre niais, écrit pour les niais par un homme qui n’est pas niais <преглуповатая книга для преглуповатых читателей, написанная отнюдь не дурачком >».
В апреле, собираясь уже в Италию, поэт, однако, пишет Путятам, что есть лица, которых они покидают «даже с грустью». Что делать!.. путешественнику не следует нигде задерживаться, если он хочет в самом деле «пользоваться своим мизантропическим счастием».
Но не сомнительно ли счастье, оказавшееся мизантропическим?
«Хотя хорошо за границей, я жажду возвращения на родину. Хочется вас видеть и по-русски поболтать о чужеземцах».
За полгода в Германии и Париже он вполне ясно понял отличие французского света от русского и, несмотря на всё занимательное и отличный приём, пришёл к твёрдому выводу:
«<…> жизнь в чужих краях тем особенно прекрасна, что начинаешь больше любить своё отечество. Благоприятства более тёплого климата не столь велики, как думают, достижения цивилизации не столь блестящи, как полагают. Жители, коих я видел доселе, не стоят русских ни сердцем, ни умом. Они тупы в Германии, без стыда и совести во Франции, прибавьте к тому, что французы большие мастера только лишь в дурачествах <…>».
И наконец:
«Я вернусь в своё отечество исцелённым от многих предубеждений и полным снисходительности к некоторым действительным недостаткам, которые у нас есть и которые мы с удовольствием преувеличиваем <…>» (из письма А. Ф. Боратынской, около 10 апреля 1844 года;
перевод с французского).
Знакомство с парижскими писателями получилось
шапочным, а общение — поверхностным: понятно, это никак не могло удовлетворить Боратынского. Графиня де Сиркур всячески пыталась заинтересовать мэтров французской словесности русским писателем, однако её усилия вряд ли были успешными. Сохранилась записка Альфреда де Виньи к госпоже де Сиркур, по которой хорошо видно, что его отношение к Боратынскому не больше, чем светская вежливость:
«<…> Я буду рад видеть поэта, пришедшего от вашего имени и столь ценимого вами. Но вот для меня новый повод сожалеть о незнании русского языка, с которого у нас так редко переводят. Я часто сокрушался об этом, ибо у меня есть друзья в его стране и мне хотелось бы услышать этих милых варваров на их родном языке. Но кто лучше их говорит на чистейшем французском? — Г-н Евгений Баратынский может пожаловать завтра или когда угодно, сударыня <…>».
«Милые варвары», прекрасно говорящие по-французски…
Ещё была на памяти война 1812–1813 годов, когда «цивилизованная» наполеоновская армия убивала, грабила, жгла, насильничала в русских городах и селениях, кощунствовала и пакостничала в православных храмах… А вот русские войска, погнавшие врагов прочь и взявшие Париж, отнюдь не ответили тем же, хотя вполне имели право отомстить. Москва была сожжена — Париж уцелел. Победители проявили милость к побеждённым. Император Александр I во всеуслышание заявил, что враг у него не французский народ, а лишь один Наполеон. Но и этот урок благородства, данный царём и его войском, не переменил у французов тона: русские остались в их бытовом сознании —
варварами…
Гейр Хетсо пишет: «Несмотря на большой интерес, проявляемый французами к русской литературе, несмотря на то, что Баратынский уже с середины 1820-х годов был известен во Франции как один из русских „litterateurs distingués“ Отличных писателей>, несмотря на то, что некоторые из его стихотворений были уже переведены на французский язык, нам не удалось найти у французских поэтов ни одного высказывания о Баратынском. Показательно, в частности, что Проспер Мериме, большой ценитель русской поэзии, не упоминает Баратынского в своих многочисленных письмах, относящихся к тому времени. Анри Монго с сожалением констатирует, что мы ничего не знаем о том впечатлении, которое произвела на Мериме встреча с Баратынским <…>».
Разумеется, скромный по натуре поэт попросту не мог «выказывать» себя, но очевидно и другое: для «большого ценителя русской поэзии» эта встреча была не больше, чем банальный эпизод его светской жизни. Не оттого ли чуткий и проницательный Боратынский, понимая такое отношение к себе, был в парижских салонах не более чем «холодным наблюдателем» (как он сам себя определил в одном из писем Путятам).
Сиркурам искренне хотелось представить стихи Боратынского парижскому читателю: граф уговорил поэта перевести что-то из своих произведений на французский язык. Боратынский выполнил эту просьбу, но с одним условием: ни в коем случае не отдавать его переводы в печать, как того желал граф де Сиркур. Конечно же, для поэта было совершенно неприемлемо самому выступать «пропагандистом своего слова»: таковым он никогда не был и в России. К тому же свои стихи он переложил прозой. Всё это, конечно, было сделано из признательности к Сиркурам и предназначалось как бы «для внутреннего пользования».
Интересен выбор Боратынского: это были лирические пьесы разных лет: «Порою ласковую фею…», «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова…», «Старательно мы наблюдаем свет…», «К чему невольнику мечтания свободы?..», «Рифма», «Чувствительны мне дружеские пени…», «На смерть Гёте», «Последний поэт», «В дни безграничных увлечений…», «О верь, ты, нежная, дороже страсти мне…» и другие, а также совсем «свежее» стихотворение «Когда, дитя и страсти и сомненья…». Перевёл он и несколько эпиграмм…
Со своими парижскими соотечественниками Боратынский в отличие от французских писателей сошёлся куда как теснее. Н. М. Сатин писал Н. Х. Кетчеру в марте 1844 года: «<…> Вне нашего маленького кружка из русских мы довольно сблизились здесь с Ев. Баратынским и нашли в нём тёплую живую
душу <…>».
Молодые русские эмигранты видели в нём друга декабристов и чуть ли не борца с царской тиранией. «Он жаждал дел, он нас сзывал на дело…» — позже написал Сатин в своём стихотворении памяти Боратынского. А в письме Н. Огарёву замечает: «Все люди, в которых есть жизнь, идут к нам и отказываются от своих современников <…>. В прошедшем Барат<ынский>, ныне Мельгунов». Конечно, эмигрантская молодёжь по горячности своей выдавала желаемое за действительное: Боратынский в Париже отнюдь не поменял свои умеренные политические взгляды на радикальные. Просто на чужбине его тянуло к русским, тем более к молодым литераторам, которые ему явно сочувствовали: всем этим он был весьма обделён в Москве. В одном из писем Путятам он признаётся: «Наши здешние знакомые нам показали столько благоволительности, столько дружбы, что залечили старые раны».
Старший сын поэта, Лев Евгеньевич, впоследствии вспоминал, что отец был очень доволен поездкой в Париж, всё время находился в бодром, весёлом и жизнерадостном настроении. А на прощание дал обед русским эмигрантам, во время которого говорили в основном об
уничтожении крепостного права: «Присутствовали, между прочим, Сазонов и Иван Головин, произнесший на тему об эмансипации крестьян чрезвычайно эффектную и красноречивую речь».
Эта тема давно волновала Боратынского. Н. Путята и П. Кичеев свидетельствуют, что поэт постоянно думал об освобождении крестьян и это было его «задушевной идеей». Хорошо зная жизнь на селе, Боратынский отвергал резкие перемены, которые, по его мнению, могли вызвать только разорение крестьянского хозяйства и обнищание народа. Он был сторонником разумных, глубоко обдуманных реформ…
С приходом весны Боратынские собрались в дорогу. В канун отъезда из Парижа поэт писал Путятам:
«Мы едем из Парижа с впечатлениями самыми приятными. <…> Здесь нам дали рекомендательные письма в Неаполь, Рим и Флоренцию. Там, как здесь, мы можем, если захотим, познакомиться с обществом; но, кажется, мы на это не найдём досуга. <…> Мы едем на Марсель; оттуда, морем, прямо в Неаполь, а потом сухим путём в Рим и проч. И воротимся в Россию через Вену. Я с вами увижусь, богатый воспоминаниями всякого рода. Я уставал от парижской жизни, но теперь, прощаясь с нею, доволен прошедшим. Перестал к вам писать собственно о Париже, потому что всякий день мнение моё изменялось. К тому ж надобно родиться в Париже, чтоб посреди его требований и рассеяний находить досуг для мысли и для письменного выражения <…>».
Солнце Неаполя
Четыре дня они катили на юг в дилижансе по зелёной и цветущей земле Франции. Тряско, муторно порой, но до чего же радостно глазу! Ровные ухоженные поля, сады, виноградники; каменные, крытые красной черепицей дома, нарядные харчевни, силуэты старинных замков вдалеке…
И вот лазурь Средиземного моря, пёстрый марсельский порт. Пришлось ждать пироскаф — новое морское чудо, бегущее по волнам не столько с помощью паруса, сколько силой огня, пара. Этого
парохода (впрочем, слова ещё не придумали) все нет, однако путешественники так устали, что промедление им даже приятно…
До Неаполя плыли по морю целых три дня.
Первое письмо с берегов Неаполитанского залива — Путятам — Боратынский начинает столь неуклюжим торжественным слогом, будто его всё ещё раскачивает на палубе:
«<…> как на крыльях перенеслись мы из сложной общественной жизни Европы в роскошно-вегетативную жизнь Италии — Италии, которую за все её заслуги должно бы на карте означать особой частью света, ибо она в самом деле ни Африка, ни Азия, ни Европа <…>».
Однако дальше слог его твердеет:
«Наше трёхдневное мореплавание останется мне одним из моих приятнейших воспоминаний. Морская болезнь меня миновала. В досуге здоровья я не сходил с палубы, глядел днём и ночью на волны. Не было бури, но как это называли наши французские матросы: très gros temps <крепкая погода>, следственно, живость без опасности. В нашем отделении было нестраждущих один очень любезный англичанин, двое или трое незначущих лиц, неаполитанский maestro музыки, Николинька и я. Мы коротали время с непринуждённостью военного товарищества. На море страх чего-то грозного, хотя не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей, как будто бы не было не только московского, но и парижского света. На корабле, ночью, я написал несколько стихов, которые, немного переправив, вам пришлю, а вас прошу передать Плетнёву для его журнала <…>».
Ещё в отрочестве, в Пажеском корпусе, он грезил морем — видел себя на палубе, посреди бушующей стихии, в солёных брызгах: палят бортовые пушки, идёт яростное сражение, горят вражеские корабли, вот-вот надо бросаться на абордаж и побеждать!.. — всё, что когда-то испытали в своей боевой молодости и его отец, и дядьки-моряки, ставшие адмиралами…
Пироскаф, перевозящий пассажиров, конечно, совсем не то — зато море не обмануло: оно прежнее, как в отроческих мечтаниях…
Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою встал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветром наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
Мчимся. Колёса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьётся над нами
Белая, рея меж вод и небес.
Только вдали, океана жилица,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбачья качается в море, —
С брегом небрежное скрылось, ушло! <…>
Какая энергия и одновременно какая вольная, крепкая нега в этом дактиле!.. А ведь Боратынский, видно, и впрямь был предназначен для морской службы, как его отец со своими братьями. Недаром же во все три дня качки морская болезнь обошла его стороной, как и девятилетнего сына Николеньку… По всему видно: море — его родная стихия. В стихах — прерывистое радостное дыхание, живое волнение, порывами бьётся в них крепкий ветер…
Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды симво́л!
С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Тёмную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал! <…>
Чудные стихи! Изумительно ясные, мужественные, сильные, здравые.
Давно не было у Боратынского такого подъёма чувств, такого вдохновения, такой крепости в душе!..
Нужды нет, близко ль, далёко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!
(Апрель 1844. Средиземное море)
Блаженная райская страна —
Элизий земной — чудится поэту: бессмертная нереида Фетида достаёт ему из лазоревой урны Средиземноморья
жребий благой, желая подарить бессмертие.
Но мифические образы говорят и сами за себя.
Элизий — в переводе: поле прибытия — недаром означает и загробный мир, где пребывают в блаженстве праведники. Небесную страну отделяет от земной лишь лёгкая черта окоёма. Эта зыбкая грань почти неразличима: то ли небо погружается в лазурные волны и землю, то ли море и суша впадают в синее небо.
Мифическая, божественная италийская земля!..
Боратынский, подчиняясь её дыханию, невольно слагает в письме друзьям стихотворение в прозе:
«Вот Неаполь! Я встаю рано. Спешу открыть окно и упиваюсь живительным воздухом. Мы поселились в Villa Reale, над заливом, между двух садов. Вы знаете, что Италия не богата деревьями: но где они есть, так они чудно прекрасны. Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии, так ярко-зелёный, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья. Вот проснулся город: на осле, в свежей зелени итальянского сена, испещрённого малиновыми цветами, шажком едет неаполитанец полуголый, но в красной шапке; это не всадник, а блаженный. Лицо его весело и гордо. Он верует в своё солнце, которое никогда его не оставит без призрения. — Каждый день два раза, утром и поздно вечером, мы ходим на чудный залив, глядим и не наглядимся. На бульваре Chiaya, которого подражание мы видим в нашем московском, несколько статуй, которые освещает для нас то итальянская луна, то итальянское солнце. Понимаю художников, которым нужна Италия. Это освещение, которое без резкости лампы выдаёт все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом, находится только здесь под этим дивным небом. Здесь, только здесь может образоваться и рисовальщик, и живописец. — Мы осмотрели некоторые из здешних окрестностей. Видели, что модно видеть, в Геркулануме; были в Пуццоле, видели храм Серапийский; но что здесь упоительно, то это внутреннее существование, которое дарует небо и воздух. Если небо, под которым Филемон и Бавкида превратились в деревья, не уступает здешнему, Юпитер был щедро благ, а они присноблаженны <…>».
И всё же в его сердце уже закралась тревога: ещё на море к жене Настеньке воротились её «нервические рюматизмы с постоянною болью в желудке».
Конечно же, в Неаполе он сразу озаботился лечением Настасьи Львовны: по рекомендации княгини Волконской нашли одного из лучших докторов, и тот предписал морские ванны и местную железную воду.
Вскоре здоровье жены поправилось, и Боратынские зажили «самой сладкой жизнью». Вблизи моря жара отнюдь не досаждала — «<…> в России иногда бывает удушнее»; настроение вновь поднялось. «Весёлый нрав неаполитанцев, их необыкновенная живость, беспрестанные катанья, процессии, приходские праздники с фейрверками, всё это так ярмарочно, так безусловно весело, что нельзя не увлечься, не отдаться детски преглупому и пресчастливому рассеянию, — писал Боратынский Путятам. — Мне эта жизнь отменно по сердцу: гуляем, купаемся, потеем и ни о чём не думаем, по крайней мере не останавливаемся долго на одной мысли: это не в здешнем климате».
Вместе с детьми они посетили живописные окрестности Неаполя: Баию, Помпею, Кастелламмаре, Амальфи, Салерно и, наконец, Сорренто, откуда родом был Тассо, один из любимейших поэтов Боратынского. «Теперь неделя наша проходит для детей в уроках, а каждое воскресенье мы делаем une partie de plaisir <приятную прогулку>, осматривая здешние церкви, дворцы и замки, или просто едем за город в какую-нибудь деревушку».
Боратынских опечалило лишь одно — известие из России о кончине отца Николая Путяты: «<…> мы не могли читать последнего вашего письма без содрогания, думая о том, что вы претерпели <…>». Да ещё поэт озаботился оставленными делами: срочной уплатой в Опекунский совет по тамбовскому имению и долгом одной барыне, чем попросил заняться своего друга.
Так, в полном отдыхе и счастье прошли май и июнь.
Боратынские жили уединённо в своей квартире в
Vico Carminello a Chiaya с прекрасным видом на Неаполитанский залив; почти ни с кем не общались, за исключением нескольких русских семей, своей давней московской знакомой, княгини Зинаиды Волконской, и художника Александра Иванова.
К тому времени поэт окончил стихотворение, которое, возможно, задумал и начал ещё на пироскафе, когда вспомнились ему отец, детство в Маре и славный его дядька, Джьячинто Боргезе, который столько рассказывал о лучезарной стране Италии…
С письмом Путятам, по-видимому посланным в конце июня, Боратынский отправил два стихотворения — «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу»: поручил отдать их Плетнёву «для его журнала».
Пространный монолог памяти своего воспитателя написан с редкой свободой, — не иначе как лазурные морские просторы, вольный чистый воздух да мягкое благодатное итальянское солнце надышали поэту его мерный слог, щедрые переливы интонации и благородную полноту зоркого и одухотворённого воспоминания.
Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон её златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл, прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций.
Никто их не купил. Вздохнув, оставил ты
В глушь севера тебя привлекшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на всё пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный! <…>
Поэт вспоминает «благодать нерусского надзора» своего дядьки, обернувшийся за долгих двадцать лет сердечной привязанностью, совместные прогулки по Москве, когда познакомился со всеми в древней столице «макаронщиками», — и вновь видится ему отрочество в родном поместье:
Ты полюбил тебя призревшую семью
И, с жизнию её сливая жизнь свою,
Её событьями в глуши чужого края
Былого своего преданья заглушая,
Безропотно сносил морозы наших зим;
В наш краткий летний жар тобою был любим
Овраг под сению дубов прохладовейных.
Участник наших слёз и праздников семейных,
В дни траура главой седой ты поникал,
Но ускорял шаги и членами дрожал,
Как в утро зимнее порой, с пределов света,
Питомца твоего, недавнего корнета,
К коленам матери кибитка принесёт
И скорбный взор её минутно оживёт. <…>
Тенью мелькает в этих стихах сам поэт, зато ясно очерчен скорбный лик маменьки в мгновение встречи.
Но тут же стих преображается: на смену приглушённого голоса памяти приходит звонкий, торжественный глас истории:
Но что! радушному пределу благодарной,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра.
Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдатов,
Входящих вопреки тех пламенных часов.
Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов,
В густой пыли побед, в грозе небритых бо́род,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где год спустя тебе предстал и он,
Тогда Буонопарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный кондотьери,
Уж зиждущий свои гигантские потери.
Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революцьонных фраз <…>.
Никакой «очарованности» Наполеоном, образом которого были так увлечены последователи романтизма, — не беглецом ли Джьячинто был сызмалу внушён этот трезвый взгляд на «минутного царя царей»?..
Поэт добродушно усмехается над былым гневом своего дядьки, который был вынужден когда-то нести «контрибуцию» корсиканцу и навек потерял всё своё богатство — серебряные ложки. Малый, трагикомический эпизод истории!.. Но он позволяет вспомнить и «большую» историю: опалу и кончину «на битвы не усталого» Суворова, испустившего дух «в картечи эпиграмм»; смерть самого «злодея» на «скале пустынной»…
Боратынский не судит — никого и ничего.
Что это было? — словно бы спрашивает он. И даёт ответ:
<…> то ли благо, то ли зло…
Вот и свидетель этих исторических бурь, его дядька, опочил — и его «<…> итальянский гроб в ограде церкви нашей». А воспоминание — живо:
А я, я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей:
Во славе солнечный Неаполь твой нагорной,
В парах пурпуровых, и в зелени узорной,
Неувядаемой; амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,
Священную поднесь Камены суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле вулканов и цветов,
И ужасов, и нег взлелеял Эпопею,
Где в мраке Тенара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволненья,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья. <…>
Древняя и вечно юная красота
Элизия земного сливается в его воображении с божественной красотой вечности, — и эта вечность притягивает с влекущей силой:
Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их,
Сквозь занавес веков ещё здесь помнят виллы
Приюты отдыхов и Мария и Силлы;
И кто, бесчувственный среди твоих красот,
Не жаждал в их раю обресть навес иль грот,
Где б скрылся, не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги,
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном <…>
(курсив мой. — В. М.).
Боратынский знать не знал, что пишет своё последнее стихотворение.
Сам стих угадал то, о чём он даже не подозревал…
Стихи, они говорят больше, чем знает поэт.
Строгий рай
Всё случилось почти мгновенно — чуть ли не в один день…
Вот что известно о том роковом событии.
28 июня Настасья Львовна почувствовала себя очень плохо. Начался припадок. Боратынский бросился к жене, схватил запястье. Пульс был лихорадочным. Он страшно испугался за её жизнь — испытал глубокое нервное потрясение… Ночью ему стало плохо…
29 июня (11 июля) 1844 года, в четверть седьмого утра, в Неаполе, поэт Евгений Абрамович Боратынский скончался.
Николай Путята позже написал: «Жена его была больна, и накануне доктор настаивал на необходимости пустить ей кровь. Это так встревожило Баратынского, что к ночи он сам занемог, а на другой день рано утром его не стало».
Пётр Плетнёв описывает эту странную смерть несколько подробнее:
«Накануне Русского праздника святых Петра и Павла занемогла жена Баратынского. Доктор советовал, чтобы ей открыть кровь — и когда муж удивился, что надобно употребить эту сильную меру в припадке, по-видимому, обыкновенном, то доктор объявил, что иначе может последовать воспаление в мозгу. Слова его так встревожили Баратынского, что он сам почувствовал лихорадочный припадок, который ночью усилился. На другое утро, прежде, нежели доктор успел явиться к своим больным, Баратынский скончался скоропостижно».
И Путята, и Плетнёв, бывшие далеко от места события, писали это в основном со слов самой Настасьи Львовны Боратынской: она буквально через несколько часов после смерти мужа отправила письмо в Россию — Николаю и Софье Путятам.
Впервые её письмо, писанное по-французски, опубликовал Гейр Хетсо в своей книге о Боратынском в 1973 году. Вот его полный перевод на русский язык (прежде по-русски печатались лишь выдержки):
«Верю, надеюсь, что господин Устинов исполнит несчастную комиссию передать вам моё письмо, после чего вы будете уведомлены о кончине Евгения. Боюсь, как бы он не отправил письмо, прежде чем увидит вас, сейчас я его ожидаю и написала вам, чтобы вы прочли хотя бы несколько слов о том, что у нас здесь произошло. Обещают перевезти его тело на корабле осенью, но мы уедем как можно раньше и вернёмся самым кратким путём. В данный момент я чувствую себя в порядке, хотя только что оправилась от болезни; доктор хотел мне пустить кровь, а так как мы этому воспротивились, он сказал, что боится, как бы это не обернулось воспалением в мозгу, и это так испугало Евгения, что, даже будучи успокоен, он испытал потом нервное потрясение; ночью у него жутко разболелась голова и разлилась желчь; слабительные, которые он принял, не подействовали, вместо очищения его рвало желчью, и как нарочно я не была встревожена; мы ожидали доктора для меня в семь утра, но в шесть часов с четвертью всё было кончено, несмотря на кровопускание, потому что кровь не текла. Вы можете быть уверены, что я позабочусь о своём здоровье, мой самый великий ужас — это умереть и оставить детей одинокими, я позабочусь о своём выздоровлении и постараюсь уехать, как только это станет возможно, не позже чем через неделю. Да хранит вас Бог, что мне ещё добавить, молитесь за нас.
11 июля, в тот же день.
Возьмите на себя труд сообщить всё моей свекрови, написав Сергею. Я не состоянии им писать».
Адрес на конверте был написан по-русски: «Его Высокородию Николаю Васильевичу Путяте. В Коломне, за большим театром против Никола Морского. Дом Плеске».
Сумбурные, не слишком связные слова, писанные в горячке боли от страшной потери…
* * *
Смерть всегда неожиданна, особенно если приходит вдруг, среди видимого благополучия и, более того, на взлёте оптимистического настроения, душевных и творческих сил. Занемогла жена — но умер муж.
Почему так случилось, в общем-то никто толком не понял.
Ну, хворал, как-то резко в последние годы постарел (Н. Сатин в посмертном стихотворении даже назвал 44-летнего Боратынского «старцем»). Не лечился, нимало не заботился о себе…
Наверное, поэта можно было спасти, но в нужный момент доктора рядом не оказалось…
Припомнили потом, что перед самом отъездом из Парижа Боратынский сильно простудился, и лекарь не советовал ехать в знойную страну, опасаясь, что резкая перемена климата опасна для его здоровья.
Что эти опасения для того, кто был уже совсем рядом с блаженной Италией, о которой мечтал с детства; кто по дороге к ней впервые плыл по морю, о чём грезил юношей; кто написал на корабле удивительные, новые для себя, полные радости и жизни стихи!..
…Диагноза нет.
Можно, конечно, вспомнить, что и отец Боратынского, Абрам Андреевич, на которого так походил сын, скончался в таком же возрасте… Но кто же тогда думал о влиянии наследственности? Да и только ли в ней было дело?
Впрочем,
диагноз всё же есть.
Слишком сильно чувствовал…
Слишком много и глубоко думал…
Слишком остро переживал…
И в своей жизни, и в своей неожиданной кончине Боратынский был и остался —
поэтом.
ЭПИЛОГ
Подобно его жизни, год от года умолкающей, тишающей — негромкой была и кончина Евгения Боратынского, самого
негромкого гения русской поэзии…
Как отозвались современники на эту трагическую новость?
А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «От графа Протасова узнал я подробности о болезни и смерти Боратынского. Можно было спасти кровопусканием. Доктор не настоял; другого призвали уже после смерти к жене».
Частное письмо… да и всё, в передаче уже, не точно…
Смерть — тайна; и даже доктора в причине ее не очень понимают, тем более люди со стороны.
На российские
сумерки пала итальянская
ночь…
Николай Языков — брату Александру в Симбирск: «Горестное известие! Из Петербурга пишут, что Баратынский умер в Неаполе. Горестная судьба талантов в России! — все они губятся как-то не в своё время, до времени и Бог знает как!»
Это чуть ли не всё, что было в тогдашней переписке…
Появилось в печати несколько немногословных некрологов. Всех проникновеннее и мудрее сказал своё памятное слово Иван Киреевский…
Пётр Плетнёв горевал, что Боратынский умер в такой момент, когда только почувствовал, «<…> что ему можно начать жить».
Действительно, всё было подготовлено для новой жизни: налажено хозяйство, построен дом, в Петербурге ожидал журнал «Современник». Да и три стихотворения, написанные за рубежом («Когда, дитя и страсти и сомненья…», «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу»), говорят, что его поэзия вот-вот могла перейти в новое качество. Но более всего красноречивы последние письма: в Боратынском появились новые мысли и убеждения, зарождалась небывалая энергия…
«Он довольно написал, чтобы его имя и сочинения всегда оставались украшением Русской Литературы, — заключал Плетнёв. — <…> И кто близко и хорошо знал Баратынского, тот, без сомнения, не без грусти задумается о надеждах, навеки нами утраченных».
Однако «близко и хорошо знавших» было — единицы…
Критика — сохранила молчание; у Белинского не нашлось ни слова. Для критиков Боратынский уже давно был «вчерашним днём».
А
читатель — безмолвствовал…
…В те роковые дни жил в Неаполе русский художник Александр Андреевич Иванов, автор знаменитого полотна «Явление Христа народу». С Боратынскими он был едва знаком, но посочувствовал горю вдовы и детей сильнее всех других тамошних соотечественников.
В. И. Штернберг писал в те июльские дни: «Иванов очень занят. Недалеко от нас умер Баратынский, известный поэт, и оставил жену и трёх детей, дочь 18-и и двоих сыновей, один 14-и, другой 8-и лет; люди — добрые, никого не имеют знакомых. Иванов случайно с ними познакомился и теперь утешает сирот и вдову. <…> Впрочем, жаль очень этих добрых людей, особенно мать: совершенно убита горем».
Александр Иванов проявил к ним искреннее участие. Даже приютил их под своим кровом, поскольку они не в силах были оставаться в квартире, где произошла такая страшная беда…
Сам художник, в том же июле, писал отцу:
«<…> Но сии последние дни более всего меня занимала скоропостижная смерть нашего славного поэта Баратынского. Вдова с семью детьми, не имея никого знакомых, заставила меня отдаться всею душой этому делу. <…> Посмотрев на усопшую красивую голову нашего поэта, я узнал у рыдающих, что нет в России хорошего портрета, и тотчас велел сформовать маску, чтобы заказать бюст в Риме. Или я дам форму, с советом адресоваться в Академию Художеств для слепков с неё; хорошо, если бы вы постарались направить её к самому мастеру и к какому-нибудь из работников».
Иванову очень хотелось, чтобы бюст поэту вылепил «лучший скульптор по этой части» американец Гирам Паверс, но по разным причинам эта идея осталась неосуществлённой.
Художник хлопотал и о том, чтобы поместить в церкви гроб с телом поэта. В неаполитанском храме «греко-униатов» отказались принять прах православного. Лишь лютеранский священник разрешил дело: гроб с телом Боратынского поставили на кладбище под названием
Cimitero Britannico di S. M. a la Fede, где он и пробыл до отправления на родину.
По возвращении в Россию Настасья Львовна с детьми не смогла жить в Муранове; дом на время опустел. Как-то через год приехал в Москву Николай Путята, и они вместе посетили усадьбу. Путята писал к жене Софье, младшей сестре Настасьи Львовны: «<…> тут всё напоминает покойного Евгения. Всё носит свежие следы его работ, его дум, его предположений на будущее. В каждом углу, кажется, слышим и видим его. Я не мог удалить из памяти его стиха:
Тут не хладел бы я и в старости глубокой!
Я не пишу тебе о том, что должна была чувствовать Настасья Львовна. Её печаль так глубока, так истинна, что я смотрю на неё с каким-то благоговением, не смея говорить с ней, не смею даже замечать её <…>».
В августе 1845 года, через год и два месяца после смерти Боратынского, кипарисовый гроб с его останками перевезли морем из Неаполя в Петербург.
Похороны прошли в пятницу 31 августа 1845 года на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Они были немноголюдны. Плетнёв писал Гроту: «<…> Кроме семейства родственников (Путят с жёнами) и домочадцев были следующие литераторы: князь Вяземский, князь Одоевский (с женой), граф Владимир Соллогуб — и только».
Боратынский упокоился близ Крылова, Гнедича и Карамзина.
Вдовой был воздвигнут памятник с портретом Боратынского в медальоне, под ним — две строки из стихотворения «Отрывок»:
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
…Эта смерть на чужбине… кипарисовый гроб, плывущий морем в отчие пределы… и, наконец, упокоение в родной земле…
Двумя десятилетиями раньше нечто подобное случилось с Байроном, жившим в Италии и умершим в Греции.
В последней строфе своего последнего стихотворения «Дядьке-итальянцу» Боратынский вспомнил судьбу английского поэта. Стихи оказались пророческими, они словно бы — о самом себе:
О тайны душ! Меж тем как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет
По знойным берегам груди своей отравы,
У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой,
Напрасно (Уст его, как древле уст Тантала,
Струя желанная насмешливо бежала.)
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрываемых небес,
Отчизна тощих мхов, степей и древ иглистых!
О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых!
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем!
Всё верно:
Элизий земной, он не на чужбине — на родине…
ИЛЛЮСТРАЦИИ



А. А. Боратынский, отец поэта

А. Ф. Боратынская (урождённая Черепанова), мать поэта

Евгений Боратынский в детстве

Родовой герб Боратынских

Усадьба Боратынских в Тамбовской губернии

Император Павел I. Художник С. Щукин. Конец XVIII в.

Император Александр I

Гельсингфорс в 1820 году. Рисунок Э. Энгеля

А. А. Закревский, генерал-губернатор Финляндии

А. Ф. Закревская (урождённая Толстая), жена генерал-губернатора

Аничков мост и дворец Белосельских-Белозерских. Литография Ж. Жакотте. 1850-е гг.

Е. А. Боратынский. Конец 1820-х гг.

И. В. Киреевский

А. С. Пушкин. Художник В. Тропинин. 1827 г.

П. А. Вяземский. Художник И. Зонтаг. 1821 г.

М. Ю. Лермонтов. Неизвестный художник

В. А. Жуковский. С литографии Е. Эстеррайха. 1819 г.

Москва. Красная площадь. 1-я половина XIX в. Художник О. Кадоль

Император Николай I

Н. И. Гнедич. Гравюра с портрета О. Кипренского. 1820-е гг.

А. А. Дельвиг. Рисунок Бореля

С. М. Дельвиг. Художник К. Шлезигер. 1827 г.

В. Г. Белинский. С портрета К. Горбунова. 1843 г.

Семейство Энгельгардт. Художник К. Барду. 1816 г.

А. Л. Боратынская, жена поэта

З. А. Волконская. Неизвестный художник. 1830-е гг.

П. Я. Чаадаев. Неизвестный художник. 1810-е гг.

П. А. Плетнёв. С портрета А. Тыранова. 1836 г.

А. И. Тургенев. С портрета К. Брюллова. 1836 г.

В. А. Жуковский. С портрета К. Брюллова. 1835 г.

Казань. 1-я половина XIX века. Гравюра В. Турина

Дом-музей Е. А. Боратынского в Казани. Современное фото

Дом Е. А. Боратынского в Муранове. Фото 1880-х гг.

У грота в парке усадьбы Боратынских Мара. Художник Э. А. Дмитриев-Мамонов. Около 1861 г.

Е. А. Боратынский в начале 1830-х годов. Гравюра. 1835 г.
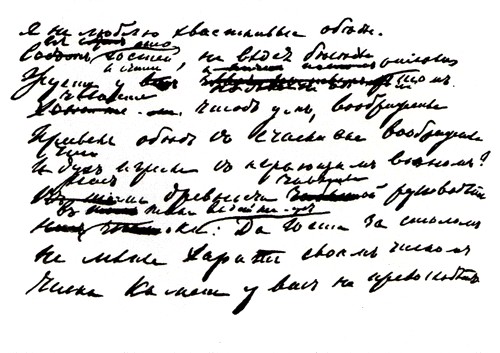
Автограф поэта

Обложки прижизненных изданий стихотворений Е. А. Боратынского

Вид на Неаполь с дороги в Позилиппо. Художник С. Ф. Щедрин. 1829 г.

Памятник на могиле Е. А. Боратынского в Александро-Невской лавре
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Е. А. БОРАТЫНСКОГО
1800, 19 февраля — в имении Вяжля Кирсановского уезда Тамбовской губернии, в семье генерал-лейтенанта в отставке Абрама Андреевича Боратынского и бывшей фрейлины Александры Фёдоровны Боратынской (в девичестве — Черепановой) родился сын Евгений.
7 или 8 марта — Евгений Боратынский крещён. Восприемники — Мария Андреевна Боратынская, сестра Абрама Андреевича, и местный житель Иван Егорович (фамилия не установлена).
1801, ночь с 11 на 12 марта — убит Павел I. На престоле — Александр I. Абрам Андреевич, бывший в опале, может вернуться в Петербург, но остаётся в Вяжле.
1803, декабрь — Абрам Андреевич Боратынский выбран тамбовским губернским предводителем.
1804, весна — осень — семья Боратынских переехала в новый дом в урочище Мара, в нескольких верстах от прежнего дома.
1805 — Евгений научился писать по-русски и по-французски.
Лето — приезд в Мару гувернёра Джьячинто Боргезе.
Октябрь — декабрь — Евгений впервые выехал за пределы родительского дома.
1806, 5 (?)
ноября — первое известное письмо Евгения родителям в Петербург.
1808, весна (?) — отъезд семьи Боратынских в Подвойское-Голощапово, в имение отца Абрама Андреевича, Андрея Васильевича.
1809, май — июнь (?)… сентябрь — октябрь (?) — переезд Боратынских из Подвойского-Голощапова в Москву.
1810, 24 марта — кончина Абрама Андреевича Боратынского.
1811, май (?) — переезд Александры Фёдоровны с детьми из Москвы в Мару.
1812, около 15 мая — Евгений отдан в частный пансион в Петербурге для подготовки к учёбе в Пажеском корпусе.
Ночь с 11 на 12 июня — французские войска перешли русскую границу. Начало Отечественной войны.
26 августа — Бородинское сражение.
9 октября — Евгений Боратынский помещён в Пажеский корпус пансионером на собственное содержание.
1814, сентябрь — Боратынский оставлен в 3-м классе на второй год.
Сентябрь — октябрь, начало месяца — в письме маменьке Евгений признаётся о желании «стать автором»: «ничто я не люблю так, как поэзию».
Ноябрь (?) — Евгений пишет письмо маменьке с просьбой о разрешении оставить Пажеский корпус и вступить в морскую службу.
1816, 19 февраля — Боратынскому исполняется 16 лет. Вместе с другом, пажем Д. Ханыковым участвует в краже денег и табакерки в доме камергера П. Н. Приклонского, отца их товарища по Корпусу. В тот же день арестованы и признаются в проступке.
25 февраля — повеление Александра I об исключении Боратынского и Ханыкова из Пажеского корпуса и запрещении им вступать в какую-либо военную или статскую службу, кроме солдатской.
Между 25 и 29 февраля — Боратынский отчислен из Пажеского корпуса и сдан дядюшке Петру Андреевичу.
Июль — август — дядюшка Богдан Андреевич увозит племянника в Подвойское-Голощапово.
Октябрь — ноябрь — Евгений Боратынский тяжело болен.
1817, 23 января — первое известное стихотворение Боратынского на русском языке.
После 23 января — начало февраля — отъезд Евгения к маменьке в Кирсанов.
Апрель — август — живёт в Маре.
Сентябрь — октябрь — Боратынский снова в Подвойском.
1818, сентябрь — Евгений вместе с дядюшками и тётушками переезжает из Подвойского в Москву.
Октябрь — переезжает в Петербург, чтобы определиться на военную службу.
Конец 1818 года — начало 1819 года — встреча со старым другом Александром Креницыным; знакомство с Дельвигом, Пушкиным, Эртелем, Чернышёвым, Яковлевым, Кюхельбекером и другими молодыми литераторами.
1819, 8 февраля — Боратынский определён рядовым в лейб-гвардейский Егерский полк.
28 февраля — первая публикация Боратынского: в альманахе «Благонамеренный» вышел мадригал «Пожилой женщине и всё ещё прекрасной».
Август (?) —
декабрь — Боратынский с Дельвигом снимают общую квартиру в пятой роте Семёновского полка.
1820, 11 (?) января — Боратынский едет во Фридрихсгам (Финляндия), к месту дислокации Нейшлотского пехотного полка, куда он переведён унтер-офицером.
19 января — в Вольном обществе любителей российской словесности слушают доставленные Дельвигом стихи Боратынского.
26 января — Боратынский заочно принят в члены-корреспонденты Вольного общества любителей российской словесности.
Февраль — март (?) — Боратынский пишет элегию «Финляндия».
Около 12 декабря — Боратынский приезжает в Петербург: начало отпуска, продлившегося до марта 1821 года. Вскоре уезжает в Мару.
1821, февраль, Петербург — знакомство с С. Д. Пономарёвой.
30 апреля — вместе со своим полком Боратынский прибывает в Петербург для несения караульной службы.
Лето — Боратынский неоднократно присутствует в собраниях Вольного общества любителей российской словесности.
1822, 1 августа — Нейшлотский полк возвращается в Финляндию.
21 сентября — начало отпуска Боратынского. Едет в Мару (?).
1823, 1 января — Боратынский возвращается в Роченсальм.
Февраль — начало работы над поэмой «Эда».
Десятые числа сентября — к Боратынскому и Коншину в Роченсальм приезжают Дельвиг, Эртель и Павлищев.
Октябрь — декабрь (?) — Боратынский пересылает Рылееву и Бестужеву тетрадь своих стихов для издания книгой.
Декабрь — новые хлопоты о производстве Боратынского в офицеры. Пишет Жуковскому письмо-исповедь.
1824, 6 марта — Денис Давыдов в письме просит генерал-лейтенанта А. А. Закревского, назначенного финляндским генерал-губернатором, помочь в деле Боратынского.
Около 6 апреля — И. И. Дибич докладывает Александру I о Боратынском. Резолюция императора на докладной записке: «Не представлять впредь до повеления».
29 мая — 10 июня — Нейшлотский полк прибывает в Петербург для несения караульной службы.
12 июня — знакомство Боратынского с Николаем Языковым.
5–6 августа — Боратынский с полком возвращается в Финляндию.
1825, февраль, Кюмень — начало работы над поэмой «Бал».
20 апреля — Александр I подписывает приказ о производстве Боратынского в прапорщики.
8–10 июня — Боратынский в Петербурге, куда прибыл вместе с Нейшлотским полком.
30 сентября — начало четырёхмесячного отпуска Боратынского.
19 ноября — в Таганроге скончался император Александр I.
14 декабря, Петербург — присяга Николаю I. Восстание на Сенатской площади.
1826, 31 января — Николай I подписывает указ об отставке Боратынского.
Февраль (?) — март — в доме генерал-майора в отставке Л. Н. Энгельгардта поэт знакомится с его старшей дочерью — 21-летней Настасьей.
9 июня, Москва — венчание Боратынского и Настасьи Львовны Энгельгардт.
8 сентября — в Москву привезён возвращённый из ссылки А. С. Пушкин.
1827, 14 марта — у Боратынских родилась дочь Александра.
Конец сентября, Москва — в типографии Августа Семёна при Императорской Медико-хирургической академии выходит книга «Стихотворения Евгения Баратынского».
1828, 24 января — Боратынский принят на службу в Межевую канцелярию.
7–14 декабря, Петербург — выход книги «Две повести в стихах» с «Балом» Боратынского и «Графом Нулиным» Пушкина.
1829, январь — дружеское сближение с Иваном Киреевским, интенсивная переписка.
Начало мая — отъезд Боратынских в Мураново.
Июнь-июль — в Москве умерла годовалая дочь Боратынских Екатерина.
18 июля — родился старший сын Лев.
22–23 сентября — Боратынские с детьми выезжают в Мару.
Октябрь — ноябрь — начало работы над поэмой «Наложница».
1830, конец марта — середина апреля — семья Боратынских возвращается из Мары в Москву.
Начало декабря — в Москву из Болдина приехал Пушкин. Он читает Боратынскому «Повести Белкина» и, возможно, «Маленькие трагедии». Боратынский знакомит Пушкина с поэмой «Наложница».
1831, 12 января — Пушкин дарит Боратынскому отдельное издание «Бориса Годунова».
14 января, Петербург — смерть А. А. Дельвига на 33-м году жизни.
17 февраля, Москва, дом Хитрово на Арбате — «мальчишник» Пушкина в канун свадьбы с Н. Н. Гончаровой. Среди гостей: Боратынский, Вяземский, Давыдов, Языков, Нащокин, И. Киреевский, Л. Пушкин.
15 апреля, Москва — вышла книга «Наложница. Сочинение Е. Боратынского».
Первая половина мая — семья Боратынских переезжает в Мураново.
Вторая половина июня — Боратынские с тестем Л. Н. Энгельгардтом и его младшей дочерью Соничкой едут в Казань; позже — в Каймары.
26 июля — Боратынский
увольняется из Межевой канцелярии.
После 8 октября — рождение дочери Марии.
1832, 7 января — вышел № 1 журнала И. Киреевского «Европеец».
14–15 февраля, Москва — Киреевский узнаёт, что по повелению Николая I его журнал закрыт.
Апрель-май, Каймары — Боратынский пишет стихотворение «На смерть Гёте».
Вторая половина июня — Боратынский с семьёй выезжает из Казани в Мару. Затем меняет своё решение и отправляется в Москву.
26 октября — у Боратынских родился сын Дмитрий.
1833, 17 мая — Боратынские едут из Москвы в Мару.
5 сентября, Казань — встреча Боратынского с Пушкиным, который едет в Оренбург.
Декабрь… январь-февраль 1834, Мара — рождение третьей дочери Софии.
1834, март (?) — переезд Боратынских из Мары в Москву.
1835, январь — Боратынский покупает в Москве двухэтажный каменный дом на Спиридоновке.
20 апреля — в «Московских ведомостях» объявлено о выходе книги «Стихотворения Евгения Баратынского» в двух частях.
26 ноября — рождение сына Николая.
1836, 22 октября — повелением Николая I закрыт журнал «Телескоп» за публикацию «Философического письма» Чаадаева.
1837, 29 января — кончина А. С. Пушкина.
10 мая — Боратынский выезжает в Мару.
15 июня — вышел «Современник» со стихотворением Боратынского «Осень».
11 сентября — у Боратынских родилась дочь Юлия.
1839, 22 апреля — в Симбирской губернии скончался Денис Давыдов.
28 августа — рождение дочери Зинаиды.
Декабрь — Боратынский встречается с Н. Коншиным, приехавшим в Москву.
1840, 30 января — Боратынский едет в Петербург. Посещает Плетнёва, Жуковского, Вяземского; знакомится с Лермонтовым, Мятлевым.
5 февраля — читает у Жуковского ненапечатанные произведения Пушкина.
11 февраля — с братом Ираклием — у дядюшки Петра Андреевича. Вечером — у Карамзиных.
Около 6 августа — Боратынские едут из Москвы в Мару.
1841, конец мая — Боратынские возвращаются в Москву из Мары.
Октябрь — переезд в наёмный дом в Артёмово близ Муранова.
1842, 20 мая — в «Московских ведомостях» объявлено о выходе последней, третьей книги поэта — «Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского».
Осень — Боратынские переезжают в новый дом в Муранове.
1843, около 3 сентября — Боратынский со всей семьёй едет в Петербург, чтобы затем отправиться в заграничное путешествие.
После 10 сентября — поэт с женой и тремя детьми — Александрой, Львом и Николаем выезжает в заграничное путешествие. Дети: Мария, Дмитрий, Юлия и Зинаида остаются на попечении Путят. Маршрут путешествия: Кёнигсберг, Берлин, Потсдам, Лейпциг, Дрезден, Франкфурт, Майнц, Кёльн, Брюссель, Париж.
Ноябрь, 16(4) — Боратынские приезжают в Париж, где живут до середины марта 1844 года. Знакомство с семьёй де Сиркуров, с писателями Нодье, Тьерри, де Виньи, Мериме, Шевалье, Ламартином и др. Встречи с братьями Тургеневыми, русскими эмигрантами Н. Огарёвым, Н. Сатиным и др.
1844, 5–6 апреля — Боратынские едут из Парижа в Марсель.
Середина апреля — на пироскафе прибывают в Неаполь. Во время плавания по морю поэт пишет стихотворение «Пироскаф».
Конец апреля-июль — жизнь в Неаполе. Посещение окрестностей: Пуцоли, Кастелламмаре, Сорренто, Амальфи, Салерно, Пестума, Геркуланума, Помпеи. Боратынский пишет своё последнее стихотворение «Дядьке-итальянцу».
10 июля (28 июня) — приступ болезни у Настасьи Львовны.
11 июля (29 июня), 6 часов 15 минут утра — скоропостижная смерть Е. А. Боратынского.
1845, август — кипарисовый гроб с останками Е. А. Боратынского морем доставлен из Неаполя в Петербург.
31 августа — похороны на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Полное собрание сочинений Е. А. Баратынского. Т. 1, 2. Пг., 1915.
Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1957.
Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. М., 1936.
Боратынский Е. А. Полное собрание сочинений и писем. М., 2002.
К 200-летию Баратынского. М., 2002.
Летопись жизни и творчества Боратынского. М., 1998.
Андреевский С. А. Литературные чтения. СПб., 1891.
Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1948.
Жуковский В. А. Два письма Жуковского к князю А. Н. Голицыну об Е. А. Баратынском // Русский архив. 1868. Вып. 1.
Калягин Н. Чтения о русской поэзии // Москва. 2012. № 3, 4.
Кичеев П. Г. Ещё несколько слов о Е. А. Баратынском // Русский архив. 1868. Вып. 4, 5.
Киреевский И. В. Е. А. Баратынский // Русский архив. 1874. Кн. II, № 9.
Коншин П. М. Воспоминания о Боратынском, или Четыре года моей финляндской службы с 1819 по 1823 // Краеведческие записки. Ульяновск, 1958. Вып. 11.
Купреянова Е. Н. Е. А. Баратынский. М., 1957.
Лебедев Е. Н. Тризна. Книга о Боратынском. М., 1985.
Медведева И. Н. Ранний Баратынский. М., 1936.
Мейер Г. Баратынский //
Мейер Г. Сборник литературных статей. Франкфурт-на-Майне, 1968.
Песков А. М. Боратынский: истинная повесть. М., 1990.
Пигарев К. В. Музей-усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева. М., 1964.
Плетнёв П. А. Письмо к графине С. П. С. о русских поэтах. СПб., 1885.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М., 1964. Т. VII.
Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. М., 1970.
Тойбин И. Н. Тревожная повесть. Воронеж, 1988.
Филиппович П. П. Жизнь и творчество Е. А. Боратынского. Киев, 1917.
Фризман Л. Г. Творческий путь Баратынского. М., 1966.
Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло; Верген; Тромсё, 1973.
Слова благодарности
Автор благодарит сотрудников Российской государственной библиотеки им. В. И. Ленина, Российской государственной исторической библиотеки за предоставленные для работы редкие книги, а также библиографа издательства «Молодая гвардия» Е. И. Горелик.
Оглавление
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАЗУВЕРЕНИЕ
Глава первая
МАРА
Глава вторая
НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА
Глава третья
В ПАЖЕСКОМ КОРПУСЕ
Глава четвёртая
КАТАСТРОФА
Глава пятая
ПОДВОЙСКОЕ
Глава шестая
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ
Глава седьмая
НА ФИНСКИХ БЕРЕГАХ
Глава восьмая
ПУСТЫНЯ ЖИЗНИ И САДЫ ЛЮБВИ
Глава девятая
ЭЛЕГИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Глава десятая
ГЕЛЬСИНГФОРС
Глава одиннадцатая
«СТИХИ ВСЁ МОЁ ДОБРО…»
Глава двенадцатая
ПРОЩЕНИЕ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СУМЕРКИ
Глава тринадцатая
ЖЕНИТЬБА
Глава четырнадцатая
В МОСКВЕ
Глава пятнадцатая
ПЕРВАЯ КНИГА И «ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ»
Глава шестнадцатая
«ГУБЕРНСКИЙ СЕКРЕТАРЬ ЕВГЕНИЙ БОРАТЫНСКИЙ»
Глава семнадцатая
МУЗА ЭПИКИ И ЛИРИКИ
Глава восемнадцатая
МЕЖДУ МОСКВОЙ И ТАМБОВОМ
Глава девятнадцатая
«ДАРОВАНИЕ ЕСТЬ ПОРУЧЕНИЕ»
Глава двадцатая
НА ИЗМЕНЧИВОЙ ЗЕМЛЕ
Глава двадцать первая
БОКАЛ УЕДИНЕНИЯ
Глава двадцать вторая
ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Глава двадцать третья
НА БЕРЕГАХ РЕКИ СУМЕРЬ
Глава двадцать четвёртая
ЭЛИЗИЙ ЗЕМНОЙ
ЭПИЛОГ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Е. А. БОРАТЫНСКОГО
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Слова благодарности