
Станислав Вольский
Завоеватели
I
20 мая 1474 года в городке Трухильо, в испанской провинции Эстремадура, было большое торжество. На это число приходился троицын день, а троицын день у благочестивых католиков пятнадцатого столетия считался одним из самых больших праздников. В этот день скотоводы пригоняли на трухильскую ярмарку, большие гурты рогатого скота и лошадей, а крестьяне ближних и дальних деревень привозили кур, свиней, гусей, домашние ковры, горшки и бочонки. В этот день крепостные приносили своим сеньорам — проживавшим в Трухильо помещикам — подати, установленные еще при дедах и прадедах: жирных индюшек, откормленных поросят, вино, мед, оливковое масло и несколько серебряных реалов
[1] впридачу. В этот день священник приходской церкви св. Георгия часа полтора считал медяки, брошенные верующими в церковную кружку, а купцы надрывали себе глотку, расхваливая свои товары, и натирали мозоли на пальцах, отмеривая сукно и полотно. И вполне понятно, что в троицын день все жители города пили, ели и плясали так, чтобы целый год было о чем вспомнить. Дворяне в один вечер пропивали все свои доходы, ремесленники проедали месячный заработок, и даже нищие заказывали себе на постоялом дворе бутылку доброго вина и похлебку из кишок.
Город был небольшой и неказистый на вид. Жило в нем десятка два купцов, сотни три ремесленников да человек сто дворян-помещиков с семьями. Трухильские дворяне уверяли, что знатнее их нет во всей Испании, но так как каждый испанский дворянин говорил то же самое, то никто им особенно не верил. Земли у них было мало, крепостных еще меньше, в карманах ни ломаного гроша. Но зато они хорошо владели оружием, и знатные гранды
[2] и даже сам король охотно нанимали их в свои армии. Войной и поборами со своих крепостных они только и жили. А когда прекращались войны и с крепостных нечего было взять, приходилось им ночью выходить на большую дорогу и подстерегать неосторожных путешественников.
Город был обнесен высокой, хотя уже довольно ветхой стеной, и попасть в него можно было только через ворота, которые отпирались на заре и запирались после захода солнца. Так было заведено по всей Испании, потому что страна кишела разбойниками и шайки их устраивали налеты не только на деревни, но и на города. В этот день разбойников как будто нечего было опасаться: даже самые смелые из них вряд ли решились бы напасть на эти тысячи людей, съехавшихся со всей округи. И потому городские ворота растворились еще до рассвета, и шумной толпой потянулись на городскую площадь пешеходы, всадники, телеги, лошади, бараны, быки, ослы и мулы. В девять часов там уже нельзя было протолкаться, и следившие за порядком альгвасилы
[3] сбились с ног и накричались до хрипоты, ловя карманных воров и разгоняя нищих.
Особенно шумно было в том углу площади, где крестьяне продавали привезенную на базар живность: кричали продавцы, кричали покупатели, кричали важные и потрепанные сеньоры, которые расхаживали по рядам и следили, не затесался ли среди продавцов какой-нибудь крепостной, утаивший от господина подать.
— Ты что же это, Хозе, ничего не привез мне к празднику господню? — тонким голосом кричал высокий тощий человек в дырявом плаще и со шпагой на боку.
Крестьянин, сняв шляпу, молча протягивал сеньору ощипанного гуся.
— А перья и пух где же? — возмущался сеньор. — Ты от меня одним гусем не отвертишься! Во-первых, ты женил сына. За разрешение на брак мне полагается две курицы. Во-вторых, три недели назад жена родила тебе двойню. За каждого новорожденного младенца мне полагается по курице. Значит, еще две…
— Да помилуйте, дон Карлос, — отвечал крестьянин. — Ведь оба они на третий день умерли, клянусь святым Антонио, умерли.
— И ты их похоронил? — спросил сеньор.
— Ну, конечно, похоронил.
— Значит, за разрешение на похороны еще две курицы. Итак, друг мой, мы насчитали уже шесть куриц. Где они?
Рядом шел спор о поросенке.
— Мой поросенок! — визжала на весь рынок пожилая крестьянка, вцепившись обеими руками в задние ноги кругленького, откормленного животного.
— Врешь, мой! — так же громко кричал дюжий кабальеро, успевший завладеть двумя передними ногами. — В грамоте моего прадеда ясно сказано: «И обязан двор Родриго Куэнья платить своему господину к рождеству двух боровов по двести фунтов весом и к троицыну дню одного борова такого же веса».
— Заплатила, клянусь пресвятой девой, все заплатила! — причитала женщина, не выпуская поросенка из рук.
— И на тридцать фунтов надула, клянусь пресвятой девой, надула! — не унимался сеньор, изо всей силы дергая поросенка за передние ноги.
Поросенок визжал на весь базар, сеньор кричал, женщина причитала. Через минуту за спиной спорящих появился альгвасил и строго произнес:
— За непотребное поведение платите по одному реалу штрафа с каждого!
От удивления и испуга женщина разжала руки. Задние ноги поросенка очутились на свободе. Сеньор рванул к себе добычу, сунул ее под плащ и быстро скрылся в толпе, а женщина начала ругаться с альгвасилом.
Посреди площади, как раз там, где кончались ряды телег и начинались ларьки с мануфактурой и галантереей, была поставлена высокая сорокаведерная бочка. На ней стоял тощий монашек, а рядом с бочкой сидел на стуле толстый бритый человек в белой рясе доминиканского (монашеского) ордена и перебирал пачку каких-то бумаг. Тонкий монашек пронзительным голосом возглашал на всю площадь:
— Слушайте, братья и сестры! Слушайте, братья и сестры! Его святейшество отец наш папа прислал из Рима почтенного отца Бартоломео. Отец Бартоломео привез с собой индульгенции. А индульгенция, как вы знаете, — это отпущение грехов малых и больших, грехов извинительных и грехов смертных. Отпущения эти подписаны его святейшеством и снабжены восковыми печатями. Всякому купившему индульгенцию по кончине его святой Петр отворит ключом своим райские двери и впустит его в рай невозбранно. Если далее самый большой грешник купит индульгенцию, ему нечего, бояться смерти: при жизни он получит прощение, а после смерти ангелы оденут его душу в райские одежды и поведут на такой пир, какой вам и не грезился. Покупайте индульгенции, покупайте индульгенции, покупайте индульгенции! Один дукат
[4] за штуку, один дукат за штуку, один дукат за штуку!
Около бочки собралась большая толпа. Люди перешептывались, считали деньги и советовались: купить или не купить.
— Больно уж они дорожатся, — говорил один. — Дукат — шутка сказать! За один дукат наш падре
[5] меня сорок раз исповедует и причастит, и прощение мне будет такое же. Если по два раза в год исповедоваться, и то на двадцать лет одного дуката хватит. А я, может быть, и всего-то пять лет проживу.
— Да ведь индульгенция-то с печатями, понимаешь — с печатями! — возражал другой. — Наш-то падре, может быть, и наврет, скажет: «Отпускаю грехи», а на самом деле не отпустит. А тут с печатями — значит, без обмана.
Через толпу протискалась толстая купчиха в праздничном шелковом платье и кружевной косынке. Подойдя к отцу Бартоломео, она смиренно склонила голову и спросила:
— Скажите, отец Бартоломео, индульгенция все грехи отпускает?
— Все, дочь моя, — внушительно отвечал отец Бартоломео.
— И торговые?
— И торговые.
— И родительские?
— И родительские.
— И сыновние?
— И сыновние.
— Так уж дайте мне одну штуку. Только вы туда все семейство впишите: и мужа Хозе, и дочь Мерседес, и сына Хуана.
— За все семейство одного дуката мало. Неужели ты думаешь, дочь моя, что святой Петр за один дукат всю эту ораву впускать будет? Что он тебе — лакей, что ли? Давай два, меньше не возьму…
Купчиха подумала и протянула два дуката. Но монах медлил. Он долго рассматривал ее с ног до головы, что-то соображая, и наконец, отодвинув деньги, решительно сказал:
— Нет, не могу. С тебя три дуката взять — и то мало.
— Что же, я человека убила? Или дьяволу душу продала? — обиженно залепетала купчиха.
— Чревоугодие у тебя великое, вот что, — внушительно объяснил монах. — Уж очень ты много ешь, а с каждым куском в тебя по дьяволу лезет. Ты подумай, сколько их в тебя налезло за сорок-то лет! А перед райскими дверями ангелы должны их всех из тебя выгнать. Неужели ты думаешь, что за два дуката ангелы станут с ними возиться?
— А в тебя сколько дьяволов налезло, отец Бартоломео? Ты тоже не худенький, наверное не меньше меня, потянешь, — возмутилась купчиха.
— Я вкушаю во славу божию, а ты во славу брюха, — отрезал отец Бартоломео. — Ну, за три дуката согласна, что ли?
— Разорил, совсем разорил! — причитала купчиха, протягивая три дуката.
Отец Бартоломео начал было вписывать в индульгенцию имена, но потом остановился и спросил:
— А тебе что отпустить — только грехи прошлые или также и будущие?
— И будущие, обязательно и будущие, — заторопилась купчиха. — А то что же, три дуката заплатила, а потом всю жизнь и оглядывайся, как бы не нагрешить? — Впрочем, отец Бартоломео, будущие грехи отпустите только мне и мужу. А детям не надо, а то, пожалуй, чего доброго, ограбят или убьют. Времена-то, сами знаете, какие!
— За будущие грехи еще один дукат, — сказал отец Бартоломео.
— Пропала я, совсем пропала! — взвизгнула купчиха. — Ну, уж бери, отнимай последнее!
Отец Бартоломео взял четвертый дукат и уже протянул было индульгенцию, как вдруг что-то вспомнил и отдернул руку.
— Тебе с какой печатью — большой или малой? — спросил он строго.
Купчиха смотрела на него, ничего не понимая.
— С малой печатью пускают только за райскую ограду, а с большой — в райский сад. За большую печать еще три реала, — объяснил отец Бартоломео.
Купчиха уже не могла больше ничего говорить, а, только обливалась потом и тяжко вздыхала. Наконец, подумав с минуту, вынула из кармана три реала и подала монаху. Отец Бартоломео прицепил к индульгенции большую восковую печать и отдал грамоту заказчице.
Положив индульгенцию за пазуху, купчиха отступила на два шага и закричала на весь базар:
— Грабитель, мошенник, христопродавец! Чтоб у тебя руки отсохли, чтоб ноги у тебя отняло, чтоб печенка у тебя сгнила, чтоб тебя повесили башкой вниз, окаянный! И ничего ты мне теперь не сделаешь! Грехи-то у меня все отпущены — и прошлые и будущие. Вот проткну тебе вилами брюхо, и ничего мне на том свете не будет!
Неизвестно, сколько времени ругалась бы купчиха и сколько времени отругивался бы отец Бартоломео, если бы на площади не началась вдруг суматоха. Между рядами телег скакал на муле какой-то крестьянин. Он нещадно колотил животное пятками и кричал:
— Едут! Едут!
— Кто едет-то? Кто едет? — спрашивали испуганные голоса.
— Граф, граф! — кричал крестьянин. — Дорогу, дорогу!
Разъяснений не требовалось. При одном слове «граф» всякий сразу понял, в чем дело. Граф Рибас жил недалеко от Трухильо. Получив в наследство замок и дюжины четыре крепостных, граф решил приумножить свое состояние: нанял с полсотни молодцов, вооружил их и разъезжал по округе, дочиста обирая всех, у кого было что отобрать. Иногда он уезжал за десятки миль и нападал на купеческие караваны, а если удавалось застать врасплох какой-нибудь маленький городишко, граф со своим отрядом врывался в него и грабил лавки и дома зажиточных людей.
— Запирайте ворота, запирайте ворота! — раздавались отовсюду крики.
Альгвасилы бросились к воротам. Торговцы поспешно уносили товары из ларьков. Бочку, на которой стоял тощий монашек, в суматохе опрокинули и вышибли из нее дно.
Отец Бартоломео остался на месте, растерянно переглядываясь со своим товарищем и крепко зажав в руке пачку индульгенций и кожаный кошель с деньгами. Скрыться было некуда: церковь, трактир, городская ратуша — все было забито народом. А чтоб дойти до дома какого-нибудь знатного сеньора, пришлось бы продираться сквозь толпу нищих и карманников. После этого у отца Бартоломео, наверное, не осталось бы ни одного реала и ни одной индульгенции.
Тощий монашек глазами показал на бочку:
— Полезайте, отец Бартоломео! Вы вперед, а я за вами.
Отец Бартоломео не заставил себя просить. Он сунул подмышку пачку с индульгенциями, зажал в зубах кошель с деньгами и, встав на четвереньки, пополз. Но он сейчас же застрял: бочка не вмещала его тучного тела.
— Скорее, дон Бартоломео, скорее! — торопил монашек.
Отец Бартоломео отдувался, пыхтел, скреб ногтями по дубовым дощечкам, но вперед не двигался. Тощий монашек не растерялся: упершись ногами в камень, он стал толкать грузную тушу доминиканца. Наконец дон Бартоломео стукнулся головой о верхнее дно бочки и изо всех сил закрякал, давая понять, что дальше двигаться некуда. Вслед за ним влез в бочку и тощий монашек, втянул ноги и прикрыл отверстие валявшимся тут же днищем.
А в это время на площади спешно готовились к обороне. Из городской ратуши кое-как протискался на крыльцо алькальд
[6] путаясь в длинной мантии, он кричал:
— Бегите за доном Гонзало Пизарро! Собирайте кабальеро! Бейте в набат! Булочники, медники, оружейники, торговцы — все к оружию!
Забили в набат. Лавки запирались. Купцы и ремесленники бежали за пиками, алебардами, латами и пищалями.
В квартале, где жили кабальеро, началась суета. Из домов выносили старое оружие, жены и домочадцы надевали на кабальеро шлемы, латы, стальные набедренники и нарукавники, прислуга оттирала песком заржавленные мечи, дети собирали груды камней, чтобы с городской стены осыпать ими осаждающих.
Не прошло и десяти минут, как на площади появился сам сеньор Гонзало Пизарро — краса и гордость города Трухильо. Это был человек лет сорока, небольшого роста, коренастый, гибкий, как кошка, с решительным, суровым лицом. С восемнадцати лет поступив в солдаты, он исколесил Испанию, Францию и Италию, и не было, кажется, ни одного короля или герцога, которому он не предлагал бы своих услуг, я ни одного места, где бы он не сражался. О его храбрости и жестокости ходили легенды. Рассказывали, что сам чорт бежал сломя голову, как только видел его щит, украшенный фамильным гербом. Там, где появлялся Гонзало Пизарро, чорту уже было нечего делать. А приходскому священнику Пизарро рассказывал на исповеди такие истории, что бедного старика потом весь вечер трясло, как в лихорадке.
При виде прославленного воина жители сразу приободрились. К Пизарро сбегались вооруженные ремесленники, кабальеро и купцы. Он быстро разделил их на отряды и каждому отряду поручил защиту отдельных участков городской стены. Себе он подобрал человек двадцать наиболее храбрых и опытных, чтобы оборонять с ними самый опасный пункт — городские ворота.
Пизарро отдавал направо и налево отрывистые приказания:
— Подтаскивайте к стенам камни! Варите смолу! Не забудьте припасти кипяток! Очистите городскую площадь!
Бросились сносить ларьки и палатки, чтобы ничто не мешало передвижению отрядов. Побежали к бочке и начали откатывать ее в сторону. Но бочка оказалась необыкновенно тяжелой и, несмотря на все усилия, не двигалась с места.
— Да в ней люди! — вдруг крикнул кто-то.
Приказав своему отряду итти к воротам, Пизарро быстро подошел к группе копошившихся около бочки людей.
— В бочке люди? — взревел он. — Это, наверное, шпионы графа Рибаса. Вытащить их и повесить!
Кожаный кошель сразу вывалился изо рта дона Бартоломео.
— Проклинаю, проклинаю! — раздался из бочки его грозный бас. — Кто коснется служителей церкви, да будет, анафема, проклят!
Не успел тощий монашек произнести «аминь», как и он и его начальник очутились уже на вольном воздухе, лицом к лицу с Гонзало Пизарро.
— А, вот это что за птицы! — воскликнул Пизарро, и глаза его загорелись насмешливым огоньком. — С индульгенциями приехали? Впрочем, кто вас знает — не то вы монахи, не то вы шпионы. Святые отцы по бочкам не прячутся. Арестовать их и отвести в ратушу!
— Святой Петр отплатит тебе… — начал было отец Бартоломео, но храбрый капитан не дал ему докончить:
— У тебя святой Петр, а у меня святой Яго, покровитель испанского воинства. И кто из них сильней, еще неизвестно. Ну, да с тобой я поговорю потом. Эй, вы! Свяжите-ка этим молодцам руки, отведите в ратушу и глаз с них не спускайте! А все остальные — по местам!
Монахов поволокли в ратушу, а Пизарро поспешил к городским воротам. Взобравшись на сторожевую башню, юн стал пристально смотреть на дорогу. Вдали виднелось облако пыли, которое быстро приближалось. Минут через пять уже можно было различить несколько темных фигур, скакавших впереди, а еще через пять минут стал ясно виден и весь отряд. Всадников было человек восемьдесят. Каждый из них был в полном вооружении. Лошади тоже были защищены: на головах их блестели стальные покрышки, на спинах красовались цветные попоны, прикрытые сверху стальным панцирем.
— Чудак же этот граф! — презрительно воскликнул Пизарро, обращаясь к своему помощнику, дону Бальтазару де-Каньяс. — Неужели он думал, что мы настежь распахнем перед ним ворота?
Но граф Рибас был не так глуп, как думал Пизарро. Правда, он надеялся, что издали его отряд примут за гурт лошадей и что городская стража перепьется по случаю праздника и, может быть, подпустит его к самым воротам. Но граф Рибас принял меры и на тот случай, если город придется брать штурмом: кроме всадников, он захватил с собой пехотинцев, которые не могли поспеть за кавалеристами и двигались на некотором расстоянии. Когда до города оставалось не больше полумили и Рибас увидел, что ворота заперты и на стенах расставлена стража, он дал сигнал, и отряд остановился. Всадники сошли с лошадей, разделились на четыре группы и стали чего-то ждать. Через несколько минут на горизонте показалось другое облачко пыли, двигавшееся очень медленно. Прошло не меньше четверти часа, прежде чем можно было различить, что это такое: ехало дюжины три подвод, и на них сидели вооруженные люди; некоторые подводы везли большие шесты с крючьями и длинные лестницы, употреблявшиеся при осаде крепостей.
— Восемьдесят человек пехоты, — сосчитал Пизарро. — Должно быть, граф надеялся на хорошую добычу, что набрал себе столько головорезов. Но на этот раз он просчитается. Сколько у нас людей?
— Семьдесят кабальеро, хорошо вооруженных, пятнадцать горожан с пищалями, двадцать с самострелами и сто пехотинцев с копьями, мечами и алебардами, — отвечал дон Бальтазар. — Силы почти равные.
— Нет, не равные, — надменно проговорил Пизарро. — Там — Рибас, а здесь — Пизарро. Значит, надо считать, что нас вдвое больше.
Рибас — его можно было издали узнать по белым перьям на шлеме — о чем-то совещался со своими приближенными. Вскоре от отряда отделился человек, несколько раз протрубил в трубу и стал медленно подходить к воротам. Шагах в пятидесяти от ворот он остановился, протрубил еще раз и изо всей силы стал выкрикивать:
— Мой повелитель, благородный граф де-Рибас, шлет привет знаменитому городу Трухильо! Он услышал, что вам досаждают разбойники, и предлагает вам свое покровительство. Все дороги, ведущие в город, он будет оберегать от злонамеренных людей, если вы будете уплачивать ему триста золотых дукатов в год. Но сначала вы должны ему заплатить восемьсот дукатов задатка. Если же вы на это несогласны, он возьмет город штурмом и расправится с вами без пощады. Он дает вам полчаса на размышление.
Пизарро побагровел. Перегнувшись в отверстие между башенными зубцами, он закричал так громко, что слова его донеслись до самого графа:
— На размышление нам довольно и одной минуты! Передай твоему господину вот что: я, капитан Гонзало Пизарро, вместе со своими доблестными трухильцами… искрошу в куски весь ваш сброд, если вы сейчас же не уберетесь восвояси! А если вы вздумаете подстерегать на дорогах тех, которые сюда приехали, то я завтра же брошусь на ваше гнездо, и от него останется только груда пепла!
— Пизарро и святой Георгий! — раздались крики воинов на городской стене.
— Пизарро и святой Георгий! — донеслось из города.
Над воротами взвились два знамени: знамя города Трухильо и знамя с гербом Пизарро, изображавшим единорога на красном поле.
Трубач удалился. Окружавшую графа Рибаса кучку охватило смятение. Ни Рибас, ни его наемники не ожидали встретить здесь такого грозного противника: они думали, что Пизарро еще не вернулся из похода, и его появление на городской стене было для них полной неожиданностью. Рибас хотел было ободрить свою дружину, но напрасно: разбойники, привыкшие иметь дело с безоружными путешественниками и неопытными в; военном деле горожанами, не решались помериться силами с знаменитым воякой. Возчики повернули подводы и настегивали лошадей. Всадники вскочили на коней и, не дожидаясь команды, поскакали обратно. Волей-неволей граф Рибас последовал за ними.
По приказу Пизарро, на прилегающие к городу дороги выслали несколько всадников, чтобы следить за отрядом Рибаса. Ворота растворили. Купцы и ремесленники сняли военные доспехи, и только десятка два кабальеро продолжали дежурить около ворот. Через час город опять принял свой прежний праздничный вид. Кричали продавцы и покупатели, альгвасилы ловили карманников, нищие тянули гнусавыми голосами: «Подайте милостыню; ради праздника господня!» Только отцу Бартоломео и его спутнику не удалось сразу вкусить плоды мира.
Пизарро не забыл о пленниках — он вообще не забывал ни о чем, из чего можно извлечь пользу. Окруженный шумной, ликующей толпой, он направился в ратушу и сейчас же приступил, к допросу.
— Ну, на сколько наторговал, святой отец? — обратился он к отцу Бартоломео, сидевшему на скамейке со связанными руками.
Бартоломео хмуро молчал.
— Давайте сюда его кошель! — приказал Пизарро и стал считать содержимое. — Пятнадцать дукатов и десять реалов! Ну что ж, святому Петру придется поделиться со святым Яго. Ведь не будь святого Яго и раба его, грешного Гонзало Пизарро, этих денежек его святейшеству папе не видать бы, как своих ушей. Одну треть оставим святому Петру, одну треть передадим святому Яго и одну треть испанскому воинству, нашим храбрым кабальеро. Но у святого Яго нет своей казны. Поэтому часть его перейдет мне, а священник нашей церкви отслужит святому Яго двенадцать благодарственных молебнов. Правильно я решил, сеньор алькальд?
Алькальд важно кивнул головой. Обтрепанные кабальеро, окружавшие Пизарро, закричали: «Слава дону Гонзало!» Отца Бартоломео и его спутника стали развязывать. Но, когда доминиканец, расправляя отекшие члены, направился к выходу, на плечо его легла тяжелая рука Пизарро.
— Не торопись, святой отец, — заговорил Пизарро. — Такие храбрые воины, как мы, заслужили заступничество святого Петра. Давай-ка индульгенций мне и вот этим кабальеро. И смотри, чтобы нам были отпущены все грехи — и извинительные, и смертные, и прошлые, и будущие!
Отец Бартоломео хотел что-то возразить, но, взглянув на Пизарро, понял, что сопротивление бесполезно. Он молча достал походную чернильницу и гусиное перо и стал вписывать в грамоты имена. Когда его наконец отпустили, он перекрестился, вышел на улицу и, сняв с ног сандалии, поднял их над ступенями крыльца и стал трясти.
— Отрясаю прах от ног своих! — проговорил он грозно, но так, чтобы не услышали кабальеро. — Да пребудет на городе сем проклятие святого Петра!
Стоявшая у крыльца толпа в испуге попятилась. Старушки охнули, мужчины стали читать молитвы. Отец Бартоломео и тощий монашек медленно вышли из города.
II
Через день после описанных событий над городом Трухильо занималось тихое и ясное утро. От тревог троицына дня не осталось и следа. Граф Рибас со своими молодцами уехал куда-то далеко. Нищие и карманники перекочевали в другой городок, где через два дня по случаю приходского праздника должна была состояться ярмарка. Кабальеро, прокутив все, что можно, отсыпались. Отсылались и купцы и ремесленники, у которых с похмелья болели головы, а руки никак не тянулись к работе. Даже петухи, кричавшие наперебой во всех концах города, не могли стряхнуть с людей непробудный сон.
Так же сладко, как и другие, спал дон Антонио, священник церкви св. Георгия. Он видел во сне, что его соседка принесла с базара необыкновенно жирного, петуха и стала жарить его на сковородке. Птица была соблазнительная и словно сама просилась в рот. Дон Антонио, почавкав губами, уже готовился было отведать кусочек, как вдруг и птица, и соседка, и сковородка куда-то провалились, и в ушах раздался пронзительный голос:
— Вставайте, дон Антонио! Беда стряслась, беда!
У кровати дона Антонио стоял церковный сторож и изо всех сил тряс своего начальника за плечи.
— Что такое, что такое? — вскрикнул спросонья дон Антонио. — Опять граф Рибас? Бей в набат, беги за Пизарро!
— Да нет, не то совсем! На паперти храма младенец лежит.
— Какой младенец? Зачем младенец?
— Ну, кто-то подкинул святому Георгию младенца. Куда мы его теперь денем?
Дон Антонио окончательно проснулся. Это было действительно большое событие, каких давно не случалось в Трухильо.
— Так и знал, — проговорил дон Антонио. — Проклял нас доминиканец, вот теперь и повалились несчастья!
Наскоро одевшись, дон Антонио поспешил к церкви и действительно увидел на паперти маленькое завернутое в простыню тельце. Ребенок был крепкий, здоровый и громко кричал. Дон Антонио взял его на руки и стал думать, что делать с ним дальше. Ничего не придуман, он наморщил лоб и обратился за советом к сторожу.
— Вот, Педро, какие дела бывают на свете, — жало! — но заговорил он. — Куда же нам его девать?
— Окрестить его надо, дон Антонио, а то, пожалуй, умрет некрещеный, — посоветовал сторож. — Я буду крестным отцом, а крестную мать я сейчас найду.
Минуты через три Педро вернулся с пожилой женщиной, лет сорока пяти. Тетка Кармен бережно взяла ребенка из рук отца Антонио, внесла его в церковь, приподняла над купелью, священник попрыскал на новорожденного водой, посыпал его солью, произнес полагающиеся молитвы, дал ребенку имя Франсиско, и крещение было кончено.
Тут-то и началось самое трудное.
Тетка Кармен передала младенца дону Антонио и направилась к двери. Дон Антонио крепко прижал к груди маленькое тельце и не решался двинуться с места, боясь уронить свою ношу. Бритые губы его кривились и дрожали, как будто он собирался заплакать.
— Куда же ты, Кармен? — крикнул он вслед уходившей женщине. — А я-то как же? Куда я с ним пойду?
— Известно куда, домой пойдете, — отвечала Кармен. — А мне некогда тут с вами возиться, у меня у самой дома десятимесячный ребенок кричит.
Кармен ушла, да и сторож куда-то юркнул. Дон Антонио остался один. Как и все католические священники, он не был женат, детей не имел и совершенно не знал, как обходиться с новорожденными. Наконец, путаясь в рясе и на каждом шагу останавливаясь, он двинулся к выходу.
Придя домой, он стал обдумывать, куда положить ребенка. Дон Антонио покосился на подушку. «Нельзя, испортит», подумал он. Поглядел на кровать. «Тоже нельзя, одеяло слиняет». Посмотрел на деревянный стол, где в беспорядке валялись толстые рукописные книги в кожаных переплетах. «На книги, пожалуй, можно, — решился было он. — Да нет, все чернила смажутся». Дон Антонио в нерешительности стоял посредине комнаты, а ребенок кричал все сильнее и сильнее и, казалось, вот-вот вывалится из рук. Наконец глаза дона Антонио остановились на большом покрытом дощечкой ведре, куда сбрасывались послеобеденные остатки. После минутного раздумья он положил на дощечку новорожденного.
— Ну вот, тебе тут хорошо, — с облегчением проговорил он. — Ну и вот, лежи и молчи! Пожалуйста, помолчи!
Дон Антонио принялся ходить по комнате, соображая, что ему теперь предпринять. Но маленькое существо не давало ему подумать. Оно пищало, ворочало ножками и минуты через две очутилось на самом краю дощечки.
— О пречистая дева! — простонал дон Антонио, бросаясь к ведру. — Как тебе не стыдно, Франсиско! Ты ведешь себя так, как будто в тебя вселилась нечистая сила! Я тебе спою песенку, я тебя покачаю на коленях, только, пожалуйста, не кричи!
Дон Антонио взял ребенка, присел на стул, положил беспокойное создание на колено, крепко вцепился в него и начал подбрасывать его кверху, напевая церковный псалом.
За окном послышался смех. Сбежавшиеся со всех сторон любопытные кумушки то и дело заглядывали в окно и сейчас же прятались обратно. Но одна женщина оказалась смелее прочих. Она проторчала у рамы с полминуты, потом исчезла, и вслед за этим на пороге комнаты дона Антонио показалась Кармен с багровым от гнева лицом.
— Вы что же это делаете, дон Антонио? — закричала она. — Ведь вы этак из ребеночка все кишки вытрясете! Глядите, он совсем посинел, клянусь пресвятой девой, посинел. Давайте его сюда, нечего вам его мучить!
Дон Антонио смущенно протянул к ней ребенка. Кармен схватила новорожденного, приблизила его ротик к своей груди, и писк сразу смолк.
— Слава пречистой деве! — облегченно проговорил дон Антонио, отирая ладонью катившийся по лицу пот. — Ты хорошая женщина, тетка Кармен, очень хорошая женщина. Я отслужу заупокойную обедню по твоим родителям. А если ты возьмешь его к себе, я из церковных сборов буду платить тебе по шесть реалов в месяц.
Кармен ничего не ответила, подхватила ребенка и унесла к себе. Так и остался маленький Франсиско в семье Кармен Бланка, трухильской прачки, матери двенадцати детей.
Дней пять в Трухильо только и говорили что о подкинутом младенце. Сначала никак не могли догадаться, откуда он взялся, а потом узнали, что у Хуаниты, молодой жены Гонзало Пизарро, должен был появиться ребенок, но почему-то не появился. Потом какая-то старушка сообщила, что 22 мая, перед рассветом, она видела, как Хуанита вышла из дому со свертком в руках. Наконец загадка окончательно разрешилась. Капитан Гонзало Пизарро как-то подвыпил на постоялом дворе и, стукнув кружкой о стол, крикнул:
— У, меня от покойной жены трое оболтусов осталось. С меня довольно. Я сказал Хуаните, что больше не хочу. «А если родишь мне ребенка, в гроб вгоню», сказал я. Ну, так и не было ребенка. А если он, не дай бог, у меня появится, раньше времени в ад пойдет тот, кто его ко мне принесет.
Жители Трухильо сразу поняли, куда метил капитан. Смельчака, который бы напомнил Пизарро о его подкинутом сыне, в Трухильо не нашлось. Падре Антонио хотел было сказать в церкви проповедь насчет того, что очень плохо подкидывать младенцев на церковную паперть, но, когда передали ему слова Пизарро, раздумал — уж очень не хотелось ему итти в ад раньше времени.
Дни и месяцы летели быстро. Через три года маленький Франсиско превратился в здорового, крепкого мальчугана с быстрыми, лукавыми глазенками. Кармен аккуратно получала свои реалы, и падре Антонио раза два в неделю заходил к ней, трепал Франсиско за подбородок, гладил по голове и дарил на прощанье то кусок жареной курицы, то гусиное перо, то медную пуговицу. Гонзало Пизарро уехал в поход, и года два о нем ничего не было слышно. Наконец он вернулся, пополневший, обрюзгший, в щегольском бархатном костюме и на прекрасной молодой лошади. Ему повезло: при взятии какого-то итальянского города он ворвался к одному богатому меняле и подхватил сундук с деньгами, который тот не успел спрятать. Правда, по пути в Испанию из денег этих утекло больше половины, но все-таки и осталось немало. Пизарро купил себе небольшой клочок земли неподалеку от города, табун лошадей, штук двадцать свиней, штук двести овец и зажил привольно.
Как-то раз, в теплый осенний вечер, Пизарро пошел проведать свою ферму, находившуюся всего в полумиле от городской стены. Ему захотелось обойти ее кругом. Приблизившись к воротам, он свернул за угол и направился вдоль высокой каменной ограды, окружавшей его владения. За следующим поворотом он остановился. Шагах в тридцати от него карапуз лет шести стоял у стенки и делал какие-то странные движения. Пизарро вгляделся пристальней и понял, в чем дело: карапуз пришел воровать яблоки. Но так как ограда была для него слишком высока, он снял поясок из тесьмы, сделал на конце его петлю и старался накинуть ее на гвозди, которыми был утыкан верх ограды. Наконец это ему удалось. Он попробовал, крепко ли держится тесемка, а потом с удивительной для его возраста ловкостью взобрался на стену и исчез в саду, захватив с собой поясок. Пизарро решил посмотреть, как справится малыш со своей задачей. Минут через пять карапуз снова появился на стене с мешочком наворованных яблок, сбросил мешочек на землю, а за ним спрыгнул и сам.
— Ловкий, чертенок! — пробормотал Пизарро и приказал мальчику остановиться.
Но мальчик был не из робкого десятка. Вместо того чтобы бросить мешок и застыть на месте, как сделали бы все трухильские дети при виде страшного Гонзало, карапуз взвалил добычу на спину и бросился бежать со всех ног. Пизарро побежал за ним. Карапуз увидел, что погоня близится, и решил защищаться. Он бросил мешок на землю, достал яблоко и изо всех сил пустил им в Пизарро. Удар был меткий: яблоко угодило прямо в лоб. Пока Пизарро добежал до своего маленького противника, в голову его попало четыре яблока: ни один заряд не пропал даром.
«Из этого постреленка выйдет толк», подумал старый воин.
Вместо того чтобы надавать преступнику пощечин, Пизарро взял малыша за руку и сказал:
— Ого, какой ты храбрый! Как тебя зовут и кто твой отец?
— Отца у меня нет, — смело отвечал малыш. — А живу я у тети Кармен, и зовут меня Франсиско.
— Ах, вот ты кто! — проговорил Пизарро и стал пристально вглядываться в мальчика. — В меня, весь в меня! — повторил он и задумался.
— Ну, а если бы у тебя нашелся отец, пошел бы ты к нему? — вдруг спросил он.
— Нет, не пошел бы, — серьезно отвечал Франсиско. — Отцы все дерутся, а я еще маленький.
— А если бы ты был большой, пошел бы?
— Пошел бы, я сам стал бы с отцом драться, — не задумываясь, отвечал малыш.
Пизарро захохотал и пошел в город вместе с карапузом, так и не отняв у него яблок. На следующий день он пришел к тетке Кармен и долго о чем-то говорил с ней, а еще через день зашел к дону Антонио, приказал записать в книгах подкидыша Франсиско под именем Франсиско Пизарро и взял мальчика к себе.
Для шестилетнего Франсиско началась новая жизнь.
Нельзя сказать, чтобы она была очень сладка, эта новая жизнь. Все в городе боялись дона Гонзало, и даже из наиболее почетных кабальеро редко кто к нему заходил. В доме Пизарро было тихо, как в монастыре: старшие братья Франсиско с раннего утра старались убежать куда-нибудь подальше с отцовских глаз, а мать почти все время молчала, и Франсиско только два слова и слышал от нее: «потише» и «молчи». Братья сторонились его: ведь еще недавно все городские мальчишки дразнили Франсиско «подкидышем», а теперь этот подкидыш сидел за отцовским столом и ел отцовский хлеб. Да и Франсиско не мог привыкнуть ни к своим новоявленным братьям, ни к молчаливой матери, ни к суровому капитану, который, как будто совсем не замечал его присутствия. Он скучал по добродушной и болтливой тетке Кармен, кормившей его по праздникам жаренными на сале лепешками; скучал по добродушном доне Антонио, который так часто рассказывал ему занимательные истории об Адаме и Еве, и о том, как случился на земле потоп, и о том, как черти дерутся с ангелами. Один раз дон Антонио, зайдя к Гонзало Пизарро, предложил обучать мальчика чтению и письму. У Франсиско заблестели глаза. Но старый капитан строго взглянул на священника и отрезал:
— Незачем ему ни читать, ни писать. Дворянину нужна не наука, а шпага и добрый конь. Сначала Франсиско будет пастухом, потом солдатом, а там, может быть, и генералом. И больше чтобы я об этой чепухе не слышал, дон Антонио!
Дон Антонио отвесил низкий поклон и больше не приходил.
Три года пришлось Франсиско проскучать под отцовской кровлей. Весной 1483 года ему исполнилось девять лет. В равнинах началась уже жара, — и пора было перегонять скот на прохладные горные пастбища. Каждый день по городским улицам и прилегающим к городу дорогам шли табуны овец и стада коров и лошадей, направляясь к далеким холмам, что темной полоской синели у горизонта, Каждый день говорили на улицах: «А сегодня прошел табун дона Бальтазара!», «А завтра дон Себастиан отправляет в горы двести лошадей!» И Франсиско казалось, что все эти люди и животные идут в сказочные страны, где и солнце другое, и люди другие, и на каждом дереве зреют сотни золотых яблок, и в каждом дупле желтеют пахучие медовые соты. «Вот если бы и мне туда же! — мечтал он по вечерам, ворочаясь на жесткой дощатой кровати. — Наелся бы и нагляделся бы я там всласть!»
И вдруг мечта его исполнилась. Ранним утром отец позвал его с улицы и сказал:
— Ну, Франсиско, ты теперь уж большой. Пора тебе научиться ездить верхом и сторожить коней. Ты поедешь в горы вместе с моим табуном и будешь под началом у старика Педро. Он хороший пастух и всему тебя научит. Собирайся!
Сборы были недолгие. Мать наскоро напекла лепешек, положила их в мешок вместе с овечьим сыром и двумя бутылками разбавленного водой красного вина, завязала в узелок пару рубашек, и — Франсиско тронулся в путь. Это был самый веселый день за все последние три года. Франсиско, шедший рядом со стариком Педро, глядел и не мог наглядеться, дышал и не мог надышаться, смеялся и не мог насмеяться. Ему казалось, что никогда еще не светило так ярко солнце, никогда не дул так нежно степной ветерок.
А что будет там, в горах, где водятся волки и медведи, где в расщелинах скал прогуливаются лешие! Франсиско всех их увидит и, конечно, всех их одурачит и поборет!
— А что, Педро, горные духи очень страшные? — спрашивал он пастуха.
— Вот как трахнут они тебя по голове, так сам увидишь, страшные они или нет, — загадочно пробурчал пастух.
Через два дня начались горы. Были они совсем небольшие, но Франсиско казалось, что выше их не бывает на свете. Лешие и русалки, как нарочно, куда-то попрятались. Зато в густых зарослях справа и слева от дороги слышался треск ветвей, ломавшихся под тяжелыми медвежьими лапами, а по ночам доносился издалека зловещий волчий вой. А когда наконец стадо дошло до обширных горных лугов, перед Франсиско развернулись целые поля спеющей земляники и заросли черники. Все это можно было есть с утра до вечера! Это была действительно хорошая страна, совсем не похожая на душный и скучный Трухильо!
Обучение Франсиско подвигалось быстро. Через неделю он уже гарцевал на старой смирной кобыле, а через месяц Педро дал ему молодую и резвую лошадку, на которой можно было не только объезжать свои пастбища, но и ездить в гости к соседним пастухам. К осени Франсиско стал одним из лучших объездчиков. Он умел быстро собрать табун в одно место, знал излюбленные логовища медведей, хорошо различал звериные следы, даже подстрелил из лука матерого волка. Когда наступила осень и стадо вернулось в равнину, Педро дал хозяину отчет и с восторгом описывал успехи своего ученика.
— Даже самые старые и злые овчарки слушаются его, дон Гонзало, — говорил он. — Взять хотя бы Бланку. Меня она и в грош не ставит, а как только Франсиско свистнет ее, она к нему летит стрелой и готова броситься хоть на десяток волков. Из мальчонки выйдет толк, дон Гонзало.
Пизарро самодовольно расправил усы.
— У меня зоркий глаз, Педро. Когда я в первый раз увидел карапуза и он саданул меня яблоком прямо в лоб, я тут же сказал себе: из этого дьяволенка выйдет толк. А старые солдаты редко ошибаются.
III
Так прошло девять лет. Каждый год Франсиско уходил весной со стадами в горы и возвращался в Трухильо лишь поздней осенью. С братьями он не очень ладил, с городскими подростками тоже. «Разве вы что-нибудь понимаете? — говорил он им. — Волка затравить не умеете, от медведя бежите, попадете в горы — заблудитесь. Далеко вам до Франсиско Пизарро!» И сверстники его решили, что Франсиско — гордый, хитрый, весь в отца, и что такому парню пальца в рот не клади. Во всем городе только один друг и был у Франсиско — старый дон Антонио. Франсиско частенько заходил к нему, и падре читал ему старые книги, где рассказывалось о далеких путешествиях, необыкновенных странах, приключениях рыцарей, битвах и осадах городов Франсиско слушал с раскрытым ртом, а потом всю ночь видел во сне, как он во главе отряда штурмует крепость или завоевывает целое царство.
И вот опять наступил веселый троицын день. В этом году он пришелся на пятнадцатое мая, как раз накануне того дня, когда надо было выгонять скот в горы. В знойной Испании лето наступает рано, и на лугах около города трава уже потеряла свой свежий весенний блеск, цветы отцвели, и над стадами роями носились мучители-оводы.
— Пора, пора! — торопил старый Педро. — Бланка начала по ночам выть, а это верный знак, что надо итти в горы.
— Еще через день, — сказал Гонзало Пизарро. — Выгнать скот после духова дня — все лето будет удача. Это верная примета.
Так и порешили.
Последний день гулял Франсиско Пизарро в родном городе. Он стал крепким смуглолицым девятнадцатилетним парнем, с легкой походкой и быстрыми, кошачьими движениями. Он был силен и ловок, и редко встречались люди, которых бы он не поборол. Он мог выпить, не пьянея, шесть бутылок старого крепкого вина, но пить не любил, а больше любил слушать, что говорят люди, и наблюдать, как и что они делают. Девушки засматривались на него, но он не обращал на них внимания и казался погруженным в свои мысли. «Гордый, гордый Франсиско Пизарро, весь в отца, — повторяли трухильцы. — А гордиться бы ему и не пристало: куртка в заплатах, плащ весь в дырах, людей угостить не на что. Да и после смерти отца все перейдет к старшим братьям, и достанется ему ломаный грош».
Франсиско это отлично знал. В троицын день, когда все кругом ели, пили и веселились, он один ходил мрачный и нахмуренный. «Сейчас у меня в кармане три реала, — думал он. — И через год будет три реала. И еще через год будет три реала. Так всю жизнь и прохожу полунищим. Не стоит так жить. Разве разбойником сделаться? Только повесят скоро. А может быть, и не повесят?»
— Эй, красавец, давай-ка сюда руку, я тебе погадаю, — раздался вдруг сзади него голос. — Все скажу, чего сердце хочет, и что в жизни найдешь, тоже скажу.
Франсиско оглянулся. За ним стояла старая, сгорбленная цыганка и смотрела на него, как ему показалось, особенно пристальным взглядом. Франсиско, как и все люди того времени, был суеверен. Он твердо верил, что-все цыганки — ведьмы и что сатана по дружбе открывает им будущее. Он
незаметно перекрестился под плащом, чтобы не сглазила старуха, и протянул цыганке руку.
— Ну, гадай, старая, — сказал он. — Только больше трех мараведи
[7] не дам.
— Большое будет у тебя счастье, — затараторила нараспев старуха, рассматривая ладонь юноши. — Хочешь ты денег — много будет у тебя денег. Ой, много! Золото будешь пригоршнями бросать, а на серебро и смотреть не захочешь. Станешь большим человеком, и кого захочешь — казнишь, кого захочешь — помилуешь. И красавиц у тебя будет много, ой, как много будет! Одна будет черная, другая белокурая, третья рыжая. Каких захочешь, такие и будут. И дети у тебя будут все красавцы, один к одному. А проживешь ты долго, так долго, как и не думаешь. Только опасайся двух людей: одного с черным глазом, другого с серым. А чтобы все исполнилось, что я сказала, дай еще два мараведи!
Франсиско не знал, что цыганка всем молодым людям говорила то же самое, потому что все они желали богатства, славы и красивой жены. Он думал, что только на его руке прочла старуха такую замечательную судьбу. Он дал ей пять мараведи и сразу почувствовал себя спокойнее. Пошатавшись по площади, Франсиско зашел на постоялый двор.
Там было людно и шумно. Все скамейки оказались заняты. Особенно много народу собралось около одного стола, за которым сидел высокий загорелый человек, что-то оживленно рассказывавший. То, что он говорил, по-видимому, было очень интересно, потому что за спиной сидевших тесным кольцом стояли слушатели, стараясь не проронить ни одного слова.
— Кто это? — спросил шепотом Франсиско, протискавшись к столу.
— Солдат из отряда Колумба, — отвечал сосед. — Говорят, они за морем Индию открыли, вот он оттуда прямо и приехал.
— Ехали мы долго, — продолжал рассказ приезжий солдат. — Ехали, ехали и вдруг попали в такое место — ни туда, ни сюда. Не вода, а студень. Даже и не студень, а какая-то зеленая каша. Сунешь в нее весло, оно так торчмя и стоит. Ну, и застряли мы тут. Дней, наверное, восемь простояли, пока не поднялся шторм и не унес эту зеленую нечисть. А были это просто водоросли. Едем, а земли нет и нет. Уж все мы съели, даже солонина на исходе, и пресной воды чуть-чуть осталось. Капитан ходит хмурый, ругается, монахи день и ночь молебны служат, а толку никакого не видать… Наконец рано утром с мачты кричит вахтенный матрос: «Земля! Земля!» И в самом деле, оказалась земля — большущий остров, пальмы на нем растут и голые люди ходят.
— Вот бесстыжие-то! — крикнул один из слушателей.
— Некрещеные, оттого и голые, — пояснил солдат. — Ну, мы сейчас махнули на шлюпке на берег и начали дикарям рассказывать, кто мы такие. «Мы, — говорим, — из Испании, а в Испании могущественный король, и сильнее его на свете нет». Дикари не понимают. Тогда мы привезли им с корабля цветных бус и показываем. А это, мол, вы понимаете? Поняли и просят еще. Мы стали знаками показывать, что есть хотим. Они тут же натащили нам фруктов. Пресвятая дева! Таких фруктов мы в Испании и не видывали, и слов у нас таких нет, чтобы их назвать. Разве, может быть, только в раю такими фруктами кормят святых, да и то не всех, а по выбору. Ну, поели мы, отдохнули, отслужили молебен, испанское знамя поставили, чтобы кто другой эту землю не захватил, и начали дикарей разглядывать. Смотрим — у них в ушах желтые серьги, а на шее желтые ожерелья. И что бы вы думали? Серьги-то и ожерелья из чистого золота!
— Ну и чудеса! — недоверчиво проговорил кто-то из слушателей. — Как же это — ходят голые, а золотые ожерелья носят? Я думал, они бедные, рубашки не на что купить, а оказывается, они богатые!
— Ты рубашек там не найдешь, хоть весь остров исходи, — толковал солдат. — Говорю тебе, некрещеные они, оттого и рубашек нет. Ну, так вот, наменяли мы у них на бусы целые пригоршни золота, запасли пресной воды, мяса, фруктов и поехали на другой остров. А этих островов там так много, как в старой шубе блох. Опять поставили знамя, отслужили молебен и золота наменяли. А потом подъехали к большущей земле и там увидели то же самое. Только мы до сих пор не знаем, остров это или материк. Может быть, это самая главная Индия и есть.
Долго рассказывал солдат о неведомой стране и о том, как они приехали обратно и как Колумба принял сам король. Солдат показал блестящее золотое ожерелье, какие носят индейцы, а потом вынул из кармана большую золотую серьгу и заказал вина на всю компанию.
Франсиско трясло, как в лихорадке. Он забыл о горах, о пастбищах, о лошадях, об отцовском доме и думал только об одном: как бы попасть в эту далекую страну. Но в этот день ему не удалось расспросить как следует солдата: солдат скоро охмелел и тут же, на скамейке, заснул мертвецким сном. Боясь упустить своего нового знакомого, Франсиско остался ночевать в кабачке и всю ночь не мог сомкнуть глаз, думая о заморских путешествиях. «Вот куда надо отправиться! — мечтал он. — Вот там-то и сбудется то, что нагадала мне цыганка».
Когда солдат проснулся, Франсиско услышал от него еще более интересные вещи. Солдат рассказал, что скоро поедет в неизвестные страны вторая экспедиция и что для нее уже набирают в Севилье людей. Берут только здоровых, ловких и смелых, которые не боятся ни чорта, ни его бабушки. Платят по четыре реала в день на всем готовом. Главное, конечно, не жалованье, а туземцы. Они — золотое дно. От них можно так нажиться, как ни на какой войне не наживешься.
— Поезжай, парень, с Колумбом, — советовал на прощанье солдат. — Весь век будешь меня благодарить.
Вечером Франсиско пошел к дону Антонио, передал ему все, что слышал, и сказал, что решил ехать.
— Отцу я ничего не скажу, — добавил он. — Отец не пустит: он хочет, чтобы я шел в солдаты. Завтра утром я буду уже далеко — ищи ветра в поле!
Старик поохал, пожевал губами и сказал:
— Ну что ж, Франсиско, поезжай. Может, и пошлет тебе святой Георгий счастье. Тогда и меня, старика, не забудь.
Дон Антонио подошел к заветному шкафчику, вынул оттуда тряпочку, из тряпочки старый чулок, из чулка две серебряные монеты по полдуката и подал их Франсиско.
— На-ка, возьми на дорогу, — сказал он. — Дон Гонзало-то ведь не очень щедр; наверное, в кармане у тебя пусто, как в норе у церковной мыши. Ах, самое главное я и забыл!
Дон Антонио опять подошел к шкафчику и вынул из ящика маленький предмет, зашитый в грязный лоскуточек, прицепил его к тесемке и надел на шею Франсиско, но так, чтобы предмет этот приходился не на шее, а на спине.
— Это амулет, — пояснил он. — Тут зуб семидесятилетней колдуньи, смазанный волшебной мазью. Предохраняет от дурного глаза, стрел и змеиного яда. Только носи его на спине, а отнюдь не на шее. Ведь на шее-то у тебя висит образок святого Франсиско. Если повесишь амулет рядом с образком, вся его волшебная сила пропадет. Ну, прощай, и да хранит тебя пресвятая дева!
Франсиско вышел из Трухильо как раз перед тем, как запирали городские ворота. Утром он был уже далеко. До самого полудня искал его по городу Педро, но парень канул, как в воду. В полдень дон Гонзало сказал:
— Нечего больше ждать. Первый день после духова дня — самый счастливый день для выгона в горы. А парень, наверное, загулял. Когда придет, две шкуры с него спущу!
Но ни одной, ни двух шкур спускать с Франсиско не пришлось: Франсиско Пизарро исчез бесследно, и больше в Трухильо о нем ничего не слышали.
IV
В конце пятнадцатого столетия Севилья была самым большим городом Испании. Она находилась недалеко от моря, на берегу большой реки, и купцы ее торговали и с северными странами, и с мусульманскими государствами африканского побережья, и с богатой Италией, и с Турцией. Кто только не толкался на ее набережных! Арабы в белых чалмах, привозившие пряности; иностранные офицеры, набиравшие солдат для своих армий; безработные матросы, искавшие службу; капитаны морских судов, побывавшие во всех частях известного тогда света; ловкие проходимцы, обдувавшие богатых дурачков; наемные убийцы, готовые за десять реалов подколоть кого угодно, — все они тянулись в Севилью. Сюда же направлялись и предприимчивые смельчаки, снаряжавшие экспедиции в малообследованные области земного шара, ибо только в Севилье да еще, пожалуй, в Генуе могли они найти богачей, которые дали бы средства на такие рискованные предприятия. Здесь же действовали и помощники Колумба. В Кадиксе они строили корабли для его второго путешествия, в Севилье набирали матросов и солдат.
С бьющимся сердцем подходил Франсиско к знаменитому городу, о котором он столько слышал. Вот уже показались высокие зубчатые каменные стены, а из-за них сверкнули крытые глазированной черепицей купола соборов и церквей. По дороге двигались бесчисленные обозы с сукнами, шелковыми материями, вином, оливковым маслом и кипами шерсти. Погонщики, переругиваясь, гнали стада овец и лошадей. На статных, богато убранных конях ехали важные гранды, и тут же трусили мелкой рысцой на тощих одрах мелкие дворяне, с трудом пролагая себе путь среди толп нищих, пригородных крестьян, ремесленников и странствующих монахов. В городских воротах была такая давка, что Франсиско чуть не сбили с ног.
Наконец он очутился на узкой уличке, ведущей к центру города. Пройдя квартала два, он увидел на перекрестке странную процессию, пересекавшую улицу. Впереди шли, с трудом передвигая ноги, три фигуры, одетые в широкие белые балахоны. Руки у них были скручены веревкой, лица закрыты куском белого полотна с вырезами для глаз, на головах торчали острые белые колпаки. Их окружало человек пять солдат, а за солдатами шли двенадцать доминиканских монахов во главе с их начальником, по-видимому настоятелем монастыря. Монахи пели заунывный гимн, который поется на похоронах, и следовавшая за ними огромная толпа тихо вторила хору.
— Что это такое? — спросил Франсиско соседа.
— Сегодня святая инквизиция жжет на костре трех еретиков.
При слове «инквизиция» Франсиско невольно вздрогнул. Он много слышал об этом страшном церковном судилище, которое разыскивало и предавало казни ведьм, колдунов и отступников от христианской веры. Судьи его раза два побывали и в Трухильо, но Франсиско, проводивший большую часть года в горах, ни разу еще не видал инквизицию за работой. Он пошел вслед за процессией.
 Аутодафе в Испании.
Аутодафе в Испании.
Дойдя до площади, где возвышался знаменитый севильский собор с его тысячей колонн, процессия остановилась. Посредине площади был сложен из дров и сухих ветвей костер, на верхушку которого вела маленькая лестница. В центре костра был укреплен толстый деревянный столб. Солдаты взяли под руки осужденных и повели их по лестнице. Осужденные не сопротивлялись. В течение трех дней их подвергали таким мучительным пыткам, что теперь они вряд ли даже сознавали происходящее. Осужденных приставили к столбу и крепко привязали к нему веревками. Солдаты сошли с костра. Над примолкшей толпой отчетливо пронесся голос настоятеля:
— Каешься ли ты, Эрнандо Перес, в том, что, приняв христианскую веру, ты, по внушению дьявола, снова вернулся к обычаям иудейской религии?
Привязанный к столбу человек молчал.
— Каешься ли ты, Хуана Бласко, в том, что с помощью дьявола отнимала молоко у коров и продавала волшебные амулеты, предохраняющие от чумы и яда?
Франсиско похолодел, вспомнив о висевшем у него на спине амулете. Дрожащим, едва слышным голосом женщина отвечала:
— Клянусь пресвятой девой, не отнимала. А амулеты купила на рынке у алжирского пирата.
— Теперь клятвы бесполезны. Ты под пыткой призналась в своем злодеянии. А ты, Мерседес Оливарес, каешься ли в том, что втайне обратилась к вере нечестивых мусульман и вступила в договор с дьяволом и, каждую пятницу вылетала из трубы верхом на помеле?
Женщина заговорила быстро, захлебываясь, как будто в бреду:
— Грешная я, грешная, грешная… У мавров, проклятых мусульман, белье стирала, за коровами ходила. По пятницам нечистое мясо у них жрала. И каждую неделю во сне приходил ко мне сатана. Приходил, приходил, приходил, и деньги показывал, и звал к себе. Помело, помело, помело, чисто метет, высоко летает…
Женщина на минуту остановилась и вдруг заголосила на всю площадь:
— Деточки, мои деточки! Куда вы денетесь без меня, мои милые крошки? Карменсита, Ниэвес, Эрнандо! Сжалься над ними, пресвятая дева! Накажи меня, грешную, проклятую, а их-то за что же? Матерь божия, их-то за что же? Ведь они…
Женщине не дали договорить. Настоятель поднял распятие.
По этому знаку солдаты поднесли к костру горящую, облитую смолой паклю, и дрова запылали. Монахи громко запели похоронный псалом, заглушавший стоны жертв. Высоко к небу взвились языки пламени, а густой черный дым скрыл от глаз и столб и привязанных к нему людей. Скоро середина костра обвалилась, почерневшие трупы исчезли под грудой угля, и толпа стала расходиться. Погибших никто не жалел.
Колдуны и еретики, отступившие от католической веры, должны погибнуть в огне — в этом не сомневался Никто из присутствовавших.
Франсиско тоже в этом не сомневался. Судьба сожженных его мало трогала. Но он решил снять со спины амулет и зашить его в куртку на самом незаметном месте. Через полчаса он уже забыл о казни и весело ходил по улицам, прислушиваясь к разговорам прохожих. А разговоры эти были интересные. Весь город толковал о новом путешествии Колумба и о чудесах открытой на западе Индии. Матросы высчитывали, сколько там можно заработать; оборванные дворяне клялись, что все как один поступят на службу к Колумбу и потом на индейское золото скупят половину Испании; севильские купцы уверяли, что в один год сбудут в новых испанских владениях все товары, завалявшиеся на их складах. А люди понахальней уговаривали менял дать им в долг небольшую толику, — ведь они все, до последнего гроша, выплатят из своих будущих доходов!
Вернувшись на родину, спутники Колумба далеко разнесли сведения о новых странах. О неисчерпаемых богатствах открытых островов рассказывали в каждом кабачке. А так как каждый старался к слышанному прибавить что-нибудь от себя, то из маленьких небылиц слагались сказки. Осторожный Франсиско понимал, что не все в этих россказнях правда. «Но ведь если даже половину откинуть, — думал он, — и то достаточно для бедного человека. Голых дикарей только дурак не победит, и если захватить какое-нибудь индейское княжество, то оно, право, будет лучше, чем отцовская ферма».
Целую неделю ходил Франсиско по городу, выспрашивал бывалых людей. Его не интересовали ни чудесные здания мавританской постройки, ни севильские красавицы, ни костры инквизиции, ни пышные выезды грандов. Он все старался понять — где же эта Индия и как там живут? Колумб говорит, что земля — шар и что если поедешь из Севильи на запад, то попадешь в Индию, а если поедешь оттуда опять на запад, то вернешься обратно. Но, если так, значит на другой половине шара люди ходят вниз головой, как мухи по потолку? А вот Колумбовы солдаты ходили, как обыкновенно. И потом насчет золота: если там так много, зачем было выменивать его у дикарей? Не проще ли набрать целый корабль — и домой?
На эти вопросы Франсиско ни от кого не мог получить толкового ответа. «Поеду сам и все узнаю», решил он наконец и отправился к вербовщикам.
Их было двое. Плутоватые, с бегающими, воровскими глазками, они походили не то на кабатчиков, не то на тех пронырливых писцов, которые толкутся около судов и за один реал строчат прошения неграмотным. Это были как раз те люди, против которых великий адмирал, Христофор Колумб, предостерегал своего ближайшего сотрудника, архидьякона Фонсеку, навязанного ему королем. «Вербовщики должны быть честные, — говорил адмирал, — и должны они набирать отважных солдат и честных колонистов-земледельцев, способных заселить и возделать новые земли». Хитрый архидьякон кивал головой и вспоминал намеки короля Фердинанда. Король, не желавший ссориться со своей супругой, не давал Фонсеке прямых приказов, но по отдельным, вскользь брошенным фразам легко было догадаться, чего он хочет от архидьякона. «Испанская корона дала Колумбу слишком много прав и привилегий, не выгодных для казны», «Сеньор адмирал, пожалуй, не прочь был бы сделаться индейским королем», «Если бы даже нашего адмирала постигла неудача, у нас нашлись бы опытные моряки, способные докончить его дело». Эти фразы, как будто случайно слетавшие с королевских губ, ясно показывали Фонсеке, как он должен выполнять порученное ему дело. В недомолвках Фердинанда, в его хмурых взглядах, в тоне его голоса опытный царедворец прочел приблизительно следующий наказ: «Нужно сделать так, чтобы второе путешествие Колумба кончилось неудачей. Следует набирать самый отъявленный сброд. Нищих испанских гидальго, жадных и завистливых, готовых из-за каждого пустяка устроить бунт, — вот кого нужно послать в экспедицию. Если они и не погубят Колумба, то во всяком случае помешают успеху его затей. Тогда испанская корона лишит обесчещенного адмирала всех его прав и по более сходной цене найдет продолжателей его дела». В этом духе Фонсека и действовал. Выбранные им агенты-вербовщики — дон Диего и дон Алонзо — были мастера на темные дела и с полуслова, без долгих разъяснений, поняли, чего от них требовал начальник.
Дон Диего и дон Алонзо заседали в портовом кабачке. Когда Франсиско подошел и изложил свою просьбу, они осмотрели его с ног до головы, переглянулись и долгое время молчали.
— На бандита не похож, — шепнул дон Диего дону Алонзо. — По-моему, он не сумеет справиться с индейцами.
— И вообще слишком скромен и молод, — шепнул дон Алонзо дону Диего. — Эти качества совсем не нужны в опасных путешествиях.
— Совершенно верно, дон Алонзо, — согласился дои Диего и хитро улыбнулся. — Ты не земледелец, Франсиско Пизарро? — обратился он к вошедшему.
— Я скотовод из старого дворянского рода, — отвечал Пизарро.
— И, конечно, еще ни разу не служил в солдатах? — спросил дон Алонзо.
— Нет.
— Таких нам не надо. Предложи свои услуги здешнему кабатчику. Ему, кажется, нужен конюх, — насмешливо проговорил дон Диего.
Франсиско молча проглотил оскорбление и вышел на улицу. Планы его рухнули, но он не отчаивался. До осени еще много времени, думал он. Может быть, другие вербовщики окажутся сговорчивее. А может быть, удастся пробраться в Кадикс и хитростью проникнуть на какой-нибудь из кораблей. Ведь не выбросят же в море, когда флотилия отплывет и он появится на палубе! Самое главное — как-нибудь просуществовать до осени.
Как жил Франсиско следующие три месяца, он и сам не мог бы толком рассказать. Смирив дворянскую гордость, он недели три прослужил конюхом на постоялом дворе, пока не поссорился с хозяином. Недели две служил выездным слугой у богатого гранда. Гранд за что-то обругал его, Франсиско выхватил кинжал и тут же заколол бы обидчика, если бы его не обезоружил другой слуга. От гранда пришлось бежать. А потом начались случайные «заработки»: иногда удавалось стащить фрукты у зазевавшейся рыночной торговки или обыграть в карты подвыпившего матроса. Но всего этого хватало не надолго, и, когда настудил сентябрь и до отплытия Колумбовой флотилии оставалось всего три недели, Франсиско был так же далек от своей заветной цели, как и в первые дни пребывания в Севилье. И все-таки он верил в счастливый случай и ждал его. Цыганка предсказала ему богатство и власть — не может быть, чтоб старуха обманула его!
И в самом деле, в темную сентябрьскую ночь этот счастливый случай подвернулся.
Только что пробило одиннадцать часов, и на улицах не было видно ни одного человека.
Франсиско шел по глухому переулку, голодный и злой. В кармане у него не было ни гроша. Больше так жить нельзя, — если и завтра ничего не найдется, придется записаться в солдаты у итальянского вербовщика. Вдруг Франсиско остановился. Впереди, на перекрестке, он увидел четырех закутанных в плащи людей, которые плотно прижались к стене дома и, по-видимому, поджидали кого-то. Франсиско уже хорошо познакомился с нравами Севильи и сразу сообразил, в чем дело. Очевидно, это были грабители, поджидавшие какого-то богатого человека.
Тихо, как кошка, пошел вдоль стены Франсиско, стараясь ни одним звуком не выдать своего присутствия. На его счастье, почти напротив грабителей находился дом с большим балконом, далеко нависшим над улицей. Под балконом было темно, как в погребе. Франсиско прокрался туда и стал ждать. Минут через десять на другом конце переулка появилась фигура. Когда она проходила мимо фонаря, свет его осветил шляпу с голубым пером. «Он самый, Охеда», вполголоса проговорил один из грабителей.
Чуткое ухо Франсиско уловило фамилию неизвестного. Охеда, тот самый Охеда, которому поручено командование одним из кораблей! Охеда, отпрыск старой аристократической семьи, любимец испанского двора, о котором говорит вся Севилья! Если его спасти от бандитов, он, наверное, ни в чем не откажет своему спасителю. А если сам получишь удар в сердце? Может и это случиться, но надо рискнуть — другого такого случая не пошлет судьба.
Франсиско вытащил кинжал и весь вытянулся, готовясь к прыжку. Охеда был уже в нескольких шагах от перекрестка. Один из грабителей подал знак, и все четверо бросились на свою жертву. Охеда не растерялся: он прислонился спиной к стене, набросил на левую руку плащ, взмахнул шпагой и приготовился к защите. Грабители обступили его и были так поглощены предстоящим боем, что и не заметили, как за спиной у них вырос новый противник. Франциско изо всей силы ударил кинжалом одного, потом другого. Услышав крик, один из нападавших обернулся, и в это же мгновение шпага Охеды пронзила ему бок. Из четырех нападавших остался только один. Он мигом понял, что дело проиграно, бросился бежать и через секунду исчез во тьме переулка.
— Ты вовремя подвернулся, друг, — проговорил Охеда, обращаясь к Франсиско. — Не будь тебя, я бы сейчас был уже у чорта в лапах, и он нес бы меня к сеньору сатане. Кто ты такой?
Франсиско почтительно снял шляпу и назвал свое имя.
— Пизарро? Не родственник ли ты известному капитану Пизарро?
— Я его сын.
— А что ты тут делаешь?
Франсиско вкратце рассказал о своих злоключениях. Охеда улыбнулся, потрепал по плечу нового знакомца и сказал:
— Было бы очень плохо, если бы из-за двух дураков-вербовщиков наша флотилия лишилась такого храброго солдата. Сволочи у нас набралось уже слишком много, а нам нужны хорошие вояки. Я тебя беру на свой корабль, а пока вот тебе на расходы.
И Охеда протянул Франсиско кошелек с четырьмя золотыми дукатами.
— Это все, что у меня осталось, — продолжал он. — Я сегодня проигрался в карты. Казенные деньги на снаряжение солдат уже истрачены, а тебе надо одеться, приобрести коня и оружие. Но не беда, завтра я устрою тебе заем у знакомого ростовщика.
Охеда сказал, где его можно разыскать, и распрощался. На следующий день, рано утром, Франсиско был уже у своего покровителя. Охеда повел его к ростовщику Хименесу, который согласился ссудить Франсиско под ручательство Охеды сто дукатов, с тем чтобы через год ему было возвращено сто шестьдесят. Под долговой распиской Франсиско поставил крест, а Охеда нацарапал свою фамилию. Через два дня Франсиско был в Кадиксе.
Каждый день расхаживал он по верфям, где достраивались отправляемые в экспедицию корабли. Впервые в жизни видел он эти морские чудовища, которым предстояло пересечь семь тысяч миль водной поверхности и, преодолевая бури, грозы и смерчи, доставить в далекую Индию тысячу с лишним человек. Корабли были широкие, неуклюжие, громоздкие. Капитан и начальники экспедиции со своей свитой помещались в небольших каютах, построенных на носу и на корме, матросы и солдаты ютились в трюме, рядом с лошадьми, ящиками с провизией и товарами. Вмещали эти суда от пятидесяти до двухсот тонн. Самые большие из них были рассчитаны на двести человек солдат и экипажа.
Кораблей было семнадцать. Многие везли только лошадей, а другие — домашних животных, которых испанцы хотели разводить в Индии.
Весь Кадикс был заполнен участниками экспедиции, которые целый день слонялись по набережной, а по вечерам гуляли и пили в кабачках. Настоящих земледельцев среди них было очень мало. Преобладали оборванные дворяне — не то бывшие бандиты, не то бывшие солдаты, — рассчитывавшие поправить свои дела индейским золотом. Большинство из них уже успело прокутить выданное вперед жалованье и перебивалось кое-как. Они должали трактирщикам, обыгрывали в карты простаков, тащили, что плохо лежит, — словом, жили так, как жил Франсиско в Севилье. Многие уже выражали недовольство.
 Корпус морского судна XV–XVI века.
Корпус морского судна XV–XVI века.
— Мы испанские гидальго, — сплошь и рядом раздавались голоса, — а этот Колумб, генуэзский моряк без роду, без племени, пожалованный ныне в чин адмирала и наместника Индии, два месяца заставляет нас торчать тут без дела. Сколько бы золота мы успели за это время набрать!
— Правда, правда, — поддакивали агенты архидьякона Фонсеки. — Если бы нашим начальником был испанский гранд, не то было бы. А от этого выскочки чего же хорошего и ожидать?
Кроме солдат и матросов, в экспедиции было немало и монахов. По приказу высших церковных властей, в Кадикс прислали их до восьмидесяти человек во главе с аббатом (настоятелем) бенедиктинского монастыря Бернардо Бойлем. Они должны были обращать индейцев в христианство, строить церкви и искоренять языческие суеверия. Но в свободное от этих занятий время не возбранялось и выменивать стеклянные бусы и яркие дешевые тряпки на индейские золотые серьги и золотые ожерелья. Монахи тоже слонялись по набережным, а в вечерние часы не брезговали и портовыми кабачками.
За десять дней до отплытия, назначенного на 25 сентября, в Кадикс приехал сам великий адмирал, чтобы следить за последними приготовлениями. Каждый день с раннего утра шел он в доки и осматривал каждый корабль, не упуская ни одной мелочи. Всюду сопровождал его Охеда, которому, как узнал впоследствии Франсиско, было поручено исподтишка наблюдать за Колумбом. Франсиско жадно всматривался в знаменитого человека. Толпа превозносила Колумба как героя, и королева Изабелла и король Фердинанд, совместно правившие Испанией, оказали ему столько почестей! Великий адмирал был высокий человек с большой бородой и длинными, с проседью, волосами. Несмотря на свои сорок семь лет, он держался прямо, ходил быстро, говорил громким и ясным голосом. Его высокий лоб прорезали глубокие морщины — следы мучительных дум и пережитых тревог. Глубоко запавшие глаза горели. Скромная темная мантия с широкими рукавами и покрывавший голову простой черный берет делали его похожим не то на судью, не то на художника. И видно было, что этот человек всеми своими помыслами живет не здесь, в Кадиксе, а где-то далеко, в той великой заокеанской стране, которую открыл его отважный гений.
Когда приехал великий адмирал, недовольные приумолкли. С раннего утра до позднего вечера на кораблях сновали плотники, корабельные мастера, грузчики с тяжелыми ящиками и мешками на плечах.
Наконец все было готово. Накануне отплытия Колумб созвал матросов и солдат и обратился к ним с небольшой речью.
— Вас ждут великие труды, дети мои, — говорил он. — С тех пор как стоит свет, еще не предпринимали люди такого смелого дела. Два, а может быть, и три месяца мы не увидим земли. Два, а может быть, и три месяца нас будут поливать тропические дожди и бросать по волнам свирепые океанские ветры. Нас будет мучить морская болезнь. Мы будем тосковать по близким людям и родным городам, которых нам долго не суждено увидеть. Сегодня, накануне отплытия, подумайте о том, можете ли вы это выдержать. Сейчас еще есть время. Всякий, кто боится плыть со мной, может остаться. Я не буду взыскивать с него уплаченного вперед жалованья. Говорите же, кто идет и кто остается.
Солдаты и матросы переглядывались. Некоторые в нерешительности мяли шапки и переминались с ноги на ногу, как будто желая что-то сказать. Но огромное большинство не думало об отступлении. На родине им нечего было терять, кроме заимодавцев. А впереди, за океаном, их ждало золото, плодородные земли, сотни индейских рабов, привольная жизнь. Конечно, опасностей много. Но, глядя на этого спокойного, строгого человека, всем, даже самым трусливым, казалось, что с таким вождем опасностей бояться нечего. И сотни глоток разом крикнули:
— Все едем, все!
— Я еще скажу вам несколько слов, — продолжал Колумб. — Индейцы, которых вы там встретите, — некрещеные, жалкие дикари, лишенные света нашей католической веры. Но они все-таки люди, и, когда наши падре окрестят их, они будут ничем не хуже вас. Поэтому предупреждаю вас: я, наместник ее величества королевы Изабеллы и его величества короля Фердинанда, не потерплю насилий над жителями Индии. Вы должны относиться к ним с истинно христианской добротой и сделать их верноподданными испанской короны. За это я буду отвечать перед богом и перед нашим королем. Запомните это хорошенько и не заставляйте меня прибегать к наказанию.
Франсиско с удивлением слушал конец Колумбовой речи. Да разве туземцев, которые не ходят в церковь и не бывают у исповеди, можно называть людьми? Голышей, у которых даже рубашек нет, разве можно ставить на одну доску с испанскими гидальго? Дикарь — это животное, и с ним можно все сделать. Если не отбирать у него золото, незачем и лезть куда-то на край света.
Оглянувшись на соседей, Франсиско понял, что и те думали то же. Некоторые тихо перешептывались, другие ухмылялись. А сзади кто-то вполголоса проговорил:
— Как бы не так! Как приедем в Индию, никто и не вспомнит об этих бабьих бреднях!
Но возразить адмиралу никто не решился.
Утром 25 сентября отслужили молебен. Архиепископ Кадикса благословил солдат и матросов на бранные подвиги во славу католической веры. На адмиральском судне взвилось знамя Испании. По сигналу, все отъезжавшие собрались на корабли, и при оглушительных криках десятитысячной толпы флотилия Колумба отплыла в море.
V
Вот уже две недели как перед Франсиско и его спутниками расстилалась бескрайная водная пустыня. Сильных бурь не было, и качало не очень крепко. Попутный юго-западный ветер надувал паруса, и капитан «Марии» (так назывался корабль, на котором ехали Франсиско и Охеда) весело потирал руки: через два-три дня покажутся Канарские острова, а это ведь почти одна треть пути. Но не привыкшие к далеким путешествиям солдаты брюзжали: им казалось, что уже целые месяцы прошли с тех пор, как они покинули Испанию. Все вода да вода — когда же будет Индия? Даже в карты надоело играть. Сначала играли на оставшиеся гроши. Когда гроши все вышли, стали играть на будущее индейское золото. А когда долгов накопилось у каждого так много, что нельзя уж было их упомнить, стали играть на щелчки. А в щелчках какой же прок для военного человека?
Каждый день было одно и то же. Всходило солнце, разбрасывало по водной синеве миллионы серебряных брызг и, добравшись до самых глубин, выгоняло на поверхность подводных жителей — дельфинов со свиными мордами, хищных акул с зловещими зелеными глазами. Летающие рыбы, похожие на стрекоз, целыми стадами подымались на своих радужных крыльях, купались в теплом воздухе и, пролетев саженей тридцать, опять опускались в волны. Некоторые залетали на корабль, путались в парусах и падали на палубу. Это было, пожалуй, единственное развлечение, которое приносило людям море.
По вечерам солдаты собирались кучками и рассказывали друг другу истории. Рассказывали, как сражались во Франции и Италии, как грабили, убивали, жгли города, проигрывали и прокучивали добычу. Рассказывали то, что было, и то, чего не было. Ненасытной жадностью, бесчеловечной жестокостью веяло от этих рассказов. Но солдаты думали, что иначе жить нельзя, и Франсиско им верил.
— Ты подумай, — поучал его старый солдат. — Вон, видишь, плывет акула. Если она не разинет пасть и не наловит маленьких рыбешек, как она проживет? Вот так же и мы: шире разинешь пасть — больше поймаешь, закроешь рот — голодным останешься. Заглатывай больше, а на остальное наплевать.
Золото, одно только золото было на уме у всех этих людей. Они говорили о нем наяву, бредили им во сне. Оно звенело у них в ушах, сверкало в глазах. Отблески луны на волнах казались им золотыми монетами, опускающееся к горизонту солнце — золотым самородком. Они выдумывали про золото целые истории и через минуту-другую сами начинали верить в свои выдумки.
— Я слышал, что индейцы стреляют золотыми стрелами, — говорит один. — Нужно только стать посреди поля и ждать. Индейцы стреляют, а стрелы отскакивают от панциря и валятся тут же. А когда индейцы расстреляют все стрелы, беги на них и режь во славу божию, а потом подбирай стрелы.
— Но только нужно знать заклятие, — добавляет другой. — Смажь меч змеиной кровью, прочти семь раз «Богородице дево, радуйся» и семь раз молитву святому Яго. Без этого никакого толку не будет: меч от их колеи отскочит, как горошина от стены.
— Да, заклятие — дело большое, — подтверждает ветеран, поседевший в битвах. — Наши падре, наверное, на этот счет знают. Скажите, падре, — обращается он к высокому худому доминиканцу, стоящему у борта, — какую молитву следует читать над мечом перед битвой?
— Об этом, сын мой, было много споров в Саламанкском университете, — отвечает монах. — Одни говорят, что лучше всего помогает «Богородице дево, радуйся», потому что война с неверными угодна пресвятой деве. Другие, наоборот, думают, что пресвятая дева, как женщина, не любит крови и что лучше всего читать молитву святым из военного звания — Георгию-победоносцу или Иоанну-воину. Настоятель нашего монастыря рекомендует в этих случаях читать «Отче наш», ибо бог-отец — бог воинств. Я же полагаю, что на всякий случай нужно читать их все, да еще прибавить семнадцатый псалом царя Давида, потому что там говорится и о щите и о стрелах, а меч подразумевается сам собой.
— А длинный этот псалом? — несмело осведомляется ветеран.
— Да на тридцать «Отче наш» будет, — отвечает падре.
Ветеран вздыхает. Где уж ему упомнить такую махину!
К кучке солдат подходит другой доминиканец, отец Филипе.
— Ты не все сказал, брат Эстабано, — говорит он. — Индия кишит дьяволами. Поэтому, когда читаешь молитву над мечом, обязательно нужно прибавить и особую молитву для одоления лукавого.
— А ты индейских дьяволов знаешь? — обиженно возражает брат Эстабано. — Знаешь ли их имена, свойства и отличия? А если не знаешь, значит не знаешь, каким святым поручена борьба с ними. К каким же святым будешь ты против них обращаться?
Брат Филипе почувствовал себя смущенным. Индейских демонов он, действительно, не знал. Европейских бесов он мог перечесть по пальцам: бесы лихорадочные, бесы горячечные, бесы безумия, бесы, стерегущие клады, бесы, отнимающие у коров молоко, бесы, насылающие на сады червей и гусениц, и даже семь главных подручных самого сатаны, — все они у него как на ладони. А вот индейские бесы — дело темное, и каким святым от них молиться, ни в каких еще книгах не написано.
— Я полагаю, что различать индейских бесов следует по их размеру и виду, — вмешивается в спор подошедший брат Хуан. — Наблюдай, какой он из себя — дерзкий, или понурый, или лукавый, или пронырливый, или надменный; примечай, с каким из наших бесов он схож, и читай молитву тому святому, которому полагается.
— А как же его увидать-то? — спрашивает один из солдат.
Брат Хуан разводит руками.
— Кому дан от бога талант, тот и увидит, — отвечает он. — А кому не дан, тот не заметит дьявола даже тогда, когда дьявол сидит у него на носу.
Споры ученых монахов нагоняли на солдат тревогу. Уж если черные рясы не знают, как быть с индейскими демонами, что может придумать неграмотный вояка? Трудно, должно быть, добывать золото в этой стране, где все, даже черти, шиворот-навыворот!
Когда Франсиско надоедало слушать разговоры солдат, он шел в каюту Охеды и почти всегда заставал своего покровителя за беседой с аббатом Бернардо Бойлем. Аббат был родом из старой дворянской семьи, хорошо знал все, что делается при королевском дворе, и давал Охеде советы. Стоявший в стороне Франсиско жадно ловил его слова и понемногу уяснял себе и то, что будут делать Колумбовы сотрудники, и положение самого великого адмирала.
— Королю нужны деньги, — толковал аббат, — а между тем королева Изабелла дала Колумбу власть над всеми островами и прилегающими материками и предоставила ему право на большую часть добываемого там золота. Надо сбить с него спесь. Надо постараться, чтобы его экспедиции ни к чему не привели. Тогда на его место король и королева пришлют других людей, простых губернаторов на жалованье, и почти все добытое в Индии золото поступит в королевскую казну. Вы будете покорять индейцев, мы будем обращать их в христианскую веру, а Колумбу отведут какое-нибудь поместье, дадут сотни две индейцев — пусть себе возится с ними.
Охеда поддакивал. А когда настоятель уходил, он подзывал к себе Франсиско, с которым очень подружился, и обсуждал планы на будущее.
— Слышал, Франсиско, что говорил падре Бернардо?
— Слышал, сеньор Охеда.
— Видишь, как обстоят дела? С одной стороны Колумб, с другой — король, с третьей — монахи. Я запутался среди них, как муха в паутине. Одному угодишь — другой сживет со свету. Никому не угодишь — все сживут со свету. Трудно мне будет, Франсиско, очень трудно.
— А по-моему, нетрудно, сеньор Охеда. Надо вам как-нибудь от них сторонкой итти. Дикарей, говорят, там много, на нашу долю хватит. Пока Колумб ссорится с нашими падре, мы заберемся в какую-нибудь неизвестную землю, о которой никто еще не знает, и вы станете губернатором, а я — вашим помощником. Заберем у дикарей все их золото и жемчуг, нагрузим на корабли и уплывем прямо в Испанию. Отдадим в казну одну пятую часть, как полагается по закону, четыре пятых достанется вам, а вы мне кое-что сами уделите. Тогда вы и самому Колумбу не уступите. Если даже вас в той земле и не назначат наместником, по-моему, беда небольшая. Ведь все золото мы подметем так чисто, что никто после нас ничего не найдет.
Охеда смеялся и трепал Франсиско по плечу.
— Ты хоть и молод, и, пожалуй, многих стариков перещеголяешь, — говорил он. — Только держи ухо востро и о наших разговорах никому ни слова!
Так, в мечтах и занимательных беседах, проходили дни. Каждый думал о своем: солдаты — о золоте, Охеда — о губернаторстве, Франсиско — о выгодной службе, аббат Бернардо Бойль — о золоте и власти. О власти аббат думал даже больше, чем о золоте. Старому, сухому старику некуда было его тратить. Молодость его давно прошла, удовольствия потеряли цену. Но оставались две вещи, которые для дона Бернардо были всего дороже на свете: звание кардинала и слава ревнителя католической веры. О них он и думал, шагая по палубе в ночные часы.
Он видел перед собой поверженные языческие капища, на развалинах которых вырастают горделивые соборы. Он видел тысячи новообращенных дикарей, толпами стекающихся на торжественную обедню. Видел себя самого в красной кардинальской мантии и в кардинальской красной шапке, с архипастырским аметистовым перстнем на среднем пальце правой руки. Рука подымается, благословляет верующих, и толпы людей падают на колени. А потом та же рука пишет донесение в Рим о том, сколько новых католиков прибавилось у папского престола, сколько ведьм и колдунов сожжено, сколько церквей и соборов выросло на новых землях. И слава его разносится по всем христианским государствам. О нем говорят при всех дворах. А когда наступит ему время предстать на суд вседержителя, может быть церковь причислит его к лику святых, и его статуи будут стоять во всех церквах новооткрытой Индии.
В эти минуты дону Бернардо казалось, что из всех людей мира только он один избран для столь великого дела. Он склонял голову, и из старческих глаз скатывалась слеза, тонкие, бескровные губы кривились блаженной улыбкой. И на душе у него было так хорошо, словно с неба спустился сам св. Бенедикт и благословил на подвиг.
«Только бы смирить Колумба, любимца королевы Изабеллы, — думал он, — сокрушить этого гордого мечтателя, который грезит лишь об открытиях и братается с некрещеными индейцами! А весь этот жадный сброд, который готов перерезать друг другу горло из-за золотой побрякушки, нам не страшен. Церковь сумеет обуздать его, взять в руки. А церковь возьму в руки я!»
Наконец показались и Канарские острова. После недолгой стоянки флотилия двинулась дальше и, по приказу Колумба, свернула на юг, чтобы проехать к Эспаньоле другим путем и, может быть, по дороге открыть новые земли. Надежды великого адмирала оправдались: 3 ноября был открыт остров, которому дали название Сан-Доминго, а на следующий день — остров Гвадалупа. Этот второй остров с его роскошной растительностью и красивыми, слегка холмистыми берегами словно манил к себе усталых путешественников. Когда, по приказу Колумба, корабли вошли в его удобную бухту, у испанцев вырвался радостный крик: на берегу виднелось довольно обширное селение с правильными прямоугольными домами, крытыми пальмовыми листьями, а в середине селения засаженная незнакомыми цветущими деревьями площадь. По всем признакам, жители этих мест были гораздо развитее тех первобытных дикарей, которых Колумб встретил на Эспаньоле во время первого своего путешествия. Кто знает, может быть именно здесь начинаются владения великого китайского императора, столь восторженно описанные знаменитым путешественником Марко Поло!
К досаде испанцев, в деревне почти никого не оказалось: завидя издали диковинные корабли, туземцы поспешили скрыться. Скрылись, однако, не все: перепуганные матери забыли в хижинах несколько детей. Испанцы дали им в руки стеклянные безделушки, навешали на шеи медные бубенчики и отпустили в лес. Эти подарки должны были убедить индейцев, что пришельцы не желают причинять им никакого вреда. Но туземцы не выходили из лесных чащ, и испанцам пришлось знакомиться с деревней в отсутствие хозяев. В домах нашли глиняную посуду, плетеные гамаки, резные изделия из дерева, хлопчатобумажные ткани, луки и стрелы с костяными наконечниками и невиданные ароматные фрукты, похожие на огромные сосновые шишки. Это были ананасы. Испанцы объедались их сладкой мякотью и окрестили их «индейским репейником». Однако, кроме этих приятных и интересных вещей, испанцы натолкнулись и на предметы, возбудившие в них ужас: около горшков валялись человеческие кости. Туземцы оказались людоедами.
Колумбова флотилия пробыла у берега Гвадалупы около недели. Отряды, посланные на разведку острова, никаких интересных сведений не
принесли: следов золота нигде не было найдено, туземцы прятались, и лишь случайно солдатам удалось захватить и доставить к адмиралу несколько женщин и детей, заблудившихся в лесу.
10 ноября флотилия двинулась в северо-западном направлении. 27 ноября, открыв по пути несколько островков и большой остров Пуэрто-Рико, испанские корабли бросили якорь у берегов Эспаньолы, около форта Навидад.
VI
Пизарро рядом с Охедой стоял на борту «Марии» и пристально всматривался в линию берега. Ранние тропические сумерки уже окутали небо и землю. Зажигались большие и малые звезды, но были они совсем не такие, как в Эстремадуре. Старые знакомцы Северного полушария, стоявшие над самой головой, опустились далеко вниз, а на смену им подымались с юга новые, неведомые светила. В прибрежных зарослях летали роями светящиеся мухи. Легкий вечерний ветер ласково теребил широкие листья пальм, и видно было, как они медленно и важно колыхались, словно приветствуя поклонами заморских гостей. Тихо, торжественно встречал Новый Свет завоевателей, и даже самые жадные и сварливые из них забыли на минуту о золоте и предстоящих опасностях и с радостной детской улыбкой повторяли: «Индия! Вот она, Индия!»
Великий адмирал уже год назад пережил эти минуты. Он не радовался — он тревожился. Молчание и тьма долгожданной Эспаньолы пугали его. Недалеко от берега был выстроен укрепленный форт, и в нем осталось три десятка солдат. Неужели никто из них не заметил приближающейся эскадры? Почему не видно огней? Почему не слышно голосов? Где колонисты? Где толпы гостеприимных индейцев, лепечущих приветствия на своем смешном языке и протягивающих руки за безделушками?
Адмирал нахмурился и приказал выстрелить из сигнальной пушки. Раздался один выстрел, другой, третий, четвертый… Им ответило только гулкое эхо прибрежных лесов да крики потревоженных птиц. Люди молчали.
Стараясь ничем не выдать своего волнения, адмирал ушел в каюту. Долго сидел он там, пока матрос не доложил, что на пироге приехал индеец.
Индеец был послан кациком (вождем) Гваканагари и принес невеселые вести. Из его отрывочных и сбивчивых фраз выяснилось, что часть оставленного гарнизона погибла от болезней и раздоров, некоторые из солдат ушли в глубь острова, а вскоре после этого на форт и соседнюю индейскую деревню напал вождь другого племени, Каонабо, который сжег и постройки белых и хижины индейцев.
 Выездка Христофора Колумба в Америке. Гравюра XVI века.
Выездка Христофора Колумба в Америке. Гравюра XVI века.
Рано утром испанцы высадились. То, что увидел адмирал, подтверждало рассказ посланца. От форта и туземных хижин остались лишь обгорелые бревна, успевшие зарасти высокими травами. Кое-где были разбросаны клочки материй и одежды и обломки привезенных европейцами предметов. Под небольшим бугром насыпанной земли откопали одиннадцать трупов. По всем признакам, это были испанские солдаты.
Мало-помалу из лесов стали выходить индейцы, и история уничтожения форта окончательно разъяснилась. Среди начальников форта начались распри, перешедшие в вооруженную борьбу. Гарнизон разделился на две партии, и большая часть солдат разбрелась по острову в поисках золотых россыпей, о которых так много рассказывали туземцы. Солдаты грабили и убивали индейцев и так восстановили против себя население, что сопернику Гваканагари, кацику Каонабо, ничего не стоило собрать большой отряд и истребить всех испанцев, оставшихся в форте и его окрестностях. Сам Гваканагари, опасаясь, что и его постигнет такая же судьба, убежал со своим племенем в далекие леса и там скрывался.
На розыски дружественного кацика Колумб послал целый отряд. Через несколько дней адмиралу донесли, что кацик находится неподалеку, на восточном берегу острова. Он лежит с перевязанной ногой, жалуется на боль от ран и без конца рассказывает, сколько бедствий пришлось вытерпеть ему и его племени за дружбу с белыми. Колумб решил немедленно посетить вождя.
В сопровождении пышной свиты, с тюками подарков адмирал отправился к кацику. Он участливо расспрашивал его о происшедшем, уверял в своей неизменной дружбе, дарил направо и налево разноцветные бусы и приказал своему врачу осмотреть и перевязать раны вождя. Ран, впрочем, никаких не оказалось: очевидно, кацик выдумал все свои болезни и разыгрывал пострадавшего, чтобы смягчить белых. Вместе с Колумбом Гваканагари отправился на адмиральский корабль и без конца поражался тому, что видел.
«Кто он — друг или изменник?» спрашивал себя Колумб и никак не мог ответить. Отец Бернардо полагал, что разрешить этот вопрос очень легко.
— Святая инквизиция знает прекрасные средства для того, чтобы установить истину, — убеждал он адмирала. — Гнусный язычник обманывает вас. Он поступает так по наущению дьявола, а следовательно, знается с нечистой силой. В этих случаях рекомендуется вздернуть грешника на дыбу, а если он не сознается, поджарить его пятки на угольках. Не медлите, сеньор адмирал, последуйте моему совету!
Колумб не решился на эту меру. Подвергнуть кацика пытке — значило окончательно испортить отношения с туземцами, а это при данных обстоятельствах было слишком рискованно. Кацик ушел от адмирала невредимый, выражая словами и жестами свою дружбу и преданность. Но, когда на следующее утро его хотели опять пригласить на корабль, оказалось, что вождь со своим племенем исчез бесследно.
— Месть, месть! — в один голос кричала свита Колумба, теперь уже не сомневавшаяся в предательстве Гваканагари.
— Для этого нужно сначала, найти тех, кому вы будете мстить, — насмешливо произнес адмирал. — Ищите их вон в этих лесах! Да и кроме того, сейчас нам мстить некогда, нам нужно строиться. Форт Навидад погиб — необходимо воздвигнуть новый город.
Недели через две выбрали место для нового поселения. В двух днях пути к востоку от сожженного форта находилась обширная бухта, на берегу которой возвышалась высокая скала. Скала была чрезвычайно удобна для сооружения крепости, а на ровных и плодородных берегах, прорезанных двумя речками, можно было разбить большой город. Будущую столицу острова Колумб назвал Изабеллой, в честь королевы.
На другой же день после прибытия флотилии приступили к работе. Одни выравнивали почву и отводили места для церкви, городского склада, казарм и адмиральского дворца, другие рубили и подтаскивали деревья, третьи разгружали припасы, четвертые выводили лошадей. Колумб переходил от одной группы к другой, и находившиеся поблизости от него Охеда и Пизарро замечали, как с каждым часом лицо его все более и более мрачнело. Только теперь выяснялось, каковы были помощники, снаряжавшие в Кадиксе его флотилию. Для экспедиции были закуплены прекрасные рослые кони — перед самой погрузкой их подменили тощими клячами. Муку положили в ящики полусырой, и она покрылась плесенью. Вместо соли во многих мешках оказался песок. Лекарств и целебных трав было втрое меньше, чем нужно. Агенты архидьякона Фонсеки поработали на славу. Только теперь понял адмирал, что обозначали их странные, кривые улыбки, их льстивые, но уклончивые ответы, их невнимание к отданным приказам.
— Это значит — голод, — тихо проговорил Колумб. — Голод — и потом бунт.
— Поздно спохватился, — не то с насмешкой, не то с сожалением шепнул своему спутнику Охеда, уловивший эти слова. — Надо было почаще ходить на пристань, вместо того чтобы гарцевать по городу рядом с наследником престола!
Колумб оказался прав. Он ошибся только в одном: сначала начался бунт, а потом голод. Настоящих колонистов-земледельцев, которых так добивался Колумб, среди приехавших было немного. Большинство были нищие гидальго, не умевшие и не желавшие работать. Уже на третий день человек сто объявили, что рубить лес не пойдут, разлеглись под деревьями и начали играть в карты, а еще через несколько дней только половина солдат исполняла приказания адмирала, остальные спали, рассказывали истории или просто слонялись по берегу.
Франсиско хорошо знал сварливый нрав и неисправимую леность этих людей и с любопытством ждал, что будет дальше.
Поздно вечером, проходя мимо адмиральской палатки, он услышал обрывки разговора. Разговор был настолько интересный, что Франсиско, пренебрегши опасностью, подполз к самой палатке и стал жадно ловить каждое слово.
— Так это все, что ты нашел на россыпях Цибао, Диего? — тихо спрашивал адмирал.
Очевидно, он говорил с тем самым Диего, которого две недели назад отправили на поиски золота в глубь острова.
— Да, сеньор адмирал, — послышался ответ. — Тут с пригоршню будет. Правда, не все это я нашел в земле, кое-что взял у индейцев, но если много работать, намыть там можно немало.
— Работать, работать! — нетерпеливо повторил адмирал. — Нужно найти такие россыпи, где золото можно сгребать лопатами. Ты ведь сам знаешь, что наши гидальго не захотят копаться в земле.
— Знаю, знаю, сеньор адмирал, — вздохнул Диего. — Копаться в земле их не заставишь.
— Работать, работать! — нетерпеливо повторял адмирал. — Они не хотят строить город. Они не хотят воздвигать крепость. Они не хотят возделывать поля. Они не хотят сеять хлеб. А без этого мы все умрем с голоду.
Диего опять сокрушенно вздохнул. Адмирал молчал минуты две, потом встал с места, подошел к ящику, вынул что-то оттуда и подал Диего.
— Слушай, Диего, — заговорил он. — Это золото, которое я наменял у Гваканагари. Тут наберется пригоршни две. Прибавь его к тому, которое ты привез, завтра покажи все это солдатам и скажи, что ты набрал это в один день. Скажи, что ты мог бы набрать его втрое, вчетверо больше, если бы не боялся нападения индейцев. Но о нашем разговоре — ни слова. Ты меня не видел. Ты приехал сегодня поздно ночью. Если ты разболтаешь, понимаешь, что случится со всеми нами? И ты, конечно, понимаешь, что случится с тобой, — многозначительно добавил адмирал.
— Понимаю, сеньор адмирал, — тихо сказал Диего.
Франсиско поспешно отполз от палатки и ушел незамеченным. Когда он передал услышанное Охеде, его начальник одобрительно рассмеялся и воскликнул:
— Ну, Франсиско, завтра мы увидим занимательное представление: Диего будет разыгрывать открывателя заморских сокровищ, а солдаты будут слушать его с таким же восторгом и благоговением, с каким слушала королева Изабелла нашего адмирала, когда он рассказывал ей о чудесах Индии. Разумеется, ни ты, ни я не должны портить этого представления. Ведь, если оно не удастся, нам тоже придется несладко.
С раннего утра весь лагерь загудел, как пчелиный рой. Весть о прибытии Диего быстро облетела и разбитые на берегу палатки и корабли. Все бежали смотреть на привезенное золото, и те, которые видели лежавшую на столе кучку, мысленно прибавляли к ней другую, наверное скрытую посланцем от казны, а те, которые не видели, готовы были поклясться, что Диего привез не кучку, а целую груду. Адмирал не показывался. Диего уже несколько раз подходил к его палатке, но от стоявшего на часах солдата получал один и тот же ответ:
— Сеньор адмирал нездоров и приказал, чтобы его не беспокоили.
С каждым часом возбуждение росло. Какие распоряжения даст адмирал, когда узнает о чудесном открытии? Кого пошлет он на россыпи? Сколько пригоршней золота придется на каждого? И, наконец, что станет с экспедицией, если адмирал, действительно, серьезно болен? Все задавали друг другу эти вопросы, и даже те, которые накануне проклинали Колумба, сейчас озабоченно качали головами и собирались заказывать монахам мессу о его здравии.
Наконец в полдень адмирал вышел. Выслушав донесение Диего, он взвесил мешочек с золотым песком и приказал трубить сбор. Через несколько минут все уже были на площади. Речь, с которой адмирал обратился к толпе, была кратка и ясна.
— Вы видели золото, которое привез Диего? Вы слышали, что он рассказывает? — спросил Колумб.
— Видели… Слышали… — загремел хор голосов.
— Если мы сразу начнем добывать золото в этих местах, не обеспечив себе надежного убежища, с нами случится то же, что с нашими злосчастными товарищами в форте Навидад, — продолжал адмирал. — Сначала город, потом золото. Кто хочет стать богатым, должен сначала стать плотником и каменщиком.
— Мы не каменщики, а испанские гидальго! — крикнул кто-то из толпы.
— Ну что ж, те гидальго, которые не хотят позаботиться о собственном благополучии и о собственном кармане, могут сейчас же отправляться на родину, — спокойно продолжал Колумб. — Вон тот корабль к их услугам. Кто хочет на нем ехать, пусть выйдет из рядов!
Никто не вышел.
— В таком случае, пусть все немедленно принимаются за работу! — крикнул Колумб.
Несмотря на непривычный климат, плохое питание, малярию и другие болезни, вызванные вечной сыростью и нездоровыми испарениями рек, солдаты и колонисты трудились с раннего утра до позднего вечера. Они знали, что чем скорее будут закончены необходимые постройки, тем скорее они увидят сказочное Цибао, где золота больше, чем песку. Жадность побеждала лень, дворянскую спесь, разнузданные привычки. Вскоре к испанцам присоединились индейцы, которых Колумбу удалось привлечь на место работ подарками и угрозами. По целым дням коричневые люди таскали землю для насыпи, балки для домов, камни для дворца и церкви.
Благодаря соединенным усилиям белых и туземцев столица острова росла с необыкновенной быстротой, и Колумб хвастался, что она в короткое время перегонит самые цветущие города Испании.
VII
Мирный труд был не по душе ни Охеде, ни Пизарро. Они начали скучать, ибо приехали сюда вовсе не для того, чтобы подгонять неумелых индейцев. Они хотели покорять дикарей, завоевывать богатства, совершать подвиги. Все это можно было делать только во время экспедиций, а экспедиции, как нарочно, оттягивались. Когда же, наконец, адмирал начнет открывать настоящие индейские царства?
Как-то вечером Охеда, живший в одной палатке с Пизарро, пришел сумрачный и озабоченный.
— Сейчас я был у падре Бернардо, — начал рассказывать он. — Падре Бернардо уверяет, что солдаты ропщут, что скоро начнется голод и что из-за неспособности адмирала все мы погибнем. «Колумб, — говорит он, — виноват во всем. Скверные лошади, недостаток пороху, гнилая мука — все это его рук дело. Колумба нужно заковать в цепи и отправить в Испанию, как изменника, а власть передать падре Бернардо и контролеру Берналю Диасу». Вот что говорит наш аббат. Значит, Франсиско, опять пахнет бунтом?
— Без бунта не обойтись, сеньор Охеда, — согласился Франсиско. — Это было видно с первого же дня.
— Так что же нам делать? Признаться, мне надоело шпионить за адмиралом. Я не шпион, а солдат. Да и Колумб хороший моряк и недурной начальник, и мне его жаль. Разве рассказать ему все начистоту?
— А как на это посмотрит король, сеньор Охеда?
— Да, вот то-то и дело, что король… Король отправит меня в тюрьму, а этого мне не очень хочется. Так что же делать?
— Сторонкой надо итти, сторонкой, — повторил свою любимую фразу Франсиско. — Пусть наши начальники сами расхлебывают эту кашу. Вам, по-моему, пробовать ее не следует. Знаете, сеньор Охеда, пословицу скотоводов: «Большой баран всему стаду вожак, а маленький баран всему стаду дурак»? Ну так вот. Вы-то большой баран и, может быть, как-нибудь выпутаетесь, а я совсем маленький: выбегу вперед — сразу затопчут.
— Надоел ты мне со своими пословицами! — нетерпеливо крикнул Охеда. — Говори прямо, без обиняков!
— По-моему, нужно просить Колумба, чтобы пустил нас с небольшим отрядом на разведку острова. Побродим мы месяца два, а когда вернемся сюда, наверное, все уж будет кончено. Либо сеньор адмирал останется наместником, либо вместо него сядет кто-нибудь другой. Тогда и видно будет, что делать.
Охеда колебался: ему хотелось как-нибудь помочь Колумбу, но в конце концов доводы Франсиско взяли верх, и на следующее утро он отпросился у адмирала в разведку.
Экспедиция была небольшая: всего пятнадцать солдат да десять индейцев-проводников. 2 января 1494 года она тронулась в дуть. Это был первый поход Франсиско Пизарро.
Заросли и чащи, чащи и заросли… И между ними болота, кишащие змеями и тропическими пиявками и засасывающие человека с головой. Лежит на болоте сваленное бурей дерево, и как будто оно крепко, а ступишь на него — нога проваливается в гнилую труху и тонет в болотной жиже. Ухватываешься за растущий рядом куст и сейчас же отдергиваешь руку, потому что из-за листьев высовывается маленькая змеиная головка, шипит и сверкает глазками. Так промучишься часов пять-шесть, и, когда добредешь наконец до полоски твердой земли, оказывается, что сделал всего полмили
[8].
Под горячим солнцем на гнилых пнях распускаются яркие красные, белые, желтые и синие цветы, и бабочки величиной с ладонь перепархивают с одной чашечки на другую. Но осторожней рви эти цветы, осторожней, потому что многие из них — подарок дьявола. Одни дурманят голову, другие щекочут пряным запахом ноздри, третьи сочатся ядовитым соком, обжигающим кожу, как крапива. Есть, правда, и цветы, посаженные, должно быть, пресвятой девой. У них голубые лепестки, и на их темных прожилках можно ясно различить гвозди, которыми прибивали к кресту спасителя, и терновый венец. Но таких мало. Да и некогда глядеть на цветы испанскому солдату, истомленному жарой, измученному трудной дорогой. Золота, золота, золота — вот чего ищут его глаза, вот к чему тянутся его опухшие, пальцы…
За болотами — лесные дебри. Если не найдут индейцы тропинку, иди прямиком, разрезая ножом жесткие веревки зеленых лиан. Через полчаса такой работы нож тупится, рука затекает, и передового солдата сменяет другой. Муравьиным шагом ползет отряд под лиственными сводами, не пропускающими дневного света. Сыро и душно, пот струями течет сквозь рубашку, и нечем дышать. Так проходят дни за днями, и даже опытные проводники то и дело сбиваются с дороги и вместо поселка приводят отряд к зыбким топям и трясинам.
На прутике, где Франсиско отмечает зарубками дни своего путешествия, нарезано уже сорок пять черточек, а до сих пор удалось повидать только десять поселков. Может быть, нарочно водят индейцы за нос неопытных испанцев? Они коварные и непокорные, эти голые туземцы с повязками на бедрах. Когда их бьют, глаза их сверкают яростью. Они не любят носить тяжелые мешки с провиантом и норовят удрать, как только представится случай. Из десяти проводников осталось только пять, остальные скрылись во время ночных привалов. За ними нужно смотреть в оба, и теперь каждую ночь их связывают веревками.
В каждом поселке отдых на два-три дня. Впрочем, индейские селения вряд ли можно назвать этим именем, ибо построены там не дома, а птичьи гнезда, сплетенные из ветвей и крытые камышом или сухими пальмовыми листьями. Перед входным отверстием — костер, который курится день и ночь, а на костре — глиняные горшки. В горшках варятся какие-то зерна вроде ячменя и мука из бананов и индейского корнеплода — кассавы. Иногда найдешь там вареную рыбу или зажаренную дичь. С голодухи съесть можно, но в Трухильо стряпают много лучше. Оно и понятно: разве могут хорошо стряпать некрещеные?
 Христофор Колумб. Портрет маслом Альтиссима. 1555 год.
Христофор Колумб. Портрет маслом Альтиссима. 1555 год.
Есть у индейцев и золото. На стеклянные бусы наменяли его Охеда, Франсиско и все солдаты отряда — целые мешочки. Можно было бы получить его и больше, если просто-напросто отбирать его у каждого дикаря, но Охеда, повинуясь наказу Колумба, строго запрещает всякое насилие. Индейцы все показывают рукой на землю — объясняют, должно быть, что где-то есть золотые россыпи. Там, наверно, можно загребать его лопатами. Но поди-ка доберись до этих мест!
У индейцев, кроме золота, есть и другие интересные вещи. Из корней ямса варят они какой-то пахучий и хмельной напиток: если напиться его, голова хмелеет, как от самого крепкого вина. Из корней и листьев других растений добывают они опасный яд: если капля попадет в ранку, вся кожа вздуется, посинеет и будет болеть неделю, а если влить яду немного больше капли, начинаются судороги, и человек умирает на другой день. Франсиско набрал целую связку этих ядовитых листьев и положил в мешок: может быть, пригодятся.
Так бродили по острову Охеда, Франсиско и пятнадцать солдат, ища золота, редких пряностей и драгоценных камней. Москиты и зловонные испарения болот сделали свое дело: через полтора месяца чуть не половина солдат были больны лихорадкой, да и сам Охеда пролежал почти две недели. Привалы в деревнях становились все длительнее и длительнее: вместо двух-трех дней отряд отдыхал целую неделю, да и после этого отдыха солдатам, выступавшим в поход, казалось, что ноги их налиты свинцом.
Люди похудели, обросли длинными бородами, жгучее солнце опалило их лица, и, если бы вместо курток и штанов носили они одну только индейскую повязку на бедрах, вряд ли кто-нибудь отличил их от туземных проводников. Через два месяца даже Охеда не выдержал лишений и дал приказ трогаться в обратный путь.
В Изабелле их ждали большие новости: за время их отсутствия вспыхнул бунт, который, однако, Колумбу удалось усмирить.
Мятежники во главе с Берналем Диасом были закованы в кандалы и отправлены в Испанию. Но это не успокоило недовольных. Чуть не половина населения болела малярией и другими болезнями. Привезенные с родины припасы испортились, их почти нельзя было есть. Люди так отощали от голода, что наместник приказал приостановить постройки до тех пор, пока не придут корабли с провиантом. Падре Бернардо и его подчиненные ходили из палатки в палатку, из дома в дом, охали, ахали, соболезновали и намекали, что во всем виноват выскочка-генуэзец. Сам великий адмирал лежал больной и никого не принимал, но, когда ему доложили о прибытии охедовского отряда, он приказал немедленно привести Охеду.
Охеда пришел в сопровождении Франсиско. Они не узнали наместника — так он осунулся, похудел. Вместо бодрого и крепкого человека они увидели перед собой изможденного старика с зеленовато-бледным лицом, провалившимися щеками и сбившимися космами липких от пота волос. Только лихорадочно горящие глаза сверкали прежней решимостью и энергией.
— Не очень-то много золота вы набрали, — проговорил он, выслушав отчет о путешествии. — Нам нужны не крупицы, а самородки, по фунту и по два каждый. Двор будет недоволен. Опять станут говорить: Колумб — старый чудак, который вместо золота привозит только голых дикарей и кокосовые орехи. Но золото здесь есть, есть! Если не здесь, так на других островах. Где-то близко должен находиться Золотой Херсонес. Мы откроем его. Золото потечет к нам рекой. Туземцы десятками тысяч будут переходить в христианство. У наших королей окажется целая новая империя, да не какие-то там герцогства и графства с горошину величиной, а настоящая империя, занимающая полмира.
Дойдя до своей любимой темы, Колумб оживился. Глаза вспыхнули еще ярче, щеки порозовели.
— Люди не понимают, сколько богатств дадут эти страны. Отсюда потекут в Испанию и в другие страны Европы фрукты, хлеб, пряности, драгоценные деревья, не говоря уже о жемчуге и золоте. А сколько рабов наберем мы здесь! Правда, королева не хочет и слышать о них, она запретила нам даже произносить это слово. Но она скоро сама увидит, сколько денег можно за них получить. Рабы этих островов — тоже золото, живое золото. Но дело не в этом…
Колумб замолчал и, как будто позабыв о собеседниках, стал смотреть куда-то вдаль. Очевидно, начинался бред.
— Самое главное — это гроб господень! — неожиданно вдруг воскликнул он. — Святая земля и гроб господень в руках турок. Я дал обет прогнать турок из Палестины. Давно дал обет, а все еще не выполнил. Но я прогоню их, прогоню. Как только найду азиатский материк и наберу золота во владениях Великого Хана, я кликну клич по всей Европе, вооружу огромные армии и божьей грозой обрушусь на неверных. Посмотрим, осмелится ли кто-нибудь сказать тогда: Колумб — старый дурак, Колумб — невежда, Колумб гоняется за призраками…
Речь Колумба становилась все более и более быстрой и все менее и менее связной. Наконец он смолк и тяжело задышал, отирая платком струившийся по лбу пот.
— Ах да, вы здесь, — через силу проговорил он. — Мне плохо, я устал. Идите!
— Сеньор адмирал бредил? — спросил Франсиско Охеду, возвращаясь домой.
— Его и здорового не поймешь — не то он бредит, не то говорит наяву. У него тысячи планов. Он не успокоится до тех пор, пока не объедет всю землю. Да и тогда, пожалуй, не успокоится. Ему ведь еще надо выгнать турок из Европы!
— А я на его месте не стал бы думать о турках, сеньор Охеда. В Индии надо думать об Индии. Надо глядеть себе под ноги, а сеньор адмирал глядит не поймешь куда. И плох он, очень плох. Как бы не умер…
Колумб, однако, поправился, даже скорее, чем можно было ожидать. Как только к нему вернулись силы, он снарядил новую экспедицию внутрь острова, для того чтобы разбить неумолимого врага белых — кацика Каонабо — и найти более богатые золотые россыпи. Командовать экспедицией было поручено Охеде.
VIII
Охеде был дан отряд в пятьсот пятьдесят солдат. С этой небольшой армией он должен был итти на юго-восток, к недавно основанному форту св. Фомы, и принять начальство над крепостью. Капитану Маргариту, бывшему до сих пор ее комендантом, вверялось командование над всеми посланными ему силами и поручалось немедленно выступить в поход против Каонабо. Охеде предстояло охранять форт, соседние местности и дорогу к Изабелле.
В апреле 1494 года Охеда во главе отряда вышел из Изабеллы. Недалеко от него двигался Франсиско Пизарро, получивший должность начальника взвода.
Через несколько дней отряд был уже в форте. Это было довольно большое, сложенное из камней укрепление, стоявшее на вершине крутой скалы. Вдали раскинулись леса и несколько туземных деревень с хорошо возделанными полями и добродушным, приветливым населением. Туземцы еще не успели близко познакомиться с нравами белых, встречали пришельцев гостеприимно и нередко приносили им в подарок или на обмен маленькие кусочки золота, которое они называли «богом белых людей». О Каонабо ничего не было слышно — по-видимому, он ушел в дальние селения и исподволь готовился к нападению на белых.
— Надо двинуться на Каонабо поскорее, пока он еще не собрался с силами, — торопил Охеда своего начальника. — Со своими ордами он может наделать нам много хлопот.
Но капитан Маргарит не торопился и мало интересовался планами индейского кацика. Ему опостылело все: и остров, и путешествия, и экспедиции, и адмирал. Не найдя золотых самородков по нескольку фунтов весом, он счел себя обманутым и махнул рукой на военные затеи. Он напивался с самого утра и спал до вечера, а вечером опять напивался и спал до утра. Но и в те редкие минуты, когда он бодрствовал и был более или менее трезв, Охеда не мог добиться от него разумного слова. В ответ на настояния своего подчиненного капитан только ругался и бормотал:
— К чорту адмирала!.. К чорту Индию!.. Я не буду исполнять дурацкие приказы и сражаться с какой-то дурацкой индейской образиной… Выпейте-ка лучше вот этого хереса, сеньор Охеда. Этот херес — чудо, а все прочее — ерунда.
С каждой неделей дисциплина падала все более и более. Солдаты самовольно разделялись на маленькие отряды и разбредались по стране. Они грабили и убивали туземцев, сжигали поселки, подвергали утонченным пыткам индейских старшин, выпытывая у них сведения о золотых россыпях. Население в ужасе убегало в леса. Мирным и добродушным индейцам Каонабо казался теперь единственным спасителем и избавителем, и туземцы тысячами присоединялись к его отрядам. Охеда писал донесения Диего Колумбу, младшему брату адмирала, которого уехавший в новое путешествие наместник оставил своим заместителем. Из Изабеллы долго не приходило ответа. Наконец прискакавший из столицы гонец вручил капитану Маргариту приказ немедленно принять самые строгие меры для обуздания своих подчиненных, воспретить насилия над жителями и сейчас же выступить в поход против Каонабо.
 Истязание индейцев.
Истязание индейцев.
Капитан выругался, скомкал бумагу и бросил ее в огонь.
— У меня нет солдат, мне не с кем итти в поход! — крикнул он подошедшему Охеде. — Да если бы и было с кем итти, я все равно не пошел бы: испанскому гидальго не пристало подчиняться генуэзским проходимцам! Оставайтесь тут, сеньор Охеда, делайте, что хотите, а я сегодня же уезжаю в Изабеллу и оттуда в Испанию.
Капитан сдержал свое слово и уехал в тот же день. Немного спустя Охеда узнал, что Маргарит вместе с падре Бернардо и несколькими десятками недовольных отплыл на родину жаловаться королеве на Колумба. Комендант форта остался единственным начальником испанского отряда. Маленькая армия состояла теперь всего из восьмидесяти человек, да и эти восемьдесят были изнурены болезнями и тропической жарой, ослаблены пьянством и излишествами. Об экспедициях внутрь страны нечего было и думать. Охеда сомневался даже, удастся ли ему отбиться от туземцев, если Каонабо вздумает на него напасть.
Утренние доклады Пизарро не приносили ничего, кроме новых неприятностей.
— Ночью из гарнизона ушло еще двое солдат, сеньор Охеда, — докладывал он в понедельник.
— Трое солдат найдены в окрестностях форта убитыми, — докладывал он во вторник.
— Убежало еще трое, — докладывал он в среду.
И так каждый день.
Через две недели Охеда спросил его:
— Как ты думаешь, Франсиско, сколько солдат останется у нас через месяц?
— Вы да я, сеньор капитан, — не задумываясь, отвечал Пизарро. — Если Каонабо еще недели на две отложит нападение на форт, ему не с кем будет сражаться.
К счастью для испанцев, Каонабо не хотел больше ждать и через несколько дней появился под стенами крепости. Смертельная опасность преобразила солдат. Исчезла лень, прекратилось пьянство, восстановилась дисциплина. Стойко выдерживали они яростные атаки туземцев, и каждый штурм стоил Каонабо нескольких сот воинов. Видя, что победа над белыми отодвигается на неопределенное время, индейцы приуныли и приостановили штурмы. С крепостных башен видно было, как из лагеря Каонабо один за другим уходили отряды союзников. Охеда решил воспользоваться этим временным замешательством и прорваться сквозь полчища индейцев.
Однажды на рассвете загремела сигнальная труба, растворились — крепостные ворота, и весь гарнизон в полном боевом вооружении двинулся на неприятельский стан. Яркие знамена, грозные звуки труб и барабанов, оглушительные выстрелы пищалей, ржание закованных в сталь коней — все это поражало туземцев, многие из которых, впервые видели испанское войско в боевом строю.
Многочисленные полчища полуголых, ничем не защищенных людей разбивались о стальные ряды белых, как волны прибоя о каменный мол. С каждой минутой паника в войске Каонабо усиливалась. Индейцы уже не осмеливались схватываться с белыми врукопашную и лишь издали следовали за отрядом Охеды, осыпая испанцев тучами стрел. Но стрелы отскакивали от шлемов и панцирей, и белые спокойно продолжали свой путь, не теряя ни одного человека. Скоро преследование прекратилось, и Охеда благополучно вступил в Изабеллу.
Однако эта неудача не сломила сопротивления индейцев. Смелый кацик сумел в самое короткое время образовать союз туземных вождей, к которому примкнули все кацики острова, за исключением Гваканагари.
В распоряжении Каонабо было теперь несколько десятков тысяч воинов. По сравнению с этими огромными полчищами, наступавшими со всех сторон, вооруженные силы испанцев казались маленькой горсточкой. Колумб, вернувшийся к этому времени из своих плаваний, не отступил перед опасностью. Он хотел покончить с индейцами одним ударом.
— Сейчас или никогда, — повторял он своей свите. — В колонии идут распри. Нужно двинуть солдат в бой, пока они еще не совсем отучились слушаться.
Собрав в одну армию все разбросанные по острову отряды, Колумб выступил в поход. Сражение с индейцами произошло 25 апреля 1495 года. Испанцев было около трехсот человек, индейцев раз в сто больше. Но численное превосходство не спасло туземцев. Огнестрельное оружие, стальные панцири, лошади и военное искусство сделали свое дело. Каонабо был разбит наголову и спасся бегством, а армия его разбежалась по лесам. И все-таки эта блестящая победа не упрочила положения завоевателей. Пока оставался в живых умный и предприимчивый Каонабо, испанцы не могли считать себя хозяевами страны. Страшный враг по-прежнему зорко следил за каждым их движением, чтобы в удобный момент снова собрать рассеянные отряды и броситься на ненавистных поработителей. Это прекрасно понимали Колумб и его ближайшие соратники, и потому радость их была отравлена и торжество омрачено.
Охеда ходил задумчивый. Дня через три после победы он позвал к себе Пизарро в палатку на совещание.
— Мы разбили зайцев и упустили лису, Франсиско, — сказал он ему. — Надо ее залучить. Как, по-твоему, это сделать?
— Вызвать лису из норы можно только приманкой, сеньор Охеда, — отвечал Пизарро. — Бросьте хорошую приманку, и лиса сама придет к вам.
— А где взять эту приманку? — задумчиво проговорил Охеда.
— Приманка тут же, она около вас. Лучше сказать, она на вас.
— Ты опять говоришь загадками, Франсиско. Ты знаешь, что я не охотник их разгадывать.
— Приманка — это вы сами собственной особой, сеньор Охеда. Явитесь к кацику безоружным, привезите ему подарки, пригласите с собой — и кацик будет наш.
— Неужели ты думаешь, что он мне поверит?
— Индейцы глупы, сеньор Охеда. Они готовы верить каждому ласковому слову, если слово это подкрепить бубенчиками и стеклянными бусами.
— Над этим планом стоит подумать, Франсиско, — сказал Охеда. — Я поговорю на этот счет с адмиралом.
Колумб согласился. Охеда выбрал себе десять наиболее надежных солдат, во главе с Пизарро, и, разузнав от лазутчиков о местопребывании Каонабо, тронулся в путь.
Он взял, с собой бусы, медные бубенчики, яркие ткани и блестящие, новенькие ручные кандалы. В них он решил заковать пленника, если план удастся.
Каонабо был поражен, когда увидел перед собой безоружного врага — того самого человека, который разбил его войска перед фортом св. Фомы. Этот человек стоял теперь перед ним улыбающийся, ласковый и протягивал подарки один лучше другого.
— Ты храбрый вождь, — говорил ему через переводчика Охеда. — Наш вождь хочет жить с тобой в дружбе, потому что он еще не видел таких храбрых людей, как ты.
Каонабо смотрел то на подарки, то на Охеду и ничего не понимал. Смелость белого человека ошеломила его. Ведь одного его слова достаточно, чтобы этого вождя бросили на костер и стали поджаривать на медленном огне, как обычно поступали люди его племени со своими врагами.
А белый человек и не думал об опасности, только улыбался и говорил ласковые речи.
— Наши солдаты причинили твоим людям много вреда, — продолжал Охеда. — Наш вождь приказал разыскать всех тех, кто обижал твоих соплеменников, и заключить их в тюрьму. Он ждет только твоего приезда, чтобы сжечь их на костре у тебя на глазах.
Это окончательно подкупило Каонабо. Он угостил гостя напитком из ямса, жареной дичью и пошел провожать его до ближайшей речки. Но ехать к Колумбу он все-таки не решился. Охеда едва скрывал свое разочарование. Задуманный план удался наполовину, вернее — совсем не удался. Можно было бы в последнюю минуту убить вождя или похитить его, но для этого требовалось оружие, а его не было. Десять невооруженных всадников не смогли бы справиться с многочисленной свитой кацика.
Охеда ехал мрачный и угрюмый. Каонабо в сопровождении воинов шел рядом с ним. Вдруг глаза Охеды сверкнули, на губах появилась улыбка. Он подозвал Пизарро.
— Давай мне скорей кандалы, — шепнул он Пизарро. — Только поднеси их с важным видом, точно несешь большую драгоценность.
Пизарро отъехал. Минуту спустя Охеда остановил коня и свистнул. Пизарро спешился, вынул из сумки кандалы и, низко согнувшись, поднес их Охеде.
— На прощанье я поднесу тебе самый главный подарок, — обратился Охеда к Каонабо. — Это украшение самые знатные люди моего народа носят вот здесь, — и он показал Каонабо на кисть руки. — Они даются самым храбрым, самым великим. Но, прежде чем их надеть, человек должен вымыться в реке и проехаться на лошади. Таков обычай. Когда ты наденешь эту вещь на руки, ты сможешь взять у нас, что хочешь — не только бубенчики, а даже самый большой колокол, в который звонят у нас в столице.
Каонабо обрадовался, как ребенок. Он издали слышал звон этого колокола, когда однажды вечером очутился со своим отрядом в окрестностях Изабеллы. С тех пор он не мог забыть эти удивительные, величественные звуки и часто мечтал о том, как он будет наслаждаться ими в собственном селении после того, как разобьет белых и разграбит их столицу. Он смеялся, кивал головой, показывал пальцами на видневшуюся вдали речку. Лишь только шествие остановилось у берега, Каонабо бросился в воду, окунулся несколько раз и, подойдя к Охеде, протянул ему руки.
Охеда быстро надел кандалы и помог кацику усесться сзади себя на крупе лошади. Каонабо важно ударял наручниками друг о друга и, обратившись к своим подданным, показывал заморскую игрушку. Воины его кричали от восторга. Ведь ни на одном, из белых не видели они такого украшения. Их вождь был теперь выше белых, выше их главного вождя!
Охеда ездил по руслу речки взад и вперед. Потом, приблизившись к противоположному берегу, он мигнул Пизарро, хлестнул коня и пустился вскачь вместе со своими кавалеристами. Левой рукой он крепко обнимал беспомощного кацика и так домчал его до опушки леса. Там Каонабо крепко связали веревками, один из солдат взял его к себе в седло, и отряд поскакал дальше. — Туземцы, только теперь понявшие предательство белых, с яростными криками бежали вслед и осыпали всадников стрелами. Но расстояние было уже слишком велико, стрелы не долетали, и с каждой минутой отряд удалялся, пока совсем не скрылся из виду.
Плен Каонабо еще не положил конца сопротивлению. Власть перешла к брату Каонабо, который в короткое время собрал вокруг себя мятежных вождей и с большим войском тронулся против белых. Но и на этот раз индейцев ждал разгром. Охеда, назначенный главнокомандующим новой испанской армии, без труда разбил нестройные полчища и прочно утвердился в форте св. Фомы и в прилегающих к нему районах. Кацики покорились белым. Подати, наложенные на туземцев Колумбом, были чрезвычайно велики: каждые три месяца всякий взрослый индеец должен был приносить по одному бубенчику, наполненному золотым песком, а кацик — полную золота тыквенную бутылку. Кроме того, туземцам приходилось даром выполнять множество трудовых повинностей: строить поселки, прокладывать дороги, расчищать леса, обрабатывать поля. Население изнывало под этим невыносимым бременем, но зато в испанскую казну потекли изрядные доходы со всех заморских владений. А для завоевателей только это и было важно.
IX
Для Охеды и Пизарро наступили спокойные дни. Смертельно напуганные туземцы не причиняли никакого беспокойства. Не слышно было ни о заговорах, ни о восстаниях. Солдаты грабили меньше, по всей вероятности не из страха перед наказаниями, а потому, что нечего было грабить. Подати поступали исправно. Роскошная растительность, окружавшая форт Царской долины, радовала глаз и как будто приглашала к отдыху. Более мирно настроенные испанцы начали мечтать о привольной помещичьей жизни на фермах и плантациях, где сотни индейцев-крепостных будут возделывать поля, а их белые господа наслаждаться роскошью и богатством. Охеду и Пизарро эти мечты не соблазняли. Их по-прежнему манили рискованные походы, головокружительные победы, золото без счета, власть без границ. Они хотели открывать неведомые материки, завоевывать необозримые царства, и форт св. Фомы казался им тюрьмой, а жизнь в нем — позорной ссылкой.
Все чаще и чаще Охеда заговаривал о том, что пора распроститься с островом и на собственный страх и риск пуститься в новые плавания. Но проходили дни, недели, месяцы, а Охеда все еще не мог решиться, когда и как это сделать. Колебания его сразу кончились, когда в конце октября из Изабеллы приехал гонец и вручил ему объемистое письмо от жившего в столице друга. Друг этот писал, что доносы падре Бернардо Бойля и других недовольных оказали свое действие. Не только король Фердинанд, но и королева Изабелла охладела к Колумбу. Посланный в Испанию брат адмирала, Диего, не смог опровергнуть наветы, и король послал на Эспаньолу сеньора Агуадо, которому было поручено проверить на месте обвинения, выдвинутые против наместника. «Ты, конечно, понимаешь, что это значит, — заканчивал письмо друг. — Сеньор Агуадо постарается собрать у колонистов такие показания, которые дали бы повод лишить Колумба прав и предать суду. В таких показаниях недостатка не будет, потому что недовольных на острове много».
Охеда не замедлил сообщить Пизарро эти известия.
— Ну, вот видишь, Франсиско, — закончил он. — Песенка адмирала спета. Это значит, что моя песенка только начинается.
Пизарро в недоумении взглянул на него.
— Все это очень просто, — стал разъяснять Охеда. — Если Колумб впадет в немилость, король сейчас же станет искать людей, которые продолжили бы его дело. Мое имя и экспедиции, в которых я участвовал, известны при дворе. Если я после отставки адмирала явлюсь к королю и предложу свои услуги, мне, наверное, не откажут. Не правда ли?
— Семь раз примерь, один отрежь, сеньор Охеда, — отвечал Пизарро. — Молодому быку опасно приходить в стадо, пока старый не зарезан. Подождите, пока зарежут старого быка!
Охеда послушался совета и подождал еще два месяца. От друга пришло новое письмо, полностью подтвердившее прежние предположения. Сеньор Агуадо принялся за расследование очень ретиво, не брезговал ни клеветой, ни сплетнями. Колумб понимал, что если он не явится самолично ко двору, дело его проиграно и ему придется расстаться с наместничеством, а может быть, даже и со свободой. Он объявил, что поедет вместе с Агуадо в Испанию.
Отъезд предполагался в начале весны.
Рассказав Пизарро о том, что писал друг, Охеда воскликнул:
— Ну, Франсиско, по-моему, старый бык зарезан! Пора посылать нового. Надо только не упустить время, чтобы не послали кого-нибудь другого.
— Да, сеньор Охеда, теперь как раз время, — согласился Пизарро. — Вот только не знаю, наступило ли время для меня…
— Если оно наступило для меня, значит и для тебя, — перебил Охеда, в волнении
шагая по комнате. — Я добуду от короля жалованные грамоты на открытые мною земли, снаряжу в Испании собственную флотилию, потом доберусь до индейского материка и стану там наместником, а ты будешь моим помощником. Это совершенно ясно, и так оно и будет!
— Я знаю, что вы не — забудете своего Франсиско, сеньор Охеда! Вы никогда не забываете друзей! — воскликнул пылко Пизарро и низко склонился.
«Бедняга растроган, — подумал Охеда, глядя на склонившуюся голову Франсиско. — Он прячет от меня глаза, чтобы скрыть слезы благодарности».
Охеда не угадал. Франсиско прятал не слезы — он прятал некстати появившуюся на лице насмешливую улыбку. «Милостиво сказано! Он наместник, а я его помощник, — думал Пизарро. — И, может быть, даже не помощник, а просто доверенный слуга… Как бы вам не ошибиться, сеньор Охеда! На этой земле все зависит от счастья. Если Франсиско Пизарро повезет, может быть он станет наместником, а вы его помощником. Да и то в том лишь случае, если он захочет вас взять. А это еще неизвестно».
Из форта св. Фомы Охеда уехал в январе, а 10 марта 1496 года вместе с Колумбом отплыл в Испанию. Пизарро остался без влиятельного покровителя и стал терпеливо тянуть скучную лямку младшего гарнизонного офицера.
X
Пизарро не надеялся быстро продвинуться по службе. Он отлично знал, что в испанской армии высшие посты даются не за заслуги, а за знатность рода. Он рассчитывал только на то, что ему удастся принять участие в какой-либо далекой экспедиции, которая принесет славу и обогащение. Но, на его несчастье, на Эспаньоле в это время не думали о больших и смелых начинаниях. Колонисты и солдаты гораздо больше были заняты распрями, чем планами новых открытий. Второй брат Колумба, Бартоломео, которого адмирал на время своего отсутствия назначил губернатором колонии, не мог водворить дисциплину среди разношерстного сброда, посланного на остров.
Искатели легкой наживы были недовольны тем, что им не раздают в собственность невольников, что не находится россыпей, где золото можно собирать ведрами, что им не жалуют почетных и доходных мест. Колонисты-земледельцы не умели наладить хозяйство и голодали. Озлобленные неудачами, все эти люди винили во всех своих бедах «выскочку генуэзца» Бартоломео и готовы были пристать к любому проходимцу, достаточно смелому для того, чтобы поднять бунт против заместителя Колумба. Хитрый и энергичный Ролдан, занимавший должность главного судьи, искусно разжигал это озлобление. Когда вокруг него собралась многочисленная группа недовольных, он перешел к открытой борьбе и со значительным отрядом удалился в глубь острова, чтобы начать военные действия против Бартоломео. Все испанское население Эспаньолы разделилось на две партии, почти одинаковые по численности.
Пизарро не решился примкнуть ни к той, ни к другой. Связать свою судьбу с Бартоломео было так же опасно, как перейти на сторону бунтовщиков. Колумб мог навсегда остаться в Испании и лишиться всех своих титулов и привилегий, и тогда Бартоломео грозило смещение, а его сторонникам — быстрая и жестокая расправа. Но могло случиться и другое: Колумб мог оправдаться от обвинений и снова получить милость двора, и тогда Ролдана и его сообщников ждала верная гибель. Пизарро очутился между молотом и наковальней. Чтобы уцелеть, надо было найти место, одинаково далекое и от молота и от наковальни — и от Ролдана и от Бартоломео. Уединенные военные посты в чащах тропических лесов, берега никому еще не известных золотоносных рек, малоизведанные земли близлежащих островов — вот что являлось единственным убежищем от гражданской войны и ее опасностей.
В эти-то места и направился Пизарро. Без труда получив разрешение на устройство небольших экспедиций, он набрал себе отряд в пятьдесят человек и блуждал по Эспаньоле и мелким островам. Он не затевал рискованных предприятий, но не отказывался от тех случайных подарков, которые иногда посылала ему судьба. Его кожаный мешочек медленно наполнялся найденным или отнятым у туземцев золотым песком. Когда у туземцев попадался жемчуг, Пизарро отбирал и его. Он тщательно исследовал тропические леса, надеясь найти в них высоко ценимый перец и другие пряности жаркого пояса. Он изучал местность и понемногу осваивался с наречием туземцев, чтобы воспользоваться этими знаниями, когда наступит время для самостоятельных открытий. Все это не приносило ему богатства, но зато избавляло и от Ролдана и от Бартоломео. Изредка он наезжал в Изабеллу. Видя, что борьба партий продолжается по-прежнему и ни один из соперников не может добиться окончательной победы, он опять отпрашивался в экспедицию и направлялся в новое место.
Два с лишним года прошло в этих странствиях. Наконец Пизарро узнал, что Колумб вернулся на остров с милостивой грамотой от короля, подтверждавшей все его права и титулы. Рассказывали также, что Колумб помирился с Ролданом и поручил мятежному судье умиротворение острова. Наместник, по-видимому, прочно сидел на своем посту. Теперь можно было окончательно вернуться в столицу, не рискуя ввязаться в междоусобицу.
Прибыв в Изабеллу, Пизарро поселился на окраине города и часто стал посещать свиту адмирала, в надежде получить более или менее крупную должность. Его знали как храброго солдата и как человека, хорошо знакомого с островом, и давали понять, что заслуги его будут приняты во внимание.
Однажды вечером, зайдя, по обыкновению, в дом адмирала, Пизарро заметил, что свита Колумба чем-то очень взволнована. Люди обменивались значительными взглядами, шептались по углам, тревожно озирались на дверь Колумбова кабинета, как будто ожидая услышать оттуда что-то важное и неприятное. Адъютант наместника подошел к Пизарро, взял его под руку и, отведя в сторону, сообщил шепотом неожиданную новость: у берегов Эспаньолы появился с тремя кораблями Охеда.
— Может быть, адмиралу понадобится ваша военная опытность, сеньор Пизарро, — добавил он, выразительно взглянув на собеседника.
Пизарро сразу понял, в чем дело: Охеда приехал как враг, и готовится новая междоусобная война. Его, Франсиско Пизарро, должно быть, хотят послать против его друга и покровителя. «Угораздило же меня приехать в Изабеллу так рано! — с досадой думал Пизарро, возвращаясь домой. — Но зачем приехал сюда Охеда? Что он собирается делать на острове?»
Поздно ночью его недоумение разрешилось. В окно кто-то осторожно постучал. Не задавая ненужных вопросов, Пизарро поспешил открыть дверь и впустил позднего гостя. Как он и предполагал, это был посланец от Охеды.
— Вы знаете эту вещь, сеньор Пизарро? — спросил вошедший, показывая хорошо знакомый Пизарро перстень с фамильным гербом Охеды.
— Вещь эту я знаю, но того, кто ее показывает, не знаю, — отвечал Пизарро, осторожный, как всегда.
— Чтобы у вас не было никаких сомнений насчет меня, сеньор Охеда приказал мне напомнить вам разговор, который был у него с вами накануне его отъезда. Он пообещал сделать вас своим помощником, когда получит должность губернатора открываемых земель. Вы были так растроганы этим обещанием, что на глазах у вас показались слезы, и вы наклонили голову, чтобы их скрыть. Вы, наверное, помните этот случай. По крайней мере, сеньор Охеда помнит его очень хорошо.
— Я помню его еще лучше, чем сеньор Охеда, — подтвердил Пизарро, слегка улыбнувшись. — Я был действительно очень-очень растроган.
— Значит, вы поверите всему тому, что я должен вам передать от имени сеньора Охеды? Сеньор Охеда получил в Испании грамоту на право открытия новых земель, расположенных в этой части света. Он снарядил экспедицию и со своими кораблями объехал море, находящееся значительно южнее этого острова. Он открыл там материк и назвал его Венецуэлой. Во всех открытых им землях он является полномочным наместником. Но, чтобы продолжать открытия, ему нужна помощь, которую он может получить только здесь. Колумб, который смотрит на него как на соперника, разумеется, не окажет ее. Но судьба Колумба уже решена. При дворе сеньору Охеде сказали, что Колумб отрешается от своей должности, и от королевского имени дали грамоту, передающую полномочия наместнику, сеньору Охеде. Нужно привести в исполнение приказ наших государей. Сеньор Охеда рассчитывает на вас. Вы должны набрать надежных солдат и с ними итти к нему. Через несколько дней Колумб будет в наших руках. Итак, скажите, может ли рассчитывать на вас сеньор Охеда?
— Передайте сеньору Охеде, что я сделаю все, к чему обязывают дружба и преданность, — отвечал Пизарро.
Посланец откланялся и исчез.
Всю ночь Пизарро провел без сна. Куда пристать, с кем итти? Правда или неправда то, что ему рассказали? С одной стороны, Охеда несомненно получил какую-то грамоту, иначе ему не разрешили бы снарядить, экспедицию. Но если его действительно назначили наместником вместо Колумба, почему он сразу не приехал на Эспаньолу и не принял начальства над островом? Открывать новые земли он мог бы и после того, как вступит в свою должность. Нет, тут что-то неладно! Охеда что-то скрывает и в чем-то лжет. Если бы он был уверен в своих правах, он не стал бы исподтишка подсылать к нему гонцов. Он прислал бы Пизарро открытый приказ, и Пизарро не замедлил бы ему подчиниться. Охеда ведет какую-то игру. Выигрыш в ней сомнителен, а опасность ее несомненна.
«Нет, нет, сеньор Охеда! — повторял про себя Пизарро, ворочаясь в постели. — Я не гранд, чтобы ввязываться в вашу затею. То, что гранду сойдет с рук, Франсиско Пизарро приведет на виселицу. Я не стану воевать с Колумбом, пока он наместник. Но и отказать Охеде в помощи тоже нельзя. Охеда сочтет меня своим врагом, а его дружба может еще очень и очень пригодиться. Нужно что-то придумать, чтобы не разгневать ни адмирала, ни Охеду. Но что, что?»
Наступило утро. Пизарро долго лежал озабоченный и хмурый. Вдруг лицо его прояснилось, он облегченно вздохнул и набожно произнес:
— Слава пресвятой деве! Это она меня надоумила. Лучше ничего не выдумаешь!
Когда, немного спустя, Пизарро вызвали к адмиралу, он был спокоен и весел.
— Пятого сентября Охеда вступил на мою территорию, — начал Колумб. — Он не имеет права ее касаться. Ему дана грамота только на новые земли, но отнюдь не на то, что завоевано и открыто моими трудами. Сеньор Охеда — разбойник с большой дороги. Он помогает той партии, которая вот уж сколько времени всячески чернит меня при дворе и старается расстроить все мои планы. Козни, интриги, зависть, непонимание — вот что посылает мне судьба в награду за великие открытия!
Лицо адмирала исказилось. Спокойное достоинство, обычно отличавшее Колумба, покинуло его, как только он стал вспоминать свои обиды. Слова лились страстным и неудержимым потоком, и адмирал, казалось, совсем забыл о том деле, ради которого он пригласил Пизарро. Так продолжалось минут десять.
Наконец он резко оборвал свою обличительную речь и крикнул:
— И все-таки заступничество пресвятой девы спасло меня от завистников! И от вас спасет, сеньор Охеда! Берегитесь!
Немного помолчав, он вдруг спросил:
— Ты, кажется, очень дружил с Охедой, Пизарро?
— Пока сеньор Охеда был другом короля, я был другом сеньора Охеды, — отвечал Пизарро. — Но, если Охеда выступает против законных властей, назначенных королем, я не могу с ним дружить.
— Именно, именно… Охеда выступает против меня — значит, он подымает бунт против короны. Надеюсь, ты будешь защищать короля от бунтовщиков?
— До последней капли крови, сеньор адмирал!
— Прекрасно. Тебе придется немедленно отправиться с отрядом солдат к Ролдану, которому я поручил удалить Охеду с острова. Бунтовщика надо прогнать отсюда, а как — это дело твое и Ролдана. Выбери надежных солдат и сейчас же отправляйся в путь.
— Здешние солдаты не очень надежны, сеньор адмирал. Лучше всего взять отряд из форта святого Яго, неподалеку отсюда.
— Делай, как знаешь. Ну, теперь иди, и да поможет тебе святой Георгий!
Пизарро поспешил к своей хижине. Из небольшого солдатского сундучка он достал кружку, огниво, трут и пакет каких-то сухих листьев. Наскоро сунув все это в сумку, он направился к форту. Путь был недалекий, Пизарро шел быстро, и через полчаса сквозь ветви деревьев уже показались вдали бревенчатые строения крепости. Внимательно оглянувшись по сторонам, Пизарро свернул с тропинки в лес и через несколько минут оказался в самой чаще тропических зарослей. Он остановился и стал прислушиваться. Под зелеными сводами стояла мертвая тишина, и только высоко над головой, на верхушках лесных великанов, кричали и ссорились попугаи. Пизарро набрал мху, сухих прутиков, сложил маленький костер и развел огонь, потом зачерпнул в кружку воды из соседнего болотца, положил туда из пакета сухих листьев и поставил кружку на угли. Это были те самые ядовитые листья неизвестного растения, которыми он запасся во время первой своей экспедиции.
Вода понемногу темнела и превращалась в густую клейкую массу. Когда она приобрела золотисто-коричневый цвет, Пизарро снял кружку с углей и потушил костер.
Он снял с правой ноги сапог, засучил брюки и немного выше колена сделал ножом чуть заметный укол. Потом тем же ножом достал из кружки каплю тягучего ядовитого варева, разбавил ее водой и разбавленной жидкостью натер уколотое место. Через четверть часа нога покраснела и распухла.
— Ну, теперь пора! — проговорил Пизарро и выбрался на тропинку.
В форт он пришел прихрамывая, с встревоженным лицом.
— Меня по дороге укусила змея, — сказал он начальнику гарнизона. — Принесите скорее противоядие и перевяжите ногу!
Пока ходили за чистым полотном, целебными травами и холодной водой, Пизарро передал приказ адмирала и отобрал солдат. Но принять над ними начальство ему не удалось: принесенные противоядия не помогли, нога побагровела, вздулась, как бревно, и в Изабеллу Пизарро пришлось нести на носилках. Командование над отрядом адмирал вынужден был передать другому. Пизарро лег в постель и спокойно дожидался развязки вооруженной борьбы. Он пролежал около двух недель. Когда он выздоровел, борьба была уже кончена. Ролдан разбил бунтовщиков, захватил пленных и вернулся в Изабеллу победителем. Охеда, истративший все свои боевые припасы и снаряжение, поспешил покинуть берега Эспаньолы и отплыл в неизвестном направлении. Как выяснилось впоследствии, он вернулся в Испанию.
Ни Охеда, ни Колумб ни в чем не заподозрили Франсиско Пизарро. Когда Охеда узнал от солдата-перебежчика о несчастье, которое стряслось с его другом, он грустно покачал головой и сказал: «Бедный Франсиско! Если бы не эта проклятая змея, он был бы теперь моим адъютантом, а я — наместником острова!» Колумб несколько раз присылал справляться о здоровье больного и послал к нему своего врача.
XI
Мало-помалу на острове восстанавливался порядок. Потеряв надежду на быстрое обогащение, наиболее дельные колонисты взялись за обработку своих полей, и плодородная земля стала давать обильные урожаи. В подвозе продовольствия из Испании уже не было нужды: Эспаньола обходилась своими собственными продуктами. В открытых внутри острова россыпях добывалось много золота, половина которого поступала в королевскую казну. Для новых испанских владений наступало как будто время благоденствия и внутреннего мира.
Франсиско мало интересовался этими успехами. Обзаводиться хозяйством, разводить скот, засевать пшеницей обширные поля и с помощью подневольного труда индейцев сколачивать по грошам капиталец — все это не привлекало его. Чем дольше жил он в Новом Свете, тем упрямее мечтал о лакомом куске, о большом открытии, которое сразу даст ему и богатство и власть. Все предприимчивые люди находили здесь огромные новые страны. Если не везло им в одном месте, везло в другом. Охеда бежал с Эспаньолы, но в южных морях он наткнулся на целый материк и в разведанной им части, которую он назвал Венецуэлой, получил права наместника. Почему бы и Пизарро не открыть какую-нибудь другую Венецуэлу, почему бы и ему не стать наместником? Если бы в этом заветном мешочке, что спрятан у него под полом, лежали не жалкие пять фунтов золота, а фунтов сто или полтораста, Франсиско Пизарро сам снарядил бы флотилию, и об открытиях его заговорил бы весь свет. Ну что ж, может быть, и ему улыбнется со временем судьба!
Военное начальство Эспаньолы считало Пизарро способным и смелым солдатом и часто поручало ему руководство экспедициями на соседние острова. Поэтому почти все время Франсиско проводил в разъездах и редко жил в Изабелле больше одной или двух недель. В 1500 году он находился в отсутствии около полугода. Вернувшись в столицу, он не застал ни одного из прежних своих начальников: Колумб и его братья сидели под арестом, и островом правил Бобадилья, присланный из Испании для расследования деятельности наместника. А еще через полтора месяца Колумба, закованного в ручные кандалы, отправили в Испанию для предания суду. На остров великий адмирал больше не возвращался.
При новом начальстве ни о каких далеких странствиях мечтать не приходилось: Бобадилье некогда было думать об открытиях. Отняв имущество у Колумба и его братьев, он стал грабить ближайших сотрудников Колумба, и в этих занятиях проходило все его время. Скоро и Бобадилью постигла беда: за своевольную расправу с Колумбом его сместили и вытребовали обратно на родину. На его место приехал губернатор Ованда с несколькими тысячами колонистов. Но и Ованда не желал предпринимать никаких дорогостоящих экспедиций. Он предпочитал заниматься более спокойным делом: размещал колонистов на Эспаньоле и окружающих островах, искал новые золотые россыпи, усмирял непокорные племена, выписывал из Испании каменщиков и плотников, сгонял индейцев на постройку крепостей, церквей и казенных зданий. При таком начальнике Франсиско Пизарро нечего было делать. Покинув Эспаньолу, Франсиско опять пустился в странствия.
Странствия эти продолжались десять лет. Франсиско всюду пробовал свои силы: то искал золото вместе с случайными партиями золотоискателей, то поступал на военную службу, то принимал участие в маленьких экспедициях отдельных смельчаков. Но никакому делу он не мог полностью отдаться: мысль о новых землях владела им неотступно и гнала с острова на остров, с корабля на корабль. Да разве можно было успокоиться, когда все кругом только и говорили что о необъятных территориях, открываемых на западе и юге? В 1496 году Понсе де-Леон открыл полуостров Флориду, в 1499 году Охеда открыл Венецуэлу и объехал вдоль ее побережья, а в 1502 году сам великий адмирал, освобожденный от суда и пустившийся в последнее свое путешествие, наткнулся на мыс Гондурас и прибрежную полосу неизвестного материка, названную им Верагуа. Теперь уже все понимали, что новооткрытые земли — не Индия, а какая-то неизвестная европейцам часть суши. За ней, должно быть, опять тянется океан, и только за этим океаном лежит настоящая Индия. Насколько велик этот новый материк? Каковы народы и племена, которые на нем обитают? Сколько золота и драгоценных пряностей можно там найти? Этого не знал никто.
После одной из неудачных экспедиций Пизарро приехал на Эспаньолу. Столица была теперь перенесена из Изабеллы, брошенной испанцами вследствие нездорового климата, на южное побережье острова, в город Сан-Доминго, который основал в 1506 году брат великого адмирала — Бартоломео. За четырнадцать лет город стал неузнаваем. Из маленького поселка он превратился в довольно значительный порт с правильными улицами, большим собором, поместительным каменным домом губернатора и множеством частных и казенных зданий. Европейцы, впервые приезжавшие сюда, восторгались талантами губернатора Ованды и его преемника, сумевших, так быстро заселить и застроить это дикое место. Туземные кварталы на окраинах, правда, очень мало походили на центральную часть столицы. Беспорядочно разбросанные крытые пальмовыми листьями шалаши, грязь, кучи отбросов, голые мужчины и голые женщины — все осталось там в том же виде, в каком было до прихода белых. Только люди разучились там петь, плясать и смеяться, спины их сгорбились под тяжестью непосильных нош, в погасших глазах застыли страх и отчаяние. Как затравленные зверьки, ютились они в своих плетеных клетках, дрожа от ужаса при виде белого человека. Испанцы не замечали их и вспоминали только тогда, когда нужно было промывать золотоносные пески, дробить рудные залежи, строить крепости, церкви и дома для колонистов. «Если леность и безделье мешают обращению индейцев в христианство, заставляйте их работать, — писала королева Изабелла губернатору, — но только никоим образом не обращайте их в рабство». Ованда исполнил ее наказ. Ни в столице, ни в прочих поселках острова не числилось ни одного раба. Все туземцы были, свободные каторжники. Не замечал индейцев и Пизарро. Скользнув равнодушным взглядом по жалким туземным предместьям Сан-Доминго, он направился из гавани в центр и долго бродил по улицам. Он не увидел здесь ни одного знакомого лица. За время его отсутствия все чиновники успели смениться, старые колонисты или умерли, или переселились на новые места, старые солдаты были, разосланы по многочисленным фортам обширного наместничества или вернулись на родину. Пизарро стало грустно. Семнадцать лет странствовал он по Новому Свету и по-прежнему оставался одиноким искателем приключений, без влиятельных друзей, без средств, без надежд, впереди. Ему уже исполнилось тридцать шесть лет, а, счастливого случая, который нищего конквистадора
[9] сразу делает губернатором и богачом, до сих пор не подвертывалось.
Пизарро повернул обратно в порт. Вдоль набережной, тянулись товарные склады, а за ними мелкие лавчонки, игорные притоны и кабачки. Один из кабачков был больше других. На вывеске его красовалось похожее на кошку красное животное, а под кошкой стояла подпись: «Гостиница Кастильского льва». Пизарро вошел и, спросив бутылку вина, уселся за одним из столиков.
Посетителей было мало: два матроса, гарнизонный солдат да еще какой-то человек, сидевший в углу спиной к Пизарро. В осанке этого человека зоркий глаз Пизарро уловил что-то знакомое. Он где-то видел эту крепкую спину, эти тонкие, но сильные руки, эту гордо закинутую голову. Знаком, очень знаком был и голос, крикнувший хозяину:
— Давай сюда еще бутылку!
Человек обернулся, и Пизарро увидел его лицо. Сомнений быть не могло: это был Алонзо Охеда. В его волосах и маленькой, подстриженной по моде бородке сверкали серебряные нити, глаза глубоко запали в орбиты и окружились морщинками, щеки ввалились, но во взгляде сверкала прежняя дерзкая отвага, в губах улавливалась прежняя надменность, в квадратном подбородке — прежнее упорство.
— Сеньор Охеда! — вскрикнул Пизарро и подбежал к своему старому другу и покровителю.
Обнялись, стали вспоминать прошлое.
— Если бы меня не укусила так не вовремя змея, я давно был бы с вами, дон Алонзо, — говорил Пизарро.
— Змеи всегда кусают не вовремя, друг мой, — съязвил Охеда, — и почему-то они особенно любят кусать тогда, когда нужно рискнуть собой ради приятеля. Ну, да дело не в этом. У меня с тобой разговор посерьезнее…
Охеда рассказал о своих приключениях: о том, как он открыл Венецуэлу, о том, как в 1502 году он затеял новую экспедицию, во время которой компаньоны ограбили его и едва не убили, о том, как в 1505 году третья экспедиция тоже кончилась неудачей. Это была повесть о непрерывных злоключениях и несчастиях, и Пизарро, слушая ее, мысленно поблагодарил своего покровителя, св. Франсиско, за то, что тот сохранил его от этих испытаний.
— Но это ничего не значит, — закончил Охеда свой рассказ. — Я снарядил теперь четвертую экспедицию. Не может быть, чтобы и эта ни к чему не привела. Я поеду в те места, которые посетил великий адмирал во время своего последнего путешествия. Покойник был чудак и безумец — да упокоит господь его душу! — но у него все-таки был верный нюх. Здесь ничего хорошего не найдешь. Самое главное — на южном материке. И надо торопиться, надо ехать, пока его не захватили другие. Хочешь быть моим главным помощником?
Пизарро с радостью согласился. Случай привел его в гостиницу «Кастильского льва», и тот же случай, может быть, поможет ему осуществить наконец заветные мечты.
XII
Эскадра Охеды состояла из четырех судов с тремя сотнями матросов и солдат. Собственно говоря, она принадлежала не Охеде, а его заимодавцам — нескольким богатым колонистам с Эспаньолы и адвокату Энсисо, главному пайщику задуманного предприятия. Человеку без имени эти люди, конечно, не ссудили бы своих капиталов, но Охеда был хорошо известен всем жителям Нового Света. Его связи при дворе служили лучшей защитой от придирок местных властей, а его военные таланты, находчивость и отвага, казалось, обеспечивали успех экспедиции. Кто-нибудь и когда-нибудь должен же найти сокровища, лежащие в обширных пространствах только что открытого материка! И кому же добраться до них, как не прославленному соратнику Колумба? Эти надежды в одинаковой мере разделялись, и кредиторами, и самим Охедой, и всеми его подчиненными, начиная с Пизарро и кончая последним матросом.
Флотилия Охеды вышла из Сан-Доминго 15 ноября 1509 года, держа курс в юго-западном направлении. Руководителю экспедиции эта часть моря была хорошо известна по прежним его путешествиям, и через неделю корабли благополучно дошли до Дариенского залива и бросили якоря у побережья Ураба. К западу от этого пункта начинались владения Охеды, к востоку — области, пожалованные его сопернику Никуэсе. По договору с испанским правительством, и Охеда и Никуэса должны были возвести на отведенных им территориях по два укрепленных форта, а затем приняться за покорение и разведывание прилегающих земель. Охеда в точности выполнил это обязательство, вполне, впрочем, соответствовавшее его собственным интересам.
Не прошло и трех недель после высадки, как на пустынном берегу вырос уже форт Сан-Себастиан, окруженный рвом и бревенчатым частоколом и дававший надежную защиту от враждебных туземных племен. Строители упустили из виду только одно маленькое обстоятельство: сырой, отравленный болотными испарениями климат этой части побережья заранее обрекал на смерть всех белых, рискнувших поселиться здесь. В пылу воинственных приготовлений об этой мелочи забыли. Значение ее поняли только два-три месяца спустя, когда сделанную ошибку уже нельзя было исправить.
 Судно конца XV века. Гравюра 1486 года.
Судно конца XV века. Гравюра 1486 года.
После постройки форта Охеда приступил к завоеванию области и направился в глубь страны. По опыту прежних путешествий он знал, что в этой полосе на золото надеяться нечего, но он рассчитывал, что ему удастся запастись другим ценным товаром — невольниками. Несмотря на запрещение рабства, невольники были в Новом Свете ходкой монетой. Их вывозили на глазах у властей в мусульманские города Северной Африки и в Европу и продавали по столь высоким ценам, что корабль, груженный рабами, приносил не меньше барышей, чем корабль с редкими пряностями. Этой живой монетой Охеда надеялся расплатиться с кредиторами. Он отобрал отряд в сто человек, а остальных оставил в форте под командой Пизарро.
— Через неделю я приведу сюда несколько гуртов этих двуногих зверей, — хвастался он, прощаясь с Пизарро. — Мы пошлем их на Эспаньолу, а потом пустимся в новые походы.
Прошло несколько недель. Приближалось уже рождество, а об Охеде не было ни слуху ни духу. Ближе познакомившись, с нравами туземцев-караибов, Пизарро начинал сомневаться в успехе военной прогулки, предпринятой его начальником. Туземцы этих мест совсем не походили на добродушных и малоразвитых обитателей Эспаньолы. Они отличались хитростью, изобретательностью, мужеством, с замечательным искусством метали в завоевателей отравленные дротики и стрелы и дорого продавали свою жизнь и свободу. Они все время беспокоили испанцев неожиданными нападениями, и несколько солдат форта уже погибло во время экскурсий в леса и деревни. В последние дни их вылазки стали настолько дерзкими, что Пизарро для острастки индейцев решил совершить набег на большое караибское селение, расположенное неподалеку от крепости.
В тихий декабрьский вечер он выступил в поход с отрядом в двадцать человек. Осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума, пробирались солдаты по едва заметным тропинкам сквозь мангровые заросли. К рассвету они рассчитывали дойти до назначенного места и напасть врасплох на спящих жителей. В лесу было темно. Лунный свет почти не проникал сквозь ветви и только кое-где бросал серебряные блестки на толстые глянцевитые листья. Отряд двигался почти ощупью. Так прошло несколько часов. Вдруг где-то в стороне послышался слабый, еле слышный стон.
— Раненый караиб, — шепнул шедший впереди Пизарро и остановился. За ним остановился и весь отряд.
Испанцы прислушивались, затаив дыхание. Стоны стали более явственными, несвязные вздохи перешли в мольбу.
— Пресвятая дева, спаси меня и помилуй! — отчетливо раздались латинские слова молитвы.
— Испанец! — крикнули солдаты и, не дожидаясь приказа, бросились к месту, откуда раздавались стоны.
При свете фонаря они увидели под раскидистым деревом человека. Он сидел, или, вернее, полулежал, прислонясь к стволу. Рядом с ним валялся щит. Одежда на нем висела клочьями, руки и, ноги были покрыты ссадинами и струпьями, исхудавшее лицо было смертельно бледно. Пизарро сразу узнал это лицо и отшатнулся.
— Сеньор Охеда! — воскликнул он.
Ничего не отвечая, человек перекрестился и набожно прочел благодарственную молитву, с трудом выговаривая слова. Потом слабым голосом заговорил:
— Да, я Охеда! Кажется, единственный человек, который уцелел из всего отряда. Я целую неделю не ел ничего, кроме лесных орехов. Есть, есть!.. Все расскажу потом.
Охеде дали несколько лепешек, уложили его на носилки и понесли в крепость. Только на следующее утро он настолько окреп, что мог связно передать историю своих злоключений. Отряд имел несколько стычек с караибами и, хотя потерял несколько человек, каждый раз успешно разбивал туземцев. Но испанцы слишком понадеялись на свои силы. В одной из захваченных деревень они расположились на отдых, сняли доспехи и разлеглись в гамаках. Туземцы, успевшие собрать войско более чем в тысячу человек, воспользовались этой оплошностью, напали на неосторожных победителей и истребили их всех, кроме Охеды и двух его ближайших помощников, укрывшихся в хижине. Хижину нападавшие подожгли. Испанцы в полном вооружении сделали вылазку и кое-как пробились до опушки леса. Их панцири и мечи нагоняли такой страх, что караибы не осмеливались вступать с ними в рукопашный бой и только издали осыпали их стрелами. Старшего офицера, Ла-Косу, отравленная стрела ранила в шею, и через полчаса он умер в страшных мучениях. К счастью, по пути попалась быстрая горная речка. Посреди нее стремительно несся большой пень. Охеда и оставшийся в живых солдат бросились к нему, но только Охеде удалось на него взобраться. Солдата сбило с ног течением, и он утонул, а Охеду вынесло через несколько часов на отмель.
Целую неделю шел Охеда к форту, направляя свой путь по звездам.
— Вы меня подобрали, когда я уже совсем изнемог и не в состоянии был двигаться дальше, — закончил свой рассказ Охеда. — Дня через два я был бы трупом.
Так закончился поход, который должен был дать завоевателям «живое золото» — темнокожих рабов. А припасы портились и подходили к концу, и солдаты десятками заболевали злокачественной лихорадкой и умирали. Если бы не неожиданная помощь, оказанная проходившим мимо кораблем соперника Охеды — Никуэсы, пришлось бы немедленно собираться в обратный путь. Но и помощь Никуэсы дала только временную передышку. Нужно было посылать на Эспаньолу за припасами и людьми.
Охеда понимал, что известия о его неудачах отпугнут охотников. Солдат и колонистов можно приманить только золотом, жемчугом и рабами. Все эти вещи нужно было раздобыть во что бы то ни стало. И снова начались вооруженные экспедиции внутрь страны то под начальством Охеды, то под начальством Пизарро. На этот раз испанцы держались очень осторожно, и им удалось в течение двух месяцев набрать достаточно золота и живого товара, чтобы было чем соблазнить любителей легкой наживы на Эспаньоле.
Ранней весной 1510 года корабль с драгоценным грузом отплыл в Сан-Доминго. Капитан его должен был передать Энсисо письмо, где Охеда описывал положение и умолял о немедленной посылке подкрепления.
Потянулись дни тягостного ожидания. Солдаты, ослабевшие от влажного климата и недоедания, уже не думали о завоеваниях. С восхода и до захода солнца неотрывно всматривались они в темную полоску горизонта, ожидая увидеть белый парус каравеллы. Наконец белый парус показался. Но, когда судно вошло в порт, гарнизон не увидел на его борту ни одного знакомого лица. С капитанского мостика сошел на берег человек бандитского вида и, приблизившись к Охеде и Пизарро, отрекомендовался:
— Меня зовут Антонио Талавера. Я, правда, не тот, кого вы ожидали, но я думаю, что вы не побрезгуете мною и моими молодцами.
— На этих берегах все испанцы — друзья, сеньор Талавера, — любезно проговорил Охеда. — Но какой счастливый случай занес вас сюда?
— Этих счастливых случаев было несколько, сеньор Охеда. Первый счастливый случай заключается в том, что из вашего Сан-Себастиана пришел корабль с ценным грузом. Груз этот убедил нас, что в ваших землях легче добывать золото, чем на испанских больших дорогах. Второй случай — это то, что неподалеку от Эспаньолы, на восточном побережье, сел на мель корабль какого-то испанского купца, посланный на Эспаньолу с продовольствием. Третий случай — это то, что капитан корабля сдуру оставил на борту всего несколько человек охраны, а сам отправился развлекаться на Эспаньолу. Четвертый случай — это то, что я и мои друзья вовремя об этом узнали. Ну, а о пятом случае нечего и говорить. Это не случай, а, так сказать, общая наша привычка. У меня и моих соратников накопилось много долгов, и неотвязчивые заимодавцы хотели упрятать нас в тюрьму. По правде говоря, это не входило в наши расчеты. Мы добрались до севшего на мель корабля, захватили его, сняли с мели и приехали к вам. В его трюме осталось порядочно припасов, которые мы готовы по-братски разделить с вами. Вот вам и вся история нашего приезда.
Охеда и Пизарро переглянулись и рассмеялись.
— Не знаю, что скажет сеньор губернатор, — заговорил Пизарро, — но, по моему мнению, все те случайности, о которых вы говорите, пошли на пользу ему, а следовательно, и королю, поставившему его начальником над этими местами.
— Совершенно верно, Франсиско, — согласился Охеда. — Да нам вовсе и не нужно знать об этих случайностях. Это дело судей, от которых да хранит вас бог, сеньор Талавера. Как гостеприимный испанец я только могу сказать вам: весь мой дом в вашем распоряжении.
— И мой корабль — в вашем, — добавил Талавера.
Истории прибытия корабля никто в Сан-Себастиане больше не касался. Приезжие пополнили собою поредевший гарнизон, Талавера выговорил себе долю в прибылях, и Охеда стал готовиться к новым экспедициям. Но несчастье преследовало его: лихорадка косила людей, и через какие-нибудь две недели половина приехавших солдат и колонистов валялись больными, проклиная и час отъезда, и Талаверу, и Сан-Себастиан. Походы в глубь страны были неудачны. Золота у караибов попадалось мало, а о рабах Охеда уже не думал, потому что их нечем было кормить.
Туземцы большими отрядами бродили в окрестностях форта и то и дело нападали на сторожевые посты.
С каждым днем силы завоевателей уменьшались, а силы врагов увеличивались.
Кроме того, соратники Талаверы оказались отъявленным сбродом; они не признавали дисциплины, не хотели ни исполнять полевые работы, ни участвовать в рискованных экспедициях. Охеде то и дело приходилось их строго наказывать, чтобы спасти гарнизон от окончательного разложения, а это еще больше озлобляло недовольных. Прибытие Энсисо могло бы еще исправить дело, но Энсисо не приезжал.
— Энсисо — моя последняя карта, — говорил Охеда в откровенных беседах со своим ближайшим помощником. — И эта карта, по-видимому, бита.
Сначала Пизарро подбадривал его, но наконец и он вынужден был согласиться, что последняя карта бита.
— Надо попытать единственное оставшееся средство, — сказал после долгого раздумья Охеда. — У нас осталось два корабля, не считая третьего, разбитого бурей, который уже ни на что не годится. На одном я поеду на Эспаньолу, захватив с собой больных и инвалидов, и постараюсь навербовать новых добровольцев. Другой я оставлю тебе. Жди меня пятьдесят дней. Если по окончании этого срока я не приеду, забирай с собой всех оставшихся и возвращайся на Эспаньолу.
В середине мая Охеда уехал, назначив Пизарро своим заместителем. «Заместитель наместника»! Этот титул звучал очень громко, и Пизарро не без удовольствия глядел на огромную страну, вверенную его попечениям. У нее не было границ ни на юге, ни на востоке. Все, что можно было захватить в этих направлениях, принадлежало Охеде и его заместителю. Не одна, а несколько Испаний уместилось бы на этих необозримых пространствах. Вопрос заключался лишь в том, как их сохранить, имея в своем распоряжении менее сотни истомленных и больных солдат. Установить мирные отношения с караибами было невозможно, ибо белые так восстановили их против себя, что туземцы не верили ни обещаниям, ни подаркам. Держать туземцев в повиновении силой было тоже невозможно — для этого не хватало ни вооружения, ни людей. Новооткрытая страна выскальзывала из рук, и, чем больше проходило времени, тем труднее становилось удерживать даже эту маленькую точку побережья.
Теперь туземцы уже не давали покоя ни днем, ни ночью. Они узнали об отъезде главного вождя, видели, как уменьшился гарнизон форта, и удвоили свои усилия. Прячась в засадах, они подстерегали отдельных солдат, а ночью приближались к крепостным стенам и затягивали воинственные песни. Даже на маисовых полях, расположенных вблизи крепости, было небезопасно показываться. От великой империи остался крошечный кусочек в несколько сот футов окружностью, да и на этом тесном клочке земли царили уныние, голод и смерть. Смерть, а не Франсиско Пизарро, была настоящим заместителем уехавшего наместника…
Прошел условленный срок — Охеда не приехал. Когда Пизарро донесли, что продовольствия осталось всего на несколько дней, он приказал грузиться на корабль, и в половине июля маленькая, колония покинула негостеприимный форт. Отъехав несколько миль вдоль берега, испанцы увидели, как над Сан-Себастианом поднялись густые облака дыма. Форт пылал. Завоеванные земли вернулись к своим исконным владельцам. И опять — в который уже раз! — Франсиско Пизарро пустился на новые поиски вечно ускользавшего счастья.
XIII
Пизарро приказал плыть на запад, вдоль побережья. Медленно двигавшийся корабль миновал Дариенский залив и стал приближаться к устью реки св. Магдалины. Заместитель Охеды не торопился возвращаться на Эспаньолу. Надо было еще посмотреть, что делает Никуэса, наместник соседней области. Возможно, у него найдется дело для восьмидесяти смельчаков, у которых не осталось ни родины, ни семьи, ни службы — ничего, кроме заимодавцев.
— На горизонте парус! — крикнул с мачты дежурный матрос.
Все встрепенулись. Когда корабли встретились, оказалось, что на плывшей с севера каравелле ехал не кто иной, как Энсисо. Ему удалось наконец набрать солдат и купить продовольствия, и он спешил на выручку Охеде. Пизарро он встретил очень сухо.
— Я не верю вам, сеньор Пизарро, — сказал он, выслушав объяснения. — Не может быть, чтобы Охеда вернулся на Эспаньолу. Мы вышли оттуда всего пять дней назад, а между тем о приезде Охеды никто ничего не слыхал. Вы и ваши солдаты бросили начальника на произвол судьбы!
Уверения были бесполезны: Энсисо им не верил и потребовал, чтобы Пизарро и его спутники вместе с пришедшей каравеллой вернулись в форт Сан-Себастиан. Пизарро повиновался, отдал распоряжение своему капитану, а сам переселился на корабль Энсисо, чтобы быть под рукой у нового начальника. На следующее утро ему пришлось столкнуться с другим человеком, появление которого было для него столь же неожиданно, как и для всего остального экипажа корабля.
Пизарро стоял на капитанском мостике и рассказывал Энсисо о нравах прибрежного населения и условиях местности, как вдруг к ним подбежал матрос и взволнованным голосом доложил:
— На корабле появился неизвестный пассажир, сеньор Энсисо. Вон он стоит на палубе.
Собеседники оглянулись и увидели рослого, крепкого человека лет сорока, около которого успела уже собраться толпа любопытных матросов и солдат. Держался он уверенно и спокойно и, должно быть, говорил что-то смешное, потому что толпа хохотала.
Энсисо в сопровождении Пизарро подошел к собравшейся группе и стал пристально всматриваться в лицо незнакомца.
— Вы, должно быть, не узнаете меня, сеньор Энсисо, — заговорил тот. — А между тем мы с вами виделись не далее как месяц назад, на вечере у сеньора наместника. Я рассказывал о своих путешествиях в этих краях, совершенных мною в 1502 году, и вы, кажется, были особенно заинтересованы моим рассказом. Правда, с того вечера я перестал бриться и отпустил бороду, чтобы как можно меньше походить на Васко-Нуньеса де-Бальбоа…
— Как? — воскликнул Энсисо. — Вы сеньор Бальбоа? Как вы очутились здесь и почему я об этом ничего не знал?
— Вы ничего не знали потому, что до сегодняшнего дня я ехал в пустой бочке из-под солонины, которую мне перед самым отъездом порекомендовал один из моих друзей как наиболее надежное убежище. А в бочку я сел потому, что мне грозил немедленный арест за неплатеж долга, довольно значительного.
— Но почему же вы столько времени просидели в ней? Почему не вышли немедленно после отплытия?
— Вы адвокат, сеньор Энсисо, а адвокаты не любят несостоятельных должников. Адвокаты всегда помнят, что за сокрытие несостоятельного должника полагается, год тюрьмы…
— Год три месяца и три дня, — поправил Энсисо.
— Вот именно. Помня об этом обстоятельстве, вы, вероятно, остановили бы корабль и отправили бы меня на лодке обратно в порт. А сейчас единственное, что вам остается, — это или принять меня, или бросить в море. Но, если вы бросите меня в море, вам придется отвечать за убийство испанского дворянина. А за это полагается…
— От семи до восьми лет тюрьмы, а в случаях особо тяжких — повешение, — договорил Энсисо.
— Ну, вот видите. Я знал, что вы человек умный, и, следовательно, мог заранее догадаться, как вы поступите. Семь лет тюрьмы много больше, чем год три месяца и три дня.
Энсисо кисло улыбнулся.
— Надеюсь, меня не постигнет ни то, ни другое, сеньор Бальбоа, — проговорил он. — Я надеюсь также, что помощь такого опытного путешественника, как вы, будет особенно ценна для нашей экспедиции. Как бы там ни было, добро пожаловать!
Энсисо пригласил в каюту Пизарро и своего нового спутника и сейчас же начал обсуждать с ними план на ближайшее будущее.
Трех дней, которые пробыл Пизарро в обществе Энсисо и Бальбоа, было для него совершенно достаточно, чтобы оценить и того и другого. Пизарро привык быстро разбираться в людях и подмечать их слабые и сильные стороны. Он сразу понял, что Энсисо не заменит исчезнувшего Охеду. Энсисо никогда не принимал участия в экспедициях, не имел понятия о военном деле, плохо разбирался в обстановке, на каждом шагу проявлял колебания и нерешительность. Он умел произносить речи на судебных процессах, но разве адвокатским красноречием можно было подействовать на те две сотни головорезов, которые ехали сейчас неизвестно куда и неизвестно зачем? «Крючкотвор! — думал Пизарро, презрительно глядя на выхоленное, совсем не солдатское лицо своего нового начальника. — С таким капитаном никуда не попадешь, кроме болота».
Зато Бальбоа был человек совсем другого склада. Это был опытный мореход, отважный путешественник, хороший солдат. Он умел подходить и применяться к людям и одних забавлял смешными историями, других располагал к себе участливыми вопросами об оставшихся в Испании семьях, третьих подогревал обещаниями скорой наживы, четвертым внушал уважение своими знаниями. Не прошло и трех дней, как он стал общим любимцем. До Пизарро не раз долетали фразы: «Этот Бальбоа — настоящий конквистадор!», «Бальбоа привел бы нас куда следует!» Пизарро вполне разделял мнение солдат. Он убедился в неспособности Энсисо и охотно поднял бы бунт против него, если бы не боялся ответственности. Бальбоа, хорошо известный на Эспаньоле и в Испании, — другое дело. Бальбоа мог безнаказанно совершить то, за что Франсиско Пизарро поплатился бы головой. Выдвинуть Бальбоа на первое место и затем стать его ближайшим помощником — вот какова была теперь цель. Но решится ли на это сам Бальбоа?
Когда корабли подошли к Сан-Себастиану, на месте форта не оказалось ничего, кроме обгорелых бревен. Энсисо убедился в правдивости того, что ему рассказывали, и велел вернуться на запад.
— Куда на запад? Что мы там будем делать? — спрашивали его.
Энсисо мялся и бормотал что-то бессвязное. Никакого плана у него не было.
Выручил Бальбоа.
— Я хорошо знаю это побережье, — сказал он. — Я советую высадиться на противоположном берегу Дариенского залива. Климат там здоровый, земля плодородная, индейцы миролюбивые. Мы построим там форт и отдадимся под покровительство Никуэсы, которому принадлежит эта часть материка. А утвердившись там, мы легко проникнем к югу, где много и золота и жемчуга.
Энсисо не возражал: он все равно не мог предложить ничего другого.
С этого дня действительным начальником экспедиции стал Бальбоа. Для смены власти не потребовалось даже и бунта.
На том побережье, где высадились испанцы, все было так, как рассказывал Бальбоа. Место, выбранное им для постройки форта, отличалось здоровым и сухим климатом, индейцы окрестных деревень угощали плодами, подносили подарки и охотно меняли свои золотые пластинки и подвески на стеклянные бусы. Больные солдаты быстро поправлялись, здоровые сооружали дома и частокол, и от недавнего уныния не осталось и следа. Испанцы были теперь убеждены, что Санта-Мария-дель-Антигуа, как назвал Бальбоа основанный поселок, принесет им счастье и послужит базой для новых и на этот раз вполне успешных экспедиций.
Пизарро старался выведать планы вождя, но вождь долгое время отмалчивался. Тайну Бальбоа, как всегда бывает в таких случаях, выдало вино. По случаю окончания крепостных работ Бальбоа выпил лишнее и разоткровенничался.
— У меня великая мечта, Пизарро, — говорил он. — Колумб открыл новую землю, а я открою новое море. По ту сторону этого перешейка — потому что мы находимся на перешейке — лежит огромное море, Южное море, о котором никто даже и не подозревает. Достичь его — вот цель моей жизни. О его существовании я догадался еще во время прежних своих путешествий, а теперь я смогу это доказать. Имя Бальбоа станет бессмертным, как и имя Колумба. Ради этой-то великой цели я, разоренный и нищий, и спрятался в бочку из-под солонины. И предчувствия не обманули меня. Скоро, скоро я увижу Южное море!
— Это, должно быть, прекрасное море, сеньор Бальбоа, но уверены ли вы, что оно станет вашим? — спросил Пизарро. — Пожалуй, достанется оно не вам, а Никуэсе.
— Ну и чорт с ним, с Никуэсой! Пусть он пьет его, если хочет. А открою его все-таки я. Ты не понимаешь, мой друг, как важно будет это открытие для науки. Все глобусы придется переделывать! Вот через это-то море и можно будет доехать до Индии.
Бальбоа хмелел все больше и больше и без конца говорил о последствиях своего открытия. Люди пересекут океан, объедут вокруг света, найдут наконец Золотой Херсонес и золотой и серебряный острова в устье Ганга. Все карты придется перечертить заново…
Пизарро слушал с удивлением. Вместо Бальбоа-конквистадора перед ним был совсем другой Бальбоа — Бальбоа-чудак, Бальбоа-фантазер. Он вспоминал бредовые речи Колумба, которые он и Охеда слышали когда-то от больного адмирала. Тот помешался на войне с турками, этот — на переделке карт. Один сумасшедший стоит другого. Но для него, Пизарро, это, пожалуй, и лучше. Пока Бальбоа будет думать о южных морях и новых картах, Франсиско Пизарро, может быть, сумеет завладеть частью южного материка!
Когда постройка поселка была закончена, стали выбирать судью. Казалось, Энсисо был для этого наиболее подходящим человеком, и довольно много колонистов собиралось подавать голоса за него. Бальбоа не вмешивался в споры и делал вид, что совсем не интересуется этим почетным постом. Но Пизарро действовал за него и так умело влиял на колеблющихся, что в конце концов Бальбоа был выбран почти единогласно. Бальбоа был теперь уже не самовольный захватчик власти, а законный начальник и представитель всей колонии.
Колонистам не пришлось раскаиваться в своем выборе. Бальбоа не затевал ненужных войн и не прибегал к силе там, где можно было добиться цели хитростью. Он искусно восстанавливал друг против друга туземных вождей, вступал в союзы со слабыми, чтобы покорять сильных, и в короткое время приобрел себе много друзей среди туземного населения. Обеспечив себя от нападений индейцев, он постарался установить дружественные отношения с Никуэсой. Вскоре, однако, выяснилось, что в этом не было особой нужды: посланные к Никуэсе колонисты сообщили, вернувшись, что наместник потерял почти весь свой гарнизон, что основанное им поселение брошено жителями и что на днях он с остатками отряда переберется в Санта-Мария-дель-Антигуа.
— Это не очень приятная новость, — вечером этого дня говорил Бальбоа, оставшись наедине с Пизарро. — Никуэса, наверное, начнет вмешиваться в наши дела и, пожалуй, помешает моей экспедиции. Весь мой план полетит — тогда прахом.
— А по-моему, это очень хорошо, сеньор Бальбоа, — возразил Пизарро. — Когда рыба дуреет, она сама идет в сети. Вытащите сеть — и дело с концом!
— А ты думаешь, это так легко?
— Если Никуэса сюда приедет, мы возьмем его голыми руками. Разве вы не слышали, что рассказывали посланные? Никуэса глуп, тщеславен, ленив. Он приказывает своим офицерам стоять перед ним с обнаженной головой и кланяться чуть не до земли. Он засадил в тюрьму и чуть не засек до смерти своих ближайших помощников. Большинство колонистов ненавидит его. Он сказал, что ему принадлежит не только Санта-Мария, но и все золото, которое мы успели тут добыть. Ясно само собою, что теперь его ненавидят и все наши солдаты.
— Так ты предлагаешь бунт? — с напускной строгостью спросил Бальбоа.
— Боже меня сохрани! Мне ли, ничтожному солдату, бунтовать против наместника? Я предлагаю совсем другое: пусть сами колонисты подтвердят его права.
— А что будет, если они не подтвердят его прав?
— Тогда они подтвердят права кого-нибудь другого. Я думаю, что вам не придется об этом жалеть, сеньор Бальбоа. Вы, кажется, не очень жалели, когда судьей выбрали не Энсисо, а вас.
Бальбоа улыбнулся.
— Мне незачем знать заранее, что скажут колонисты, Пизарро. Мне незачем даже помнить о нашем сегодняшнем разговоре. Я приму Никуэсу, как законного наместника, я предложу ему свой дом…
— А я сделаю остальное, — перебил Пизарро.
В начале февраля 1511 года Никуэса приехал в Санта-Марию. С ним прибыло около девяноста солдат и колонистов — почти все жители колонии, оставшиеся в живых. На борт корабля явился Пизарро с отрядом в десять человек.
Он снял шляпу, низко поклонился наместнику и сказал с грустным и смущенным видом:
— Я принес вам печальные вести, сеньор наместник.
Никуэса побледнел. Лицо его, за минуту перед тем надменное и величавое, сразу изменило выражение. Губы обвисли и слегка дрожали. Неуверенным, срывающимся голосом он спросил:
— Что же у вас? Бунт?
— Бунта еще нет, но он может быть. Колонисты волнуются, и кое-кто даже взялся за оружие. Они думают, что вы будете отбирать у них золото. Сеньор Бальбоа остался на берегу, чтобы охранять порядок, а меня послал за вами. Эти десять молодцов сумеют вас защитить. Но вам можно взять с собой только одного пажа. Если за вами последуют ваши люди, жители Санта-Марии вообразят, что вы хотите захватить колонию силой, и тогда ни за что ручаться нельзя.
Никуэса не возражал и скромно сошел на берег в сопровождении единственного пажа, напоминая всем своим видом скорее арестанта под конвоем, чем полномочного наместника испанской короны. Бальбоа встретил его почтительно и радушно и поместил в лучшей комнате своего дома. Для Никуэсы начался почетный плен.
Пизарро и несколько его единомышленников умело подготовляли почву. На единственной улице поселка то и дело появлялись группы людей, кричавших: «Мы сами основали поселение! Мы имеем право сами выбрать наместника и порекомендовать его королю! Никуэса не смеет нам приказывать!» И каждый день среди жителей колонии распространялись слухи, один другого тревожнее. Колонисты не находили слов, чтобы заклеймить Никуэсу, этого изверга, живодера, зверя в человеческом образе. Приходившие к Бальбоа младшие начальники в присутствии наместника рассказывали об этих настроениях и опасливо повторяли: «Если не будет выборов, бунта не миновать!»
Через две недели и сам Никуэса пришел к тому же выводу. Он согласился на выборы, все еще надеясь, что колонисты не осмелятся восстать против королевской грамоты. Надежды эти не оправдались: губернатором колонии был выбран Васко-Нуньес де-Бальбоа. А в начале марта Никуэсе дали старую бригантину и предложили вместе с его немногочисленными сторонниками вернуться в Испанию. Его не снабдили даже провиантом. Наместник выехал из Санта-Марии и исчез бесследно.
XIV
В колонии власти Бальбоа теперь никто не оспаривал. Но в Испании у изгнанного Никуэсы имелись могущественные покровители, да и новый наместник Эспаньолы, Варфоломей Колумб, брат покойного великого адмирала, не очень благосклонно смотрел на соперников, захватывавших соседние территории. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, Бальбоа вскоре после изгнания Никуэсы на одном из кораблей отправил к Диего Колумбу посольство, которое должно было сообщить о происшедших в колонии событиях и выхлопотать для Бальбоа утверждение в должности. Таким образом, колония отдавалась под покровительство эспаньольского наместника и этим обеспечивала себе не только его расположение, но и материальную помощь. Чтобы умилостивить корону, Бальбоа решил послать второй корабль в Испанию, как только он вернется из намеченной им большой экспедиции, которая, по его расчетам, должна была захватить немалую добычу.
Накануне выступления в поход Бальбоа собрал свой отряд и сказал:
— Ну, друзья, с завтрашнего дня мы начинаем стричь индейских баранов. Шерсть у них приятнее, чем у наших, потому что она золотая. Вам, может быть, придется немало потрудиться. Но знайте, что труды ваши будут хорошо вознаграждены. Я отказываюсь от той доли, которая причитается мне как начальнику. Ее бросят в общую кучу, и я получу столько же, сколько и рядовой солдат. Таким образом, все, что вы захватите, достанется вам, за исключением полагающейся королю пятой части добычи.
Солдаты были поражены такой щедростью. С песнями, с приветственными кликами выступили они в поход, суливший богатство и легкие победы. Бальбоа шел впереди, бодрый и веселый. Но он думал не о жемчугах и желтом металле, он думал о Южном море, существования которого никто, кроме него, не подозревал. Ему казалось, что оно совсем близко, может быть вон там, за ближайшей цепью гор. В глазах его сверкали лазурные волны, в ушах шумели всплески прибоя, лицо обвевал ветер, дувший оттуда, с таинственного нового моря. Пизарро, оставленный в форте, с завистью провожал глазами своего начальника. «Вот всегда так, — думал он: — другие кушают сливки, а мне достается снятое молоко. Ну, да ничего, наступит когда-нибудь и моя очередь!»
Через месяц отряд вернулся с большой добычей. Бальбоа действовал очень искусно: он то нападал на туземцев, то завязывал с ними дружеские отношения, то хитростью заманивал к себе вождей и брал с них выкупы, то вступал в союзы и вместе с новыми друзьями громил их врагов. Туземцы пройденных областей стояли гораздо выше диких караибов: у них были хорошо возделанные поля, они умели ткать хлопчатобумажные материи и даже плавить золото. Дом одного из вождей оказался настоящим дворцом: он имел сто пятьдесят шагов в Длину и восемьдесят в ширину, был обнесен каменной стеной, и в одном из его покоев хранились мумии прежних правителей в отделанных золотом и осыпанных драгоценными камнями одеждах. Разумеется, все эти драгоценности мумий пришлось уступить завоевателям. Всего набрали золота около тысячи пятисот марок
[10]. Южного моря Бальбоа не открыл, но зато кацик одного из племен указал ему на юг и сказал: «Там, в шести днях пути отсюда, найдете вы страну, где золото лежит в великом изобилии. И там же с горной вершины увидите вы другое море, по которому ходят суда с парусами». Припасов не хватило, и от дальнейшего путешествия пришлось отказаться.
— Зато я знаю теперь путь к Южному морю! — торжествующе повторял Бальбоа. — Оно у меня почти в руках!
Почти одновременно с Бальбоа вернулось в Санта-Марию посланное к Варфоломею Колумбу судно. На нем привезли грамоту, утверждавшую Бальбоа в должности генерал-капитана провинции, значительный груз продовольствия и несколько десятков солдат. Оставалось еще умилостивить короля. Трехсот марок золота, причитавшихся королю в виде пятой доли, было для этого недостаточно. Только какое-нибудь большое открытие могло вернуть Бальбоа королевскую милость и обеспечить владение завоеванными землями. Нужно было как можно скорее открыть Южное море, подарить Испании целый океан, чтобы взамен получить прощение и звание наместника.
Задача эта оказалась не такой легкой, как сначала думал Бальбоа. Туземные племена, ближе познакомившись с белыми, поняли, насколько страшны эти незваные гости, и начали давать отпор испанским отрядам. Кацики заключали друг с другом союзы для совместной борьбы с завоевателями, нападали на отдельных колонистов, отказывались поставлять продовольствие. Приходилось предпринимать карательные походы и силой заставлять туземцев возделывать испанские поля. На это уходило так много времени и сил, что экспедиция оттягивалась из месяца в месяц.
Прошел 1512 год и половина 1513-го, прежде чем Бальбоа смог наконец приступить к давно задуманному делу.
Экспедиция вышла из Санта-Марии 1 сентября 1513 года. На этот раз в ней принял участие и Пизарро. Испанский отряд состоял почти из двухсот человек, отряд индейцев-носильщиков — из шестисот. По счастливой случайности, Бальбоа избрал наиболее выгодное направление, ибо между восьмым и девятым градусами северной широты, куда он двинулся, Панамский перешеек имеет всего восемьдесят пять километров в ширину. Так как в этом месте в него врезается залив Сан-Мигель, то полоска суши, разделяющая два океана, не превышает шестидесяти километров.
Отряд шел медленно. Посреди перешейка тянулся горный хребет, не особенно высокий, но чрезвычайно обрывистый и почти недоступный. Узкие, протоптанные не то людьми, не то зверями тропинки сплошь и рядом исчезали в вязких болотах, и приходилось возвращаться по пройденному пути, чтобы отыскать более удобную дорогу. Индейские племена старались воспрепятствовать продвижению белых. Иногда они собирались такими большими полчищами, что только после кровопролитных сражений испанцы прокладывали себе путь. Оставить в тылу врагов нельзя было, и Бальбоа сплошь и рядом прерывал путешествие, чтобы совершить набег на какого-нибудь враждебного кацика и обезвредить его.
Несмотря на опасности и трудности дороги, Пизарро был весел. Наконец-то покинул он надоевшую колонию и идет в места, по которым не ступала нога белого человека! У Южного моря начинаются какие-то богатые страны, недаром там во множестве собирают жемчуг и плавают на парусах! Бальбоа останется исследовать берега океана, а он, Пизарро, двинется к югу и уж наверное выкроит себе кусочек этого необъятного материка.
Рядом с Пизарро шествовал его верный друг, бульдог Бесеррико. Умный пес навострил уши и ловил каждый звук. Его обучили многим вещам: как разыскивать след индейцев, как ловить беглецов. Солдаты вели счет его подвигам и уверяли, что Бесеррико загрыз больше полусотни язычников. Его собратья, которых в отряде насчитывалось до тридцати, тоже заработали себе почет, но перещеголять Бесеррико не удалось еще ни одному псу. Пока Бесеррико находился около хозяина, Пизарро мог спокойно предаваться своим мечтам: Бесеррико предупредит об опасности, раньше чем ее успеет заметить самый зоркий человеческий глаз.
Бесеррико заворчал и начал вглядываться в чащу.
Пизарро сразу перестал мечтать и весь превратился в слух. В ветвях ничего не было видно. Но через минуту раздался легкий шум, и маленькая тонкая стрела, пущенная из сарбакана (трубка, подобие духового ружья), вылетела из густых листьев и царапнула лоб шедшего впереди солдата. Ранка оказалась ничтожной, не больше булавочного укола, но все же смертельной: от растительного яда кураре, которым намазаны кончики стрел, человек, умирает через десять минут. Товарищи подхватили раненого, обмыли лоб его водой, но все понимали, что это бесполезно: несчастного теперь ничто не спасет.
Пизарро не терял времени на ненужные сожаления. Вместе с десятком солдат своего взвода он бросился в чащу — туда, откуда вылетела стрела. Бесеррико с глухим ворчаньем бежал впереди, обнюхивая землю. Погоня продолжалась минут пять. Вдруг заросли расступились, и преследователи очутились на большой поляне, в самой середине которой росла высокая и толстая пальма. Двое туземцев, остававшихся до сих пор невидимыми, неслись к ней с такой быстротой, что даже Бесеррико вряд ли мог сравняться с ними. На глазах у преследователей они подбежали к гладкому стволу и с удивительной ловкостью стали взбираться по веревке, брошенной с самого верха дерева. Когда отряд приблизился к пальме, они уже скрылись в густой шапке листьев, увенчивавшей ее макушку.
— Смотрите, дон Франсиско, — крикнул один из солдат, — у них там устроено гнездо!
Действительно, сквозь листья виднелось сооружение из прутьев, очевидно служившее обиталищем для целой семьи.
— Ну, мы их оттуда живо выкурим! — проговорил Пизарро. — Несите сюда хворосту!
Потребовалось всего несколько минут, чтобы окружить ствол костром из сухих ветвей. Тщетно пытались туземцы отогнать белых: их сарбаканы успешно действовали лишь на близком расстоянии, а с тридцатисаженной высоты, на которой они находились, ни одна стрела не попадала в цель. Испанцы беспрепятственно продолжали свое дело, и скоро высокие языки пламени лизали со всех сторон ствол лесного гиганта. Яростные крики, раздававшиеся с его верхушки, сменились жалобными воплями. Над плетеными стенками гнезда показались люди.
Они качали головами, подносили руки к груди, знаками умоляли о пощаде.
— Ну-ка, Родригес, посмотри, не разучился ли ты стрелять, — обратился Пизарро к солдату, державшему в руках пищаль.
Солдат взвел курок, выстрелил. Одна из темнокожих голов нырнула вниз. До испанцев долетел громкий стон.
— Молодец! — похвалил Пизарро. — Но больше пороху не трать. Возиться с ними не стоит. Несите еще хворосту!
В костер полетели новые охапки. Выше и выше вздымалось пламя. По почерневшему стволу змейками ползли огненные струи. Дерево трещало, сердцевина его раскалывалась. С верхушки доносились крики мужчин, вопли женщин, жалобный детский плач. Солдаты деловито подносили дрова и сучья, споря, скоро ли упадет пальма.
— Скорей, скорей! — торопил Пизарро. — Нам придется долго догонять наших. Вырубите толстое бревно!
Солдаты поспешили исполнить его приказание. Когда бревно подтащили, все десять человек взялись за его конец и стали ударять им, как тараном, о ствол дерева. Пальма начала накреняться.
— Отбегайте направо! — скомандовал Пизарро.
С шумом, похожим на стон, дерево рухнуло на землю. Из гнезда не раздалось ни одного звука. Когда солдаты подбежали, они увидели вместо людей груду окровавленных тел.
Через час Пизарро опять шел с отрядом Бальбоа. Чтобы уберечься от неожиданных нападений, бульдогов пустили по сторонам, справа и слева от тропинки. За время пятидневного перехода по тропическому лесу ни один индеец не потревожил испанцев. Потом потянулись топкие низины с рассеянными кое-где островками твердой земли.
Почти на всех островках росли громадные пальмы. Каждая пальма имела на вершине гнездо, и каждое гнездо было крепостью.
Сначала туземцы пытались было обстреливать проходивший отряд из сарбаканов, но, когда Пизарро, по приказу Бальбоа, поджег одно дерево и уничтожил его обитателей, стрельба прекратилась. Никем не тревожимый, отряд двигался дальше, пока не дошел до реки Чукунакуе.
 Индейская засада на деревьях. Гравюра начала XVII века.
Индейская засада на деревьях. Гравюра начала XVII века.
Продолжать путешествие пешком нельзя было. Из-за недавно выпавших здесь тропических ливней река разлилась, и русло ее превратилось в обширное озеро. Едва видный противоположный берег почти пропадал в тумане речных испарений. За ним темной громадой высились обрывистые горы. «Туда! Туда! — повторяли туземные проводники, указывая пальцами на скалистые вершины. — С них будет видно море!»
Нарубили деревьев, соорудили плоты, и через два дня отряд благополучно переправился на другую сторону. Вести, принесенные индейцами-лазутчиками, были нерадостны: вождь области Квареква, узнавший о приближении белых, собрал многочисленное войско и сторожил их у горного прохода. Бальбоа решил предупредить врага. Оставив у плотов туземцев и человек двадцать испанцев, он разделил отряд на две части и приказал итти в обход. Испанцы тронулись перед наступлением утра.
Разведенные у берегов реки костры ввели индейцев в заблуждение. Они думали, что белые простоят тут еще несколько времени, и никак не ожидали встретить их на заре лицом к лицу. Когда испанцы напали на них сразу с двух сторон и грохот выстрелов слился с лязгом железных доспехов и яростным лаем бульдогов, туземцами овладел ужас, и они бежали, почти не сопротивляясь. На месте побоища осталось несколько сот темнокожих воинов. Сейчас же после битвы Бальбоа занял расположенное невдалеке большое селение — резиденцию кацика — и учинил суд и расправу над ближайшими родственниками и приближенными вождя. Безопасности испанцев теперь уже ничто не грозило. 25 сентября Бальбоа, оставив в селении больных и большую часть отряда, двинулся дальше. Он взял с собой только шестьдесят шесть человек, в том числе и Пизарро.
Было десять часов утра. Осталось только взобраться на последний гребень, чтобы увидеть море. Бальбоа приказал сделать привал. Все солдаты должны были ждать здесь. На гребень взойдет один лишь Бальбоа, чтобы ни с кем не разделить честь открытия. От волнения Бальбоа не мог даже связно говорить. Удаляясь от отряда, он то и дело оглядывался назад, должно быть желая убедиться, что никто не нарушил его запрета.
Скоро фигура его четко обрисовалась на гребне горы. Солдаты видели, как он опустился на колени и наклонил голову — очевидно, молился. Потом встал и махнул шляпой в знак того, что спутникам его разрешается подойти.
Солдаты побежали вверх по покатому склону. Они так спешили, словно дело шло о спасении их жизни. Задыхающиеся, бледные, окружили они своего вождя и впились — глазами в бескрайную даль. Внизу расстилался голубой, исчерченный зеленоватыми и фиолетовыми полосами залив Южного моря, именуемого ныне Тихим океаном.
29 сентября 1513 года, после стычки с индейцами, Бальбоа, продвигаясь вдоль залива, достиг океанского побережья. Был час прилива. Бальбоа взял в руки знамя с изображением богородицы и младенца Иисуса и по пояс вошел в бурлящую воду.
— Будьте свидетелями, будьте свидетелями! — кричал он стоявшим на берегу солдатам. — Будьте свидетелями того, что я вступаю во владение этими водами и всеми прилегающими к ним землями. Все находящиеся здесь моря, земли, побережья и острова принадлежат мне, и если какой-нибудь король или вождь, какой бы веры он ни придерживался, вздумает оспаривать их у меня, я готов воевать с ним во имя наших монархов.
Голос Бальбоа был как у исступленного. Он говорил и говорил, словно творя заклинания, а вода подымалась все выше и выше, доходила до груди, обдавала поднятые руки белой пеной. Бальбоа, казалось, перестал сознавать окружающее.
— Вернитесь, сеньор Бальбоа, вернитесь! — кричал Пизарро, не на шутку встревоженный. — Вода сейчас захлестнет вас, а у нас нет лодок!
Бальбоа опомнился и не без труда выбрался на берег.
Пизарро дрожал, как в лихорадке. Слова, произнесенные Бальбоа, гремели в его ушах, словно пушечные выстрелы. «Земли, побережья, города, острова, — шепотом повторял он, — все это его, его. И это прошло мимо меня!» В эти минуты он ненавидел Бальбоа, как ограбленный ненавидит грабителя, как одураченный ненавидит обманщика. Он отошел от группы солдат, чтобы не выдать своих чувств каким-нибудь сорвавшимся с языка ругательством, и стал молча смотреть в серовато-голубую даль. Понемногу этот новый, раскрывшийся столь внезапно мир успокоил его.
«Здесь Бальбоа, — думал он. — Но Бальбоа не в силах захватить все побережье. Где-нибудь его остановят неприступные горы или могущественные племена, и он поставит там свой последний межевой знак. А за этим знаком буду я!»
Вечером этого дня он был особенно вежлив и предупредителен со своим начальником. Ни одной нотки зависти не прорывалось в его почтительных и дружеских речах. Таким же он оставался и во все последующие дни. Сдержанный в беседах, смелый и решительный в боях — а их произошло несколько в течение последних трех недель, — он все больше и больше завоевывал доверие Бальбоа. Когда экспедиция обследовала берега залива и достигла богатых жемчугом океанских отмелей, Бальбоа решил вернуться в Санта-Марию, чтобы поскорее отправить в Испанию пятую часть награбленной добычи. Пизарро попросил разрешения остаться на некоторое время в открытых областях.
— Я хотел бы вместе с моим другом Моралесом разведать западную часть перешейка, сеньор Бальбоа, — сказал он. — Я думаю, что это принесет вам немалую пользу.
— Я знаю, что ты не будешь терять времени зря, Франсиско, — согласился Бальбоа. — Отбери себе солдат и ступай.
22 октября Бальбоа и Пизарро расстались: отряд Бальбоа двинулся к северо-востоку, Моралес, Пизарро и их тридцать солдат — к западу.
XV
Завоевательным планам Пизарро и Моралеса не суждено было осуществиться. — Вожди маленькой экспедиции, не умевшие сдерживать своей жадности, так беспощадно грабили индейцев, что восстановили против себя все племена, по землям которых они проходили. Туземные кацики устраивали заговоры, подстерегали в засадах отбившихся от отряда солдат, устраивали неожиданные нападения. Эти мелкие стычки закончились большим сражением, в котором испанцы благодаря численному превосходству и храбрости индейцев были разбиты наголову. Большая часть отряда погибла. Пизарро, Моралес и несколько солдат, преследуемые по пятам, были окружены с трех сторон. С трудом отбиваясь, они бежали вперед, пока не очутились перед лагуной. Казалось, ничто уже не могло их спасти. Но на их счастье на берегу лагуны оказались четыре оставленные индейцами лодки, и беглецы перебрались в них на другую сторону. После долгих странствований по лесам и горным проходам они вернулись в начале 1514 года в Санта-Марию. Похвастаться им было нечем: они не принесли золота, не нашли жемчуга, не сделали никаких открытий. Та часть перешейка, которую они хотели исследовать, так и осталась загадкой.
Несмотря на неудачу экспедиции, Бальбоа не лишил Пизарро своего расположения. Он сам испытал на себе всю переменчивость человеческого счастья и не требовал от своих подчиненных непосильных подвигов. Он шутил с Пизарро, хлопал его по плечу и уверял, что счастье непременно поймаешь, если настойчиво за ним гнаться.
— Вон видишь, Франсиско, эту каравеллу? — говорил он, указывая на грузившееся в гавани судно! — Я посылаю на нем королю двадцать тысяч кастельяно
[11] и двести таких жемчужин, каких еще не видели ни при одном королевском дворе. Любая из них стоит не меньше двух-трех тысяч дукатов. Каждый из моих солдат получил по две-три такие жемчужины да изрядную толику золота. А это только начало. Это ничто, по сравнению с тем, что получишь ты, если тебе случится завоевать юго-западное побережье. А ты его завоюешь, уверяю тебя, завоюешь!
Пизарро пришлось утешиться этими обещаниями и ждать нового случая. Отдохнув от трудов и треволнений своего путешествия, он опять стал участвовать в походах, предпринимаемых Бальбоа для усмирения соседних туземных племен.
Вернувшись в Санта-Марию после одной из таких экспедиций, он застал в — колонии новое начальство и новых людей: в 1514 году в Санта-Марию приехал назначенный королем наместник Педрариас Давила, привезший с собой значительный отряд солдат и около полутора тысяч колонистов. — Бальбоа уже не имел теперь никакой власти. Он стал простым подчиненным нового наместника, которому корона передала «все земли, побережья и острова» перешейка.
Это был большой удар для Пизарро. Бальбоа хорошо относился к нему и — мог поручить какую-нибудь важную экспедицию. Педрариас, этот жадный и хитрый шестидесятилетний старик, вряд ли доверит ему ответственное дело. При Педрариасе он будет по-прежнему занимать низшие посты и ни на шаг не приблизится к своей заветной цели. Но вместе с разочарованием Пизарро испытывал и злорадство. Он вспоминал, как Бальбоа входил вводы Южного моря, как он призывал солдат в свидетели своего открытия, как он клялся отстаивать новые земли от всех князей и королей, кто бы они ни были.
— Вот и улыбнулось вам Южное море, сеньор Бальбоа, — тихо шептал он, кривя свои тонкие губы в насмешливую улыбку. — За вашу щедрость, за ваши открытия, за посланное королю золото и жемчуг вы получили только королевское прощение и обещание, что сеньор наместник будет относиться к вам милостиво. Немного, очень немного! Будьте уверены, что если бы Франсиско Пизарро захватил когда-нибудь такую добычу, он сумел бы удержать ее.
Главная задача Пизарро заключалась теперь в том, чтобы подладиться к новому начальству. Зная, что Педрариас ненавидит Бальбоа и ищет всякого повода, чтобы погубить его, он стал отдаляться от своего прежнего вождя. Он не вел с ним долгих бесед, не участвовал в его дружеских пирушках и старался поскорее уйти всякий раз, как Бальбоа в его присутствии начинал жаловаться на несправедливость судьбы. Его исполнительность и аккуратность обратили на себя внимание наместника. Он не стал, правда, любимцем Педрариаса, но зато в свите наместника о нем говорили: «Это хороший солдат, на которого можно положиться». Он не находился под подозрением, как большинство соратников Бальбоа, ему не приходилось ежеминутно дрожать в ожидании немилости или тюрьмы. На первое время уже и это было хорошо. А потом — кто знает, что будет потом?
После прибытия Педрариаса положение колонии значительно ухудшилось. Население ее выросло настолько, что собственных припасов не хватало, и приходилось отбирать продовольствие у индейцев. С другой стороны, колонисты, желавшие нажиться как молено скорее, не щадили туземного населения и своими жестокостями далеко превосходили Бальбоа и его солдат. Индейские племена, доведенные до отчаяния, повели упорную борьбу с завоевателями. Отряды их бродили всюду, и даже ближайшие окрестности Санта-Марии постоянно подвергались нападениям. Борьбу с индейцами Педрариас поручил Бальбоа, и испытанному бойцу пришлось напрячь все свои силы, чтобы спасти колонию от гибели.
Педрариас внешне сохранял с Бальбоа самые приятельские отношения и далее выдал за него замуж дочь. Только немногие из наиболее приближенных лиц его свиты знали, как он ненавидит и боится неутомимого путешественника. Если Бальбоа откроет еще что-нибудь на перешейке и неизведанном южном материке, ему, вероятно, пожалуют завоеванные области, и под боком у Педрариаса появится соперник — предприимчивый, неустрашимый, умеющий с горстью людей захватывать целые царства и несколькими ласковыми словами привлекать к себе самых отъявленных головорезов.
Бальбоа не замечал, а может быть, не хотел замечать ненависти своего тестя. Он был весь поглощен приготовлениями к новой экспедиции, которую, по приказу из Испании, Педрариас поручил ему предпринять весной 1514 года, и так же страстно мечтал о западных землях, как раньше о Южном море. Встретившись как-то с Пизарро, он поделился с ним своими великими надеждами и спросил, не хочет ли Франсиско ехать вместе с ним.
Пизарро усмехнулся и сухо ответил:
— Нет, сеньор Бальбоа. Мне надоело ловить рыбу для чужой ухи. Если я что-нибудь и где-нибудь открою, то открою для себя. А если поедешь с вами, то ведь в конце концов все достанется Педрариасу.
— Может быть, может быть, Франсиско. В Испании вознаграждают не за подвиги, а за родственные связи. Но это не так уж важно. О тех, кто открывает новые страны, помнят все, а о тех, кто их захватывает, помнит только королевское казначейство. Земли у меня могут отнять, но славы не отнимет никто.
— Слава, слава! — презрительно протянул Пизарро. — По-моему, деньги лучше славы, сеньор Бальбоа. А еще лучше денег — власть. Но я неуч, и не мне спорить с вами. Прощайте, сеньор Бальбоа!
— Ты ничего не понимаешь в географической науке, Франсиско. Мои новые открытия дадут науке…
Бальбоа не удалось кончить своей фразы: собеседник его, не дослушав, повернулся спиной и ушел.
По мере того как приближался срок отплытия, настроение Педрариаса все более и более ухудшалось. Он чрезвычайно опасался результатов экспедиции. Если она приведет к большим открытиям, Бальбоа сразу затмит наместника при королевском дворе, оттеснит его на второй план. Педрариас ходил сумрачный, не спал по ночам, и наблюдательный Пизарро замечал, как при одном упоминании имени Бальбоа у завистливого старика загораются в глазах злые огоньки и плотно сжимаются губы, чтобы опрометчивое слово не выдало клокочущей в груди ненависти.
Накануне отплытия эскадры поздно вечером Пизарро спешно потребовали к наместнику. Педрариас встретил его встревоженный и печальный. Но по некоторым признакам Пизарро, прекрасно изучивший за это время своего начальника, сразу понял, что за этой личиной скрывается злорадное торжество.
— Я получил ужасное известие, Пизарро, — начал наместник. — Я никогда не думал, что такое горе обрушится на мою седую голову! Мой любимый зять, которому я так доверял, оказался изменником!
От неожиданности Пизарро выронил из рук шляпу. На лице его изобразились смущение и горе.
— Мне донесли из самых верных источников, что Бальбоа не намерен исполнять данные ему инструкции. У него есть какой-то свой план, и он хочет ехать в какие-то другие места, чтобы потом независимо от меня сноситься с Испанией. Понимаешь, Пизарро, он изменяет мне, наместнику короля!
— Вам? — воскликнул Пизарро с хорошо разыгранным волнением. — Вам, своему благодетелю, отцу своей жены, человеку, который любит его, как сына? Хуже такой измены ничего нет на свете, сеньор наместник!
— Правда, правда, — торопливо проговорил наместник. — Несмотря на мою любовь к нему и моей дочери, я вынужден немедленно принять меры. Ты должен взять с собой отряд в десять человек и сейчас же арестовать его. Я уже послал за ним, и ты, наверное, встретишь его по дороге. Как только встретишь, арестуй и отведи в тюрьму.
Пизарро откланялся и пошел исполнять приказ. Неподалеку от дома наместника он действительно встретил Бальбоа, торопившегося к Педрариасу.
— А, Франсиско! — ласково обратился к Пизарро его бывший начальник. — Куда это ты собрался в такое позднее время?
— Туда, куда я не хотел бы итти ни за какие блага мира, сеньор Бальбоа, — потупив глаза и низко поклонившись, отвечал Пизарро. — Но вы знаете, что долг солдата выше всего. Я должен арестовать вас, сеньор Бальбоа.
— Арестовать меня? По чьему приказу? — воскликнул Бальбоа, едва веря своим ушам.
— По приказу сеньора наместника. Благоволите следовать за мною в тюрьму.
Бальбоа пристально взглянул на Пизарро. Изумление сменилось на его лице презрением.
— И для этого поручения у моего тестя не нашлось никого, кроме тебя, моего друга? Иуд-предателей, конечно, много на свете, но я не думал, что ты из их числа. Или тебе уж очень много предложили за эту услугу?
— Долг выше всего, сеньор Бальбоа, — повторил Пизарро. — Мое сердце разрывается, я молю пресвятую деву о вашем спасении, но я не могу иначе поступить. Следуйте за мной, сеньор Бальбоа.
Бальбоа просидел в тюрьме долго. Педрариасу потребовалось немало времени, чтобы подготовить лжесвидетелей и собрать мнимые улики, изобличавшие его зятя в измене. Весной 1517 года состоялся суд. Приговор, заранее предрешенный, гласил: «Предать Бальбоа смертной казни через обезглавление».
Казнь состоялась на площади, перед домом наместника. Окна в доме Педрариаса были закрыты и завешаны темной материей. Приближенные из свиты Педрариаса шептали среди собравшейся толпы: «Сеньор наместник приказал повесить всюду черные занавеси, чтобы ничто не мешало ему молиться за упокой души его несчастного зятя». Никто, конечно, не видел, как маленький краешек занавеси отдернулся и к отверстию приник слезящийся старческий глаз. Не отрываясь, он следил, как Бальбоа вели к площади, как он положил голову на плаху, как сверкнул топор палача. А когда голова Бальбоа скатилась с плеч, поднялась старческая рука и осенила лоб крестным знамением.
— Упокой, господи, его душу, — прошептали старческие губы.-И да будет благословенна пресвятая богородица за то, что убрала с моего — пути этого человека!
Пизарро присутствовал при казни. При виде связанного Бальбоа ему невольно вспомнились торжественные минуты открытия Южного моря и слова, которыми ободрял его злополучный конквистадор после неудачной экспедиции. Он поспешно оборвал эти воспоминания. О неудачниках не стоит думать. По ним служат заупокойную мессу, а затем забывают о них навсегда. Как только в церкви, куда поспешил Пизарро тотчас после казни, замолкли последние слова похоронной службы, Пизарро навеки изгнал Бальбоа из своей памяти.
XVI
Как и все люди его возраста и положения, Педрариас не был склонен к рискованным предприятиям. Принимать личное участие в далеких экспедициях он уже не мог, а доверить открытия людям посторонним он не решался. Поэтому главная забота его заключалась не в том, чтобы расширять владения испанской короны, а в том, чтобы по возможности никого не пускать на соседние территории.
Только одним способом можно было заставить его нарушить это мудрое правило: убедить его в необыкновенной выгодности новой затеи и пообещать его превосходительству половину или треть барышей. Но и этот способ удавался лишь в том случае, если он был уверен, что человек, отправляющийся в экспедицию, не имеет связей при дворе и не сможет получить самостоятельное наместничество. Таким человеком и был Гаспар Эспиноса, который сумел выпросить у Педрариаса четыре корабля эскадры Бальбоа и отправился разведывать северо-западную часть перешейка. Благодаря неопытности руководителя путешествие это кончилось неудачей и принесло только убытки. После этого Педрариас стал еще осторожнее. Он постарался навсегда забыть о соблазнах новых земель и все свое время посвятил устройству вверенной ему колонии.
Прежде всего нужно было окончательно усмирить индейцев и обеспечить прочную и безопасную связь между атлантическим и тихоокеанским побережьями перешейка. Карательные военные походы, в которых принимал участие и Пизарро, так успешно «умиротворили» страну, что из коренного ее населения осталось в живых меньше половины. Запуганные индейцы беспрекословно делали все, что приказывали им белые, и через два-три года оказались на положении бесправных крепостных. С помощью их дарового труда были проложены удобные дороги через горные проходы и налажено судоходное сообщение по реке Чукунакуе, впадавшей в Тихий океан. По этому пути на тихоокеанское побережье непрерывным потоком потекли товары и переселенцы. Вскоре там образовался ряд поселений, самым значительным из которых была Панама. Панама разрасталась так быстро, что Педрариас сделал ее главным городом своего наместничества, и к 1520 году она уже походила на настоящую столицу, с дворцом наместника, кафедральным собором, казармами, крепостью, магазинами и торговыми складами. В ее порту начинали даже строиться корабли. Можно было надеяться, что Панама скоро догонит Сан-Доминго, столицу Эспаньолы и всей испанской Индии.
Педрариас был доволен и общим ходом дел и своими помощниками. Он оценил услуги Пизарро и так расщедрился, что пожаловал ему поместье и триста
индейцев-крепостных.
Пизарро понял, что ему больше не на что рассчитывать. Он бросил военную службу и попробовал заняться сельским хозяйством.
Это ему плохо удавалось. Он прекрасно владел мечом, но совершенно не знал, что ему делать с плугом. Предоставив управление имением знакомому колонисту, он предался полной праздности. По целым дням лежал он в гамаке и смотрел на заболоченные поля, которые не рожали хлеба, на индейцев, которые не приносили дохода, на страну, которая не сулила радостей. Ни улыбки молодых индианок, стоявших у изголовья и отгонявших опахалом назойливых москитов, ни льстивые поклоны темнокожих рабов, ни хмельной напиток, изготовляемый из местных плодов, не могли разогнать его невеселые думы.
Он думал об одном и том же. Он думал, что песенка его спета, что он кончит жизнь полунищим, что богатство, почести, слава и власть прошли мимо него. Иначе не могло и быть. Двадцать шесть лет, проведенные на другой половине мира, показали ему, что в этих новых, краях даже счастливцев стерегут на каждом шагу предательство и вероломство. О своих предательствах Пизарро забывал, но чужие предательства помнил очень хорошо. Он видел, как донос, клевета, подлоги губили самых удачливых. Великий адмирал, о котором говорил весь мир, был лишен наместничества и умер в бедности. Алонзо Охеда, несмотря на связи с испанским двором, кончил свои дни монахом в одном из монастырей Эспаньолы. Бальбоа, открывший новый океан и неизвестные области океанского побережья, был казнен на его глазах. А это были люди, имевшие и средства, и влиятельных друзей, и громкое имя. О чем же мечтать неграмотному солдату, который за все свои труды на сорок шестом году жизни получил лишь клочок болотистой земли да три сотни индейцев?
Часто Пизарро казалось, что былые мечты его — бред. «Великая южная империя пройдет мимо тебя, как прошло-многое другое, Франсиско, — говорил он себе в эти минуты отчаяния. — Копайся лучше на своем участке, разводи скот, выжимай из своих индейцев столько, сколько можешь выжать, и благодари судьбу, если на склоне лет наживешь несколько сот дукатов и приличное поместье».
Но примириться с такой участью было трудно. Все кругом только и говорили, что о путешествиях. Ведь еще недавно возвратился из своей экспедиции Эспиноса, который мог бы вернуться богачом, если б лучше знал солдатское ремесло. Гонсалес пустился на запад и, говорят, открыл страну, похожую на земной рай. А в конце 1520 года до Панамы дошло уж совсем ошеломляющее известие: Кортес, сподвижник Колумба, собрал большую флотилию и завоевал могущественное государство ацтеков — Мексику, расположенную рядом с полуостровом Юкатаном. Он отправил в Испанию целые корабли золота. Ему дали звание наместника. Из отведенных ему территорий он выкачивал миллионы, и каждый его солдат возвращался на родину богачом. Весь следующий год все поселки Панамского перешейка жили этими слухами, и сотни людей поехали предлагать свои услуги прославленному завоевателю.
Пизарро крепился. Он не хотел искать меда в обворованном улье. Его тянуло к странам, где не бывал еще никто.
В 1522 году в Панаму вернулась небольшая экспедиция Андагойи, разведывавшая юго-восточную часть перешейка.
Золота Андагойя привез мало, но зато сведения, сообщенные им, вскружили голову даже наиболее осторожным. Индейцы рассказывали ему, что далеко к югу вдоль высокого горного кряжа расположено могущественное государство. Там есть все, что может пожелать человек: фрукты, скот, груды золота и драгоценных камней, которыми забиты целые пещеры. Но путь к этой стране далек и опасен. Когда Андагойя передавал эти рассказы, на глазах у него навертывались слезы обиды: если бы у него было побольше людей, припасов и хотя бы два утлых суденышка, он вернулся бы в Панаму еще более богатым, чем Кортес, и еще более знаменитым, чем Колумб.
Скоро эти слухи дошли и до фермы Пизарро. Старый солдат не стерпел, бросил своих индейцев и через два дня был уже в Панаме. Первый знакомый, которого он встретил в столице, был Альмагро, участник многих экспедиций и его давнишний приятель. А первые слова, которые Пизарро от него услышал, были таковы:
— Ну что ж, Пизарро, давай собираться в путь!
 Доспехи Кортеса.
Доспехи Кортеса.
Альмагро был крепкий, добродушный человек, года на два-три старше Пизарро. Знатностью рода он похвастаться не мог: подобно Пизарро, он был подкидыш, но родители его остались неизвестными, а воспитатели занимались тканьем шерсти в Вальядолиде. Походы и странствования не принесли ему богатства. Правда, иногда и он набивал полные карманы золотом, но что это значит для солдата? Кутежи и щедрые подачки приятелям в три-четыре дня уносили весь его капитал, и в пятьдесят лет он был почти так же беден, как и в начале своих путешествий. Но у него сохранился юношеский пыл, и ради своей излюбленной мечты он мог в любую минуту поставить на карту и здоровье и жизнь.
— Ну что ж, Пизарро, едем? — повторил Альмагро.
Пизарро без всяких объяснений понял, куда зовет его Альмагро. Он криво усмехнулся и отвечал:
— Сеньора жаба сказала сеньору кроту: «Давай полетаем». Но как только жаба вышла из-под своего куста, а крот из своей норы, подлетел сеньор ястреб и скушал их обоих. Пожалуй, и с нами случится то же, Альмагро?
— Да, крыльев у нас нет, — согласился Альмагро. — Но крылья можно взять напрокат, и я уж присмотрел, где их можно достать.
Пизарро насторожился.
— Ты, наверное, знаешь дона Эрнандо де-Люке, викария церкви святой Магдалины? — продолжал Альмагро. — Дон Эрнандо скопил здесь изрядный капиталец; говорят, тысяч до десяти дукатов наберется. А он не любит, чтобы деньги лежали зря. Он сам недавно говорил мне, что готов их ссудить надежным людям на какое-нибудь смелое предприятие.
XVII
Через полчаса оба приятеля сидели уже у дона Эрнандо и вместе, с викарием обсуждали план путешествия. Викарий был человек обстоятельный и ученый, взвешивал каждую подробность и после долгой беседы сказал:
— Ну что ж, дети мои, положение ясное. Взвесим все, по всем правилам логики. Во-первых, вы можете умереть в пути, ничего не открывши. Это возможно. Во-вторых, вы можете открыть не то, что нужно. Это тоже возможно. В-третьих, вы можете набрать кучи золота и из ваших богатств не уделить бедному викарию ни одной крупицы. Это, пожалуй, возможнее всего. И все-таки я согласен рискнуть. Но раз уж такой большой риск, велика должна быть и моя доля. Открытые вами земли и всю вашу выручку мы поделим на три равные части: одна пусть достанется мне, другая — Пизарро, а третья — Альмагро. Идет?
Пизарро и Альмагро согласились и на следующий день приступили к подготовке путешествия. Скоро им пришлось принять в компанию и четвертого пайщика. Губернатор Педрариас решительно воспротивился их затее и сказал, что не позволит брать у себя солдат и колонистов, которых здесь и так слишком мало. Только после того как де-Люке расписал ему несметные богатства южной страны (викарий вообще был мастер расписывать то, чего он не видел) и пообещал уделить губернатору четвертую часть найденных сокровищ, Педрариас смягчился и пообещал содействие. Обязанности компаньонов были точно распределены: общее командование брал на себя Пизарро, Альмагро ведал снаряжением экспедиции, де-Люке доставал деньги, а Педрариас ничему не мешал. Правда, по договору, Педрариас обязался внести четвертую часть расходов, но для всякого было ясно, что это написано только для приличия. Кто же в Новом Свете осмелится взыскивать долги с губернатора?
Дело подвигалось медленно. Для постройки судов не хватало плотников и мастеров, трудно было достать опытных кормчих и матросов, да и у колонистов остыл пыл, и на зов Альмагро они не очень спешили. К осени 1524 года Альмагро удалось набрать около сотни солдат и целиком оснастить один корабль. Второй корабль все еще не был готов. В середине ноября 1524 года Пизарро выехал из Панамского порта. Альмагро должен был последовать за ним, как только окончится оснастка корабля!
Обогнув Пуэнто-де-Пиньяс — последний пункт, разведанный Андагойей и его спутниками, — Пизарро достиг устья реки Биру (от нее позже страна получила название Перу) и поднялся вверх по ее течению. Они увидел, безрадостные и однообразные места. Кругом — непроходимые бесконечные болота, кишащие змеями и аллигаторами. Днем путников мучила влажная, удушливая жара, расслаблявшая тело и усыплявшая мысль. По вечерам над низинами подымался густой полосой туман, серовато-белым пологом он окутывал берега и словно закупоривал легкие ядовитыми испарениями. Приунывшим солдатам то и дело приходили на ум рассказы о коварных индейских дьяволах. Из густого тумана доносился странный жалобный крик, и не разберешь, что это — не то просто птица, не то бес, заманивающий белых. Чье-то непомерно большое тело раздвигало осоку, шуршало, хлопало и вдруг исчезало. Поди догадайся, что это — удав, аллигатор или водяная нечисть, что прячется от человеческого глаза!
Кое-где экспедиции удавалось добраться до твердой почвы и проникнуть в глубь берега. Но и там экспедиция ничего отрадного не находила: дикие, голые утесы, подступы, к отрогам гор так же враждебно принимали человека, как и низкие трясины реки. Следовало вернуться в открытое море и тронуться вдоль побережья в нижележащие области.
Море встретило путешественников бурями и проливными дождями. Десять дней носилось утлое суденышко по яростным волнам и наконец, полуразбитое, возвратилось к только что оставленному пункту. Испанцы решили обследовать местность с юго-востока и пустились в девственные тропические леса, подобных которым они еще не встречали в землях Нового Света. Громадные, во много обхватов, деревья стоят сплошной стеной. В некоторых — огромные похожие на пещеры дупла, где можно уместить почти весь отряд. С ветвей длинными нитями свешиваются лианы, спутываются в зеленый войлок и скрывают от глаз солнце и небо. Под этим непроницаемым сводом тьма и мертвая тишина, не нарушаемая ни криками птиц, ни врем зверей. Только изредка в массе переплетенных зеленых веток слышится зловещий шорох: это переползает удав, потревоженный незваными гостями. Нога то и дело проваливается в сгнившие стволы — трупы поверженных лесных великанов. Жутью и безнадежностью веет от этих молчаливых пространств. Где привольные просторы, где цветущие нивы и сверкающие золотом берега прекрасных рек? Как дым, развеялись мечты, и резкие крики обезьян, шмыгающих где-то далеко вверху, звучали насмешкой над суетными усилиями белого человека.
Солдаты роптали. Куда ведет свой отряд начальник? Уж не помутился ли ум у Франсиско Пизарро, что он ищет сокровищ в непроходимых дебрях?
Через несколько дней Пизарро вместе с отрядом вернулся к той бухточке, где он оставил свой корабль. Припасы были на исходе, и надо было думать о пополнениях. Пизарро отправил в Панаму своего помощника Монтенегро с пятьюдесятью человеками экипажа, а сам с остальными пятьюдесятью остался на берегу. Корабль уехал, и разведки продолжались. Опять начались экскурсии в леса, поиски тропинок и человеческих жилищ. Скоро последние припасы иссякли. Отряд питался морскими ракушками и рыбой, пока был на побережье; грибами, орехами и ягодами, когда бродил по лесам.
Много дней уж прошло. Большинство солдат свалилось в лихорадке. День, с его палящей жарой, с его влажным ветром, не приносил бодрости; ночь, с ее пронизывающей сыростью, с ее жуткими, таинственными звуками, не давала успокоения. Больные уже перестали надеяться: их горящие, обведенные черными кругами глаза не видели впереди ничего, кроме смерти. Здоровые, глядя на них, ждали часа, когда и они лягут рядом с ними. Недели проходили за неделями, а море было по-прежнему пустынным, и казалось, никогда не покажется на нем долгожданное белое пятнышко.
Пизарро крепился и делал вид, что все обстоит благополучно. Никто не видел, как по ночам он становился на долгую молитву и все удваивал и удваивал число благодарственных обеден, которые он обещал пресвятой деве за избавление. Перед солдатами он был все тем же грубоватым, хитрым, самоуверенным человеком, умеющим ободрить умирающего и то шуткой, то смешной историей разогнать тоску здоровых.
— А ты сегодня совсем молодец, Алонзо! Когда приедешь в Панаму с мешком золота и женишься на вдове судьи, не забудь пригласить меня на свадьбу!
— Приеду ли я туда когда-нибудь, сеньор капитан? — через силу произносил умирающий.
— Какие глупости тебе приходят в голову, Алонзо! Это оттого, что тебе хочется выпить, а выпить-то нечего. Хочешь, я расскажу тебе историю о том, что приключилось с солдатом, который не мог вовремя выпить?
Умирающий уже не слушал: глаза у него закрылись и дыхание становилось все реже и реже. Но зато остальные хохотали, не замечая, что в отряде одним человеком стало меньше.
— А вы все-таки старые бабы, друзья мои, — говорил Пизарро, подходя к кучке молчаливых, озлобленных солдат. — Здесь райская жизнь! А вот послушайте, что случилось со мной десять лет назад на Эспаньоле, где я разыскивал спрятанный индейцами клад.
И опять — начинался длинный рассказ о золоте, об индейцах.
— Сегодня у нас умер двадцатый, сеньор капитан, — доложил утром старший, входя в палатку к начальнику.
— Значит, осталось тридцать. Сколько из них здоровых?
— Вы и я, сеньор капитан.
— Сколько тяжело больных?
— Половина.
Пизарро приказал устроить похороны. Вырыли в песке могилу, бросили туда труп, и Пизарро начал читать подряд все молитвы, какие знал наизусть. Таких было немного, но даже и их не успел он кончить, потому что из задних рядов кто-то вдруг крикнул:
— На море парус, сеньор капитан!
Это был корабль Монтенегро. Он привез продовольствие, лекарства, боевые припасы и пятьдесят солдат. От уныния не осталось следа, и опять ярко вспыхнули мечты о золоте и необозримых плодородных землях. Больные быстро поправлялись. Через неделю корабль вышел в открытое море и направился к югу, держась береговой линии.
Вскоре путешественники увидели на берегу индейское поселение. Солдаты высадились, но нашли селение покинутым: туземцы бежали в горы, бросив на произвол судьбы все свое скудное имущество. Среди оставленных вещей оказалось довольно много золотых безделушек — желанная находка, предвестник удачи! Плохо было только то, что в горшках, брошенных у очагов, варились человеческие руки и ноги. Туземцы — людоеды, и чем скорее уйти от них, тем лучше.
Корабль опять пустился вдоль берега, держа курс на юг. Через некоторое время на берегу показалась большая деревня, напоминающая город. Опять высадка, и опять деревня оказалась покинутой. Чтобы лучше исследовать местность, Пизарро разделил солдат на два отряда и один из них, под начальством Монтенегро, послал в горы на разведку, а с другим остался в деревне. Тем временем индейцы, внимательно следившие за движением пришельцев, возвратились и бросились на испанцев с такой яростью, что Пизарро и его отряд вряд ли уцелели бы, если бы на выручку не подоспел Монтенегро. В этой стычке Пизарро полечил семь ран, Многие из его спутников были убиты и многие ранены. Пизарро не рискнул еще раз испытывать военное счастье: посоветовавшись с солдатами, он решил покинуть опасные места и ехать в Панаму за новыми подкреплениями. Открыли они очень немного, но зато в обоих селениях награбили достаточно золота, чтобы убедить и губернатора и колонистов в существовании страны, богатой драгоценными металлами. Однако ехать в столицу самому Пизарро было опасно, ибо неизвестно, как встретит его разочарованный Педрариас. Поэтому военный совет постановил: Пизарро с частью своих солдат остановится в местечке Чикама, неподалеку от столицы, а казначей экспедиции поедет в Панаму и постарается сговориться с губернатором.
Пока происходили все эти события, Альмагро снаряжал корабль в Панамском порту и набирал экипаж. Это отняло гораздо больше времени, чем он рассчитывал, и поэтому он пустился — в путь с значительным опозданием. Он поехал по тому же маршруту, как и Пизарро (этот маршрут описал ему Монтенегро), посетил прибрежные поселения, где испанцы сражались с туземцами, догадался по оставленным на деревьях меткам, что его товарищи были здесь, но никаких дальнейших следов их не обнаружил. Значит, Пизарро или погиб в стычках с индейцами, или вернулся в Панаму. Альмагро ничего иного не оставалось, как последовать примеру вождя. Но, прежде чем покинуть эти места, он решил продвинуться несколько на юг, в надежде, что ему удастся открыть окраины великой империи.
В последнем из селений, посещенных Пизарро, туземцы выступили против Альмагро с оружием в руках. Стальные мечи, крепкие латы, воинское искусство помогли справиться с индейцами, но победа обошлась дорого: несколько солдат было убито, и сам вождь лишился глаза, в который попал неприятельский дротик. Предав деревню сожжению, Альмагро двинулся по морю на юг и у устья довольно большой реки, на четвертом градусе северной широты, наткнулся на несколько деревень с хорошими постройками и прекрасно обработанными полями. Они совсем не походили на то, что испанцы видели до сих пор. Здесь, наверное, уже начинались владения таинственного южного государства. Но с теми небольшими силами, которыми располагал Альмагро, продолжать разведки было опасно. Пришлось возвращаться назад, чтобы потом с более значительным отрядом предпринять новую экспедицию.
С награбленным золотом — его было больше, чем у Пизарро, — Альмагро тронулся в обратный путь и на промежуточном пункте — Жемчужном острове — узнал, что Пизарро уже давно проследовал в Чикама. Туда же поехал и Альмагро и вскоре встретил своего начальника.
Разговаривать с Педрариасом у Пизарро не было никакой охоты.
— Сеньор Педрариас — продувная, жестокая и жадная бестия, — говорил он Альмагро. — Он взбесится, когда узнает, что вместо сотен пудов золота мы привезли каких-нибудь двадцать-тридцать фунтов. Он подумает, что мы его обманули. И если он не пощадил сеньора Бальбоа, что же сделает он с Франсиско Пизарро, у которого нет ни знатных родственников, ни родовитых друзей? А ты — мой подчиненный. Тебе ехать безопаснее. Ты и поезжай. Тебе поможет падре Эрнандо де-Люке. У него ведь язык как медом намазан.
Альмагро поехал, но задача его оказалась не из легких. Всемогущий губернатор был не в духе: он готовился к походу против какого-то взбунтовавшегося конквистадора, не признававшего его власти, а солдат в Панаме насчитывалось всего сотни три. Альмагро счел невозможным явиться к нему первым и послал вперед дона Эрнандо в качестве дипломата и разведчика.
Когда дон Эрнандо вошел в кабинет к Педрариасу, первое, что ему пришлось сделать, — у это нагнуть пониже голову, чтобы увернуться от увесистого глиняного кувшина, которым губернатор швырнул в посетителя.
— Если бы не мое уважение к духовному сану, я бы еще и не так принял вас, дон Эрнандо! — взревел губернатор вместо приветствия.
— Мой сан охраняет святая инквизиция… — начал было внушительным тоном дон Эрнандо.
— К чорту инквизицию! — еще громче закричал Педрариас.
— Я сегодня оглох, я сегодня ничего не слышу, сеньор губернатор, — спокойно и несколько насмешливо проговорил дон Эрнандо, радуясь в душе, что губернатор дал ему в руки такой козырь. — Но мне показалось, что вы что-то сказали о чорте. Святая инквизиция не любит этого слова. Я знал одного почтенного гранда, который в компании друзей как-то подвыпил и назвал одного из отцов инквизиторов старым чортом. И что же вы думаете? Через неделю бедный гранд уже горел на костре, упокой, господи, его грешную душу.
Губернатор побледнел и изменился в лице.
— Я хотел сказать… я хотел сказать, что сегодня очень душная погода и что она плохо действует на мой желудок, дон Эрнандо. И кроме того, мне не хватает солдат для моего отряда. А тут еще эти ваши приятели, которые так жестоко надули меня!
— Не только мои, но и ваши, сеньор губернатор. Нона этом деле вы, кажется, не много потеряли. Ведь вы как будто еще не внесли, той части расходов, которую вы обязались вносить по нашему условию?
Губернатор окончательно расстроился.
— Меня губит мое великодушие, дон Эрнандо. Я немоту не поощрять бедняка, который прибегает к моей помощи. Да, я обещал. Но мало ли что я обещал? Ради государственной пользы губернатор может и отказаться от исполнения своих обещаний.
— Вот именно, сеньор губернатор. Зная вашу доброту, я и пришел к вам. Вы, конечно, не будете взыскивать, с людей, которым недостаток средств помешал закончить их предприятие. А что оно должно кончиться блестяще, в этом не может быть сомнений. Пизарро привез фунтов десять золота, Альмагро — фунтов двадцать. И это они набрали в каких-нибудь двух-трех поселках. Подумайте, сколько они наберут, если объедут всю страну! За вашу доброту вы тогда получите немалое вознаграждение. А и всего-то им нужно — съестных припасов да несколько десятков солдат.
— Они приехали за солдатами? — вскипел опять губернатор. — Они с ума сошли! По ним давно уже стосковалась виселица!
— Мало ли кто по ком тоскует, сеньор губернатор. По одним тоскует виселица, по другим — костер святой инквизиции. Но я думаю, что и виселица и костер могут подождать, — не так ли, сеньор губернатор?
Губернатор молчал и растерянно пощипывал седую бородку.
— По вашему лицу я вижу, что ради государственной пользы вы уже забыли о минутном раздражении, сеньор губернатор. Я тоже по христианскому милосердию забываю иногда неосторожные слова. А что касается вашего долга, то я думаю, что ни Пизарро, ни Альмагро, ни я не будем вам о нем напоминать. На этот счет вы легко сговоритесь с Альмагро, который просит разрешения повидаться с вами.
Губернатор кивнул головой. Свидание было кончено. На следующий день пошел объясняться Альмагро.
Как воин, Альмагро знал, что лучший способ защиты — нападение. Поэтому с нападения он и начал.
— Я пришел к вам за деньгами, сеньор губернатор. Вы участник нашей экспедиции. Где те три тысячи песо, которые вы обещали? Мы сейчас очень в них нуждаемся.
— В Индии губернаторы не платят денег. В Индии губернаторы получают деньги, — надменно проговорил Педрариас.
Но Альмагро не дал ему говорить. Волнуясь и заикаясь, он рассказал о странствиях обоих кораблей, о страданиях отряда Пизарро, о тех несметных богатствах, которые лежат без пользы в сокровищницах южной империи.
Еще одно усилие — и четыре пайщика будут самыми богатыми людьми во всем мире.
— Сейчас нам нужны только припасы и несколько десятков солдат. За этим я к вам и пришел, сеньор губернатор, — закончил он свою речь.
Педрариас с трудом сдержал свою ярость. «Если бы не попик со своей инквизицией, дорого бы ты заплатил мне за эту дерзость!» думал он, глядя на взволнованного Альмагро.
— Я не намерен больше ввязываться в эту безумную затею, — оказал он наконец. — Сказки о южной империи мне надоели. Я выхожу из компании и не плачу вам ничего. А за то, что я не буду мешать набору солдат, вы должны заплатить мне две тысячи песо.
— Пятьсот, — предложил Альмагро.
В конце концов сошлись на тысяче, и Педрариас в присутствии двух свидетелей письменно отказался от всяких претензий и обязался не препятствовать новому путешествию.
Узнав о счастливом исходе переговоров, Пизарро приехал в Панаму, и 10 марта 1526 года он, Альмагро и Эрнандо де-Люке возобновили прежний договор. Но теперь де-Люке рисковал уже не своим капиталом: он действовал по поручению Эспиносы, незадачливого путешественника, но очень богатого человека.
Скоро приготовления закончились. Были куплены два судна, гораздо более объемистые, чем прежние, набран отряд, но уже не в несколько десятков, как уверяли губернатора де-Люке и Альмагро, а в сто шестьдесят человек, приобретено военное снаряжение и даже десятка два лошадей. Лошади являлись огромным богатством, ибо они не водились в Новом Свете, а привозились из Европы и продавались по баснословным ценам.
Около середины 1526 года экспедиция двинулась из Панамы. «Великий план» Пизарро близился к осуществлению.
XVIII
Твердыми, размеренными шагами расхаживал Пизарро по палубе корабля. Панама давно уже скрылась из глаз. Направо простиралась бесконечная морская гладь, налево неясной темной дымкой протянулась береговая линия материка. Впереди, на юге, — золото, империя, власть, наместничество, слава! Теперь все это уже не мечты. Пройдет немного дней, и слово за словом начнут сбываться предсказания цыганки. О чем говорила старая? Не упомнишь всего, ведь так много лет прошло с тех пор! Но, помнится, сказала она: «Кого захочешь — помилуешь, кого захочешь — казнишь!» Ведь это значит — губернатор, а может быть, и еще больше — наместник, а может быть, и еще больше — король. Берегись, Педрариас, того часа, когда у Франсиско Пизарро вырастут крылья и клюв!
Целые вечера проводил Пизарро в беседах с Альмагро и ближайшими помощниками.
— На, первых порах не надо зариться на добычу, — наставлял он их. — Сначала надо вести себя так, как хороший игрок ведет себя с неопытным простачком. Он делает вид, что не умеет играть, проигрывает дукат за дукатом, и простачок входит в азарт, удваивает ставки и наконец кладет на стол весь кошелек. И вот тогда-то игрок принимается за дело как следует и в несколько минут забирает у дурака все. Так же нужно поступать и с индейцами. Если мы сразу бросимся на них, как коршуны, они соберутся тысячами и истребят нас. Если же мы будем вежливы, обходительны и будем раздавать им бусы и тряпки, они лягут на спину, как ласковый щенок, протянут нам лапки. Вот тогда-то мы и ухватим их, и ухватим так, чтоб они не вырвались. Помните, друзья мои, мы ведем крупную игру! Каждый из вас может вернуться на родину богачом. Но не вспугивайте раньше времени добычу, чтобы она не улетела.
Такие же разговоры вели помощники Пизарро со своими солдатами. Солдаты хмурились: как же можно не брать золото, когда оно лезет в руки? Но и они в конце концов поняли, что ограбить не вовремя — значит, упустить все. Они клялись, что будут обходиться с туземцами, как родная мать, пока сеньор капитан не скажет: «Теперь довольно нежностей, пора приниматься за дело».
Иногда Пизарро становилось страшно. Ведь в этой стране, наверное, сотни тысяч, а может быть, и миллионы жителей, а у него немного более сотни солдат. Но ничего! У него мало сил, зато много хитрости. Столько ее накопилось в нем за пятьдесят два года жизни, что, кажется, перехитрит он самого чорта. И кроме того, падре обещают ему помощь небесного воинства. Св. Петр, св. Яго, св. Георгий, все святые календаря будут за него. Сомневаться нельзя: индейцы будут побеждены, южная империя будет завоевана!
Путешествие началось счастливо — без бурь и опасных приключений. Не останавливаясь ни в одном из ранее посещенных пунктов побережья, Пизарро и Альмагро доехали до устья реки Сан-Хуан и поднялись вверх по течению. В одном из селений они забрали богатую добычу, состоявшую, по обыкновению, из золотых украшений и нескольких пленников, которые должны были служить им переводчиками. На этот раз пришлось отступить от установленных правил: золото было необходимо, чтобы приманить из Панамы солдат и колонистов, пленники — чтобы облегчить переговоры с жителями. Страна была густо населена, поля хорошо возделаны, а туземцы совсем не походили на беспомощных дикарей. О покорении их со столь небольшими силами нечего было и думать. На военном совете решили: Альмагро, забрав драгоценный груз, должен ехать в Панаму за новыми подкреплениями; кормчий Руис должен ехать на втором корабле на юг и обследовать прибрежные местности; Пизарро останется на месте и тронется в глубь материка искать более значительные поселения.
 Жители страны инков.
Жители страны инков.
Руис успешно выполнил свою задачу. Он открыл на берегу много деревень и, не вступая в стычки с туземцами, пробрался еще далее на юг. Несколько южнее второго градуса северной широты он заметил в море большой плот, связанный из толстых бревен и двигавшийся с помощью паруса. Подъехав к плоту, он вступил в разговоры с ехавшими на нем пассажирами. Они были одеты в прекрасно окрашенные, хорошо вытканные шерстяные и хлопчатобумажное ткани и везли с собой золото и весы для его взвешивания. Очевидно, это была какая-то торговая экспедиция, посланная для закупок у туземцев местных продуктов. Люди знаками рассказывали: они родом из большого города, расположенного дальше к югу. Город называется Тумбес. Там множество стад, большие поля, засеянные маисом, много золота и серебра. Руис, забрал с собой несколько индейцев, чтобы через них объясняться с местным населением, и поехал дальше. Добравшись до Пунта-де-Пасадо и пересекши экватор, он вернулся обратно.
Пизарро пришлось труднее всех. Отряд его шел долго, но обещанные туземцами обширные равнины не показывались. Вместо равнин впереди чернели вершины горного хребта (впоследствии названного Кордильерами), с каждым шагом вздымавшиеся все выше и выше. Идти приходилось без тропинок, наобум. Люди то и дело сползали в узкие темные ущелья, обрывались в пропасти. А когда они переходили вброд глубокие ручьи, многие из них становились жертвой аллигаторов. Несколько человек попало в плен к индейцам, которые издали следовали за белыми и хватали каждого, отбившегося от отряда. Припасы истощились, и приходилось питаться диким картофелем и орехами. Солдаты роптали и требовали, чтобы Пизарро вел их обратно. Ничего не открыв, Пизарро вернулся на побережье.
На его счастье, вскоре приехал кормчий Руис, а вслед за ним и Альмагро с припасами и новым отрядом добровольцев. Альмагро привез важные новости: Педрариас смещен, а на его место назначен новый губернатор — Педро де-Лас-Риас, обещавший содействие экспедиции. Очень кстати подвернулись и только что приехавшие из Испании переселенцы. Все они бредили золотом и военными набегами, и среди них Альмагро навербовал восемьдесят человек.
Новости эти сразу прогнали уныние. Оба корабля двинулись вдоль берега на юг, миновали бухту св. Маттео, где уже побывал Руис, и наконец добрались до новых мест. Узкая береговая полоса, окаймляющая горную цепь, была усеяна большими селениями, покрыта тучными нивами, изобиловала фруктовыми садами. Множество неизвестных ароматических деревьев издавало приятный, освежающий запах.
Впервые за много месяцев путешественники увидели страну, которая дышала здоровьем и радостью и вместо отравленных стрел посылала пришельцам приветливое «здравствуйте».
Еще дальше к югу лежал город Такамес. Наряду с обычными хижинами в нем виднелись прочные, крепко сложенные каменные здания. Обитатели города носили множество золотых украшений и драгоценных камней, особенно изумрудов.
Вот она, долгожданная страна сокровищ!
Жители не проявляли к белым никакой вражды и смотрели на них без страха. Они были спокойны, по-видимому потому, что сознавали свою силу. На берегах рек, по устьям которых проходили корабли, испанцы видели многочисленные вооруженные отряды. Воины не нападали на чужеземцев, но держались настороже. Видно было, что они в любую минуту готовы дать отпор пришельцам. Начинать с ними вооруженную борьбу было бы безумием. Без новых пополнений, и довольно значительных, нельзя было обойтись. Пришлось опять возвращаться в Панаму.
Но кому ехать? Пизарро, показывая на Альмагро, сказал:
— Тебе.
А Альмагро, кивнув на Пизарро, буркнул:
— Тебе.
Альмагро надоело исполнять чужие поручения. Он не вербовщик, а воин. Он пайщик, и у него такие же права, как у Пизарро. Почему бы на этот раз ему не остаться здесь и временно не стать вождем экспедиции?
Пизарро стоял на своем. Он понимал, что если он упустит власть из рук хотя бы на короткое время, Альмагро может стать его соперником. И кто знает на чью долю достанется тогда южная империя! Но мыслей этих он, конечно, не высказывал вслух. Вслух он сказал совсем другое:
— Никто не переседлывает лошадь посредине реки, и никто не меняет пастуха, когда стадо в опасности. Здесь, опаснее всего, и я, как начальник экспедиции, должен оставаться здесь.
Альмагро не сдавался. Послышались бранные слова, звякнули шпаги, и, если бы не вмешательство Руиса и друзей, дело могло бы кончиться плохо. В конце концов Альмагро согласился ехать, и оставалось только выбрать место лагеря для Пизарро. Лагерь решили устроить на небольшом острове Гальо. Он находился так далеко от берега, что индейцы, не имевшие больших лодок, не могли до него добраться. Но всякий понимал, что жить, там будет трудно и мучительно. Пронизывающая сырость, вечные дожди, отсутствие пещер и прикрытий, скудость растительности сулили лихорадку и голод. Среди солдат начался ропот. «Этот проклятый клочок земли станет нашим кладбищем», говорили они. Но Пизарро стоял на своем. Расположиться на берегу было слишком опасно, а ехать обратно в Панаму — значило оттянуть экспедицию на многие месяцы, а может, и годы.
С помощью преданных ему солдат дисциплину удалось восстановить. Тем не менее недовольство не утихало. Накануне отплытия Альмагро к кипе хлопка, полученной от туземцев и предназначенной в подарок жене губернатора, незаметно подкрался человек и в самую середину сунул записку. Записка была обращена к губернатору. В ней описывались невыносимые страдания, которые грозят оставшимся, и заканчивалась она злобными словами: «Наши капитаны — хозяева скотобойни: один пригоняет в нее быков, другой режет их. К вам, сеньор губернатор, едет гуртовщик, здесь остается резник». Под запиской стояло несколько подписей. Дорого бы дали вожди за то, чтобы перехватить это послание, чуть не погубившее все их планы!
Альмагро уехал. Вскоре после его отъезда Пизарро отослал на оставшемся корабле наиболее строптивых и с небольшим числом верных соратников коротал, как умел, медленно тянувшиеся дни. Оправдались самые худшие ожидания: наступило зимнее время, а в эту пору под тропиками дождь льет, почти не переставая. Платье гнило, рубашки, пропитанные потом и водой, прилипали к телу и ни на минуту не просыхали. Припасы испортились, и питаться приходилось крабами да ракушками. Многие лежали в лихорадке. Наконец на горизонте показались два корабля. Люди спасены, успех экспедиции обеспечен, неизвестная империя почти завоевана!
Напрасные надежды! Вместо Альмагро на берег сошел незнакомый капитан и передал приказ губернатора: немедленно садиться на корабли и возвращаться в Панаму. Пора бросить бредни, стоившие жизни десяткам людей! Пизарро был ошеломлен. Через несколько минут он узнал, в чем дело: засунутая в кипу хлопка записка дошла до губернатора, отосланные Пизарро недовольные подтвердили слова жалобщиков, панамские власти разгневались и решили раз навсегда отвадить безумцев от сумасбродных мечтаний. Итак, вместо славы — позор, вместо необозримой империи — вонючая тюрьма, удел всякого неудачника. Что мог Пизарро противопоставить приказу колониального властителя? Ничего, кроме Собственной воли. Это единственное, что еще можно было бросить на весы судьбы.
Ночью Пизарро не спал. Он ходил по берегу и думал. Никогда в жизни не представится больше такого случая. Ехать в Панаму — значит, начинать все сначала. Да и начинать тогда не стоит — кто же станет слушать пятидесятилетнего неудачника? А что же можно еще сделать? Остаться! Альмагро, де-Люке и Эспиноса приложат тогда все усилия, чтобы снарядить экспедицию, хотя бы только для того, чтобы спасти упрямцев. Они будут приставать к губернатору. Они скажут, что позорно оставлять товарищей на верную гибель. Де-Люке пойдет к епископу и постарается разжалобить его. Он расскажет о сотнях тысяч туземцев, которых Пизарро со своими воинами обратит в несколько месяцев в христианскую веру. Да и мало ли что он еще наговорит — ведь язык у него работает, как хорошая мельница. И, может быть, в конце концов губернатор сменит гнев на милость.
Ну, а если ничто не подействует? Если оставшихся бросят? Ну что же, тогда они погибнут. Но ведь и в Панаме они погибнут. Так не все ли равно, где сложить кости — на панамском кладбище или на острове Гальо?
Наступило утро. Матросы и солдаты встали рано, собрались кучками, с нетерпением ждали, что скажет начальник. Вот появился и он, мрачный, худой, с глубоко впавшими, лихорадочно горящими глазами. Его обступили. На песке он провел мечом линию от востока к западу и произнес всего несколько слов:
— К югу от этой линии, друзья, находятся труды, страдания, голод, смерть, к северу от нее — спокойная жизнь. К югу лежит Перу с его сокровищами, к северу — Панама с ее нищетой. Выбирайте то, что подобает храброму кастильцу. Что до меня, то я иду на юг.
С этими словами Пизарро перешел через линию. Собравшиеся молчали. Через минуту от толпы отделился кормчий Руис, за ним Педро де-Кандиа, потом еще одиннадцать человек и направились к Пизарро. Эти четырнадцать человек останутся здесь. Для них возврата нет. Впереди для них одно из двух — или Перу, или смерть.
Командир кораблей возмутился. Он отказался предоставить Пизарро корабль.
— А что касается продовольствия, — добавил командир, — то зачем оно людям, которые сами обрекли себя на гибель?
После долгих уговоров он все же согласился оставить Пизарро и его спутникам некоторое количество припасов.
После отъезда кораблей Пизарро перенес лагерь в другое место. На коре деревьев ножом нацарапали указания, куда уехала экспедиция. Небольшой отряд построил лодку и переправился на остров Горгону, в двадцати милях к северо-востоку. Там был более здоровый климат, водились кролики и фазаны, имелись пригодные для жизни пещеры. Там росло много деревьев, и окрестности не мучили глаз унылой наготой. Но и там — сырость, дождь, духота, бессонные ночи и безрадостные дни.
Семь месяцев прожил там Пизарро со своим отрядом. Он делал все, чтобы поддержать бодрость среди своих спутников. Каждое утро и каждый вечер отряд пел хором церковные песнопения и подолгу молился. Пизарро говорил проповеди. Правда, в них было больше крепких словечек, чем священных изречений, но на солдат они действовали. Кроме проповедей, Пизарро, как всегда, рассказывал занимательные истории о битвах и о золоте. Золото, золото, золото… Оно звенело в ушах, манило, баюкало, ободряло, воодушевляло, успокаивало…
Солдат истомила лихорадка. Целыми часами они лежали неподвижно на песке. Над ними носились тучи москитов и словно серым пластырем облепляли голое тело, с которого давно уж свалилась истлевшая одежда. Когда зуд становился нестерпимым, солдаты зарывались в песок и покрывали лица листьями. Некоторые по целым часам бредили с открытыми глазами. Вспоминали детство, видели перед собой оставшихся в Испании матерей, невест, друзей. Больные были счастливее тех полуздоровых, которые бродили по острову в поисках пищи и с отчаянием вглядывались в лиловатую даль, ожидая невозможного чуда.
А чудо это все-таки произошло. Де-Люке, Альмагро и Эспиноса пустили в ход все средства: надоедали губернатору, уговаривали епископа, за кружкой вина обрабатывали колонистов, ссужали — без отдачи — мелкие и крупные суммы чиновникам столицы. В Панаме начался ропот. «Оставить без помощи христиан, да еще испанских гидальго, — разве это по-божески? Упустить из рук целую империю — разве это выгодно испанской короне? Лишить католическую церковь сотен тысяч новообращенных — разве это приятно его святейшеству папе?» Де-Люке не пренебрег и самыми малыми мира сего: сунул служке епископа пять дукатов и о чем-то долго шептался с ним. И служка выручил. Как-то вечером, подавая епископу ужин, служка низко поклонился и шепотом сообщил:
— Я слышал, что отцы доминиканцы написали на вас донос, ваше преосвященство.
 Постройка времен инков.
Постройка времен инков.
Епископ знал, что с отцами доминиканцами шутки плохи. Ведь они ведали инквизицией! Его преосвященство заволновался.
— Они говорят, что вы не заботитесь об обращении в христианство язычников и не поддерживаете Пизарро, — пояснил служка.
От огорчения епископ не захотел даже, ужинать. Из. — за этого проклятого Пизарро, пожалуй, еще отрешат от должности за нерадение. Надо подействовать на губернатора! Но что сильнее всего действует на губернатора? Ясное дело, донос. И его преосвященство тут же поехал к его превосходительству.
Оставшись наедине с сеньором де-Риас, епископ пожевал тубами, оглянулся на дверь, вздохнул, кашлянул. Губернатор хорошо изучил повадки епископа и сразу понял, что его преосвященство собирается сказать какую-то неприятность. Так оно и вышло. Его преосвященство высморкался и, понизив голос, сказал:
— Я слышал, что несколько видных чиновников послали ко двору донос на ваше превосходительство. Имена доносчиков мне, к сожалению, никак не удалось узнать. Они обвиняют вас в измене.
Губернатор подскочил на кресле.
— Меня? В измене? — повторил он, ошеломленный.
— Ну да, они говорят, что вы не посылаете помощи Пизарро для того, чтобы самому завоевать южную империю и потом отложиться от Испании.
— Пизарро! Пизарро! Пизарро! — в бешенстве забормотал губернатор. — Мне все уши прожужжали этим проклятым именем! Не хватает еще, чтобы из-за этого проходимца надо мной нарядили следствие! Пусть они подавятся своим капитаном! Пусть едут завтра же и забирают из Панамы весь сброд. Я сейчас же отдам приказ, чтобы экспедицию разрешили.
Экспедиция поехала, но на этот раз с немногочисленным экипажем и со строгим губернаторским наказом: вернуться в Панаму не позже чем через шесть месяцев. И в тот день, когда даже Пизарро перестал надеяться, корабль Альмагро бросил якорь у берегов острова Горгоны.
XIX
Когда больные подкормились и несколько оправились, Пизарро приказал отправляться в дальнейшее плавание. Корабль двигался все время на юг и недели через три бросил якорь в заливе Гваякиль, расположенном у подножия высочайших вершин Анд — горы Чимборазо и вулкана Котопахи. Но больших поселений в этом районе не оказалось, и экспедиция поехала дальше.
На берегу залива, названного испанцами заливом св. Клары, раскинулся город Тумбес, тот самый, о котором рассказывали кормчему Руису встреченные им в океане индейцы. Пизарро немедленно отправил туда двух ближайших своих сотрудников — Алонзо де-Молина и Педро де-Кандиа. Через несколько часов посланные вернулись и с восторгом рассказывали о виденных ими чудесах. В городе много каменных дворцов и храмов. На базарах лежат груды плодов и всевозможных припасов. Жители радушны, зовут к себе иностранных гостей и угощают их каким-то вкусным напитком из золотых и
серебряных кубков. Мужчины веселы и разговорчивы, женщины миловидны и приветливы. А сколько на них золотых серег, ожерелий, браслетов! Право, если как следует обшарить этот город, можно нагрузить золотом целые корабли.
Солдаты слушали посланцев, затаив дыхание. Рассказы прибывших звучали, как небесная музыка, и усталым воинам казалось, что над палубой кто-то подвесил тысячи золотых колокольчиков и с каждого из них льется золотая струя. Но на осторожного и недоверчивого Пизарро не так-то легко было подействовать. Он усмехнулся и сказал:
— Должно быть, друг Молина и друг Кандиа слишком много хлебнули индейского напитка. Надо мне самому посмотреть этот райский город.
В сопровождении четырех солдат и индейца-переводчика Пизарро высадился на берег. Его блестящие стальные латы, шлем с длинными страусовыми перьями, меч на перевязи, куртка, белое лицо и длинная с проседью борода вызвали в собравшейся толпе шепот изумления. Таких людей жители Тумбеса еще не видели. Они знали употребление меди и умели выделывать из нее ножи и мечи, но железо было им неизвестно. Высокие сапоги со шпорами, которые Пизарро надел для этого торжественного случая, казались им необыкновенным украшением. Но всего необыкновеннее были цвет кожи и густая борода этого пришельца. Те двое, которые приезжали до него, были тоже белые и бородатые. Где же родятся эти удивительные существа? На краю света? На луне? На солнце?
Безусые и безбородые мужчины перешептывались, темно-коричневые женщины вскрикивали от изумления и восторга, нагие ребятишки подбегали сзади к невиданным существам, несмело притрагивались пальцами к их латам и сапогам и стрелой отбегали в сторону. На недалеком расстоянии от берега Пизарро поджидала небольшая группа. Впереди стоял высокий человек в головном уборе из перьев, синей рубашке и длинном пурпуровом шерстяном плаще, по краям которого были вытканы затейливые узоры. В ушах этого человека — по-видимому, какого-то важного начальника — были вдеты тяжелые, в четверть фунта, золотые серьги. От этого груза мочки ушей оттянулись книзу чуть не на вершок и свисали почти до плеч.
Позади высокого человека стояла вооруженная стража — человек двенадцать воинов в рубашках темного цвета, с медными мечами и с пиками, снабженными медными наконечниками.
Высокий человек слегка нагнул голову и быстро заговорил. Индеец-переводчик на ломаном испанском языке так передал его речь:
— Я начальник — этого города, а мой начальник — инка, могущественный король, сильнее которого нет на земле. Я очень рад гостям. Но скажи мне, вождь неизвестного народа, почему ты такой белый? Может быть, ты и твои братья — сыновья Солнца? Наши инки тоже сыновья Солнца, и много-много лет назад они тоже были белые.
— Я посол великого испанского короля, — отвечал Пизарро. — Испанцы — самые белые люди на земле, а наш король — самый белый из всех испанцев. Из всех королей земли он самый сильный и самый добрый. Но, если в чужой стране убивают хоть одного его подданного, он посылает большое войско, и за каждого убитого испанца солдаты его убивают сто жителей.
— Так же точно поступает и наш инка, — важно проговорил начальник. — Наверное, от него научился так поступать и твой король.
— Я привез тебе подарки, — переменил разговор Пизарро. — Наша страна — самая богатая страна. Посмотри, какие вещи в ней выделываются.
По знаку Пизарро, солдаты достали из ящика красные, желтые, синие, зеленые стеклянные бусы и передали их начальнику. Начальник долго любовался блестящими безделушками, обмотал их вокруг шеи, надел на руку, изукрасил ими свой головной убор. Потом снял с шеи небольшое изумрудное ожерелье и подал Пизарро.
У Пизарро разгорелись глаза. За эту штучку в Панаме можно было бы получить сотни три дукатов. Но он тут же пересилил себя, принял спокойный и гордый вид и отодвинул руку вождя. Сейчас брать подарки еще рано — нужно, чтобы дичь не боялась охотника и сама влетала в его сеть.
— Мы не купцы, мы ваши друзья, — сказал он. — Я даю тебе вещи в знак дружбы. Если твоему народу так уж нравятся эти предметы, мы можем, пожалуй, обменять их на такие вот серьги, но делаем это только по доброте души, чтобы доставить вам удовольствие.
Вместе с начальником Пизарро долго ходил по городу, зашел в дом к своему новому знакомцу, выпил кубка два «чичи» — так называли индейцы этот напиток, — съел кусок жареной дичи, расспрашивал через переводчика о стране и ее жителях и подмечал каждую мелочь.
В богатых домах — таких, впрочем, было не очень много — стояла золотая и серебряная утварь, деревянные табуреты и столы были изукрашены причудливой резьбой, на женщинах были надеты длинные цветные плащи, такие тонкие, мягкие и приятные наощупь, что подобных им не нашлось бы, пожалуй, ни в Севилье, ни в Барселоне. Мужчины и женщины из богатых классов почти все носили жемчужные и изумрудные ожерелья. Но огромное большинство населения состояло из бедняков, у которых не было ни тяжелых золотых серег, ни драгоценных ожерелий, ни прекрасных шерстяных плащей. Одеждой им служили ярко окрашенные хлопчатобумажные рубашки и простые повязки на бедрах. «С этих ничего не получишь, — размышлял Пизарро. — Молина и Кандиа порядком наврали, когда говорили, что в этом городе каждый житель — богач. Но и отсюда можно немало вывезти, если приняться за дело умело и забрать индейцев в руки».
На корабль Пизарро вернулся бодрый и веселый. В тот же вечер экспедиция поехала дальше. Как только белый парус скрылся за горизонтом, начальник города приказал позвать самого быстрого скорохода.
— Вот, передай инке или его главному военачальнику мое донесение, — сказал он и протянул гонцу моток разноцветных ниток.
Если бы развернуть этот моток, то оказалось бы, что он состоит из длинной продольной нити и нескольких поперечных разноцветных нитей, привязанных к ней посредине. На красной нити было навязано сто маленьких узелков и один большой. Это значило, что прибывший иностранный отряд состоит из ста человек и во главе его стоит один вождь. На белой нити был завязан сто один узелок — это значило, что у иностранцев имеется сто один меч. На других нитях таким же способом были отмечены другие виды оружия, которые индейцам удалось подглядеть у белых, — копья, луки, стрелы. Этот незатейливый прибор, известный у индейцев под названием «квипус», заменял им письменность, которой они не знали.
— И передай еще, что люди эти белые, очень белые, — добавил начальник. — Мы думаем, что они сыны Солнца.
Гонец пустился в путь. По ровной, гладкой дороге он в полчаса пробежал около пяти километров и остановился у небольшого домика, сложенного из необожженного кирпича. Это была почтовая станция, где всегда дежурило три-четыре запасных гонца. Очередной скороход принял от пришедшего квипус, в точности повторил те слова, которые он должен был передать своему сменщику, и направился к ближайшей станции. Через две недели в столице империи уже знали о прибытии и вооруженных силах чужеземцев.
А Пизарро тем временем двигался на юг, останавливаясь в прибрежных деревнях и городках и знакомясь с населением и нравами новой страны. Он делал все, чтобы завоевать доверие туземцев. Солдаты никого не грабили, дарили жителям яркие тряпки, нередко отказывались от подарков и ограничивались лишь тем, что грошовые бусы выменивали на тяжелые золотые серьги и ожерелья. И у вождей экспедиции и у рядовых солдат накопились уже порядочные мешочки, туго набитые драгоценным металлом. Но не одно только золото вез с собой корабль. Испанцы захватили и лам — прирученных туземцами животных, отличающихся тонкой шерстью и вкусным мясом, несколько горных коз-вигоней, с еще более тонким, шелковистым руном, куски тончайших шерстяных материй, раскрашенных в яркие красивые цвета, жемчуг, изумруды, резные изделия из камня и дерева, глиняные кувшины и вазы с прекрасными рисунками, изображающими растения, животных и охотничьи сцены. В каюте Пизарро лежало несколько больших шерстяных ковров, предназначенных для подношения королю. Все это туземцы отчасти подарили, отчасти дали в обмен на ничего не стоящие стеклянные безделушки.
Доехав до девятого градуса южной широты, Пизарро отдал приказ возвращаться. На обратном пути в маленьком городке, названном испанцами Санта-Крус, произошел случай, показавший белым все радушие и доверчивость этого народа. На борт корабля явилась богато одетая женщина, по-видимому из очень знатного рода, и пригласила иностранцев к себе в гости. Чтобы белые не опасались за свою жизнь, она предложила оставить на корабле заложниками своих сородичей. «Если с моими гостями приключится что-нибудь неприятное, — сказала она, — вы сможете убить их всех до последнего человека». Пизарро разыграл благородство, сказал, что поверит ей без всяких заложников, и на следующий день утром отправился к ней. Едва только лодка с белыми отплыла, как к кораблю приблизилась целая флотилия туземных челноков с богато одетыми пассажирами. Это были родственники знатной дамы, которым было приказано дежурить у чужеземного судна до тех пор, пока белый вождь со своими спутниками не вернется к себе.
Благополучно и без приключений экспедиция добралась до Панамского порта. Пизарро приехал победителем. Колонисты устроили ему торжественную встречу, епископ отслужил благодарственное молебствие, чиновники и военные наперерыв поздравляли его. Еще бы! Открыта неизвестная империя, превосходящая по величине и Мексику и все те дикие и полудикие страны, с которыми до сих пор приходилось встречаться испанцам. Это, наверное, большой пирог, вкусный пирог, и из него можно-будет нарезать немало лакомых кусочков! «А сколько народу можно будет окрестить, какие донесения полетят в Рим!» говорили отцы доминиканцы, весело потирая руки.
Среди всеобщего одушевления только один человек остался равнодушным — его превосходительство губернатор де-Лас-Риас. Неужели эти молодчики — Пизарро и Альмагро — воображают, что он позволит им снарядить еще экспедицию? Они будут отнимать у него солдат, будут брать колонистов, а с чем же останется он? Панамское губернаторство, его собственное губернаторство, должно опустеть, чтобы где-то на юге сотня проходимцев образовала новую империю! Как бы не так! Сеньор де-Лас-Риас приехал в Новый Свет совсем не для того, чтобы — помогать обогащаться другим!
Тщетно просил Пизарро о помощи деньгами и людьми. Губернатор был неумолим.
— Я не хочу воздвигать другое государство за счет моего собственного, — упрямо повторял он. — Я не буду отдавать ради этого дела еще новые человеческие жизни — довольно их было принесено в жертву из-за нескольких золотых безделушек и индейских овец!
Не помог на этот раз далее епископ. Когда он явился в губернаторский дом ходатайствовать за Пизарро и, по своему обыкновению, начал жевать губами, кашлять и сморкаться, сеньор де-Лас-Риас угрюмо покосился на него и, не дожидаясь конца этих приготовлений, буркнул:
— Понимаю, все понимаю! Опять Пизарро?
— Да, сеньор губернатор… Я хотел…
— Я не знаю, чего хочет ваше преосвященство, — прервал губернатор, — но я знаю, чего хочу я! Я хочу, чтобы меня оставили в покое и не надоедали мне бесполезными просьбами…
Епископ ушел ни с чем. После долгих совещаний де-Люке, Пизарро и Альмагро решили, что остается только одно — обратиться за помощью непосредственно к королю. Альмагро предложил, чтобы в Испанию ехал Пизарро. Но не забудет ли он там об интересах своих компаньонов? Не урвет ли он себе львиную долю добычи — и не оставит ли своих друзей в дураках?
И де-Люке и Альмагро, успевшие за это время раскусить вероломный характер своего вождя, смотрели на Пизарро с сомнением и тревогой. Пусть он поклянется на — евангелии, что будет свято соблюдать договор и не обделит ни одного из своих компаньонов. Такую клятву редкий из католиков осмелится нарушить. Пусть он поклянется именем святой троицы и пречистой девы Марии, что при переговорах с королем и испанским правительством постарается выговорить для Альмагро и де-Люки такие же выгоды и права, как и для себя.
Пизарро положил на евангелие левую руку, а правую поднял кверху и сказал:
— Именем святой троицы и пречистой девы Марии клянусь!
Но, чтобы поехать в Испанию, надо было снарядить корабль, а для этого требовались немалые деньги. С большим трудом де-Люке набрал у Эспиносы и нескольких друзей полторы тысячи дукатов, и весной 1528 года Пизарро в сопровождении Педро де-Кандиа отправился на родину.
XX
Опять Севилья, та самая Севилья, из которой тридцать четыре года назад Франсиско Пизарро ушел нищим бродягой. Та же пристань с бесчисленными судами, тот же белоснежный собор с его колоннами, резными каменными украшениями и величественными арками, та же уличная суета, те же толпы народа. Только Франсиско Пизарро не тот: в этом гордом и суровом старике с тонкими губами и морщинистым лбом никто не узнал бы смуглолицего молодого пастуха, воровавшего яблоки и хлеб у уличных торговок. Франсиско Пизарро пора и забыть о своем прошлом: человек, привезший в подарок испанской короне целую империю, приедет сюда героем и уедет отсюда наместником…
 Пизарро.
Пизарро.
Корабль подъехал к пристани и начал разгружаться. Слух о приезде Пизарро, открывшем громадные новые страны, в какой-нибудь час облетел всю Севилью, и толпы людей спешат к гавани, чтобы хоть издали посмотреть на великого человека и привезенные им сокровища. Важные гранды, оборванные пригородные крестьяне, богатые купцы, нищие, монахи, солдаты, ремесленники — все вытягивают шеи, чтобы лучше видеть. Все кричат и размахивают руками, и все ловят на лету каждое слово, сказанное приезжими матросами.
Среди этой толпы торопливо пробирается седой, сгорбленный старикашка, сопровождаемый двумя альгвасилами. От натуги и быстрой ходьбы по лицу у него катится пот, колени дрожат, из груди вырывается кашель. Но он упрямо пробивает себе путь локтями и, дойдя до таможенного чиновника, стоящего у входа на мостки, показывает какую-то бумагу. Чиновник долго читает, разводит руками и пропускает старикашку и альгвасилов на палубу. Старикашка подходит к Пизарро.
— Наверное, это посланный от губернатора, — шепчут в толпе. — Наверное, губернатор приглашает великого конквистадора на торжественный обед.
А в это время между старикашкой и Пизарро происходит такой разговор.
— Вы меня не помните, сеньор Пизарро? — начинает старикашка.
Пизарро всматривается в собеседника, ничего не припоминает и пренебрежительно отворачивается. Наверное, какой-нибудь бедный родственник. У удачливых конквистадоров таких сразу находятся целые сотни!
— Да, немало воды утекло с тех пор, как мы с вами, виделись в последний раз. Тогда я был совсем молодым человеком, вот как вы сейчас, этак лет пятидесяти, а теперь мне восемьдесят пять. Немудрено, что вы меня не узнали. А зовут меня Хименес. Тот самый Хименес, у которого перед отъездом из Севильи вы заняли сто дукатов, под ручательство дона Алонзо Охеды. Теперь вспомнили?
Пизарро меняется в лице и слегка вздрагивает. И надо же этому кредитору подвернуться как раз в ту минуту, когда все деньги истрачены и в кармане осталось, два десятка дукатов!
— Вот и расписочка ваша, — продолжал старикашка самым нежным, самым дружеским тоном. — По вашему долгу наросли за это время процентики, а по процентикам еще процентики. Был ваш должок сто дукатов, а теперь ваш должок — две тысячи. Но для вас это, конечно, пустяки. Вы, наверное, привезли целые сундуки золота, и вам ничего не стоит расплатиться с бедным Хименесом. Не так ли?
— Золото и драгоценности, которые я везу, принадлежат королю, — важно сказал Пизарро. — Когда я поднесу его величеству эти подарки, у меня, наверное, не будет недостатка в дукатах. А до тех пор вам придется подождать, сеньор Хименес.
— Золото и драгоценности вашего корабля принадлежат прежде всего мне, сеньор Пизарро. А после того как вы расплатитесь со мной, вы можете дарить их кому хотите. Итак, желаете ли вы уплатить ваш долг сию же минуту?
— Сейчас у меня только двадцать дукатов, — ответил Пизарро, пожимая плечами, — но завтра…
— О завтра мы будем говорить завтра, — перебил его старикашка. — Сеньоры альгвасилы, приступите к делу: опечатайте имущество несостоятельного должника, сеньора Пизарро, а его самого проводите в городскую тюрьму. До свиданья, сеньор Пизарро, и да хранит вас бог!
Старикашка поспешно скрылся, и через полчаса Франсиско Пизарро на глазах у огромной толпы отвели в тюрьму. Это была первая почесть, оказанная ему родиной.
В маленькой, тесной камере, куда посадили завоевателя, было темно и душно. Из-за решетки окна несло запахом кухонных отбросов, с липкого, заросшего грязью пола подымался смрад. По стенам ползали насекомые, в охапке соломы, служившей постелью для узника, копошились мокрицы. Десятки, а может быть, сотни людей годами сидели здесь с таким же отчаянием, с такими же неотвязными думами. Только в верхнем углу окна виднелся кусочек голубого неба. Пизарро глядел на него и вспоминал синюю морскую даль, необъятные просторы Нового Света, долгие годы странствий, битвы, опасности, успехи, неудачи. Неужели он испытал все это только для того, чтобы кончить жизнь в долговой тюрьме? Без него весь груз корабля разворуют и продадут за бесценок. Чем он докажет тогда богатства новооткрытой империи? Кто поверит его рассказам, кто заинтересуется новой страной? Если даже сумма, вырученная от продажи, покроет долг и его отпустят на свободу, о новой экспедиции нечего будет и думать. Нищему никто не даст денег, неудачнику никто не окажет помощи.
А Севилья тем временем шумела, как потревоженный пчелиный улей. Об аресте Пизарро через три-четыре часа узнал весь город. «Низость, позор!» кричали на базарах. «Неслыханная подлость!» повторяли в домах. «Презренный ростовщик погубил гидальго-завоевателя, — сказал наконец и губернатор. — Этому не бывать!» И к вечеру в Толедо, где в это время находился королевский двор, помчался гонец с подробным донесением о прибытии корабля и судьбе его хозяина. Через два дня из Толедо пришел приказ: Пизарро освободить и со всем имуществом доставить немедленно в королевскую резиденцию.
Звякнул ключ в тюремной двери, широко распахнулись тюремные ворота, и Пизарро, расправляя затекшие ноги и жмурясь от яркого солнечного света, вышел на волю. Не прошло и нескольких часов, как из Севильи отправился в Толедо длинный обоз с заморскими диковинками. Во главе его ехал Пизарро со своими спутниками.
Вот наконец и знаменитый толедский мост, у которого много лет назад мавры дали последнюю битву наступавшим христианам. Вот высокие крепостные стены с зеленоватым мхом на зубцах. Вот сторожевые башни — когда-то с них сбрасывали преступников. Когда-то у верхнего края их мусульманские властители Толедо вывешивали на железных цепях убитых врагов. Теперь над ними реет знамя Кастилии, и из узких окон смотрят на подъезжающий караван любопытные женские лица, должно быть придворные дамы из свиты королевы.
У Пизарро бьется сердце. Нога невольно пришпоривает коня. Скоро, скоро под сводами вон того каменного дворца решится его судьба. Что встретит он там? Улыбку, милости, помощь или насмешку, равнодушие, отказ?
О приближении каравана королю заранее доложили. В воротах города королевский посланец сообщил Пизарро: завтра, в десять часов утра, его величество король Испании, Сицилии и Нидерландов и император Священной Римской империи назначает ему торжественную аудиенцию. Пусть сеньор Пизарро наденет свой лучший костюм и не забудет преклонить колени, когда приблизится к императорскому трону. Говорить нужно не слишком громко, но и не слишком тихо, шляпу держать в левой руке, не кашлять и не сморкаться, а по окончании аудиенции отнюдь не поворачиваться к его величеству спиной, а тихо и пристойно пятиться к двери.
 Карл V
Карл V
На следующее утро состоялся прием. В большом зале, бывшей приемной мавританского калифа, стоял под бархатным балдахином трон. На нем сидел среднего роста бородатый человек, с умными карими глазами и толстой, выдававшейся вперед нижней губой; на голове у него была высокая фетровая шляпа с белым страусовым пером, грудь украшал золотой орденский крест, с плеч широкими складками ниспадала пурпурная бархатная мантия. Справа и слева от трона расположились полукругом министры, гранды, кардиналы и епископы. Все они стояли с обнаженными головами и застывшими, как у статуй, лицами.
Пизарро на пороге зала низко поклонился и шагах в пяти от трона, там, где знаком показал ему церемониймейстер, опустился на одно колено, держа шляпу в левой руке.
— Мы слышали о ваших путешествиях, сеньор Пизарро, — тихим и несколько утомленным голосом проговорил король и император Карл V. — Встаньте. Я надеюсь, что вы здесь расскажете нам, как все это происходило.
Пизарро говорил долго, спокойно и обстоятельно. Он не упустил ничего, что могло поразить и растрогать слушателей. Рассказывал о первых неудачных попытках, об опасных странствиях, о мертвой тишине тропических лесов, о мучительных лихорадках, о тучах москитов, о ядовитых змеях, об отравленных стрелах индейцев, о страшных аллигаторах. Когда он стал описывать жизнь на острове Гальо и острове Горгоне, мучения умиравших и отчаяние здоровых, король прослезился и вытер платком глаза. Сейчас же поднесли платки к глазам и все слушатели. Потом Пизарро перешел к более веселым сценам. Описывал богатства Перу, вынимал из ящиков шелковистые шерстяные ткани, вертел темные, чистейшей воды изумруды, подбрасывал на ладони крупные розоватые жемчужины, показывал тяжелые золотые кубки необыкновенно тонкой работы. У короля загорелись глаза. Чем больше он слушал, тем яснее понимал, что открытие сеньора Пизарро пришлось очень кстати. Казна пуста, от заимодавцев нет отбоя, ростовщики перестают давать в долг, а тут надо тратиться на войны с Францией, на подарки немецким князьям, на субсидии папскому престолу и мало ли еще на что! Такого случая упускать нельзя, индейское золото надо направить в Испанию…
Когда Пизарро кончил рассказ, король обещал ему полное содействие и тут же приказал Совету по делам Индии сделать все, чтобы облегчить снаряжение новой экспедиции.
Пизарро ушел из дворца радостный и полный надежд. Дело почти кончено. Король плакал, король обещал помощь, король отдал приказ. Через несколько дней Пизарро дадут и средства, и людей, и корабли. Но дни проходили за днями, а дело не двигалось. Гранды одобрительно хлопали отважного путешественника по плечу, в Совете по делам Индии осыпали похвалами, а казенные сундуки были по-прежнему наглухо заперты и обещанные грамоты оставались ненаписанными. Вскоре и сам Карл V уехал в Рим на коронацию. О Пизарро понемногу начали забывать.
Королевские министры не любили утруждать себя хлопотами. До сих пор конквистадоры обходились без них: сами снаряжали экспедиции, сами покоряли индейские племена и сами же привозили ко двору законную пятую часть награбленной добычи. Почему бы и Пизарро не поступить так же? Правительство, пожалуй, может дать ему права и привилегии. Ну, а по части денег пусть обратится к богатым купцам.
Но даже и о привилегиях разговоры скоро заглохли. Пизарро обивал пороги канцелярий, осаждал просьбами министров — все было напрасно. Только тогда, когда за его дело взялась сама королева, управлявшая Испанией во время отсутствия мужа, министры стали любезнее и сговорчивее.
После долгих бесед и споров была наконец составлена грамота, подписанная королевой и предоставлявшая Пизарро следующие права.
Во-первых, Пизарро предоставлялась прибрежная территория длиной в двести миль. Он назначался наместником этой области, и после его смерти звание наместника переходило к его наследнику. В своем наместничестве Пизарро мог возводить укрепления, набирать войско, разрабатывать естественные богатства. Во-вторых, кроме доходов, ему назначалось жалованье в две тысячи дукатов в год. В-третьих, ему жаловали остров Флорес, знаменитый своими жемчужными ловлями. Кроме того, он получал множество менее значительных привилегий, подробно перечисленных в грамоте. Это значило, что если Пизарро сумеет воспользоваться своими правами, то он станет в короткое время самым богатым человеком Испании, а может, быть, и всей Европы.
Но что получили его компаньоны? Де-Люке возводился в сан епископа города Тумбеса, если на это согласится папа. Капитану Диего Альмагро жаловали дворянское звание, должность командира крепости в городе Тумбесе и пособие около ста дукатов в год. Остальные ближайшие сотрудники Пизарро тоже получали дворянское звание и довольно скромное денежное вознаграждение. Никаких особенных прав им не давалось, никаких крупных территорий не отводилось. Новую империю Пизарро скушал целиком, без остатка, теперь оставалось только переварить ее.
Вечер того дня, когда была вручена королевская грамота, Пизарро провел в молитве.
— Благодарю тебя, пресвятая дева, и мой покровитель, святой Франсиско, что вы внушили королеве такое мудрое решение, — шептал он, стоя на коленях. — Я исполнил свою клятву. Я упомянул и об Альмагро, и о де-Люке, и о всех моих сподвижниках. Королева и ее министры дали им меньше, чем они ожидают. Но смел ли я спорить со столь великими людьми? Сам бог подсказал им, кого и как должны они наградить. Если Альмагро и прочие мои помощники вздумают роптать, пусть они ропщут не на меня, а на господа бога, а это великий грех. Я, смиренный Франсиско, роптать не буду, я закажу сто обеден пресвятой деве и пятьдесят обеден святому Франсиско. Дай бог, чтоб все мои соратники последовали моему примеру.
Пизарро прочел все известные ему молитвы и, расщедрившись, пообещал еще тридцать обеден св. Яго и тридцать обеден св. Георгию. «Не считая тех, которые будут отслужены после окончательной победы над перуанцами», добавил он, подымаясь с колен.
Прошла еще неделя и еще недели, но, кроме грамоты, в кармане у Пизарро не было ничего. В денежной помощи ему наотрез отказали. Снаряжать корабли и нанимать солдат он должен был из своих собственных средств. Богатые севильские купцы, к которым он обратился, не дали ни гроша. Ростовщики вежливо кланялись великому конквистадору, но, как только он заводил речь о займе, качали головой и клялись всеми святыми, что по доброте душевной все свои деньги роздали в долг нуждающимся гидальго.
— Вам никто не даст денег, сеньор Пизарро, — сказал наконец самый откровенный из них. — Вас никто еще не знает в Испании. Вот если сеньор Кортес, завоеватель Мексики, согласится помочь вам, тогда другое дело. Тогда и у самых недоверчивых развяжутся кошельки. Кстати, сеньор Кортес живет сейчас в своем имении в Эстремадуре. Он человек щедрый и, кроме того, ваш земляк. Наверное, он вам не откажет.
Пизарро последовал совету и поехал к знаменитому завоевателю. Престарелый воин хорошо разбирался в людях. Он сразу понял, что такие солдаты, как Пизарро, умеют и покорять чужеземные страны и сколачивать капитал. Пизарро ведь был слеплен из такого же теста, как и он сам. Ни перед чем не отступать, давать клятву, когда это нужно, нарушать ее, когда это выгодно, изменять другу, чтобы заполучить другого, более сильного союзника, говорить ласковые слова, держа наготове нож, привлекать врагов хитростью и потом истреблять их без пощады — только так и завоевывались государства. Видно, что гость его так же хорошо постиг эту науку, как и он сам.
Кортес внимательно слушал своего собеседника, время от времени прерывая его речь краткими замечаниями. Когда Пизарро мимоходом сказал, что укус змеи помешал ему присоединиться к экспедиции Алонзо Охеды, Кортес слегка усмехнулся и спросил:
— А какая это была змея, сеньор Пизарро?
— Черная, с красными крапинками.
— Знаю, знаю. Но странно, что вы остались живы: от укуса такой змеи люди умирают через десять минут.
— Может быть, это была и другая змея, сеньор Кортес. Я хорошо не помню.
— Несомненно, другая. И, может быть, даже совсем не змея. Со мной был однажды такой же точно случай. Если бы меня не укусила вовремя змея, я по дружбе ввязался бы в одно опасное и гибельное для меня дело. Но у меня разболелась нога, и я, как и вы, остался дома. А потом оказалось, что это была совсем не змея, а простая пиявка. Выпьемте вот этот кубок за ее здоровье!
— И за здоровье того, кто ее выдумал, — с улыбкой добавил Пизарро. И тут же он стал рассказывать о наградах, данных Альмагро и прочим участникам экспедиции.
 Фердинандо Кортес. Медаль 1529 года.
Фердинандо Кортес. Медаль 1529 года.
Кортес перебил его:
— Альмагро, Альмагро… Как же, помню, я встречал его на острове Эспаньоле. Храбрый солдат, только слишком уж простоват и любит выпить. А когда выпьет, начинает ругаться и непочтительно отзывается о нашем всемилостивейшем короле. Вы упоминали в Совете по делам Индии об этой его особенности?
— Я считал себя не вправе скрыть это от столь высокого учреждения, сеньор Кортес.
— Ну, конечно, конечно… И тогда сеньор секретарь, наверное, почесал за ухом и повторил свою любимую поговорку: «Смирного быка пускают по лугу, а бодливого держат на привязи». А член Совета, граф Рибейра, сказал: «С Альмагро — довольно будет и одной крепости». И вопрос был решен.
— Вы говорите так, словно сами присутствовали на заседании, сеньор Кортес! — с восхищением воскликнул Пизарро.
— Все заседания так же похожи одно на другое, как все конквистадоры друг на друга, — небрежно бросил Кортес. — Вы, сеньор Пизарро, похожи на меня. Я готов ссудить вам денег, ибо знаю, что мои дукаты не пропадут. Кроме того, я дам вам письмо к севильскому богачу, сеньору Диего Перес. Он и его приятели вас выручат.
Через несколько дней после поездки к Кортесу у Пизарро было уже столько денег, что можно было приняться, за снаряжение экспедиции. Когда были закуплены корабли, лошади и оружие, Пизарро поехал на родину вербовать солдат.
Город Трухильо остался почти таким же, что и тридцать четыре года назад, но сколько людей умерло и как изменились знакомые лица! Тетка Кармен давно лежала в могиле, домишко ее почти развалился, и жила в нем ее одинокая дочь, когда-то красивая смуглая девушка, а теперь беззубая, сгорбленная, придурковатая старуха. Дона Антонио уже тридцать лет как похоронили. «Хороший был старик, — думал Пизарро, оглядывая знакомые окна. — Плохо бы мне пришлось без его дукатов и его амулета. И крепко меня любил, упокой, господи, его душу!» Сразу вспомнилось прощание с доном Антонио — так ясно, как будто это было вчера, — вспомнились катившиеся по старческим щекам росинки, и худые руки, торопливо развязывавшие заветную тряпочку, и высунувшееся из окна морщинистое лицо. Как недавно все это было! Веки конквистадора задрожали, и по щеке нежданно-негаданно сползла слеза, первая слеза за последние тридцать четыре года. Пизарро поспешно, как бы стыдясь, смахнул ее и зашагал дальше. Отцовский дом такой же сумрачный, такой же тихий. Старого пастуха давно нет. И мать и отца больше двадцати лет назад снесли на кладбище. А братья — как они постарели! Вон стоит у окна старший, Эрнандо, — вылитый отец! Седая голова, седая борода, а стан стройный и гибкий, и глаза ясные, как у коршуна. В конце улицы идут Гонзало и Хуан. Гонзало — крепкий мужчина, Хуан — моложавый человек.
За те два дня, что Пизарро провел в Трухильо, он успел приглядеться к этим полузабытым братьям. Все они служили в солдатах, хорошо знали военное дело и твердо помнили отцовские заветы: не верить другу, не щадить недруга, крепко держать добычу и советоваться только со своей головой. В Новом Свете они будут недурными помощниками.
Пизарро возьмет их с собой.
Кроме братьев, Пизарро никого не навербовал на родине. Земляки угощали его старым вином, пели в честь его застольные песни, вспоминали давние годы, но на великого конквистадора смотрели с опаской. Такие тихие, осторожные, скупые на слова люди, да еще из рода Пизарро, редко бывают щедрыми капитанами. Их солдаты привозят домой много ран и очень мало дукатов. «Нет, пусть попробуют сначала другие, а мы пойдем потом», говорили трухильские гидальго за кружкой вина. И ни один из них не присоединился к четырем Пизарро, когда те выезжали из городских ворот.
По возвращении в Севилью Пизарро начал набор солдат. Но и там солдаты шли не очень охотно. Слухи о мытарствах испанцев на неизвестном материке распространились по всей стране. Индейское золото соблазняло, но индейские лихорадки, змеи, отравленные стрелы и непроходимые болота отпугивали людей. Согласно грамоте, Пизарро должен был набрать отряд в двести пятьдесят человек и тронуться в путь через шесть месяцев. Назначенный правительством шестимесячный срок давно прошел, а между тем до указанного числа не хватало больше сотни. Власти могли придраться к этому и сорвать всю экспедицию. Во что бы то ни стало надо было отправляться. В темный январский вечер 1530 года Пизарро, не предупреждая начальства, собрал на борт своего корабля солдат и прикомандированных к экспедиции духовных особ и дал приказ отчаливать.
— Я буду ждать тебя на острове Гомере, что у Канарских островов, — сказал он на прощанье брату Эрнандо, которому было поручено командование над двумя другими кораблями. — Как только окончишь самые необходимые приготовления, немедленно уезжай. Промедление может погубить всю экспедицию.
Эрнандо никто не задержал, и через несколько дней он прибыл на остров Гомеру. В апреле 1530 года экспедиция бросила якорь у побережья, а в начале мая Пизарро, со всем отрядом, лошадьми и боевым снаряжением пересек перешеек и добрался до Панамы.
XXI
Когда сподвижники Пизарро узнали о содержании королевской грамоты, почти все они сочли себя обиженными и обманутыми, но больше всех негодовал Альмагро. Ведь он был компаньоном Пизарро, его правой рукой. Он надеялся, что Франсиско не забудет его заслуг, а Франсиско устроил так, что ему бросили обглоданную кость. Старый солдат хватался за шпагу, проклинал и коварного друга и королевский двор, и, если бы не посредничество де-Люке, дело дошло бы до поединка. В конце концов вкрадчивый падре — ныне епископ — уговорил раздраженного вояку.
— Договор остается в силе, — уверял он его. — Доходы будут делиться на три равные части. Если поход ваш кончится благополучно, твоя часть будет настолько велика, что ты забудешь и о должности и о жалованье.
Этим же соображением утешали себя и прочие недовольные. Ропот понемногу стих. Но экспедиция оттягивалась: колонисты, напуганные рассказами о злоключениях прошлой экспедиции, шли неохотно, и вместо ста солдат в Панаме удалось набрать только пятьдесят. Общая численность отряда не превышала, таким образом, ста восьмидесяти человек. С такими силами мудрено было покорить целую империю.
И все-таки Пизарро решил ехать. «В случае удачи набрать новые пополнения будет легко, — говорил он брату Эрнандо, — А если мы застрянем здесь еще на несколько месяцев, наши солдаты понемногу сбегут, деньги уплывут, и мы окончательно сядем на мель».
В начале января 1531 года все три купленных в Панаме корабля покинули Панамский порт, и «новый крестовый поход против неверных», как выразился в своей напутственной речи отец Хуан де-Варгас, благополучно начался.
Доехав до залива св. Маттео, Пизарро высадил отряд и по берегу тронулся к югу. Корабли двигались в том же направлении морем. После долгих и трудных переходов испанцы добрались до небольшого городка в провинции Коаке. Жители были не очень встревожены прибытием чужеземцев: о появлении белых людей давно уже говорили на побережье, и все те, кто имел с ними дело, превозносили их вежливость, щедрость и доброту. Таких людей бояться было нечего. По всей вероятности, Пизарро из осторожности и на этот раз вел бы себя так же, если бы не настоятельная нужда в подкреплении. Чтобы достать новых добровольцев, надо было показать воочию несметные сокровища Перу, следовательно надо было грабить.
Это было очень легко. Индейцы ничего не подозревали, и даже те из них, которые удалились в горы, оставили в домах все свое имущество. Сбросив личину, вежливые, добрые и щедрые белые люди принялись за работу: с мечом в руке вбегали в хижины, пригоршнями набирали золото, совали в карманы изумруды, убивали сопротивляющихся. Через два-три часа все хижины были пусты, а улицы и переулки завалены трупами. Зато золота навалили целую кучу, и рядом с ней набросали изумрудов и других драгоценных камней, которых так много было в этих местах.
После столь удачного дела солдаты отдыхали, разлегшись около сокровищ. Спорили, сколько весит золото, высчитывали, сколько можно будет получить в Панаме за изумруды.
— О каких изумрудах вы говорите? — спросил вдруг подошедший священник.
Солдаты показали ему на кучу. Падре презрительно рассмеялся.
— За эти изумруды вам не дадут ни гроша, — стал объяснять он. — Это не изумруды, а простое стекло. Вы можете в этом убедиться, если попробуете разбить их молотком. От молотка изумруд не бьется, а стекло разлетается вдребезги.
Принесли молоток, стали пробовать. Зеленые камешки разлетались на куски. Солдаты выругались и бросили фальшивые драгоценности. А когда золото снесли на корабль и городишко опустел, падре Рехинальдо незаметно пробрался к оставленной кучке и изумрудами набил себе полные карманы. Он знал, что на них наживет себе в Испании целое состояние.
На корабле золото свалили в одну груду. Согласно обычаю конквистадоров, солдатам под страхом смерти запрещалось оставлять при себе хотя бы одну безделушку. Вся добыча должна была поступить к губернатору, который выделял из нее королевскую пятую часть, а остальное распределял между солдатами и их начальниками согласно чину и заслугам каждого. В городишке награбили на двадцать тысяч кастельяно (около трехсот тысяч рублей). Этого было достаточно, чтобы вскружить голову даже самым осторожным из панамских колонистов.
Все три корабля отправились за пополнениями в Панаму, а Пизарро продолжал двигаться вдоль по берегу. Город Тумбес, так приветливо встретивший испанцев два года назад, был уже недалеко, но Пизарро не решался войти в него со столь незначительными силами и приказал бросить якорь у острова Пуна, находившегося в заливе. Жители острова приняли испанцев радушно. Они были лишь недавно покорены перуанцами и надеялись, что могущественные белые люди помогут им сбросить иго завоевателей. Мирные отношения продолжались, однако, недолго. Вскоре из Тумбеса приехала, делегация, сумевшая убедить испанцев, что островитяне хотят заманить пришельцев в ловушку и при первой возможности истребить их. Пизарро приказал арестовать нескольких Туземных вождей и выдал их делегации. Вожди были немедленно убиты.
Это вероломство привело островитян в ярость. Отряду пришлось выдержать долгое сражение с тысячными полчищами туземцев, и, хотя индейцы были разбиты и отряд потерял всего двух человек, оставаться да острове было опасно. Как раз в это время из Панамы прибыло подкрепление, и Пизарро приказал немедленно высадиться на материк и итти в Тумбес.
О высадке испанцев сейчас же узнали в городе. Вести этой никто не обрадовался: слухи о том, как вели себя белые в провинции Коаке, успели донестись до Тумбеса, и жители его прекрасно понимали теперь, чего им ждать от чужеземцев. Забрав, что можно, они бежали в горы, предварительно подпалив город со всех четырех концов. Когда испанцы вошли в него, вместо многочисленных хижин и обширных дворцов они нашли лишь дымящиеся развалины. Только в центре города виднелось единственное уцелевшее здание — это был храм Солнца, который беглецы не решились поджечь.
 Развалины построен времен инков.
Развалины построен времен инков.
Во главе небольшого отряда, огибая разрушенные дома и шагая через обугленные бревна, преграждавшие путь, Пизарро направился к храму. Посредине площади на возвышении стояла высокая одноэтажная каменная постройка, сложенная из огромных тесаных камней, так плотно прилаженных один к другому, что пазы были почти незаметны. Над входом красовалась большая каменная плита, покрытая причудливой резьбой. Храм не пострадал от пожара. Уцелела даже тростниковая выкрашенная в яркий красный цвет крыша — ее спасли, должно быть, безветренная погода и широкий пустырь, отделявший святилище от окружающих зданий. Кругом было пусто и тихо. Слышались только пронзительные крики ласточек, носившихся над пожарищем, да потрескивание догоравших где-то бревен.
Пизарро вошел внутрь и остановился, пристально вглядываясь в полумрак. В самом конце храма, у восточной его стены, стоял небольшой каменный алтарь, посреди которого высился золотой диск — изображение солнца.
У алтаря неподвижно застыла на коленях сгорбленная фигура в широком белом плаще. На шум шагов фигура не обернулась. Что это? Человек? Статуя? Кукла?
Пизарро подошел к алтарю и сорвал с фигуры плащ. Под, плащом оказался старый человек с редкими клоками белых волос на темени и подбородке и рядом с ним девочка лет двенадцати с испуганным, но миловидным лицом и большими черными глазами. Не вставая с колен, человек распахнул рубашку и показал на грудь себе и девочке. Этот жест, очевидно, означал: «Убейте нас».
 Жертвоприношение у инков. Гравюра 1731 года.
Жертвоприношение у инков. Гравюра 1731 года.
Пизарро подозвал индейца-переводчика и приказал ему спросить у старика, кто он такой.
Быстрым, журчащим ручейком полились слова незнакомого языка. Индеец слушал почтительно и наконец перевел:
— Это амаута. Так называются у нас ученые жрецы, которым поручено обучать молодежь наукам. Амаута стар и болен. Он не мог отсюда бежать. Он просит, чтобы его не пытали, а сразу убили. И девочку, его внучку, пусть не обижают, а сразу убьют, говорит он. Если ее обидят, Солнце отомстит за нее, потому что она посвящена Солнцу и не может выходить замуж и всю жизнь должна молиться вот у этого алтаря. Вот что он говорит.
Пизарро помолчал и потом отрывисто спросил:
— Где сокровища храма?
— Вот все, что осталось, — отвечал через переводчика амаута, показывая на золотой диск. — Остальное жрецы увезли с собой в горы.
— Обшарьте все уголки, — приказал Пизарро солдатам. — Но старика не пытайте, он, пожалуй, умрет под пыткой, а он нам нужен. Через него мы можем многое узнать об этой стране. Его вместе с девчонкой сейчас же отведите на корабль.
Пленников увели, и Пизарро с солдатами продолжал поиски. Но золота и драгоценностей оказалось очень мало —
жители или спрятали их, или увезли в горы.
Не повезло и Альмагро, орудовавшему в другом конце города.
Сокровища, на которые так рассчитывала экспедиция, рассеялись, как дым.
Вечером Пизарро позвал ближайших своих помощников и в их присутствии подверг старика допросу.
— Спроси его, что это за страна, кто ею управляет и много ли в ней жителей, — приказал он переводчику. — И скажи еще, что если он будет лгать, мы сожжем на медленном огне и его и его девчонку.
Амаута стал рассказывать:
— Много лет назад у нашего бога, великого Солнца, родились сын и дочь. Сына звали Манко Капак, а дочь — Мама Оэльо Гуака. Когда они выросли, Солнце научило их всем наукам и сказало: «Люди на земле глупые и ничего не умеют делать. Ступайте к ним и научите их так, как я научил вас. Научите их сеять хлеб, зажигать огонь, ткать одежду, делать из меди топоры и ножи, строгать дерево, резать камни, строить дома и храмы. И вы будете царствовать над ними века и века, и еще века». И оно отпустило их, приказав на прощанье, чтобы они поженились и родили много-много детей, таких же белых, как они: ибо Манко Капак и Мама Оэльо были дети Солнца, и лица у них сверкали, как белые горные ледники. За много дней пути отсюда, в далекой восточной стране, спустились они на землю и научили людей тому, чему их самих научило Солнце. И от них пошел, род инков, тех царей, которые правят и сейчас нашим народом. Инки долго жили на востоке, где-то там, за горами и лесами, а потом привели свой народ на это морское побережье и основали большое государство. Мы думаем, что больше и сильнее этого государства нет на земле.
— А как же инки правят этим государством? — спросил Пизарро.
— У инки четыре наместника: один на западе, другой на юге, третий на востоке и четвертый на севере. Восемь лет назад у нас был один государь — Гуайна Капак, но перед смертью он разделил все государство на две половины и одну, северную, со столицей Квито, отдал сыну Гуаскару, а другую, южную, со столицей Куско, — Атагуальпе. Гуаскар был от его старшей жены, а Атагуальпа — от младшей жены. Гуаскар и Атагуальпа не могли поладить друг с другом и начали воевать. Атагуальпа победил Гуаскара, отнял у него Квито и северную область и теперь царствует над всей нашей страной. Он могучий государь, и войска у него так много, что нельзя сосчитать.
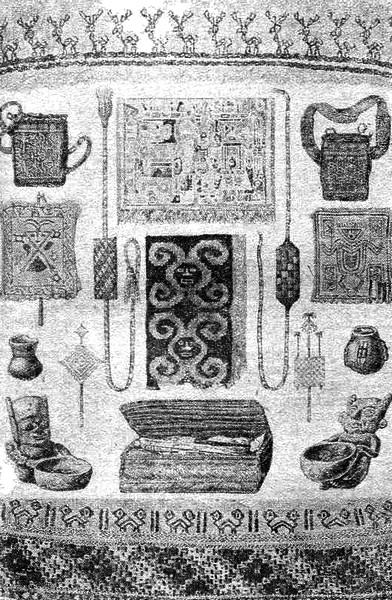 Перуанские древности.
Перуанские древности.
— А Гуаскара убили? — спросил Пизарро.
— Нет. Атагуальпа посадил его в крепость, и он сейчас там живет. Его стережет надежная охрана, чтобы он не убежал и не поднял бунта против государя. У Гуаскара есть еще младший брат, Манко. Атагуальпа пощадил его, и он живет на свободе.
— А много у вас сеньоров, богатых людей, владеющих замками, поместьями и сокровищами? — задал вопрос Альмагро.
— Я не понимаю тебя. У нас есть знатные люди, близкие и дальние родственники инки, но ни крепостей, ни больших сокровищ у них нет. Инка дает им продовольствие, дарит иногда серебряную и золотую посуду и украшения из драгоценных камней — вот и все, а они должны за это ходить на войну и управлять городами и деревнями.
— Но у них есть крепостные, которые обязаны на них работать? — допытывался Альмагро.
— Таких людей у нас нет. Все обязаны работать на инку, а инка сам указывает, чьи поля обрабатывать, кому строить дома, когда пахать, сеять и жать.
— А куда же девает инка все то, что добывают и изготовляют его подданные? — спросил Пизарро.
— Он приказывает собирать все это в запасные склады, и из этих складов кормят и одевают войско, выдают одежду и продовольствие родственникам инки и кормят тех земледельцев, у которых не уродился хлеб.
— Но есть же у вас богатые люди, которые имеют свои собственные склады? — возразил Альмагро. — Есть же у вас, например, богатые купцы?
Переводчик замялся и с трудом повторил непонятное ему испанское слово.
— Я не понимаю тебя, — отвечал амаута.
Альмагро стал показывать руками, как меняют одни вещи на другие. Амаута догадался.
— Это у нас делают только те, которых инка посылает в чужие страны, но никаких своих складов у них нет. Все, что они выменивают, они отдают инке. Еще делают это дикари да жители прибрежных городов вроде Тумбеса, которые иногда имеют дело с дикарями.
— Так, — насмешливо протянул Пизарро. — Ты говоришь, что дворян у вас нет, купцов нет. Скажешь, пожалуй, что и нищих нет?
— А что значит это слово? — переспросил амаута.
Пизарро, сложив руку горсточкой и подражая движениям нищих, объяснил, что это такое.
Амаута закивал головой.
— Понимаю, понимаю, — сказал он. — Есть у нас такие. Это сумасшедшие, которых Солнце за дурные дела лишило разума. Они обходят все дома и выпрашивают не нужные никому вещи.
Солдаты захохотали. Пизарро попытался объяснить еще раз. Знаками он показал, что нищие — это люди, которым нечего есть, которые умерли бы с голоду, если бы им не подавали. Амаута смотрел на него с удивлением.
— Таких людей у нас нет, — наконец проговорил он. — Раз человек работает, он получает — или с своего участка, или от инки — и одежду и пищу. Он ничего ни у кого не просит. Начальник приходит, ведет его к складу и говорит: вот бери столько-то того-то и столько-то того-то. И он берет. Вот и все. А людей, которые просят у соседей хлеб, потому что они голодны, — таких людей у нас нет.
Раскатистым смехом залился Альмагро. Смеялись солдаты, смеялись монахи, смеялся сам Пизарро. Нет нищих! Что же это за государство, в котором нет даже нищих?
— А по-моему, он или обманщик, или сумасшедший, — вмешался кормчий Руис. — Надо бы допросить его под пыткой. Наверное, сеньор инквизитор захватил с собой кое-что?
Высокий, худощавый монах, к которому был обращен вопрос, ответил не сразу:
— У нас есть немного — всего только дыба и раздвижные железные ботинки с гвоздями внутри. Но в делах светских их применять нельзя. Они только для колдунов и еретиков. А этот человек пока не обвиняется ни в колдовстве, ни в ереси.
— Ну, так велите поджарить его на угольках, сеньор капитан, — не унимался Руис. — Угольки развязывают языки не хуже железных ботинок.
— Жареная курица не несет яиц, Руис, — обрезал его Пизарро. — Кур жарят тогда, когда они перестают нестись. А из этого мы еще кое-что выудим. Скажи, старик, где начальник этого города?
— Ушел в горы, — отвечал амаута.
— Я видел его раньше. Почему у него такие длинные уши? Разве он какой-нибудь особенной породы?
— Он дальний родственник инки. А всем родственникам инки еще в детском возрасте вдевают в уши тяжелые золотые серьги, чтобы всякий сразу видел их высокий сан. От тяжести уши оттягиваются книзу и иногда свисают почти до плеч.
— И много у инки таких родственников?
— У инки Атагуальпы триста жен. И у отца его было триста жен. И у отца его отца было не меньше. Сосчитай же сам, сколько у инки может быть родственников.
— И все они начальники городов?
— Нет, не все. Одни служат солдатами, другие отмеряют участки для земледельцев, третьи — жрецы при храмах, четвертые надзирают за работами. Что им прикажет инка, то они и делают.
— Ну, а которые ничего не делают, таких у вас много?
— Таких у нас нет. Работать должны все — и земледельцы, и ремесленники, и родственники инки. Кто не хочет работать, тех наказывают. Ничего не делать могут только старики.
— Слышите, друзья, каковы индейские гидальго? — захохотал Альмагро. — Работают всю жизнь — вот так гидальго! Что бы сказал, например, брат испанского короля, если бы кто-нибудь захотел наказать его за то, что он ничего не делает?
— Врет он все, — угрюмо проворчал Руис. — Нет такой страны на свете и не может быть. Нет настоящих гидальго, нет купцов, нет богатых, нет нищих… Что это за страна такая? Старикашка или спятил с ума, или врет.
Поздно ночью допрос кончился. Пизарро приказал увести пленного на палубу и привязать к мачте вместе с внучкой. На следующий день амауту и девочку допрашивали отдельно, но, к удивлению испанцев, оба они говорили одно и то же. И чем больше они рассказывали, тем более загадочной и странной казалась эта страна белым людям.
Амаута говорил, что у квичуа (так называл себя этот народ) земля принадлежит не отдельным людям, а инке, то есть всему государству. Особые чиновники отводят земельные участки отдельным деревням, а деревни распределяют их между жителями. Кроме того, значительная часть земель выделяется инке и служит для пропитания войска, родственников инки и чиновников, а часть отводится храмам для содержания жрецов. Когда наступает пора сельскохозяйственных работ, земледельцы сначала обрабатывают поля храмов, потом поля инки и наконец свои собственные.
Кроме земледельцев, в государстве инки много ремесленников. Одни изготовляют материи из хлопка и шерсти, другие ткут, ковры, третьи делают оружие, четвертые добывают и обрабатывают медь, пятые ищут золото и серебро и выделывают из них украшения, шестые проводят дороги и строят мосты, седьмые обтесывают каменные плиты и воздвигают храмы и дворцы. Чиновники ведут им учет и пересылают с места на место, указывая, что и где нужно делать. Все их изделия идут на склады инки и оттуда распределяются между населением.
У инки имеется большая постоянная армия. Он часто ведет войны с соседними полудикими племенами и присоединяет их к своему государству. В недавно завоеванные провинции посылаются особые учителя, которые обучают вождей и их семьи языку квичуа. Наиболее способных из молодежи отправляют на выучку в Куско, Квито или другие большие города, а когда они научатся ремеслам, земледелию и искусству составлять и читать квипус, их возвращают на родину и делают там начальниками.
Долго говорил амаута об учреждениях и обычаях своей страны. От его рассказов Пизарро становилось не по себе. С таким государством не так легко будет справиться, как с безоружными индейцами северных частей побережья. Жителей в Перу, как уверяет амаута, числится около десяти или одиннадцати миллионов, между тем как во всей Испании их не наберется и пяти с половиной. Империя инков имеет вдвое больше людей, чем Испания! Как же покорить ее со ста восемьюдесятью солдатами? Правда, у испанцев есть стальные латы, лошади и ружья. Испанцы хорошо знают воинское искусство, но их — маленькая горсточка, а противников у них — десять миллионов. Покорить такую страну с таким отрядом — пустая мечта.
В беседах с амаутой прошло два дня. Закончив последний допрос, Пизарро долго ходил по палубе и думал. Положение казалось ему безнадежным. Если все, что рассказывал старик, — правда, нужно поскорее сложить на корабль награбленное добро и возвращаться в Панаму. Но ложно ли будет завербовать там хоть одного солдата после такой неудачи?
Кто-то тихо прикоснулся к его плечу. Пизарро вздрогнул и обернулся. За ним стоял инквизитор — отец Игнасио.
— Вы кончили разговоры с вашим пленником, сеньор капитан? — спросил монах.
— Да, я узнал от него все, что мне нужно. Думаю, что больше его спрашивать не стоит.
— Тогда передайте его в наши руки. Я попытаюсь обратить его к истинной вере.
— А если это вам не удастся, отец Игнасио?
— Старик — жрец и, значит, служит демонам. Если он не откажется от своих гибельных суеверий, мы сожжем его на костре.
— Как хотите, отец Игнасио. Я солдат, и меня это не касается.
Пизарро повернулся и ушел в каюту.
Монах позвал индейца-переводчика и подошел к связанному амауте. Он долго говорил о христианской вере, о заблуждениях язычества, об аде и рае. Индеец, плохо понимавший его речь, путался и перевирал слова. Но амаута все-таки кое-что разобрал. Когда монах кончил, амаута минуты две помолчал и сказал:
— Ты хочешь, чтобы я отказался от нашего бога, великого Солнца? Но скажи: ведь оно не умерло, оно живо? Ведь завтра оно взойдет? И послезавтра взойдет?
— Ну, конечно, взойдет, — отвечал дон Игнасио.
— И так, двигаясь по небесным лугам, будет оно всходить века. Ты умрешь, и я умру, а оно все будет всходить и светить людям, травам и деревьям. Оно ласковое и доброе, добрее его ничего нет в мире. Так как же ты хочешь, чтобы я перестал почитать его?
— Если ты не откажешься от своих суеверий, ты умрешь на костре.
Амаута вдруг преобразился. Его лицо вспыхнуло румянцем, глаза засверкали, голос зазвучал громко и сильно:
— Слушай, черный человек. Всю жизнь я учил нашу молодежь не бояться боли, не бояться смерти. Чтобы приучить моих учеников к лишениям, я много дней воздерживался от пищи. Чтобы приучить их презирать раны, я ножом протыкал себе вот эту руку и смеялся, когда у меня текла кровь. Если бы я теперь испугался костра, что сказали бы обо мне мои ученики? Они сказали бы: «Зря мы учились у этого лжеца, который говорит одно, а делает другое». Но они этого не скажут! Ради великого, светлого Солнца амаута вытерпит все.
— А молодец все-таки этот старикашка! — раздался из темноты чей-то голос.
Это был Альмагро, вышедший на палубу и слышавший последнюю часть разговора. Монах неодобрительно взглянул на него.
— О грешниках нужно скорбеть, а не хвалить их упорство, — наставительно произнес он. — Завтра утром этот старик и его девочка умрут на костре.
Не сказав больше ни слова, монах удалился на покой.
Альмагро остался один. Кроме привязанных к мачте старика и его внучки, на палубе никого не было. Солдаты давно спустились в трюм, и даже сторожевой матрос забрался куда-то в укромный уголок и спал непробудным сном. На темном южном небе многоцветными огнями переливались звезды. Созвездие Южного Креста сверкало у горизонта, — словно огненное распятие, воздвигнутое над чьей-то неизвестной могилой. В неподвижном теплом воздухе целыми роями летали у берега светящиеся точки — огненные мухи, как их называли солдаты. Лаской и истомой дышала земля, и пряные запахи ее цветов и деревьев волной заливали палубу.
Альмагро стал в трех шагах от пленников — и прислонился к борту. Он не мог оторвать глаз от девочки, прижавшейся к старику. На ее лице, едва белевшем в сумраке ночи, глаза чернели, как темные провалы, и напоминали ему кого-то.
На кого она похожа? Такие же точно глаза были у его дочурки Карменситы, умершей много-много лет назад. Так же точно в темные летние ночи прижималась к нему Карменсита, когда он рассказывал ей страшные сказки про чародеев, ведьм и рыцарей. И такая же была она хрупкая и легкая, словно осенняя паутинка. Смерти ничего не стоило разрезать паутинку пополам. Засыпая у него на руках, Карменсита, помнится, спросила: «А как звали чародея, который околдовал Сида?» — и больше не просыпалась. И эта вот тоже заснет завтра навеки. Но не в постели, не на отцовских руках — в дыму, в пламени, на горящих поленьях заснет она…
Альмагро отошел на несколько шагов, потом опять приблизился и стал смотреть в неотрывно глядевшие на него глаза.
— Карменсита, девочка моя, где ты? — тихо проговорил он. — Как ты была похожа на эту!
Он опустил голову и долго думал. Потом вдруг встряхнулся, огляделся по сторонам и подошел вплотную к пленникам.
— Плавать умеешь? — шепотом спросил он старика.
Амаута не понял. Альмагро руками объяснил ему, что он спрашивал. Старик отрицательно мотнул головой.
— А грести умеешь? — спросил он и опять объяснил руками.
И старик и девочка закивали головами.
Альмагро вынул нож, перерезал веревки, Связывавшие пленников, толкнул их к борту и пальцем указал на лодку, привязанную к якорной цепи. Пленники поняли и по веревке спустились в лодку.
— Режьте, режьте канат, — шепнул он и бросил в лодку нож.
Через секунду-другую лодка бесшумно отплыла от корабля и скрылась во тьме. Альмагро прошел в каюту незамеченным. Утром пленников хватились; отец Игнасио строго отчитал сторожевого матроса, Пизарро выругался, но расследования производить не стал. От амауты выведали ведь все, и больше он ни на что не был нужен.
XXII
Около двух недель пробыла экспедиция в Тумбесе. Обгорелые развалины нагоняли тоску, индейцы исчезли, в опустелых деревнях не оказывалось ни продуктов, ни золота. В отряде начался ропот: одни страдали лихорадкой, другие мучились от огромных нарывов, покрывавших все тело, многие, истомленные влажной тропической жарой, еле передвигали ноги от слабости. Позабыв о недавней добыче, солдаты уже начинали сомневаться в существовании сокровищ, ожидавших их впереди, и мало верили соблазнительным обещаниям Пизарро. Их хмурые лица, грубые ответы и угрюмое молчание предвещали мало хорошего. Медлить больше было нельзя, приходилось или сейчас же возвращаться, или сейчас же начинать поход.
Пизарро решил рискнуть. Оставив больных в Тумбесе, в начале мая 1532 года он тронулся вниз по побережью, а Эрнандо де-Сото с небольшим отрядом послал разведывать склоны тянувшейся вдоль берега горной цепи.
Бегство населения показало ему, что испанцы слишком рано сбросили личину и что железный кулак нужно еще прикрыть бархатной перчаткой. Если индейцы поймут истинные намерения белых, экспедиции несдобровать. По приказу вождя, испанцы опять начали пленять туземцев вежливостью, щедростью и добротой. Насилия над жителями были строжайше воспрещены. За грабежи виновным грозила немедленная смертная казнь. Куда бы отряд ни пришел, кацикам (местным вождям) и прочим начальствующим лицам разъясняли, что столкновения между пришельцами и туземцами происходили только вследствие досадных недоразумений. Испанцам верили и рассказы об их примерном поведении разносили по всем селениям. Жители уже не бежали при появлении отряда и снова дарили белым плоды и жареное мясо.
Обращение жителей в христианскую веру и присоединение провинций к Испании происходило без задержек. Как только Пизарро входил в сколько-нибудь значительное поселение или городок, он созывал жителей и произносил краткую речь, которую пленные индейцы переводили, как умели. Речь эта всегда была одна и та же:
— Его величество король Испании, повелитель Неаполя, Сицилии и Нидерландов и император Священной Римской империи принимает вас в свое подданство и повелевает вам принять нашу святую католическую веру и повиноваться римской католической церкви, а равно его величеству и всем королям, кои ему будут наследовать. Желаете ли вы этого или нет?
Туземцы весело смеялись. Их забавляло все: странные слова неизвестного языка, высокие животные, на которых сидят одетые в стальные доспехи люди, человек в сверкающем шлеме и примостившееся около него странное существо в длинной черной мантии и с пером в руках. Они не знали, конечно, что человек в мантии — это нотариус, который должен записать на пергаменте их согласие и скрепить документ своей подписью. Они не знали, что пергамент будет отослан в Испанию и что на основании этого свитка все они будут считаться отныне подданными испанского короля. Для них это было странное и забавное зрелище. А еще забавнее то, что переводчик, человек их собственного племени, вставляет в свою речь какие-то длинные бессмысленные слова, и не разберешь, не то он шутит, не то у него помутился ум.
— Желаете ли вы этого или нет? — повторяет переводчик.
Ну, конечно, такое занятное зрелище увидишь ведь не каждый день! Осклабясь, всеми чертами лица выражая радость и удовлетворение, туземцы кивают головами.
— Нотариус, занесите в акт их согласие, — распоряжается вождь. — Поздравляю вас, вы стали подданными испанской короны.
Потом вождя сменяют люди в длинных черных одеждах. Они вынимают какие-то четырехугольные предметы, что-то громко говорят, что-то поют, брызгают на толпу водой и приветливо улыбаются. Один из них выходит вперед и через переводчика говорит:
— Поздравляю вас, дети мои! Отныне вы христиане, чада католической апостольской церкви.
Опять смеются туземцы. Как смешно ведут себя белые! Никогда еще не видывали здесь таких странных людей!
За несколько недель испанцы окрестили и присоединили к Испании десятки тысяч туземцев.
Так прошло пять месяцев. За это время Пизарро много узнал об устройстве открытой им империи. Все, что рассказывал амаута, подтвердилось. Но в этом могущественном государстве острый взгляд завоевателя подметил одно слабое место: жители его привыкли все делать по указке чиновников и без руководителя не решались ничего предпринимать. Их ничему не учили, им только показывали и приказывали. Ответственные должности давались только близким и дальним родственникам инки, которые составляли военное сословие и жили особняком от остального народа. Их было не так уж много — во всем государстве вряд ли больше десяти-пятнадцати тысяч. Если справиться с ними или истребить их, весь этот десятимиллионный народ можно будет взять голыми руками.
Да и это военное сословие было далеко не единодушно. Пизарро рассказывали, что северная часть империи со столицей Квито была некогда самостоятельным государством, что там было свое военное сословие и свои законы. Когда Атагуальпа разбил Гуаскара и заточил его в крепость, он жестоко расправился со знатными родами Квито, чтобы раз навсегда сломить их сопротивление. Лишь немногие из знатных людей севера примирились с новым властелином, большинство ненавидело его и ждало лишь благоприятного случая, чтобы свергнуть его господство. Таким образом, и само правящее сословие было охвачено внутренними распрями. «Можно воспользоваться этой враждой, — думал Пизарро. — Можно стравить одних правителей с другими, а когда начнется междоусобная борьба, мы будем разжигать ее, помогая то тем, то другим, пока Атагуальпа и его соперники не истекут кровью. И тогда испанцам легко удастся утвердить свою власть».
Пизарро повеселел и в беседах с Альмагро развивал свои планы.
— Пока мы слабы, надо действовать хитростью, Диего, — говорил он. — Пусть Атагуальпа думает, что мы только послы испанского короля и не мечтаем ни о каких завоеваниях. Мы скажем, что мы готовы поступить к нему на службу, что крепости строим для него и ради его же блага обучаем его подданных. Он не очень крепко сидит на троне и, наверное, не откажется от таких сильных союзников. Понемногу мы завяжем сношения с недовольными, потом вызовем восстание в его стране, а потом… Потом, Диего, мы развернем в его столице кастильское знамя, И там, где сидел Атагуальпа, сядет наместник его величества Франсиско Пизарро.
— А где сядет Диего Альмагро? — спрашивал Альмагро.
— С меня довольно будет половины этой страны, — успокаивал его Пизарро. — Государство инков необъятно. На то золото, которое ты получишь — а получишь ты треть всей добычи, — ты наймешь себе армию и в несколько месяцев завоюешь столько земли, сколько захочешь. Здесь хватит на нас обоих. Я ведь совсем не жаден, Диего. Я убеждал министров. Сделать тебя губернатором над частью этой империи. Тогда это не удалось, — может быть, удастся теперь. О тебе, моем, старом друге, я думаю столько же, сколько о самом себе.
Альмагро слушал этот тихий, вкрадчивый голос, глядел в эти ласковые глаза, смотрел на эту руку, дружески положенную ему на колено, и невольно верил речам вождя. Франсиско Пизарро напрасно подозревают в вероломстве. Так нельзя притворяться. Пизарро не обделит его и устроит все к лучшему.
— Ну что ж, Франсиско, будем действовать, — говорил он на прощанье. — Тебе лучше знать, как и что делать. А обо мне, я знаю, ты позаботишься.
И уходил успокоенный, веселый и бодрый. Пизарро смотрел ему вслед и улыбался тонкой, язвительной улыбкой. «Как мудро устроен мир, — думал он. — Дураки сами идут под начало к умным, мухи сами влетают в паутину, друг Альмагро сам завоевывает для Пизарро наместничество. Ну, а сколько он за это получит, посмотрим!»
Завоевателям было ясно, что кампания предстоит долгая и трудная. На военном совете было решено послать Альмагро в Панаму за новыми пополнениями. Альмагро уехал, а Пизарро продолжал поход.
Чтобы прочнее прикрепить испанцев к новой родине, Пизарро построил в тридцати милях к югу от Тумбеса, в плодородной равнине Тангарала, укрепленный город Сан-Мигель.
С помощью индейцев быстро выросли церковь, товарные склады, дома для колонистов, крепость. Только тогда, когда была окончена крепость, индейцы поняли, для чего это делается. Каждый колонист — а таковым считался каждый солдат — получил в окрестностях нового города приличный участок земли и несколько десятков индейцев.
— Вы должны служить вашим новым господам, — объяснили им испанцы. — Это пойдет вам на пользу. Вы будете работать в поле и снабжать припасами белых людей, а белые люди научат вас двум вещам: истинной вере и послушанию.
Дорого платили туземцы за эту науку: с утра до вечера носили тяжелые камни, строгали бревна, копали рвы, выводили стены. Неловких и нерасторопных новые господа били, упрямых привязывали к столбу и хлестали ременными бичами, пока иссеченную спину не заливала кровь. По ночам, когда испанцы спали, у туземных хижин собирались небольшие кучки; шепотом, боязливо оглядываясь, толковали индейцы о страшной беде, которую наслало на них за грехи великое Солнце. Но о сопротивлении не думали. Они с младенчества привыкли исполнять без рассуждений все, что им приказывали начальники из рода инки. Теперь пришли другие начальники — жестокие, закованные в латы белые люди, которые умеют стрелять огнем из палки и каждый вечер в своей церкви поют хором страшные заклинания. Они колдуны, оттого-то они такие сильные и храбрые. Разве можно противиться им? Плакали мужчины, плакали женщины и расходились, чтобы на следующее утро еще ниже, еще покорнее склониться под бичом белого человека.
Так прошло пять месяцев. Несмотря на одержанные победы, положение было очень трудное.
Пизарро рассказали, что Атагуальпа находится сейчас в горах, неподалеку от города Кахамальки, с большой армией. Он недавно вернулся из похода и отдыхает. Конечно, Атагуальпа давно уже знает о прибытии белых, но почему-то никого не присылает к ним. Очевидно, он не хочет ничего предпринимать, пока не выяснит намерения чужеземцев.
Что же делать отряду? Стоять на месте — значит, проявить нерешительность и страх, а это было бы гибельно. Ведь белых не трогают только потому, что считает их сверхъестественными, непобедимыми существами. Если индейцы усомнятся во всемогуществе чужеземцев, отряд будет уничтожен в несколько часов.
Что же делать? На военном совете никто не мог ответить на этот вопрос — никто, кроме Пизарро.
А Пизарро спокойно сказал:
— Мы не можем ни отступать, ни оставаться. Значит, нам нужно итти вперед.
— Прыгать в львиную пасть? — насмешливо крикнул кто-то.
— Вот именно. Мы должны итти к Атагуальпе. Наша смелость не может на него не подействовать. Мы пойдем к нему, как друзья, чтобы предложить союз и помощь. В нашем положении это самое умное и самое безопасное. А когда придем, на месте будет видно, что делать.
После долгих споров решили последовать совету вождя — итти в Кахамальку, в самое сердце гор.
Поход начался. По мере того как отряд продвигался в глубь страны, местность все более и более менялась.
Ближе и ближе подступали массивные стены горных хребтов, увенчанные вечными снегами, и круче становились холмы, по которым вьется дорога. Между холмами — цветущие горные долины со множеством ручьев и оросительных каналов, с искусственными водными резервуарами, с длинными каменными водопроводами, тянущимися на многие мили. Земля хорошо обработана, хотя распахивают ее деревянным плугом, запряженным людьми. Прекрасные маисовые поля обещают обильную жатву. На каждом шагу — сады с неизвестными фруктовыми деревьями, осыпанными плодами, огороды с овощами тропического климата. Да, здесь, видно, не голодают. Кастильскому крестьянину, и не снилась такая жизнь.
С удивлением смотрели солдаты на постройки, свидетельствовавшие об огромном трудолюбии, терпении и настойчивости населения. Вот неподалеку от дороги небольшая крепость. Она сложена из огромных каменных плит, которые туземцы на собственной спине притащили с гор (рабочего скота в Перу нет, и все работы исполняют люди). Плиты так хорошо обтесаны и так плотно прилажены друг к другу, что стены, хотя и не скрепленные цементом, продержатся столетия. А вон длинное здание из необожженного кирпича. Это один из тех провиантских складов, о которых рассказывал амаута. Жители ежегодно свозят туда зерно, предназначенное для продовольствия проходящих войск. Гостеприимные индейцы — вероятно, по приказу начальства — из этих же складов снабжают провиантом испанцев и их лошадей.
А что это за длинное одноэтажное здание из каменных плит, похожее на монастырь? Вокруг него тянутся большие сады, разбиты цветники с яркими, пряно пахнущими цветами, и по ним прогуливаются одетые в белое женщины. Будь такой дом в Испании, наверное можно было бы сказать, что это монастырское общежитие.
— Да это и есть монастырь, — объясняет переводчик Филиппильо, индеец, которого Пизарро возил с собой в Испанию и который успел ознакомиться с языком и жизнью белых людей. — Здесь живут девы Солнца — знатные женщины, посвятившие себя богу Солнца и давшие обет безбрачия. Всякому, кто их обидит, грозит смерть.
 Древний мост в Перу.
Древний мост в Перу.
Слова Филиппильо скоро подтвердились. На придорожных деревьях солдаты увидели трупы двух индейцев, повешенных за ноги.
— И это за то, что они оскорбили дев Солнца, — сказал Филиппильо.
Идти по дороге легко и приятно. Она выровнена, кое-где усыпана щебнем. Над узкими пропастями переброшены каменные скрепленные цементом мосты, над широкими и глубокими потоками протянуты крепкие полотна, сплетенные из волокон агавы и выдерживающие довольно большую тяжесть. Когда идешь по ним, они гнутся под ногами, и кажется, что вот-вот они оборвутся и полетят в бездну. Но потом привыкаешь, и даже лошади шагают по ним без страха. В испанских провинциях и даже в лучшей из них — Кастилии — таких дорог не найдешь. А ведь это еще окраина государства, индейское захолустье. Что же будет в местах, более близких к столице?
Все это очень приятно. Глядя на эту сытую, благоустроенную жизнь, начинаешь верить в несметные сокровища этой страны. В этой стране хорошо жить, но зато опасно с ней сражаться. Государство, умеющее строить такие здания, сооружать такие дороги, налаживать такие провиантские склады, вряд ли дешево продаст свою независимость. Говорят, что у Атагуальпы пятьдесят тысяч войска. Куда же полутораста человекам справиться с такой армией?
По пути отряда, спрятавшись за выступами скал и в придорожных зарослях, дежурили индейские лазутчики. Им было приказано следить за движением белых и обо всем доносить военному начальству. Они смотрели на маленький отряд и удивлялись. Ведь этих белых в любом узком проходе можно было бы забросать камнями и уничтожить без остатка. Белые это знают и все-таки идут. Значит, это не люди, а какие-то особенные существа, которые так сильны, что никого и ничего не боятся. Только глупцы вздумают сопротивляться этим белым чародеям.
Солдаты Пизарро боялись индейцев, индейцы боялись солдат Пизарро, и трудно сказать, кто кого боялся больше. Большинство испанцев старалось скрыть свою тревогу, но у некоторых она прорывалась в хмурых взглядах, в злобных ругательствах, в, насмешливых замечаниях. Пизарро подмечал эти недобрые признаки. Больше, чем вражеских засад, страшился он этого зловещего тихого ропота, который в любую минуту мог кончиться бунтом. В таком деле недовольные — жернов на шее, и от них было необходимо как можно скорее избавиться.
Пизарро не подал виду, что замечает недовольство солдат и опасается беспорядков. Собрав весь свой отряд, он сделал безобидное предложение.
— В Сан-Мигеле мало людей, — сказал он, — и было бы хорошо пополнить его гарнизон. Если кто-нибудь из вас желает возвратиться, он может это сделать немедленно. В Сан-Мигеле он будет иметь такие же участки и получит столько же индейцев, как и прочие оставшиеся там колонисты.
Девять человек заявили о своем желании покинуть отряд и вскоре оставили товарищей. Отряд был очищен от недовольных, и молено было двигаться дальше, не боясь вспышки.
Прошло еще пять дней, а до Кахамальки все еще было далеко. От инки никто не приходил. Чтобы выяснить положение, Пизарро послал вперед Эрнандо де-Сото с несколькими кавалеристами, а сам остался на привале. Через несколько дней де-Сото возвратился и привез важные сведения.
Ему удалось добраться до небольшого города Кахас, где стоял военный гарнизон. Сначала перуанцы хотели вступить с ним в бой, но, когда узнали о его мирных намерениях, начальство крепости встретило его гостеприимно и разрешило побывать в окрестностях. Он посетил другой, более значительный город — Гуанабамбу. Там большие красивые дома, хорошо укрепленная крепость. У входа в город выстроено обширное здание, где собирают налоги с привозимых на рынок продуктов. Торговцев на базаре де-Сото не видел, видел только земледельцев, обменивающих излишки своего хозяйства на нужные им предметы. Из Гуанабамбы широкая дорога ведет в центр страны. Она выровнена, по сторонам ее проведены выложенные плитами каналы с чистой проточной водой, а через определенные расстояния построены дома для ночлега путешественников. Это государственные гостиницы. Дорога тянется на много миль и связывает наиболее важные населенные пункты. Говорят, таких дорог много.
Когда де-Сото собирался возвращаться обратно, пришел знатный перуанец и сказал, что Атагуальпа поручил ему приветствовать чужеземного вождя и поднести подарки. Перуанец отправился вместе с отрядом де-Сото и теперь ждет приема.
 Перуанские древние сосуды.
Перуанские древние сосуды.
Пизарро принял посла. Дары состояли из двух каменных сосудов прекрасной работы, шерстяных вышитых золотом тканей и сушеной, особенным образом приготовленной гусиной кожи, которую туземцы толкли в порошок и употребляли в качестве духов. От перуанца Пизарро наконец точно узнал местопребывание Атагуальпы: Атагуальпа действительно находился под Кахамалькой.
Его лагерь разбит там, где из гор бьют горячие источники. Он изволит отдыхать и принимает ванны. Туда он и приглашает в гости чужеземного вождя.
На другой же день отряд снялся и тронулся в путь. Вперед послали индейца, которому велели сообщить Атагуальпе о приближении белых и уверить его от имени; Пизарро, что пришельцы не имеют никаких враждебных намерений. Кроме того, гонцу поручили хорошенько осмотреть дорогу и через отправленного с ним товарища известить Пизарро, нет ли по пути засад и не замечается ли передвижения войск.
Вскоре дорога раздвоилась. Узенькая лента, почти тропинка, обрывистая, крутая, ухабистая, вела прямо-вверх, к высокому горному кряжу, за которым расположена Кахамалька. Направо от нее ответвлялась широкая ровная дорога на Куско, как бы приглашавшая солдат свернуть в сказочный город дворцов, храмов и золота. В Кахамальке — многотысячная армия, в Куско — богатая и легкая добыча. В самом деле, не свернуть ли?
Солдаты оробели. Теперь, когда нужно сделать выбор, все их сомнения и страхи встали с новой силой. Не лучше ли избежать опасной встречи? Не лучше ли устроить набег на столицу, взять из нее все, что можно, а потом вернуться обратно и, сев на корабль, возвратиться в Панаму? Так думали многие, а некоторые высказывали это открыто, но Пизарро не мог принять этот план. Во-первых, встречи с войском Атагуальпы все равно не избежишь. А во-вторых, разве можно размениваться на мелочи, когда дело идет о целой империи? Ради простого разбойничьего набега не стоило пускаться так далеко. Не жалкие пригоршни золота пришел он завоевывать, а королевство. И без королевства он отсюда не уйдет.
Ночь. Солдаты расположились на привале и, поеживаясь от холодного воздуха высот, грелись у костров. Для Пизарро была разбита палатка, но он не мог спать. Он ходил и думал, и чем больше думал, тем тревожнее становилось у него на душе. В Кахамальке, в Куско — всюду грозят опасности, всюду подстерегает смерть. Судьба как будто уже закинула петлю на шею старого безумца. Что же делать: отступить, итти прямо, свернуть на столичную дорогу? Кто ответит, кто даст совет?
Пизарро опустился на колени; он молился, но и перед распятием он лицемерил так же, как и перед людьми.
— Ты видишь, что цель моя — обратить в христианство миллионы человеческих душ. Я для тебя несу все эти труды и иду навстречу опасностям! Так помоги же мне! Помоги!
Пизарро начало казаться, что и в самом деле ему для себя ничего не нужно. Не нужно золота, не нужно наместничества, не нужно власти — нужно только, чтобы индейцы строили церкви и ходили к падре исповедоваться и причащаться. В сущности, он не завоеватель, а проповедник, апостол. Так пусть же небо его выручит!
— Помоги, пресвятая дева, помоги! — повторял он.
— И поможет, сын мой, — раздался вдруг голос у входа.
Пизарро вздрогнул, боясь обернуться. Уж не пришел ли к нему сам архангел Михаил, князь небесного воинства? Нет, это только падре Вальверде, начальник монашеской братии. Лицо у падре Вальверде худое и суровое. Шестьдесят с лишком лет прожил он на свете, работая во славу католической церкви. Ему надо подарить панскому престолу миллионы новообращенных язычников. Если можно, он обратит их словом, если нельзя — мечом. В случае успеха ему обещали в Риме кардинальскую шапку. И он готов всем рискнуть и на все пойти. Он угадал тревогу вождя и пришел его ободрить.
— Как ты можешь сомневаться в небесной помощи, сын мой? — начал он. — Вспомни, за последние два года вся жизнь твоя — сплошное чудо. Разве не чудом избег ты смерти на острове Горгоне? Разве не чудо королевская грамота? Разве не чудо твои победы над неверными? Неужели ты не помнишь, как во время схватки с жителями острова Пуны над твоим отрядом появился архангел Михаил со своими ангелами, а над индейцами Вельзевул со своими демонами и Михаил победил Вельзевула и бесовские полчища с жалобным визгом улетели?
— Да, верно, верно, — подтверждает Пизарро.
Правда, сам он не видел ни ангелов, ни демонов-. Брат Эрнандо тоже не видел, и Педро де-Кандиа тоже не видел. Никто, кажется, не видел, кроме отцов доминиканцев. Но они видели — значит, так оно и было.
Падре Вальверде говорил долго и горячо. Когда он ушел, у Пизарро горели глаза, и от недавней робости не осталось и следа. Рано утром он созвал солдат и обратился к ним с пламенной речью.
— Будьте смелыми, идите вперед, — убеждал он. — Бог вступится за нас. Он предаст в наши руки язычников. Недаром видел я сегодня во сне огненный меч вон над этими высотами. Туда нам и надо итти. Там — победа, золото, отдых.
По узкой, опасной дороге тронулся испанский отряд к Кахамальке, поблескивая на солнце латами, шлемами, копьями. Раскаленная сталь жгла плечи. Спина ныла под тяжестью вооружения. Яркий свет отвесных лучей резал воспаленные глаза. В разреженном горном воздухе сердце билось прерывисто и учащенно, но люди были полны решимости, и в мерном гулком шаге их как будто звучал неумолимый приговор судьбы.
Перуанские лазутчики донесли начальству: «Белые колдуны полезли в горы».
XXIII
Необыкновенна, величественна страна, в которую вступил теперь маленький отряд! Если бы можно было взлететь выше, чем летает кондор, глаз увидел бы вот что.
Горная цепь, высящаяся в двадцати-тридцати милях от берега, тянется далеко на юг, почти до самого конца континента. Непрерывной чередой следуют друг за другом каменные гиганты, один другого выше и торжественнее. Суровой мощью веет от Чимборазо, белая шапка которого никогда не тает и высоко вздымается над линией облаков; жуткая ярость подземных стихий, притаившихся, но не успокоившихся, черным облаком окутала кратер вулкана Котопахи; кажется, вот-вот засверкают там молнии и лава, пепел, огонь вырвутся из дремлющего жерла; ослепительно сверкают склоны далеких ледников; гордо врезаются в небо неприступные пики, которых никогда не касалась человеческая нога. Чем дальше к югу, тем выше. На семнадцатом градусе этот взлет могучих каменных глыб достигает предела: Невада-де-Сорато поднялся над землей почти на семь километров; немногим, всего несколькими сотнями метров, уступает ему его соперник — Иламини. Потом горная цепь постепенно суживается и понижается, но и на крайнем юге вершины ее могли бы поспорить с высочайшими хребтами Европы.
Но в шестнадцатом веке люди не летали, а ползали. В шестнадцатом веке люди не знали географии. И когда они добрались до середины этого гранитного лабиринта, казалось им, что не будет конца этим отвесным стенам, этим пропастям, этим ущельям, этим острым скалам — страшным памятникам земных катастроф. Маленьким, и слабым чувствовал себя человек, когда он всползал, как муравей, по едва приметным тропинкам, ежеминутно рискуя сорваться в бездонные пропасти. Но еще меньше, еще слабее ощущал себя он, когда где-то глубоко в недрах гор раздавался не то стон, не то глухое урчанье, и почва тряслась под ногами, и с грохотом проносились над головой обломки скал, летевшие в пропасть. В Андах, что значит по-перуански «Медные горы», земля утыкана вулканами, как чертополох шипами, и редкий месяц не лихорадит ее от внутреннего жара.!
А все-таки и здесь человек боролся с природой. Он хотел одолеть эти мрачные громады, голые камни одеть зеленью, бесплодные откосы оживотворить влагой. Наперекор землетрясениям, дневному зною, ночному холоду, обвалам, трудностям путешествий он забрался в самое сердце горных массивов и всюду, где можно, — на широких плато, в узких долинах, по склонам гор, на маленьких площадках, прилепившихся, словно птичьи гнезда, к обрывистым скалам, — разбросал хижины, деревушки, каналы, водопроводы. В корзинах, на спине, он носил из долин плодородную землю и насыпал ее на камни. Чтобы ее не унесло дождем, он возводил около искусственных участков каменные стены; чтобы удобрить почву, собирал гнилушки и птичий помет. На новый участок нужно потратить лет десять упорного труда, прежде чем он начнет давать урожай. И все-таки человек изо дня в день дробил киркой горные породы, носил ил, ветви, сухие листья — и так от рождения до смерти.
Несчитанные века прошли, прежде чем человек одолел природу. Но зато и природа щедро вознаградила его за труды. Ведь в Андах можно одновременно застать все времена года: в самом низу царит вечное лето, повыше — теплая весна, еще повыше — прохладная осень, еще выше — вечная зима с ее холодом, льдами и снежными бурями. И потому на небольшой сравнительно территории там можно встретить самые разнообразные растения: в равнинах растет какао, не выдерживающее даже легких заморозков, и бананы экваториальных широт; на высоких плато — плодовые деревья и злаки
умеренного климата, а между этими двумя полосами размещается богатейшая растительность тропиков и субтропиков. Когда к теплу и свету, в изобилии данным природой, присоединяется вода, проведенная рукой человека, земля родит обильно. На необитаемых дотоле пространствах возникает сложная общественная жизнь, из маленьких племен складывается могучее, прекрасно организованное государство.
 Постройки времен инков.
Постройки времен инков.
Когда оно зародилось? Завоеватели этим не интересовались, да и сами перуанцы не много могли бы рассказать об этом. У перуанцев не было письменности, и узелки квипуса, хранящиеся в храмах, очень неясно передают прошедшую историю. Пятьдесят или шестьдесят лет прошло, прежде чем ученые монахи исследовали развалины древних храмов и дали первые сведения о предшественниках народа квичуа. И только лет через триста европейские ученые после многочисленных раскопок и долгих изысканий смогли более или менее точно выяснить, как образовалось государство инков.
За триста пятьдесят или четыреста лет до появления испанцев на горных плато Анд жил народ аймары. Судя по древним памятникам, аймары прожили здесь больше полутора тысяч лет и за это долгое время достигли довольно высокого уровня цивилизации. Они строили огромные храмы в форме ступенчатых пирамид, умели обрабатывать медь, изготовляли прекрасную глиняную утварь с изящными и яркими рисунками, ткали шерсть и хлопок. В их гробницах находили множество музыкальных инструментов. По-видимому, это был трудолюбивый и мирный народ, любивший веселье и развлечения и мало склонный к завоевательным войнам. От соседей его ограждали горы и море, и потому об обороне ему редко приходилось думать. Богатый народ, избалованный приятным климатом и спокойной жизнью, стал легкой добычей для воинственных племен, обитавших в северо-восточной части Южной Америки.
Из этих племен самым многочисленным и наиболее хорошо организованным было племя, или, вернее, народ, квичуа. Наиболее влиятельным родом среди квичуа были инки, которые мало-помалу и стали правящим сословием. Инками руководил родовой вождь, Приобретавший постепенно все больше и больше влияния и сделавшийся наконец наследственным монархом. Слово «инка» (в переводе — «сын Солнца»), обозначавшее раньше целый род, стало тогда применяться только к монарху. Народ квичуа, в противоположность аймарам, вел непрерывные войны с соседями и на протяжении долгих столетий приобрел военные навыки и развил в себе все те свойства, которые необходимы для воина: храбрость, сметливость, выносливость, дисциплину.
Постепенно он стал двигаться на юго-запад в поисках более здорового климата и более благоприятных условий жизни.
Когда он перевалил через Анды, то наткнулся на государство аймаров и без труда покорил его. От покоренных аймаров он заимствовал ремесла и Приемы земледелия.
Большая часть завоевателей слилась с туземным населением, господствующий род во главе с инкой образовал правящее сословие — военную аристократию — и стал руководить всем государством.
В аймарских храмах воздвигли жертвенники главному богу перуанской религии — богу Солнца, и старые божества были забыты. Через триста лет после завоевания Перу народом квичуа жители уже не помнили о своем прошлом. Им казалось, что инки всегда господствовали над ними с тех пор, как Солнце просветило их через своих детей.
Так излагают древнюю историю Перу современные ученые. Сподвижникам Пизарро она была и неизвестна и не нужна.
Спускаясь в долины, поднимаясь на перевалы, дрожа от ночного холода и изнемогая от дневного жара, они не думали о том, что происходило много веков назад. Они думали лишь о завтрашнем дне — о войске Атагуальпы, о битвах, что ждут их впереди, о том, что принесет им переменчивое военное счастье.
— Спроси, Филиппильо, скоро ли будет Кахамалька, — повторяли они при каждой встрече со случайными прохожими.
Прохожие качали головами, что-то бормотали, и Филиппильо неизменно переводил:
— Нет еще, не скоро.
Наконец прохожий сказал:
— Завтра.
Солдаты переглянулись. Сердце у них застучало, голова слегка кружилась. Казалось, что кто-то поставил их на парапет высокой башни и скомандовал: «Бросайся вниз!» И уже исполнена команда. Они летят, и со страшной быстротой приближается к ним земля, имя которой Перу, империя инков. Что случится с ними? Разобьются ли они насмерть, или сами раздавят неизвестное государство? «Не шагай так быстро, Пизарро, — думали они. — Дай передышку, помедли, ведь каждое промедление — лишняя минута жизни!» А суровый капитан ускорял шаг и торопил отстающих. Еще один перевал, и опереди засерело широкое пятно — дома и хижины Кахамальки.
XXIV
В этот день Атагуальпа, по своему обыкновению, встал рано и пошел принимать теплую серную ванну. Ванна была устроена поблизости от его обиталища — одноэтажного каменного дома, разделенного на несколько комнат и крытого тростником. Под тенью развесистого дерева — много, должно быть, трудов стоило перуанцам вырастить его на этой каменистой почве — был выдолблен широкий водоем, наполнявшийся проведенной из гор горячей водой и снабженный у другого конца каменным желобом, через который излишняя вода отводилась в ручей. Атагуальпа снял со лба пурпуровую ленту — борлу, знак его высокого сана, — скинул верхний плащ и нижнюю тунику и с наслаждением погрузился в прозрачную влагу.
 Постройка времен инков.
Постройка времен инков.
Это был человек высокого роста, с широким и высоким лбом и острыми, словно сверлящими черными глазами. Плотно сжатые губы и крупный, выдающийся вперед подбородок говорили о воле и решительности. При первом же взгляде на него можно было сразу сказать, что этот человек не отступает перед трудностями, не щадит врагов и умеет одерживать победы. Поплескавшись немного в воде, он хлопнул в ладоши. Из-за угла дома поспешно вышел старик в темно-синем шерстяном плаще И, прикоснувшись губами к краю брошенного на камень Атагуальпова плаща, встал на колени.
— Что нового? — спросил Атагуальпа, повернувшись к нему.
— Белые уже всходят на последний перевал, повелитель. Сегодня к полудню они должны быть здесь.
— Сколько их?
— Лазутчики сосчитали точно: сто пятьдесят человек вооруженных и сто двадцать индейцев-носильщиков.
Атагуальпа презрительно усмехнулся:
— Смешные эти белые люди! Пойти с таким отрядом к инке, у которого в одном только этом месте тридцать тысяч отборного войска! Но они говорят, что идут ко мне не с войной, а с миром. Должно быть, это правда, иначе они не осмелились бы сунуться сюда.
Старик низко поклонился.
 Древний перуанский ковер.
Древний перуанский ковер.
— Ты мудр, повелитель. Действительно, только безумец решился бы сражаться, имея сто пятьдесят человек против тридцати тысяч опытных воинов, да еще под твоим начальством! Но лазутчики говорят, что белые — колдуны и что они умеют стрелять из палки. Может быть, они хотят взять нас колдовством?
— Глупец! Разве страшно колдовство для инки, сына Солнца? Солнце — самый великий бог. Бог грома, бог бури, бог воды, бог подземного огня — все они трепещут перед ним. Солнце хранило моего отца и отца моего отца — оно сохранит и меня. А что донесли тебе о Гуаскаре?
— Гуаскар — плохой брат и плохой подданный своего повелителя. Он говорит, что не успеет луна двенадцать раз родиться и двенадцать раз умереть, как он снова повяжет на лбу священную борлу и станет господином и Квито и Куско.
Атагуальпа рассмеялся резким, отрывистым смехом:
— Хорошо, что он об этом говорит. Хуже было бы, если б он об этом только думал. Глупца наказывает его слово, умного спасает его мысль. А что тебе донесли о знатных родах в Квито? Они все еще проклинают Атагуальпу и хвалят Гуаскара? Все еще бегут от леопарда и надеются на обезьяну?
— Глупцы упрямы, повелитель. Они плачут о казненных родственниках и по ночам собираются друг у друга и о чем-то шепчутся.
— Скоро я отучу их шептаться. Кстати, мне, может быть, помогут и белые люди. Они предлагают мне дружбу. Ну что ж, пусть докажут ее. Пусть расправятся с заговорщиками!
При последних словах Атагуальпы, из дома выбежала молодая женщина в длинной голубой тунике с узорчатой каймой, с изумрудным ожерельем на шее и тяжелыми золотыми запястьями на обнаженных руках. Это была любимая жена Атагуальпы. У водоема она остановилась, поцеловала край плаща Атагуальпы и встала на колени, дожидаясь, пока ее повелитель заговорит с ней первым.
— Что тебе, Пачака? — недовольно спросил инка. — С каких это пор женщины нарушают беседу инки с его советниками?
— Прости меня, повелитель! Но ты приказал мне следить, не покажутся ли по дороге белые люди. Они уже спускаются с горы. Их совсем мало! Амаута говорит, что их не больше ста пятидесяти человек.
 Перуанские древности
Перуанские древности.
Атагуальпа вышел из водоема, быстро набросил тунику и плащ, в сопровождении советника обогнул угол дома и стал пристально смотреть на горный склон, жмурясь от солнечного света.
— Да, не больше, — проговорил наконец он. — С таким отрядом на войну не ходят. Это, конечно, послы, и надо их принять с почетом. Иди в Кахамальку, — приказал он советнику, — и вели отвести чужеземцам большое здание в середине города, где стоят зимой мои воины.
Атагуальпа удалился в дом и приказал позвать к себе «хранителей квипуса». Это были старые ученые люди, к которым со всех концов империи приносили квипусы, содержащие сведения о состоянии государственного хозяйства. Хранители отмечали завязанные на шнурках узелки и с помощью особого аппарата, напоминавшего европейские счеты, подсчитывали, сколько в каждой провинции имеется продовольственных запасов, одежды, воинского снаряжения, ремесленников и земледельцев. Потом разбирали донесения начальников провинций и подсчитывали, сколько хлеба нужно отправить в местности, пострадавшие от неурожая, сколько каменщиков и плотников нужно послать для починки и постройки мостов, сколько ткачей выделить для тканья шерстяных и хлопчатобумажных материй, сколько рабочих послать в горы для добывания меди, серебра и золота. Все это они должны были два или три раза в неделю сообщать инке, который, поговорив со своими советниками, выносил окончательное решение. Так же было и в этот раз. Инка, как будто совсем забыв о прибытии чужеземцев, выслушивал доклады и разбирал текущие дела.
— Столько-то мешков маиса выдать из государственных складов жителям провинции Хауха… Столько-то воинов послать в провинцию Коаке для усмирения лесных дикарей… Столько-то шерстяных тканей выдать родственникам инки в Куско… Столько-то золотых кубиков отправить в храм Солнца в Квито… В проходе Амоа развалился мост, — построить новый в течение месяца…
В прохладном покое дома эти отрывочные приказания раздавались одно за другим. Хранители квипуса, склонившись над шнурками, торопливо завязывали узелки, чтобы сегодня же разослать приказы инки начальникам провинций. Обстоятельно и деловито разбирались вопросы, так же как разбирались они и десять, и пятьдесят, и сто лет назад. Не было ведь никаких причин, чтобы нарушать установленный порядок. Ничего особенного не случилось, кроме того, что пришли какие-то чужеземные послы. Сегодня они пришли, завтра уйдут — и все останется по-старому…
Так шла жизнь в обиталище инки 15 ноября 1532 года, накануне той поры, когда перуанская империя перестала существовать.
Пока инка со своими советниками рассматривал государственные дела, отряд Пизарро входил в Кахамальку. Ржали лошади, почуявшие близкий отдых, лязгали стальные доспехи, ругались ветераны, разомлевшие под жарким солнцем, индейцы-носильщики обменивались шутками с многочисленной толпой, высыпавшей навстречу отряду. Филиппильо болтал за десятерых, описывая солдатам достопримечательности города:
— Вот это храм Солнца. Через месяц и десять дней, когда начнут прибавляться дни, главный жрец подойдет к жертвеннику и волшебным медным полированным зеркалом зажжет священный огонь. А вот монастырь дев Солнца. Здесь живут наиболее красивые девушки, набираемые со всех концов государства. Они дали обет безбрачия и не могут выходить замуж ни за кого, кроме инки. В этом монастыре живут по большей части знатные девушки, которых не слишком обременяют работой, но в других общежитиях, попроще, девы работают не покладая рук. Они ткут тонкие шерстяные материи, вышивают одежды для инки, его жен и придворных…
Испанцы слушают невнимательно. Их занимают сейчас не «девы Солнца», а помещение, в которое их ведет посланный от инки гонец. Это большое четырехугольное каменное здание с очень широким внутренним, двором, окруженным крытыми галереями. Здание построено из гранитных глыб и похоже не то на монастырь, не то на крепость.
— Это казармы для солдат. Они отведены вам под жилье, — разъясняет Филиппильо.
— Но сколько же времени мы будем здесь жить? — спрашивает Пизарро.
— Гонец ничего на этот счет не сказал, — отвечает Филиппильо. — Значит, — проживете здесь столько времени, сколько будет угодно инке.
«Западня», подумал Пизарро. «Мышеловка», сказали в один голос Педро де-Кандиа и де-Сото. Не для того ли и пригласил их инка в это горнов гнездо, чтобы сначала посмотреть на странных пришельцев, а потом, пользуясь их малочисленностью, навеки отрезать весь отряд от внешнего мира? Плен… и, может быть, вскоре смерть… И вместо бочонков золота — выбитая в камнях могила.
Солдаты мрачны, молчаливы. Их не радует окончание трудного путешествия, не радует отдых, по котором так соскучились сбитые в кровь ноги и ноющие спины. Вера в небесную помощь, подогретая было речами Пизарро, начинает слабеть. Справится или не справится св. Яго с индейскими демонами? Заплатит ли им пресвятая дева звонкими дукатами за их рвение, или отсрочит платеж до страшного суда?
Небо не посылает знамений, и никто не видел вещих снов. Падре перестали рассказывать друг другу смешные истории и только перебирают четки да вполголоса читают псалмы. В одном конце двора отец Вальверде тянет нараспев: «Боже, именем твоим спаси меня и силою твоею суди меня, ибо чужие восстали на меня и сильные ищут души моей». А в другом конце отец Игнасио вторит ему: «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашли на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы». Псалмы царя Давида нагоняют тоску. Да, хорошо иметь за спиной голубиные крылья, но кто даст их? В этой узкой долине, окаймленной чудовищными горами, в этом городе, с его многотысячным войском, кто принесет спасение?
Пизарро видел, как уныние охватывает даже самых испытанных его соратников. Еще три-четыре дня — и от дисциплины ничего не останется. Отряд превратится в испуганное, беспорядочное стадо. Во что бы то ни стало надо выяснить намерения инки, надо ускорить события.
На следующее утро Пизарро отправил в лагерь Атагуальпы Эрнандо де-Сото и в помощь ему, на случай засады, двадцать всадников под начальством Эрнандо Пизарро. Де-Сото должен был передать инке приветствия вождя и разузнать, что хочет инка делать с чужеземцами.
В полном вооружении, с развевающимся знаменем Кастилии, с ящиком подарков едут де-Сото, Эрнандо Пизарро и двадцать кавалеристов к лагерю инки. Их проводят к скромному дворцу перуанского монарха. Они въезжают в обширный внутренний двор, с садами и двумя бассейнами горячей и холодной воды.
— Инка дожидается вас вон там, — сказали им, показывая на боковое крыло здания, где расположен приемный зал.
Стены зала украшены множеством золотых пластинок с затейливыми узорами. Посреди него стоит низкий отделанный золотом и драгоценными камнями табурет, на котором восседает Атагуальпа. Лоб его обрамляет пурпурная борла, на плечи наброшен вышитый шерстяной плащ. Атагуальпа спокоен и важен. Что ему до этих чужеземцев, которых он может погубить одним мановением руки?
Де-Сото не хочет ударить лицом в грязь. Он ведет себя так, как подобает посланцу великой державы. Он подъезжает к приемной верхом на коне, останавливается перед самым входом и, поклонившись, произносит приветствие, переведенное все тем же Филиппильо, который весь изогнулся в дугу и от страха перевирает слова еще больше, чем обыкновенно. Речь де-Сото такова:
— Наш господин, повелитель Кастилии, Арагона и прочих испанских провинций, король Неаполя, Сицилии и Нидерландов, император Священной Римской империи, прослышал о твоих великих подвигах. Он предлагает тебе свою дружбу, посылает на помощь отборный отряд под начальством Франсиско Пизарро, который должен наставить тебя в истинной вере. Пизарро шлет тебе привет и приглашает тебя к себе в гости на пир, который он устроит в твою честь.
Атагуальпа молчит. Де-Сото ждет минуту, другую, третью. Наконец инка едва заметно мигает глазом, и один из придворных, привыкший на лету схватывать мысли своего господина, произносит:
— Хорошо.
И опять молчание. Должно быть, сейчас последует кивок головы, и аудиенция будет кончена. Вмешивается Эрнандо Пизарро:
— Наш вождь от имени нашего короля предлагает тебе союз и дружбу. Что ты ответишь на это?
На этот раз Атагуальпа прерывает молчание. Но на вопрос он не отвечает и бросает всего две-три фразы:
— Передай своему начальнику, что сейчас я пощусь и не могу пировать. Но через день пост кончится, и я приду к вам в гости. А пока живите там, где вам приказано.
Ничего больше не удалось услышать от этого бесстрастного, словно каменного человека. Напрасно де-Сото щеголял своим кавалерийским искусством. Напрасно он взвивал своего коня на дыбы, напрасно кружил по двору, напрасно останавливался на всем скаку перед самым седалищем инки — Атагуальпа не проявил ни страха, ни интереса. Один из его советников, правда, вздрогнул, когда, рядом с ним показалась вдруг морда неведомого животного. Атагуальпа метнул на него взгляд, в котором несчастный прочел себе смертный приговор: за малейшее проявление страха начальствующим лицам полагалась смерть. Этот взгляд, смысла которого испанцы не поняли, был единственным движением инки за все время разговора.
Когда посланцы приехали и рассказали о своем визите, солдаты приуныли еще больше, но Пизарро повеселел. Проволочек отныне не будет, и через день все будет кончено.
XXV
Вечером, накануне решительного дня, Пизарро шагал в отведенном ему покое и в тысячный раз задавал себе вопрос: что делать? План, который он развивал раньше в разговоре с Альмагро, казался ему теперь несостоятельным. Разжечь пожар междоусобной войны, выманить на поле битвы сторонников Гуаскара, обещая им помощь, а потом явиться в роли верховного судьи и, воспользовавшись каким-нибудь удобным случаем, покончить одним ударом с Атагуальпой и его противником — все это очень удобно на словах, но очень трудно на деле. Для этого нужны время, терпение, выдержка, осторожность. Для этого нужно день за днем носить маску дружбы и преданности, с равнодушным видом проходить мимо наполненных золотом дворцов, не касаться ни одной драгоценности, воздерживаться от насилий. Сумеют ли испанские солдаты вынести это испытание? Разумеется, нет. При виде несметных сокровищ они сразу опьянеют, как голодный волк от запаха крови, и тогда… тогда грозный отряд станет беспорядочным скопищем мародеров, которых перуанцы перебьют поодиночке. Нет, ждать нельзя, нужно действовать, пока солдаты еще подчиняются дисциплине.
 Атагуальпа. Гравюра 1685 года.
Атагуальпа. Гравюра 1685 года.
Действовать… Но как действовать? Пизарро думал напряженно, мучительно и не находил ответа.
Случайно взгляд его упал на кинжал, валявшийся на полу рядом со шлемом. Кинжал был дорогой, с золотой насечкой. Его подарил своему другу Охеда после захвата в плен Каонабо. Охеда тогда сказал: «Вот тебе подарок за хорошую мысль, которую ты мне подал». Мысль была, действительно, хорошая. Десять безоружных кавалеристов похитили индейского вождя на глазах у его войска. Безумное предприятие! Но как легко оно удалось!
Пизарро остановился. Глаза его загорелись. То, что удалось однажды, может удаться и еще раз. Исход найден: нужно захватить Атагуальпу в его собственном городе, среди его солдат и придворных. Он станет заложником и ради спасения жизни выполнит все требования испанцев. Может быть, из этой попытки ничего не выйдет, и тогда отряд, конечно, погибнет. Но ничего другого не остается. Заключать с Атагуальпой союз — значит, только оттягивать свое поражение. Отступать с боем по узким ущельям — безумие. Оставаться в этой каменной тюрьме перед лицом огромного войска, залившего всю гору огнями бивуачных костров, — безумие еще большее. Дерзость помогает там, где бессильна осторожность. Дерзай, Франсиско, дерзай или умри!
Пизарро тут же созвал военный совет из наиболее опытных военачальников и изложил свой план. План был принят без возражений.
В полночь отслужена месса, розданы приказы. Кавалерия под начальством де-Сото и Эрнандо Пизарро должна занять посты в помещениях, расположенных на трех сторонах опоясывающего двор четырехугольника. Четвертое крыло займет пехота. Пизарро с двадцатью отборными солдатами укроется в центре его и в решительный момент ринется навстречу Атагуальпе. Когда будет дан пушечный сигнал, кавалерия бросится на свиту Атагуальпы, а пехота во главе с Пизарро пробьется к инке и захватит его. Если этот план удастся, казармы сразу превратятся в крепость, и одного движения руки царственного пленника будет достаточно, чтобы привести в бездействие все перуанские полчища.
— Сановников и военачальников инки истребляйте без пощады, — приказывал Пизарро. — Без них люди этой страны будут беспомощны, как кабанье стадо без вожака. Но пусть ни один волос не падет с головы инки. Помните, что если мы захватим его живьем, все выиграно, а если он будет убит, все потеряно.
Посты расставлены, пехота и кавалерия размещены. Томительно тянется тревожная ночь. Солдаты говорят чуть слышным топотом. В укромных уголках падре исповедуют их и отпускают грехи. Ох, сколько успели нагрешить за свою жизнь эти воины! Так длинны списки их преступлений, что не вмещает их память.
— Скольких убил?
— В Испании, пожалуй, человек двадцать, в Индии — не считал.
— Скольких ограбил?
— Может быть сотню, может быть две — разве упомнишь такие мелочи?..
Сокрушенно вздыхают грешники. Тяжело смотреть на свою жизнь, когда вся она проходит перед глазами и вся она мутная, жестокая, скверная.
— Ничего, не бойтесь, — успокаивают падре. — Все простится тому, кто огнем и мечом утверждает среди неверных католическую веру.
Так до самого утра носятся над четырехугольным двором шепоты, вздохи, обрывки молитв.
А в полутора милях отсюда, на склоне торы, где разбит лагерь Атагуальпы, все спокойно. Мирно горят костры, разложенные в строгом порядке, словно на шахматной доске. Бесшумно скользят между ними тени дежурных сотников. Безмятежен сон солдат, пригревшихся у костра, безмятежен сон их вождя, власть которого никогда еще не была так крепка, как в эти месяцы отдыха, неги и покоя. Разбиты враждебные племена на границе империи, раздавлены бунтовщики, сторонники Гуаскара. Империи ничто не грозит. Она так сильна, что даже властители далеких стран, о которых никогда и не слышали в этих местах, предлагают ей свои услуги.
Во сне мелькают перед Атагуальпой образы странных чужеземцев. Он улыбается: смешные, непонятные люди! Что им нужно от него и что он может от них получить? На минуту все перемешивается, а потом перед глазами ясно встает картина завтрашнего пира: на носилках вносят его в покой чужеземного вождя, и вождь низко склоняется перед ним, целует край его одежды и говорит: «Я и мои солдаты — твои, и ты можешь распоряжаться нами». И Атагуальпа ставит ногу на его согбенные плечи…
 Шествие с дарами в честь Солнца. Гравюра 1731 года.
Шествие с дарами в честь Солнца. Гравюра 1731 года.
Не улыбался бы Атагуальпа и не видел бы приятных снов, если бы понимал, какие сильные союзники у этой горсточки чужеземцев.
Их первый союзник — огнестрельное оружие. Металлические палки, стреляющие огнем, грохочут, как разгневанный бог подземных недр, когда он насылает на людей пепел, лаву и страшные горные обвалы. С далекого расстояния они пробивают человека чуть не насквозь, и самый острый дротик в сравнении с ними — детская игрушка. Что могут поделать с этим волшебным оружием перуанские пики с медными наконечниками, дротики, стрелы и короткие мечи? Когда загремят эти палки, самый храбрый воин инки падет на землю и завоет от ужаса.
Второй союзник — лошадь, непостижимый зверь, быстрый, как ветер, послушный и умный. По знаку всадника, он бросается на любой отряд и своими тяжелыми, покрытыми броней ногами затаптывает насмерть десятки людей. Перуанцев он приводит в трепет, и даже проводники, пробывшие с белыми целые недели, не могут приблизиться к нему без содрогания.
Третий союзник — это страх, окружающий имя белого человека. Ведь далекие божественные предки инков, пришедшие из чертогов Солнца, были, согласно сказанию, тоже белые. Существа с таким цветом кожи неодолимы. До сих пор они побеждали всех и устилали трупами поля битв. Не посланы ли они самим Солнцем, чтобы передать царство инков новым владыкам? Недаром ведь рассказывают, что инка Юпанка, умирая, предрек покорение страны белыми. Пока белые сияют приветливыми улыбками и раздают подарки, страх забывается. Но, как только загрохочут огневые палки, заржут загадочные звери, зазвенит сталь щитов и мечей, страх навалится на самых неустрашимых и храбрецов превратит в трусов.
И, наконец, четвертый союзник — раздоры среди правящего военного класса. Сторонники Гуаскара желают гибели Атагуальпы. Они не окажут помощи павшему властелину и постараются унизить его еще больше, чтобы передать престол его сопернику. Если белые пообещают им содействие, они признают власть пришельцев и пойдут за ними.
Об этих союзниках не знает спящий повелитель десятимиллионного народа. Он не видит грозовой тучи, которая надвинулась на его империю. Он надеется на свою силу, надеется на свое войско и даже во сне спокоен, самоуверен и горд.
Занялось утро, наступило 17 ноября 1532 года. Испанцы считают минуты, и кажется им, что день тянется бесконечно. Только после полудня от Атагуальпы приходят гонцы с известием, что их повелитель сейчас прибудет к белым с вооруженной свитой. Вдали на дороге показывается многочисленный отряд, среди которого несут на носилках инку. Носильщики — самые знатные люди государства. Свита инки одета в самые лучшие костюмы. Огнем горят медные наконечники копий, у бедер солдат сверкают медные мечи. Шествие похоже не на мирную прогулку, а на военный поход. «Бой будет жаркий», озабоченно думает Пизарро, приглядываясь к мерному шагу воинов.
Вдруг процессия остановилась на полпути. Атагуальпа дал какой-то знак, сошел с носилок, и солдаты его стали разбивать палатки. Через несколько минут к испанцам пришел гонец с известием, что инка решил провести ночь на этом месте и только завтра утром посетит белого вождя. Это путало все расчеты Пизарро. Опять оттяжка, еще целую ночь придется пехоте и кавалерии дежурить в полном вооружении на назначенных пунктах! Опять бессонная ночь, неизвестность, ожидание. Опять мучительные часы бездействия, утомляющие больше, чем боевые схватки. Пожалуй, к завтрашнему утру не останется и следа от того воодушевления, которое вчера и сегодня удалось внушить отряду. А если пропало воодушевление, пропало все. Во что бы то ни стало надо действовать и нанести решительный удар.
Пизарро посылает к инке гонца: он просит Атагуальпу пожаловать именно теперь, ибо пиршественный стол уже накрыт и блюда приготовлены. К завтрашнему дню они испортятся, и великого монарха не удастся угостить так, как подобает его сану.
Атагуальпа — человек вежливый. Он понимает, что почетных гостей неудобно ставить в затруднительное положение. Их обидит эта проволочка, и, чего доброго, они еще подумают, что инка их боится. Пусть же белые видят, что сыну Солнца не страшно ничто! Атагуальпа знаком подзывает одного из сановников и приказывает:
— Скажи чужеземному вождю, что инка придет к нему сейчас, а, чтобы доказать свое миролюбие, инка и его свита явятся безоружными.
Когда Пизарро передали слова Атагульпы, он побледнел от неожиданности. «Чудо, новое чудо! — думает он. — Кто, как не небо, мог внушить инке столь безумную мысль?»
Снова начала выстраиваться торжественная процессия. Оружие брошено, и вместо военных доспехов запестрели многоцветные одежды — ярко-голубые туники дворцовой челяди, бело-красные клетчатые плащи придворных, белоснежные мантии высших сановников, несших медные и серебряные булавы, зеленые и розовые накидки служителей. Атагуальпа добавил к своему убранству ожерелье из громадных чистейшей воды изумрудов, сел на чеканный трон из литого золота, поставленный на носилки, и опять высоко вознесся над благоговейной толпой. Чинно и медленно шагали перуанцы, и с гордым самодовольством смотрел их владыка на драгоценные ожерелья и золотые запястья знати, на свой золотой трон, на свою свиту, в которой были собраны самые опытные сановники и самые лучшие военачальники. Он покажет чужеземцам, что инка самый сильный, самый богатый, самый вежливый из всех властителей земли…
Процессия вошла в обширный двор. Все пусто — ни души кругом. Испанцы исчезли. Вместо того чтобы выйти навстречу инке, Пизарро с отборными солдатами укрылся в одной из комнат и ждет.
— Где же чужеземцы? — в недоумении спрашивает Атагуальпа. — Где их вождь?
Вместо вождя перед инкой вырастает странная фигура — худой бритый человек в длинной черной мантии, с каким-то крестообразным золотым предметом в одной руке и тяжелой четырехугольной вещью в другой; за ним — перуанец плутоватого вида, уже побывавший однажды в стане Атагуальпы. Это падре Висенте де-Вальверде и переводчик Филиппильо. Золотой предмет — распятие, а тяжелая вещь — библия.
Падре Вальверде начинает длинную речь. Он говорит по всем правилам монастырского красноречия. Он рассказывает о троице, о потопе, о грехопадении Адама и Евы, об Иисусе Христе и вселенской апостольской церкви. Переводчик Филиппильо и сам плохо понимает все эти мудреные вещи, он старается изо всех сил и доводы падре подкрепляет своими собственными измышлениями. От этого речь отца Вальверде теряет порой всякий смысл и звучит приблизительно так:
— У вас только один главный бог — Солнце, а у испанцев целых четыре: троица и еще один — Иисус Христос. И так как четыре больше одного, то и боги белых сильнее Солнца. Троица, создавшая людей, очень любила людей и потому всех их потопила, но самый хитрый из них остался и народил очень много детей. Дети его очень много грешили, и тогда троица послала для их вразумления четвертого бога, которого они убили. Тогда вместо этого бога, Христа, троица послала им его наместника, которого зовут папой. Папу зовут еще «раб рабов божьих». Это значит, что любое царство он может подарить кому захочет. И этот папа приказывает тебе, во-первых, принять христианскую веру, а во-вторых, передать свою власть испанскому королю, который сильнее всех на земле и очень тебя любит и хочет жить с тобой в дружбе.
Атагуальпа был умный человек. Он понимал, что каждый народ приветствует гостей на свой лад. Если у белых перед каждым пиром говорят такие длинные речи, пусть будет так! Он слушал внимательно, но из всей той путаницы, которую преподнес ему. Филиппильо, понял только одно: что какой-то неведомый ему папа хочет передать его царственную борлу какому-то заморскому владыке. И, когда он понял это, ответ его был ясен и краток:
— Я самый могущественный монарх на свете и не стану ничьим данником. Твой папа, наверное, сумасшедший, иначе он не стал бы дарить то, что ему не принадлежит. А что касается твоего бога, то ведь люди его убили, а мой бог до сих пор живет на небе и смотрит оттуда на своих детей. Зачем же я живого бога буду менять на мертвого? Но скажи, по чьему приказу ты говоришь мне все эти нелепые вещи?
Падре Вальверде указал на библию.
Атагуальпа взял книгу в руки, перелистал несколько страниц и гневно бросил ее на землю.
— Скажи твоим товарищам, — воскликнул он, — что они дорого заплатят мне за эту дерзость и за все те бесчинства, которые они натворили в моем государстве!
Падре Вальверде побежал к Пизарро. Пока инка, ошеломленный и раздосадованный, обдумывал, что ему делать дальше, Вальверде крикнул вождю:
— Язычник надругался над библией и этим сам осудил себя! Он не заслуживает пощады. Не медли, действуй! Разве ты не понимаешь, что еще через несколько минут весь город наполнится вооруженными воинами? Действуй, я даю тебе отпущение грехов!
Пизарро и без падре Вальверде видел, что момент для схватки настал. Он махнул платком, на углу грохнула сигнальная пушка, и изо всех крыльев здания на безоружных перуанцев бросились закованные в латы кавалеристы и вооруженные мечами и пищалями пехотинцы. Гремели выстрелы, ржали и звенели бубенцами разгоряченные лошади, пороховой дым сизой завесой окутал весь двор, и с одного конца на другой перекатывался яростный клич испанцев: «Святой Яго! Святой Яго!»
Свита инки от неожиданности потеряла голову. Безоружные люди метались по двору, валились грудами под ударами мечей, молили о пощаде или, окаменев, стояли на месте, дожидаясь смерти. Часть толпы побежала к невысокой каменной ограде двора и так надавила на нее, что стена рухнула и через образовавшуюся брешь спаслись десятки людей. Но таких счастливцев было немного. — Огромное большинство осталось в мышеловке. Около ворот груда тел образовала естественную баррикаду, преградившую вход в крепость. Тела падали, как трава под острой косой.
Но инка все еще не был взят. Около его носилок столпились наиболее преданные сановники и военачальники, и собственными телами защищали Атагуальпу от нападающих: бросались на лошадей, цеплялись за седла, старались стащить железных воинов на землю, подставляли грудь пикам и пищалям. Вокруг Атагуальпы образовался барьер из человеческих тел, и надо было перелезать через груды трупов, чтобы преодолевать отчаянное сопротивление защитников. А время проходит. Перуанцы могут оправиться от паники и притти на помощь своему повелителю. Одна минута промедления может привести к разгрому испанцев и победу превратить в поражение.
Испанцы пришли в такую ярость, что забыли инструкции вождя. Один солдат, оттолкнув стоящего на пути придворного, занес меч над головой инки. Но Пизарро охраняет свою добычу.
— Всякий, кто ударит инку, заплатит мне своей головой! — закричал он и подставил собственную руку под готовый опуститься меч.
Его ранили — это была единственная рана, полученная испанцами во время резни, — но инка спасен. Наконец пали последние защитники Атагуальпы, и владыка перуанской империи, целый и невредимый, сделался пленником Пизарро.
Атагуальпа был ошеломлен. Он не мог сразу понять свое положение. Всего пять минут назад он был могущественным властелином, и кивка его головы было бы достаточно, чтобы в несколько мгновений истребить этих пришельцев, а сейчас он пленник, и седобородый человек смотрит на него со спокойным торжеством, как охотник на тушу убитого ягуара. Между тем на склонах горы, целая и невредимая, стоит тридцатитысячная отборная армия, и пурпурная священная борла по-прежнему украшает его лоб, и по-прежнему великий отец — Солнце — освещает его многолюдную империю. Что это? Дурной сон? Колдовство белых? Может быть, просто его собственное безумие?
Пизарро смотрел на инку не отрываясь. Он не видел своих товарищей, не слышал предсмертных стонов умирающих, не чувствовал боли от раны. Империя завоевана — о чем, другом можно думать в эту минуту! И пока Педро де-Кандиа хлопотал около него и наскоро перевязывал платком разрубленную руку, он все смотрел и смотрел на царственного узника и не мог отвести глаз от его опущенной головы, от этих широких плеч, от этого белого, забрызганного кровью плаща, под складками которого спрятана награда победителю — золото, власть, почести, наместничество, земная слава и небесное блаженство.
XXVI
В тропических странах ночь наступает рано, и в шесть часов вечера уже загорается вечерняя заря. Солдаты Пизарро торопились довершить победу. Сначала беспорядочной массой бежали по улицам, убивая всех встречных, затем разбились на группы и ворвались в лагерь Атагуальпы. О сопротивлении там никто и не думал. Известие о пленении «сына Солнца» отняло у воинов и волю и разум. Мужественные и стойкие, пока ими руководил опытный вождь, перуанцы рассеялись, как овечье стадо, лишь только замолк голос команды. Приказывать некому, слушаться некого: военачальники, сановники, царедворцы — все истреблены! Остается только спасать свою жизнь и бежать без оглядки… Белые колдуны в несколько мгновений одолели могущественного инку, живого бога, на глазах всей его армии. Кто же из простых людей посмеет воспротивиться им?
Гора запестрела беглецами. Испанцы, пьяные от крови, разят направо и налево. Фонтанами брызжут алые струи на их доспехи, на их руки, на их исступленные лица, а они все убивают и убивают, пока на землю не спускается ночь. С тех пор как желто-багровые лучи заходящего солнца в последний раз сверкнули на ярких одеждах Атагуальповой свиты, прошло не больше часа, а между тем не только двор испанской казармы, но и все загородное поле усеяно трупами. Не одна тысяча людей полегла в этот страшный для Перу час.
Когда онемели руки, заныли покрытые стальной броней ноги, стали спотыкаться лошади и в темноте сумерек глаз перестал отличать своего от чужого, испанцы начали брать пленников. Они подходили к первым встречным, тыкали им в грудь пальцем, и перуанцы умоляюще складывали на груди руки и покорно брели туда, куда им показывали. На спины пленных нагрузили всю серебряную и золотую утварь, найденную в лагере Атагуальпы, драгоценности его жен, тончайшие шелковистые ткани его придворных и ближайших родственников, и всю эту толпу, немую и послушную, погнали в стан Пизарро. По дороге к забранным присоединяются добровольцы — жены инки, его домочадцы и слуги. Таков обычай страны: жены и любимые слуги инки должны следовать за ним не только в плен, но и в царство мертвых. Пленных набралось столько, что на каждого солдата пришлось до двадцати рабов.
Пленным было много работы. По указанию солдат, они снимали с убитых драгоценные украшения, сносили их в общую кучу, вытаскивали трупы за ограду, рыли могилы, затирали во дворе кровь. Все это нужно было сделать как можно скорее, ибо назначенное в честь Атагуальпы пиршество нельзя отменить. Пизарро строго соблюдает обычаи и ни за, что на свете не нарушит законов испанского гостеприимства.
Наступила ночь. В покое Пизарро зажглись смоляные факелы и осветили длинные столы с испанскими винами, жареным мясом и награбленными в королевском лагере-кубками и чашами. Пизарро подошел к Атагуальпе, поклонился и произнес слова, которыми в течение столетий, встречали в испанских домах почетных гостей:
— Весь мой дом в твоем распоряжении.
Потом взял пленника за руку и посадил его рядом с собой посредине стола, неподалеку от входа. В отверстие двери видна была часть двора. Красноватые отблески факелов падали на трупы, которых еще не успели убрать, и в их дрожащем свете мертвецы, казалось, оживали, закостенелые руки двигались, скрюченные пальцы распрямлялись. Атагуальпа повернулся к Филиппильо и отрывисто проговорил:
— Скажи вождю, чтобы он приказал задернуть дверь занавесью. Я не хочу, чтобы души убитых воинов видели унижение инки.
Дверь закрыли, и пир начался. Пизарро был доволен всем: победой, добычей, Атагуальпой, своими солдатами, небесной помощью. Чтобы благочестиво закончить столь знаменательный день, он прочел своему пленнику целую лекцию об истинной вере и о благородстве белых.
— Тебя постигло несчастье потому, что ты надругался над священной книгой, — объяснял он Атагуальпе с помощью все того же незаменимого Филиппильо. — Наш бог покарал тебя и предал нам. Но не бойся, испанец благороден и не мстит врагам. Побежденных врагов мы щадим и ведем войну только с теми, кто сам нам ее объявляет. Даже если мы можем погубить их, мы этого не делаем, и прощаем им.
Пизарро ласково улыбается, подливает гостю вино, подкладывает лакомые куски. Он нежен с Атагуальпой, как с родным братом. Ведь инка — это конь, на котором победитель объедет всю перуанскую империю и с помощью которого без сражений и кровопролитий покорит ее жителей. Но коня нужно приручить. За конем нужно следить, чтобы он не скинул всадника. Коня нужно держать в почете, чтобы его подданные по-прежнему повиновались ему. И коня нужно беречь, как зеницу ока.
Атагуальпа слушал ласковые речи и старался понять их смысл. Почему белые пощадили его? Что им, от него нужно? Если они такие великие колдуны, они могли бы убить его вместе с прочими воинами и сразу захватить все города его отцов. А если они в самом деле такие добрые, как они о себе говорят, почему они перебили тысячи безоружных людей, которые шли к ним в гости?
В ответ на вопросы чужеземного вождя Атагуальпа время от времени важно кивал головой. Иногда с вежливой улыбкой произносил несколько слов, которые Филиппильо переводил так:
— Я не обижаюсь на вас. На войне все зависит от счастья. Счастье мне изменило, оттого вы и перехитрили меня.
Поздно ночью пир кончился. Пизарро пожелал инке спокойной ночи и приказал под надежной охраной отвести его в лучшую комнату здания.
На следующее утро начались деловые будни. Солдаты считали добычу, пригоняли все новые и новые полчища пленных, спорили, что сделать с ними — убить, или отрезать им правые руки, или отпустить по домам. Пизарро приказал пощадить пленных, чтобы не слишком восстанавливать население против победителей. С инкой он велел обращаться как можно вежливее и воздавать ему почести, приличные главе государства. Пусть перуанцы знают, что инка, хотя и пленный, все еще их повелитель!
 Развилины дома, в котором жил плененный Атагуальпа.
Развилины дома, в котором жил плененный Атагуальпа.
В свободные часы он приходил к узнику и услаждал его беседами: говорил об истинной вере, о том, как силен христианский бог, и как силен испанский король, и как сильны испанские воины. Атагуальпе это надоедало. Ему больше
нравилось, когда его посещали ближайшие помощники Пизарро и учили игре в кости, которую он скоро постиг не хуже своих учителей. Через три-четыре дня к нему допустили любимых жен, слуг и уцелевших сановников и разрешили гулять по двору. Прежде чем переступить порог его комнаты, знатные посетители клали на спину какую-нибудь тяжесть в знак покорности. Низко согнувшись, входили они в покои инки, заливались слезами, целовали край его плаща и всем видом своим изъявляли рабскую преданность. Униженный, лишенный свободы, Атагуальпа все еще был для них сыном Солнца, божественным властелином.
Пизарро вскоре понял, что победа еще не обеспечена. Армии инки далеко еще не растаяли: на юге, как донесли разведчики, находился полководец Кискис с большим отрядом из испытанных воинов Квито, а несколько ближе, в окрестностях города Хауха, стоял любимый военачальник Атагуальпы, Чалькучима, с тридцатитысячным войском. Эти вооруженные силы сохраняли еще полную боеспособность и в любую минуту могли двинуться против завоевателей. Во что бы то ни стало нужно было сделать так, чтобы обе армии оставались в бездействии. А сделать это можно было только через посредство Атагуальпы.
Пизарро стал с пленником еще ласковее, еще предупредительнее. По его приказу, специальные гонцы ежедневно приносили из расположенных ниже долин виноград и другие фрукты, не произрастающие в Кахамальке. Каждое утро он сам приходил осведомляться, как почивал инка и не нужно ли ему чего-нибудь. Жен и сановников пропускали беспрепятственно. Падре Вальверде вел с Атагуальпой двухчасовые душеспасительные беседы и говорил до тех пор, пока инка не засыпал. По вечерам Эрнандо Пизарро и Педро де-Кандиа рассказывали, как силен испанский король и как сильно и благородно его воинство.
Но все эти любезности и разговоры не очень действовали на узника. Падре Вальверде был недоволен и писал в своем донесении в Рим: «Атагуальпа хитер и одержим бесом гордости. Он совсем не думает о спасении души и по наущению дьявола иногда задает мне такие вопросы, на которые я затрудняюсь ответить. Полагаю, что когда минует надобность в нем, сего закоренелого язычника придется сжечь на костре в назидание его подданным».
Если бы падре присутствовал при разговорах Атагуальпы с его родственниками и понимал их, он пришел бы в еще больший гнев.
— Я хорошо понял теперь белых людей, — говорил узник своей свите. — Это совсем не сыны Солнца, а просто колдуны, которых подземные боги научили разным хитрым проделкам. Они ездят по свету, чтобы достать побольше золота. Они творят свои утренние и вечерние заклинания, чтобы отнять разум и силу у своих врагов. Золотом у них можно купить все, Золотом же я куплю у них и свободу.
Как-то раз один из сановников, приехавших издалека, сообщил Атагуальпе неприятную новость: Гуаскар узнал о плене инки и собирается с помощью белых захватить трон. Если повелитель останется в заключении еще несколько месяцев, стрясется беда: пурпурная борла перейдет к его недостойному брату. И Атагуальпа решил: чужеземцам надо отдать все, чтобы только вырваться на волю, потом с помощью уцелевших армий, может быть, удастся раздавить белых и отнять у них награбленное. Но сейчас нельзя терять ни одного дня, ни одной минуты.
На следующий день утром он велел позвать к себе в спальню Пизарро и нескольких его приближенных и сказал:
— Если вы отпустите меня на свободу, я дам вам столько золота, что им можно будет покрыть весь пол этой комнаты.
Комната имела около четырех метров в ширину и около шести в длину. Испанцы недоверчиво переглянулись: им казалось невозможным, чтобы у одного человека было столько богатств. «Белые дьяволы хотят больше, — подумал Атагуальпа. — Ну что ж, дам им еще». Он встал, вытянул руку и провел по стене черту на девять футов (два и одна треть метра) от пола.
— Вот сколько дам! — повторил он.
Испанские военачальники чуть не рассмеялись ему в лицо, но Пизарро, много слышавший о богатствах столицы, поверил пленнику. На указанном Атагуальпой месте он начертил красную линию, позвал нотариуса и приказал писать акт. В акте было упомянуто, что указанное пространство должно быть заполнено не слитками, а золотыми вещами. Это значительно уменьшало вес добычи. Кроме того, Атагуальпа обещал наполнить серебром соседнюю, несколько меньшую комнату. Это тоже было занесено в акт.
В тот же день Атагуальпа разослал во все концы государства гонцов с приказом доставить в Кахамальку рее золото и серебро, какое имеется в храмах, дворцах и прочих общественных зданиях.
Приказ грозного владыки был исполнен. В Кахамальку стали приходить десятки носильщиков с драгоценным грузом на спинах. Начальники областей отбирали все, что можно, но жрецы храмов тайком вывозили сокровища и прятали их в укромных хранилищах.
Проходили недели за неделями, а до красной черты все еще оставалось далеко. Пизарро терял терпение. Беспокоился и Атагуальпа, опасавшийся козней брата.
Тревога Атагуальпы особенно усилилась, когда приближенные донесли, что. Гуаскар предложил испанцам вдвое больший выкуп с условием, чтобы они возвели его на престол. Оставшись наедине с одним из наиболее преданных ему сановников, Атагуальпа нахмурил брови и, нагнувшись к уху сановника, прошептал:
— Во сколько лун ты сумеешь добраться до крепости, где живет Гуаскар?
— Через полторы луны, повелитель.
— Так вот, через полторы луны ты будешь там, а еще через полторы луны ты вернешься сюда и доложишь мне, что отец Солнце призвал моего брата в свои небесные чертоги.
И опять носильщики носили золото, и опять ворчали испанские военачальники на медлительность властей, и опять зловеще сдвигались седые брови Пизарро. Медленно, дюйм за дюймом, подымалась золотая настилка спальни. Наконец прошло три луны — восемьдесят четыре дня, — и к Атагуальпе пришел гонец с известием, что Гуаскар удалился к праотцам. Атагуальпа со скорбным видом передал это известие Пизарро. Пизарро пристально посмотрел в бесстрастные глаза инки и, хотя и догадался, в чем дело, ничего не сказал: никаких прямых улик против Атагуальпы не было, да и вообще к инке невыгодно было приставать с расспросами, пока золото не дойдет до красной черты.
Пленник терял терпение. Золото прибывало медленно, скупо — оно падало мелкими каплями, словно полуиссохший горный ручеек в жаркую летнюю пору. Если так будет продолжаться и впредь, долго не наполнит оно вместилище. Для ускорения дела инка предложил испанцам отправить своих представителей в Куско и Пачакамак, где от щедрот благочестивых паломников накопились в течение столетий огромные богатства.
XXVII
В Пачакамак Пизарро послал своего брата Эрнандо с небольшим отрядом, в Куско — трех других доверенных лиц. Инка снабдил их пропусками и через особых посланцев приказал начальникам провинций исполнять все приказания чужеземцев. А пока в Кахамальке Пизарро и его спутники ежедневно следили, как дюйм за дюймом подымается в бывшей спальне инки золотой слой, посланцы конквистадоров расставляли сети и вытаскивали улов.
Труднее всего пришлось Эрнандо Пизарро. Дорога в Пачакамак пролегала через высокие горные хребты, изобиловала пропастями, пересекалась глубокими ущельями, через которые были переброшены плетеные ивовые мосты. Несмотря на помощь туземцев, лишь с большим трудом удалось отряду благополучно добраться до цели путешествия — города Пачакамака с его двумя святынями: храмом Солнца и храмом создателя вселенной Виракоча.
Храм Виракоча славился по всей империи. Никто не мог сказать, когда он был выстроен. Задолго до прибытия инков в страну аймаров, задолго до того, как Солнце послало на землю двух своих детей просвещать людской род, эта каменная громада высилась тут, наводя благоговейный трепет на верующих. В главном святилище храма стояла неуклюжая деревянная статуя с уродливым лицом и растопыренными руками — статуя бога Виракоча, в незапамятные времена создавшего и небо, и землю, и воду, и зверей, и людей, и богов. Тысячами приходили сюда паломники и не щадили даров за те темные пророчества, которые вещал им устами жрецов скрытый в святилище идол. Никакой квипус не смог бы перечислить золотых и серебряных вещей, принесенных сюда богомольцами. При одной мысли о них у завоевателей кружилась голова, рябило в глазах и дрожали руки.
И вот наконец Эрнандо Пизарро поднимается на ступеньки древнего храма. Оттолкнув жрецов и переступив запретный порог, он стал переходить из зала в зал, с площадки на площадку. Все пусто. На оголенных стенах нет ни ковров, ни золотых украшений, ни драгоценностей с матовыми жемчужинами и темно-зеленый изумрудами. Только зеленовато-серые ящерицы, никем не тревожимые, ползают по камням покинутого святилища. Но, может быть, все сокровища собраны там, где стоит статуя индейского дьявола? Эрнандо Пизарро торопится, задевает мечом за узкие двери, нетерпеливо отшвыривает в сторону двух прислужников, которые, умоляюще сложив руки, загораживают ему дорогу. Он у самой цели. Прямо перед ним зияет черный вход в тот заветный покой, где в течение несчетных столетий жрецы открывали людям волю бога.
Но не успел он шагнуть туда, как случилось чудо, столь частое в этих гористых местностях. Послышался подземный гул, задрожала земля, закачались стены, закружилась голова у Пизарро и его спутников. Землетрясение! В ужасе пали ниц жрецы, следовавшие за завоевателями, ожидая, что вот-вот обрушатся на землю огненные небесные стрелы и поразят насмерть дерзких пришельцев, а кстати и их, недостойных служителей великого Виракоча. Но ни одна стрела не упала с неба. Гул замолк, землетрясение прекратилось, и через секунду нога дерзкого чужеземца уже шагала по священным плитам, которых до сих пор никогда еще не попирал простой смертный.
 Город Куско. Гравюра XVII века.
Город Куско. Гравюра XVII века.
Темно и пусто. Только у алтаря валяются остатки жертвоприношений — обгорелые кости птиц и животных — да по полу разбросано несколько изумрудов и золотых безделушек, которых жрецы не успели захватить. Ничего, ничего! Индейский дьявол надул чужеземцев!
Разгневанный Эрнандо Пизарро приказал разбить идола на куски и на его месте водрузить каменный крест. Через два дня главное святилище было разрушено, жрецы разогнаны и из прочих помещений храма собраны все дорогие вещи, которые еще не успели спрятать набожные перуанцы. Этой добычи оказалось так мало, что из-за нее не стоило бы и начинать столь трудное путешествие.
Но судьба послала Эрнандо Пизарро такой успех, который был дороже сокровищ храма и устранил последние трудности, мешавшие победному шествию завоевателей.
На сравнительно небольшом расстоянии от Пачакамака находился город Хауха, где стоял со своей армией храбрый военачальник Чалькучима, герой недавних победоносных кампаний. Подражая своему брату, Эрнандо Пизарро решил повторить и здесь тот прием, который в Кахамальке увенчался таким успехом. Во главе своих тридцати кавалеристов он отправился в Хауху и потребовал свидания с полководцем. До старого перуанского воина уже давно дошло известие о плене инки, и от его былой решительности не осталось и следа. Он ничего не знал о планах своего повелителя. Чужеземцы получили от инки пропуск. Уничтожить этих людей ничего не стоит, но не сочтет ли инка вооруженный отпор преступным неповиновением? Чалькучима растерялся, и, когда Эрнандо Пизарро в изысканно вежливой речи сообщил, что Атагуальпа требует Чалькучиму к себе, тот повиновался. Он сел в свой походный паланкин, несомый верными слугами, и вместе с Эрнандо Пизарро прибыл в Кахамальку. У входа в жилище инки он снял обувь, положил на шею легкую ношу, низко склонился и пошел лобызать край одежды пленного властителя.
Вместо одного заложника у испанцев оказалось теперь два. Вместе с Чалькучимой выбыла из строя вся его тридцатитысячная армия. Лишенная вождя, не имеющая никаких инструкций, боящаяся действовать, она быстро стала превращаться в такое же беспорядочное скопище, каким оказались полки Атагуальпы, когда они потеряли своего повелителя. Эта бескровная победа была для испанцев дороже сотен тысяч золотых кастельяно.
Столь же удачливыми оказались и три других эмиссара. Без всяких трудов и хлопот, приятно покачиваясь на удобных носилках, прибыли они в Куско. Столица показалась им сказочным городом, похожим на те миражи, что грезятся в безводных пустынях истомленному путнику. Множество богато убранных храмов высилось на площадях и улицах. Около храмов нередко тянулись длинные каменные стены женских общежитий, за которыми прогуливались в белых плащах «девы Солнца». В садах ярко пестрели и благоухали цветы, журчали искусственные ручейки, каменные водоемы отражали склонившихся над ними невиданных птиц, у расчищенных дорожек качались на тонких серебряных стеблях золотые колосья маиса, на изваянных из камня кустах сидели золотые птицы с изумрудными глазами.
В квартале, отведенном для инки и его ближайших родственников, высились наряду с дворцами живых обиталища мертвых. Иногда это были пристроенные к храму залы, где на золотых табуретках в расшитых драгоценными камнями одеждах сидели мумии предков Атагуальпы. Иногда это были обширные дворцы с садами и водоемами, где жили когда-то давно умершие властители Перу. Все осталось в том виде, в каком существовало при жизни знатных владельцев. Аккуратно расчищались дорожки садов, подметались комнаты, обмахивалась пыль с золотой и серебряной утвари и драгоценных безделушек, наполнявших пустые покои. Кроме служителей, никто не смел посещать эти дворцы. Они принадлежали не живым, а мертвым, ибо перуанцы верили, что в полночные часы души умерших государей приходят в покинутые чертоги, любовно поглаживают рукой вышитые ткани, считают драгоценности и пьют искрящуюся чичу из чеканных чаш и кубков.
— А запасливый народ эти инки! — восхищались испанцы. — Они как будто знали, что мы придем сюда, и заранее приготовили для нас все свои сокровища. Право, не будь они язычниками, по каждому из них можно было бы отслужить дюжину заупокойных обеден.
Испанцы торопили перуанских начальников, перуанские начальники торопили своих подчиненных, и скоро в Кахамальку двинулись целые караваны носильщиков, несших сокровища разграбленных храмов и дворцов. Четыреста носильщиков потребовалось для золота и сто для серебра. Многих дворцов и храмов посланцы Пизарро еще не успели посетить. «Трудно и вообразить, сколько потребуется людей для переноски оставленных в Куско богатств!» с восторгом рассказывали испанцы, вернувшись в Кахамальку.
Золотой запас в спальне Атагуальпы заметно рос, но все еще не доходил до красной черты. Атагуальпа по-прежнему оставался пленником. Он раздавал приближенным строгие приказы, грозил начальникам областей смертной казнью за медлительность, но ничто не помогало. После ограбления Куско караваны носильщиков опять поредели, и трудно было сказать, когда же наконец будет внесен обещанный чужеземцам выкуп. Между тем сила завоевателей росла. Почти одновременно с возвращением эмиссаров в Кахамальку прибыл Альмагро с отрядом в двести человек. Свежие подкрепления давали возможность Пизарро приступить к дальнейшим военным операциям и довершить покорение страны. Империю инков все крепче и крепче зажимали, как в тисках, руки неумолимых конквистадоров.
XXVIII
За все эти долгие месяцы Альмагро не сидел сложа руки. С большим трудом удалось ему набрать в Панаме полтораста человек и снарядить три корабля. Перед отплытием к его отряду прибавилось еще пятьдесят добровольцев, так что силы его исчислялись в сто пятьдесят пехотинцев и пятьдесят всадников. Только в Тумбесе он узнал о походе. Пизарро и об основании колонии Сан-Мигель. В Сан-Мигеле ему сообщили наконец подробности о головокружительных победах его компаньона и плене Атагуальпы. В Кахамальку он добрался в середине февраля 1533 года.
Пизарро долго ждал этой помощи, но пришла она не совсем вовремя. По мнению Пизарро, друг Альмагро сделал бы гораздо лучше, если бы промедлил в Сан-Мигеле еще недели три и прибыл в Кахамальку после дележа добычи. По договору, Альмагро имеет право на одну треть ее, но справедливо ли исполнять договор буквально, раз все было сделано Пизарро и Альмагро пришел на готовенькое?
Пизарро опять пустил в ход всю свою хитрость и изворотливость. Он вел с Альмагро долгие дружеские беседы, угощал его вином, сулил горы золота и огромные территории.
— Сокровищ этой страны мы еще почти не коснулись, — уверял он. — То, что мы получили, — пустяки в сравнении с тем, что лежит в тайниках, храмах и дворцах неизвестных нам городов. Ты получишь столько же, сколько и я, ты получишь, может быть, еще больше, но нужно немного подождать. Если добычу разделить поровну между моими и твоими солдатами, мои солдаты устроят бунт, и наша затея рухнет. Не гонись же за грошами, чтобы потом не упустить из рук тысячи.
Простоватый Альмагро, уже столько раз обманутый, поддался и на этот раз доводам друга. Он признал права завоевателя, не настаивал на буквальном исполнении договора и уговорил свой отряд удовлетвориться небольшой отступной суммой, которую предложили новоприбывшим счастливые победители.
С дележом надо было торопиться: прибывшие с Альмагро добровольцы могли поддаться искушению и потребовать большей доли добычи. И потому, хотя до красной черты не хватало еще нескольких дюймов, Пизарро и его солдаты решили не ждать. По приказу Пизарро, подтвержденному Атагуальпой, из Куско и других больших городов были присланы ювелиры, чтобы перелить изделия в слитки. Многие вещи были сделаны так хорошо, что даже грубые испанские вояки не решились отправить их на слом. Их отделили и решили послать королю в счет причитающейся ему пятой части. Все остальное было отлито в слитки и поделено между участниками.
Добыча по тому времени была громадна. В тогдашней Европе о таких суммах не слыхивали. Общая стоимость золота была определена в 1 326 539 золотых песо (в пересчете на современные деньги около 30 миллионов рублей), стоимость серебра — 51 610 марок (около 2 миллионов рублей). Франсиско Пизарро получил 57 тысяч песо, трон из литого золота стоимостью в 25 тысяч песо; Эрнандо Пизарро — 31 тысячу песо и 2300 марок серебра; де-Сото — 17 тысяч песо и 725 марок серебра. Солдаты получили, в зависимости от чина и рода оружия, от 8 до 3 тысяч песо золотом. Отряду Альмагро выдали 20 тысяч песо, а колонистам Сан-Мигеля, среди которых было немало солдат-инвалидов, потерявших здоровье во время походов, — всего 15 тысяч песо.
После дележа некоторые солдаты изъявили желание вернуться со своим достоянием на родину, но огромное большинство пожелало остаться с Пизарро и итти в Куско, сокровища которого, по рассказам побывавших там, не были даже наполовину исчерпаны. Эрнандо Пизарро тоже должен был ехать на родину: Франсиско Пизарро решил послать его ко двору, чтобы он лично поднес королю пятую долю и выхлопотал новые привилегии и полномочия.
Близился уже август, когда был закончен дележ золота и отправлено посольство на родину. Альмагро и его соратники, пять месяцев без дела проторчавшие в Кахамальке, нетерпеливо требовали похода на Куско, но Пизарро медлил и откладывал экспедицию со дня на день. Он боялся начинать кампанию со столь небольшими силами, ибо даже после прибытия Альмагро испанский отряд не превышал четырехсот человек. С другой стороны, нужно было решить судьбу Атагуальпы, который настойчиво требовал освобождения и обещал в самом скором времени доставить недоданную сумму.
Посулы эти не очень действовали на хитрого вождя. Он понимал, что испанцы без помощи Атагуальпы с лихвой вознаградят себя за недобор, как только доберутся до Куско, но пленника нужно было на время успокоить и усыпить его подозрения. Поэтому Пизарро издал торжественную прокламацию, прочитанную перед всем лагерем. В прокламации объявлялось, что Атагуальпа освобождается от всех дальнейших обязательств, но, добавлялось в конце, «по соображениям военной безопасности Атагуальпа будет временно задержан в испанском лагере».
Сколько времени продержат Атагуальпу у испанцев, никто толком не знал — ни инка, ни сам Пизарро. Отпустить пленного властителя завоеватели боялись, но они боялись и казнить его. Загадочная империя страшила их своими крепостями, своим порядком, своими армиями, которые, правда, наполовину рассеялись, но все еще представляли собою грозную силу. По лагерю носились тревожные слухи. Рассказывали, что армия Чалькучимы совершает в горах какие-то подозрительные передвижения. Рассказывали, что в отдаленных частях страны вспыхнули восстания и главари их призывают к войне против белых. Рассказывали, что некоторые принцы из правящей династии примеривают на себе борлу и тоже собираются выступить против завоевателей. В этой обстановке сплетен, слухов, догадок и предположений продувной Филиппильо чувствовал себя, как рыба в воде. Каждый день нашептывал он необыкновенные истории то Пизарро, то падре Вальверде, то Альмагро, то де-Сото. Ему хотелось, чтобы Атагуальпу поскорее отвели на костер, ибо он ухаживал за одной из жен инки и желал убрать с дороги царственного соперника. Неудивительно, что под влиянием этих рассказов солдаты теряли голову и чувствовали себя окруженными невидимыми врагами. К выдумкам Филиппильо и индейцев-лазутчиков они добавляли еще свои собственные, и страх в испанском лагере рос с каждым часом.
Альмагро гневно топал ногой и требовал от Пизарро, чтобы тот поскорее отправил в ад гнусного язычника. Большинство солдат разделяло его мнение. Им казалось, что казнь Атагуальпы запугает перуанцев и отобьет у народа всякую мысль о сопротивлении. С другой стороны, им хотелось попасть в Куско и обшарить его храмы, пока еще жрецы не успели рассовать по тайникам их богатства. В глубине души и Пизарро думая так же, но боялся брать на себя ответственность за убийство коронованного пленника; завистников ведь у него много, и кто знает, как изобразят они этот необходимый шаг при королевском дворе? Казнь может навлечь на Пизарро неприятности. И уж если казнить Атагуальпу, то нужно сделать так, чтобы ответственность за это пала не на вождя, а на всю солдатскую массу. Тогда Пизарро скажет, что он противился этой жестокой мере, сдерживал солдат, насколько мог, но волей-неволей вынужден был уступить их настояниям. И при дворе тогда будут говорить: «Пизарро мудр, Пизарро благороден, и кровь перуанского владыки не должна пасть на его голову».
Много дней продолжалась эта игра в «кошку и мышку». Пизарро приходил к своему пленнику, рассказывал ему о заговорах и восстаниях, выслушивал объяснения и делал вид, что им верит. Потом шел к солдатам и уверял их, что Атагуальпа непричастен к козням, которые замышляют против испанцев перуанские вожди и жрецы, а в конце разговора, как бы случайно, добавлял:
— Все бы хорошо, но уж слишком часто шепчется Атагуальпа со своими приближенными. Филиппильо говорит, что инка раздает какие-то приказы. Недавно мне донесли, что он приказал войскам Чалькучимы держаться наготове, но, по-моему, это сплетни. Атагуальпа — благородный человек и свято держит данное слово.
Солдаты хмурились, и после каждого посещения Пизарро тревога их усиливалась еще больше.
— Наш капитан стал доверчивым, как старая баба, — ворчали они. — Атагуальпа совсем околдовал его. Чем скорее расправиться с этим проклятым язычником, тем лучше.
Озлобление солдат росло. Но некоторые, и среди них де-Сото, выступали в защиту инки и требовали его пощады. Это были лучшие люди испанского лагеря, и с их мнением Пизарро приходилось считаться. В присутствии де-Сото предпринять решительный шаг было опасно.
Де-Сото сам помог Пизарро выйти из затруднения. Атагуальпу обвинили в том, что в местечке Гаумачуча он через своих доверенных людей организует заговор против испанцев. Де-Сото предложил послать туда небольшой отряд, чтобы выяснить положение. Пизарро с радостью согласился на этот план и назначил де-Сото начальником экспедиции. Как только экспедиция уехала, слухи и сплетни, никем не опровергаемые, еще более усилились. К солдатам присоединились приехавшие с Альмагро чиновники, чиновников поддерживали духовные лица, и Пизарро как будто скрепя сердце подчинился общему требованию.
Атагуальпе предъявили следующие обвинения: во-первых, утверждал обвинительный акт, Атагуальпа незаконно захватил власть и приказал убить настоящего наследника престола Гуаскара; во-вторых, уже после появления в стране испанцев он проматывал государственное имущество и раздавал подарки своим любимцам; в-третьих, он не отказался от языческих суеверий; в-четвертых, он удержал при себе многочисленных жен и, следовательно, грешил против седьмой заповеди; в-пятых, он подстрекал к восстанию против испанцев. Из всех этих обвинений только первое имело основание, но оно было совершенно неважно для завоевателей, которым было очень мало дела до перуанского престолонаследия. В обвинительный акт его включили только для того, чтобы привлечь к испанцам сородичей и сторонников убитого Гуаскара. Второй пункт был просто нелеп, ибо после пленения инки все его сокровища были захвачены завоевателями и дарить ему было нечего. Третий и четвертый пункты даже по испанским законам подлежали не светскому суду, а духовному. Зато пятый пункт имел большое значение, хотя ничем не был доказан.
Суд производился по всем правилам. Были назначены трое судей под председательством Пизарро, государственный обвинитель и защитник. Допрашивали перуанцев-свидетелей, показания которых переводил Филиппильо; допрашивали Атагуальпу и его приближенных. Филиппильо, заинтересованный в обвинительном приговоре, при переводе искажал слова свидетелей и старался всячески очернить инку. О первых четырех пунктах обвинения судьи даже и не спорили. В доказательствах виновности Атагуальпы они не разбирались. Спорили они только об одном: выгодно или невыгодно предать Атагуальпу казни. Пизарро подал голос за казнь, и суд постановил публично сжечь обвиняемого, а приговор привести в исполнение в тот же день.
Но приговор был недействителен без утверждения падре Вальверде, которому король дал титул «защитника туземцев». Каждый важный государственный акт падре Вальверде должен был скреплять своей подписью. И падре Вальверде сказал: «Инка заслуживает казни». Ибо падре Вальверде тоже хотелось поскорее итти в Куско, дабы отнять у индейских демонов их власть над душами и их неправедные сокровища.
На площади сложили высокий костер, сообщили инке о приговоре и велели готовиться к смерти. Атагуальпа был поражен. Он клялся в своей невиновности, упрекал Пизарро, обещал удвоить выкуп, если ему оставят жизнь, но ни просьбы, ни обещания не действовали. Молчал Пизарро, молчали солдаты, и ни одного слова не сорвалось с бескровных губ «защитника туземцев». Атагуальпа смирился, как смирялись все люди его народа перед лицом смерти, и спокойно пошел к костру. У костра его догнал падре Вальверде. Начальнику доминиканцев хотелось написать в своем донесении в Рим, что в самую последнюю минуту он все-таки обратил на путь истинный нераскаянного грешника.
— Прими христианскую веру, — убеждал он инку, — и сожжение тебе заменят удушением.
Атагуальпа молча кивнул головой. Не все ли ему равно, какие, обряды совершат над ним эти люди, одетые в черные рясы? Но раз суждена смерть — пусть наступает она скорее!
Принесли купель. Священник совершил обряд крещения, нарек осужденного Хуаном в честь Иоанна Крестителя, праздник которого справлялся в этот день, одел инку в белую рубашку.
— Скажи свою последнюю волю, брат Хуан, — милостиво произнес падре Вальверде.
Хуан де-Атагуальпа — таково было теперь новое имя инки — попросил Пизарро пощадить его детей и сородичей.
— А кроме того, — добавил неисправимый язычник, — прошу отвезти мои останки в Куско, в тот храм, где покоятся мои предки.
 Казнь Атагуальпы. Гравюра 1789 года.
Казнь Атагуальпы. Гравюра 1789 года.
Рядом с костром поставили кресло и на него посадили Атагуальпу. Брата Хуана задушили, но исполнить последнюю просьбу было нельзя: храма, где покоились его предки, больше не существовало. Труп Атагуальпы погребли на кладбище только, что воздвигнутой церкви св. Франсиско. Заупокойную обедню служил падре Вальверде. На ней присутствовали Пизарро и его главные военачальники, облаченные в глубокий траур. После окончания службы в толпе вдруг раздался крик: на землю упали, обливаясь кровью, две жены покойного властелина. Согласно обычаю, они воткнули себе в сердце нож, чтобы услаждать досуги казненного супруга в царстве мертвых.
Через день-два в Кахамальку вернулся де-Сото. Он произвел на месте строгое расследование и убедился во вздорности возведенных на Атагуальпу обвинений. Никакого заговора не было — все разговоры о кознях инки были выдумкой с начала до конца. Де-Сото ехал веселый, уверенный в том, что ему удастся теперь оправдать инку от несправедливых обвинений. Первый, кого он встретил в лагере, был Пизарро, расстроенный, убитый, с траурной повязкой на шляпе. Грустным голосом, который, казалось, шел из самой глубины сердца, вождь сообщил де-Сото печальную новость.
— Два дня назад инку задушили, — сказал он. — Зачем ты уехал, зачем ты лишил Атагуальпу его единственного надежного защитника?
Де-Сото был ошеломлен. Он обрушился на Пизарро с упреками, подробно рассказал о результатах следствия, проклинал ненужную поспешность.
— Меня заставили, меня ввели в заблуждение, — грустно оправдывался Пизарро.
И всякий, кто посмотрел бы на него в эту минуту, пожалел бы этого доброго человека, которого жестокие, распущенные солдаты вынудили совершить злодейство.
Казнь Атагуальпы была приговором над завоеванной империей. Старая законная власть, державшаяся в стране в течение столетий, перестала существовать. Единственными владыками десятимиллионного народа были теперь испанцы, которым принадлежало все государство с его золотом, территорией, людьми. Дележ сокровищ кончился, кончился и дележ власти. Победителям досталась империя, побежденным — рабство, голод и нищета.
XXIX
Казнь Атагуальпы потрясла весь уклад древней империи. Все то, что казалось перуанцам незыблемым и священным, развеялось, как дым. Не было трона, на котором из поколения в поколение восседали «сыны Солнца». Некому было охранять старые обычаи и законы. Начальники провинций никому больше не подчинялись. Седовласые амауты не читали квипусов и никому не рассылали инструкций. Каждая провинция, жила сама по себе, каждая деревня, не заботясь о соседях, старалась урвать лучшие земли. А старая военная каста, властвовавшая над народом и управлявшая его жизнью, разбилась на враждебные партии и воевавшие друг с другом шайки.
Каждый старался использовать в своих собственных целях воцарившийся в стране беспорядок. Золото и серебро раньше лежали без движения в храмах, на складах инки и во дворцах его сородичей. Перуанцы не думали о драгоценных металлах, которые шли только на безделушки, и предоставляли их правящему сословию. Теперь все это изменилось. Видя, как ценят чужеземцы золото и серебро, туземцы и сами старались набрать их как можно больше, грабили опустевшие дворцы, зарывали в землю брошенные сокровища. Жрецы поспешно увозили в горы накопленные в храмах богатства. Отдельные роды, никому более не подчинявшиеся, вспоминали старые счеты и вступали друг с другом в кровавые схватки. С каждой неделей, с каждым месяцем беспорядок увеличивался, и можно было опасаться, что все сокровища Перу исчезнут раньше, чем успеют дотянуться до них руки завоевателей.
Чтобы предотвратить разложение, нужно было как можно скорее установить порядок и учредить законное правительство. Престола добивались два соперника: родной брат казненного Атагуальпы, Тупарка, и родной брат убитого Гуаскара, восемнадцатилетний Манко. Пизарро выбрал первого. Он нацепил ему на лоб пурпурную борлу инков и объявил перуанской знати, что отныне Тупарка их законный господин. Вскоре после провозглашения нового правителя Пизарро вместе с Тупаркой и сопровождавшим его Чалькучимой двинулся в Куско.
Поход этот шел не так гладко, как ожидали завоеватели. Многие деревни были покинуты жителями. В горах, по пути следования отряда, то и дело появлялись группы вооруженных. Перуанские воины не вступали в схватки с белыми, но следили за каждым их шагом и как будто выжидали удобного момента для нападения. Пизарро встревожился и послал вперед на разведки де-Сото, а сам с большей частью отряда остался в Хаухе. Это был как раз тот район, в котором еще недавно стоял со своим войском Чалькучима. По-видимому, перуанская армия разбилась за это время на отдельные отряды, и каждый из них действовал по собственному усмотрению и то отступал в горы, то предпринимал партизанские набеги на отстающие колонны испанцев.
Де-Сото доносил, что с каждым переходом число вооруженных перуанцев растет и поведение их становится все более и более враждебным. Вскоре дело дошло до серьезной битвы, которая могла бы привести к гибели де-Сото и его солдат, если бы не вспомогательный отряд, вовремя высланный Пизарро. В довершение неудач ставленник Пизарро, Тупарка, скоропостижно умер, и страна опять осталась без законного правителя. Испанские военачальники пришли в ярость и вымещали свой гнев на Чалькучиме, которого они обвиняли в отравлении инки. Обвинение это ничем не подтверждалось, и в отравление Тупарки никто из них не верил. Но Чалькучима был виновен в другом: он был самум способным полководцем перуанской армии, его любили — и знать и простой народ, и по его призыву рассеянные перуанские войска могли снова собраться и двинуться против чужеземцев. От Чалькучимы нужно было поскорее отделаться под тем или иным предлогом.
На одном из привалов над Чалькучимой устроили суд. Опять говорил государственный обвинитель, опять переводчик Филиппильо перевирал слова свидетелей, и опять совещались судьи, выгодно или невыгодно казнить обвиняемого. Решили, что выгодно, и постановили сжечь старого воина на костре. Казнь произошла в присутствии Пизарро, который к этому времени выступил из Хаухи и соединился с отрядом де-Сото.
Неподалеку от Куско испанцев встретила пышная процессия: впереди несли носилки, на которых возлежал статный восемнадцатилетний юноша, а за носилками следовал вооруженный отряд человек в пятьдесят. Это был Манко, брат погибшего Гуаскара. Он вышел навстречу испанцам, чтобы приветствовать их вождя и предъявить свои права на перуанский престол. Пизарро принял его с распростертыми объятиями. Судьба как будто сама посылала завоевателям нового перуанского монарха взамен скончавшегося Тупарки. Манко был молод, почти мальчик, его легко можно было водить на поводу, от его имени можно было управлять всей империей. Падре Вальверде наставит его в истинной вере, Пизарро будет диктовать ему свою волю, и скоро с помощью этой послушной коронованной куклы во всей стране будут снова водворены порядок и мир.
— Я люблю тебя, как сына, — через переводчика уверял Пизарро своего гостя. — Ведь испанский король послал в Перу войско только для того, чтобы сместить захватчика Атагуальпу и передать престол законному наследнику. Атагуальпа казнен, и пурпурная борла по праву принадлежит тебе.
 Инка приносит жертву Солнцу. Гравюра 1731 года.
Инка приносит жертву Солнцу. Гравюра 1731 года.
Манко улыбался, низко кланялся, благодарил. На другой же день он был провозглашен инкой и вместе с испанцами двинулся к Куско. Никто не заметил, как ночью от его отряда отделились четыре воина и, спрятав на груди какие-то комочки, исчезли в горах. Комочки эти были квипусы, и с помощью узелков на них было изображено распоряжение: все перуанские отряды, следующие за чужеземцами, должны прекратить набеги, итти к столице и дожидаться новых приказов. И утром в горах не видно было уже ни одного туземного воина. На испанцев никто не нападал. Путь был свободен. 15 ноября 1533 года Пизарро со всем своим отрядом вступил в Куско.
Несмотря на то, что рассказы очевидцев подготовили испанцев к ожидавшим их чудесам, солдаты были поражены. Особенно, изумляла их опрятность города и его правильное расположение. Четырьмя широкими длинными улицами столица делилась на четыре квартала, каждый из которых был отведен отдельным родам. Кварталы были разбиты на правильные четырехугольники, и все улицы и переулки вымощены гладкими мелкими камнями. Посреди города протекал источник, выложенный по берегам большими каменными плитами. Всюду виднелись большие и маленькие храмы, посвященные божественным слугам Солнца — богу грома и молнии, богу луны, богу ветра, богу любви, богу радуги. Больше всех был храм Солнца.
С изумлением смотрели завоеватели на это огромное здание, окруженное множеством пристроек, где жили жрецы и их помощники. Широкий золотой фриз еще и сейчас украшал его стены. Он так прочно был вделан в гранитные глыбы, что, несмотря на самые строгие приказы побывавших в. Куско испанцев, его так и не удалось извлечь из массивных плит. Здесь ежедневно приносили жертвы: инки, одержавшие победу над врагом, знатные аристократы, у которых родился наследник, больные, просящие исцеления, родственники умерших, вымаливающие для покойников тихую райскую обитель и избавление от адских мук, — все несли сюда птиц и животных для заклания на алтаре и богатые дары храму. Здесь совершались торжественные моления, отмечающие начало сельскохозяйственных работ, а раз в год, после недели строгого поста, сюда стекались верующие, чтобы вслух исповедать свои грехи и испросить у Солнца прощение.
— Сколь хитры козни дьявола! — повторял падре Вальверде. — Враг рода человеческого нарочно сделал эту религию похожей на христианство, чтобы легче уловлять неопытные души.
Неподалеку от храма Солнца был расположен пышный дворец инки. Крыша его, как и крыша храма, была из соломы, выкрашенной в ярко-красный цвет. Других крыш, кроме соломенных и деревянных, в Перу не существовало, но так как на горных плато дождей выпадало очень мало, то и эта кровля оказывалась достаточно удобной и прочной. Во внутренних дворах дворца были разбиты сады, пестревшие яркими, пряно пахнущими тропическими цветами. Еще и сейчас кое-где остались любимые украшения перуанской знати — изображения животных, сделанные из золота или редких камней.
В садах были устроены водоемы и проложены каналы с проточной водой.
На самом высоком месте города, на одной из его окраин, подымалась крепость — большая гранитная башня, сложенная из тяжелых обтесанных глыб. Каждую из них приносили сюда десятки людей. Подступы к башне были окружены тремя каменными стенами. В случае осады защитой могла служить не только крепость: стены зданий, расположенных в центральном квартале, где жила аристократия, были настолько прочны, что за ними можно было отсиживаться целые месяцы.
 Перуанская резьба по камню.
Перуанская резьба по камню.
Сколько тысяч жителей умещалось в этом городе? Двести тысяч в главной его части и столько же на окраинах. Может быть, эти подсчеты были преувеличены, но что по размерам с Куско не могли сравниться ни Севилья, ни Вальядолида, ни Барселона, в этом испанцы не сомневались.
Отдохнув от похода, завоеватели принялись за работу. Падре Вальверде, сопровождаемый монахами и крещеными туземцами, обходил храм за храмом, сокрушал идолов и водружал на месте жертвенников каменные кресты. Солдаты и их начальники шарили по необитаемым дворцам покойных инков, забирались в святилища храмов, отламывали драгоценности от одежд царственных мумий, а частенько, несмотря на строгие запреты Пизарро, не брезговали и домами знати. Постепенно очередь дошла до могил, а потом и до отдельных лиц, которые прятали или могли спрятать серебро и золото. Подозреваемых пытали и иногда разузнавали местоположение тайников, собирая с них богатую жатву. Немало добычи было найдено и в государственных складах столицы, предназначенных для обслуживания придворной аристократии. Кроме предметов питания, в складах находили тонкие вигоневые материи, плащи и накидки из перьев, дорогие безделушки и женские туники из золотых бус.
Несмотря на ревностные поиски, добычи оказалось меньше, чем ожидали. Но и то, что нашли, удовлетворило бы самого жадного скрягу Старого Света. Секретарь Пизарро и присланный из Панамы казначей оценили общую стоимость награбленного в 580 тысяч золотых песо (около 15 миллионов рублей) и 215 тысяч марок серебра (около 2 миллионов рублей). Солдаты швыряли золото не считая. Предприимчивые торгаши, ухитрившиеся доставить в лагерь Пизарро испанские товары, продавали их по баснословным ценам: бутылка вина стоила, в переводе на современные деньги, 2400 рублей, меч — 4 тысячи рублей, пара башмаков — 1600 рублей, хорошая лошадь — до 50 тысяч рублей. Целые состояния пропивались и проигрывались в несколько часов.
С грустью смотрел молодой инка на это разграбление древней столицы. Но еще грустнее было ему видеть, как спокойно, безразлично принимал его народ новых повелителей. О сопротивлении никто не думал. Перуанцы низко кланялись белым людям, смиренно складывали на груди руки, когда солдаты били их и оскорбляли их жен, исполняли каждое приказание испанцев с такой же покорностью, с какой они раньше повиновались начальникам областей и городов. Только жрецы и длинноухие сородичи царственного дома ходили понурые и мрачные. Иногда, когда они смотрели на вооруженные испанские отряды, проходившие по улицам Куско, в глазах их вспыхивал недобрый огонек и губы шептали проклятия, но и они не противились насильникам, не защищали своих домов. А ведь в столице их было не меньше двух-трех тысяч!
По ночам, запершись в отведенном ему дворце, Манко проводил целые часы в беседах со старым амаутой, тем самым, которого спас от гибели Альмагро. Старику удалось вместе с внучкой добраться до столицы. Манко приблизил его к себе отчасти потому, что опытный и умный старик хорошо знал страну и, мог подать дельный совет; отчасти потому, что внучка его за полтора года превратилась в стройную, красивую девушку и вскружила голову молодому принцу. Пока Манко был только принц, по законам страны ему нельзя было жениться на «деве Солнца», но инке, «сыну Солнца», разрешалось жениться и на девушках, посвященных светлому богу. И как только Манко был провозглашен владыкой империи и прибыл в Куско, красавица Оэльо стала его женой. Теперь старый амаута был для него не только наставником, но и близким
родственником. Иной раз всю ночь напролет излагал ему Манко свои планы и изливал свое горе.
— Скажи, амаута, почему так труслив мой народ? Почему перуанцы бегут от белых, как заяц от охотника?
Амаута объяснил:
— Еще твой пра-пра-прадед говорил: «Инка должен царствовать, его сородичи управлять, а народ повиноваться. Земледельцы и ремесленники ничего не должны изучать и ни о чем не должны думать — они должны только исполнять приказы». Раньше они слушались вас, теперь пришли белые, прогнали вас, и они слушаются их. Видал ли ты когда-нибудь, чтобы дикие козы выбирали себе вожака? Когда умирает или обламывает рога старый вожак, приходит другой, молодой, и они слушаются его так же, как слушались его отца или деда. То же и с нами, перуанцами. Солнце возложило на нас ярмо, и мы будем безропотно нести его.
— Но неужели никогда не восстанет мой народ против белых колдунов? — негодующе восклицал Манко. — Неужели мне всю жизнь придется кланяться этому седобородому человеку и исполнять его приказы, как слуга исполняет приказы господина?
— Если Солнцу будет угодно и оно смилостивится над нами, ты прогонишь чужеземцев, мой повелитель.
— Я соберу армию, рассеянную по горам! — гневно восклицал юноша. — Я призову всех своих сородичей… Я истреблю пришельцев всех до одного…
— Подожди, мой повелитель, — перебивал его старик. — Выигрывает тот, кто умеет ждать. Белые сильны: у них неведомые звери, у них огневое оружие. Приглядывайся к ним хорошенько, изучи все их повадки, научись владеть их оружием и сражаться так же, как они, и тогда — Солнце принесет тебе победу. Таись от них, не выдавай себя. Пусть они ничего не знают о твоих намерениях, пусть они думают, что ты молодой глупец, которым можно играть, как мячиком. А когда придет время, ты прыгнешь на них, как ягуар, и разорвешь когтями их железные груди, и выгонишь людей в черных рясах, и станешь таким же могущественным, как твои предки.
Часто воодушевленные речи амауты прерывались криками. Мимо дворца проходили ватаги пьяных солдат, ломали чьи-то двери, кого-то били, кого-то пытали. Грезы о будущем сразу исчезали, и Манко ясно видел, как далеко избавление. Может быть, всемогущее Солнце когда-нибудь сжалится над своими детьми, но сейчас оно отвернулось от них и отдало их под власть чужеземцев. На челе Манко красовалась борла, но хозяином страны был не инка, а седобородый человек с лукавыми, острыми глазами. Раздавленная столица бессильно лежала под его тяжелой пятой.
— Когда же, когда? — шептал Манко.
— Жди, готовься, учись, — отвечал амаута. — После зимы всегда наступает лето, после ночи всегда занимается заря.
XXX
Вскоре после вступления в столицу Пизарро начал налаживать расшатавшуюся государственную жизнь. Нужно было показать всему народу, что у него теперь есть законный повелитель, которому подданные должны повиноваться так же слепо, как повиновались они его отцам. Пизарро приказал короновать нового властителя, обставив эту церемонию католическими обрядами и древними празднествами. Вместо главного жреца пурпурную борлу возложил на инку Пизарро. Испанский нотариус прочел акт, в котором Манко признавал себя слугой и вассалом короля и императора Карла V. Падре Вальверде отслужил торжественную обедню в храме Солнца, превращенном в собор. А вечером этого же дня было устроено пиршество, которым инки обычно отмечали свое вступление на престол. На одном конце стола сидели Пизарро со своими военачальниками и Манко со своей свитой, а на другом восседали в пышных одеждах мумии царственных предков, принесенные для этого случая из своих необитаемых дворцов. Многочисленные слуги прислуживали мертвым так же заботливо, как и живым: ставили перед ними блюда с жареным мясом, плоды, золотые чаши с игристой чичей. Участники пира поднимали в их честь пенящиеся кубки, народ веселился, плясал и пел. Все, казалось, было по-старому: такой же инка, такой же пышный двор, такие же песни, такая же радость. Звуки флейт и рожков заглушали пьяные выкрики солдат, пестрые плащи перуанцев заслоняли от глаз фигуру седобородого человека, спокойно и внимательно следившего за празднеством. А от него-то и зависело все.
Пизарро поспешил организовать управление городом по испанскому образцу: назначил городской совет с двумя алькальдами и восемью заседателями, которые должны были распределять дома и земли между новыми испанскими колонистами. На городской совет была возложена и охрана порядка, который, впрочем, не нарушал никто, кроме испанских солдат.
Благодаря заботам монахов, во множестве прибывавших с каждым кораблем, быстро уничтожались языческие храмы и на их месте руками туземных рабочих воздвигались соборы и церкви. Обиталища «дев Солнца» были превращены в женские монастыри. На глазах Манко столица его отцов меняла свой лик и из древнего перуанского города мало-помалу становилась испанским поселением.
Но не успел Пизарро наладить управление городом, не успели монахи окрестить всех жителей города и сжечь на кострах всех языческих жрецов, как возникли непредвиденные затруднения. В окрестностях Куско появились отряды одного из лучших полководцев Атагуальпы — Кискиса, двинувшего свою армию против чужеземцев. По рассказам туземцев, она насчитывала двадцать пять тысяч человек и, следовательно, представляла для завоевателей немалую опасность.
Если бы Кискиса поддерживали инка и население столицы, испанцы, удаленные от своих баз, были бы обречены на гибель, но внутренние раздоры между перуанцами помешали этому. Кискис и большинство солдат были уроженцами Квито — провинции, которая до сих пор не вполне еще слилась с империей и мечтала о возвращении былой самостоятельности. Победа Кискиса не сулила ничего хорошего ни жителям Куско, ни новому инке, врагу Атагуальпы и его сторонников. Поэтому, когда Пизарро отправил против перуанского полководца значительный отряд под предводительством Альмагро, к испанцам присоединился Манко со всеми своими войсками. После непродолжительной кампании Альмагро наголову разбил Кискиса и загнал его далеко в горы, где перуанский вождь погиб от руки собственных солдат, утомленных борьбой и отчаявшихся в успехе.
Пизарро потирал руки: все его враги погибали, один за другим. Атагуальпа казнен, Чалькучима сожжен, Кис-кис заколот и армия его разбрелась по всей стране. Манко послушно исполняет приказы испанцев и, по-видимому, тешится своей призрачной властью, как ребенок игрушкой. Но в одно из ясных перуанских утр запыленный гонец принес из Сан-Мигеля тревожное донесение: начальник города писал, что губернатор Гватемалы Педро де-Альварадо с крупными силами высадился на перуанском побережье и идет занимать Квито, в котором отряды Пизарро не успели еще побывать. У Пизарро появился соперник с той стороны, с которой он меньше всего его ожидал!
У, Пизарро хранилась королевская грамота, назначавшая его наместником новооткрытой страны, но, во-первых, в Новом Свете мало считались с королевскими грамотами, если только представлялась возможность их нарушить, а во-вторых, границы отведенной Пизарро территории были настолько неопределенны, что каждый смелый захватчик мог устанавливать их по-своему, особенно если у него, как у Педро Альварадо, были хорошие связи при королевском дворе. Педро Альварадо располагал большими средствами, стяжал себе воинскую славу во время походов Кортеса, обладал храбростью и опытностью. Этого было вполне достаточно, чтобы по-своему перекраивать географическую карту, еще никем не начерченную, и присваивать себе области, где не бывали еще европейцы. Если Альварадо успеет вовремя дойти до Квито, он там останется, и новая королевская грамота подтвердит права завоевателя.
Пизарро решил немедленно послать на спорную территорию Альмагро, поручив ему предварительно зайти в Сан-Мигель и взять оттуда отряд Беналькасара, который был назначен начальником этого города. Альмагро поспешно тронулся в поход, но Беналькасара в Сан-Мигеле не оказалось: этот предприимчивый человек, не желая упустить сокровища второй столицы, уже недели три назад покинул колонию и отправился в Квито. Альмагро пришлось начать экспедицию одному.
В этом походе трех конкурентов ясно проявилась вся сущность, весь дух испанского завоевания. Все ссылались на веления короля и на благо Испании. Но ни о короле, ни об Испании никто не думал. Все думали лишь о себе и состязались друг с другом в плутовстве, проворстве рук и быстроте бега. Альмагро надеялся перехитрить своего начальника и друга: приказание его он выполнит, но в случае успеха постарается, по праву завоевания, оставить за собой Квито. Беналькасар не питал столь честолюбивых, замыслов: он не будет оспаривать, у Пизарро вторую столицу, но он основательно обшарит ее храмы и дворцы и постарается проглотить золотое ядрышко, прежде чем почтительно передаст вождю пустую скорлупу. Педро Альварадо рассчитывал обогнать Пизарро и склонить на свою сторону короля. А Пизарро, покоривший целую империю, наживший такое состояние, какого не в силах было себе представить воображение его земляков, не верил никому и, словно домовитый паук, хлопотливо бегал по сплетенной им паутине, следя, чтобы оттуда не вырвалась ни одна мушка.
Альварадо не повезло: он пошел более короткой, но более трудной дорогой, заблудился в лабиринтах гор и потерял чуть не треть своих солдат, погибших от лихорадки, нестерпимого зноя долин и столь же нестерпимого холода высоких горных перевалов. Он опоздал на полтора месяца и, когда дошел до долины Риобамбы, расположенной в окрестностях Квито, увидел там палатки только что прибывшего Альмагро. Соперники сделали распоряжения для предстоящего боя и ждали начала сражения. Но не успел еще завязаться бой, как на помощь Альмагро прибыл из Квито Беналькасар и сообщил: в Квито они ничего не нашли, ибо все сокровища были уже спрятаны предусмотрительными жрецами. Вместо ожидавшегося богатого приза оказался нуль. Овчинка не стоит выделки, и сражаться, в сущности, не из-за чего.
Когда об этом узнал Альварадо, он пришел к тому же выводу. Соперники тут же устроили свидание и заключили мировую сделку: Альварадо отказался от своих притязаний и передал Пизарро весь свой флот, дожидавшийся у побережья, и все свое военное снаряжение за сто тысяч золотых песо. Альмагро торжественно вступил в Квито и немедленно послал Пизарро донесение о бескровной победе над врагом.
Но гонец не застал Пизарро в Куско: Пизарро покинул город, оставив его на попечение своего любимого брата Хуана. Вождь вернулся на побережье, чтобы приготовиться на случай войны с Альварадо и выбрать место для новой столицы. После долгих поисков выбор его остановился на долине реки Римак, в пятнадцати километрах от ее устья. Здесь 6 января 1535 года он и заложил основание новому городу, назвав его «Городом королей». Впоследствии город был перекрещен в Лиму, которая и поныне является столицей Перуанской республики.
Из Куско гонец направился в Город королей и через две с половиной недели уже пробирался по улицам строящейся столицы. Это было нелегко: вся местность была покрыта ямами, перекопана канавами, забросана бревнами и принесенными с гор каменными плитами. Справа и слева подымались незаконченные остовы деревянных и каменных зданий, и между ними в беспорядке лежали кучи глины, извести и щебня. Выписанные из Испании каменщики торопливо возводили стены, испанские солдаты, по приказу вождя превратившиеся из воинов в строителей, приготовляли цемент и показывали туземцам, как надо класть доски и прилаживать стропила. Перуанцы, обливаясь потом, перетаскивали тяжести, и испанские надсмотрщики то и дело подбадривали их ременными бичами. Все было полно шума, криков, деловой суеты: древнюю империю спешно переделывали под Европу.
Гонец с трудом нашел наместника. Пизарро, значительно осунувшийся похудевший за эти тревожные месяцы, сидел в деревянном бараке, наскоро сколоченном против сооружаемого губернаторского дома, и внимательно просматривал планы и чертежи. Когда ему сообщили о приходе посланца, он вздрогнул и приказал секретарю читать письмо. По мере того как он слушал донесение Альмагро, морщины его разглаживались, в уголках губ начинала играть радостная улыбка. Как только чтение было окончено, он Опустился на колени, прочел молитву деве Марии и св. Яго, сунул гонцу три золотых и знаком приказал ему удалиться.
— Ну вот, сеньор Пикадо, пресвятая дева и на этот раз выручила своего грешного раба, — с облегчением произнес он, обращаясь к секретарю. — Альварадо удалился, и мы можем теперь все наши силы отдать устроению государства.
— Да, сеньор Альварадо удалился, но сеньор Альмагро остался, — многозначительно проговорил секретарь. — Квито в его руках…
— Тем лучше. Друг Альмагро — азартный игрок. Он будет еще долго ловить рыбу в пустом пруду и искать сокровищ в храмах, из которых давно все вывезено. Это займет у него немало времени. А пока что мы достроим Город королей и обнесем его стенами, которым не страшна будет никакая осада. Мы отправим сильный гарнизон в только что основанный Трухильо и сделаем его крепостью, гораздо более сильной, чем тот Трухильо, где я родился. Мы соорудим пристани во многих портах, а по пути к Куско воздвигнем укрепленные форты, и тогда все Перу будет у меня вот где.
Пизарро сжал руку в кулак и, усмехаясь, взглянул на секретаря.
— До сих пор никому еще не удавалось вырвать из нее то, что она зажала, — добавил он. — Думаю, что и Альмагро, хотя он мне очень-очень большой друг, не сумеет этого сделать.
С этого дня работа по возведению городов, портов и крепостей закипела еще быстрее. У Пизарро были развязаны руки, и он, не боясь конкурентов, мог отдать всю свою энергию на устройство наместничества. Он прекрасно понимал, что старые города перуанской империи не годились для новых целей. Они были расположены далеко от берега, в стороне от морских путей, и испанские товары лишь с трудом могли проникать в эти горные гнезда. Чтобы развить торговлю и использовать все богатства новооткрытой страны, необходимо было основывать новые населенные пункты, привлекать туда колонистов, прокладывать безопасные и удобные дороги по непроходимым дотоле местностям. Для этого требовались только умение, настойчивость и человеческие руки. По части настойчивости природа не обделила Пизарро, а человеческих рук можно было достать сколько угодно в этой стране с десятимиллионным населением.
Десятками тысяч испанцы сгоняли туземцев в наиболее важные пункты строительства, не щадя ни их здоровья, ни их жизни. Инки, заботившиеся о благополучии своих подданных, никогда не посылали жителей низменностей в горы, а жителей гор в равнины. Испанцы не считались с этими предосторожностями и отправляли на любые работы первых попавшихся рабочих. От непривычного климата, от скудного питания, от жестокого обращения люди гибли тысячами. На их место приходили новые, и тоже гибли, и опять заменялись новыми все из того же неисчерпаемого людского запаса. На человеческих костях, на поте, на крови строилась новая жизнь. Но зато с необычайной быстротой росли новые поселения. В течение какого-нибудь года только что основанная столица превратилась в довольно большой город с внушительным губернаторским дворцом, с пышными церквами, с благоустроенными улицами, с товарными складами, казармами и крепостью. Лима, пополняемая множеством прибывавших колонистов, становилась торговым центром всей разведанной части Южной Америки и быстро обгоняла в своем развитии не только другие испанские поселения Нового Света, но и многие промышленные города Испании.
«Если так будет продолжаться дальше, — думал частенько Пизарро, — я переманю сюда всех лучших людей старой родины. Купцы, колонисты, солдаты побегут ко мне толпами. Из индейцев я наберу целые полки, обучу их военному делу, и тогда… тогда, пожалуй, его величество король и император Карл V уже не будет получать своей пятой доли… И наместник его величества, Франсиско Пизарро, будет называться не губернатор Пизарро, как сейчас, а Франсиско I, император Перуанской империи».
Лицо старого воина светлело. Он подзывал свою молодую жену — дочь Атагуальпы — и ласково гладил ее нежную смуглую кожу.
— Когда же ты подаришь мне наследника, Кончита? — спрашивал он, заглядывая ей в глаза.
Перуанка улыбалась и садилась у ног своего повелителя.
— Когда угодно будет Солнцу, — отвечала она, но сейчас же спохватывалась. — Когда угодно будет пресвятой деве, — поправлялась она.
Кончиту уже давно окрестили и наставили в католической вере!
— Твой сын будет наследным принцем, — продолжал Пизарро. — Смотри же, чтобы мне не слишком долго пришлось его ждать.
Кончита, не понимавшая, что значит «наследный принц», кланялась, складывала на груди руки, прижималась к коленям наместника — так, как испокон веков делали жены перуанских правителей. Пизарро думал о наследнике, о будущей империи, и казалось ему, что перед ним раскрывается безоблачный горизонт, сулящий новые победы, новые богатства, новую славу. Он не подозревал, что на этом горизонте уже показалась черная точка, предвестник грозы и бури.
Этой черной точкой был инка Манко.
XXXI
Испанцы, хозяева Куско, совсем позабыли о том человеке, которому они дали борлу. Он никому не мешал и был совсем безобиден, этот юноша. Он уже довольно сносно болтал по-испански, научился хорошо играть в кости, распевал кастильские песенки под аккомпанемент гитары и, по-видимому, был очень доволен, что ему не докучают государственными делами. Хуан Пизарро, начальник города, при встречах с ним покровительственно и несколько презрительно хлопал его по плечу, называл «друг Мариано» и всячески выказывал свое расположение. В беседах с подчиненными он не скрывал своей радости, что испанцам попался такой покладистый инка.
— Манко добр, как теленок, и глуп, как сто тысяч ослов, — говорил он. — Он совсем не похож на Атагуальпу и, наверное, не причинит нам никаких хлопот. Когда в нем не будет больше нужды, мы отправим его вместе с его красавицей коротать век в одной из отдаленных крепостей… Я думаю, он с удовольствием туда поедет. Не все ли ему равно, где играть в кости — там или здесь?
Ни Хуан Пизарро, ни его свита не замечали, как внимательно присматривается Манко к белым людям и их обычаям. Очутившись в компании испанских военачальников, Манко настороженно ловил каждое их слово, изучал их нравы и повадки, подмечал их недостатки и слабости. Когда кругам никого не было, он подолгу вертел в руках огневые палки, стараясь понять их механизм, и скоро понял, что все дело тут не в колдовстве, а в порохе. Он привык ходить в латах, пригляделся к военному ученью испанцев и к приемам боя. Скоро он пришел к выводу, что с белыми нетрудно будет справиться, если усвоить их способы войны.
Испанцы почти перестали следить за Манко, а между тем поздней ночью, когда солдаты в окружающих дворец зданиях спали или пьянствовали, вдоль стен дворца крались чьи-то тени и бесшумно пропадали в темном отверстии двери. Иногда это были старый амаута, Оэльо или кто-нибудь из доверенных служителей, посланных с поручением к знатным перуанцам. Иногда это были начальники прятавшихся в горах перуанских военных отрядов. Иногда это были случайно уцелевшие жрецы столичных храмов, а иногда это был и сам верховный жрец, один из наиболее уважаемых людей во всей империи. Манко подолгу разговаривал с важными гостями и во всех мелочах разрабатывал план восстания.
План был таков: когда будет налажена связь с начальниками соседних областей и уцелевшими знатными родами, верховный жрец, принявший для вида христианскую веру, незаметно проберется в горы и начнет оттуда войну против чужеземцев. По его зову к нему соберутся рассеянные всюду перуанские полки и ринутся на столицу. А за два-три дня до начала войны Манко незаметно убежит из дворца и присоединится к верховному жрецу и своим военачальникам. До этого времени он должен оставаться в столице и внимательно следить за всеми движениями белых. План понемногу осуществлялся, заговор рос и вскоре охватил все ближайшие провинции.
Как-то вечером Манко засиделся во дворце у Хуана Пизарро. У начальника города собрались гости, начали играть в карты, и игра затянулась до позднего часа. Вдруг в комнату, тяжело дыша, ввалилась закутанная в шерстяной плащ фигура.
— Вот это называется везет! — с хохотом проговорил вошедший. — Всю дорогу думал о том, где бы мне вылить как следует по приезде, а тут у вас бутылок расставлены целые дюжины!
Гость сбросил плащ, отогнул нависшие поля шляпы и стал весело оглядывать присутствующих.
— Педро де-Кандиа! — воскликнул Хуан Пизарро, — бросаясь к нему. — Каким счастливым ветром занесло тебя к нам?
— Сначала угостите меня вином, господин губернатор, а потом я кое-что расскажу вам. Новости интересные, и вы будете довольны.
 Развалины дворца инков.
Развалины дворца инков.
Все гости повскакали с мест и столпились около новоприбывшего. Манко отодвинулся в самый дальний угол, придвинул к себе бутылку с вином и стакан и положил голову на руки, делая вид, что захмелел. Глядя на — это спокойное лицо, на эти крепко слипшиеся веки, никто не подумал — бы, что мнимый спящий жадно ловит каждое слово.
— Так вот, сеньор Пизарро, — стал рассказывать Кандиа. — В конце декабря к сеньору наместнику приехал ваш и его братец, Эрнандо Пизарро…
Среди гостей послышались радостные возгласы: никто не думал, что брат наместника вернется так скоро; он, наверное, привез письма с родины, известия о друзьях и знакомых. Каждый начал наперебой осыпать Кандиа вопросами. Наскоро передав гостям то, что их больше всего интересовало, Педро де-Кандиа стал обстоятельно рассказывать об успехах Эрнандо.
— Дона Эрнандо встретили в Испании, как самого короля, — повествовал он. — В каждом городе навстречу ему выбегали толпы народа, подносили подарки, наперерыв угощали его и спутников. Король принял дона Эрнандо в Мадриде и обласкал, как родного брата. Он подтвердил и значительно расширил дарованные сеньору наместнику привилегии, а Альмагро предоставил территории на двести испанских миль от окраин нашего наместничества. Когда узнали о сокровищах, которые привез с собой дон Эрнандо, народ точно с ума сошел. От колонистов отбою не было, и добровольцы записывались к дону Эрнандо тысячами. Знаете, сколько кораблей приехало с ним к панамскому побережью? Больше тридцати! Такой флотилии еще не бывало у панамских берегов.
— А много солдат привез с собой Эрнандо? — спросил Хуан.
— Да, кажется, человек шестьсот или семьсот. Вы это скоро узнаете от него самого. Сеньор наместник назначил его вместо вас губернатором Куско, и скоро он явится сюда собственной персоной. А самое главное я и забыл вам сказать. Король пожаловал сеньору наместнику титул маркиза, и брат ваш будет называться теперь не сеньор Пизарро, а его сиятельство маркиз де-Альтавильяс.
Много и других новостей порассказал Педро де-Кандиа, но они не интересовали Манко. Самое главное было то, что в. Куско приезжает новый хозяин, хитрый и жестокий Эрнандо, совсем не похожий на легкомысленного Хуана. Эту важную новость нужно было как можно скорее сообщить верховному жрецу и ближайшим участникам заговора. Манко захрапел, потом громко застонал и свалился набок.
Хуан Пизарро оглянулся.
— А здорово наш херес забирает этого мальчишку! — со смехом проговорил он. — Не выдерживают они христианских напитков… Надо все-таки его убрать отсюда, а то, пожалуй, проснется и подслушает то, чего не надо.
По знаку Пизарро, четверо служителей подхватили спавшего юношу на руки и унесли в его дворец. Как только они ушли и Манко остался один, он приподнялся на кровати и тихо хлопнул в ладоши. Из соседней комнаты поспешно выбежала Оэльо.
— Беги скорее к верховному жрецу, — приказал он. — Скажи, чтобы он привел с собой двух военачальников, да и амаута пусть тоже придет сюда.
Через полчаса в неосвещенном покое инки состоялся военный совет. Манко рассказал о предстоящем прибытии Эрнандо. Пизарро и ждал, что скажут его советники.
— Старый зверь умнее молодого, — задумчиво проговорил амаута. — Он хорошо знает, что в норе нужно сторожить все выходы. Когда приедет новый начальник, сюда, пожалуй, никто не проберется.
— И он приедет не один, а со свежим отрядом, — добавил верховный жрец. — Сражаться с белыми станет тогда труднее. По-моему, нужно торопиться. Пусть наш повелитель завтра же ночью убежит из этого места. К нему быстро соберутся его воины и, может быть, успеют броситься на Куско еще до того, как сюда прибудет новый испанский вождь.
Совет верховного жреца был принят, и весь следующий день Манко провел в приготовлениях к побегу. Ночью он бежал. Но и враги его не дремали. Индейцы из племени каньярес, вступившие в союз с завоевателями и вместе с ними прибывшие в Куско, давно уже следили за инкой. Они знали о том, что к нему ночью приходят какие-то посетители, и подозревали недоброе. В день бегства, на заре, один из их лазутчиков прокрался ко дворцу Манко и стал прислушиваться. Чуткое ухо его не улавливало ни храпа, ни шорохов, ни движений спящих. Дворец казался необитаемым. Индеец стал расталкивать испанского, солдата, сторожившего у входа, но солдат был мертвецки пьян и только переваливался с боку на бок. Индеец вошел во дворец и скоро убедился, что обитатели его исчезли.
Об этом сейчас же донесли Хуану, и за беглецом послали погоню. Манко не успел еще далеко, отойти от города. Местность была ровная, кое-где пересеченная болотами и зарослями низких кустарников. Спрятаться в ней было трудно. Увидев издали всадников и сопровождавших их индейцев, Манко вместе с Оэльо поспешил укрыться в зарослях болотного камыша, но индейцы были опытны по части преследования неприятеля. По едва заметным следам, по примятой траве они быстро узнали, куда направился беглец, и через каких-нибудь полчаса уже обнаружили его убежище. Манко вернули в Куско, поселили поблизости от жилища губернатора и учредили за ним строжайший надзор. План восстания, по-видимому, рухнул.
Скоро в Куско приехал Эрнандо Пизарро и принял начальство над городом. Вопреки ожиданиям инки, он не проявлял к нему ни строгости, ни враждебности. Наоборот, он старался держать себя как друг: часто заходил в гости к инке, посылал ему испанские вина, свежие плоды и всячески старался завязать приятельские отношения с узником. Манко недаром изучал своих тюремщиков и прекрасно понимал, что все это значит. Очевидно, Эрнандо Пизарро хотел что-то от него выведать. «Наверное, белому вождю очень захотелось перуанского золота, — подумал Манко. — Оттого-то он и ластится ко мне, как старая коза к новорожденному козленку».
Подозрения Манко вскоре подтвердились. В промежутках между нравоучительными беседами и дружескими излияниями Эрнандо Пизарро начал задавать вопросы насчет увезенных жрецами сокровищ. Манко решил сыграть на этой слабой струнке. Он указал Эрнандо два-три места, где была зарыта золотая и серебряная утварь, и губернатор не замедлил воспользоваться его указаниями. Но привезенных сокровищ было мало, и они только раззадорили жадность белого вождя.
— Наверное, в горах имеется много таких же тайников и там можно найти немало таких вот вещиц, — полушутливо, полусерьезно заговорил Пизарро в один из своих визитов.
— Белый вождь мудр, как всегда, — поспешил согласиться Манко. — Хитрые жрецы, слуги дьявола, увезли туда целые горы слитков и драгоценной посуды. Я знаю путь к одному из тайников, где собраны все богатства главного храма.
— Может быть, ты укажешь дорогу туда твоему верному другу? — ласково опросил Эрнандо, кладя руку на плечо инки.
— Путь туда настолько труден, что только я один могу пробраться к тайнику, — сказал Манко. — Если бы ты отпустил меня туда с двумя солдатами, я показал бы им это место, и ты мог бы вывезти оттуда все; но нужно, чтобы об этом никто не узнал. Если жрецам расскажут об этом, они меня сейчас же отравят или убьют.
Эрнандо, суровый и беспощадный к людям, но мягкий, как воск, когда речь заходила о золоте, не смог противостоять соблазну и разрешил Манко отправиться в горы в сопровождении двух солдат. На другой же день Оэльо незаметно скрылась из дворца, а еще через день Манко направился в горы с двумя своими спутниками. Из этой экспедиции ни Манко, ни солдаты не вернулись.
Вскоре горы запестрели вооруженными перуанскими отрядами. Отряды росли, сливались в многочисленные полчища. Облако сгущалось в грозовую тучу. В начале февраля 1536 года началась осада Куско, длившаяся больше года.
 Воины инков. Роспись древнего сосуда.
Воины инков. Роспись древнего сосуда.
Это было самое трудное время для испанских завоевателей. Под руководством способного Манко перуанские войска сразу изменили свое поведение. Они уже не питали ужаса к чужеземцам, перестали бояться лошадей, крепко держали военный строй и с невиданным дотоле мужеством дрались за каждую пядь земли. Вылазки испанцев успешно отбивались, а потери, производимые в рядах осаждающих закованной в броню конницей, пополнялись все новыми и новыми подкреплениями. Осажденные уверяли, что у Манко собралось больше ста тысяч войска. Вероятно, эта цифра втрое превышала действительную величину перуанской армии, но все же на стороне осаждающих был огромный численный перевес. Полчищам Манко испанцы могли противопоставить только две-три сотни белых солдат и одну тысячу союзников-индейцев, не пригодных для больших сражений.
Самое страшное для испанцев были поджоги города. Перуанцы раскаляли добела камни, обертывали их толстым слоем просмоленной ваты и, как дождем, осыпали ими все окраины города. Соломенные крыши зданий вспыхивали, и пожар свирепствовал до тех пор, пока огонь не гас сам собой. Большая часть столицы превратилась в обгорелые развалины, и только центральная пасть осталась более или менее неповрежденной.
Среди осажденных начался голод. Во время некоторых вылазок удавалось завладеть стадом лам, но эти запасы быстро таяли. А перуанцы, вопреки ожиданиям, все стояли и стояли, по-видимому надеясь взять белых измором. Иногда среди них появлялся сам инка, гарцевавший верхом на отвоеванной у испанцев лошади, в европейских боевых доспехах и даже в европейском снятом с какого-то убитого костюме.
Хуже всего было то, что крепость, снабженная слишком малочисленным гарнизоном, была очищена при первом же приближении перуанских войск. Ее занимали теперь неприятельские отряды, ежедневно посылавшие в испанский лагерь тучи стрел и камней. Благодаря мужеству Хуана Пизарро ошибка эта была исправлена и крепость взята приступом, но общее положение осажденных оставалось по-прежнему отчаянным.
«Если нам не пришлют помощи в самом скором времени, мы погибли, — писал Эрнандо Пизарро брату в письме, отправленном через одного из индейских лазутчиков. — Силы наши тают с каждым днем, и люди ослабели так, что едва могут передвигаться. Может быть, на месяц нас хватит, но это крайний срок. Торопись, торопись, помни, что Манко сначала уничтожит нас, а потом и тебя».
XXXII
Это отчаянное послание дошло в Лиму в начале 1537 года. Вскоре весть о нем разнеслась по всей столице, и настроение испанцев стало еще тяжелее, еще тоскливее.
Уже месяца три тревога черной пеленой висела над городом. Хотя на побережье было спокойно, колонистам казалось, что восстание вот-вот докатится и до них. Каждый день в кабачках, и на базаре передавались новые слухи, один другого страшнее, один другого нелепее. Туземцы вели себя тихо и послушно, как всегда, но недоверчивый взор завоевателей в каждом движении их ловил измену и предательство. Если они шептались в укромных уголках, значит они замышляли резню. Если они собирались кучками у своих жилищ, значит они хотели громить белых. Если они молчали, тем хуже: значит, они уже составили план восстания и ждут только сигнала от Манко, чтобы выступить. На фермах колонистов владельцы ни днем, ни ночью не снимали оружия и удвоили строгости к работавшим у них индейцам. «Надо запугать этих чумазых чертей, надо выбить у них всякую мысль о бунте», советовали они друг другу. И все чаще и чаще свистели бичи, все обильнее лилась кровь из рассеченных темно-коричневых спин, все утонченнее становились пытки, все громче и жалобнее были крики жертв. Замученные индейцы перестали петь, перестали шептаться, перестали говорить. В поместьях конквистадоров и в туземных окраинах города воцарилась давящая тишина. И испанцам она казалась затишьем перед бурей, предвестником близкой и грозной расплаты.
В соборе и церквах ежедневно служились молебны. В католическом календаре не осталось, кажется, ни одного святого, у которого соратники Пизарро не вымаливали бы помощи. Святой Георгий, святой Хуан, святой Яго, святой Андрей, святой Доминик, великомученица Екатерина и другие менее известные святые и мученики никогда еще не слышали столько обеден и не получали столько приношений, как за эти жуткие месяцы. Раза три в неделю по улицам двигались со знаменами и хоругвями пышные процессии, и ретивые проповедники, с трудом одолевая перуанский язык, по часу и больше расписывали своей новообращенной индейской пастве те благодеяния, которые принесли перуанцам благородные испанские гидальго.
Но и обращения к небу не помогали. Страх рос, и уже многие торговцы и колонисты начинали распродавать свое имущество и подумывали о возвращении на родину.
Во дворце наместника было тихо. Прекратились многолюдные банкеты. Не слышно было песен и шумных голосов гостей. Пизарро не принимал никого, кроме военачальников и строителей, и просиживал целые ночи напролет в своем кабинете, составляя планы обороны. Когда Манко возьмет Куско, думал он, вся горная часть Перу окажется в его власти и у завоевателей останется только узкая прибрежная полоса. Завоевание придется начинать сначала. Приобретенная империя держится сейчас на волоске. Неужели этот волосок оборвется? Неужели надежды нет?
Пизарро гневно топал ногой. Надежды, действительно, как будто не было. Он четыре раза посылал братьям отряды по сто человек, но ни один из них не дошел до места: все они погибли от руки туземцев в узких ущельях Кордильер. Он рассылал письма в соседние губернаторства и наместничества — в Мексику, Панаму, Эспаньолу, даже в Гватемалу, к своему бывшему сопернику, Педро де-Альварадо, умоляя о помощи, — мольбы были напрасны. Хозяева этих областей не ударили пальцем о палец. Если Пизарро потеряет Перу, они только порадуются, что одним конкурентом стало меньше. Кроме самого себя, рассчитывать было не на кого.
А сил у Пизарро было мало — ровно столько, чтобы поддерживать порядок в прибрежных провинциях. Чуть не каждый день ему приносили известия о волнениях то в одной, то в другой горной области. Если послать братьям большие подкрепления, важные крепости останутся без гарнизонов, и кто тогда поручится, что и Город королей не окажется вскоре в таком же положении, как и Куско?
Неоценимым помощником оказался бы теперь Альмагро. Но Альмагро был далеко. Опасаясь, как бы старый друг не оставил за собой Квито, Пизарро бомбардировал его вкрадчивыми и ласковыми письмами, расписывая неисчислимые богатства далеких южных областей, и в конце концов уговорил его тронуться на юг, на завоевание золотоносных территорий. Между наместником и его компаньоном лежали теперь сотни миль трудного, неизведанного пути. Если даже просить его пойти на выручку осажденным, Куско двадцать раз успеет пасть, прежде чем гонцы доберутся до храброго ветерана.
Задумчивый и мрачный ходил Пизарро по опустевшим покоям. Слуги избегали попадаться ему на глаза и шмыгали по дворцу бесшумно, как мыши. Даже Кончита боялась приближаться к нему и по целым дням сидела в спальне, тихо напевая про себя грустные перуанские песни. Строгий седовласый супруг уже не расспрашивал ее о будущем наследнике. Зачем думать о наследнике, когда, может быть, не останется никакого наследства?
Получив последнее послание Эрнандо, наместник не спал две ночи. Утром, за обедом, во время вечерних бесед с секретарем и военачальниками и в предрассветные часы, когда начинали смежаться воспаленные веки, в ушах его звучало одно и то же слово: кончено, кончено, кончено! Далее на самые обыкновенные вопросы он стал отвечать невпопад.
— Прикажете ли подать вино, сеньор наместник? — спрашивал его слуга перед отходом ко сну.
— Кончено, — отвечал ему Пизарро, уставясь глазами в пространство.
Так прошла неделя. С минуты на минуту Пизарро ждал, что ему принесут известие о падении Куско. На восьмой день к нему ввели усталого, едва державшегося на ногах гонца. Не решаясь протянуть за письмом руку — она у него дрожала и не хотела слушаться, — Пизарро отрывисто бросил:
— Ну?
— Поблагодарите пречистую деву, сеньор наместник, — отвечал гонец. — Сеньор Эспиноса прислал вам из Панамы отряд. Через три часа отряд уже будет в городе.
Пизарро пошатнулся и грузно опустился на стул. Никогда еще до сих пор не выдавал он своего волнения перед посторонними. В первый раз за долгую жизнь радость сорвала привычную маску с этого спокойного, непроницаемого лица.
Быстрыми шажками прибежал на зов начальника сеньор Пикадо и начал читать донесение. Эспиноса сообщал, что с великим трудом ему удалось набрать две сотни добровольцев и снабдить их всем необходимым. Он надеется, что небо благословит его сиятельство маркиза де-Альтавильяс и даст ему окончательную победу над язычниками.
Через три дня Пизарро сорганизовал экспедицию и тронулся на выручку Куско. Двигаясь со всей поспешностью, отбиваясь от партизанских налетов перуанцев, наместник прошел несколько десятков — миль и наконец приказал остановиться на двухдневный отдых у укрепленного форта. Поздно вечером ему доложили о прибытии гонца от Эрнандо. «Куско пал, — подумал он. — Помощь пришла слишком поздно!»
Но гонец, вручивший письмо, был весел и словоохотлив. В ответ на вопросительный взгляд Пизарро он сказал:
— Не беспокойтесь, сеньор наместник. Осада снята. Манко ушел в горы.
Сообщение Эрнандо было еще неожиданнее, чем помощь, присланная Эспиносой. Освободителем города оказался не кто иной, как Альмагро. Он отогнал войска инки, и старой столице никто не грозил… Но Альмагро прочно обосновался в ней и, по-видимому, не собирался уходить. Эрнандо и Хуану, наверное, скоро придется ее покинуть.
 Борьба за канатный мост. Гравюра начала XVII века.
Борьба за канатный мост. Гравюра начала XVII века.
Судьба как будто смеялась над Пизарро. Она послала ему победу, которая, пожалуй, хуже поражения. Она удалила со сцены Манко и вместо этого юного, неопытного врага подсунула самого страшного соперника — Альмагро, любимого солдатами, известного при дворе, получившего в удел огромные территории. Паутина, сплетенная с таким трудом, разорвалась, и самый ценный приз — Куско — почти вырван из рук.
— Что вы думаете об этом, сеньор Пикало? — спрашивал Пизарро своего секретаря, задумчиво расхаживая по палатке.
— Я думаю, сеньор наместник, что старый бык иногда опаснее молодого. Я слыхал также, что старый козел всего сильнее бодается перед смертью…
— Мне совсем неинтересно, что вы думаете о быках и о козлах, сеньор Пикадо, — недовольно перебил Пизарро. — Скажите лучше, что вы думаете об Альмагро?
— Сеньору Альмагро дана королевская грамота на незавоеванные земли, а Куско было уже завоевано вами. Следовательно, оно ему не принадлежит. Но, с другой стороны, оно было осаждено инкой и, следовательно, почти перестало вам принадлежать. Можно думать, что Альмагро его завоевал, но можно также думать, что он его не завоевал, а только возвратил законному владельцу. Разные судьи взглянут на это дело по-разному.
— К чорту судей! — гневно воскликнул Пизарро. — Мне нужно знать, как на это взглянет сам Альмагро. Что вы думаете на этот счет?
— Если сеньор Альмагро рассмотрит этот вопрос, как ваш друг, то он удалится из Куско. А если он рассмотрит его, как ваш недруг, то он останется в Куско. Все зависит от того, какие чувства он питает к вашему превосходительству.
— От таких крючкотворцев, как вы, ничего не добьешься, — недовольно проговорил Пизарро. — А я вам скажу, что сделает Альмагро. Он заберет себе Куско, кроме того потребует Квито и южные окраины государства, а мне, может быть, милостиво согласится уступить прибрежную полосу. На юге он, как и следовало ожидать, должно быть, ничего не нашел и сейчас готов захватить первый попавшийся кусок. Нам нельзя терять ни минуты. Садитесь, сеньор Пикадо, и пишите.
Сеньор Пикадо сел и начал писать приказы: приказы начальнику Лимы о приведении столицы в боевую готовность, приказы начальникам крепостей о присылке подкреплений, приказы начальникам прибрежных портов о срочной доставке продовольствия и боевых припасов. Война между белыми и последним владыкой Перу кончилась — началась война между победителями.
XXXIII
Догадки наместника о причинах возвращения Альмагро были совершенно правильны. Экспедиция к южным окраинам империи, начатая Альмагро по настоянию его вероломного друга, кончилась неудачно. Уже в самом ее начале возникли затруднения, на которые испанцы не рассчитывали, и с каждым новым переходом затруднения эти множились и росли.
Удобное военное шоссе было проложено только на небольшой части пути. Потом широкий тракт постепенно превращался в узкую дорогу, дорога разветвлялась на множество троп, протоптанных не то людьми, не то животными, и тропы терялись в непроходимых ущельях. Удушающая жара долин сменялась ледяным холодом высоких пиков, среди которых, то подымаясь, то опускаясь, приходилось итти целыми неделями. Солдаты отмораживали себе пальцы, гибли от болезней и истощения. Вьючных животных заменяли, правда, туземцы из деревушек, предаваемых огню: испанцы уводили всех работоспособных мужчин и, сковав их группами по десять-двенадцать человек, заставляли нести припасы и военное снаряжение. Экономии ради туземцев почти не кормили, и они умирали, как мухи. Умерших надо было заменять другими, и опять жечь деревни, и опять уводить жителей.
Альмагро дошел уже до тридцатого градуса южной широты, а между тем нигде не оказывалось ни золота, ни сокровищ. Разочарованные солдаты роптали и требовали, чтобы их вели обратно. Альмагро колебался, но его колебания быстро рассеялись, когда гонец привез сообщение о прибытии из Испании Эрнандо Пизарро и королевский патент, жаловавший ему титул маршала и предоставлявший
территорию на двести миль от южной границы губернаторства Пизарро.
Эта запоздавшая милость сразу изменила его планы. Успех экспедиции был гадателей, а между тем старость уже давала себя чувствовать. Пальцы сводил ревматизм, поясница ныла, мышцы потеряли былую силу и упругость и при подъемах сердце стучало в груди, как молот. О себе старый воин не тревожился, но он боялся за будущность семнадцатилетнего Диего, своего единственного и горячо любимого сына, еще ребенком отвезенного в Испанию и только недавно приехавшего к отцу, чтобы принять участие в его походах и победах.
— Застряли мы с тобой в этой проклятой ловушке, сынок, — грустно говорил ему Альмагро на другой день после прибытия гонца. — Кто знает, где и когда найдем мы золотые россыпи? Может быть, совсем не найдем. Надолго ли меня хватит, не знаю. Уж очень сильно начинают болеть мои старые кости. А если я умру, затея наша сразу кончится, и ты вернешься ни с чем.
— А стоит ли продолжать ее, отец? — несмело спросил юноша.
— Значит, по-твоему, нам нужно итти к Пизарро с поклоном? Плохо ты знаешь старого Франсиско! Франсиско не подает нищим, а тем более таким нищим, как я.
— Можно обойтись и без Пизарро, отец. Патент отводит тебе территорию в двести испанских миль. Почему бы не включить в твое наместничество и Куско? Пизарро вряд ли успел послать туда сильный гарнизон.
Юноша был сообразителен, и совет его пришелся по вкусу Альмагро. В самом деле, при тогдашнем уровне географических познаний патент этот можно было истолковывать очень различно. Владения Пизарро тянулись на двести миль к югу от реки Сант-Яго, и, следовательно, южная граница наместничества определялась сообразно той широте, на которой была расположена эта река, а этого никто точно не знал. Границы территории Альмагро можно было установить как угодно, в зависимости от точки зрения. И Альмагро решил, вопреки географии, что Куско и прилегающие к нему города находятся не по ту, а по эту сторону его границы. Вывод был ясен: нужно как можно скорее итти в Куско и занять его, пока Пизарро не успел прочно обосноваться там.
Экспедиция тронулась в обратный путь, но, когда она дошла до города Арекипа, в шестидесяти милях от Куско, Альмагро узнал, что столица осаждена войсками Манко и что защитой ее руководит Эрнандо Пизарро, его личный враг.
Прежде всего Альмагро попытался договориться с осаждающими. Без особенного труда добившись свидания с Манко, он уговорил инку приостановить военные действия и дать возможность его отряду завладеть столицей. После того как сородичи Пизарро будут вытеснены из этих мест, обещал он, претензии Манко будут удовлетворены, и мирное сожительство перуанцев и испанцев наладится само собой. Вождь перуанцев не очень-то верил словам Альмагро — он отлично знал, чего стоят обещания белого человека, — но дал притворное согласие. Он надеялся, что распри между пришельцами и защитниками города дадут удобный случай расправиться сразу и с теми и с другими.
Отряд Альмагро остановился в долине Юкей, неподалеку от столицы. Узнав о его прибытии, Эрнандо Пизарро решил защищаться и от этого нового противника. Как только перуанские войска по приказу инки отступили, он послал небольшой отряд навстречу Альмагро, чтобы выяснить численность и настроение его войск. Заподозрив, что между соперниками начинаются какие-то переговоры, Манко решил, что пора действовать, и во главе пятнадцатитысячного войска обрушился на Альмагро. Но участники экспедиции были готовы ко всяким неожиданностям и нанесли инке такое поражение, что он вынужден был бежать далеко в горы. Путь к Куско был теперь свободен.
Альмагро знал характер Эрнандо и понимал, что с этим человеком ему сговориться не удастся. Но он знал также, что испанские солдаты и поселившиеся в Куско колонисты измучены лишениями и согласятся на что угодно, лишь бы спасти себе жизнь. Поэтому, минуя Эрнандо Пизарро, Альмагро немедленно отправил к городскому совету Куско парламентеров с требованием передать ему столицу и признать его законным губернатором. Перевес его сил был настолько очевиден, что о сопротивлении никто и не думал. Город сдался, и 8 апреля 1537 года Альмагро вступил в Куско.
Эрнандо, Хуана и Гонзало Пизарро, удалившихся в крепость, без труда захватили и посадили под арест. Оргоньес, ближайший помощник Альмагро, настаивал на их немедленной казни.
— Пока они живы, твоя жизнь в опасности, — говорил он. — Убей их, ибо мертвые не кусают.
Альмагро был по природе добродушен. С другой стороны, он боялся последовать этому совету, ибо не знал, как посмотрит на это королевский двор. Он приказал пощадить жизнь братьев Пизарро и держать их в заключении. Вскоре он взял Хауху, в семнадцати милях от столицы, где под начальством Алонзо Альварадо стоял гарнизон в двести человек. После сражения, закончившегося полным разгромом Альварадо, огромное большинство солдат этого отряда охотно присоединилось к Альмагро, пользовавшемуся хорошей репутацией среди конквистадоров. Гарнизон Куско, гарнизон Хаухи и собственный отряд — таковы были теперь вооруженные силы Альмагро. Пизарро он мог не опасаться.
— Ну, Диего, мы с тобой выиграли игру, — самодовольно говорил он сыну. — Хоть и хитер Франсиско, но и старый Альмагро тоже чего-нибудь да стоит. Он оставит тебе не меньшее наследство, чем Пизарро своему отродью.
Все, казалось, подтверждало эти слова Альмагро. В церквах священники служили молебны о его здравии, колонисты прославляли его как избавителя. Солдаты хвалили его: он роздал им большую часть того, что отнял у братьев Пизарро. Часовые ежедневно несли почетный караул у его дворца. Альмагро был настоящий губернатор, любимый и признанный испанским населением. Почему бы его не признать и испанской короне?
И каждый день шли в его покоях торжественные пиры и провозглашались бесчисленные тосты в честь будущего наместника. После долгих лет лишений и скитаний счастье как будто повернулось к нему лицом и обещало вознаградить за все — и за труды молодости, и за вероломство друга, и за несправедливости испанской короны.
XXXIV
Когда Пизарро узнал обо всех этих событиях, он вернулся в Лиму и стал усиленно готовиться к защите. Вскоре у него появился союзник — Эспиноса, приехавший из Панамы. Эспиноса недаром дружил с покойным падре, а впоследствии епископом де-Люке. Он усвоил приемы своего друга и так же убедительно говорил, так же ловко умел ссылаться на места из священного писания. Пизарро решил использовать его таланты и отправил Эспиносу к Альмагро, надеясь еще раз поймать на удочку своего компаньона.
Эспиноса успеха не имел. Альмагро твердо решил не верить ни одному слову бывшего друга и установить свои права силой меча.
Захватив с собой Эрнандо Пизарро и оставив Хуана и Гонзало Пизарро под стражей в Куско, Альмагро тронулся к побережью и в начале августа 1537 года достиг долины Чинча у западного склона Анд. Здесь ему донесли, что Гонзало и Хуан подкупили стражу и бежали к брату. Эрнандо Пизарро пришлось бы поплатиться за это головой, если бы не вмешательство влиятельных советников Альмагро.
Наместник опять возобновил переговоры, избрав на этот раз своим посланцем одного монаха, пользовавшегося большим уважением среди солдат и колонистов. Монаху удалось несколько смягчить Альмагро. Маршал даже согласился повидаться с Пизарро и переговорить с ним один-на-один. Свидание состоялось в небольшой деревушке неподалеку от Чинчи.
Пизарро, приехавший раньше, встретил Альмагро, как обычно, улыбкой, ласковым кивком головы, крепким рукопожатием. Он вспоминал старую дружбу, совместные походы, общие тревоги и страдания последних лет. Может быть, ему удалось бы в конце концов смягчить Альмагро, если бы с его губ не сорвалось случайно имя де-Люке. А как только оно было произнесено, Альмагро вспомнил о неисполненном договоре, о несправедливом дележе добычи, о лживых обещаниях, о вероломных советах. Все обиды сразу встали в его памяти, и кровь бросилась в голову.
 Автограф Пизарро (справа и слева — начертания Пизарро, в середине — подпись секретаря).
Автограф Пизарро (справа и слева — начертания Пизарро, в середине — подпись секретаря).
— Пусть буду я мучиться на самом дне ада, если я когда-нибудь поверю тебе, Франсиско! — воскликнул он вне себя от гнева. — Нам не о чем долго говорить: Куско и Хауха мои. Признай мои права в договоре, добейся подтверждения их у короля, и никакой уговоренной третьей части я не буду с тебя требовать. А если ты не согласен, пусть решит дело оружие.
Пизарро пробовал говорить об интересах короны, о своих заслугах и полномочиях — Альмагро не слушал его. Свидание кончилось взаимными попреками и оскорблениями, и компаньоны разъехались. Но Эрнандо Пизарро все-таки оставался в руках Альмагро. Впредь до его освобождения Пизарро не мог начать войны. Война привела бы к тому, что Эрнандо был бы немедленно казнен. Прежде всего нужно было спасти брата, а потом уж начинать схватку.
Через несколько дней после неудачного свидания маршалу привезли от наместника новые, условия. Пизарро согласен предоставить ему Куско до тех пор, пока спор не будет разрешен королем, но Эрнандо должен быть освобожден немедленно. Условия были приняты, и сын Альмагро, Диего, лично отвез Эрнандо в лагерь его брата. За дружеской пирушкой были, по-видимому, забыты все прошлые обиды. И Эрнандо и Франсиско Пизарро клялись в любви к маршалу и желали всяческих успехов его начинаниям. Наместник трепал Диего по плечу, хвалил его выправку и молодцеватый вид.
— Как я хотел бы, чтобы мое наместничество досталось такому же молодцу, как ты! — говорил он. — Твой отец счастливее меня: наследник его будущих владений — уже взрослый мужчина, а мой только что появился на свет. Передай отцу, что я найду тебе такую невесту, какой позавидовали бы все гранды Испании.
Диего уехал из лагеря Пизарро обласканный и радостный. «Наместник все-таки не такой уж плохой человек, — думал он. — Отец в конце концов с ним сговорится».
А на следующее утро Пизарро, созвав свою армию, перечислил все обиды Альмагро и объявил, что его долг — примерно наказать изменника. Вслед за этим к Альмагро был послан гонец с извещением, что заключенный накануне договор расторгается. О мире больше не было речи — начиналась открытая война.
Соперники уже не принимали в ней непосредственного участия. Годы надломили даже железное здоровье Пизарро, и он, закончив приготовления и поручив командование армией Эрнандо, уехал в Лиму. На Альмагро тоже сказались старость и бурно проведенная молодость: телесная крепость, находчивость, сообразительность — все это куда-то исчезло, и согнувшаяся спина конквистадора, казалось, не в силах была вынести нового свалившегося на нее бремени. Он сдал начальство над армией Оргоньесу, только что закончившему военные операции в окрестностях Куско и рассеявшему все полчища инки. Оргоньес советовал не итти вперед, а возвратиться в Куско и приготовиться к обороне. Так и было сделано.
Альмагро болен, так болен, что по пути пришлось на три недели приостановить поход, дабы дать ему отдых. Он не может передвигаться — его носят на носилках. И, что еще хуже, он плохо соображает, путается в распоряжениях, отдает нелепые приказы. Если бы не энергия его заместителя, армия быстро превратилась бы в беспорядочное стадо.
В апреле 1538 года, как раз через год после триумфального въезда Альмагро, войска Эрнандо Пизарро приблизились к столице. На военном совете было решено дать им бой в долине Лас-Салинас. Альмагро, совсем уже потерявший способность двигаться, приказал нести себя на носилках на ближайший холм, чтобы оттуда лично следить за ходом боя.
Битва началась. Уже с самого начала ее Альмагро стало ясно, как неудачно выбрано это место. Местность была неровная и изобиловала ямами. Кавалерия, составлявшая главную силу Альмагро, не могла там развернуться, и лошади то и дело спотыкались и падали. На стороне Эрнандо был большой численный перевес — у него было на двести человек больше, чем в отряде Альмагро.
А кроме того, солдаты его были снабжены новыми только что привезенными из Фландрии мушкетами, которые заряжались несколькими сцепленными друг с другом пульками и по силе действия стояли намного выше прежних аркебуз. На ровном поле эти преимущества были бы не очень страшны для закованных в броню всадников, стремительному натиску которых не в силах была сопротивляться пехота. Но здесь каждая яма, каждый бугор давали убежище для стрелков и крайне затрудняли атаку конницы. Сомкнутые ряды железных всадников быстро расстраивались, и уже через час после начала боя отряды Альмагро разбились на отдельные кучки. Меткие выстрелы мушкетеров выбивали солдат из строя, прежде чем они могли сойтись с противником врукопашную.
Альмагро видит, как редеют ряды его солдат. Они отбиваются яростно, упорно, но пули мушкетов делают свое дело — и уже убит Оргоньес, и уже несут на носилках его ближайшего заместителя, Лерму. С губ маршала срывается проклятие. О, если бы вернуть былую силу этим ногам, которые не хотят повиноваться, этим рукам, которые висят, как плети! О, если бы стать прежним Альмагро — не юношей, даже не пожилым человеком, а хотя бы таким, каким он был четыре-пять месяцев назад!
— Пресвятая дева, помоги, выручи! — шепчет старик. — Не ради меня — ради Диего! Ведь ему всего семнадцать лет! Не дай погибнуть безвинному мальчику!
Альмагро хочет встать с носилок, приподымается — и падает. Небо глухо и немо. Небо не слышит его. Около двухсот трупов устилает поле битвы. Отряды его остались без начальников и разбегаются в разные стороны. Диего, его единственный Диего затерялся среди бегущих…
— Остановить их, дать команду! — бормочет он.
Приказы его еле слышны и не долетают до свиты. Тело недвижно, и даже знаками он не может пояснить свою волю.
Четверо солдат подхватывают носилки и спешат вниз, к подножию холма — может быть, удастся еще спасти старого воина и укрыть его в горах. Но через четверть часа к носилкам подъезжают десять кавалеристов из отряда Эрнандо и командуют:
— Сдавайтесь!
Носилки поворачивают к городу. Как в тумане, видит Альмагро гарцующего вдалеке Эрнандо. Эрнандо останавливается, смотрит на носилки, что-то говорит своему помощнику, и через несколько минут подскакавший солдат передает конвойным приказ начальника:
— Отнести его в ту же башню, где год назад сидели дон Эрнандо и его братья!
Приказ исполнен. Сурово глядят на узника каменные стены. Из отверстия пробивается и узкой полоской ложится на пол красноватый луч заходящего солнца. То же самое было здесь и год назад. Только стены глядели на Гонзало и Хуана Пизарро, и солнце золотило белую бороду Эрнандо. Башня та же — переменились только ее жильцы…
Альмагро теряет сознание.
— Как здоровье Альмагро? — озабоченно спрашивал в тот же вечер Эрнандо у своих приближенных.
— Плохо, сеньор губернатор! Сторожа говорят, что уже и губы у него посинели. Вряд ли он долго выживет.
— За его здоровье сторожа отвечают мне своей головой! — гневно воскликнул Эрнандо. — Послать ему лучшего вина, кушаний с моего стола, фруктов — всего, что можно! Альмагро должен жить!
Подчиненные изумлены — они не понимают неожиданного добросердечия этого каменного человека, — но спешат исполнить приказание. Когда губернатор вышел, сеньор Иглесиас, начальник кавалерии, обернулся к сеньору Рамону, начальнику пехоты, и, улыбаясь, заговорил:
— Дон Эрнандо будет очень недоволен, если Альмагро умрет не вовремя. Дон Эрнандо не любит, когда его враги отправляются на тот свет слишком скоро. Убить врага сразу — мало удовольствия. Вот смотреть, как он мучается, как он мечется по камере, словно дикий зверь, как он плачет и просит то о смерти, то о пощаде, — это очень по вкусу нашему губернатору. Будьте уверены, дон Эрнандо еще долго повозится с Альмагро!
Так оно и случилось. Эрнандо оказывал пленнику самые трогательные знаки внимания: посылал вино и фрукты, давал свидания с сыном, заботился о его удобствах, часто посещал его и обещал скорое освобождение.
— Вам нечего опасаться, сеньор Альмагро, — уверял он больного. — Как только вы оправитесь, вас перевезут в Город королей, и Франсиско, ваш старый друг, наверное, простит вам ваши ошибки. Только выздоравливайте скорее. Как вы думаете, удобнее будет вам отправиться в путь на носилках или верхом?
Растроганный Альмагро благодарил, плакал, говорил, что только небо сможет вознаградить Эрнандо за такое неслыханное милосердие. Ослабевшая память не помнила былых обид, размякшая воля страшилась тюрьмы, нищеты и смерти. Альмагро хотел теперь только одного: чтобы ему оставили жизнь и не лишили Диего пожалованных короной территорий. Каждый визит Эрнандо укреплял его надежды. Он стал заметно поправляться и с нетерпением ждал часа освобождения.
А тем временем, по приказу Эрнандо, судьи и городские писцы работали день и ночь. Опрашивали всех солдат, имевших претензии к Альмагро, записывали их показания, подводили оговоры под статьи испанского закона. Ничто не было забыто — ни неосторожные шутки насчет короля, ни захваченные у братьев Пизарро вещи, ни наказания, наложенные на подчиненных. Обвинительный акт все рос и рос и наконец превратился в огромный том в более чем тысячу страниц большого формата. 8 июля 1538 года следствие было кончено. Против Альмагро были выдвинуты следующие обвинения: во-первых, он, отправившись в поход против Куско, начал войну против короля и тем причинил смерть сотням подданных его величества короля; во-вторых, он вступил в заговор с инкой; в-третьих, он изгнал из Куско законные власти. Помимо этик наиболее важных пунктов, имелось множество других, основанных на жалобах отдельных лиц.
Альмагро не допрашивали и даже не вызвали на разбирательство дела. Без долгих прений суд в отсутствие обвиняемого вынес приговор: Альмагро должен быть публично казнен на главной площади столицы.
Когда Альмагро сообщили о приговоре, он долго не хотел верить. По его требованию, Эрнандо пришел к нему и подтвердил вердикт. Альмагро не узнавал губернатора — так непохож был этот жестокий, насмешливый человек на недавнего утешителя и друга.
Забыв свою гордость, Альмагро опускался на колени и молил о пощаде. Эрнандо смотрел на него долго и пристально. Потом, едва подавляя торжествующую улыбку, отвечал:
— Вы забываете, сеньор Альмагро, что я только слуга закона. Я не могу отменить законного приговора суда.
Альмагро упрекал Эрнандо в притворстве и вероломстве. Эрнандо, смеясь глазами, но не двигая ни одним мускулом, ледяным голосом отвечал:
— Вы были мне другом, пока королевский суд не признал вас преступником. А преступник, провинившийся перед королем, не может быть другом королевского губернатора.
Альмагро грозил гневом испанского двора, кричал, что такая несправедливость не пройдет даром даже наместнику. Эрнандо, небрежно сбивая хлыстом пыль с сапога, говорил:
— Маркизу де-Альтавильяс, ежегодно посылающему в Испанию целые флотилии с золотом, не страшны никакие наветы.
Альмагро приходил в отчаяние, плакал. Мелкие старческие слезы текли по сморщенному лицу, и дрожащая рука, бескровная и иссохшая, как пергамент, едва успевала отирать их. Могучий воин, непобедимый конквистадор превратился в беспомощного ребенка. Эрнандо глядел на него с презрением и наставительно произносил:
— Я не узнаю вас, сеньор Альмагро. Вам, испанскому кабальеро и храбрейшему сподвижнику моего брата, не подобает вести себя так унизительно. Вы лучше бы сделали, если, бы остающееся у вас время употребили на то, чтобы примириться с богом.
Когда губернатор ушел, Альмагро понял, что все кончено, и понемногу успокоился. Он сделал распоряжение насчет своего имущества, которое он завещал короне, назначил опекуна над своим несовершеннолетним сыном, позвал духовника, исповедался. На следующее утро на той самой площади, где еще так недавно население города приветствовало его восторженными криками и духовенство молилось о здравии нового губернатора Альмагро, завоевателя подвели к плахе. Бьют барабаны, заглушающие последние слова осужденного. Голову старика кладут на чурбан. Губернатор Эрнандо Пизарро машет платком. Сверкает на солнце топор, и голова Альмагро скатывается на каменные плиты.
XXXV
Пизарро пробыл в Лиме до тех пор, пока ему не сообщили о разгроме армии Альмагро. Как только пришла эта весть, он тронулся в Куско, чтобы навести порядок в древней столице и распределить призы между победителями. Путешествие он совершал медленно, с таким расчетом, чтобы Эрнандо успел все кончить до его приезда.
У Альмагро было много друзей, старавшихся спасти жизнь старому ветерану, и даже такая важная особа, как падре Вальверде, ныне назначенный епископом Куско, настаивал на помиловании. Ответить прямым отказом на все эти просьбы значило повредить себе во мнении королевского двора и вызвать ропот среди колонистов. Выгоднее было не принимать участия в кровавой расправе и до самого конца хранить маску благородства. Приехал Диего Альмагро, которого Эрнандо отправил к брату вскоре после взятия Куско. Пизарро принял его ласково.
 Герб Пизарро.
Герб Пизарро.
— Я люблю тебя, — повторял он ему. — Ведь ты сын моего старого друга, который только по недоразумению стал моим врагом. Я сделаю для тебя все, что могу.
— Пощадите отца, сеньор наместник, — молил юноша.
— Конечно, Альмагро будет помилован, — успокаивал его Пизарро. — Какое в этом может быть сомнение? Мы заживем с ним, как старые друзья. А тебе пока что лучше всего поехать в новую столицу, в Город королей. Ты будешь жить там в губернаторском дворце, и к тебе будут относиться, как к моему сыну.
И Диего и друзья Альмагро были поражены этой кротостью. Хотя они И знали характер и повадки Франсиско Пизарро, им все же казалось, что после таких обещаний нечего опасаться за судьбу заключенного. Они и не подозревали, что Эрнандо уже несколько раз присылал к брату за инструкциями и что наместник, ничего прямо не приказывая, отвечал одной и той же уклончивой фразой: «Поступи с ним так, чтобы он не причинял больше хлопот».
В Хаухе, не доезжая семнадцати миль до Куско, Пизарро остановился. Надо было познакомиться с положением страны, а главное — дать время судьям и писцам закончить обвинительный акт. Наконец суд состоялся, приговор был приведен в исполнение, и гонец привез от Эрнандо депешу о казни Альмагро. Свита наместника была поражена. Но больше всех, казалось, поражен был он сам. Он ходил задумчивый и грустный, облачился в траур и скорбно повторял, что его братья слишком поторопились. Если бы господу богу было угодно ускорить это столь затянувшееся путешествие, дело приняло бы совсем другой оборот: Альмагро сидел бы рядом с ниц в губернаторском дворце, и они вместе осушали бы кубки за здоровье его величества и всех тех, кто помог завоевать перуанскую империю…
Приличия были строго соблюдены. На похороны Альмагро явился наместник со своими братьями. Все трое были в черных костюмах и с траурными лентами на шляпах. Такой же траур надели и судьи, отправившие Альмагро на плаху, и прочие начальствующие лица города. Когда падре Вальверде произносил надгробное слово, наместник и его братья вытирали платком сухие глаза. Всем своим видом они старались показать, что только соображения государственной безопасности заставили их обречь на смерть этого превосходного солдата и еще более превосходного человека.
Когда в Куско замолкли трубы и отгремели литавры, приветствовавшие прибытие наместника, Пизарро принялся за работу. Заключалась она главным образом в «умиротворении страны». У многих колонистов, не принимавших никакого участия в борьбе, отнимались участки только потому, что они заказывали обедни за упокой души Альмагро. В согласии с королевской грамотой, Альмагро завещал территорию своего губернаторства своему прямому наследнику — Диего. Завещание это было признано недействительным, и на все доводы опекуна Пизарро отвечал одно: «Все земли по эту сторону Фландрии — моя территория!» Фраза «по эту сторону Фландрии» обозначала «по эту сторону океана». Не довольствуясь Перу, наместник как будто готовился присвоить себе весь Новый Свет.
Осторожный Эрнандо был не совсем доволен приемами брата.
— Оставлять врагам жизнь и в то же время превращать их в нищих опасно, — повторял он. — По-моему, надо или перебить их всех, или переманить на свою сторону подачками и милостями.
Но Пизарро, чувствовавший себя всемогущим, только посмеивался над этими опасениями.
— Ты стал совсем теленком, Эрнандо, — отвечал он. — Ты, должно быть, устал. Твоя воля ослабла. Ты не понимаешь, как надо мстить. Моих врагов я не удостою ни милости, ни плахи. Бессилие, рубище, медленная голодная смерть — вот лучшая казнь для этих людей. Пусть они пьют смерть капля за каплей. Пусть видят, как дохнут с голоду их дети, пусть проклинают меня и ночью и днем, пусть сохнут от ярости и грызут пальцы от бешенства. Ты говоришь: «Мертвые не кусают». Это правда. Но не кусает и пес, посаженный на цепь. А цепь я им устроил такую, что они не порвут ее.
Братьев своих Пизарро одарил щедро: Хуан получил обширные имения, Гонзало — Квито с окрестностями, Эрнандо — обширный горный район Чаркас, неподалеку от богатой рудами горы Потоси, вскоре залившей всю Испанию серебряным потоком. Эрнандо не успел использовать отведенную ему область. Ему надо было отправляться в Испанию, чтобы представить объяснения насчет казни Альмагро и успокоить королевский двор, порядком встревоженный гражданской войной между завоевателями. Эрнандо собрал награбленное добро и, твердо веря, что золото сильнее всяких доводов, в начале 1540 года уехал на родину.
Надежды его не сбылись. Друзья Альмагро, имевшие большие связи в придворных кругах, так настроили королевских советников, что даже золото не подействовало. Правда, с помощью взяток Эрнандо отвертелся от суда, но его все же посадили в крепость, из которой он вышел лишь двадцать лет спустя, столетним стариком. В Перу король решил послать комиссию во главе с Васко де Кастро. Комиссия должна была расследовать деятельность Пизарро и получила обширные полномочия.
Много месяцев прошло, прежде чем комиссия собралась в путь. Дело было щекотливое и запутанное. Эрнандо раздавал взятки и оправдывался. Король и его министры колебались и не знали, как быть с могущественным наместником. До двора дошли слухи о его честолюбивых планах, и можно было опасаться, что если наместник увидит свою власть под угрозой, он отделится от Испании и провозгласит себя перуанским королем. Одни министры советовали проявить уступчивость, другие настаивали на крутых мерах, а король не мог решиться ни на то, ни на другое.
Тем временем Франсиско Пизарро устраивал свои владения. Это было не так легко. Распри, беспорядки, волнения охватили всю страну. Многие из солдат, считавшие себя обделенными, втайне сочувствовали законному наследнику казненного Альмагро.
Испанские колонисты были недовольны наглым хозяйничаньем сородичей и любимцев наместника, силой отнимавших у поселенцев наиболее плодородные земли, и в провинциях то и дело вспыхивали вооруженные стычки между враждующими группами. Туземцы, приписываемые то к одному, то к другому владельцу, не знали, кого слушаться, и расплачивались собственными боками за раздоры неведомых им господ. В довершение всего, требования завоевателей росли с каждым днем, и множество деревень было разорено и почти сравнено с землей, а десятки тысяч людей угнали в горы на добычу и разработку руд. Голод, ранее неизвестный, стал постоянным гостем деревни. Только теперь — увы, слишком поздно! — начали широкие массы населения понимать, какое будущее сулили им новые владыки.
Вскоре дал о себе знать и инка Манко. Когда ему сообщили о положении вещей, он вышел из своих горных убежищ и снова стал организовывать сопротивление. Не прошло и нескольких месяцев, как его отряды появились в окрестностях Куско, подстерегая путешественников, грабя караваны, а иногда даже отваживаясь на открытые сражения с высылаемыми испанскими войсками. Перуанцы почти всегда оказывались разбитыми, но эти победы не приносили пользы испанцам. Отступив, туземцы быстро собирались с силами и продолжали партизанскую войну. Их набеги еще более увеличивали общий беспорядок и смуту.
Манко не на шутку начинал тревожить Пизарро.
— Индейцы разбиты наголову, — каждый раз доносили ему вожди отправляемых в горы военных экспедиций.
— А где Манко?
— Манко в горах, — гласил неизменный ответ.
— Значит, разбиты мы, — говорил Пизарро.
Убедившись в бесплодности вооруженной борьбы, наместник вступил в переговоры с неуловимым врагом. Обещал деньги — Манко отказывался. Сулил прощение и почетные должности — Манко не верил. Оставалось одно — сооружать укрепленные поселения во всех важных пунктах. Селившиеся в них колонисты щедро наделялись землей и приписными индейцами, получали ряд льгот, а в случае нужды даже съестные припасы, но были обязаны нести сторожевую службу и являться на сборный пункт по первому требованию. В короткое время по дороге, соединявшей Куско с Лимой, возникло несколько таких колоний, самой важной из которых был город Арекипа. Впоследствии он стал одним из самых цветущих городов Перу.
Пробыв в Куско около года и наладив более или менее безопасное сообщение между наиболее важными центрами страны, Пизарро вернулся в Лиму и принялся за мирную государственную работу. Он привлекал в Перу новых колонистов, продолжал постройку новых городов, налаживал добычу и разработку серебряных руд и эксплуатацию золотых россыпей. Обращено было внимание и на сельское хозяйство. По приказу наместника, из Испании стали ввозиться европейские злаки и фруктовые деревья. Пшеница, виноградная лоза, лимоны, апельсины, оливки — все это прекрасно прививалось на перуанской почве. Пизарро вряд ли стал бы так заботиться о сельскохозяйственном процветании своих владений, если бы знал, что через немного лет испанское правительство прикажет вырубить оливковые рощи и выкорчевать виноградные лозы, а ввоз саженцев признает тягчайшим преступлением. «Колония должна ввозить все пищевые продукты из своей старой родины, — рассуждали министры наследника Карла V, — иначе испанским земледельцам некуда будет сбывать хлеб и вино, да и колония, пожалуй, отложится от королевства».
Упоенный победами, поглощенный работой, Пизарро не очень тревожился неудачами Эрнандо и недовольством испанских придворных кругов. Посланная из Испании комиссия все еще не приезжала. Затем пришло известие, что корабль, на котором она ехала, потерпел крушение где-то у берегов Нового Света и большинство пассажиров и экипажа погибло. О судьбе Васко де-Кастро ничего не было известно, и можно было думать, что он тоже погиб. Миновала как будто и эта опасность. Теперь, через одиннадцать лет после начала завоевания, Пизарро чувствовал себя сильнее и увереннее, чем когда бы то ни было. Соперников у него больше нет. Манко где-нибудь и когда-нибудь возьмут в плен или прикончат, сторонники Альмагро перемрут от голода, колонистам надоедят бесплодные протесты, из новых поселенцев в стране образуются сильные кадры защитников, которым не страшны будут никакие восстания. За будущее опасаться нечего. Судьба дала ему такое богатство и такую власть, о каких не мечтал никакой конквистадор, и остается лишь пользоваться ее дарами.
Не обделила она Пизарро и семейным счастьем. Кончите, дочь Атагуальпы, с детства привыкшая к повиновению, — послушная и преданная жена. Она уже позабыла о позоре отца, о гибели сородичей и гордится мужем, перед которым одинаково трепещут и белые и перуанцы. Она коротает с ним его досуги и уже родила сына и дочь и родит еще и еще, хотя ее супругу скоро стукнет шестьдесят восемь лет. Дряхлость и смерть не скоро приходят к людям, которые прошли такую школу, как Франсиско Пизарро!
В начале июня 1541 года друзья наместника начали рассказывать ему неприятные вещи.
— Около Молодого Диего Альмагро собираются недовольные, — докладывал один. — Они поносят ваше превосходительство, произносят яростные речи, грозят бунтом.
— Недавно я, проходя мимо кучки солдат, подслушал их разговоры, — добавлял другой. — Солдаты хвалили покойного Альмагро и уверяли, что он был гораздо щедрее сеньора наместника. На это нужно обратить внимание, сеньор наместник, нужно принять меры…
Через несколько дней приходил третий доброжелатель и передавал слухи о том, что на сеньора наместника готовится покушение. Об этом сам он слышал в кабачке, но никаких подробностей не мог узнать.
Пизарро смеялся и твердил в ответ:
— Вздор, вздор, вздор!
Не о покушениях, а разве только о корке черствого хлеба можно мечтать этим людям, настолько нищим, что они занимают друг у друга плащи и рубашки, когда хотят показаться на улице. И, если голодные псы выбирают своим вождем щенка, это верный Знак, что они потеряли последние остатки разума. Конечно, сторонники Альмагро ненавидят лютой ненавистью Франсиско Пизарро, маркиза де-Альтавильяс. Ну и пусть себе ненавидят! Что может быть слаще для победителя, чем, бессильная злоба побежденных?
Еще через несколько дней сеньор Пикадо, секретарь, пришел в неурочный час и озабоченно доложил:
— Дело серьезное, сеньор наместник. Вчера ко мне прибежал священник церкви святого Яго и рассказал, что альмагристы составили заговор. В этом ему признался на исповеди один из заговорщиков. Покушение назначено на субботу двадцать шестого июня. Вас хотят заколоть, когда вы будете выходить из собора.
Пизарро расхохотался.
— Вы не понимаете, в чем дело, сеньор Пикадо. Попик все выдумал. Ему захотелось получить за услугу митру.
Сеньор Веласкес, главный судья, присутствовавший при этом разговоре, тоже рассмеялся и, сделав широкий жест рукой, внушительно сказал:
— Вашему превосходительству нечего опасаться, пока меч правосудия находится в этой руке. Недовольные у нас все на счету. Мы все знаем; и никого не боимся.
Тем не менее, уступая настояниям свиты, наместник решил в собор не итти.
Наступило 26 июня. Заговорщики собрались в доме Диего Альмагро и ждали известий. Когда им сообщили, что наместник, сославшись на болезнь, не пошел к обедне, поднялся переполох. Значит, все известно. Надо действовать сию же минуту, иначе будет поздно! Толпой выходят они на улицу и с криком: «Да здравствует король и Альмагро!» бегут ко дворцу наместника. На площади собираются кучки любопытных и смотрят, как оборванные альмагристы занимают входы здания и проникают внутрь. Им никто не мешает и никто не помогает. Если убьют наместника, туда ему и дорога. А если перебьют альмагристов, тоже не велика беда. В конце концов не все ли равно, кто будет обирать колонистов и грабить туземцев — Франсиско Пизарро или Диего Альмагро?
Пизарро в это время завтракал в довольно многочисленной компании. Когда послышался шум, гости всполошились и бросились к окнам. Сразу сообразив, в чем дело, они поспешили скрыться. Одни убежали через коридор, другие, в том числе толстый судья Веласкес, выпрыгнули в сад. Только трое остались защищать наместника. Пизарро приказал адъютанту запереть дверь на лестницу и с помощью брата по матери, де-Алькантара, начал надевать доспехи. Но адъютант не исполнил приказания и почел за лучшее вступить с заговорщиками в переговоры. Его тут же закололи. Та же участь постигла трех подбежавших пажей, пытавшихся преградить путь в столовую.
 Пизарро.
Пизарро.
Де-Алькантара с двумя оставшимися гостями бросается навстречу нападающим. Через минуту он уже пронзен шпагами. Пизарро, не успевший надеть латы, наматывает на левую руку плащ и бросается на выручку брату. Слишком поздно! Алькантара падает, и Пизарро получает сразу несколько ударов в грудь. Он валится на пол. Кровь из ран заливает весь пол. «Иисусе!» хрипит он, обмакнув деревенеющий палец в собственную кровь, и пишет на полу крест.
«Смерть, смерть! — проносится у него в мозгу. — Смерть и потом ад, если не поможет вот это!»
Вперив в крест помутневшие глаза, он умирает.
Покончив с Пизарро, заговорщики рассеялись по городу, роздали оружие единомышленникам, убили Пикадо и нескольких сановников, сменили власть и провозгласили губернатором столицы Диего Альмагро.
Поздно ночью немногие, очень немногие друзья украдкой отнесли труп наместника на кладбище, священник украдкой отслужил заупокойную мессу, могильщики наскоро опустили гроб в могилу. Все торопились поскорее отойти от покойника, чтобы не подвергнуться той же участи. Только в 1607 году останки Пизарро были перенесены под своды столичного собора.
XXXVI
Смерть Пизарро не решила вопроса о власти. Слишком много было охотников до Пизаррова наследства, слишком сильно возбуждены страсти, чтобы переворот мог закончиться прочной победой заговорщиков. 26 июня открылась новая страница перуанской истории — эпоха новой гражданской войны, закончившейся лишь в 1548 году гибелью последнего из претендентов. В отличие от предыдущей междоусобицы борьба теперь велась не только между двумя партиями, но и между каждой из них и испанской короной. Наряду к альмагристами и пизарристами появилась еще третья сторона — представители короля. Перу напоминало палубу пиратского корабля после убийства капитана. Матросы, боцман, его помощники бегут сломя голову к каюте, где запрятаны награбленные сокровища, и, призывая всех святых в свидетели своей правоты, режут друг друга до тех пор, пока не валятся от ран или усталости. Отдохнув, каждый опять начинает отстаивать правое дело, и свалка продолжается до тех пор, пока незаметно подъехавшее полицейское судно не высаживает на борт военный отряд, который арестовывает всех участников драки и конфискует в пользу казны спорное имущество.
То же происходило и в Перу. Противники гибли один за другим, а свалка все продолжалась и продолжалась.
Королевский комиссар Васко де-Кастро не погиб, как предполагали в Лиме, а вскоре после смерти Пизарро благополучно высадился на побережье Караибского моря и направился в Перу. Узнав об убийстве Пизарро, он поспешил добраться до Квито и объявил себя временным преемником наместника. Вокруг него собрались старые соратники Франсиско Пизарро и заместители Гонзало Пизарро. Хуан Пизарро уже умер, а самого Гонзало в это время в Квито не было: еще год назад он, по приказу брата, во главе многочисленной экспедиции отбыл на восток разведывать таинственные земли, лежавшие за восточными склонами Анд.
Диего! Альмагро, успевший подчинить себе несколько провинций, отказался признать власть королевского комиссара. Борьба между ним и войсками Васко де-Кастро продолжалась до сентября 1542 года. В последнем, решительном сражении альмагристы были разбиты. Диего бежал в Куско и там был схвачен и казнен. Большинство солдат, сохранивших ему верность, было взято в плен, и лишь несколько отрядов скрылось в горах.
Альмагристы перестали существовать; пизарристы, хотя и неохотно, признали королевского представителя. Но оставалась еще четвертая сторона — инка Манко, вождь порабощенного туземного населения. Несмотря на все усилия испанцев, его не удалось ни убить, ни взять в плен. Находчивый и смелый, он появлялся в самых неожиданный местах, жег колонии, грабил караваны и убивал всех попадавшихся ему испанцев без различия партий. У него уже не было тех многотысячных полчищ, которые еще недавно заставляли дрожать завоевателей, но и небольшие его отряды причиняли столько хлопот, что испанцы ни одной минуты не были уверены в прочности своего владычества. Случайность избавила белых от этого страшного врага: в начале 1544 года одна из уцелевших альмагристских шаек набрела в горах на перуанский лагерь, где находился инка, и попросила гостеприимства. Испанских солдат приняли. Ночью, вероятно опасаясь нападения туземцев, они убили Манко и были сами перебиты все до одного. В лице инки погиб последний человек, вокруг которого объединялись наиболее деятельные и непримиримые слои перуанского населения. Массы остались без вождя. Предоставленные самим себе, не привыкшие к самодеятельности, они послушно склонились под игом белых. С их стороны испанцам теперь нечего-было опасаться.
Не успел Васко де-Кастро окончательно расправиться с альмагристами, как уже пришлось вести переговоры с наиболее серьезным претендентом, Гонзало Пизарро, который в конце 1542 года вернулся из своей экспедиции.
Гонзало обладал недюжинными военными способностями, большим мужеством и железной выносливостью. Все эти качества проявлялись уже и раньше, во время завоевательных походов, но особенно ярко они обнаружились во время последней экспедиции. Отряду Гонзало после мучительного и долгого пути, стоившего жизни чуть не половине участников, удалось дойти до реки Напо, притока Амазонки.
Двигаясь вниз по ее течению, путешественники наткнулись и на самую Амазонку, но вследствие отсутствия съестных припасов и снаряжения не могли итти дальше и вынуждены были повернуть обратно. Орельяна, отделившийся от отряда Гонзало Пизарро, тронулся вниз по течению Амазонки, доехал до океана и благополучно возвратился в Испанию. В историю открытий это двухлетнее путешествие, одно из самых трудных и длительных, когда-либо предпринятых в Новом Свете, вписало блестящую страницу. О нем создавались легенды, о нем писались целые томы. Но золота оно не принесло, а драгоценные пряности, обнаруженные в этих широтах, не могли быть привезены за отсутствием средств передвижения. В материальном смысле экспедиция кончилась полной неудачей. В Квито вернулось лишь восемьдесят человек — около трети путешественников. Худые, как скелеты, еле державшиеся на ногах, в звериных шкурах вместо одежды, они походили не на отважных воинов, а на беспомощные жертвы кораблекрушения. Не в лучшем состоянии находился и сам Гонзало. Отстаивать наследство брата с оружием в руках, вести в бой своих полумертвых сподвижников против войск Васко де-Кастро было, разумеется, невозможно.
Гонзало временно смирился. Он почел за лучшее последовать совету королевского комиссара и удалился в свои обширные горные поместья, где вскоре начали работу тысячи перуанцев, добывая из каменных недр серебряную руду. Рудники принесли ему такие богатства, что через два года он уже мог навербовать достаточный отряд и приступить к завоеванию наместничества.
Честолюбивые планы Гонзало вряд ли могли бы увенчаться успехом, если бы ему не помогла политика испанского
правительства. В 1543 году королевский совет, боясь, как бы в Новом Свете не образовалось таких же могущественных грандов, как некогда в Испании, издал законы, охранявшие права туземного населения. Наиболее важной частью этих законов был тот отдел, где говорилось о правах туземцев. Рабство отменялось, и все индейцы объявлялись «свободными вассалами его величества». Индейцы, уже приписанные к тем или другим лицам, оставались в крепостной зависимости до конца жизни их владельцев. Но в ряде случаев индейцы освобождались немедленно. Владельцы, плохо обращавшиеся со своими рабами, государственные чиновники, монастыри и религиозные братства и все лица, принимавшие участие в гражданских войнах последних лет, должны были отпустить на волю своих рабов тотчас же по опубликовании закона. А так как большинство колонистов выступало с оружием в руках за или против Пизарро, то закон коснулся почти всех их. Проводить в жизнь новое законодательство было поручено Бласко Нуньесу, получившему титул вице-короля и посланному на смену Васко де-Кастро.
Когда Нуньес приехал в Лиму и начал немедленно применять «законы об индейцах», колонисты были возмущены до глубины души. На новые законы они смотрели, как на попрание их священнейших прав. Вместо привольной и беззаботной жизни рабовладельца — награда за труды и бранные подвиги — какие-то придворные писаки подсовывали им трудовую лямку крестьянина! Они должны были в поте лица своего добывать хлеб насущный. Если бы они знали, что их ожидает Такая судьба, ни один из них не стал бы завоевывать Новый Свет во славу испанской короны. Вице-короля засыпали прошениями и протестами, молили отсрочить проведение новых постановлений. Все было напрасно. Бласко Нуньес строго следовал букве закона и ежедневно отпускал на свободу сотни индейцев. Потеряв надежду на уступки, колонисты обратились к Гонзало Пизарро. Он был опытный воин, способный полководец, а самое главное — он был лично заинтересован в рабовладении. В 1544 году вспыхнуло открытое восстание. Верховный суд объявил Бласко Нуньеса смещенным, и вице-король был отправлен обратно в Испанию. Управление страной было вверено Гонзало Пизарро, получившему титул капитан-генерала, а в Испанию послано особое посольство с ходатайством об утверждении «народного избранника».
На ходатайство последовал отказ, и в Перу был послан в качестве полномочного комиссара хитрый, умный и энергичный монах Педро де-ла-Гаско. Ему удалось склонить на свою сторону флот и широкими обещаниями привлечь большую часть колонистов. Постепенно вокруг него собрались значительные вооруженные силы. Когда Гонзало отказался сложить губернаторское звание, началась длительная война. Она закончилась в 1548 году битвой при Хакихагуане. Битвы, в сущности, и не было: в самом начале сражения большая часть солдат Гонзало перешла на сторону противника, и самозваный губернатор сдался на волю победителя. Его немедленно судили и приговорили к обезглавлению.
Во время ареста и перед казнью он остался верен себе и лег под топор таким же надменным, спокойным и мужественным, каким он был в течение всей своей жизни. Династия Пизарро потеряла последнего своего представителя. Малолетний сын Франсиско Пизарро умер, а Эрнандо Пизарро прочно засел в тюрьме и вышел оттуда стариком, неспособным ни к борьбе, ни к интригам.
«Умиротворение» страны было завершено, и вплоть до эпохи революционных войн, закончившихся провозглашением независимости (1821 год), Перу оставался верноподданной колонией испанской короны, а Лима — главным центром всех американских колоний Испании. В стране воцарилось относительное спокойствие — спокойствие сытости наверху и спокойствие отчаяния внизу.
XXXVII
В судьбе Перу были заинтересованы не только пизарристы, альмагристы и испанский король, но и десятимиллионная масса перуанского народа. С ней никто не советовался, ее никто не спрашивал. Ею только управляли и распоряжались, как подъяремным скотом.
Как же сложилась жизнь этого народа после окончательного укрепления власти завоевателей?
Если бы в половине шестнадцатого столетия умного испанца спросили, как живут покоренные индейцы, он ответил бы: «Поезжайте на Потоси — и увидите».
Что такое Потоси? На одной из самых высоких точек андской горной цепи, на семнадцатом градусе южной широты и шестьдесят третьем градусе западной долготы по Гринвичскому меридиану, возвышается темная громада в четыре тысячи пятьсот метров высоты, настолько правильной конической формы, что кажется выточенной на токарном станке. На склонах ее не видно зелени. Сухая, бесплодная, темно-бурого, почти черного цвета, она словно поджарена на сковородке и всем видом своим нагоняет тоску. По доброй воле здесь, кажется, не поселился бы ни один человек. Ни одна хижина, ни один шалаш не оживляли раньше ее унылого однообразия. Но в 1543 году соратники Пизарро открыли на Потоси серебро, и на неприютной громаде закипела жизнь. Несмотря на безводье и зной, таящееся в ее недрах богатство привлекло тысячи людей всех рас и народностей, и вековая тишина сменилась шумом и суетой неустанного, ни день, ни ночь не прекращающегося труда.
В 1545 году склоны Потоси были уже пробуравлены сотнями черных дыр и напоминали гнезда горных пчел. Эти дыры — входы в рудники. Вокруг, на подошве горы, рассеялись большие и маленькие поселки. Здесь живут индейцы, «свободные вассалы его величества», пробивающие киркой горные недра и выносящие оттуда на собственных спинах драгоценный груз. Скоро и на всех прилегающих холмах тоже появились люди, и словом «Потоси» стали называть целый округ, имя которого звучит райской музыкой в ушах испанца и нагоняет ужас на туземца.
Ночью гора — сказка. На ее верхушке и на гребнях соседних холмов загораются тысячи огней, сверкающих, словно праздничная иллюминация. Это плавильные печи, отопляемые древесным углем. Ручные раздувальные мехи заменены здесь ветром, с большой силой дующим на высотах, — способ, которым с незапамятных времен пользовались индейцы и который теперь пущен в ход испанцами. Когда сюда пригоняют обитателей жарких областей — вопреки закону, но с согласия властей — и ледяной вихрь начинает гулять по их полуобнаженным спинам, они заболевают, валятся, умирают тысячами и сейчас же заменяются новыми, которым через неделю-другую предстоит та же участь. Изо дня в день по ведущим на Потоси дорогам тянутся под конвоем солдат отряды индейцев. Их спины иссечены, в глазах застыл ужас и ожидание неминуемой смерти. Они обречены. Обречены их дети, обречены их внуки. Эта проклятая гора для них могила. Кроме истязаний, побоев, голода и болезней, они не встретят здесь ничего. Но зато руки их будут работать не отдыхая, спины будут носить руду не разгибаясь, и горы серебра будут расти с непостижимой, сказочной быстротой.
Да и как же им не расти, когда во многих пластах заключается семьдесят пять процентов серебра и только двадцать пять — каменной породы? Как же им не расти, когда из всех этих рудных богатств завоеватели выбирают только наиболее лакомые куски, предоставляя остальное далеким потомкам?
Через несколько лет Потоси вошло в поговорку. О богатом имении говорили: «Это настоящее Потоси», а когда видели на улице веселого забулдыгу, шутили: «Он так радуется, точно получил в наследство Потоси».
На склонах Потоси живут не одни только индейские рабочие и испанские предприниматели — здесь имеются также служители церкви и чиновники короны. Но и те и другие смотрят на сказочную гору, как на место ссылки, и, скрашивая скучную жизнь бутылкой и карточной игрой, стараются не замечать того, что их окружает. Об участи туземцев от них ничего не узнают ни современники, ни потомки. Лишь изредка случай забрасывает в их среду людей, чувствующих и понимающих человеческие страдания. К числу таких людей принадлежит и сеньор Эстабано Иглесиас, окружной судья. Власти смотрят на него, как на беспокойного человека, который вечно сует нос не в свое дело и докучает епископам и губернаторам жалобами и докладными записками. Пятнадцать лет прожил он в Перу, а все еще не научился держать язык за зубами и не выносить сора из избы. Когда он слишком надоел в столице, его послали сюда на исправление. Но он не исправился и здесь. Он по-прежнему строчит обличительные записки, хотя и знает, что никуда дальше архива они не попадут.
В июньский вечер 1556 года он занят этой же работой. Он сидит за деревянным столом и долго смотрит в окно на сверкающие огнями склоны горы. Он ясно представляет себе стоны и вздохи темнокожих людей, и нестерпимое пламя печей, и ледяное дыхание полночного ветра. «Ад, настоящий ад!» произносит он и берется за перо. На этот раз он пишет докладную записку знаменитому испанскому епископу Лас-Касас — одному из очень немногих испанских епископов, участливо относящихся к туземному населению.
«Ваше преосвященство! Подлинно из недр адовых пишу я вам, сеньор епископ. Я пробыл здесь пятнадцать лет, и каждый год жег меня, как горящая смола жжет грешников. На моих глазах истреблялись целые округа. На моих глазах пьяные солдаты потехи ради расстреливали из аркебуз младенцев, убивали их отцов, оскорбляли их матерей. При инках страна эта была страной изобилия. Теперь большая часть ее превратилась в пустыню. Двадцать лет назад в горах бродили огромные стада лам и драгоценных вигоней. Чиновники инки строго следили за тем, чтобы животных не убивали, и из шерсти их выделывались знаменитее ткани, столь ценимые в Испании. Теперь этих стад вы почти не увидите. Испанцы убивали этих животных для развлечения, индейцы — от голода.
Двадцать лет назад в населенных местностях Перу были проложены горные тоннели, снабжавшие влагой безводные местности. Их тщательно поддерживали и охраняли. Теперь о них никто не заботится. Большая часть их осыпалась, вода перестала течь по каналам, и цветущие некогда деревни стали пустырями. Испанцы воздвигают в городах пышные храмы и дворцы, а деревни нищают и разоряются. Недавно я был в одном из наиболее населенных округов древнего Перу. Двадцать лет назад склоны гор зеленели там нивами и садами, теперь большая часть жителей убежала далеко в горы. Сады засохли, нивы заросли сорняками.
Его величество король издал для индейцев милостивые законы. Но кому поручено их исполнение? Чиновникам, которые за грош готовы продать чорту собственную душу. Колонисты подносят им подарки, и чиновники закрывают глаза на все. Большинство индейцев по закону давно уже пора было бы освободить, а они и теперь влачат рабские цепи и изнывают в непосильных трудах. Их должны были бы охранять духовные отцы, коим его святейшество папа вверил защиту новообращенных. Но что мне сказать о сих волках в овечьей шкуре? Большая часть их живет в праздности или руками все тех же индейцев строит роскошные церкви и монастыри. Недобрые пастыри не заботятся о своей пастве. Когда индейцы приходят к ним с жалобами, пастыри доносят на жалобщиков помещикам, а когда помещик привозит этим служителям церкви богатые вклады, они сразу забывают о притеснениях, чинимых индейцам, и обещают жертвователям царство небесное. Удивительно ли, что индейское население вымирает сплошь? Когда я приехал сюда, чиновники инки насчитывали в Перу от десяти до одиннадцати миллионов жителей. По приблизительным подсчетам наших властей, теперь в Перу наберется не больше восьми с половиной миллионов. За пятнадцать дет население уменьшилось почти на четверть. Сколько же из него останется в живых еще через пятнадцать лет, если так будет продолжаться и впредь?»
Сеньор Иглесиас положил перо и задумался. Он глядел в окно и видел вдали бесчисленные огни, и клубы розового дыма, и черную завесу, разостлавшуюся над горой и скрывшую звезды. Неподалеку, в ночном кабачке, слышались дикие песни, хохот, топот пляшущих ног по деревянному полу. Это пировали хозяева. А там, на горе, темнокожие люди молча несли бремя рабского труда, лишений и болезней и безропотно шли навстречу смерти. И так было каждый день, каждую ночь…
— Сколько же времени это продолжится? Неужели так будет всегда? — прошептал сеньор Иглесиас. — Целые груды бумаги исписал я, а все осталось так, как было. Проклятое, бессильное перо! Не перо тут нужно, а меч. Но кто подымет его?
Сеньор Иглесиас склонил голову на руки и задумался — думы были тяжелые, неотвязные…
Примечания
1
Реал — около 10 копеек.
(обратно)
2
Гранды — крупные землевладельцы.
(обратно)
3
Альгвасилы — полицейские.
(обратно)
4
Дукат — около 6 рублей 50 копеек.
(обратно)
5
Падре — священник.
(обратно)
6
Алькальд — выборный и утвержденный правительством старшина общины, выполняющий судебные функции.
(обратно)
7
Мараведи — треть копейки.
(обратно)
8
Испанская миля — около 7 километров.
(обратно)
9
Конквистадоры — вожди небольших добровольных испанских и португальских военных отрядов, завоевавших Среднюю и значительную часть Южной Америки.
(обратно)
10
Около 150 тысяч рублей.
(обратно)
11
Кастельяно — около 300 тысяч рублей.
(обратно)
Оглавление
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
*** Примечания ***


 Аутодафе в Испании.
Аутодафе в Испании.
 Корпус морского судна XV–XVI века.
Корпус морского судна XV–XVI века.
 Выездка Христофора Колумба в Америке. Гравюра XVI века.
Выездка Христофора Колумба в Америке. Гравюра XVI века.
 Христофор Колумб. Портрет маслом Альтиссима. 1555 год.
Христофор Колумб. Портрет маслом Альтиссима. 1555 год.
 Истязание индейцев.
Истязание индейцев.
 Судно конца XV века. Гравюра 1486 года.
Судно конца XV века. Гравюра 1486 года.
 Индейская засада на деревьях. Гравюра начала XVII века.
Индейская засада на деревьях. Гравюра начала XVII века.
 Доспехи Кортеса.
Доспехи Кортеса.
 Жители страны инков.
Жители страны инков.
 Постройка времен инков.
Постройка времен инков.
 Пизарро.
Пизарро.
 Карл V
Карл V
 Фердинандо Кортес. Медаль 1529 года.
Фердинандо Кортес. Медаль 1529 года.
 Развалины построен времен инков.
Развалины построен времен инков.
 Жертвоприношение у инков. Гравюра 1731 года.
Жертвоприношение у инков. Гравюра 1731 года.
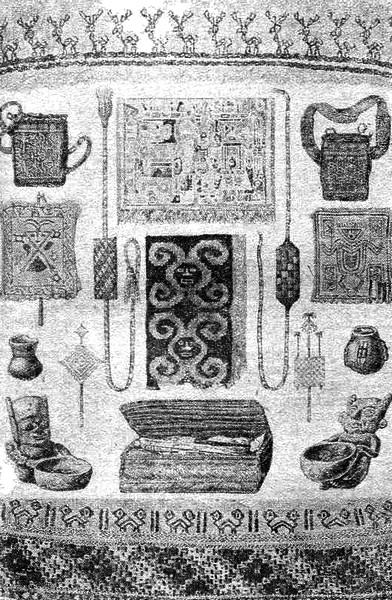 Перуанские древности.
Перуанские древности.
 Древний мост в Перу.
Древний мост в Перу.
 Перуанские древние сосуды.
Перуанские древние сосуды.
 Постройки времен инков.
Постройки времен инков.
 Постройка времен инков.
Постройка времен инков.
 Древний перуанский ковер.
Древний перуанский ковер.
 Перуанские древности.
Перуанские древности.
 Атагуальпа. Гравюра 1685 года.
Атагуальпа. Гравюра 1685 года.
 Шествие с дарами в честь Солнца. Гравюра 1731 года.
Шествие с дарами в честь Солнца. Гравюра 1731 года.
 Развилины дома, в котором жил плененный Атагуальпа.
Развилины дома, в котором жил плененный Атагуальпа.
 Город Куско. Гравюра XVII века.
Город Куско. Гравюра XVII века.
 Казнь Атагуальпы. Гравюра 1789 года.
Казнь Атагуальпы. Гравюра 1789 года.
 Инка приносит жертву Солнцу. Гравюра 1731 года.
Инка приносит жертву Солнцу. Гравюра 1731 года.
 Перуанская резьба по камню.
Перуанская резьба по камню.
 Развалины дворца инков.
Развалины дворца инков.
 Воины инков. Роспись древнего сосуда.
Воины инков. Роспись древнего сосуда.
 Борьба за канатный мост. Гравюра начала XVII века.
Борьба за канатный мост. Гравюра начала XVII века.
 Автограф Пизарро (справа и слева — начертания Пизарро, в середине — подпись секретаря).
Автограф Пизарро (справа и слева — начертания Пизарро, в середине — подпись секретаря).
 Герб Пизарро.
Герб Пизарро.
 Пизарро.
Пизарро.