Элен Берр
Дневник
1942–1944
Переводчик и издательство благодарят за помощь в подготовке книги Мемориал Шоа в Париже, Карен Тайеб, Арину Истратову, Сесиль Вессье, Елену Баевскую.
Особая благодарность Мариэтте Жоб, терпеливо отвечавшей на все вопросы и безвозмездно предоставившей для данного издания фотографию книги Поля Валери
Предисловие[1]
1942 год. По Парижу идет молодая девушка. Смутная тревога и дурные предчувствия томят ее той весной, и потому в апреле она начинает писать дневник. С тех пор прошло более полувека, но сегодня, читая эти страницы, мы становимся ее современниками. Проживаем день за днем вместе с ней, страдавшей от одиночества в оккупированном Париже. И слышим совсем близко ее голос в онемевшем городе…
В первый день, во вторник 7 апреля 1942 года, она идет на улицу Вильжюст, 40, в дом Поля Валери, — старый поэт, которому она набралась смелости написать, оставил для нее у консьержки книгу с дарственной надписью. Она звонит в дверь, на звонок с лаем выскакивает фокстерьер. «Месье Валери мне ничего не оставлял?» На форзаце Валери написал: «Для мадемуазель Элен Берр». И ниже: «Ясным утром свет так ласков и дышит жизнью синева».
Читаешь записи за апрель и март, и кажется, что для Элен Берр все в Париже созвучно этой фразе Поля Валери. Она ходит в Сорбонну, пишет диплом по английской литературе. Встречается с «сероглазым юношей»; они познакомились на концерте в Литературном доме на улице Суффло — слушали кантату Баха, концерт для кларнета и оркестра Моцарта… С ним и другими друзьями она гуляет по Латинскому кварталу. «На бульваре Сен-Мишель людно и солнечно, — пишет Элен. — От улицы Суффло до бульвара Сен-Жермен простирается моя страна чудес». Иногда она на целый день уезжает в загородный дом в Обержанвиле под Парижем. «День распустился во всей красе, с чистого, полного прохлады рассвета до тихого, мягкого вечера, нежно дохнувшего на меня, когда я закрывала ставни». Ей двадцать лет, она тянется к счастью, ей нравится скользить по нарядной поверхности жизни, в ней сочетаются артистизм и трезвый ум. Она увлечена английской словесностью, особенно поэзией, и, возможно, со временем станет тонким писателем вроде Кэтрин Мэнсфилд. Читая первые полсотни страниц ее дневника, почти забываешь, в какое страшное время он писался. Но вот в один апрельский четверг после лекций в Сорбонне она гуляет с приятелем по Люксембургскому саду. Они остановились у пруда. Элен любовалась солнечными бликами на воде, игрушечными корабликами и синим-небом — той самой, упомянутой Полем Валери в надписи на книге, синевой. А ее спутник сказал:
— Немцы победят в этой войне.
— Что же с нами будет, если они победят?
— Да ничего не изменится. Будет все то же: солнце, вода…
— Но любоваться светом и водой они позволяют не всем! — через силу выговорила я.
И хорошо, что не промолчала, — мне было бы стыдно.
Это первое упоминание о тьме, сгущающейся вокруг, и собственном душевном смятении, но прозвучало оно полунамеком, вскользь, так что мы лишь догадываемся, как одиноко ей в этом равнодушном солнечном городе. Кончается весна 1942 года, Элен ходит теми же парижскими улицами, но контраст между светом и тьмой все сильнее, и постепенно все охватывает мрак.
А в июне 1942-го начинаются настоящие испытания. В понедельник 8-го она должна первый раз надеть желтую звезду. Ее тяга к счастью и гармонии составляет диссонанс с чернотой и ужасом происходящего. «На улице чудесная погода, ясное утро, совсем как у Поля Валери, — пишет она. — И сегодня я впервые выйду из дома с желтой звездой. Две стороны нынешней жизни: светлое утро — воплощение свежести, молодости, красоты и желтая звезда — порождение варварства и зла». «Севр-Вавилон» — Латинский квартал. Двор Сорбонны. Библиотека… Обычные маршруты. Как поведут себя ее товарищи? «Я чувствовала: всем им горько и неловко». В метро на станции «Военная школа» контролер посылает ее в последний вагон, отведенный для пассажиров с желтыми звездами. Элен рассказывает о своих противоречивых чувствах. «Сначала я решила ее [звезду] не носить. Надеть ее — значило бы унизить себя, подчиниться немецким законам… Но вечером передумала — теперь мне кажется, что не надеть звезду — предательство по отношению к тем, кто наденет». На следующий день, наедине с собой она отвечает на воображаемый вопрос, почему она все же надела звезду: «Потому что хочу испытать свою смелость».
24 июня все тем же ровным тоном Элен описывает ужасное происшествие, которое ей пришлось пережить и которое определило все дальнейшее. «Хотела записать еще вчера вечером… Заставлю себя сделать это сегодня утром, чтобы ничего не забыть». А случилось вот что: ее отец был арестован и выдан французским полицейским Управлением по делам евреев немецкому гестапо, затем переведен в префектуру полиции, и вскоре его должны отправить в лагерь Дранси. Причина: желтая звезда на пиджаке была не пришита, а только приколота (чтобы легче переносить на другую одежду). Похоже, в префектуре не делали особого различия между «французскими» и «иностранными» евреями. Итак, Реймон Берр, отец Элен, горный инженер, вице-президент концерна «Кюльман», кавалер Военного креста и воинского ордена Почетного легиона и один из восьми человек своей «расы», защищенных 8-й статьей закона от 3 октября 1940 года («В соответствии с должным образом; обоснованным персональным решением Государственного совета на евреев, имеющих особые заслуги перед французским государством в области литературы, науки, искусства, не распространяются предусмотренные настоящим законом ограничения»), сидит на деревянной скамье под охраной полицейских. Жена и дочь добились разрешения увидеться с ним. У него отняли галстук, шнурки и подтяжки. «Чтобы нас успокоить, полицейский объяснил, что таков приказ, поскольку накануне один заключенный чуть не повесился».
В ту минуту, когда Элен увидела отца, которого стерегут, как преступника, в грязной каморке полицейской префектуры, в ее уме происходит окончательный перелом; между этим опытом и спокойной студенческой жизнью пролегла, как она пишет, «непреодолимая пропасть». Однако тон дневника остается прежним, без надрыва и пафоса. Сдержанные короткие фразы доказывают душевную стойкость Элен. Депортация отца в Дранси заставила ее отчетливо осознать все, что омрачает и отравляет парижскую атмосферу лета 1942 года, но чего не видят те, кто занят повседневными делами, или предпочитает закрывать глаза. У Элен глаза открыты. Хрупкая девушка, артистическая натура, она могла бы ради самосохранения или просто от ужаса отвести взгляд могла бы, в конце концов, уехать в свободную зону
[2]. Но нет, она: не прячется, напротив, в ней просыпается естественное сочувствие, — желание помогать тем, кому плохо и больно. 6 июля 1942 года она записывается волонтером в УЖИФ
[3], чтобы оказывать помощь узникам лагерей Дранси и Луаре. Отныне каждый день она сталкивается с семьями арестованных, видит вблизи непрерывный кошмар: Зимний стадион
[4], Дранси, вокзал Бобиньи, откуда по утрам отправляются набитые людьми товарные составы. «Вам нечего тут делать! — говорит ей один из руководителей УЖИФ. — Послушайтесь моего совета — уходите». Но она остается. Выбор сделан, и обратного пути нет.
Думая о ее мужестве, искренности, чистой душе, я вспоминаю строки Рембо:
Элен предчувствовала, что этот путь ведет к смерти. «Счет идет уже не на недели, а на часы», — писала она. Или еще: «Мне почему-то нужно искупление». Некоторые страницы дневника Элен Берр, который она задумала как послание Жану, тому самому «сероглазому юноше» из Латинского квартала, не зная даже, попадет ли оно когда-нибудь в его руки, напоминают написанные в то же время пронзительные письма философа Симоны Вейль Антонио Атаресу
[6]. Да, Симона тоже могла бы написать: «С друзьями, которые появились в этом году, меня связывают такие искренние, глубокие, уважительно-нежные чувства, каких не может быть ни с кем другим. Это тайный союз товарищей по несчастью и по борьбе». Но в отличие от нее Элен Берр полна счастливого задора, она радуется погожим дням, с удовольствием бродит по солнечным парижским улицам со своим сероглазым другом, а в списке ее любимых книг нет ни одного философского трактата — только романы и стихи.
На девять месяцев дневник прерывается. А потом Элен возвращается к нему в ноябре 1943-го. Красивый плавный почерк первой части рукописи становится угловатым и неровным. Нет ничего красноречивее, значительнее этой девятимесячной немоты — за ней стоит то невообразимое, что Элен пришлось увидеть и пережить. «Все женщины, которые работали со мной, арестованы», — записывает она. Лейтмотив: «Другие не знают…», «Никто не понимает», «Не могу говорить — мне не поверят…», «Слишком много такого, о чем не расскажешь…» И внезапное признание: «Никто никогда не узнает, каких ужасов я навидалась этим летом».
Или вот: «Мы сейчас живем в большой истории. Те, кто облечет теперешнюю жизнь в слова, смогут по праву гордиться собой. Но будут ли они знать, сколько человеческих страданий вмещает каждая строка этого описания?» После долгого молчания голос Элен звучит так же чисто, но словно доносится издалека, почти так же, как голос Этти Хиллесум в «Письмах из Вестерборка»
[7]. Она еще не вступила в последний круг ада. И привычно подмечает волнующие мирные мелочи: воротца в парк Тюильри, листья на воде; восхищается немеркнущей красотой Парижа. Покупает в книжной лавке Галиньяни Конрада и Стерна. Но все чаще по скупым обмолвкам, по упомянутым в дневнике названиям улиц мы понимаем, что ее носит по опасным, гиблым местам. Улица Бьенфезанс. Это там, прямо на работе, арестуют таких же, как она, волонтеров социальной службы, в том числе ее подругу Франсуазу Бернейм. Сама Элен только чудом не попала в эту облаву. Улица Клода Бернара. Приют для детей и подростков, где подонки-полицейские из Управления по делам евреев занимаются грабежом — потрошат вещи, конфискованные у тех, кого отправили в концлагеря. Улица Воклен. Здесь жили девушки, которых схватили и депортировали за несколько дней до освобождения Парижа. Детский центр на улице Эдуара Нортье в Нейи. Элен часто бывала там, занималась с детьми, водила их на прогулки, а заболевших отвозила в детскую лечебницу на улице Севр или в больницу Ротшильда на улице Сантера. Среди них маленький Дуду Вайнриб «с лучезарной улыбкой», малышка. Одетта, Андре Кан — «любимчик из Нейи», которого она держала за руку, и четырехлетний мальчик, чьего имени никто не знал. Почти всех заберут 31 июля 1944 года.
Как-то раз я решил пройти по всем этим улицам, чтобы испытать на себе одиночество Элен Берр. Улицы Клода Бернара и Воклен расположены неподалеку от Люксембургского сада, на границе «континента Контрэскарп», как назовет эту местность поэт
[8], в живописном оазисе посреди города — трудно вообразить, что и туда проникло зло. Улица Эдуара Нортве — рядом с Булонским лесом. Наверняка в иные вечера 1942-го всем, кто гулял по этим улицам, война и оккупация казались чем-то далеким и нереальным. Всем, кроме молодой девушки по имени Элен Берр, которая знала, что прямо тут, вокруг страдают люди и творятся зверства, но понимала, что сказать об этом спокойным и равнодушным прохожим невозможно. И потому писала дневник. Догадывалась ли она, что через много лет он будет прочитан? Или боялась, что ее голос заглохнет так же, как голоса миллионов бесследно исчезнувших жертв? Открывая эту книгу, хорошо бы помолчать, прислушаться к голосу Элен Берр и пойти с нею рядом. Этот голос и эта душа останутся с нами на всю жизнь.
Патрик Модиано, Лауреат Нобелевской премии по литературе 2014 года
Это мой дневник. Остальное находится в Обержанвиле

Первая страница дневника, запись от 7 апреля 1942
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
1942
Вторник, 7 апреля, 4 часа дня
Сегодня я ходила… в дом, где живет Поль Валери. Собралась наконец забрать свою книгу. После обеда было солнечно, ни намека на дождь. Я доехала на 92-м до площади Звезды. Потом пошла по улице Виктора Гюго и тут стала трусить. На углу улицы Вильжюст чуть не повернула обратно. Но строго сказала себе: «Надо отвечать за свои поступки.
There’s по one to blame but you?[9]». И робости как не бывало. Самой странно стало, с чего это я вдруг испугалась. Всю прошлую неделю и сейчас, до этой самой минуты, я не видела в своем поступке ничего особенного. Это мама сбила меня с толку — она ужасно удивлялась, как это я решилась на такую дерзость. А по-моему, все очень просто. Я шла и, как всегда, витала в облаках. Позвонила в дверь дома номер 40. На звонок с лаем выскочил фокстерьер, потом появилась консьержка. Недоверчиво спросила: «Вы к кому?» Я ответила самым непринужденным тоном: «Месье Валери мне ничего не оставлял?» (При этом как-то отстраненно — как будто глядя на себя издалека — удивлялась собственной наглости.) Консьержка шагнула в свой закуток: «На чье имя?» — «Мадемуазель Берр». Она направилась к столу. Я точно знала — книга здесь. Консьержка поискала на столе и протянула мне сверток в белой бумаге. «Большое спасибо», — сказала я. «К вашим услугам», — любезно ответила она. И я вышла, едва успев разглядеть свое имя, аккуратно выведенное на свертке. А на улице сразу его развернула. На форзаце тем же разборчивым почерком было написано: «Для мадемуазель Элен Берр». И ниже: «Ясным утром свет так ласков и дышит жизнью синева. Поль Валери».
Радость захлестнула меня — радость, созвучная тому, как виделся мне мир, поющая в унисон с веселым солнцем и чисто умытым, украшенным пенистыми облаками синим небом. До дому я дошла пешком, довольная своей маленькой победой — что-то скажут родители! — и тем, что самое невероятное сбывается.

Книга, которую Поль Валери подписал для Элен Берр.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
* * *
Жду мисс Дэй
[10] — она должна прийти к ужину. Небо вдруг потемнело, дождь хлещет в окна; кажется, будет нешуточная гроза — вот уже молния сверкнула, прогремел гром. Завтра мы собираемся устроить пикник в Обержанвиле
[11] — будут Франсуа и Николь Жоб
[12], Франсуаза и Жан Пино, Жак Клер. Еще недавно, спускаясь по ступенькам на Трокадеро, я с радостью думала об этом: по крайней мере можно будет развеяться. А сейчас моя радость потускнела. Впрочем, гроза почти прошла, скоро выглянет солнце. И почему такая переменчивая погода? То плачет, то смеется, прямо как ребенок.
* * *
Вчера заснула, дочитав вторую часть «Муссона»
[13]. Замечательная книга. Чем дальше, тем больше ею восхищаюсь. Позавчера прочитала разговор Ферн с матерью, двух одиноких женщин. Вчера вечером — про наводнение, дом Беннерджи и Смайли. Я как будто сама живу среди этих героев. Рэнсом — мой старый знакомый, он такой славный.
* * *
Весь вечер прошел в предвкушении того, что будет завтра. Не то чтобы я бурно веселилась, но душу наполняла какая-то тихая радость, она то забывалась, то поднималась снова. Я готовилась так основательно, будто уезжаю в дальние странствия. Поезд в восемь тридцать три. Надо встать без четверти семь.
Среда, 8 апреля
Вернулась из Обержанвиля. Было столько всего: воздух, солнце, ветер, дождик; я так счастлива, так устала, что ничего не соображаю. Помню только, что перед ужином в маминой спальне меня вдруг скрутила ужасная тоска, без всякой разумной причины, просто прекрасный день подходил к концу, еще немного — и придется оторваться от этого благодатного места. Никак не могу смириться с тем, что все хорошее кончается. Но чтобы впасть в отчаяние — такого я сама от себя не ждала. Я-то думала, эти детские штучки давно забыты, но получилось как-то само собой, я не успела спохватиться и даже не пыталась побороть эту напасть. Дома нашла две открытки — одну от Одиль, другую от Жерара
[14], сердитую, резкую. Он насмехается над моим письмом. Я уж не помню, что писала, но думала, он меня поймет. Отвечу в таком же тоне.
* * *
Слипаются глаза. Я совсем разомлела, перед глазами прокручивается весь сегодняшний день: вот мы на вокзале — серое небо и дождь; едем в поезде, шутим, болтаем, уверены, что все сегодня будет хорошо; вот первый раз вышли в сад, гуляем под дождем по мокрой траве, вдруг показалось солнце, и небо, начиная с маленького лоскуточка, расчистилось; перед обедом играем в
deck tennis[15]; обедаем на кухне, всем страшно весело, посуду моем всей компанией, Франсуаза Пино старательно вытирает тарелки, Жоб с трубкой в зубах их аккуратно расставляет, Жан Пино несет тарелку или вилку, кто-нибудь обнимает его на ходу, он смеется, разводит руками; потом гуляем по дороге — ясно, солнечно, и вдруг короткий ливень; разговор с Жаном Пино, возвращение домой, там нас ждет Жак Клер; опять идем гулять все вместе, доходим до Незеля, небо чистое до горизонта, наливается светом и цветом; приятный ужин: несладкий безвкусный шоколад, варенье, хлеб; все счастливы; едем обратно, мы с Денизой и обеими Николь
[16] сидим впритирку на скамье, чтобы мог поместиться и Жоб, у меня пылают щеки; напротив Жан Пино, такой красивый: мужественное лицо и светлые глаза; прощаемся в метро, все улыбаются, довольные, день правда удался. Все это видится и очень близким, и каким-то странно отдаленным. Я знаю, все уже прошло и я в своей комнате, но в то же время слышу голоса, вижу лица, фигуры, словцо меня окружают призраки живых людей. Ведь этот день — уже не совсем Настоящее и еще не совсем Прошедшее. Воспоминания, картинки наполняют тихим шелестом ночной покой.
Четверг, утро, 9 апреля
Проснулась в семь часов. В голове все смешалось. Вчерашняя радость, вечерняя обида, сегодняшнее состояние
unpreparedness[17], потому что позавчера дальше следующего дня ничего не планировала, досада на Жерара — если подумать, напрасная, он прав, что надо мной смеется; серьезное и вдохновенное лицо Жана Пино в поезде; мысль о том, что Одиль уехала насовсем как раз тогда, когда между нами стала завязываться настоящая глубокая дружба. Как я теперь без нее?
Суббота, 11 апреля
Так захотелось взять и прямо сейчас послать все подальше. Мне надоело, что я не могу жить нормально, не могу чувствовать себя совершенно свободной, как в прошлом году, и не имею права стать такой, как прежде. Я будто привязана к чему-то невидимому, короткая привязь не пускает на волю, так что я начинаю ненавидеть это незримое препятствие, хочу его разрушить.
Хуже всего, что внутренне сама-то я чувствую себя по-прежнему свободной, но перед другими, перед родителями, перед Николь и, главное, перед Жераром,
вынуждена играть некую роль. Что бы я ни сказала, они все равно будут убеждены, что моя жизнь изменилась. И пропасть между этими двумя взглядами с каждым днем расширяется. Есть «я», которое изо всех сил старается снова стать таким, каким было всегда, каким осталось бы, если бы ничего не случилось; и есть другое «я», какое, по мнению всех окружающих, должно было прийти на смену прежнему. Или, может, это новое «я» — плод моего воображения? Да нет, не думаю.
Чем больше проходит времени, тем тягостнее мне нынешнее положение. Как получилось, что оно вызывает во мне неловкое чувство, от которого хочется убежать, спрятаться?
Вот почему когда вечером, вернувшись домой, я нашла письмо от Жерара, в котором он пишет, что мы увидимся не раньше осени, то расплакалась, впервые за много месяцев. Не то чтобы я огорчилась, но страшно устала от этой смутной неловкости. Не могу больше оставаться в ложном положении — ложном, да, ложном! — перед ним, перед родителями, перед Денизой, Николь, Ивонной. У меня была надежда, что он приедет и все наконец прояснится. А выходит, еще всю весну и все лето жить вот так… И я никому ничего не могу объяснить. Я подняла голову — страшно хотелось назло неведомо кому и чему, недолго думая, выложить все как есть… Эх, я бы с таким удовольствием!.. Но кончилось тем, что я засунула эту новость в кучу. Какая она неприятная.
Прекрасно понимаю, что сама все запутываю, но как так получается?
Всему причиной — к такому заключению я неизменно прихожу — то, что я
ничего не могу решить, пока не увижу его опять и не узнаю лучше.
С этим никто и не спорит, но вот чего родители, мне кажется, не понимают: для меня этот вывод имеет абсолютное, буквальное значение — я абсолютно
ничего не знаю о том, как все обернется, и я абсолютно не склонна ни к какому решению, а просто жду результата, будто слежу за спортивным матчем, в котором сама не участвую.
Наверно, дело в том, что я совсем не выношу неопределенности. Чтобы освободиться и вернуться к нормальному состоянию, мне необходимо поставить точку. Любое изменение в привычном течении жизни выбивает меня из колеи. Я, как сказала бы Дениза, «домоседка».
Как только я все это поняла, я стала просто ждать, когда же кончится этот матч, который разыгрывается где-то там, вне меня; чем кончится, мне безразлично, лишь бы скорее.
Но это тянется так долго, что я, как ни стараюсь, не выдерживаю напряжения. Поэтому я сорвалась, когда узнала, что оно еще продлится.
Поэтому я ненавижу всю эту историю и чуть ли не сама довожу ее до абсурда. В глубине души я не хочу никаких перемен, хотя они в подобных случаях неизбежны. Но пусть эта перемена окажется быстрой и, главное, радостной, как и должно быть, когда все хорошо!
Конечно, я могла бы сегодня вечером броситься на кровать, разрыдаться и сказать маме, что я хочу одного — чтобы все стало как раньше. И мама стала бы меня утешать, и я заснула бы, с соленым привкусом слез во рту, зато со спокойной душой. Но на душе у мамы, когда она вернется в свою спальню, тяжести прибавится.
Да и не уверена я, что смогла бы. Это значило бы поддаться
self-pity[18], а я стала очень строгой к себе — по-моему, сейчас это нужнее всего. Только поэтому я удержалась, а вовсе не из гордости. Какая там гордость рядом с мамой — смешно! И не потому, что не желала выставлять напоказ и преувеличивать страдание, которое на самом деле не так уж сильно, — ведь тем самым я бы добилась только одного: сделала бы его
cheap[19]. Нет, я говорила бы честно и искренне. Но я не хочу огорчать маму. Хватит того, что папа получил сегодня извещение об изъятии
[20], и мама все это тяжело переживает, хотя виду не подает.
It sufficeth that I have told thee[21] тебе, мой белый лист; мне уже полегчало.
* * *
Подумаем о другом. О сказочна красивом сегодняшнем, совсем уже летнем дне в Обержанвиле. Он был великолепен с самого начала до конца, с сияющего, полного прохлады и надежды восхода до тихого вечера, который и сейчас, когда я подошла закрыть ставни, дохнул на меня ласковым теплом.
Утром, как только мы приехали, я начистила картошки и сразу побежала в сад — вот где мне всегда хорошо. И там меня, как старые знакомые, ждали те же, что прошлым летом, ощущения, но только свежие и обновленные. Слепящий простор огородных грядок, восторг от того, как буйно все растет под утренним солнцем; чудесные открытия на каждом шагу, тонкий аромат цветущих кустов, пчелиный гул; неровный, будто бы слегка хмельной полет невесть откуда взявшейся бабочки. Все это я
узнавала с невыразимой радостью. Села на скамейку и замерла, вдыхая воздух счастья, от которого сердце мое таяло, как воск; каждый миг дарил что-то новое: вот в сплетении пока еще голых ветвей какая-то птаха, которой я прежде не слышала, вдруг придется пробовать голос и вспоротая им тишина тотчас заполнится другими птичьими голосами, далеким воркованием голубей, чьим-то щебетом, а вот еще одно чудо: гляжу не нагляжусь на капельки росы, усыпавшие траву; чуть поведешь головой — и алмазы превратятся в изумруды, а потом в червонное золото. Один из этих маленьких фонариков дошел аж до рубиновой густоты. И тут мне вздумалось запрокинуть голову и посмотреть а на мир снизу вверх — какая же гармония красок открылась в раскинувшемся вокруг пейзаже: синее небо, сизая дымка холмов, подернутые туманом розовато-зеленоватые или бурые поля, коричневые и приглушенно-рыжие черепичные крыши, мягко-серая колокольня, и все залито нежным светом. Только зелень молодой травы у меня под ногами вносила резкую ноту, словно была единственным клочком живой яви в этом зачарованном пейзаже. «На картине такое зеленое пятно на пастельном фоне показалось бы неуместным», — подумала я. Но в реальности ему нашлось место.
Среда, 15 апреля
Пишу здесь, потому что не знаю, с кем поговорить. Я получила открытку, и столько в ней горечи, тоски и отчаяния. Сначала мне стало даже приятно — от того, что он чувствует то же, что я. А потом — страшно при мысли о том, что любой перепад моего настроения причиняет боль другому человеку.
От некоторых слов бросало в дрожь: «наши пути расходятся», «впереди — тупик»… — я вдруг услышала в них подтверждение смутных предчувствий, которые давно меня томили. Это ужасно.
Что же делать? Нам обоим плохо. Но разделить эту тяжесть на двоих, как сделали бы другие, мы не можем: в утешение ему я только и могу сказать, что чувствую то же самое, но ведь от этого ему станет еще хуже? А если я напишу в ответ что-нибудь ободряюще-нежное, получится или ложь, или слащавость.
Кроме того, я как будто столкнулась с незнакомым человеком, с мужской натурой, а тут у меня нет никакого опыта, и я не знаю, как себя вести.
Помочь могла бы только мама. Но я знаю заранее: она, как всегда, подумает о папе, будет рассказывать, как поступал и поступил бы он, и не поймет, почему меня коробит, когда она ставит Жерара на место папы. А для меня это совсем не одно и то же.
Жерару не нравится тон моих открыток. «Наши пути расходятся» — сказано как раз по этому поводу. Но неужели он не понимает: я как раз потому «расписываю пейзажи», что не могу писать о другом, о своих чувствах, в которых не так уверена, как он. Но и объяснить ему это тоже не могу.
Иногда меня охватывает какая-то холодная безысходность. Думаю: я же знала, что мы не подходим друг другу. Я чувствовала это, и мне было страшно, оттого что все вокруг считают иначе. Видно, в моем характере есть что-то индийское. Господи, что же делать? Что я ему отвечу?
В конце он написал что-то циничное. Но я не обижаюсь. Если бы он знал! Почему все в жизни стало так сложно?
Среда, 15 апреля
С утра засела за работу, чтобы отвлечься. И действительно обо всем забыла. Через три часа я словно вынырнула из другого, далекого мира, и мне снова показалось, что все это не стоит выеденного яйца.
После обеда снова работала — печатала главу о Бруте. Солнце так пекло, что пришлось закрыть ставни. На улице настоящее лето.
В четыре часа вышла из дому и окунулась в летнюю жару — странное ощущение; пошла в Сорбонну на лекцию Эскарпи
[22]. Это напомнило мне прошлогоднюю сессию, только теперь я чувствую себя не такой скованной, более свободной и спокойной. Перед сном дочитала «Муссон». Но спала плохо.
Четверг, 16 апреля
Утром пошла в Сорбонну, чтобы развеяться. Надеялась встретить Спаркенброка
[23], но его не было. Разумеется — я ведь пришла слишком рано, мы с ним увиделись позже. Заглянула на минутку в библиотеку, а на обратном пути, спускаясь, услышала, как кто-то распевает во все горло. Оказалось, это Эскарпи, который стоял внизу со своей невестой. Пел он, наверно, от счастья — все у него шло прекрасно и в любви, и в работе. Эскарпи — очень цельная натура. Пусть он не слишком начитан, но в нем чувствуется нравственная чистота и здоровый интеллект. Дойдя донизу и узнав его, я так и застыла на ступеньках. Он ничуть не смутился и рассмеялся, а за ним и я и его невеста. Стало ужасно приятно.
Оставшееся время я болтала во дворе с Шарлоттой Бронте, то есть с девушкой, которая пишет диплом по Шарлотте Бронте. Она очень милая. В ней, как во всех моих университетских знакомых, есть какая-то внутренняя доброжелательность.
На занятии у Казамиана
[24] один студент, на вид смешной и диковатый, делал сообщение о лирике Шелли. Я не особенно вслушивалась, но почувствовала, что он говорил очень горячо и поэтично. Казамиан его похвалил — значит, мое впечатление было верным. Но дослушать у меня не хватило терпения. В четверть двенадцатого я ушла. Зашла в секретариат продлить свой билет и вернулась домой.
После обеда мы с мамой поехали на машине к доктору Редону. Он вскрыл мне палец и выпустил скрытый гной, а потом я пошла по людному, залитому солнцем бульвару Сен-Мишель, и чем ближе к улице Суффло, тем больше меня охватывала привычная, волшебная радость. От улицы Суффло до бульвара Сен-Жермен простирается моя страна чудес.
Поэтому я ничуть не удивилась, когда, едва расставшись с мамой, наткнулась на остановке автобуса «С» на Жана Пино. Он пожал мне руку и не заметил, что я убрала больной палец. Лицо его порозовело — может, от радости, что встретил меня? Не знаю. Но самая ужасно обрадовалась. Он схватил мою книгу — Гуго фон Гофмансталя, — которую я на самом деле хотела показать Спаркенброку. Резкий, веселый — не знаю, как сказать. Мы быстро разошлись, он пошел вверх по бульвару, а я в университет. Было десять минут четвертого, я хотела успеть на лекцию Делатра
[25].
Зашла в аудиторию и сразу увидела Спаркенброка, он сидел на своем обычном месте. Я села на свое, рядом с неприветливого вида девицей. Делатр говорил о каждом отдельно, я не слушала, а разглядывала свою тень. В середине занятия, перед началом объяснения текста, как всегда, поднялась суета. Моя соседка направилась к выходу мимо меня. Я встала, чтобы ее пропустить, и увидела, что Спаркенброк жестами спрашивает: «Вы остаетесь?». Я покачала головой, и мы оба вышли на солнце. Я почувствовала удивительное облегчение. Если бы я его не увидела, мне было бы очень плохо — это единственный проблеск света посреди ада, в котором я живу, единственный способ укрыться, связь с нормальной жизнью.
«Пойдем в Люксембургский сад?» — предложил он. Я посмотрела на часы — к нам на чай вот-вот должна была прийти Франсуаза Масс
[26]. Но недолго думая согласилась. Он сбегал в аудиторию за своим портфелем, и мы пошли. Странная прогулка — я не узнавала знакомые улицы, как будто все они: улица Эколь-де-Медсин, улица Антуана Дюбуа, улица Медичи — вдруг стали какими-то другими. Он рассказывал о своем замысле — написать про Шантеклера и Пертелот
[27], я вслушивалась в его беспечный голос, ловила его интонации, привычно робела, и мало-помалу все приходило в норму.
В Люксембургском саду мы остановились перед прудиком, где плавали десятки парусных корабликов; мы о чем-то разговаривали, но я помню только завороженное блаженство от солнечных бликов на воде, тихий плеск и ласковые складки волн, упруго изогнувшиеся под ветром маленькие парусники и распростертую надо всем этим трепещущую синеву неба. Вокруг было множество людей — детей и взрослых. Но меня притягивала танцующая, искрящаяся вода. Я не отрывалась от нее, даже когда говорила, она со мной и теперь. Однако, когда Спаркенброк проговорил: «Немцы победят в этой войне», мне захотелось возразить. Я сказала: «Нет!» Но не знала, что еще прибавить. И тут же почувствовала, что это малодушие — я не отстаиваю перед ним свои убеждения из малодушия; тогда я встряхнулась и воскликнула: «Что же с нами будет, если немцы победят?» Он неопределенно взмахнул рукой: «Да ничего не изменится… — Я
знала, заранее знала, что он так и скажет. — Будет все то же: солнце, вода…» Такой ответ мне не нравился, тем более что в глубине души я тоже в этот миг ощущала полную ничтожность всех споров перед лицом красоты. Но все же понимала, что уступаю какому-то дурному мороку, предаю себя и что буду потом себя корить за это малодушие. И я заставила себя произнести: «Но любоваться светом и водой они позволят не всем!» Эти слова меня спасли, я не хотела поддаваться трусости.
Ведь я знаю теперь: это малодушие; мы не имеем права думать в этом мире только о поэзии; поэзия — это волшебство, но предаваться ему в высшей степени эгоистично.
Потом он заговорил о корабликах, о деревьях в Обержанвиле, о своих детских играх, и мое неприятное чувство прошло. У выхода он встретил какого-то приятеля, я пошла дальше, потом увидела Жака Вейль-Рейналя и остановилась с ним поболтать. Вскоре Спаркенброк догнал меня, и мы вышли вместе. Он сказал: «Вот странно, стоит мне встретить знакомого, как и вы тут же встречаете своего». А потом он сказал, что не хотел бы повстречать свою жену. Об этом он всегда говорил совершенно непринужденно, поэтому и я попробовала тем же тоном спросить: «Почему? Она рассердится?» Но он сказал, что она ждет ребенка и стала очень раздражительной.
И тут что-то обрушилось на меня, то самое, что всегда грозило замутить ясную атмосферу наших встреч, такую странную, волшебную, — что-то такое, что теперь вдруг заставило меня увидеть все «со стороны», и я поняла: пускай у его жены нет причин для ревности, я все равно не имею права продолжать, потому что это причинило бы ей боль. А если бы я знала, что ей больно, не осталось бы ни высоких мыслей, ни идеальной красоты. Теперь всё.
Мы шли по бульвару Сен-Мишель, и он рассказывал о своих друзьях — они все женаты, у всех уже есть дети. Я сказала: да, мальчики женятся рано. Мы стали говорить на эту тему. И в какой-то момент я сказала: «Жениться нетрудно, трудно другое… найти настоящее счастье», — тут я запнулась, и, пока искала слова, он ответил: «Я никогда в это не верил». Я твердо возразила: «А я пока еще верю и не хочу, чтобы вы разрушали мои иллюзии». И вдруг мне стало одиноко. Он тоже чужой, мы с ним совсем разные. На бульваре мы говорили о наших взглядах на жизнь, и он сказал, что ему интересно все — все без разбора… — «А мне нет, я по натуре не дилетант, я ищу красоту, совершенство, отбираю из множества вещей действительно стоящие. У меня еще сохранилась шкала ценностей, и я не дошла до того, чтобы считать интересным все подряд». Потом мы заговорили о том, что невозможно понять чужую мысль, о том, как передать свою мысль другому. Он довел меня до входа в метро, солнце светило прямо в глаза. Он сказал: «Я завтра приду». Я замялась, почувствовала вдруг, что нам незачем видеться, точнее, у меня отпало желание с ним видеться, и я пробормотала: «Я, может быть, тоже». Он ушел. А я вдруг спохватилась, что у меня нет ни денег, ни билетиков на метро. Оставалось одно — я побежала за ним. Он шел медленно, как-то задумчиво. Я догнала его, объяснила, что случилось. Самой было смешно. Он улыбнулся своей хитренькой улыбкой и достал из кармана билетную книжечку. И все снова стало как прежде.
Но сейчас, вечером, все ушло, и опять ощущается диссонанс. Кажется, единственное, что было сегодня простого, здорового и радостного, так это встреча с Жаном Пино.
Я еще молодая, и это такая несправедливость, что все в моей жизни взбаламучено, я не хочу «наживать опыт», становиться пресыщенной, разочарованной и старой. Как бы от этого спастись?
Долго и о многом разговаривала с Франсуазой Масс, показывала ей свои книги, свой диплом. Иногда подступало отчаяние. Когда она сказала, что, как пишет Жорж
[28], Жерар все больше и больше замыкается в себе, меня это задело за живое, потому что мне и самой это покоя не дает. И надо же ей было мне напомнить, что я больше не имею права свободно собой распоряжаться и все, что я делаю, касается не только меня, а еще и другого, связанного со мной человека! Ведь свобода — это все-таки утешение, даже если страдаешь.
Воскресенье, 19 апреля, 12 часов
Дописала я это письмо. Слезы текли ручьем и как будто омыли мне душу.
Сильно болит палец, и я с благодарностью принимаю эту физическую боль.
Только что вернулась от Редона с улицы Шез. Он опять вскрывал нарыв, чтобы стало легче. Сказал, ничего страшного.
После обеда немножко поработала над главой об «Антонии и Клеопатре». Вся горечь, скопившаяся вчера вечером, прошла. Приходила Лизетта Леоте
[29] — она, по обыкновению, все перепутала, решила, что оркестр будет в это воскресенье, мы с ней посидели в моей комнате; я непричесанная, с голыми ногами, но все Леоте — свои, с ними это не важно. Было очень хорошо.
Потом я пошла к Жобам, там уже была Дениза. Она, Брейнар и Франсуа играли трио Шуберта. Чуть позже пришел Сеннизерг, приятель Жоба и Даниеля. Было роскошное угощение, вкусное мороженое. В половине шестого я ушла, поехала к Франсине Бакри; в метро душно, потно. Отец Франсины сидел в домашнем халате, еще там были Жанна Одран с родителями и подруга Франсины, которую я знаю только в лицо, с матерью. Говорили, естественно, о политике.
Понедельник
Вчера перед сном палец опять разболелся так, будто его рак клешней защемил. Приняла аспирин и только тогда уснула.
Все-таки странно: физическая боль будто вбирает в себя всю мою досаду, все моральные терзания. Это боль спасительная, избавительная. Благодаря ей случилась важная перемена. Не знаю, люблю я Жерара или нет, но неприязнь к нему исчезла. Теперь я думаю о нем чуть ли не как о святыне, к которой нельзя прикасаться.
* * *
Все утро работала, дописывала главу об «Антонии и Клеопатре». После обеда мы с мамой снова ходили к Редону — палец очень уж плох. Он сделал мне четыре обезболивающих укола. Что было не слишком приятно. Я встала после этого сама не своя и вышла в коридор — надо было выждать десять минут, пока подействует анестезия. Когда наконец он начал резать, я ничего не чувствовала — как будто все происходило за десять километров от меня — и не смотрела; зато смотрела мама, и по ее гримасам было ясно, что зрелище не из приятных. Я только видела, как он что-то убирает маленьким пинцетиком. Но палец был чужой.
Оттуда пошла на дежурство в библиотеку
[30].Все, конечно, ахали. Особенно я благодарна Виви Лафон за заботу. Со мной возились, как с ребенком. Пришли Дениза и Николь. Когда отошел наркоз, было страшно больно, но потом успокоилось.
После ужина, лежа в постели, диктовала Денизе начало новой следующей главы. Мы провели приятный, можно сказать, замечательный вечер.
Вторник, 21 апреля
С утра опять взялись за дело: я диктовала, Дениза печатала. Говорит, получается хорошо. Я тоже довольна, хотя немножко страшновато. Потом ходила в Сорбонну. К обеду пришел Жас. За столом они с мамой так спорили — я думала, будет скандал.
Сейчас, после обеда, сижу в каком-то отупении, — борюсь со сном. Может, это перед грозой? Или из-за пальца — запоздалая реакция? Будь здесь Одиль, она бы посмеялась — ведь сегодня вторник. А вторники весь год — неудачные дни. Но ее тут нет. Я заснула прямо за письменным столом, очень хочется писать дальше. Но перечитать «Кориолана» не хватает духу. Сходила на улицу Сен-Доминик — отдала в починку скрипичный футляр. Выпила чаю в надежде наконец проснуться. Но бесполезно — меня совсем разморило.
Среда, 22 апреля
Получила две открытки.
Вся неделя прошла вот так: с утра — работа над дипломом, после обеда — потерянное время, вечером — угрызения совести, после ужина — сидение за пишущей машинкой и отчаяние из-за того, что я не способна выражать свои мысли словами. Просыпаюсь в семь с намерением поработать на свежую голову, но стоит встать с постели — вся свежесть испаряется.
Живу как в дурном сне, потеряла счет дням, не замечаю, как проходит время.
Пятница, 24 апреля
Ходила на обед к Жану и Клодине
[31], и это единственное светлое пятно за всю неделю. Просидела у них до четырех, играла на скрипке. Жан прочитал две главы моего диплома и вообще был любезен, как никогда, небывалое великодушие! Все-таки я его немножко стесняюсь, и он меня, кажется, тоже. Но он замечательный.
Пришла домой и, как всегда в это время, чувствую себя разбитой. В шесть часов вышла из дому — отправилась к доктору Редону. На бульваре Монпарнас шумно и людно: полно народу за столиками на террасах кафе, толпы гуляющих на тротуарах, а мне среди этой толчеи вдруг стало страшно одиноко и тоскливо. Потом увидела прекрасные деревья у Малого Люксембургского дворца, и только тогда меня отпустило.
Суббота, 25 апреля
Получила открытку от Жерара, довольно сумбурную. Между нами происходит что-то очень серьезное. Чем все это кончится? Теперь я думаю о нем с какой-то невыразимой нежностью.
Обедали в «Харчевне королевы Гусиные Лапки». Потом поехали в Обержанвиль. Дениза осталась дома — она ждала гостей, Жана Виге с женой.
Сирень в цвету, трава уже высокая, но любоваться ими я не стала — с тех пор, как поняла, до чего бесили Жерара мои описания, не перестаю стыдиться своей глупости.
Воскресенье, 26 апреля
Оркестр: Жоб, Брейнар, его сестра, Франсуаза Масс, Анник Бутвиль. Дениза играла концерт Моцарта, мы ей аккомпанировали, Франсуа дирижировал.
Понедельник, 27 апреля
Снова встретила в библиотеке того сероглазого юношу; к моему удивлению, он пригласил меня в четверг послушать вместе с ним пластинки, мы добрых четверть часа разговаривали о музыке. И говорили бы еще, но тут пришла Франсина Бакри — сказать, что она думает о моем дипломе. Я знаю, как его зовут. Жан Моравецки. Но еще до того, как я узнала это имя, мне казалось, что у него славянская внешность, он похож на славянского князя. Жаль, что у него такой голос.
Поскольку мама сочла это приглашение совершенно естественным, я и сама тут же решила, что все в порядке, и написала Жану, что приду.
Вторник, 28 апреля
Играли скрипичный дуэт с месье Лион-Каном. Потом я ужинала у мисс Дей. Хоть это были приглашения на будний день, я приняла их оба, чтобы
спастись от вторничного проклятия. И
это сработало. Идти к Лион-Канам было и страшно, и приятно, но, так или иначе, в этом была новизна, а это уже хорошо. Правда, согласилась я не подумав, а уже когда шла пешком к ним на улицу Лоншан, сообразила, что сделала. Ведь той же дорогой я когда-то ходила сначала одна по четвергам, а потом с Жераром по воскресеньям. Я вдруг осознала, что иду к
его родителям, и струсила.
Кроме того, мне всегда немного не по себе, когда я поднимаюсь к ним по лестнице и стою перед дверью.
Однако все прошло отлично. Месье Лион-Кан великолепен. Когда он вошел в гостиную, я тут же отвела глаза. — с первого взгляда его лицо напомнило мне Жерара. Но, приглядевшись, я поняла, что они не похожи, и уже дальше смотрела на него спокойно. У него походка и вообще вся пластика молодого человека — просто удивительно! Сначала мне Казалось, что играть с господином в годах, которого к тому же я почти не знаю, — довольно дерзко с моей стороны. К счастью, Франсуаза тоже была тут. А потом меня захватила музыка, и больше я уж ни о чем не думала. За столом, рядом с мадам Лион-Кан и Клодом
[32], мне стало совсем легко: я была в гостях у обычных людей.
Среда, 29 апреля
Проснулась ни свет ни заря, мне снился Жерар. Я лежала, думала о нем, и мне было очень хорошо. Это было какое-то новое, незнакомое чувство, которое я приняла без рассуждений. И точно знала: сегодня утром получу открытку.
И получила. Ничего особенного, а в конце какой-то непонятный намек. Впервые за долгое время я целый день в каком-то смысле была с ним. Это по-настоящему? Или только иллюзия?
Относила пакет месье Буассери в лицей Генриха IV и на обратном пути проходила мимо юрфака. С грустью подумала: будь Жерар тут, я бы запросто могла встретить его у выхода с факультета. А когда-то я скорее провалилась бы сквозь землю, чем даже
подумала свернуть в ту сторону. Для меня это было бы верхом «девчачества», да и никогда бы я на такое не осмелилась. Знал бы он, что я думала о нем еще так давно — это же было в первый год войны! Как все изменилось!
Четверг, 30 апреля
Прекрасный оказался вечер.
Мне было ужасно неловко идти слушать пластинки с этим совершенно незнакомым молодым человеком. Но как только он вошел во двор Английского института
[33], где я назначила встречу, всякая неловкость исчезла. Все оказалось очень просто.
Он повел нас — меня и своего приятеля, которого я знаю только в лицо, ужасно некрасивого, но симпатичного, — в Литературный дом на улице Суффло.
Мы слушали пластинки до половины седьмого. Сначала где-то рядом какой-то студент безостановочно играл Шопена, и это ужасно мешало. Но потом стало тихо. Я послушала квинтет Иоганна Кристиана Баха, начало Восьмой симфонии, адажио из Десятой — нарочно попросила, и это было чудо, — концерт для кларнета с оркестром Моцарта, кантату и две прелюдии Баха и восхитительную «Траурную музыку» Моцарта.
Забавно — мне принесли чаю с поджаренным хлебом, правда чай безвкусный, но я была тронута вниманием.
Жан Моравецки проводил меня и обещал в воскресенье принести квартет Бетховена.
Дома творилась кутерьма. Только что ушли мамины друзья и пришел папа, суетились Николь и Дениза, тут же — тетя Жер
[34].
К ужину пришел месье Перилу
[35], потом он опробовал мою скрипку. Мы сыграли дуэтом — две скрипки — концерт и сонату Баха. И он все называл нас девчонками что надо. Интересно, знает ли он, что мы о нем думаем.
Воскресенье
Изумительный день. Но я ничего сегодня не сделала.
Утром отнесла бабушке и Франсуазе Масс сирень. Было так ясно, солнечно, каштаны во всей красе, синее небо — я и думать забыла о всяких угрызениях и наслаждалась этой красотой. Пришлось зайти к Лион-Канам, мы долго беседовали с месье Лион-Каном. Я всегда у них стесняюсь.
К обеду пришла мадам Леви
[36]. А потом мы начали готовиться к вечеру.
Франсуа не пришел музицировать. Анник привела альтиста — невысокого, молчаливого, но очень милого паренька. Мы попробовали сыграть концертную симфонию Моцарта, оказалось слишком трудно. В середине вечера заявился Брейнар, мы сыграли концерт Баха для двух скрипок, но я злилась, потому что он все время играл форте.
В четыре часа я перестала играть. В половине пятого — звонок в дверь, я открыла. Это были Франсуа и Жан Моравецки. По-моему, он всех покорил.
Невозможно поверить: я его едва знаю, встретила в Сорбонне и еще в понедельник не знала, как его зовут, а теперь вот он здесь. Все как по волшебству.
Все только и говорят о его славянской внешности, и мне это неприятно. Не хочется думать, что он приглянулся мне из-за этого. Нет, без всякой причины, просто потому, что это он. Никаких выдумок, никаких обожаний. Он принес Корелли и Пятнадцатый квартет, тот самый, под который Спэндрелл встречает свою смерть
[37].
Heiliger Dankgesang[38]. Окна были нараспашку, солнце вливалось в них, и этот свет сотворил какое-то чудо, которому, мне кажется, все поддались.
Понедельник, 4 мая
Какая ночь! Мне все время что-то снилось. Утром проснулась, задумалась об этом сне, о том, к чему все это может так внезапно привести, и тихо ахнула.
Вспоминаю сейчас, как сегодня вместе с Жаном Моравецки, которого я знать не знала еще неделю тому назад, читала «Во сне я горько плакал» Гейне. И думаю, как это прекрасно и как странно, прекрасно и трагично — до слез.
Ведь мы опять весь вечер были вместе, я знала, что его увижу; вчера он мне это сказал, но я и сама знала. Он пришел в библиотеку примерно в полчетвертого. Сел в глубине зала. Целый час я была завалена работой. Уже почти потеряла надежду с ним поговорить. Но около половины пятого он сам встал, подошел и попросил разрешения оставить свой портфель, пока он отойдет что-то купить. А сам никуда не ушел и остался рядом со мной до без четверти шесть.
Вечером меня одолела какая-то тревога. Может, я опять сбилась с пути? Опять теряю голову?
Если я останусь с Жераром, то упущу все то прекрасное, что ждет впереди: постепенное пробуждение, цветущую весну, медленное созревание глубокого чувства! С Жераром все слишком нормально, или это просто мои капризы? Неужели в один прекрасный день я разорву эти страницы, потому что выберу Жерара?
Что же со мною станет? Сама не знаю, куда иду и что будет завтра.
Четверг, 7 мая
Видела Жана Моравецки на лекции Делатра. После занятия мы пошли гулять: по улице Одеон, потом в Люксембургский сад; до пяти часов сидели на скамейке под каштанами центральной аллеи. Тут было тихо и тень, а на солнце — нестерпимо жарко.
Он был еще бледнее обычного
[39]. Не переносит солнца. Это болезнь?
Кажется, я поняла, кто он такой. Видимо, его отец занимает какой-то пост в посольстве. Сегодня он сказал, что отец принимал в Барселоне всех приезжавших туда с визитом важных лиц. (К разговору о Поле Валери.) А в воскресенье говорил, что ни в одном городе не прожил дольше трех месяцев. Манеры у него изысканные, утонченные — настоящий аристократ.
До сих пор слышу его голос — довольно высокий, с несколько искусственными интонациями. И каждый раз он отворачивался, когда я на него смотрела.
Он пригласил нас с Денизой в следующий четверг послушать пластинки с русской музыкой.
Суббота, 9 мая, вечер
С ума я, что ли, сошла?
Весь день ходила взвинченная до предела. Наговорила Николь совершенно непозволительных вещей.
Впрочем, до ужина мне еще казалось, что все так и есть. Что я и вправду купаюсь в блаженстве и что теперь оно уж точно никуда не денется, постоянно будет со мной.
Но к концу дня ужасно устала, перед глазами все словно окутано густой дымкой; ничего больше не чувствую и только удивляюсь, как могла так разволноваться, я совершенно остыла и вижу, какой была дурой.
Письмо от Жерара, обед с Симоной, квартет Бетховена и разговор с Николь — мы сидели на подоконнике и глядели сверху на каштаны в цвету. Что я сегодня наговорила? О чем только думала? Неужели завтра опять начнется та же неразбериха? Буду спать.
Воскресенье
Все вчерашнее наваждение развеялось. Не понимаю, что на меня нашло. Больше никогда себе такого не позволю. День в Обержанвиле. Духота, гроза. После обеда меня так разморило, что я заснула наверху на каменной скамейке. Просто не было сил.
Четверг, 14 мая
После вчерашнего чувствовала себя разбитой и в то же время взбудораженной, как после бала.
Хорошо ли, плохо ли, но я закончила диплом. Сегодня Вознесение — день чем-то похож на воскресный. Папа дома… вчерашнее происшествие — все это очень непривычно.
Не успела как следует приготовиться к вечеру, но оно и к лучшему. Договорились, что мы с Денизой придем к институту. Латинский квартал был пуст, как в воскресенье. Ж. М. с приятелем нас уже ждали; из дома напротив кто-то выплеснул стакан воды — прямо мне на голову. Пошли в Литературный дом. А вот на бульваре Сен-Мишель народу полно. Я рассказала Моравецки вчерашние невероятные новости. Он не стал говорить, что такого не может быть, не то что Спаркенброк вчера. Определенно, он мне ближе, чем Спаркенброк. Вообще-то Литературный дом был закрыт, но у друга Моравецки Молинье, того, что был с нами в прошлый раз, есть ключ, он встретил нас вместе с девушкой, которую я тоже видела в тот раз. Все тут было в нашем распоряжении. Сначала слушали Четырнадцатый квартет Бетховена, который мне все же больше нравится, чем Пятнадцатый. Потом перешли к русской музыке. «Князь Игорь», цыгане, народные песни, Шаляпин; я была в восторге; нас угостили вкусным ужином, шоколадом с молочной пенкой, а Ж. М. принес египетские и русские сигареты. Все было очень-очень здорово.
Он доехал с нами в метро до «Севр-Вавилон». Перед сном мне, как всегда, стало жаль, что день уже кончился. Что за неделя была — ничего не понимаю. Вчерашняя история, сегодняшняя буйная радость по поводу диплома. И завтра будет то же самое. Может, к понедельнику все войдет в нормальное русло.
Среда, 20 мая
Заходила Франсина де Жессе
[40]. Три года я ее не видела.
Было очень хорошо, никаких трений, несмотря даже на то, что мы разошлись во взглядах на исход войны.
Она похорошела; это единственная из одноклассниц, с которой мне было приятно пообщаться. К сожалению, она в понедельник уезжает в Лимож.
Эта встреча пробудила столько воспоминаний о школе!
[41]
Четверг, 2 часа
Мне страшно трудно делать то, что я сейчас делаю.
Сама не знаю, какая нелепая сила меня на это толкает. Да нет, знаю — внезапное сознание того, что я должна остановиться, иначе причиню боль Ж. М. До недавних пор мне казалось, что все чудесно — вот самое подходящее слово, чтобы выразить, что я чувствовала. Потом, на той неделе, был этот порыв, все быстро прошло, но я стала задумываться, попыталась заглянуть вперед. И увидела там, впереди, среди полной неизвестности, какие-то «сигнальные огни», какие-то помехи. Не знаю, действительно это так или мне опять что-то мерещится. Не знаю, правда ли, что он мне не пара, что все это был только недолгий порыв, что я не успела подумать… Но таково мое смутное чувство, и я ему беспрекословно повинуюсь.
Но только вижу, как это трудно. Не потому, что мне трудно сказать «нет», а потому, что ни за что на свете я не хотела бы хоть чем-то огорчить его. Он, наверное, очень чувствительный, как Жак, почти как девушка — а я-то знаю, как сильно может девушку задеть любая мелочь. Ну и еще я вижу, что для меня это чуть ли не жертва. Нужно набраться духу, чтобы дойти до конца и отказаться от этой радости, от того, что делало такими приятными каждый понедельник и четверг.
По временам все во мне возмущается. Я думаю: зачем драматизировать?
И сама себе отвечаю: так надо, и я нисколько не драматизирую, он действительно будет страдать, и все это не так уж просто и обычно.
Прекрасно понимаю, что делаю это не ради Жерара, а во имя справедливости.
Но я как Брут. Я
fall back on instinct[42], по сути, всему причиной мысль о том, что я принадлежу Жерару и ему будет больно. А этого я не хочу.
Мы должны были встретиться в половине четвертого. И не прийти я не могла бы — он должен был принести мне Доттена
[43]. Но я встретила его утром на улице Дез-Эколь, на обратном пути из секретариата. Так и знала, что встречу, и это оказалось очень кстати. Позволяло не приходить в три часа специально. Но мне было не по себе, потому что
я знала о своем решении. Все казалось, что я его обижаю. В половине двенадцатого он пришел в институт и сел напротив меня. Не знаю, с чего мне вздумалось, но я дала ему программу цикла исполнительского искусства. Он сказал, что пойдет, хоть и не уточнил, что прямо завтра. Для этого он слишком сдержан и благовоспитан. Спросил, в какое время я обычно прихожу. Зная его манеру, думаю, он там будет.
И вот я решила не ходить. Очень жаль, потому что независимо от всего остального мне была интересна эта программа. Ноне хочу идти — я хорошо знаю, как на него действует музыка, да и на меня тоже. И не хочу встречаться с ним слишком часто.
Все так сложно, что я сбегаю из дому до вечера, благо у меня много дел.
Хорошо, что есть «Беовульф»
[44].
7 часов
Пришла домой расстроенная до слез.
Случилось вот что. Я носилась по делам в разные концы города. В мастерскую
[45], в Американскую библиотеку
[46], на улицу Пасси за парой туфель и т. д. В пять часов добралась до бабушки. Застала там в гостиной Николь и Жан-Поля, успокоилась. Но за столом Николь спросила, пойду ли я завтра на концерт, я поняла, что сама она пойдет. И это снова все разбередило. Во мне проснулась чуть ли не ревность при мысли, что другие-то его увидят, а он так хорош. И то же самое, когда Николь сказала, что Жан-Поль спрашивал, как зовут, «того приятного белокурого юношу». Мне показалось, что речь идет о чем-то, что уже было и прошло. Я сжала зубы. А внутренний голос твердил, что если я выстою в этой борьбе, то это будет очищением, от чего, почему — я не знаю. И иногда сама не понимаю, зачем так резко, по собственной воле все оборвала.
Окончательно меня довел нахальный сапожник — я отдала ему новые туфли на деревянных подошвах, чтобы сделать каучуковые набойки. И он взял с меня тридцать франков авансом. А когда вечером я за ними пришла, потребовал еще тридцать за работу. Я не умею пререкаться с людьми, и денег у меня больше не было, поэтому я ушла, оставив туфли и готовая расплакаться.
Села в метро на «Ла-Мюэтт», вагон набит битком, вонь, пот, жара, духота. Я мечтала об одном: хоть бы пришло письмо от Жерара. И вдруг, проезжая Черновицкую улицу, я словно бы воочию увидела прояснившееся будущее, а все потому, что я так долго думала о Жераре.
Но дома меня ждали две открытки: одна от Владимира, другая от Жан-Пьера Арона, ужасно смешная и трогательная. Я все-таки написала Жерару. Может быть, зря.
Когда мама пришла, я рассказала ей в деталях про сапожника и туфли. От этого житейского разговора как-то сразу полегчало. Сейчас мне лучше. Но надо прожить еще завтрашний день.
Пятница, 22 мая
Его не было на концерте. Первой моей мыслью было: «Все начнется сначала». А потом пришло огромное облегчение.
* * *
Не знала, как убить время; сначала еще ничего — я была на свадьбе Пьеретты Венсан, но в четверть третьего вернулась, разряженная в пух и прах, и было совершенно нечем заполнить этот бестолковый день.
На свадьбе я держалась рядом с Франсиной. Так было безопаснее, подальше от всей этой оравы — Лемерля, Вьено и компании, — под надежной защитой. Впрочем, Пьеретта мне нравится, мужу нее потрясающий. И вообще все было очень мило.
Суббота, 23 мая
Утром — с девяти в институте. Видела Жака Ульмана, Роже Нордмана (у него недавно расстреляли брата
[47]) и Франсуазу Блюм, его невесту, которую едва узнала. Они так восторженно описали мне то, что было на прошлой неделе, что я усомнилась в собственных впечатлениях. В институте наткнулась на полотеров — по субботам он открывается с десяти. Внизу встретила студента, с которым прежде никогда не разговаривала. Он оказался вполне приятным, и мы вместе пошли искать: я — перевод «Кориолана», он — англосаксонскую грамматику. В десять вернулись наверх, и я погрузилась в «Беовульфа».
Сыграть трио не получилось. Мы с Жобом были не в духе. Жан забежал на пять минут. В пять вернулась домой, взялась за «Короля Хорна»
[48]. Ужинала в полном расстройстве из-за того, что ничего не сделала.
Писем все нет. Опять, как несколько месяцев тому назад, начинаю беспокоиться.
Воскресенье
Обед в Обере
[49] с Жобом, Жан-Полем и Жаком Моно. Жан-Поль прелестный, с ним легко, Моно грубый и нудный.
Чудесный день, но мне было скучно, чего-то страшно не хватало.
Понедельник, Духов день
Я с головой ушла в «Короля Хорна», как вдруг меня позвал папа: «Звонит Моравецки». Я витала так далеко, что это не произвело на меня никакого впечатления, или я уже все для себя решила окончательно? Он хотел узнать, открыта ли библиотека, — нашел предлог! А потом повисла такая неловкая пауза, что мне пришлось ее прервать, и я пожаловалась на англосаксонский. И пригласила его на седьмое. Странное дело — до чего я осталась спокойной.
Суббота, 30 мая
Сегодня утром первый раз с тех пор, как я засела за работу, никак не могла ее начать. Была почти уверена, что утром получу открытку, мне это и ночью приснилось — приснилось, что я получила сразу два письма, в одном почему-то рассуждения о Блейке, а другое прочитать не получалось. Так уверена, что даже суматоха с воздушной тревогой посреди ночи не испортила мне настроение, и я встала, полная бодрости. А ведь мои надежды уже столько раз были обмануты, что в глубине души я подозревала: ничего не получу. Но так хотелось посрамить это сомнение.
Однако ничего так и не пришло. Чтобы забыть о разочаровании, погрузилась в работу.
Воскресенье, 31 мая
Осталась в городе одна, чтобы поработать. Интересно, что в этом году я почти не волнуюсь за свою работу.
Обедала у бабушки, там опять был Декур. Ужаснулась тому, что Клодина говорила о вчерашнем дне. Она восхищается Катрин Вьено и т. д. Жан, к счастью, прямо противоположного мнения. Пришла домой в три часа и до семи штудировала англосаксонскую грамматику.
Подумала было — вот-вот взбешусь от собственного невежества. Ложная тревога: меня ничто не может вывести из равновесия. Ухожу в работу, как в убежище.
Понедельник, 1 июня
Утром перечитала «Старый Риволи»
[50]. Мама зашла рассказать мне новость о желтых звездах
[51], а я не стала слушать, сказала: «Потом поговорим». Но понимала, что
at the back of ту mind[52] затаилось что-то неприятное.
Пришла из Сорбонны совершенно одуревшая. Я пыталась совместить работу библиотекаря и свою собственную. В результате свои обязанности я выполняла кое-как и вообще плохо соображала. Часа в три зашел Ж. М., потом Николь с Жан-Полем — у них не было лекции Понса. Я пребывала в
glorious muddle[53].
Дома нашла написанную карандашом открытку от Жерара — ничего существенного и даже без особого тепла. Но это меня не расстроило.
Четверг, 4 июня
Голова идет кругом.
У меня было
wild morning[54]. Родители с Денизой уехали в шесть часов в Обер. Я попросилась остаться, чтобы посмотреть, — как друзья сдают экзамены.
Началось с того, что я тоже проснулась в шесть от света и жары.
Позавтракала одна, в девять вышла из дому и зашагала, свободная как ветер, наслаждаясь ясным и еще прохладным утром. Первым делом отправилась на почту послать Спаркенброку его книгу и вспомнила о прошлом годе — как же это было давно. Я ни о чем не жалею, но думаю об этом с легкой тоской.
Села в метро, доехала до «Одеона». В институте уже начались экзамены. Я вдруг почувствовала, как состарилась за один вчерашний день. Встретила в вестибюле Виви Лафон. Она рассказывала какие-то дикие вещи о желтых звездах — не может такого быть.
Виви очень славная, добрая, для меня она — воплощение институтского духа. Мы вместе поднялись в аудиторию, потом опять спустились — посмотреть, как другие сдают, я разговорилась с одной знакомой, и тут появился Ж. М. Конечно, он остановился, и мы целый час разговаривали на лестнице. Потом я пошла с ним к Дидье и в книжный магазин на улице Суффло; он там извел продавцов, я, кажется, тоже.
Потом я вернулась в институт, посмотрела, проведала Виви Лафон, поболтала с Жаном и ушла.
Ж. М. проводил меня до метро. Ему хотелось пойти со мной вечером куда-нибудь на концерт. Вот для чего он искал газету. Но я поняла, к чему он клонит, и сказала, что не смогу.
Вот я пришла сюда, пообедала с мадам Леви. Теперь иду к мадам Журдан
[55].
Забавно — не могу подобрать лучшего слова для этого дня —
wild[56], вот какой он был. Когда я занята, мне некогда хандрить. Вечером опять пойду в институт посмотреть свой результат.
* * *
Сходила, жарища была страшная. У меня 92 балла. У мадам Журдан встретила […], поговорили с ним об отличительном знаке
[57]. Тогда я решительно не собиралась его носить. Считала, что это позор, знак покорности немецким законам.
Теперь же думаю иначе: мне кажется, не надевать звезду — предательство по отношению к тем, кто наденет.
Но уж если я ее надену, то должна всегда сохранять достоинство, быть элегантной — пусть все видят. На это нужно много мужества. Сейчас думаю — носить ее надо.
Только к чему все это приведет?
Была у бабушки, застала там мадемуазель Детро
[58]. Бабушка дала мне очень красивую брошку и конверт. Когда пришел Жан, Николь сказала мне всю правду. Понятно, почему вчера она была такой подавленной. Я была потрясена.
Ну а потом поднялась суета, совсем как 14–15 мая сорокового года
[59], и прогнала печаль.
Хорошо, что бабушка глухая.
В полшестого мы с Жаном сели в метро, я доехала до «Ламотт-Пике». В институте еще час прождала, болтала с Морисом Сором и Полеттой Бреан. Результаты объявили только в семь. Приходила Сесиль Леман, кажется, вчера я видела ее в черном. Она поздоровалась, посмотрела на меня своими ясными голубыми глазами и твердым голосом сказала, что ее отец погиб в концлагере Питивье
[60].
Не знаю, что почувствовали другие, а мне передалось ее огромное, безутешное, безысходное горе. Мы с ней виделись по вторникам, и я каждый раз справлялась о ее отце. Поэтому он представлялся мне
живым. И вдруг такой конец — все оборвалось так внезапно, так чудовищно несправедливо… какой ужас, как больно за Сесиль, ведь она мне не чужая.
Друзья бросились меня поздравлять, но мне было совсем не весело. Я думала только об этой смерти, она перечеркивала все остальное.
Понедельник, 8 июня
Сегодня я впервые почувствовала, что в самом деле начались каникулы. Погода солнечная, воздух свежий после вчерашней грозы. Щебечут птицы, утро прямо как у Поля Валери. И сегодня я надену желтую звезду. Две стороны нынешней жизни: светлое утро — воплощение свежести, молодости, красоты и желтая звезда — порождение варварства и зла.
* * *
Вчера устроили пикник в Обере. Мама зашла ко мне в четверть седьмого (они с папой и Денизой уезжали рано) и открыла ставни; небо сияло, но золотистые тучки предвещали недоброе. Без четверти семь я вскочила и, одна во всем доме, пошлепала босиком в малую гостиную — посмотреть на барометр. Небо успело нахмуриться. Погромыхивал гром. Но птицы распелись на удивление. В половине восьмого я встала, помылась с ног до головы. Надела розовое платье и, босая, почувствовала себя свободной как ветер. Во время завтрака пошел дождь, пасмурная тяжесть не проходила. Я спустилась в погреб за вином, чуть не заблудилась.
Вышла из дому в половине девятого. С одной только мыслью: благополучно добраться до вокзала. Приказ вошел в силу вчера. На улицах пока еще никого не было. На вокзале вздохнула с облегчением. Прождала четверть часа. Первым пришел Ж. М. в белом чесучовом пиджаке, прямо как из американского фильма. Очень красивый. Потом примчалась Франсуаза. Я у нее спросила: «Как дела?», она ответила: «Плохо»; — я застыла на месте: такой ответ не в ее привычках. Тогда она отрывисто пробормотала, отводя глаза, — она всегда так делала, говоря об отце, — что отца увезли из Компьеня, скорее всего, в Кельн — разбирать руины вокзала, который разбомбили англичане. Я онемела.
Тем временем подошел Молинье, он дважды бегал к матери (на улицу Пепиньер), она его о чем-то просила. Пришли Пино, Клод Леруа и, наконец, Николь. Мы до половины десятого ждали Бернара, потом присоединились к остальным (Николь, Франсуаза и Пино уже сели в поезд).‘Как всегда, долго рассаживались. В конце концов я села в одном конце вагона рядом с Молинье; Пино и Клод Леруа — в другом, а Николь, Франсуаза и Моравецки — в середине. Дождь лил и лил, небо было низкое и серое. Но все же мне казалось, что скоро распогодится.
В Мезон-Лаффите вышло много народа, и мы с Молинье пересели к нашим в середину вагона. На следующей остановке рядом со мной сел Жан Пино. Как-то раньше он мне не попадался на глаза. А тут вдруг — вот он опять.
После сегодняшнего дня я сравнила его с Ж. М., и победил Ж. М., хоть я его и мало видела. Он покорил всех, даже моих родителей, своей энергичностью, силой духа; он, между прочим, единственный из молодых людей, за кем можно признать редкостные
нравственные качества. Он — сама энергия и честность.
Понедельник, вечер
Господи, я не думала, что это будет так тяжело.
Весь день я крепилась изо всех сил. Шла, высоко подняв голову, и смотрела встречным прямо в лицо, так что они отворачивались. Но это тяжело.
Впрочем, большинство людей вообще не смотрят на тебя. А хуже всего встречать других таких же, со звездой. Утром я вышла из дому с мамой. На улице две девчонки показывали на нас пальцем: «Видала? А? Евреи». А в остальном все прошло нормально. На площади Мадлен встретили месье Симона, он остановился и слез с велосипеда. Дальше я одна доехала на метро до «Звезды», там зашла в мастерскую за своей блузкой и села на 92-й. На остановке стояли девушка с парнем. Девушка показала ему на меня. Они что-то говорили.
Я инстинктивно повернула голову — солнце светило в глаза — и услышала: «Какая мерзость!» Одна женщина, по виду
maid[61], улыбнулась мне еще на остановке, а потом несколько раз оборачивалась и улыбалась в автобусе; а какой-то шикарно одетый господин не сводил с меня глаз, я не могла понять смысл этого взгляда, но гордо смотрела в ответ.
Опять села в метро — до Сорбонны, еще одна простая женщина мне улыбнулась. А у меня почему-то слезы на глаза навернулись. В Латинском квартале почти никого. Дел у меня в библиотеке не было. До четырех часов расхаживала по прохладному залу, опущенные шторы пропускали рыжеватый свет. В четыре вошел Ж. М. Какое счастье было с ним поговорить! Он сел перед моим столом и так просидел до конца, мы разговаривали, а то и просто молчали. На полчаса он отлучился — ходил за билетами на концерт в среду, и тут зашла Николь.

Страница Дневника. Запись, сделанная 8 июня 1942 года, в день, когда Элен первый раз надела желтую звезду.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Когда из библиотеки все ушли, я достала свой пиджак и показала ему звезду. Но смотреть на него не могла — я снимала звезду, а сине-красно-белый букетик на булавке, которой она была приколота, вставляла в петлицу. Когда же подняла глаза, увидела, что он поражен до глубины души. Уверена, он ни о чем не догадывался. Я испугалась, что теперь наша дружба даст трещину и ослабнет. Но он проводил меня до «Севр-Вавилон» и был очень внимателен. Хотела бы я знать, что он думал
[62].
Вторник, 9 июня
Сегодня было еще хуже, чем вчера.
Устала так, как будто отшагала пешком пять километров. Лицо растянулось от постоянных усилий сдержать подступающие слезы.
Утром осталась дома, играла на скрипке. Моцарта. Все в нем перезабыла.
Но после обеда началось то же самое, я обещала в два часа зайти в институт за Виви Лафон после ее курсов подготовки к агрегасьон
[63]. Звезду надевать не хотела, но все-таки приколола; сочла, что это нежелание — просто трусость. И вот… сперва на проспекте Ла Бурдоннэ на меня показывали пальцем две девчонки. Потом контролер в метро «Медицинская школа» (а когда я спускалась, одна женщина сказала мне: «Здравствуйте, мадемуазель!») приказал мне: «В последний вагон!»
[64] Значит, вчерашние слухи оказались правдой. Дурной сон сбывался наяву. Подошел поезд, я зашла в первый вагон. А после пересадки ехала в последнем. Звезд ни у кого не было. И тут-то, с запозданием, я чуть не расплакалась — так было горько, так противно; чтобы сдержать слезы, я старательно глядела в одну точку.
В большой двор Сорбонны я вошла ровно в два часа, мне показалось, там был Молинье, но я не была уверена, поэтому направилась прямо в вестибюль библиотеки. Молинье, это все же оказался он, подошел ко мне сам. Разговаривал очень дружелюбно, но отводил взгляд от моей звезды. Смотрел на меня поверх нее. Мы словно говорили друг другу глазами: «Не обращай внимания!» Он сдал второй экзамен по философии.
Мы расстались, и я подошла к лестнице. Там было полно студентов, одни прогуливались, другие кого-то поджидали, некоторые поглядывали на меня. Спустилась Виви Лафон, пришла еще одна моя подруга, и мы вышли на солнце. Говорили об экзамене, но я чувствовала, что все наши мысли вертелись вокруг желтой звезды. Когда мы с Виви остались наедине, она спросила, не боюсь ли я, что мой букетик-триколор сорвут, и сказала: «Не могу видеть это на людях». Знаю, многим неприятно. Но знали бы они, какая это пытка для меня. Я стояла и мучилась, здесь, во дворе Сорбонны, на виду у всех друзей. Вдруг мне почудилось, что я уже не я, все вокруг изменилось и я теперь какая-то чужая, — так бывает в ночных кошмарах. Вокруг все знакомые, но я чувствовала: всем им горько и неловко. Как будто у меня клеймо на лбу пылало. На ступеньках стояли Мондолони и муж мадам Буйа. При виде меня они обомлели. А Жаклин Ниезан заговорила со мной как ни в чем не бывало; Воск тоже был смущен, я протянула ему руку, чтобы он пришел в себя. Старалась вести себя естественно, но получалось плохо. Страшный сон затянулся. Подошел Дюмюржье — он брал у меня книжку, спросил, когда можно вернуть мне мои записи. Вид у него был непринужденный — подчеркнуто непринужденный, как мне показалось. Наконец вышел Ж. М., и стоило мне его увидеть, как я почувствовала что-то такое, какое-то несказанное облегчение — вот кто все знает и понимает меня. Я позвала его, он обернулся, улыбнулся. Ужасно бледный. Сказал мне: «Извините, я сегодня сам не свой». И правда, он выглядел совершенно растерянным и разбитым. Но все же улыбался, и по крайней мере он-то не переменился.
Через минуту-другую он спросил, что я собираюсь делать. Сам он шел к Молинье, а потом надеялся снова найти меня во дворе. Я вернулась к Виви Лафон, Маргерит Казамиан и еще одной, очень милой девочке. Скоро мы все пошли в Люксембургский сад. Приходил ли потом Ж. М., я не знаю. Но ждать его не стала, так лучше. Лучше для нас обоих: я была слишком взволнована, а он подумал бы, что я пришла ради него. В саду мы сидели за столиком, пили лимонад и оранжад. Все такие милые: и Виви Лафон, и мадемуазель Коше — она вышла замуж два месяца тому назад, — и та девочка, не знаю ее имени, и Маргерит Казамиан. Но никто из них, по-моему, не понимал, как мне плохо. Иначе спросили бы: «Зачем же вы ее носите?» Стесняются, наверное. Иной раз я и сама себя спрашиваю зачем, но точно знаю ответ: чтобы испытать свое мужество.
Минут пятнадцать я посидела на солнышке с Виви и мадемуазель Коше, потом пошла в институт в надежде повидать Николь и Жан-Поля, а то было как-то одиноко. Николь я не встретила, зато сразу почувствовала себя среди своих; конечно, мое появление было впечатляющим, но тут все всё знали, никто не смутился. Специально подошла Моник Дюкре — мне хорошо известны ее взгляды — и завела со мной долгий, сердечный разговор; один студент по имени Ибален (он приходил узнать свою оценку) так и подскочил, наткнувшись на меня взглядом, но демонстративно подошел к нам и присоединился к беседе — о музыке. О чем говорить, было совершенно не важно, главное — подтвердить без всяких слов, что нас объединяет дружба.
Анни Дижон тоже была очень приветлива. Я пошла на почту купить марку, и у меня опять перехватило горло, а когда служащий с улыбкой сказал мне: «Так вы еще красивее, чем раньше», чуть не разревелась.
В метро контролер ничего не сказал мне. Я поехала к Жану. Там была и Клодина. Жан не выходит из дому. Если бы не Клодина, я бы могла поговорить с ним вволю. Но она была тут, вмешивалась во все, о чем бы ни зашла речь, и во все вносила
blight[65] и я осекалась — заранее знала, что она будет нам возражать. В общем, ничего хорошего из этой встречи не вышло, и я с тяжелым сердцем вернулась домой, без звезды.
Стала рассказывать маме, как прошел день, но не договорила — едва не расплакалась и убежала к себе, не понимаю, что со мной творится.
В половине четвертого звонил Ж. М., просил передать, что будет ждать меня завтра утром, без четверти десять, — наверно, он вернулся во двор и не застал меня. Он ведет себя очень благородно, я ему благодарна, точнее, этого я от него и ждала.
Среда, 10 июня
Утром была на концерте в Трокадеро. Эту штуку не надевала.
Было холодно, шел дождь. У входа увидела Николь и Ж. М., они стояли и разговаривали. Потом подошла Симона. Но сидели мы в разных местах. Первый раз в жизни я ходила на концерт вдвоем с молодым человеком.
Так приятно, когда за тобой ухаживают, когда, например, он подавал мне жакет, мне это непривычно. У него такие изысканные, я бы сказала даже безупречные, манеры.
Четверг, 11 июня
Были в Обере.
Выехали в семь мантским поездом. Все утро собирали клубнику и черешню.
Нам было страшно весело, может, оттого, что в кои-то веки мы собрались все вместе — никого из семьи, кроме нас четверых, тут больше не осталось. Кроме того, это была разрядка.
Вернулись двухчасовым поездом.
Мы с мамой пошли к бабушке взять фотографии. В Париже было солнечно и очень жарко. Фотографии — чудесные. От радости я летела домой как на крыльях.
Приходила мадемуазель Фок. Я дала ей первый урок английского. По ходу дела набиралась дерзости.
В пять часов почтальон принес две открытки от Жака, одну от Владимира и одну от Жерара.
К ужину пришла Анни Леоте. А после ужина варили компоты и беспечно болтали.
Пятница, 12
Встала не в духе, обидела маму. Она попросила меня показать открытки от Жака. Я же, сама того не желая, должно быть, ответила слишком
snappily[66]. Дальше все пошло только хуже.
Перед уходом я зашла к ней проститься, с желтой звездой на кармане. Маму это, естественно, рассердило. Она велела мне прикрепить ее на другое место. А меня бесило, что ее вообще нужно носить. Я сорвала ее и прицепила на плащ. А она сказала, что и так тоже плохо. Мы накричали Друг на друга, и я ушла, хлопнув дверью.
Дошла пешком через все Марсово поле до метро «Ла-Мотт-Пике» (чтобы купить пирожное в «Птит-маркиз»). Там маршировали боши, команды звучали как звериный рык.
Доехала на метро до «Одеона». Прошлась по Латинскому кварталу. Пришла в библиотеку, там встретила Мориса Сора, который, говоря со мной, явно искал глазами звезду. Ему было неловко. Купила томик Малларме на улице Гей-Люссака и стала дожидаться у входа одиннадцати часов, когда кончается занятие у группы агреже. Долго никто не выходил, и вдруг я заметила Ж. М. — он шел по двору. Он обернулся, увидел меня. Кончилось тем, что он проводил меня до дому. Я всю дорогу болтала без умолку, такого со мной не бывало. А что говорила, не помню.
Видела и Спаркенброка, он был какой-то весь растерзанный, с отросшими волосами. Я его насилу узнала. Рядом с Ж. М. у него женоподобный вид. Что-то с ним не так.
Во второй половине дня пришла Франсуаза Масс, мы целый час проболтали, потом пошли в зал Гаво на мастер-класс Маргерит Лон и Жака Тибо
[67]. Мы договорились встретиться в четыре с Франсуазой и Жаном Пино. Были еще Дениза и Николь. Сидели в ложе. Концерт был великолепный.
Домой шли пешком. Успели обо всем поговорить, пока не расстались с Пино на улице Боске. Чудесное, воодушевляющее чувство — знать, что у тебя есть настоящие друзья, которые тебя любят и понимают. Никогда раньше я такого не испытывала. Пожимая на прощание руку, Жан Пино сказал: «Что ни говори, а вы замечательные девушки, да-да, просто восхитительные». Это было сказано от всего сердца и выражало то, что всегда сквозит в наших беседах, делает их неповторимыми. Я так расчувствовалась, что перешла улицу не глядя.
Вспоминаю сейчас все, что случилось на этой неделе, и вижу: она прошла под сумрачным небом, это была трагическая, сумбурная, полная потрясений неделя. Но в то же время я с восторгом думаю, какое счастье, что я встретила родственные души: Пино, Ж. М. Прекрасное сопутствует трагедии. Оно как бы сгущается посреди моря мерзости. Удивительно.
Суббота, 13 июня
Мы музицировали, сыграли Четвертый квартет и струнное трио Бетховена. Я играла несколько часов подряд и к вечеру совсем устала.
Воскресенье, 14 июня
Обержанвиль — с Симоной и Франсуазой.
Все трое были в дурашливом настроении. Особенно мы с Николь резвились и веселились, как в детстве, — почему-то на нас всегда находит такой стих, когда мы с ней моем посуду. Как говорится, телячий восторг.
Лопали черешни-помпончики. Болтали глупости. Подкалывали друг друга по поводу Жана Пино и Жан-Поля. В общем, вели себя как
cracked[68]. Но было здорово.
Понедельник, 15 июня, вечер
Жизнь остается невероятно гнусной и невероятно прекрасной. Со мной случаются такие вещи, какие, я думала, бывают только в книгах.
Вот, например, сегодня вечером по пути из Сорбонны я встретила на проспекте Ла Бурдоннэ Жана Пино. Он остановился, мы обменялись парой слов, он смотрел на меня своим чистым взглядом, со своей улыбкой на грани смеха. В руках он держал букет роз. И вдруг говорит: «Хотите эти цветы? Берите!» — и я согласилась. Взяла букет. Но тут же ужаснулась — что это я такое сделала! А он не захотел брать цветы обратно, мы оба рассмеялись, сердечно пожали друг другу руки и разошлись.
До трех часов сидела в библиотеке над «Преступлением и наказанием» — читаю взахлеб. Вдруг открывается дверь, входит Ж. М., и я смотрю на него совершенно спокойно. Он зашел на минутку и убежал звонить по телефону. Нам, как ни странно, было не о чем говорить. Он принес мне книги. Начал говорить и запнулся: «Постойте-ка, когда же это было?..» — долго соображал и наконец припомнил, что в пятницу вечером — в тот день он звонил мне домой и приглашал отметить окончание экзаменов с ним и Молинье. Бернадетта мне ничего не сказала.
Часам к пяти внезапно набежали дела. Он разговаривал с Мондолони. Потом ушел, а я так и не успела с ним поговорить, только промямлила что-то, когда он прощался. Он трижды переспрашивал, но так и не расслышал. В конце концов сказал по-английски:
«It’s crowded now»[69] — и ушел.
Тот парень, Сталин (почему-то его прозвали так), просидел до самого конца, может, нарочно — у меня на кармашке была приколота звезда. Мы с Николь, Жан-Полем и Сюзанной Бенезеш вместе поехали на метро. На улице Медицинской школы встретила Жерара Кайе с нашего курса. Красивый парень. Он это знает и расточает всем свои чары.
Дома нашла две открытки от Одиль.
Вторник, 16 июня
Странный день. Мы с Николь поехали в Обержанвиль за свиной тушей. Все утро дурачились — все тот же «телячий восторг». Это было здорово.
Вернулась я в четыре, с тяжеленной корзинкой, выпила чаю и была в прекрасном настроении. Без всякой причины.
Вдруг вспоминаю, что уже давно не думаю о Жераре и могу совсем забыть его. Сердце у меня сжимается — ведь как раз теперь он уехал на плато
[70]. И просил писать ему почаще. Мне кажется, расстояние между нами увеличилось втрое, я живу какой-то другой жизнью. Как случилось, что я обо всем забыла? Бывают минуты, когда мне мерещится трагический исход. Но в остальное время я об этом и не вспоминаю.
Совершенно ясно, что я его не люблю так, как надо бы.
И могу писать это вот так хладнокровно?
Одно хорошо — я твердо решила быть искренней. Чем все это кончится? Не могу ничего загадывать дальше завтрашнего дня.
Среда, 17 июня
Такого, как сегодня утром, я не слышала никогда в жизни.
Концерт был
великолепный.
И никогда уж не смогу без слез слушать адажио из
Concerto еп mi[71]. Долго не могла прийти в себя. Очнулась, только пройдясь по Латинскому кварталу — искала Фукидида для Жака. Заходила в лавки Жибера, Дидье, в магазины на улице Суффло, на бульваре Сен-Мишель. Пока рылась в книгах, успокоилась.
Вечером была у бабушки.
* * *
Вчера умер Клод Мангейм, после двух месяцев болезни. Какое страшное, безутешное горе — потерять мужа, когда ты еще совсем молода. Дениза осталась с двумя маленькими дочками. Как она теперь будет жить?
Четверг, 18 июня
Мастерские, Метей.
После обеда четверть часа вздремнула. Это напомнило мне Бержерак.
В половине третьего пришел Пьер Детеф.
Вечер — у Жана. Но его самого я почти не
видела. Сначала пришла Дениза Сикар. Потом Клодина попросила меня сыграть. Потом пришла мадам Симон, и мы играли вместе.
А около половины седьмого я ушла на урок с мадемуазель Фок.
К ужину пришли Брокары и мадам Леви.
Четверг
Не знаю, то ли я до сих пор жила в каком-то помрачении, а теперь прозрела?
То ли, наоборот, помешалась сейчас?
Получила вечером четыре открытки от Жерара. Он не может знать, что со мной творится. И, несмотря на мою сухость, по-прежнему во мне уверен. Ни о чем больше не знает. Ждет, когда мы соединимся. Еще недели три назад это заставило бы меня строить планы на счастливое будущее. Ну а сегодня мне только стало очень тяжело. Правильно ли я решила, не знаю.
Месяц назад я была в полной растерянности. Теперь же что-то во мне повернулось в другую сторону, потому что я старалась жить нормальной жизнью, как будто не было этой смуты. И вот что произошло.
Наверное, так было суждено. Это должно было случиться. Я с самого начала думала, не потому ли так увлеклась, что не знала никого, кроме Жерара. Никто, даже мама, не понимал, как мне тревожно. Разве только Ивонна, но она далеко.
Целую неделю я пыталась бороться. Но что толку? Раз так должно было случиться, я не могу и не должна этому мешать.
Не знаю, по-настоящему ли все теперь, но я хотя бы поняла, что тогда, в первый раз, никакого чувства во мне не было.
Вернее, оно шло от головы. Но любят не головой, не рассудком.
Может быть, я не люблю Жерара по-другому просто потому, что не вижусь с ним? Вот в чем вопрос.
Но мне всегда чего-то в Жераре не хватало.
Так это или нет?
Будь он тут, с нами, я бы могла выбирать свободно. Но меня мучит, не дает ясно мыслить само то, что я связана обязательствами.
Я этого не отрицаю. Но не могу понять, как это получилось. Все оттого, что я слишком люблю писать письма.
Придется начинать все сначала.
Теперь я совсем-совсем не представляю себе, что будет дальше.
Заснула в слезах. После разговора с мамой. Она зашла пожелать мне спокойной ночи. И задержалась в комнате. Я видела — она ждет. И все ей сказала, а потом пожалела, потому что плохо выразила то, что думала, потому что не уверена, действительно ли думаю то, что сказала, потому что говорить неправду нечестно, потому что не хочу никого затруднять своими делами, потому что, конечно же, разревелась.
Проснулась утром — те же сомнения в голове. Да еще чувствую себя опустошенной, как будто долго рыдала.
Перечитала вчерашние открытки. И снова стало больно — ничего не поделаешь. И еще щемящее чувство — как будто что-то потеряно, что-то оборвалось.
Как я могла, не любя его, допустить, чтобы он писал мне такие письма? Читаю — и кажется, я теряю что-то чудесное. А как подумаю — снова раздваиваюсь.
Я написала ответную открытку. Отрывистые, горькие, не оставляющие надежды слова.
Начала — и сразу вспомнила, с каким удовольствием писала раньше. Меня заклинило, будто что-то разбилось.
Слепая, что ли, я раньше была? Нельзя так писать, если не уверена в своих чувствах.
Но верно ли, что теперь все прояснилось? А может, это теперь я ослепла? А если все прояснилось, не окажусь ли я на пустом месте?
Singleness of mind[72].
* * *
За обедом — месье Буассери.
Музыка у Лион-Канов. Я страшно нервничала и выглядела полной дурой. Франсуаза заметила.
Когда месье Лион-Кан ушел, мы с Франсуазой остались поболтать, и это было уже не так ужасно. Потом я зашла к бабушке за мамой.
Забыла сумку на улице Лоншан.
Суббота, 20
Заходила за сумкой. Франсуаза забыла оставить ее у консьержки. Я поднялась, позвонила три раза. Давно знакомая дверь стала мне неприятна, я ее разлюбила. Никого не оказалось дома. Спускаясь, встретила на лестнице месье Лион-Кана, мы вместе зашли в квартиру, он долго искал сумку в комнате Франсуазы, но не нашел.
Краем сознания я понимала, как забавно это выглядело: мы вдвоем в пустой квартире, я тут почти своя. Но смеяться совсем не хотелось.
Ушла без сумки, доехала на метро до «Сент-Огюстен». А оттуда пешком до лавки Галиньяни. Купила стихи Уолтера де ла Мера.
На музыке была в кошмарном настроении и никак не могла встряхнуться.
А тут еще Дениза — душа болит на нее смотреть. Она тоже мучится, хоть и молчит. Но я-то знаю.
Среда, 24 июня
Хотела записать еще вчера вечером… Но была слишком потрясена, не хватило сил. Заставлю себя сделать это сегодня утром, чтобы ничего не забыть.
* * *
Первое, о чем я подумала, как только проснулась и увидела свет сквозь ставни: у папы сегодня не будет нормального завтрака, он не будет сидеть за столом, не съест свой ломтик поджаренного хлеба, не нальет себе кофе. И так стало от этого тяжело.
Это была только первая мысль, за ней не сразу (я, как часто бывает, снова задремала), но последовали другие, пока не пришло полное понимание того, что произошло; обычно же я не встаю, пока не услышу, как бренчат ключи в его кармане, как открываются ставни в его спальне, — жду, когда он включит газ. Не услышала — и поняла. А вот сейчас — опять в голове не укладывается.
* * *
Это случилось вчера, примерно в такое же время, как сейчас. Утром я дважды выходила. В первый раз — сбегала в ближайшую молочную посмотреть, нет ли там сливочного сыра, мы ждали к обеду Симону. Во второй — села в 92-й и доехала до площади Звезды, пошла сначала в мастерские, а оттуда в Американскую библиотеку. Мы с папой договорились идти домой вместе, но было еще рано, и я задержалась на Тегеранской улице.
На улице Бом
[73] у привратницкой стояло все семейство Карпантье, я поздоровалась, мне едва ответили. Все выглядели чем-то озабоченными, так что и я не стала ни с кем заговаривать; только погладила собаку, а мимо застывшей, как статуя, мадам Карпантье прошла молча. Аро зашел в вестибюль вместе со мной, мне это показалось странным, но мало ли какие у него дела. К тому же, когда я сказала: «Как здесь хорошо», он самым естественным тоном ответил: «Да, прохладно». Но он и по лестнице пошел за мной следом. И я опять подумала — с чего бы это. Я спросила, на месте ли папа, он сказал — нет. Уже потом я вспомнила, каким растерянным тоном это было сказано. Он предложил мне пойти к президенту, месье Дюшмену
[74]. А я сказала: «Но папа ведь скоро придет». Он ответил «да-да», но как-то не очень уверенно. Наверху увидела Карпантье — он был за секретаря, у него тоже спросила, на месте ли папа. Он сказал: «Нет, мадемуазель, но вы можете пройти к господину президенту». Тут уж не только любопытство, но и страх шевельнулся во мне. Карпантье и Аро переглянулись. От всей этой таинственности мне стало не по себе. Но паниковать раньше времени не хотелось, поэтому я с легкостью заглушила в себе все сомнения. Однако же, когда Карпантье распахнул передо мной дверь в кабинет месье Дюшмена, я подумала: «Ну, вот сейчас…» — и все опять нахлынуло. Месье Дюшмен встал из-за стола, и я спросила: «Что случилось?»
Он начал так: «Сегодня утром, Элен, я видел вашего отца, и он оставил мне вот эту записку». И еще долго что-То говорил, но я не поняла ни слова (пришлось потом переспрашивать), только одно было ясно: папу арестовали. Я не сразу заметила, что и не слушаю его. Еще только войдя, я была поражена его видом. Я знала, что у него экзема, но сейчас он был просто зеленый, с двухдневной щетиной, и от него разило лекарством. В конце концов до меня дошло, что он хочет отвезти меня домой на машине и поговорить с мамой. Записку я взяла с собой. Листок бумаги с фирменной шапкой. Помню, там было очень точно указано время: 23 июня, девять часов тридцать минут, а дальше отчетливым папиным почерком: «Полицейский инспектор уводит меня на улицу Греффюль, а оттуда в немецкую полицию», потом отдельной строкой: «Почему — не знаю».
И еще ниже: «Возможно, это необязательно арест или лагерь». «Связался с мэром». И наконец: «Жена ничего не знает, поскольку я и сам не знаю, чем все кончится. С уважением…»
Так и вижу этот листок.
Месье Дюшмен закрыл чернильницу, сложил бумаги, и мы поехали. По дороге я худо-бедно представила себе, что и как. Но окончательно все уяснила из его рассказа маме: он пришел на работу в половине десятого и увидел, что отца уводит инспектор полиции. Папа думал, что не дождется его, поэтому написал записку.
В машине я не раскрывала рта и видела все словно сквозь туман. Месье Дюшмен два раза пытался меня разговорить: спрашивал про Ивонну и поздравлял меня с получением диплома. Была отличная погода. Светлое июньское утро в Париже… но я не замечала этой красоты. Во время катастроф погода всегда хорошая.
Пока поднимались по лестнице, думала, как подготовить маму. Первые три этажа шла нормально, а последний — шагала через ступеньку, чтобы опередить запыхавшегося месье Дюшмена; открыла Луиза и явно удивилась, что со мной Дюшмен, а я ничего не говорю. Мама что-то писала за секретером в малой гостиной. Я с порога сказала: «Мама, пришел месье Дюшмен… видимо… папа арестован…» И это все, что я успела, — вошел сам Дюшмен. Мама резко встала. Потом они оба сели, и месье Дюшмен рассказал все по порядку. Тогда-то я все и узнала. В голове прояснилось, и я пошла сказать Денизе — она занималась на пианино. На нее известие подействовало как разорвавшаяся бомба: она вскочила, я старалась выложить все побыстрее, говорила чуть ли не односложными словами, помню, она не то вздохнула, не то застонала и чуть не упала, я ее поддержала. Потом мы тоже пошли в малую гостиную.
Месье Дюшмен встал и собрался уходить. А мама все сидела в кресле. Потирала лоб и бормотала: «Я ничего не чувствую… совсем ничего». Знаю я это ощущение. Но мама хотя бы все осознала, а я до сих пор не могу. Она позвонила тете Жер.
В половине первого зазвонил телефон — незнакомый мужской голос. Мы сразу поняли — это инспектор, который задержал папу; я взяла вторую трубку. Было так странно слышать все ту же историю из уст постороннего человека. Это удостоверяло ее, как печать. До сих пор она оставалась чем-то, что ходило между нами и чего, может, и не было на самом деле. Теперь же мы убедились — все действительно так. И все непоправимо.
По словам инспектора, папу могли бы отпустить, потому что допрос на проспекте Фоша
[75] прошел благополучно, но у него была плохо пришита звезда. Я возразила. Мама тоже, она объяснила, что прикрепила звезду скрепками и кнопками, чтобы ее можно было снимать и прицеплять на другие костюмы. Но полицейский стоял на своем: папу отправят в лагерь из-за этого. «В Дранси все звезды хорошо пришиты». Так мы узнали, что его интернируют в Дранси
[76].
* * *
Долго я буду помнить этот обед. Пришла Симона. Все сидели молча. Я, как ни странно, ела с большим аппетитом. Мама позвонила мадам Леви и попросила ее подняться к нам. А когда она пришла и села, все ей рассказала. Я старалась не смотреть на мадам Леви, боялась, что ей будет неприятно. Она сидела рядом со мной. Но по выражению лица Денизы поняла, что она побледнела. Дениза сказала: «Ей сейчас станет дурно». Мы обе в душе упрекали маму за то, что она не щадит ее чувств. Но, может, мы просто сами еще мало что пережили и потому могли думать о чувствах мадам Леви.
Еще запомнилась суматоха, которая поднялась в доме после обеда. Как будто мы собирались куда-то уезжать. Во время обеда прибежала Андре
[77] с двумя батонами хлеба. В комнате мисс Чайлд
[78] были разложены папины вещи. Мадам Леви так и сидела в кресле перед кофейным подносом. В спальне мама с Андре отбирали белье. Симона пулей помчалась к себе домой за ветчиной. Я скоро тоже ушла в лавку Тиффро с целым списком покупок. Там, на улице Монтессюи, пришлось подождать минут десять. Тротуар раскалился под солнцем, и я даже под тентом вся взмокла. Топталась перед дверью и умирала от нетерпения. На улице было спокойно, как всегда в час дня. Наконец подошел сам Тиффро, которого я не сразу узнала. Я все рассказала, он помолчал и спросил: «Простите, не соображу, как вас зовут?» — «Мадемуазель Берр». — «Да-да, конечно». Мы зашли в лавку, он медленно, методично стал доставать нужные вещи. Я еле вытерпела. Ушла с полными руками: термос (он сменил на нем пробку), зубная паста, щетка, мятная настойка. Когда вернулась домой, уже почти все было собрано. Пришли тетя Жер и Николь, но я их заметила только потом.
Поехали все втроем, отвез нас Аро. Париж хорош как никогда, снова набережные, Сена, Лувр. Мне вспомнился другой случай, когда вся эта красота поразила меня вопиющим несоответствием с трагическими обстоятельствами. Дело было 16 мая 1940 года, в день ланского прорыва
[79], когда мы спешили за мадемуазель Лезье. Это уже далеко позади. Будущее тогда еще оставалось неведомым. Теперь оно проявилось, мы его знаем. И опять перед нами новый и опять неизведанный пласт будущего. А тогда уже через двенадцать дней еще один отрезок времени сбросил покров тайны и неизвестности и оказался горестным и безобразным
[80].
Автомобиль остановился у цветочного рынка. Мы вышли, нагруженные вещами. Это была целая процессия. Я несла рюкзак и одеяла, Дениза — корзину. У дверей префектуры нас остановил полицейский. Мама стала объяснять ему, зачем мы пришли, эти слова прозвучали первый раз, и я вздрогнула: «Мы по поводу одного интернированного, его отправляют в Дранси. Нам сказали, можно принести вот это…» Но тут же смирилась со своей ролью. Мы шли по каким-то бесконечным лестницам и коридорам с голыми стенами и дверями по правой и левой стороне, я думала, может, это камеры и в одной из них папа; нас посылали с этажа на этаж. В коридорах попадались то какие-то личности с бандитскими рожами, или мне так казалось, то служащие за столиками, все чрезвычайно вежливые. Рюкзак был тяжелый. У мамы едва хватило сил подняться на последний этаж. Да и я твердила себе: «Иди, иди, осталось еще немного». Как путь на Голгофу.
Нас еще погоняли по длинному коридору, в который выходило множество застекленных дверей, и привели в кабинет номер «?», как оказалось, предназначенный для иностранцев, потому что сидевший там полицейский сказал в телефон: «Пятый этаж. Нет, он француз. Понятно, значит, на третьем». Но и на третьем папы не было. Там была комната без таблички, в ней что-то вроде длинной конторки, за которой сидели несколько служащих. За эту загородку вела деревянная дверца. А справа была еще одна дверь, перед ней стоял полицейский, невысокого роста, чернявый, молодой. На вид понятливый. Мы изложили ему, по какому делу пришли, он скрылся за той самой дверью и выкрикнул имя — Берр.
Как только появился папа, мне показалось, что вот этот час автоматически сцепился с недавним временем, когда мы были все вместе, а все промежуточное — просто дурной сон. Как будто наступило затишье, грозовое небо ненадолго прояснилось. Теперь я думаю: это милость судьбы, что мы увидели папу уже
после первого акта трагедии, после ареста. Он рассказал нам, как все было. И при этом улыбался.
Так с улыбкой потом и ушел. Теперь мы все знаем, и у меня такое чувство, что мы стали еще ближе друг другу и что он уехал в Дранси еще теснее с нами связанный.
* * *
Вошел он со своей сияющей улыбкой, как бы приглашая оценить забавную сторону ситуации; он был без галстука, меня это сразу кольнуло — всего два часа прошло, а уже успели. Папа без галстука — первый признак «заключенного». Но оказалось, это временно. Один из полицейских извинился и сказал, что галстук, шнурки и подтяжки папе сейчас вернут. Мы засмеялись. Чтобы нас утешить, полицейский объяснил, что таков приказ, поскольку накануне один заключенный чуть не повесился.
Так и вижу, как папа не спеша одевается прямо там, в этой комнате. Сначала галстук ему дали чужой — месье Розенберга, папа уже знал своих сокамерников по именам. Со всеми успел познакомиться, мне захотелось расспросить о них, и от его рассказов почему-то стало легче. Своих соседей, судя по всему, он изучал с какой-то насмешливой отстраненностью, смотрел на все с иронией, а значит, сохранил не только спокойствие, но и
sense of humour[81]. У меня на душе потеплело, я была ему благодарна. Но все это так трудно объяснить.
От этих двух часов остались в памяти какие-то обрывки. Сначала я сидела на деревянной скамье напротив папы с мамой и пришивала его желтую звезду. Дениза что-то возмущенно говорила полицейскому, а тот смотрел на нее сочувственно. Я помалкивала. Старалась осознать, что же происходит. Наверно, именно тогда до меня все окончательно дошло, и голова была занята только сиюминутным.
Было похоже, будто мы сидим и ждем поезд на вокзале. Нет, было даже намного спокойнее, чем на вокзале. Почти что весело. Тон задавал сам папа. Иногда волнами подступало тревожное предчувствие — что будет дальше, когда кончится это свидание. Но, в сущности, это казалось неважным.
Мы даже разговаривали с полицейским и префектурными служащими. Был среди них человечек маленького роста, очень аккуратный и, казалось, очень
concerned[82], настоящий диккенсовский персонаж вроде мистер Чиллипа
[83]. Он все советовал нам с Денизой вести себя осторожно. Был искренне огорчен и очень учтив. Самый молодой служащий беспечно раскачивался на дверце. Сцена была достаточно комичной — папа в роли заключенного, представители власти — полны сочувствия и уважения. Что, спрашивается, все мы там делали.
Но все это потому, что с нами не было немцев. Поскольку все были французы, жуткий смысл происходящего не ощущался в полной мере.
Забыла описать подробности ареста, это все, что я знаю с папиных слов, и не узнаю больше, пока он не вернется. Его действительно доставили на улицу Греффюль, потом — на проспект Фоша, где на него налетел немецкий офицер (или, как я расслышала, солдат), стал его оскорблять
(schwein[84] и все такое) и сорвал с него звезду с криком: «В Дранси, в Дранси!» Это все, что я поняла. Папа говорил довольно сбивчиво, потому что мы засыпали его вопросами.
В середине свидания вдруг поднялась какая-то суета. То и дело открывалась и закрывалась дверь в коридор. Один из полицейских громко сказал: «Они пытались разговаривать с заключенным через щели в стене». А служащий ему ответил: «Впустите их, это мать и невеста». До этого я никогда не бывала в тюрьме. Но то, что подразумевалось в этих словах, в ту же секунду воскресило в памяти все сцены в полицейском участке из «Преступления и наказания», вернее, одну обобщенную сцену. Как будто действие всего романа сосредоточилось в полицейском участке.
Опять открылась дверь, вошли три женщины: мать, толстая блондинка простецкого вида, невеста, а третья, должно быть, сестра, потом ввели заключенного — черноволосого юношу, красивого какой-то грубоватой красотой, это был итальянский еврей, которого, кажется, обвиняли в торговле на черном рынке. Все они сели на деревянную скамью напротив нашей. И вот тогда запахло настоящей бедой. Но мы, все четверо, были настолько далеки от этих несчастных людей, что я и забыла, что мой отец тоже арестован.
Пятница, 26 июня
Утром в библиотеке.
Все так добры ко мне. Я вижу, как тяжело Сильви Себаун. Но предложить ей свою помощь не могу — она слишком гордая. Хоть знаю, что она очень бедствует. Я сообщила новость множеству друзей. Под конец уже затвердила все наизусть; а в одиннадцать часов пришла Сесиль Леман, очень красивая, в черном платье. Мы разговорились. Не подумав, я сказала ей, что все виновники поплатятся, а Сесиль мне ответила: «Да, но погибших уже не оживить». И только тут я осознала всю жестокость своих слов. Явился Сталин, я ему все рассказала. Он так и сел.
Он пробыл со мной целый день, и мы вместе ушли. Я ведь его почти не знаю, а он такой заботливый…
Мама сегодня получше. Может, потому что она выспалась. Я стараюсь делать всякие мелочи, которые обычно делал папа, — если она не заметит, что их не хватает, то и не огорчится лишний раз: по утрам открываю, по вечерам закрываю ставни в ее комнате, включаю утром газ.
Всю вторую половину дня спала на ходу. Отнесла пакет мадемуазель Детро, оттуда через Люксембургский сад пошла в институт. Свежая листва высоких красавцев-деревьев, пляска солнечных бликов — блаженный покой, он не отменяет печали, но словно разделяет ее с вами.
Отвозила письмо на улицу Бьенфезанс
[85], в метро толкучка, духота. Издергалась страшно — хоть плачь, три раза переспрашивала номер дома.
Потом поехала к бабушке на улицу Рейнуар. Разглядывала народ в вагоне, и вдруг ясно представился папа — красивый, элегантный. В ту минуту до меня дошло: вот почему я превратилась в безжизненный автомат, вот в чем смысл того, чем были наполнены последние дни, — все-все сводилось к одному, к тому, что папы, вот такого, каким его вижу, теперь с нами нет, его увезли.
От бабушки узнала новость: дома получили открытку от папы. Я помчалась туда. Усталость как рукой сняло. Прочитала на открытке: «Берр Реймон, номер 11943, лагерь Дранси», — но смысл не поняла, понимание приходит какими-то вспышками. Перечитала несколько раз, чтоб убедить себя, что все так и есть.
Дома уже была мама. Она читала и плакала. До половины восьмого не могли уйти — все время кто-то приходил.
Звонил адмирал Вриакос
[86]. Дениза ухитрилась засунуть себе в ухо черешневую косточку, мы все посмеялись. Еще была мадам Леви.
Пятница, вечер, 23.15
В какую-то минуту сегодня вечером я очень остро ощутила, как все ужасно. И не тогда, когда готовила пирог для папы. Хоть в голове так и роились мелкие воспоминания: как он наведывался на кухню и вдыхал аромат, когда мы пекли пироги. Но это меня не огорчало, даже наоборот — поддерживало иллюзию, что он тут, и еще дальше отодвигало мысль о реальном положении вещей.
Нет, это случилось, когда я перечитывала открытку: места, где он обращается к нам «мои девочки»; где описывает, чем занимался в первый день. То есть сначала я не расстраивалась, а скорее была рада узнать, что он там делает. Но потом почувствовала, до чего же скудна его новая жизнь и что означает этот перечень материальных нужд. На первый взгляд, кажется — он просто обустраивает быт на новом месте, а потом понимаешь, что это за быт.
И все-таки, глядя на знакомый почерк, я никак не могла уразуметь, что к чему, — он напоминал мне только папины письма из разных поездок. Еще недавно я видела его на открытках, которые он отправлял Жаку и Ивонне и где по большей части писал про Обержанвиль. Совсем не вязался этот почерк со значением слов, со смыслом того, что написано.
Вот и теперь опять не укладывается в голове.
Нет, вот какой-то проблеск среди ночи: я вижу, что между папой, каким он был дома и каким стал сейчас, там, где он есть и откуда прислал это письмо, разверзается непреодолимая пропасть.
Суббота, 27 июня, утро
Сегодня утром мадам Леви получила открытку от мужа
[87], который уступил папе всю оборотную сторону.
Папа уже не так бодр, как накануне (писал он вчера). Говорит, что лагерная жизнь очень уныла. Мы и так уже о многом догадывались, но заговорить решилась только мама, остальные старались не верить или думать, что так и должно быть. Мама обратила внимание, что он просит теплую одежду. Она сидит переписывает письмо и плачет.
Первую посылку мы собрали прямо на столе в гостиной. Я плюнула на все свои дела и осталась дома с мамой. Позвонила Пино, чтобы сказать им, что папа там познакомился со студентом Эколь нормаль
[88]. Дениза пошла отправлять посылку. Я переписала вчерашнюю папину открытку для Жака. Многое пришлось опустить, чтобы не причинить ему боль.
Я позвонила мадам Агаш, хотела рассказать ей новости. Но подошел санитар, сказал, что мадам Агаш не стоит беспокоить — ее муж совсем плох. Кругом одни страдания! Надо же, как неловко получилось: в доме умирает человек, а тут телефон растрезвонился. Я поскорей повесила трубку, будто хотела стереть этот звонок.
Этим же утром он и правда скончался.
7 ч 30 мин
Ничего не понимаю. Традиционный субботний вечер прошел так хорошо, я окунулась в нормальную жизнь, хоть знаю, что вокруг беспросветный кошмар. На ужин пришли Детеф с женой, Анник, ее кузен Легран, Жоб, Николь и Брейнар. С вечерней почтой получила две открытки от Одиль и две от Жерара. Все нормально. Не знаю, что и думать. Такое чувство, будто после тяжелого сна я вынырнула в спокойную жизнь.
Притом что до восьми часов пребывала в этом кошмаре — с утра все было хуже некуда. После обеда я переписала папину открытку для Ивонны (сейчас, когда я пишу, эти слова до меня не доходят). Пришел Жоб, остался с Денизой в кабинете. А у мамы сидели Легасты. Я их почти и не застала, только проводила до дверей. Мадам Легаст, по-моему, плакала — даже проститься не смогла.
Потом все собрались, и я тоже. Поговорили с Жобом, и постепенно все: беседа, настроение — вошло в обычное русло. Мы даже немножко поиграли трио. Я попросила маму оставить место на открытке, чтобы и я могла хоть строчку папе приписать. Но когда она ее принесла, я будто позабыла, как это важно, все снова улетучилось из головы.
Казалось бы, открытки от Жерара должны были вчера занимать мои мысли. Но эта часть меня как будто отмерла. Я перестала отвечать — в фигуральном смысле. Читать эти открытки любопытно, но не более. Потому ли, что я так решила? Или на самом деле он мне стал безразличен? Уверена, что никакой другой причины нет, хоть всю неделю много думала об этом. Во мне все погасло.
Вот пришла мама, сейчас этот цепенящий морок пройдет.
Понедельник, 29 июня
Когда утром встаешь, еще не знаешь точно, что сегодня будешь делать. И каждый раз настигает какая-нибудь неожиданность.
Я вот утром получила открытку от Жерара, не ту, что помечена номером первым, а написанную еще раньше. Поколебалась и решила про нее забыть.
Пошла к Терезе, отнесла письмо для мадам Дюк. Открыла ее кухарка и стала 62 убежденно говорить, что русские за меня отомстят!
Шла обратно по проспекту Ла Бурдоннэ и думала, насколько я помню, о своих туфлях. Вдруг меня вывел из раздумья какой-то человек — подошел, протянул мне руку и громко сказал: «Французский католик жмет вашу руку… они за все заплатят!» Я сказала «спасибо», пошла дальше и не сразу сообразила, что произошло. Если и был на улице кто-нибудь еще, то не очень близко. Мне стало смешно. А ведь это был благородный поступок. Прохожий, видно, эльзасец, у него три ленточки в петлице.
На улице чувствуешь себя как на сцене, это нелегко.
* * *
Ходила за молоком и врезалась со всего маху в железную шторку — страшно больно. А все потому, что, когда после обеда, примерно в половине первого, я вышла из дому, на улице было так солнечно, ясно и хорошо, что я замечталась.
Часа в четыре в библиотеку пришел Ж. М. Я ждала его. С ним был Жан-Поль. Вышли вместе и дошли пешком до «Севр-Вавилон».
Вчера Франсуаза Масс рассказала, что на прошлой неделе из Турель
[89] депортировали восемьдесят женщин, одну из них арестовали лишь за то, что ее шестилетний сын не носил звезду. Среди них была дочь одной женщины-врача, которую знают и Ж. М. (она живет в Сен-Клу), и сама Франсуаза. Ее приговорили к пожизненным принудительным работам. Остальных, говорят, отправили куда-то под Краков.
* * *
В воскресенье ездили в Обержанвиль — Дениза, Николь, Франсуаза и я. Мама в последнюю минуту не поехала — ей нужно было повидаться с месье Обреном. Оно и к лучшему. Боюсь, ей было бы слишком тяжело.
Я заставила себя не думать. Всю дорогу мы болтали. А когда собирали клубнику, думала совсем о другом — о чем все время думаю невольно. Конечно, нас угнетало чувство невосполнимой пустоты, мы с Денизой все время были вместе — я ходила за ней, помогала собирать ягоды. Но о своих чувствах мы не говорили.
Провозились с клубникой до самого вечера. С виду все было так, будто мы просто приехали сюда среди недели без родителей. Но на дне души был тяжелый осадок — мы помнили, что случилось. Только сейчас я поняла, что мы не ходили никуда, кроме клубничных грядок, а весь сад так и жил своей собственной жизнью — ведь живет же он сам по себе, когда нас нет. Я больше не могу сливаться с ним, как прежде, не чувствую, что он меня принимает и любит. Теперь он ко мне равнодушен. И виновата я сама, потому что перестала обходить его весь целиком. Да и приезжаем мы редко и ненадолго.
Расцвели штамбовые розы, розовые и красные. Было похоже на
garden-party[90].
Я старалась делать все, что обычно делал папа. Чтобы Дениза об этом не думала. Катила садовую тележку, нагружала пакеты.
Перед уходом мы простились с Юпами. Они все знали, но детям не говорили. У мадам Юп посреди разговора вдруг дернулось, как от боли, лицо, она чуть не заплакала. Это было ужасно. Но быстро прошло. Месье Юп
[91] пришел помочь нам собирать черешню. Обсуждали, что нужно сделать для папы. Разговоры о материальных вещах плотно занимают ум.
На обратном пути сидели в поезде перепачканные клубничным соком. А я еще яйцо разбила, и оно потекло. Потом уступили места женщинам с грудными детьми. На вокзале нас встретили Андре с мужем и Луиза. Так было приятно! Хотя, если вдуматься, в этой радости таилась печаль.
Вторник, 30 июня
Ночью стреляли пушки, выла сирена, но взрывов слышно не было. Мне смутно вспомнилось: вот только-только вечером мы говорили, что прекратились английские налеты. А Ж. М. сказал, что их больше и не будет. Мы переговаривались с мамой, каждая из своей комнаты, и обе думали об одном — о папе. Ночью эта мысль мучит нестерпимо, как никогда днем. Днем боль, как коркой, затягивается житейскими заботами.
Утром получили от папы список необходимых вещей. Мама стала читать и заплакала — он просил много теплого, шерстяного. Чем дальше, тем хуже, голос у нее срывался. Про одну вещь я вообще не знала, что это такое; оказалось, порошок от насекомых. Мама показала на голову. Я поняла.
Я тут же сходила в молочную лавку. Но там ничего не было.
После обеда поеду в Обержанвиль за папиным серым костюмом — он ему нужен. Смогу ли хоть тогда осознать, что значит эта поездка? Пока не могу. Ничего не могу поделать — все это не укладывается в голове.
Знаю, что папа в Дранси.
Знаю, что еще неделю назад он был тут, веселый, живой, энергичный. Но эти две вещи никак не вяжутся друг с другом.
Четверг, 2 июля, вечер, 23.15
Только я закрыла ставни в спальне, как сверкнула молния во все небо. Оно остается зловещим. Это после того, как весь день бушевало, лил дождь, вдали грохотало. Был страшно напряженный день, и только к вечеру наступила развязка. Хочу все записать, пока не уснула. Потому что усну, несмотря ни на что, это точно, сон пересилит разум, как всегда.
Что же случилось? Началось с того, что только мы сели за стол, как позвонил месье Дюшмен. Я сняла трубку и передала маме. Она говорила уверенным, спокойным голосом, так что потом, когда, она сказала: «Папу освободят при условии, что он уедет», — я просто опешила. Я еще не освоилась с самой этой мыслью и удивилась, как быстро согласилась мама; она потом спросила, что бы сделали мы на ее месте.
Уехать. Всю неделю меня не оставляло смутное предчувствие. Первый отклик на эту мысль — жгучее отчаяние. А затем — протест. Сейчас, немного подумав, я вижу, что во мне говорит эгоизм; я не хочу жертвовать своим счастьем, ведь все хорошее, что было в моей жизни, сосредоточено здесь. Но допустим, я себя уговорю, заставлю себя пойти на эту жертву. Остается другое.
Согласиться уехать, как делают многие, — значит пожертвовать еще и чувством собственного достоинства.
Пожертвовать причастностью к героической борьбе, которую чувствуешь здесь.
Пожертвовать тем, что на равных правах участвуешь в сопротивлении, и смириться с тем, чтобы покинуть других французов, которые останутся бороться.
Все это так, но на другой чаше весов — папа. И колебаться нельзя. В начале недели мы сильно опасались, что его отправят еще дальше. Так что никаких колебаний, это даже не обсуждается. Но это гнусный шантаж, хотя многие люди обрадуются. Одни верят, что проявляют доброту и милосердие, не догадываясь, что в конечном счете рады потому, что больше не придется утруждаться из-за нас и даже нас жалеть; другие будут думать, что нашли для нас идеальное решение, и не поймут, что для нас это такая же тяжелая потеря, какой была бы для них, — они не представляют себя на нашем месте, считают, что мы обречены на изгнание просто потому, что мы — это мы. Но все это происходит в уме. Я могу эти мысли прогнать, сказать себе, что это только мысли. А дело-то не только в них. Есть вещи невозможные, чуть подумаешь — вздрогнешь, потому что это правда совершенно невозможно: оставить бабушку и тетю Жер, уехать, когда другие остаются в лагере. Оставить мадам Леви.
Она примчалась сразу после того телефонного разговора. Страшно взволнованная. Ее вдруг прорвало. Она должна нам кое-что сказать, о чем ей самой рассказали. Казалось, от волнения слова вот-вот хлынут, как слезы. Это касалось указа, который должен появиться 15-го числа
[92] и согласно которому в концлагеря отправят всех евреев. Должно быть, весь душный предгрозовой день она размышляла об этом в одиночестве. И за ужином тоже только об этом и думала, мы же, все трое, думали о другом. Два мысленных потока встречались или текли параллельно друг другу, в полном молчании. И я холодела при мысли о том, что нас относит в сторону от общей участи. Утешало одно: в свободной зоне нас ничего хорошего не ждет. Мне почему-то нужно было искупление.
После ужина небо нахмурилось еще больше. Прямо над головой загрохотал гром. Но мадам Леви понемногу приходила в себя. И ушла успокоенной. Мама вечером еще обдумывала, как отомстить подлецам, устроившим эту сделку, и что она скажет людям. У меня же слипаются глаза, ломит виски, и в голове мутится. Завтра утром буду лучше соображать. Не могу поверить в реальность всего, что было в этот вечер. Что бы там ни говорили.
Пятница, 3 июля, 7 часов утра
Проснулась с единственной, ясной мыслью: нас хотят принудить совершить ужасную подлость. Чего же еще можно было ждать от немцев? В обмен на папу они забирают у нас то, чем мы больше всего дорожим: нашу гордость, достоинство, дух сопротивления. Какая подлость! А люди подумают, что мы еще и рады этой подлости. Боже мой — рады!
И даже будут довольны, что теперь-то можно больше не считать нас достойными восхищения и уважения.
Да и для немцев это выгодная сделка. Держать папу в тюрьме — значит вызывать довольно громкое возмущение. Это им не на пользу. Выпустить папу на волю, чтобы он жил как раньше, — затруднительно и опасно. А сделать так, чтобы папа исчез, растворился в свободной зоне — и все успокоится, все уляжется, — вот это идеальный вариант. Им не нужен герой. Надо сделать его презренным. Жертвы не должны вызывать восхищение.
Ну, если так, клянусь и дальше мешать им, насколько хватит сил.
Во мне живут два очень близких, хотя и разнородных чувства: с одной стороны, я чувствую, что, уезжая, мы совершаем пусть вынужденную, но подлость — да, подлость по отношению к остающимся в лагерях и всем другим несчастным людям; а с другой — что мы жертвуем радостью борьбы, то есть жертвуем счастьем, ведь в борьбе находишь не только радость от самого действия, но и друзей, братьев по сопротивлению.
По сути, правомерны обе точки зрения: для меня самой отъезд — это не подлость, а огромная жертва, в другом месте мне будет плохо, но я не могу требовать от других, чтобы они думали так, как я. Для других это подлость.
Пятница
Утро было какое-то странное. Небо так и не прояснилось — оставалось низким и хмурым. В помещении влажно и душно. Я вышла из дому с опозданием (сегодня мое дежурство в библиотеке), потому что дожидалась почты. Пришли две открытки от Жерара, я прочла их на улице. В институтском дворе уже собирались студенты, Альбус сказал мне, что во время устных экзаменов библиотека не работает. Так что неожиданно я оказалась свободной. Поднялась в библиотеку, с трудом пробилась сквозь толпу на лестнице. Но там было страшно жарко, и я вернулась вниз. На втором этаже Шарль Делатр принимал экзамен у филологов, я приоткрыла дверь и заглянула — всего на секунду, поэтому не поняла, заметил он меня или нет. Но тут же услышала через дверь уверенные шаги — это был он. Он вышел, поздоровался, увидел папку у меня под мышкой, сразу понял, что это мой диплом, и спросил, как продвигается дело. Я ответила: «Насколько возможно». Он уже собирался вернуться обратно, но снова подошел и спросил: «Правда, что арестовали вашего отца?» Я рассказала, как все было. Он сочувственно выслушал, прежде чем вернуться в аудиторию.
Я вышла во двор и целый час стояла, прислонясь к стене, ждала Николь. Студенты этого курса были по большей части незнакомыми. Но некоторые меня знали и подошли поболтать. Довольно долго разговаривала с Моник Дюкре. Часов в десять появился Жан-Поль. Я обрадовалась — наконец кто-то из своих. Он страшно нервничал из-за экзамена. Я проводила его, для поддержания духа, до первой аудитории, где принимал Ландре. Он был записан на вторую половину дня. Не помню, сколько раз бегала вверх и вниз по лестнице встретила там Сильвера Моно — очень приятный парень — и хорошенькую Анни Дижон. У нее маленький носик, и, когда она чем-то возмущается, ноздри очень забавно раздуваются. Мы как-то раз разговаривали о ней с Жаном Пино, и он назвал ее «очень-очень милой». Так и есть. Наконец я нашла Николь, она была с Жан-Полем. И уж тогда, в одиннадцать часов, пошла домой. Застала там маму с Денизой. Новостей никаких. Оказывается, вчерашнее предложение не было ультиматумом. А мы все трое так вчера измотались. Я пошла на кухню печь к ужину песочное печенье. Луиза ушла, за нее все делает Бернадетта. Стараемся держаться друг за друга.
Месье Буассери пришел в одно время с месье Дюшменом. Я немного послушала под дверью: месье Дюшмен настроен очень оптимистично, говорит с убежденностью, явно искренней, не нарочитой: про де Бринона
[93], который «принял близко к сердцу» и т. д.
Месье Буассери ничего не знал и был потрясен. За обедом было невесело. Потом нам с Денизой ужасно захотелось спать. Но я героически держалась. В полтретьего сходила к Метею. Жара невыносимая. Часов в пять пришла Франсуаза Масс. Мы с ней поужинали в моей комнате. Сыграли сонату Моцарта.
Часов в семь, в одно время с Анник, пришел Оливье Дебре
[94], гладко выбритый — дружеская шуточка.
После ужина мама ушла. Дениза в папином кабинете занималась немецким. Я читала биографию Достоевского. Мама вернулась около десяти. Мы еще посидели. Речь опять зашла о концлагерях. И, как всегда в таких случаях, сбивались с серьезного на смешное, шутили, так что, в конце концов, возобладали шутки, перебивающие трагизм ситуации. Под конец перебрались на кухню, наелись там холодного зеленого горошка — я его обожаю, потом — в ванную комнату Денизы, обсуждали сравнительные достоинства Ж. М., Денизе он не нравится, и Жана Пино.
Я потому описываю эти мелочи, что жизнь наша сжалась, сами мы стали ближе друг другу и каждая мелочь приобретает огромное значение. Живем уже не с недели на неделю, а с часу на час.
Суббота
Даннекер
[95] приказал эвакуировать больницу Ротшильда
[96]. Всех больных, в том числе прооперированных накануне, отправили в Дранси. В каком состоянии? В каких условиях? Просто зверство.
Приходили Жоб и Брейнар. Жоб и слышать не хочет об отъезде. Играли очень красивый квинтет «Форель»
[97].
Воскресенье
Ездили в Обержанвиль — со всем семейством Бардьё. Весь день собирали фрукты. Дикая жара. А потом всю ночь была гроза.
Понедельник, 5 июля
Утром пришла вторая открытка от папы. Он пишет, как живет, как проходят дни. Все они одинаково пустые. В семь утра пробуждение, около этого слова стоит вопросительный знак — видно, папа не очень-то спит. В восемь — перекличка. (Однажды некий месье Мюллер, 58 лет, заболел и остался в постели, на него донесли, приехал Даннекер, тут же направился прямо к нему, увидел, что он лежит, да еще и в слишком хорошей пижаме, и велел его депортировать.) С восьми до десяти прогулка, шатания, как пишет папа. Он то и дело вворачивает шутливые словечки, от которых в таких обстоятельствах сжимается сердце. Вот дальше пишет о
potatoes[98]. Я прямо слышу его голос, он любил так говорить в Обержанвиле. От этого, с одной стороны, становится легче, как будто вот он, рядом, а с другой — нож в сердце. В половине двенадцатого дают суп, им же кормят в половине шестого. Обед каждый устраивает себе как может. Особенно долго тянется вторая половина дня — спать папа не хочет, чтобы потом не разбивать ночной сон. Играет в шашки, в скребл, в бридж. Это папа, который никогда ни во что не играл и каждый раз, когда в Обере, в маленькой гостиной, Жан с кем-нибудь еще усаживались за скребл, преспокойно работал за своим столом. Вечера проходят в разговорах. Папа рассказывает, как дела у месье Баша, Мориса, Жана Блока. Как он ходил к зубному, соседу по комнате. Пришлось привыкнуть спать под храп и без ставней, дома луна ему била в глаза. Одно место в письме было особенно больно читать, хоть это и мелочь. Папа пишет: «Можете прислать мне красной смородины. Другим присылают — я видел». От этих слов мне хочется сбежать куда подальше. В них есть что-то детское.
И вот так день за днем. Папа пишет, не верится, что прошла уже целая неделя. А я тут, на свободе, хожу, куда хочу, каждый день, каждый час нахожу себе разные дела, так что некогда думать.
Все тем же почерком, отлично приспособленным, чтобы писать какие-нибудь речи, деловые письма или открытки из разных мест, куда он ездил, — ровным, красивым, разборчивым, все так же умно описывает он жалкую жизнь в заточении, жизнь уголовного преступника в тюрьме.
Чудовищная несправедливость, гнусное издевательство — в такое трудно поверить, настолько это переходит все границы, а с другой стороны, мы уже ждем чего угодно.
Папа пишет, что месье Баш совсем пал духом. Он там сидит уже
полгода, целых полгода! — и, видимо, потерял надежду, что этому когда-нибудь придет конец. А вместе с ней и желание жить дальше.
Папа живет ради нас. Верно, думает о нас днем и ночью. А ведь я его почти не знаю. Может быть, странно и дурно так говорить. Но папа, такой, каким его знает мама, мало кому открывается. И только иногда в этих его письмах что-то вдруг проглянет. Так вот, сегодня утром, прочитав последнее, я вдруг почувствовала, что мы с ним связаны нерасторжимо.
Вторник, 6 июля, утро
Неприятности скапливаются, как черные тучи на небе. Я удивляюсь собственной способности забывать и не думать.
Пришла открытка от Жерара. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что между нами произошло тяжелое недоразумение; я точно знаю что-то, чего не знает он, и я не хочу, чтобы он это знал; убеждаюсь, что я просто играла роль. Потому что любила писать. Но все же никогда не давала никакого слова.
Просто я думала, что все так и останется чем-то поверхностным, а для него само то, что я продолжала писать, означало углубление наших отношений.
Мне нравилось, что он пишет мне «милая Элен». Теперь же не получается это забыть, и кажется, будто бы он присвоил себе право вторгаться в мои чувства; а если я вспоминаю, что это обращение мне нравилось и я даже сама просила его так меня называть, оно представляется мне пустой, незначительной формулой.
* * *
В «Принцессе» Теннисона
[99] принц был подвержен странному недугу; он временами терял связь с реальным миром и погружался в потусторонний.
Я — как он, все происходит в жизни, наяву, вот я рассказываю Жерару что-то о Шекспире и не затрагиваю наших отношений, я всегда думала, что он хорошо меня знает и достаточно умен, чтобы понять, что я пишу, но вдруг мне бросается в глаза весь
underlying[100]. И делается как-то пусто и страшно.
Так, наверно, бывает, когда все происходит только в голове, а не в сердце.
* * *
Мы все втроем, Дениза, Николь и я, ходили на Тегеранскую улицу
[101] записываться в патронажную службу. По дороге смеялись, как сумасшедшие, скорее всего, это было что-то вроде
exhilaration[102] от перевозбуждения. «Нечего вам тут делать! — сказал нам месье Кац. — Послушайтесь моего совета, уезжайте!» Но я его оборвала и ответила; «Мы не хотим уезжать». Тогда он сказал: «В таком случае нужно найти вам занятие».
Нам выдали довольно неприятные удостоверения
[103], Николь ужасно злится, говорит, что это уступка немцам. А я воспринимаю это как цену, которую надо заплатить за то, чтобы остаться здесь. Конечно, это некоторая жертва, потому что я терпеть не могу все эти в той или иной степени сионистские движения, которые невольно подыгрывают немцам; кроме того, это отнимет у нас много времени. До чего же странная у нас жизнь.
* * *
После обеда — с мадам Леви — сначала позвонила Франсуаза Пино, пригласила нас на субботу, а потом Клод Леруа, который любезно зашел ко мне часа в три.
Я до вечера ждала Сесиль Леман, но она не пришла. Ужинала с Николь, она пришла от Жана страшно взволнованная. Потом я пошла к Юдело
[104]. Урок Жанне Фок вместо меня дала Дениза, у меня теперь в это время назначены встречи, надеюсь, все как-нибудь само утрясется. Придумывать что-то уже нет сил. У меня воспалился глаз, а лечить его — муторное дело.
* * *
После ужина пекла печенье для Жака.
Близнецы
[105] взяли и ушли. Марианна хочет, Эммелина нет. Хорошенькое дело.
Четверг, 9 июля
Плохо спала. Неудивительно после такого вечера. Поехали на целый день в Обер с Николь и Франсуазой. В саду тишина, мы собирали клубнику и красную смородину. Нам было хорошо и спокойно, хотя тяжелые мысли не уходили. Мы прекрасно понимаем друг друга, Франсуаза на той неделе уезжает и, мне кажется, уже не вернется. Кажется, происходит что-то непоправимое и я никогда больше не увижу тех, с кем расстаюсь.
Дома меня ждала Жизель. Получилось неловко. В малой гостиной сидела мадам Перилу. Николь с Франсуазой помогли мне перетаскать пакеты. Постепенно собралось много народу: месье и мадам Жакобсон, месье Леоте, месье Матей, маленькая мамина подопечная. А надо было проститься с Франсуазой и Николь, перебрать ягоды и выслушать Жизель. Она тоже уезжает и страшно расстроена. В воздухе витает ощущение конца света. Помимо всего прочего, пришла открытка от Жерара, и я никак не успевала ее прочесть; наконец прочла, пока мы с Жизель шли в лавку Тиффро. Очень печальное письмо. Но мне было некогда подумать.
Что-то соображать я стала потом, когда ушел месье Матей. Вчера вечером чаши весов опять уравновесились. Уже лежа в постели, я вдруг задумалась, почему не могу просто принять все как есть, пусть бы все шло как идет! И в полусне почти сдалась. Доводы, которые я приводила себе днем, улетучились, но сегодня утром вернулись. Хочу я того или нет, но ситуация обостряется: он пишет, что его планы зависят от меня. А мне это претит, я хочу быть свободной и не хочу, чтобы кто-то от меня зависел.
* * *
Сходила за фотографиями и отнесла их месье Кацу.
Днем зашла в магазин Бюде за книгами для Жака. Купила Светония и Вордсворта (себе). Заглянула в институт — там пусто, никого нет, потом прогулялась по Люксембургскому саду, теперь полному воспоминаний.
От бабушки пошла к мадемуазель Фок, застала там Денизу.
Нашла открытку от Жерара, написанную 22-го числа, и почувствовала, как он мне близок. Так это или нет?
Пятница, 10 июля
В библиотеке сегодня не было никакой работы. Я почти дочитала «Слепца в Газе»
[106]. Замечательно.
За мной зашла Николь.
К обеду пришла мадемуазель Детро.
Сегодня вышел новый приказ о метро. Еще утром на станции «Военная школа» я собиралась зайти в первый вагон. Как вдруг контролер грубо закричал: «Эй вы там, в другой вагон!» — и я поняла, что это он мне. Я помчалась со всех ног, пока поезд не ушел, еле успела сесть в предпоследний. И от бешенства, от унижения из глаз хлынули слезы.
Евреям теперь запрещается ходить по Елисейским Полям. В театры и рестораны тоже нельзя
[107]. Об этом сообщается в таком притворно-непринужденном тоне, как будто преследование евреев во Франции — нечто совершенно обыденное, само собой разумеющееся и узаконенное.
При одной мысли об этом во мне закипает дикая злость, вот пришла сюда успокоиться.
Мы с Бернаром и Николь ходили в галерею Шарпантье, потом Бернар позвал нас к себе домой на ужин.
Суббота, 11 июля
Музыка. Пришли Пино, Франсуаза Масс и Легран. Мы сыграли квинтет «Форель». Но принять гостей как следует не вышло. В половине седьмого пришли… корсетница и мадемуазель Монсенжон. А когда я вернулась в гостиную, было уже поздно. Все расходились. После ужина — Симоны.
Воскресенье, 12 июля
Обер с мадам Леви.
Понедельник, 13 июля
Ж. М. приходил в библиотеку. Он не стал дожидаться результатов экзамена и проводил меня домой, шли пешком.
Вторник, 14 июля
Серый тягостный день. Ничего не понимаю. Написала три резкие открытки и думаю, не глупость ли все мои «угрызения» и не разрушаю ли я сама свое же собственное счастье.
Может быть, причина моей резкости в другом. Меня, как никогда, раздирают сомнения. Утром получила еще три открытки. Каждая теперь для меня — настоящая пытка, потому что каждая ставит вопрос все острее. Я признаю, что он вправе сердиться и даже грубить. Живительно, что он это делает не так уж часто.
Не случится ли так, что однажды утром я
проснусь и пойму, что все это были химеры и я упустила свое счастье?
Среда, 15 июля, 23 часа
Что-то готовится, что-то ужасное, быть может,
самое ужасное.
Вечером, в десять часов, приходил месье Симон предупредить, что, как говорят, на послезавтра намечена большая облава, схватят двадцать тысяч человек. Я уже привыкла, что он приносит страшные вести.
День дурно начался — в обувной мастерской я прочитала новый приказ — и дурно кончился.
Вообще в последние дни всех вокруг охватил дикий страх. Кажется, власть во Франции принадлежит СС, и террор будет все нарастать.
Все осуждают нас за то, что мы не уезжаем. Обычно молча, но когда мы сами об этом заговариваем, то и вслух. Вчера мадам Лион-Кан, сегодня Марго, Робер, месье Симон.
Суббота, 18 июля
Вот я опять пишу. Думала, жизнь остановится в четверг. Но она продолжается. Она возобновилась. Вчера я провела весь день в библиотеке, и к вечеру ощущение нормальной жизни восстановилось настолько, что я уже не могла поверить в реальность того, что произошло накануне. И вдруг новый поворот событий. Прихожу сегодня домой, а мама говорит, что появилась надежда на лучшее для папы. С одной стороны, возвращение папы, с другой — этот переезд в свободную зону
[108]. То и другое непросто. Не знаю почему, но отъезд родных оказался для меня тяжелым ударом. Помню, я возвращалась, готовая бороться против зла вместе со всеми, кто на стороне добра, и пошла в Фобур-Сен-Дени к несчастной мадам Бьедер — ее мужа депортировали, и она осталась одна с восемью детьми. Мы с Денизой пробыли у нее с четверть часа, а когда ушли, я чуть ли не радовалась, что мне пришлось соприкоснуться с настоящим горем. И чувствовала свою вину за то, что раньше
не видела такого, хотя оно было рядом. Сестру этой женщины, у которой четверо детей, забрали во время облавы. Она в тот вечер спряталась, но, по несчастной случайности, спустилась к консьержке как раз в ту минуту, когда за ней пришла полиция. Вид у мадам Бьедер затравленный. Ей не за себя страшно. Она боится, что у нее отнимут детей. Во время облавы детей волочили по земле. На Монмартре арестовали столько людей, что улицы были забиты. На Фобур-Сен-Дени забрали почти всех. Разлучали матерей и детей
[109].
Пишу наспех, только факты, чтобы не забыть, потому что это
нельзя забывать.
В квартале у мадемуазель Монсенжон целое семейство, отец, мать и пятеро детей, отравились газом, чтобы их не забрали.
Одна женщина выбросилась из окна.
Говорят, были расстреляны несколько полицейских, которые предупредили людей, чтобы те успели убежать. Им всем угрожали концлагерем, если откажутся выполнять приказ. Кто будет кормить узников Дранси теперь, когда арестованы их жены? Маленькие дети навсегда потеряли родителей. К чему приведет то, что произошло позавчера вечером и вчера на рассвете?
На той неделе уехала двоюродная сестра Марго, но не смогла спастись: ее схватили прямо на линии
[110], бросили в тюрьму; ее одиннадцатилетнего сына допрашивали несколько часов, заставляя признать, что она еврейка; у нее диабет, и через четыре дня она умерла. Конец. Когда она впала в кому, тюремная медсестра переправила ее в больницу, но было уже поздно.
Я встретила в метро мадам Бор
[111]. Она, как всегда, прекрасно держится, но видно, что совершенно подавлена. Не сразу меня узнала. И очень удивилась, что мы все еще здесь. В ответ на это мне всегда хочется гордо поднять голову. Она сказала, что у нас на Тегеранской улице прибавится работы. Скоро, по ее словам, доберутся до француженок. Когда она заговорила об Одиль, мне показалось, что все это было так давно.
И что же, придется уехать, уехать и променять борьбу, героизм на жалкое прозябание? Нет, я что-нибудь придумаю.
Народ у нас замечательный. Говорят, все простые парижские работницы, которые жили с евреями, а таких немало, просят разрешение вступить с ними в брак, чтобы спасти от депортации.
* * *
Да и просто на улице, в метро незнакомые мужчины и женщины полны сочувствия. Трудно выразить, как теплеет на душе от их добрых взглядов. Понимаешь, что ты выше мучителей, а все настоящие люди с тобой. И, по мере того как усиливаются гонения, эта связь становится все прочнее. Все искусственные разделения: национальные, религиозные, социальные — я в них и не верила никогда — уходят, уступают место состраданию и сплоченности против зла.
* * *
Я хочу остаться здесь, чтобы до конца осознать все, что случилось на этой неделе, хочу остаться, чтобы встряхнуть и растревожить равнодушных.
Пишу это и думаю о «Бранде» Ибсена, вчера начала читать эту пьесу. И по ассоциации — о Ж. М., который мне ее дал.
Я, конечно же, знаю — и вполне откровенна с собой, — что хочу остаться еще и из-за него. Знаю и то, что у меня нет ни малейшего желания встретиться с Жераром. Увидеться с Ж. М. — вот единственное, о чем я думала всю неделю. Я видела его в понедельник, а в четверг утром он прислал письмо — по поводу того, о чем он просил узнать папу
[112]. Я тут же написала ответ. И когда запечатывала конверт, прибежала от молочницы Дениза и, задыхаясь, сказала: «Схватили всех — и женщин и детей! Только маме не говори». Я все подробно расскажу — приделала к письму постскриптум, в котором обещала это сделать. Возможно, получится что-то похожее на «Последний день приговоренного к смерти» Гюго
[113]. Меня трясло, как в лихорадке: предположение о том, какого масштаба катастрофа готовится, не укладывалось в голове.
Наконец вчера днем, после нескончаемого четверга и испорченного утра пятницы, я пошла в институт. Придет ли он, я не знала. Временами появлялось что-то вроде предчувствия: нет, не придет. И становилось тоскливо. Я поняла: библиотека для меня — это он. К счастью, там была чудесная Моник Дюкре. Поначалу я вообще была
in a haze[114], разбитая после бессонной ночи, и ничего не соображала. Но понемногу отошла в спокойной знакомой обстановке. Время подошло к четырем, а Ж. М. все не приходил. Заглянул Мондолони, и почему-то это меня обнадежило. Потом кто-то заслонил мне проход, а когда я обернулась, то узнала со спины его плащ и волосы. И сразу успокоилась. Довольно долго мы не разговаривали. Я была занята, он тоже. И мне еще всегда неловко из-за того, что я его ждала. Весь вчерашний кошмар словно рассеялся. Не знаю, что бы со мной было, если б он не пришел.
Мне нисколько не стыдно это писать. Пишу, потому что это правда, а не моя выдумка. Возможно, я просто привыкла его видеть, но дни, проведенные с ним, — лучшее, что есть в моей жизни, и я не хочу этого лишаться. Во вторник я была совершенно измучена и растеряна после понедельника, весь день: во время визита на улицу Лоншан
[115] и потом. В среду утром думала только о том, как бы увидеть Ж. М. И не отгоняла эту мысль, чтобы проверить, насколько она сильна.
8 часов вечера
Новый приказ, девятый: запрещено входить в магазины, разрешается только между тремя и четырьмя часами (в это время все лавки закрыты).
Мама позвонила мадам Кац. Завтра утром — массовая депортация в Дранси, и уточнение, чтоб мы не волновались: не заберут ни одного француза-ветерана
[116], только иностранцев (включая ветеранов) и женщин. К ним отовсюду поступает множество несчастных детей: из Бельфора, из Монсо-ле-Мин.
Вечером приходила Франсуаза
[117], рассказывала, что творится на Вель д’Ив, куда согнали тысячи детей и женщин: дети кричат, некоторые женщины рожают, все это на голой земле, рядом немцы-охранники
[118].
Мы, как обычно, музицировали. Совершенно невероятно, что Франсуа еще здесь. Он все время смеется, отшучивается. Но все прекрасно понимает. В этом мужестве есть какое-то трагическое безумство. Мы словно идем по канату, который с каждым часом натягивается все туже.
Часам к семи пришла Франсуаза Пино, принесла тексты из Эколь нормаль, которые просил Жак. Держалась она так, будто все как обычно, но я чувствовала: она что-то хочет и не может сказать. Только быстро пробормотала, что они готовы выполнить любое наше поручение, а ее мать позаботится о продуктах.
Воскресенье, 19 июля, вечер
Еще подробности.
Какая-то женщина сошла с ума и выбросила в окно четверых своих детей. Полицейские приходили по шестеро, с электрическими фонариками.
Месье Буше рассказывал про Вель д’Ив. Туда согнали двенадцать тысяч человек — настоящий ад. Уже немало смертей, канализация забита и т. д.
Вчера вечером — новости от папы.
Уже два дня они сидят взаперти в своей полутораметровой каморке. Он видел ужасные сцены. Эжена Б. скрутил ревматизм, он лежит в ужасном состоянии.
* * *
С утра — вместе с Пино. В четверть десятого я зашла за Франсуазой. Мы сели в метро. Лил дождь. Франсуаза такая спокойная, уравновешенная, от нее заряжаешься бодростью.
Жан ждал нас в Эколь нормаль. Я выслушала ответы по истории, по французскому и по литературе. Сначала смущалась. Это мало чем отличалось от обычных школьных экзаменов. Но все же было как-то неудобно: Жан Пино позвал меня и посвятил в свои дела. Несколько студентов в очках. Но вообще пусто, не считая поступающих и тех, кто сдает агрегасьон. Возвращались пешком. Обошли все мои любимые улицы, вышли на площадь Пантеона, мокрую, в туманной дымке, но оттого еще более милую сердцу.
Меня обогнал на велосипеде Крюссар. Я узнала его только потом, но мог бы он и сам остановиться.
Я с жаром говорила об ужасах, которые творятся тут, и о том, что мне претит отъезд в свободную зону, а зря. Потому что Жан прошептал: «Мне двадцать один, такому, как я, тяжело сидеть сложа руки. Тошно». Я знаю, о чем он думает, и боюсь, как бы он не погиб совсем молодым смертью храбрых. У него благородная душа. Это прекрасно, но и очень страшно. Трудно описать это чувство.
* * *
С друзьями, которые появились в этом году, меня связывают такие искренние, глубокие, уважительно-нежные чувства, каких не может быть ни с кем другим. Это тайный союз товарищей по несчастью и по борьбе.
* * *
Пришла домой в половине первого. У мамы и Денизы были красные глаза. Я не стала расспрашивать, что случилось, ждала, пока они скажут сами. Дениза плачет постоянно, и это неудивительно. Но на этот раз была и конкретная причина: наш отъезд стал действительно необходимым. Мама утром ходила к Рене Дюшмену; обычно он архиспокоен и оптимистичен, сегодня же сказал, что все-таки надо готовиться к отъезду.
А вот, в общих чертах, что произошло в четверг.
Поскольку французские рабочие отказываются ехать в Германию, Лаваль
[119] продал польских и русских евреев, уверенный, что никто не станет протестовать. Возмущенные рабочие стали противиться еще упорнее. Есть еще один, третий, контингент приезжих евреев (из Турции, Греции и Америки), а потом настанет очередь французских.
6 часов
Я совершенно опустошена и перестала понимать, что происходит.
После обеда мы пошли на улицу Клода Бернара
[120]. Нас там осыпали упреками. И, чувствую, заслуженно, так что и спорить нечего. Обдумывала это всю обратную дорогу. В конце концов решила написать письмо месье Лефшецу
[121]. До этого успела заскочить в институт, а там мадемуазель Муати передала мне просьбу Казамиана, чтобы я больше не носила в библиотеке свою куртку
[122], и сказала, что Дениза Кейшелевич уезжает
[123]. В другое время меня бы это потрясло. Но сейчас я словно попала в страшный сон, все знакомые места стали неузнаваемы: Латинский квартал, институт, но мне было все равно.
Вторник, 21 июля, вечер
Еще сведения, от Изабель: пятнадцать тысяч человек — мужчин, женщин и детей — на стадионе, теснота, пройти можно только через головы сидящих на корточках. Ни капли воды — воду и газ перекрыли немцы. Под ногами липкая грязь. Здесь же больные, их схватили прямо в больницах, в том числе туберкулезные, с табличками «заразный» на шее. Тут же рожают женщины. Ухода никакого. Ни лекарств, ни перевязок. Проникнуть туда можно, обив сто порогов. Но завтра всякая помощь прекратится вовсе. Всех, скорее всего, депортируют.
Мадам Карпантье видела в четверг в Дранси два товарных поезда
[124], куда, как скотину, загоняли для депортации мужчин и женщин, набивали полные вагоны, не подстелив даже соломы на пол.
* * *
Сейчас зайдет мадемуазель Фок. Но урока не будет — у нее нет на это времени. Так даже лучше. Урок — это что-то из нормальной жизни, которая кончилась две недели назад.
Она все знала — от нее я узнала еще, как на бульваре Сен-Мишель одна женщина родила прямо на тротуаре и как один мужчина, когда забирали его жену, бросился за ней, а немец вынул револьвер, и его насилу оттащили четверо прохожих.
Среда, 22 июля, утро
Пришла открытка от папы. Он писал ее 12-го, 13-го и 14-го. Я переписала ее для месье Дюшмена. Мама не может прочитать ее вслух — мешают слезы. Там говорится о предстоящем отъезде неведомо куда. Пока читала, я как будто прожила целый день вместе с папой. Привожу здесь последние полстраницы записи от 12-го числа, до этого папа описывал тамошнюю жизнь, а тут — дрожащим почерком:
«12 июля, 21 час. Узнал, что нас, вероятно и даже скорее всего, скоро увезут очень далеко. Знайте, любимая моя жена, дорогие мои девочки Дениза и Элен, Ивонна, моя старшая, и ее чудный Максим[125], дорогой Даниель и мой милый мальчик Жак, — вы все всегда у меня в мыслях и перед глазами, я с вами не расстаюсь и никогда не расстанусь. Что бы ни случилось, я постараюсь выдержать и, даст Бог, вернусь к вам. Антуанетта, любимая, я знаю, у тебя хватит силы духа и веры выдержать это испытание, ты сможешь направлять и поддерживать наших детей. А вы, дорогие мои дети, знаю, навсегда сохраните душевную близость и, что бы ни случилось, будете поддерживать друг Друга. Я также уверен, что ты, Антуанетта, примешь верные, сообразные обстоятельствам решения относительно себя и наших девочек, Денден и Ленлен[126]. Не сомневаюсь, что фирма „Кюльман“, на благо которой я работал, не щадя себя, сделает для вас, о ком я так заботился, все, что нужно, я полностью доверяю месье Дюшмену и его коллегам, если понадобится их помощь.
13 июля, 19 часов. Если можно и еще будет время (??), постарайтесь прислать в следующей вещевой посылке коричневое пальто с подкладкой и две трубочки гарденала[127].
13 июля, 20 часов. С одиннадцати часов — противоречивые новости. Анри говорит, что остается с Полем до новых распоряжений. Это показывает, как важно и срочно, чтобы Юп успешно съездил. Анри не уверен, будет ли недоставать одного до тысячи[128].
14 июля, 11 часов. Ничего нового. Несмотря на тревогу, хорошо спал, а в прошлую ночь — очень скверно. С утра — очень легкая работа. Целую вас троих и всех остальных, люблю всей душой и всем сердцем.
Папст».
Утром мы с мамой относили вещи для этих несчастных людей на улицу Бьенфезанс. На мосту Альма я встретила Жана Пино, на улице Миромениль — месье Эйссена; мадам Кац и мадам Орвиллер сказали, что я могу прийти помочь им после обеда и вообще приходить по утрам.
Наконец-то я нашла дело, благодаря которому не погрязну в эгоизме. Очень рада.
Кажется, с прошлой среды прошел целый год.
Четверг, 23 июля
Работала вчера с двух до половины шестого и сегодня с девяти утра до полудня на улице Бьенфезанс. Возня с бумажками. Но я почти рада погружаться в эту страшную реальность. Вчера у Николь я,
flop[129], рассказывала все, чего наслушалась; о депортации здесь говорится как о чем-то совершенно обыденном. В Дранси, как я поняла, есть и женщины и дети. Депортируют оттуда каждый день. На стадионе никого не осталось, всех вывезли в Бон-ла-Роланд.
Тут работают изумительные женщины. Мадам Орвиллер, мадам Кац и другие. Они измучены, но стойко держатся. Весь день — непрерывный поток женщин, потерявших детей, мужчин, потерявших жен, детей, потерявших родителей, людей, приходящих что-нибудь узнать о своих детях и женах или предлагающих приютить чужих детей. Некоторые женщины плачут. Одна вчера упала в обморок. Я сижу в соседней комнате, так что всего этого не вижу. Но кое-что слышу и понимаю, что происходит.
Вчера прибыл целый поезд с детьми из Бордо и Бельфора; как будто их привезли на каникулы в летний лагерь — ужасно!
Некоторых женщин увезли в Дранси прямо в ночных рубашках.
Пришла одна девочка, сказала, что ее родителей увели, а больше никого у нее нет.
Рядом со мной Франсуаза Бернейм обзванивает больницы — узнает о здоровье детей, чьих родителей, братьев и сестер арестовали.
С улицы Бьенфезанс я пошла навестить мадам Бор, она ужасно милая, очень молодо выглядит.
Пятница, 24 июля
Утро — улица Бьенфезанс. Много работала с Франсуазой Бернейм. Сортировали вещи, присланные заключенными
[130]: кольца, ключи, ножницы, были даже огромные портновские, наверное, какой-то портной прихватил их с собой, думал, что будет там работать по специальности. Среди множества кое-как запакованных пакетов была небольшая, очень аккуратная белая коробочка; не знаю почему, но я сразу поняла — это папина. И правда — это оказалось его пенсне, он послал его в починку.
Мадемуазель Детро.
После обеда — библиотека. Глоток, нормальной жизни. Приходили Ж. М., Жан-Поль и Николь. Ж. М. подарил мне «Братьев Карамазовых», такая ирония.
Была там до пяти, потом пошла к Николь, должны были прийти Пино. Я пригласила Ж. М. на воскресенье. До самого конца, до «Севр-Вавилон», не знала, сделаю это или нет. И в ту минуту, когда твердо решила не делать, все сделалось само собой, просто вырвалось у меня. И хорошо, что так получилось и теперь уж сказанного не отменишь. Он сразу согласился.
Воскресенье, 26 июля, вечер
Жизнь удивительна. Это не афоризм. Сегодня вечером я сама не своя. Мне все кажется, что я живу в каком-то романе, не знаю, как сказать точнее. Как будто крылья выросли. Вчера мы с Денизой были у Ж. М. в Сен-Клу. Провели прекрасный вечер — слушали пластинки у него в библиотеке, открытые окна которой выходили в ослепительно сияющий под солнцем и в то же время безмятежный сад. Дениза играла. Был Молинье и еще один очень приятный юноша.
А после ужина, в девять часов, Ж. М. позвонил и сказал, что сегодня не придет; кажется, у него размолвка с родителями, не знаю из-за чего.
Я так расстроилась, нет, не то слово, — никогда бы не подумала, что могу так сильно огорчиться по подобному поводу. Всю ночь не спала. Мучилась и ничего не могла с собой сделать. Думала, день будет испорчен. Готовилась хандрить.
Но, хоть ничего не изменилось, день получился восхитительный, спасибо Жану Пино. Он, с его благородством и тактом, помог мне не замкнуться в себе. После ужина мы долго разговаривали с ним на крыльце. Я открыла ему душу и не думала даже, что в этом может быть что-то плохое. С ним все легко и естественно. Не жалею и не раскаиваюсь. Я как в волшебной сказке. Что-то волшебное есть в моей нынешней жизни. И это наполняет мое сердце благодарностью.
Понедельник, 27 июля
Утром работала на улице Бьенфезанс.
Новости от папы. Он описывает что-то невероятное, душераздирающее. С 16-го числа никому не позволено выходить наружу. Дантов ад — говорит Поль. По сравнению с этим им кажется раем Компьень! Слушала первую подготовительную лекцию — и поначалу ощущала глухой протест. Когда Левшец
[131] рассказывал о еврейском вопросе, меня так и распирало от возмущения: он говорил о еврействе, о том, что мы не понимаем, почему нас преследуют (это правда), потому что утратили свои традиции, и призывал вернуться в гетто. Нет, я не принадлежу к еврейской нации. Живи мы во времена Христа… Тогда были только иудеи и язычники, верующие и непросвещенные. Оттуда все идет. Эти люди мыслят узко, по-сектантски. И, что сейчас серьезнее всего, они оправдывают нацизм. Чем больше они замыкаются в своих гетто, тем больше их будут преследовать. Зачем устраивать государства в государствах? Он напомнил о положении Французской революции, признающем еврея как отдельную личность, но не иудейскую нацию. Но это единственно разумное положение. Иудаизм —
религия, а не нация. Впрочем, если как-то выделять евреев, то и приходится прибегать к религиозному критерию.
От этих рассуждений у меня мутится в голове. Следить за ними не хватает ума. Понимаю только, что я не согласна и что они грешат против истины в самом своем основании.
Оттуда мы пошли на улицу Урсулинок к Леоте. Вот где прелесть как хорошо. Такая красота, что перед тем, как раствориться в «атмосфере Леоте», где всё как встарь, мне стало дурно — настоящая акклиматизация.
Пришли открытки: от Одиль, Франсуазы Масс и Жерара. Ответить захотелось только Франсуазе — она одна все понимает.
Насмешки Жерара меня раздражают. В нем копится какая-то враждебность, да и во мне самой тоже. Это плохо кончится.
Вторник, 28 июля
Нынче утром прошел слух, что мужей и отцов женщин, работающих в УЖИФ, освободят. Наверное, все, включая мадам Кац, удивились, почему я не очень обрадовалась.
На улице Клода Бернара неплохо, училась играм на свежем воздухе; на обратном пути заглянула к мадам Журдан, но она как раз куда-то вышла. Дома взялась было за «Братьев Карамазовых». Но так устала, что заснула. И потом чувствовала себя совершенно разбитой.
После ужина разбирали с Денизой Вторую сонату Шумана.
Среда, 29 июля, 14 часов
Все утро просидела на улице Бьенфезанс, ничего толком не делая, а с двенадцати до четверти первого носилась как сумасшедшая. Освободили четверых мужчин из УЖИФ, в том числе месье Рея, — нельзя не признать очевидное. Но все равно я не могу радоваться, как наши женщины, — по-моему, это несправедливо, я думаю о тех, у кого столько же, если не больше прав на свободу. Но я заставила себя улыбаться, иначе получится некрасиво. Сбегала на Тегеранскую и на Лиссабонскую
[132] улицы получить и заверить удостоверение для Андре Бора. Летала вихрем, так что взмокла. Мадам Кац и мадам Франк могли принять эту прыть за восторг.
Дома застала маму расстроенной — у нее было ужасное утро. К ней приходила одна женщина, за которую хлопотал папа, а месье Лемер принял ее очень грубо. Мама плачет — все папины старания пошли прахом.
Из чувства долга я пошла к мадам Леви пересказать ей то немногое, что удалось узнать от мадам Рей. Она восприняла это, как я и ожидала, или даже с еще большей горечью; могу понять ее, это был почти личный упрек.
Четверг, 30 июля
Утром — улица Клода Бернара.
Матей, бабушка.
Вечером — музыка с Жобом.
Пятница, 31 июля
Утром — улица Бьенфезанс.
После обеда — библиотека.
Заходил Ж. М. Он согласился прийти в воскресенье. Сразу же согласился. Я долго не решалась пригласить его. Потом собралась с силами, и вдруг получилось само, я сказала: «Вы придете в воскресенье?» А он ответил сразу: «С удовольствием». Он проводил меня до «Севр-Вавилон».
Суббота, 1 августа
Вечер у Жобов, невероятная жара. Я только и ждала, когда наступит воскресенье. Дома получила по пневмопочте телеграмму от Жан-Поля — он не придет. Расстроилась. Все шло не так. Барометр падал, машинка плохо шила, юбка осталась незаконченной. Я была уверена, что ничего не получится.
Понедельник, 3 августа, вечер
Не знаю, что со мной, но я стала совсем-совсем другой. Живу, окруженная воспоминаниями, в которых странным образом сплетаются вчера и сегодня. С самой пятницы дни перестали отличаться от ночей; ночами я не сплю, вернее, вот уже три ночи засыпаю и сразу просыпаюсь, думаю о нем и больше уснуть не могу. Но ничуть не устала, наоборот, очень счастлива в эти бессонные ночи.
Сегодня, когда мы увиделись вечером и он спросил, хорошо ли мне спалось, я ответила: «Нет, очень плохо, а вам?» — и заранее знала, что он скажет. Мне казалось, будто мы не расставались, и ему, я знала, тоже. Все было так естественно. Он сказал, что я представлялась ему Юстасией. Юстасия, Эгдонская пустошь
[133], ветер на плоской вершине холма в Обержанвиле вчера, темное небо над куполом института сегодня, мокрые блестящие мостовые, и все это время — постоянное, чудное, прочное счастье; такое чувство, будто крылья отросли. Я даже думаю о нем не просто как о конкретном человеке. Он для меня — нечто отвлеченное, причина моего счастья.
Вчера в Обержанвиле был лучший день моей жизни. Он прошел как сон. Но сон такой счастливый, такой прозрачный, чистый и
inmixed[134], что, когда день приближался к концу, мне не стало ни страшно, ни жалко.
Среда, 5 августа, вечер
Написала Жерару. В ответ на обе его открытки, полученные в понедельник. Это было страшно тяжело. Я все откладывала с часу на час и со дня на день. В основном потому, что самой не все было ясно. А вчера вечером на меня напала сонная болезнь: я легла в полдевятого и тут же заснула. Была еще одна, не менее важная причина: я избегала этого ответа, потому что не знала, что писать. Не все обдумала, а знаю, что надо принять крайне важное решение. Не знаю, что ответить, во-первых, потому что мне трудно представить себе, что все так далеко зашло; во-вторых, потому что боюсь покривить душой из-за того, что есть другое, но вот сегодня вечером я мысленно отстранилась от этого другого. Мне удалось забыть об этом на минуту, и это, думаю, не значит, что я притворщица и лицемерка.
При мысли о том, что это разрыв, меня бросает из крайности в крайность. То я осознаю, как к нему привязалась, сама того не желая. И все из-за того, что мы всю зиму переписывались. То, наоборот, мне кажется, что он совсем чужой, что я не властна над происходящим, а последнее решение, я вижу это чуть ли не со страхом, сложилось как бы и без моего участия. А то опять впадаю в привычную растерянность.
Четверг, утро
С утра пришло два письма: одно из банка, другое — пухлый конверт, адресованный мне. Я знала, что это.
Очень хорошее письмо, наполовину на английском, наполовину на французском, забавное, со стихотворением Мередита в конце. Но, дочитав его, я дрожала всем телом. Серьезный разговор с мамой — она начала его перед моим уходом на улицу Клода Бернара и продолжила после обеда. Мама твердит, что я все выдумываю и погублю себя, такое у нее предчувствие. Я уж боялась возвращаться домой. Но вечером, когда я лежала в постели, мы поговорили спокойно; все кончилось
giggles[135], я показала маме его письмо и мой ответ, и к нам вернулась прежняя сердечность, легкость и ясность; теперь мне остается спорить только с самой собой. Во мне уже нет того лучезарного счастья, какое было в воскресенье; я ничего не помню о том дне, потому что не думала о нем. Но, боюсь, в следующее воскресенье воспоминания так и нахлынут.
Пятница, 7 августа
Последняя лекция на ул. Клода Бернара.
Чай у Николь с Жобами.
Утром — письмо от папы; очень печальное, как мне показалось. Хотела переписать из него некоторые отрывки, но мама его забрала. Он постоянно думает про Обержанвиль, так его любит, знает, с какого дерева каждый из тех фруктов, что мы ему присылаем. А под конец терзается, правильно ли он сделал, что не уехал. Его тоже осаждают неразрешимые вопросы, которые заставляют усомниться в том, насколько оправданны нравственные принципы, в том числе принципиальное желание остаться. Люди не поймут, почему мы остались. Мы не имеем права не хотеть уехать. Бегство ли это, когда спасаешься от неизбежной участи? Я все еще уверена, что да. Но на нашей стороне только собственная совесть.
Суббота, 8 августа
В кои-то веки выдался свободный вечер. Читала «Вечного мужа», потом сходила к Жильберте.
Выпустили четверых, я думала — и папу, но нет. Конечно, мне жаль. Но как, должно быть, огорчился он.
Вторник, 11 августа
Вчера утром, вот уж не ожидала, пришло еще одно письмо; на этот раз целиком на английском, с цветком эдельвейса внутри.
Всю первую половину дня я думала о вечере — ни малейшего представления, что я скажу и что вообще будет.
А все произошло так быстро, несмотря на паузы; мы прошли от улицы Медицинской школы до улицы Аптекарской школы, потом гуляли по невесть каким улицам и добрели сюда пешком. Мне было так спокойно, и никаких тебе мыслей. Вот только говорить было ужасно трудно — я не знала, что отвечать. Но то была единственная трудность: найти нужные слова, а в остальном — восхитительная свобода! Дома мы перекусили за маленьким столиком под Крейцерову сонату. Странно, но мне больше нечего было сказать. Мне не удавалось осознать то, что между нами произошло. При мысли об этом во мне вскипали волны радости и гордости. Он без всяких уговоров сел за пианино и сыграл Шопена. Потом я сыграла на скрипке. И до чего все было просто и непринужденно. Я проводила его до моста Альма, посреди вечернего золота. А когда вернулась, мне досталось за это от мамы. Но перед сном, когда ушла мадемуазель Монсенжон, а за ней месье Перец, который засиделся до одиннадцати, мама так нежно и ласково говорила со мной, что никакой обиды не осталось.
Разумеется, я почти не спала. Но это пустяки.
* * *
Была у бабушки. Видела Терезу.
Дома потом закончила письмо.
Среда, 12 августа
Заходили Леоте (Жильберта, Анни).
Месье Перилу.
Месье Симон.
Четверг, 13 августа
Не пошла на улицу Бьенфезанс, осталась дома, писала письма и читала.
Жоб и Брейнар; закончили Струнным трио № 1 Бетховена. Очень красиво.
Пятница, 14 августа
Он придет завтра.
Была у бабушки. Видела Мари-Луизу Тиль, подругу Николь.
Пятница, 14 августа
Пришло письмо — мне.
* * *
Письмо от папы — больно читать. В конце он пишет: «Я все же думал, что умница Ленлен вытащит меня из этой ямы». Значит, он надеялся. А я — нет. Он рассчитывал на меня.
Он описывает все, что видит: как люди расстаются, уезжают, оставляют свои вещи. Жуткое зловоние.
Надо вызволить его. Ему там не выдержать.
Суббота, 15 августа
Вторая поездка в Обержанвиль.
Я боялась, что повторение все испортит, боялась, как бы после того, что произошло совсем недавно, в понедельник, чудо не возобновится.
Мы все, вместе с мадам Леви вышли из дому, погода великолепная. И до самого вокзала я
трусила. Дух перехватывало, сердце сжималось от страха.
Всю дорогу проехали стоя. И эта ужасная робость понемногу прошла. Приехали и первым делом начистили картошки, а потом мы с Ж. М. отправились в сад собирать фрукты. Как вспомню — мне все кажется, что это какое-то волшебство. Синее небо, трава вся в росе, каждая капелька искрится на солнце, и меня переполняет радость. Мне всегда особенно хорошо в саду, но сегодня утром я была совершенно счастлива.
После обеда мы пошли гулять в сторону Базмона, на холм.
Но чем ближе к вечеру, тем больше я беспокоилась о времени, боялась, что вот-вот все кончится. Перед отъездом успела показать ему весь дом.
Чудесный обратный путь. На вокзале он сразу спросил, увидимся ли мы в понедельник; от неожиданности я сказала «да». Что ж, у меня теперь будет светлая точка в недалеком будущем — уже послезавтра.
Воскресенье, 16 августа
Первая прогулка с детьми
[136]. Ездили в Робинзон
[137].
День был утомительный, но дети чудесные, очень трогательные.
Понедельник, 17 августа
Институт, половина четвертого. Он был весь в белом. Мы прошлись по бульвару Генриха IV и вернулись сюда по набережным.
Когда он ушел, мне стало страшно — это слишком хорошо, слишком невероятно.
Вторник, 18 августа
Была у бабушки.
Среда, 19 августа
Весь вечер просидела одна дома. Первый раз за два месяца.
Страшная жара.
Принялась за блузку. Но мысли мешали работать; попыталась отвлечься чтением: открыла «Братьев Карамазовых», потом Мередита. А кончилось все скрипкой.
Четверг, 20 августа
Письмо от папы. Он совсем пал духом.
Что делать?
Приходили Сесиль Леман и Пино. Когда Жан Пино уезжал, я не думала, что мы еще увидимся. Но вот дождалась.
Пятница, 21 августа
Улица Бьенфезанс. Я помогала Сюзанне принимать людей. Ужасно — почти всех схватили на линии. А это означает —, немедленная депортация. Сколько же им всем пришлось перенести! И совсем страшно, если вдруг, когда распаковывались присланные из лагеря вещи, кто-нибудь из них видел материнские кольца или отцовские часы.
Всех детей из Бон переводят в Дранси — видимо, для депортации. Они играют во дворе, грязные, завшивевшие, все в болячках. Бедные малыши.
Суббота, 22 августа
Узнали про подлый шантаж насчет папы
[138].
Была у Брейнаров.
Воскресенье, 23 августа
Ла Варен
[139]. Прогулка.
Ничего не получилось.
Дети совсем не слушались.
После обеда рассказывала им «Рикки-Тикки-Тави». Собрались в кружок. Мои любимцы. Эрбер тоже слушал. Сначала я чувствовала себя очень
nervous[140]. Но, когда закончила и один мальчик со все еще затуманенным взглядом стал машинально повторять: «Еще, мадам, пожалуйста, еще!», — была просто счастлива.
Понедельник, 24 августа
Николь попросила привести к ней Жана М. Должны были прийти еще Пино и Жоб. Выходя из дому, я еще не знала, как поступлю. Он сидел в библиотеке. Пришел Спаркенброк. Было так странно его увидеть. Он так же хорош собой.
Но мне показалось, что с тех пор, как мы познакомились, прошла целая вечность. Я спросила, как у него
дела, он ответил: «Скоро стану отцом». Было как-то неловко, и я была рада уйти.
До дома Николь мы дошли пешком. Там было очень приятно. Но в общем я не очень довольна сегодняшним днем.
Вторник, 25 августа
Была на улице Рейнуар.
Четверг, 27 августа
Жобы, музыка; был еще Брейнар. Ближе к концу вечера пришел месье Перилу.
Пятница, 28 августа
Пошла сначала на улицу Рейнуар, у бабушки никого, кроме меня, не было.
Потом — к Сесиль Валанси. Все как раньше: болтали по-английски, говорили о музыке. Но впечатление осталось тяжелое — мне казалось, что время, когда мы вот так сидели, давным-давно прошло. А ведь это было всего лишь в июне.
Суббота, 29 августа
Относила пакет мадам Шварц. На улицу Тур-д’Овернь — красивая старая улочка, такая приветливая и уютная.
После обеда, задыхаясь от жары, мы пошли к С., было почти как в Обержанвиле, потому что там были тетя Жер и дядя Жюль. Мы с Денизой играли. Странная, но приятная суббота.
Вечером у нас до восьми просидел месье Оллеон. Рассказывал об аресте Розовских, этот рассказ, вся эта история не выходит у меня из головы. Так и вижу тот вечер: пара русских белоэмигрантов, которые смирились с тем, что их
арестуют, а маленького сына доверили Оллеону; жена — белокурая красавица, но бледная и больная, лежит на диване, уставясь в одну точку; и муж — его уговаривают выпить и передумать; а потом… Дранси, депортация, она, наверное, не выдержит и умрет в дороге.
Мама пришла встревоженная — ей сказали, что «не подлежащих депортации» отправляют в Питивье.
За последнюю неделю она еще больше изменилась. Стала худенькой, нервной, похожей на ребенка.
После ужина зашел Нослей
[141]. Все немножко успокоились.
Воскресенье, 30 августа
Прекрасное мое воскресенье. Вспомнилось «Воскресенье на родине» Киплинга. Две недели я мечтала об этом дне в Обержанвиле.
Были Жан Пино, Жоб и Ланселот Озерный
[142]. Чудо повторилось. Разве могло быть иначе? Залитый солнцем сад, ветер на холме после обеда и обратный путь в поезде.
* * *
Но дома на чудные воспоминания, которыми я была захвачена, наложилась печаль из-за нового, такого же отчаянного письма от папы.
Понедельник, 31 августа
Схватили Андре Мея с женой. На вокзале. Скорее всего, по доносу.
Многих отправляют в Дранси за попытку пересечь линию. На глазах у папы привезли Тевененов, родственников Шварцев, они были в Обере на свадьбе. Так он увидел их второй раз. Ужас. Генеральша Леви.
Огромное множество поляков, мужчин и женщин, в списках, которые присылают к нам на улицу Бьенфезанс. Сегодня утром один мужчина, едва-едва говоривший по-французски, спрашивал, «не вернули ли вещи малыша». Это четырехлетний ребенок, который умер в лагере Питивье.
Вторник, 1 сентября
Я так хотела увидеться с Ж. М. сегодня, чтобы не ждать слишком долго, до конца недели. Прекрасный день. Мы сделали большой круг по городу: площадь Карусель, Елисейские Поля, улица Марсо. Гулять с ним по Елисейским Полям — восхитительно. Потом пришли сюда попить малинового сиропа и послушать финал
Пятой[143].
Утром получила письмо от Жана Пино, которое мне как-то боязно понимать.
Среда, 2 сентября
Прогулка с детишками из приюта на улице Клода Бернара, которой я так боялась, прошла очень хорошо. Нас было семеро, с симпатичной вожатой Казоар. Я надела ее спортивные штаны. Ужасно смешно, но Николь сказала, что мне идет. Провели весь день в Монморанси. Занимались гимнастикой, учились приемам первой помощи, языку жестов, разным играм.
Четверг, 3 сентября
Приходил Жоб. Разучивали Тройной концерт
[144].
Пятница, 4 сентября
Не пошла на улицу Бьенфезанс. Специально осталась — читать «Учебник для волчат»
[145].
Но пол-утра писала ответ на письмо Ж. М.
Суббота, 5 сентября
Прогулка с восемью командирами шестерок
[146]. Робинзон.
Хорошо, но утомительно.
Бернар своим детским голоском, заикаясь, рассказал мне про себя. Его мать и сестру депортировали. «Я уверен, живыми они не вернутся», — сказал он, и было странно слышать такие взрослые слова из уст младенца. Он похож на ангела.
Воскресенье, 6 сентября
Обержанвиль.
Жоб. Собирали сливы.
В соседней с папой комнате один человек покончил с собой.
Понедельник, 7 сентября
Узнала подробности от мадам Рей. Это был некий Мецже, француз. Они с женой и дочерью остались в Ла Боль, и их арестовали. Жену и дочь депортировали, а его оставили в Дранси (ему 63 года), он терзался чувством вины и перерезал себе горло.
Утром приняли молоденькую женщину, ее отца депортировали полгода, мать — месяц назад, а только что умер ее семимесячный ребенок. Она отказалась работать на немцев, хотя тогда могли бы отпустить ее мать. Я восхищаюсь ее поступком, хотя иногда начинаю сомневаться, нужно ли безусловно следовать нравственным принципам, когда они извращаются и верность им карается смертью.
* * *
В три часа встречалась с Ж. М. в библиотеке. Там было полно народа. Он сидел в середине зала, напротив Мондолони. Я словно явилась сюда из другого мира. Видела Андре Бутелло, Эйлин Гриффин, Женни. Вышли мы вдвоем, пошли по улице Одеон, заглянули в книжные лавки Кленксик и Бюде, потом дошли до дому, перекусили вместе с Денизой, послушали концерт Шуберта и симфонию Моцарта. Но время идет так быстро. Я высунулась с балкона — на улице уже второй день стоит теплая осенняя погода. Светлое, прозрачное небо сладко томит душу. Мне хотелось поймать неуловимое. Все так невероятно, и мы так мало говорим о реальных вещах, что временами мне кажется, будто их и нет.
Я проводила его до метро. И все-таки сегодня было что-то не то, не знаю, как сказать, но не так хорошо, как в прошлый вторник.
Приходил месье Оллеон.
Вторник, 8 сентября
На меня вдруг обрушились сомнения и страхи, но мне стало лучше после того, как я зашла к Николь. И к Жозетте
[147] — там, у нее, на меня пахнуло Сорбонной, была еще ее подруга Мадлен Будо-Ламотт
[148], которая работает у Галлимара и знает Шардона
[149] и Андре Бутелло. Вообще Жозетта всегда действует на меня ободряюще.
Дочитала «Дафну Эдин»
[150]. У меня осталось неприятное чувство от этой книги, она пугающе напоминает мою собственную историю, а я
слишком сильно верю книгам. Впрочем, роман неплохой, только какой-то скомканный.
Среда, 9 сентября
Целый день провела в Кламаре, а когда вернулась, Дениза прямо с порога объявила, что родился Ив. У меня это никак не укладывается в голове. Не могу представить себе, что на земле стало одним маленьким человечком больше и это сын Ивонны. Все это происходит так далеко от нас. Невообразимо.
Четверг, 10 сентября
Помню, как родился Максим в Блуа. Я увидела его через четверть часа и заплакала. Если поискать, можно найти эту страницу в моем дневнике. Подумать только — прошло уже два года.
Нет времени над этим размышлять. Я перестала думать, проходят дни, проходят ночи, по ночам снятся сны, в которых происходит то же, что наяву.
И дневник я больше не веду как следует, нет сил, только записываю самое примечательное, чтобы не забыть.
Мама узнала подробности о казни Пиронно, он совсем молодой
[151]. Все было обставлено очень торжественно, его и еще одного арестанта привезли в тюремном фургоне, там же лежали приготовленные для них гробы. Не нашлось никого, кто бы взялся их расстрелять, ждали до трех часов дня, пока появился «доброволец», и тогда уж расстреляли — одного на глазах у другого.
Пятница, 11 сентября, утро
Мне приснилась Ивонна, и я встала с таким чувством, будто действительно видела ее, неожиданно провела с ней целый день. Сейчас ее уже нет, но впечатление осталось.
Я не ждала письма, разумом понимала, что его не должно быть. И все же, когда в дверь позвонили, во мне вспыхнуло
a wild flame of joy[152]. Я говорила себе: «Нет, я не надеюсь», а сама надеялась. Говорила себе: «Надо помнить, что я не надеюсь», и все равно надежда теплилась. Когда же я увидела конверт, все так и просияло.
Он написал это письмо в прошлую субботу, но не хотел отсылать, потому что оно слишком длинное.
Я прочитала и прямо взлетела, как на крыльях, мои способности любить и чувствовать разом удесятерились.
Воскресенье, 13 сентября
Потом же осталось какое-то бесконечно нежное и в то же время лихорадочное воспоминание — и это опять подтверждает, что я переменилась и боюсь лишний раз прикоснуться к себе, как будто во мне горит неведомый огонь.
Но очень скоро на меня опять, как всю эту неделю, нападает сомнение и недоверие к себе.
* * *
До вечера бродила по улицам (по бульвару Сен-Жермен, к Сорбонне и Сите-Кондорсе), а потом зашла в храм на Рош ха-Шана
[153]. Поскольку синагогу разгромили дориотисты
[154], служба шла в молельне и свадебном зале. Плачевное зрелище. Ни одного молодого. Одни старики, из «былых времен» только мадам Бор.
Суббота, 12 сентября
Мы с Николь вместе с Жан-Полем и Ж. М. ездили в Обержанвиль. В последний момент у меня чуть не испортилось настроение из-за мамы — она очень беспокоилась.
Ехали стоя. Погода была прекрасная. Если бы мы сразу пошли гулять, то увидели бы, как от земли поднимается туман.
Погуляли после обеда (обед с гусиной печенкой, шартрезом и американскими сигаретами).
Была сильнейшая гроза, я вся промокла.
Не могу вести дневник, потому что почти не принадлежу себе. Вот и записываю только внешние события для памяти.
Воскресенье, 13 сентября
Жаркий, утомительный день, ездили в Сен-Кюкюфа
[155] с тридцатью пятью детьми. Лоры не было.
Жан-Поль сдержал слово: к великому нашему удивлению, он около четырех появился на нашей поляне.
Понедельник, 14 сентября
Самое лучшее происходит, когда не ждешь. Сегодняшний день, такой насыщенный, я запомню на всю жизнь. Мы с ним ходили в Сен-Северен
[156], потом бродили по набережным, сели посидеть в садике позади Нотр-Дам. Невыразимый покой.
Нас прогнал сторож из-за моей, звезды. Но я была с ним и потому даже не почувствовала боли, мы пошли дальше вдоль Набережных.
Собиралась гроза и наконец разразилась. Вот эту грозу я буду помнить: дождь, хлещущий по ступеням Тюильри, темное небо, розовые молнии, так бы и осталась там навечно.
Вторник, 15 сентября
Тетя Жер сломала ногу. Я это узнала, когда пришла на улицу Рейнуар, ждали Редона. Вечером она уехала на улицу Шез.
Среда, 16 сентября
День в Робинзоне с Казоар, без Николь.
Много занимались гимнастикой.
Жозе, одна из девочек, которые ездили с нами, боится, что ее арестуют, — поговаривают, что будут забирать бельгийцев.
Мы тоже после давешних арестов были не совсем уверены, можно ли ехать в Сену-и-Уазу.
Папа прислал отчаянное письмо. Говорит, что больше нас не увидит. Мама писала ему про Ж. М. Он ничего не возразил, но относится ко всему так, будто все кончено и его не касается.
Четверг, 17 сентября
Улица Бьенфезанс.
Немного немецкого, музыка с Жобом и Брейнаром.
Получила список от Ж. М.
Пятница, 18 сентября
Сегодня утром вернулась с улицы Бьенфезанс (там был Роже) и застала маму в слезах. Папа прислал пневматичку: «Срочно решительные меры. Начинают уезжать Элиан Эберы»
[157]. У меня все утро были смутные опасения, у нас там говорили, что зря они остались в Дранси и что теперь их будут забирать, чтобы доукомплектовывать эшелоны с депортируемыми.
Арестовали бельгийцев и голландцев — Жозе? Думаю, повторится все, как в июне.
Доктора Шарля Мейера арестовали за то, что звезда у него была прикреплена слишком высоко… Одна из наших сотрудниц воскликнула: «Это же незаконно!!!» Верить, что они будут соблюдать ими же установленные законы, когда эти законы с самого начала были неправомочны и придумывались совершенно произвольно, с единственной целью — чтобы был предлог арестовывать; только для этого они и существуют, а вовсе не для того, чтобы что-то упорядочивать или регулировать.
Воскресенье, 20 сентября
Никогда прежде у меня не было никаких предчувствий. А на этой неделе они постоянно закрадывались в душу. И вот вчера я поняла почему. Вчера утром на улице Бьенфезанс поднялась кутерьма. Было много дел. В полдвенадцатого мне понадобилось сходить за письмом на улицу Р. Когда рассказала о папином письме, все женщины сказали: «Да, мы знаем (что из Дранси начинают вывозить французов)». Посыпались письма с просьбами прислать удостоверения или теплые вещи. Без четверти двенадцать я еще была там. Пришел месье Кац. Мне надо было кое-что у него спросить. Он разговаривал с женой. Обернулся и сказал мне: «Предупредите всех, у кого родные в Питивье, пусть завтра до десяти утра принесут теплые вещи». Я с ужасом поняла: это означало одно — «массовая депортация из Питивье».
Утром, когда я выходила, консьерж предупредил меня, что из-за какого-то «покушения» все население будет наказано, никому нельзя выходить с трех часов дня и до ночи, расстреляно сто шестнадцать заложников и готовится «массовая депортация».
Вот оно что.
6 часов вечера
Ловлю себя на желании, чтобы этот день кончился и остался позади, но вдруг осознаю, что и будущее не сулит ничего хорошего, завтра и дальше предстоят одни несчастья.
Бывают минуты, когда ощущение неминуемой беды как-то притупляется. Иногда же, наоборот, становится острее.
М. Р. описал Денизе, как происходит депортация. Всех бреют наголо, загоняют за колючую проволоку, заталкивают в вагоны для скота даже без соломы и опечатывают.
* * *
Что-то готовится, назревает, как финал какой-нибудь пьесы. В пятницу Пьера Масса
[158] перевели из Санте в Дранси. И, по его словам, он знал, что это означает. Итак, всех собрали и приготовили для этого ужаса, страшного события, за которым последует тревожная тишина, изгнание неведомо куда и непрерывные муки, с первой же минуты после того, как все это произойдет.
* * *
Странный день. Все сидят по домам. На последнем этаже, где живет прислуга, люди смотрят из окон. Ветер гонит облака по синему небу.
* * *
Во время обеда пришла одна женщина, которая вчера вышла из Дранси, она принесла новости о месье Леви — вот изумительный человек! Там, в лагере, он занимается с детьми, гуляет с ними. К среде лагерь должен быть пуст. И кем его наполнят снова
[159]?
Эта женщина провела там неделю, голодала, спала на соломе и видела страшные вещи. Как отправляют — две девушки, арестованные вместе с ней, депортированы в прошлую среду в цветастых платьицах и тряпичных туфлях.
* * *
Утром, в полдесятого, отправилась к Франсуазе Пино, потом с ней вместе к мадам Кон за письмом. Шли по улице Севр.
Вернулась домой и снова вышла — на почту, отправить мамину открытку Жаку. Там встретила Денизу, всю в слезах — она прочитала папину записку (в письме мадам R). Месье Жесман сказал, что вывезут
всех.
Сама я не смогла прочитать записку как следует — мама так рыдала, что я никак не могла сосредоточиться. И плакать пока не могу. Но если случится эта беда, мне будет очень тяжело и уже навсегда.
Это было прощание, это конец всего, что делало счастливой нашу жизнь.
Вчера утром, едва проснувшись, я почувствовала, что мне хорошо, как никогда, и удивилась этому чувству.
Но все так быстро переменилось. Всего лишь иллюзия — иначе и быть не могло. К вечеру настроение стало каким-то невероятно гнетущим, и вечером же должен прийти Ж. М. Но радоваться мне было стыдно. Минуты летели одна за другой. Пришел месье Оллеон и просидел почти час. Между нами словно был некий барьер, который не исчез, даже когда мы ужинали вдвоем за столом с синей скатертью. И ничего не поделаешь. Впрочем, это не важно, я не имею права быть счастливой.
* * *
Завтра Йом-Киппур
[160]. И мы сегодня так вымотаны, как будто давно постимся.
Понедельник, 21 сентября, 11 часов вечера
Завтра в полдень вернется папа.
Вечером, в девять часов, пришли месье и мадам Дюшмен, я вышла в гостиную, они меня обняли и сказали: «Завтра в полдень».
А я уже так погрузилась в горестные переживания, так извелась, думая о том, что произойдет в ночь со вторника на среду и каково им всем там ждать, что не ощутила никакой радости. Думала только об остальных. Получалось, будто совершается какая-то несправедливость. Нет, это никак нельзя назвать радостью.
Вторник, 22 сентября, утро
Наверно, за ночь я свыклась с мыслью о папином возвращении. И думаю теперь, как все будет: что это значит для мамы, что скажет папа, когда сам узнает? Ведь этой ночью он еще не знал и снова долгие часы провел в безысходной тоске и отчаянии.
Вчера в шесть вечера, когда пришла домой, я и сама была в отчаянии. Уже ничего не чувствовала, остались только смутные воспоминания об этих двух страшных днях. Я не постилась. Собиралась, но что-то заставило меня отказаться от поста и пойти помогать на улицу Бьенфезанс, это решилось само собой в одну секунду. Не помню уж, что со мной тогда было, но точно знаю, что несколько раз чуть не расплакалась в метро при мысли обо всем этом ужасе. Весь день мы работали так, будто
позади Страшный суд; чувствовалось, что свершилось нечто безвозвратное. Была мадам Шварц — она постилась, мадам Кац и мадам Орвиллер. Если их не считать, в доме царили хаос и запустение; в полдень я поехала обратно на метро с мадам Орвиллер. Мама была дома, тогда-то я и узнала от нее о последнем, очень благородном поступке месье Дюшмена. Мадам Леви обедала с нами.
Вторник, 22 сентября, вечер
Папа тут, дома. Вот уже шесть часов, как он вернулся, и спать будет дома. Сегодня вечером мы будем вместе с ним. Он тут, ходит из угла в угол с потерянным видом. Но внешне он почти не изменился, и так приятно на него смотреть.
Когда он вошел, мне показалось, что две разорванные части жизни вдруг опять точнехонько срослись, а всего остального будто и нет. Слава богу, это ощущение быстро прошло, а то мне было как-то не по себе, я не хочу забывать. Оно быстро прошло, потому что я знаю, чего навидался папа, потому что я полна страданием других, потому что никто не может забыть того, что произошло уже и произойдет еще нынешней ночью и завтра.
* * *
Только что ушла мадам Жан Блок, мы не стали ей говорить, что ее муж, и месье Баш, и еще триста человек, не уехавших в воскресенье из Питивье, прибыли сегодня утром в Дранси и будут депортированы с завтрашним поездом; утром они были в отсеке за колючей проволокой. Она и так скоро сойдет с ума. Говорит механическим, ровным голосом. Я знаю по себе (пишу это здесь, никто не увидит), что значит такое нервное напряжение, но она скоро дойдет до настоящего безумия. Когда ее послушаешь, понимаешь, что перед тобой непоправимое, невыразимое, безграничное, безутешное горе. Кажется, для нее, в ее мире мы уже не живые люди, а призраки, и нас разделяет глухая стена. Она ушла и, как я понимала, унесла с собой все свое бремя ледяной, застывшей боли и все свое отчаяние, без проблеска надежды и воли к сопротивлению.
* * *
Перебирая события сегодняшнего дня, я все же сохраняю трезвость и ясное сознание; так, бывает, во сне думаешь, что бодрствуешь. А потом просыпаешься. Так же и тут. Все утро, когда я бегала сначала к Франкам, потом к К. за шерстяными вещами для племянников мадам Кан, которые, может быть, завтра уедут, потом относила эти вещи на улицу Шомон, а потом вернулась работать в УЖИФ, сознание мое было вполне ясным, нормальным. Но после того как вернулся папа и пришло столько народу: месье Мэр, Дюшмен, Л., Шеври, Фроссар, Николь, Жоб, — после всей беготни в УЖИФ появилась вот такая ненормальная пронзительная ясность.
* * *
Вернулась и нашла чайные розы от Жана. Увидела цветы и назвала его про себя вот так — Жаном. Первым делом подумала: «Как он узнал?» Потом поняла, что не знал. А розы — свидетельство мысленной связи. Была тронута до глубины души. Каждый раз, как об этом подумаю, сердце теплеет, это единственная радость на общем фоне. И, как ни странно, я предаюсь этой радости без зазрения совести, она не кажется мне незаконной и недопустимой в этот трагический день.
Среда, 23 сентября, вечер
Мы все только и думаем, что об утреннем этапе.
Баш и Жан Блок уехали, все кончено.
Эта депортация еще намного ужаснее первой, просто конец света. Сколько пустот вокруг нас!
Сегодня я чуть не сорвалась, почувствовала, что меня вот-вот понесет и я потеряю контроль над собой; раньше со мной такого не бывало. Неподходящее время, чтобы распускаться. Это случилось, когда мы вернулись от Андре Бора, к которому ходили с папой. Он настроен очень пессимистично. Я пошла оттуда к мадам Фавар и в Дом военнопленного
[161]. А у нас застала знакомого Декура, и он довел меня до бешенства; завел со мной разговор о будущем, а я была не в себе. Все, о чем он говорил и спрашивал, словно относилось к другому миру, куда я больше не вернусь. Когда я слышу о книгах, о преподавателях Сорбонны, все это отдается во мне погребальным звоном.
* * *
А еще я весь день пыталась прочитать письмо от Ж. М., как бывает во сне, когда письмо то и дело куда-то исчезает. И до сих пор еще в него не вникла.
* * *
Вечером на кухне пекли пирог для Ивонны. Как совсем недавно для папы. Теперь папа здесь. Жизнь осталась точно такой же, какой была
до его ареста, — не могу поверить, что прошло три месяца.
Сегодня вечером я слишком устала, чтобы писать.
Прекращаю.
Центр помощи военнопленным и их семьям.
Четверг, 24 сентября
Наконец-то достигнута цель, которая словно бы все время отдалялась.
Мы встретились в институте. Кошмар последних дней развеялся, я вырвалась из этой атмосферы.
Дома мы с Жобом и Денизой поужинали в нашей спальне. Больше было негде — везде гости.
Суббота, 26 сентября
Он пришел ко мне домой. Мы послушали пластинку, поужинали и пошли гулять по проспекту Анри Мартена. Было уже прохладно.
Воскресенье, 27 сентября
В Ла-Варен с «волчатами». Весь день пасмурно и дождливо.
Понедельник, 28 сентября
К ужину приходил Симон. Играли вместе.
Вторник, 29 сентября
Мадлен Блесс и Жозетта.
Среда, 30 сентября
Мадам Журдан.
Чай у Николь с Жобами. Они пели «Веронику»
[162].
Четверг, 1 октября
Шли пешком два часа — беседа завязалась на улице Гинмер и закончилась у метро «Альма». От самого Дома инвалидов я говорила и говорила, словно во сне. Не видела никого вокруг, хотя на улице было много народа.
Пятница, 2 октября
Была у д-ра Редона, он вскрыл мне панариций.
У нас Жоб, я не играла на скрипке и весь вечер спустя рукава готовилась к завтрашней прогулке.
Комическая опера французского композитора Андре Мессаже (1853–1929).
Суббота, 3 октября
Мы с Николь взяли каждая по четыре ребенка на прогулку по Парижу с девяти до одиннадцати часов. Мой маршрут: Пале-Рояль — улица Клода Бернара. Показала им все фасады Лувра. Сама воодушевилась. Смотрела с моста Искусств, как солнце пронизывает серый туман — похоже на обещание грядущей радости.
После обеда сидела в нашем центре, время тянулось слишком долго. Я ушла пораньше, чтобы послушать Жана Виге, но не успела — уже не застала его.
Воскресенье, 4
Как хорошо!
Все утро писала письмо.
Вечером, после какого-то бестолкового собрания на улице Воклен
[163], мы с Николь пришли сюда. Послушали квартет, я полистала своего Стефана Георге. Проводила Николь, она была в восторге не меньше меня.
Понедельник, 5 октября
Снова вышла на работу в библиотеку. А думала, уже всё. Это вернуло мне душевное равновесие.
Как и три месяца назад, стала поджидать Ж. М. Совсем забыла, что произошло за это время между нами. А когда вспомнила, меня захватило чувство торжества. С трех часов стало боязно и очень горько. Но без четверти четыре он вошел, и вернулись покой и радость. Я оглядела всех других студентов — знают ли они. Но нет, никто не знает, и это прекрасно.
Потом я проводила его по Большим бульварам до вокзала Сен-Лазар. Было сумрачно, на улицах много народа. Нас окутывал влажный туман. На закате небо приобрело мертвенно-желтый оттенок. Странная картинка осталась в памяти: людные бульвары и низкое свинцовое небо над ними.
Он дал мне пластинки с «Любовью и жизнью женщины»
[164].
Вторник, 6 октября
В три ходила к Делатру.
Он отговаривал меня от всего, после этого разговора поняла, что я все больше разочаровываюсь в нем.
Потом с Николь и Жобом пошла к Леоте. Жоб забыл о своей музыке. Вместо того чтобы играть, мы сражались в пинг-понг.
Вечером напекла для Денизы целую гору булочек. Тайком от нее я затеяла
tea-party[165] в честь ее дня рождения. Пригласила Леоте, Пино, Жоба и Виге.
Среда, 7 октября
С утра бегала по ближайшим лавкам — закупала все для Денизы. Но сердце мое
sang within[166]. Никогда еще я так не радовалась при мысли, что очень скоро увижу его, вернулось все то, что я чувствовала прежде, состояние «перед балом». Но к этому прибавилось чистейшее, невыразимое счастье.
Закончила тут все приготовления и пошла в Сорбонну. Поднимаясь по ступенькам из метро, увидела его. Мы пошли на улицу Одеон, потом в Книжный комитет, где я была
hot and bothered[167].
Пришли домой и там уже застали Жоба.
Когда вернулась Дениза, все, кроме Анник, спрятались за занавесками и мебелью, а потом разом выскочили и закричали: «С днем рождения!»
Четверг, 8 октября
Ул. Рейнуар, чай с Симоной. Я все ждала, когда настанет завтра.
Пятница, 9 октября
Договорились встретиться в метро «Пале-Рояль». Я пришла намного раньше времени.
Мы зашли в лавку Далло купить для него книги, потом дошли до вокзала Монпарнас, а оттуда до дому. Я устала. Дома он попросил поставить
Lieder[168] Шуберта. Но музыка играла даром. Он не слушал.
Суббота, 10
Весь день ходила какая-то потерянная, не пошла утром на улицу Бьенфезанс, мне показалось, что это все испортит. Но все утро проболталась без дела. После обеда пришел Жоб играть трио.
Воскресенье, 11
Собрание на Ламбларди
[169]. Решено организовать новую команду, там будут Берта, Николь и я. Но мы ушли от ребят в полдень. Они, бедные, очень расстроились.
Когда мы вышли из приюта, вовсю сияло солнце, и меня вдруг осенила счастливая идея: позвоню ему и скажу, что я весь день свободна.
Но поразмыслила и остыла. Когда подходила к дому, пошел дождь. Сама не знаю почему, я вдруг впала в какой-то ступор. Выкурила две сигареты, поработала над концертом Бетховена и пошла на улицу Рейнуар, там, в комнате Николь, замерзла, несмотря на все связанные с ней воспоминания.
Четверг, 15 октября
Трудно пересказать, что было в начале недели. Дни прошли незаметно. Я только и делала, что ждала. В воскресенье вечером думала, что предстоят еще два долгих дня ожидания. Мы собирались в среду съездить в Обержанвиль. Только вдвоем.
Мама ничего не сказала, я даже решила, что она не очень поняла.
Но в понедельник после обеда, когда мне стало невыносимо тягостно и скучно досиживать свои часы в библиотеке, он вдруг пришел. Не должен был — у него во вторник экзамен по праву. Я захлебнулась радостью. Довольно долго у нас не было возможности заговорить. Он бесшумно поднялся по лестнице, пока я была занята библиотечными делами. Потом сел за стол. А под конец подошел и стал помогать мне разбирать книги. Никогда еще библиотека не закрывалась так поздно. В полутьме между полками я забыла о времени.
Дома Луиза сказала, что вернулся месье Леви. И я впервые испытала мгновения полного, беспримесного счастья.
Во вторник я пошла встречать его после экзамена и целый час убивала время, сидя во дворе института. Было тоскливо и одиноко. К счастью, часов в пять появилась одна знакомая. Стало повеселее. А его я встретила на улице Одеон. Он тоже уже час слонялся просто так! Мы пошли гулять, заходящее солнце заливало золотом старый Париж. Был теплый октябрьский вечер. Мы постояли на набережной у моста Искусств, облокотясь о парапет. Все вокруг трепетало: тополя всеми листьями и даже сам воздух. Когда я шла домой одна через Кур-ла-Рен, в аллеи уже спустились сумерки, а небо еще розовело.
Ночь со вторника на среду была бесконечной.
Потом волшебная среда. Сегодня вечером сама себя не узнаю, еще утром была какой-то новой и думала, что это навсегда. Но вот снова стала прежней Элен. Разлука для меня — проклятие.
Четверг
Проснулась сегодня и очутилась в том же, что и вчера, прекрасном мире. Все утро было странным и чудесным, мне не сиделось в УЖИФ. В половине двенадцатого улизнула оттуда, помчалась домой что есть духу и села писать письмо ему.
Во второй половине дня встречалась в библиотеке с Казамианом, предложила тему диссертации о Китсе.
Пятница, 16 октября
Ходила с Николь покупать туфли и шарф, потом — на улицу Рейнуар.
Суббота, 17 октября
Около половины четвертого пришел Ж. М. Мы посидели за столом с папой, мамой и Жобом, было чуточку нервозно. Потом он пришел в эту комнату. Я проводила его до метро.
Воскресенье, 18 октября
Собрание на улице Воклен с Бертой и другими, к концу стало жутко скучно.
После обеда играли с Жобом у С. Близнецы тоже были.
Понедельник, 19 октября
В библиотеке мрачно и холодно. Как будто я там в полном одиночестве. Он не пришел, и я ощутила, каково мне будет, когда он уедет. Ненадолго заглядывали Андре Бутелло, Николь и Жан-Поль. Вернулась домой кислая, вымотанная и чуть не заснула перед обедом.
Вторник, 20 октября
Мы договорились встретиться на юрфаке и посмотреть результат его экзамена. Но он перепутал дату. Ему стало досадно, и это так отразилось на его
mind[170], что испортило весь день. Мы спустились к Сене у моста Искусств, видели на берегу двух рыбаков. Потом пошли к его портному на проспект Оперы, а оттуда — на вокзал. Я вдруг испугалась, что потеряю его в вокзальной толпе. Тут он взял меня под руку. И я не смогла объяснить ему, почему этот простой жест так меня растрогал.
Среда, 21 октября
Он сообщил мне свой результат по телефону, когда я была на улице Рейнуар, а я ему позвонила после ужина.
Четверг, 22 октября
Суматошный вечер. Были все сразу: Симон, чета Леви, мадам Роже Леви, маленькая Бьедер, Ре, я сбилась с ног.
Пятница, 23 октября
Чай с Вудом и Дей, настоящее английское чаепитие, подали последнюю банку
Dundee marmalade[171]. Было очень мило.
Суббота, 24 октября
Утром примчалась из Сорбонны на Тегеранскую улицу, дождалась там Николь и Берту.
В три часа пошла на вокзал встречать Ж. М. Что-то было не так. Из-за серого низкого неба? Или из-за меня самой? Из-за глухой тоски, которая находит на меня и разъедает душу? Или от горечи, что он не один, а с Жобом? Занимались музыкой, мне казалось, что я его и не видела, что мы за тысячу верст друг от друга. Перед ужином разрыдалась.
Воскресенье, 25 октября
Прогулка с ребятами сорвалась. Ул. Воклен. Не думала, что буду занята во второй половине дня. В полдень мне пришлось уйти, и я была уверена, что день кончится плохо. Рехтман после утренней сцены бродил по коридорам.
Вернулась домой в полном унынии. Обед с Понси. Жоб с Брейнаром музицировали. Мадемуазель Эрбо пришла сыграть в бридж.
Понедельник, 26 октября
Библиотека. Я знала, что он не придет, но все же надеялась. — То была подсказка свыше, потому что он пришел. В половине пятого. И все как будто озарилось. Кроме меня была еще одна библиотекарша, поэтому в пять я ушла. У него завтра устный экзамен. Мы шли под дождем по улице Ренн, я проводила его до метро «Дом инвалидов»; уже смеркалось, я думала о завтрашнем, дне, мы назначили свидание на юрфаке.
Вторник, 27 октября
Рано я радовалась, теперь такая беда — он провалился на экзамене. И ведь совсем не ожидал. В половине одиннадцатого, когда я первый раз пришла на факультет, он сказал, что освободится через сорок пять минут. Я сходила зарегистрироваться
[172] и вернулась. Мы дождались результатов, я не могла поверить и сейчас не хочу об этом думать. Потому что опять вижу, как он выходит из зала, и чувствую, как ему плохо.
Обратно шли молча, под дождем, взявшись за руки, — это все, чем я могла ему помочь. В час дня в ненастье на улицах никого. Париж был только наш.
И, несмотря на печаль, у меня осталось чудесное воспоминание от этой молчаливой прогулки под дождем.
Остаток дня ничего толкового не делала. Не хотелось заниматься ничем таким, что бы отделяло меня от него, ходила в парикмахерскую, к бабушке, под вечер — с Денизой к Жозетте.
Среда, 28 октября
Из Сорбонны пришли сюда, в эту комнату. Слушали пластинки Шумана, как мне и хотелось.
Четверг, 29 октября
И вдруг все оборвалось. Он так говорит о своем отъезде
[173], что мне наконец стало страшно. Пока я была с ним, я верила ему, потому что верил он сам. Он сказал: «Возможно, мы видимся в последний раз». И я поверила, хотя знала, что перестану понимать, как только останусь одна. Шел страшный ливень, мы целый час стояли в коридоре Сорбонны. Он был не в духе, почти не разговаривал. Мы расстались в метро на станции «Сегюр». Я вернулась домой, собирала пазл с Симоном
[174].
Четверг, 5 ноября
Весь конец прошлой недели я ждала звонка. В субботу вечером перестала бояться. Но настроение было мрачное.
Мы договорились встретиться во вторник, если все будет нормально.
В понедельник, День поминовения мертвых, я ходила в библиотеку. Никто не пришел. Очень грустно. Дикий холод. Темнотища, и он не пришел.
Наступил вторник. Утром я получила то самое письмо, которого ждала все эти дни — именно это ожидание и портило мне настроение, — оно было коротким, и
there would have been room for deception[175], если бы во второй половине я не видела его самого.
В среду и я написала письмо.
Четверг
Была на Банковской улице
[176].
В четверг и пятницу терзалась из-за телефонного звонка — подходила Андре и не разобрала, что сказали.
Воскресенье, 8 ноября
Странный день, ничего не соображаю.
Вчера все было очень хорошо. Даже перспектива его неминуемого отъезда — в четверг, это точно — не могла омрачить день. Я встретила его на вокзале, и мы пошли гулять по Елисейским Полям. Я первый раз надела меховое пальто.
Часов в пять пришел Жоб и был ужасно чудной — выпил лишнего. Всю ночь мне снился Ж. М., и в конце концов я проснулась от пронзительной мысли, что он уезжает.
Пошла на улицу Воклен, погода была прекрасная: робкое золотистое солнце, ярко-синее небо и кристальный воздух. А сейчас, когда я пишу, солнце палит вовсю, и тем страннее этот день.
Вдобавок сегодняшние новости. Все взбудоражены. Папа с мамой очень волнуются. Мне бы тоже, но не получается. Я не ликую не от излишнего недоверия, а скорее оттого, что не воспринимаю эти внезапные окрыляющие новости. Давно отвыкла от такого. А между тем это может быть началом конца.
Понедельник, 9 ноября
Библиотека уже закрывалась, когда Жан появился на пороге, это было как сон. Я так сильно хотела его увидеть, что уже и не ждала; и, как во сне, мы шли в сумерках — через площадь Карусели, по проспекту Оперы, на вокзал. Лувр вырисовывался на вечернем небе огромным темным кораблем. Будем теперь встречаться три дня подряд.
Вторник, 10 ноября
Родители поехали в Обер. Дениза осталась. В два тридцать пять я встретила его на вокзале. До дому дошли пешком по Кур-ла-Рен. Было ясно, но очень холодно. Последний раз, когда мы могли побыть вдвоем. Завтра идем к Молинье.
Он принес концерт ре мажор Бетховена и «Концертную симфонию»
[177]. Чай пили, сидя на кровати.
Среда, 11 ноября
В конце концов он не уехал. Так сложились обстоятельства. Это он сказал нам — Молинье, Женевьеве Лош и мне, — когда мы встретились на Северном вокзале. Очень
cosy[178] день в Ангене
[179] у Молинье, слушали Баха.
Четверг, 12 ноября
Первый учебный день в Сорбонне.
В 11 часов — Казамиан. Аудитория № 1, душно, я как-то растерялась и ошалела, снова оказавшись тут после стольких событий, внешних и внутренних.
В два часа — Делатр. Аудитория набита битком.
Суббота, 14 ноября
Мы должны были идти на концерт в Мадлен
[180]. Но в последнюю минуту папа раздумал. Все же в два двадцать пять я встретила на вокзале его. Мы долго гуляли и пришли домой. Послушали Концерт ре мажор. Был Жоб, пили чай в малой гостиной, потом пошли в кабинет.
Воскресенье, 15 ноября
Утром — на улице Воклен.
Жоб и Анник Бутвиль.
Понедельник, 16 ноября
Библиотека.
Вторник, 17 ноября
В три часа — мадам Журдан, урок продлился полтора часа. Разобрали Первую сонату Баха и одну часть Тринадцатого квартета.
Среда, 18 ноября
Утром — ул. Бьенфезанс.
Вторая половина дня — в Сен-Клу. Мне страшно не терпелось туда поехать. В час позвонил он и сказал, что поезд отправляется раньше. Когда месье Леви мне это передал, я засмеялась.
Были Николь, Дениза, Молинье, Савари, Жак Бесс и Макс Гаэтти (два композитора).
Он уезжает в понедельник. Сказал это при всех, и у меня заныло сердце.
Четверг, 20 ноября
Сходила в Сорбонну попусту. Лекции Казамиана не было. В три часа встретила на вокзале Ж. М. Ходили к его портному. Сели в метро на «Сент-Огюстен» уже после четырех.
Это был наш предпоследний раз.
Он принес Пятый квартет.
Согласился прийти в субботу на обед.
Пятница, 21 ноября
Сбегала на ул. Бюзанваль. Потом купила у Галиньяни книгу для Ж.
Была на улице Тур. Они там разучивают трио Равеля.
Суббота, 22 ноября
Последний день.
Утро пронеслось как один миг, я ходила на Тегеранскую улицу поговорить с месье Кацем по поводу Сесиль Леман и занесла ему пакет. Вернулась домой и села писать письмо, которое отдам сегодня Жану. Сама не верила в то, что пишу, потому что знала, что он скоро будет тут. В полдень еще не переоделась.
Все остальное было похоже на дурной сон. Родители устроили прекрасный обед. Потом мы пошли слушать пластинки. Он ненадолго отлучался на улицу Монтессюи, неправильно посмотрел время. Оказалось, что уже не без четверти три, как я думала, а четыре часа, у нас украли целый час. Все резко кончилось, когда к нам в комнату вломились Жан-Поль и Николь, которых впустила Луиза, — я ведь пригласила гостей: Пино, Франсуазу, Дижонов, Жана Рожеса, Жоба, — все дальнейшее было «после» конца. Я была так
reckless[181] (комендантский час!), что пошла проводить его до метро. Когда вернулась, гости еще не разошлись. Поэтому было некогда думать.
Воскресенье, 23 ноября
Утром — на ул. Воклен.
Жоб и Брейнар.
Понедельник, 24 ноября
Библиотека.
Видела Савари.
Франсуаза де Брюнофф.
Вторник, 25 ноября
Pot black Tuesday[182], весь вечер просидела дома, мрачно корпела над Дж. М. Марри
[183].
Среда, 26 ноября
Письмо от Жана. Он уехал только сегодня утром. Еще мог бы зайти ко мне в понедельник.
Когда я пришла из УЖИФ, меня ждал чудесный букет гвоздик от него. Его прислали из нашей цветочной лавки на улице Сент-Огюстен. Сияло солнце. Меня захлестнула радость, а вчерашний день показался страшным сном.
Ходила записываться в Сорбонну.
Четверг, 27 ноября
Заглянула к Николь.
У нас обедал Симон. Просидел до половины шестого; когда я вернулась от мадам Журдан, он еще был тут.
Пятница, 27 ноября
Вернулась от Надин Д.
[184] и
нашла открытку от Жана, он написал ее в среду в поезде.
Суббота, 28 ноября
Во второй половине дня в библиотеке Сорбонны переписывала статью для Жака. Вернулась домой одна, немного поработала.
1943
Среда, 25 августа 1943
Я перестала вести этот дневник десять месяцев тому назад, а сегодня вечером вынула его из ящика стола и отдала маме, чтобы она спрятала в надежном месте. Мне опять велели не оставаться дома в конце недели.
Прошел почти год, а все продолжается: Дранси, депортации, страдания. За это время много чего произошло: Дениза вышла замуж; Жан уехал в Испанию, и я его больше не видела; все мои подруги по работе арестованы, а я сама спаслась по невероятной случайности — в тот день меня там не было; Николь обручилась с Жан-Полем; приехала Одиль; уже целый год! Есть все основания надеяться на перемены к лучшему. Но мне слишком тяжело, я не могу забыть о человеческих страданиях. Что изменится, когда я снова примусь за дневник?
10 октября
Снова начинаю вести дневник, после перерыва в год. Зачем?
Сегодня на обратном пути от Жоржа и Робера меня вдруг пронзила мысль: я должна описывать происходящее. За один только этот путь с улицы Маргерит — сколько разных сцен, происшествий, образов, размышлений. Хватило бы на целую книгу. И вдруг поняла, до чего же банальной была бы эта книга, то есть я хочу сказать: что еще есть в книге, помимо описания реальности? Чтобы написать настоящую книгу, людям не хватает способности наблюдать и обобщать. Иначе писать книги мог бы каждый; сегодня вечером я нашла — потому что искала — строчки из начала «Гипериона» Китса:
Since every man soul is not a clod
Hath visions, and would speak, if he had loved
And been well nurtured in his mother-tongue.
[185]
И все же есть тысяча вещей, которые мешают мне писать, они держат меня прямо сейчас и не отпустят ни завтра, ни потом.
Прежде всего это лень, которую нелегко преодолеть. Писать, причем так, как я бы хотела, то есть предельно откровенно и
совсем не думая о том, что это будут читать другие, чтобы не было притворства и фальши, — описывать все, что творится вокруг, все трагические события, которые мы переживаем, передавая их суть во всей полноте и наготе и не искажая ее словами, — очень и очень сложная, требующая неустанных усилий задача.
Кроме того, мне противна сама позиция «пишущего» — возможно, я неправа, но, по-моему, «письмо» неизбежно ведет к своего рода раздвоению личности, исключает непосредственность и искренность (хотя, может, это только предрассудки).
Ну и тщеславие. Вот уж чего я совсем не хочу. Сама мысль о том, чтобы писать для других, ради их похвалы, внушает мне отвращение.
Возможно, примешивается чувство того, что «другие» все равно не поймут тебя до конца, а только испачкают, изуродуют, что ты по собственной воле унижаешься, превращаешься в какой-то товар.
Бесполезность?
Да, в иные минуты все кажется настолько бесполезным, что опускаются руки. Но иногда я начинаю сомневаться и думаю, что это только отговорка, а дело в моей лени и пассивности — ведь есть один довод, который перевешивает все подобные рассуждения и который, если я его приму, станет решающим: писать — это мой долг, ибо надо, чтобы люди знали. Каждый день, каждый час творится все то же: одни люди страдают, а другие ничего не знают и даже не представляют себе этих страданий, даже не могут вообразить, какое страшное зло человек способен причинить другому человеку. И вот я берусь за этот тяжкий труд —
рассказать. Да, это мой долг — быть может, единственный, который я в силах выполнить. Есть люди, которые знают, но закрывают глаза, — таких мне не убедить, они жестоки и эгоистичны, а принудить их я не властна. Но есть другие: те, кто просто не знает, те, чьи сердца не зачерствели и способны понимать, — я говорю для них.
Ибо как излечить человечество, если не показать ему сначала всю его мерзость; как очистить мир, если не заставить людей осознать все безмерное зло, которое они совершили? Заставить понять — вот главное. Эта простая истина не дает мне покоя. Война не возместит страданий — кровь требует крови, и люди лишь ожесточаются, упорствуют в своем ослеплении. Если бы можно было заставить дурных людей
осознать, какое зло они творят, увидеть во всей полноте и непредвзятости, что такое истинное величие человека! Я так часто спорила об этом с друзьями и со своими родителями, а у них, уж наверное, больше опыта, чем у меня. Одна Франсуаза соглашалась со мной. Франсуаза… душа болит, как вспомню. Сегодня вечером я думала о ней, о том, как мы друг друга понимаем. С ней я чувствовала, что живу, открывалось столько прекрасных возможностей, и вдруг у меня ее отняли. До сих пор так бывало всегда: всех, в ком я видела целый мир, уникальный, суливший простор для развития, — я лишалась, прежде чем успевала испытать это счастье. Потом я себя упрекала, раздумывала и решала, что, может быть, виновата сама: не умела вовремя распознать тех, кто был рядом, и сожалела, потеряв их. После этого последнего удара стараюсь получше вглядываться в родных, больше разговариваю с ними и, кажется, немало черпаю в них тоже. Сегодня вечером, возвращаясь домой, услыхала на лестнице, как кто-то играет на пианино. Я подумала, что это дама с первого этажа. Но чем выше поднималась, тем громче становился звук. На третьем этаже я догадалась: это играет мама, наверное, с тетей Жер. И непроизвольно улыбнулась. Когда же дошла до нашей площадки и уже точно убедилась, что это мама, расплылась окончательно. Увидь меня мама, она бы сказала, что я
beaming over[186] как когда-то в детстве, когда нам с Жаком удавалось учинить какую-нибудь
glorious mess[187]. Такая внезапная, бесконечная радость захлестнула меня, когда я поняла, что мама снова села за пианино — ради меня, чтобы играть со мной, нарушая мертвую тишину дома. На мгновение мне стало жаль: она, верно, задумала преподнести мне сюрприз и, если я сейчас позвоню, поймет, что я уже слышала. Но это дурное чувство. Незачем мне жалеть маму. Хотя теперь я знаю: то была не жалость, а нежность; буйная радость и чистая благодарность заставили меня позвонить без всякого лукавства; вышла мама, и в душе осталось только ликование.
Но, несмотря на это, мне страшно не хватает Франсуазы и Жана.
Я заболталась, а хотела сказать совсем не то.
Итак, я должна писать, чтобы потом, позднее люди увидели, что это было за время. Знаю, многие смогут послужить более достойным примером, поведать о более страшных вещах. Я имею в виду всех, кто был депортирован, кто томится в тюрьме, кому выпал тяжкий опыт изгнания. Но это не дает мне права быть малодушной, каждый может внести свою малую лепту. А если может, значит,
должен.
Вот только у меня нет времени писать книгу. Ни времени, ни необходимого душевного равновесия. Нет и нужной дистанции. Все, что я могу, это записывать тут факты, чтобы когда-нибудь, если захочу пересказать или описать их, эти записи освежили мне память.
Помимо всего прочего, вот я пишу уже целый час и замечаю, что это огромное облегчение, так что решено: буду заносить на эти страницы все, что будет скапливаться у меня в душе и в голове. Пока же прерываюсь, чтобы остаток вечера побыть с мамой.
Воскресенье, 10 октября, 21 час
Прогулка. «Волчата» и женщины с желтой звездой. Жан О., Эдмон Б. «Тибо».
Понедельник, 11 октября, утро
В семь утра раздался пронзительный звонок. Я сразу подумала, что это пневматичка от мадам М. И правда, Элен
[188] зажгла свет и подала мне письмо. С Анной мадам М. не встретилась, но в письме была другая новость, которая так взволновала меня, что я должна записать ее, чтобы взять себя в руки: мужа и дочь мадам Лёб арестовали на юге. Она была совершенно спокойна за них, хотя с трудом решилась на разлуку с дочерью. А теперь ей самой приходится бессильно наблюдать за их мучениями.
И снова я погрузилась в тяжелые мысли, уже ставшие привычными. Почти час лежала в постели, и в голове вертелись одни и те же тревожные вопросы. Думала, обливаясь холодным потом, о Жаке, Ивонне с Даниелем, о Денизе и о папе — за него я тоже боюсь.
Для чего? Какая может быть польза от ареста женщин и детей? Что за дикая нелепость для воюющей страны заниматься такими вещами! Но все сейчас настолько ослеплены, что не замечают простой логики, заставляющей задаться таким вопросом. Работает какой-то скрытый адский механизм, а перед нами только результаты: с одной стороны, продуманное, организованное, рациональное зло (хотела бы я знать, чего больше у Б.: фанатизма или холодного расчета), с другой — ужасающие страдания. И никто уже не задумывается о вопиющей бесполезности, не видит исходной точки, первичного рычага этой чудовищной машины.
Мамино возмущение обратилось на мадам Агаш. А в ее лице — на пассивность католиков. И она совершенно права. Католики утратили способность свободного суждения и делают, что скажут их священники. А те — всего лишь слабые люди, часто трусливые и ограниченные. Ведь если бы весь христианский мир поднялся против этих гонений, разве он не одержал бы верх? Я уверена, так бы и было. Но он должен был подняться еще раньше, против войны, однако не сумел. Разве Папа, остающийся равнодушным к тому, как злостно попираются заветы Христа, достоин быть его земным представителем?
Разве католики заслуживают звания христиан — ведь если бы они следовали слову Христову, для них не должно было существовать то, что называется религиозными и даже расовыми различиями?
Вот они говорят: разница между вами и нами в том, что мы верим, что Мессия уже явился, а вы его все еще ждете. Но что они сами сделали с Мессией? Они не стали лучше, чем были до его прихода. Они распинают Христа каждый день. Явись он снова сегодня, разве он не сказал бы им то же, что и прежде? И быть может, его постигла бы та же участь, как знать?
В субботу я перечитывала главу из «Братьев Карамазовых» о великом инквизиторе. Нет, Христа бы отвергли, потому что он вернул бы людям свободный выбор, а это слишком тяжело. «Завтра же я сожгу тебя на костре», — сказал великий инквизитор.
В субботу же я читала и Евангелие от Матфея и хочу сейчас сказать всю правду, к чему скрывать? Я не нашла в словах Христа ничего, что отличалось бы от тех моральных правил, которые я инстинктивно стараюсь соблюдать. Мне показалось, что я могу считать Христа своим не меньше, чем иные правоверные католики. Я и раньше временами думала, что я ближе к Христу, чем многие христиане, теперь же получила доказательство.
Что в этом удивительного? Ведь все люди должны быть учениками Христа, как же иначе? Если непременно нужно, давать какие-то названия, то весь мир должен быть христианским. А не католическим, не таким, во что его превратили люди. С самого начала было лишь одно, единое движение к истине. Но люди с каждой стороны, как на грех, проявили необъяснимую узколобость, которая помешала им увидеть это. Одни не приняли Христа, хоть он пришел для всех, и это были не «евреи», ибо в то время евреями были все, а глупые и жестокие люди (сегодня их с таким же основанием можно назвать «католиками»). Их потомки упорно шли своим узким путем и этим упорством кичились — они-то и считаются сегодня «евреями». Другие завладели Христом; сначала это были люди убежденные и просветленные, а те, кто их сменил, присвоили его как свою собственность и при этом опять стали такими же злыми, как раньше.
На самом же деле было лишь единое, постепенное продвижение, эволюция. Меня поразило в Евангелии слово «обратиться». Мы придали ему определенный смысл, которого прежде оно не имело. «Злой обратился», — сказано в Евангелии, то есть он изменился, стал добрым, послушав Христа. Для нас же сегодня «обратиться» — значит перейти в другую религию, в другую церковь. Но разве во времена Христа были разные религии? Что еще было, кроме почитания Господа? До чего же мелочны стали люди, думая, что становятся умнее!
Понедельник, вечер
Утром была в Нейи, после обеда расставляла книги в библиотеке.
К ужину пришла мадам Кремье. Больно думать о ней! Какими разнообразными бедами оборачиваются для каждого отдельного человека одни и те же меры! Совсем молодая, она вот уже полтора года живет в своей квартире одна, без детей.
Вторник
Водила пятерых малышей, самых милых и хороших, на ул. Ламарка
[189]. Знали бы люди в метро, что это за дети! Поезд напоминает им только одно: как их переправляли в лагерь или из лагеря; на встречного полицейского они показывают пальцем и говорят: «Такой же вез меня из Пуатье». «Пустите детей приходить ко Мне!» — сказал Христос.
В четверть третьего на кладбище Монпарнас хоронили Робера. За последнее время я уже второй раз иду туда на похороны. Гроб был накрыт красной мантией
[190]. Жюльен Вейль
[191] читал над ним молитву. В последний раз я видела его на свадьбе Денизы. Каким переплетением радостей и бед стала жизнь — я пишу «стала», потому что, мне кажется, в моем возрасте пробуждение мысли как раз и заключается в открытии этой неразрывности… думаю о «доме Китса»
[192].
Ките — поэт, писатель и человек, с которым у меня сейчас самая непосредственная и глубокая связь. Уверена, что сумею полностью понять его.
Сегодня (в среду) утром выписала несколько его фраз, которые могли бы послужить сюжетом для эссе, каждой из них мне хватило бы на несколько страниц, где я говорила бы о своем.
Вчера вечером почти закончила «Семью Тибо»
[193]. Не выходит из головы Жак — какой печальный, но неизбежный конец. Прекрасная книга, в ней, как в Шекспире, есть красота истины; по этому поводу я тоже хотела бы написать эссе, предпослав ему цитату из Китса: «Совершенство всякого искусства заключается в силе его воздействия»
[194].
Четверг, 14 октября
Отвезла малышей и Анну в больницу Ротшильда удалять аденоиды. Вернулась домой обедать в два часа и уже не застала Франсуа. А в половине третьего опять ушла — Спаркенброк в письме попросил встретиться с ним в институте, чтобы он мог вернуть мне
Peacock Pie[195].
Начало нового учебного года в Сорбонне. Но в этом году я почти не нахожу в себе того радостного чувства, какое возникало у меня раньше при виде возвращающихся студентов и при мысли о том, что кончились летние каникулы, время, когда два года подряд жизнь вокруг меня как будто замирала. Теперь я больше не студентка.
Пока ждала Спарка, поболтала с одной знакомой, получившей степень агреже. Спарк пришел с Казамианом. Я ненадолго снова очутилась в этом волшебном царстве. Но теперь уже не принадлежу ему целиком. Мне кажется, что, пребывая в нем, я предаю свое новое «я».
Четверг, 14. Продолжение
Вечером заходили Леоте.
Пятница
Урок немецкого.
Дом престарелых. Урок английского Симону.
Суббота
Утром была в больнице Сен-Луи. Наблюдала и помогала при лечении чесотки. Девочка трех лет. Она плакала — хотела, чтобы я ее держала на руках. Зато всякий раз, как я заговаривала с ней в метро, она награждала меня ангельской улыбкой.
Приходили гости — муж и жена Блоны, они от меня очень далеки; с ней чувствуешь себя в мелкобуржуазной среде, как в романах Бальзака или Флобера. Поначалу это кажется забавным, но вскоре становится очень скучным.
Воскресенье, 17 октября
У нас обедал Жорж.
Улица Рейнуар. Музицировала у Денизы. Брейнар проводил меня до метро. До чего же он далек от нас! Вернулся с каникул, был на озере Анси
[196]. Я уже никому не завидую и из чистой гордости не хочу даже пытаться дать кому-то почувствовать, насколько они бесчувственны (впрочем, это было бы нелегкой задачей), потому что не хочу, чтобы меня жалели. И все же больно видеть, как далеки они от нас. На мосту Мирабо он сказал: «Неужели вас не тяготит, что нельзя выходить по вечерам?» Боже мой! Он считает, что нас заботит только это! Да это давно пройденный этап! Я и думать об этом забыла, отчасти потому, что никогда и не была такой уж светской, но главное, потому, что мне известно: есть вещи пострашнее.
Я возмущаюсь тем, что он ничего не понимает. Но иногда стараюсь поставить себя на место постороннего человека. Как он должен видеть положение вещей? Для какого-нибудь Брейнара все сводится к лишению светских развлечений. Однако он уже два года встречается с нами каждую неделю! Нет, по-моему, это доказывает, что он непробиваемый, толстокожий эгоист.
Вторник, 19 октября, утро
Проснулась все с тем же: мне не дает покоя мысль о полном непонимании со стороны окружающих. В конце концов, может, я хочу невозможного? Вчера в Сорбонне разговаривала с одной знакомой — мадам Жиблен. Она очень милая женщина, но между нами — пропасть неведения. А знай она, я все же думаю, ее бы это ужасало так же, как меня. Вот почему я тысячу раз неправа, что не даю себе труда, пусть очень тяжкого, все рассказать, встряхнуть ее, заставить понять.
Но все во мне противится этому усилию, и, прежде всего, я ненавижу вызывать жалость к себе (а в то же время постоянно стараюсь добиться, чтобы они поняли и хоть немного устыдились). И вот тут постоянно натыкаешься на серьезное препятствие: люди так устроены, что собеседник поймет вас, только если вы дадите ему непосредственные доказательства, то есть такие, которые касаются именно вас; его не проймешь рассказом о других, он будет тронут только вашей, вашей личной участью. Он что-то начнет понимать, когда услышит о ваших бедах, и никак иначе. И что же получается? Я со стыдом замечаю, что сбиваюсь на ложный путь и сама оказываюсь в центре внимания, тогда как важны только чужие страдания, это принципиально, ведь речь идет о тысячах судеб; а я с ужасом замечаю, что вызвала в собеседнике жалость (что гораздо проще, чем добиться понимания, которое затронет все его существо и заставит в корне измениться).
Как разрешить эту дилемму?
На свете мало душ, столь благородных и отзывчивых, чтобы они могли охватить проблему в целом, не просто усмотреть в твоем рассказе отдельный случай, а разглядеть за ним море человеческих страданий.
Для этого нужна острота ума и чувства, мало увидеть, надо еще и почувствовать, как больно матери, у которой отнимают детей, женщине, которую разлучили с мужем; какое невероятное мужество требуется каждому узнику каждый день, какие моральные и физические мучения ему приходится терпеть.
И наконец, я думаю, не стоит ли разделить всех на две части: в одной будут те, кто не может понять (даже если знают, если я им рассказывала; впрочем, тут, видимо, есть и моя вина — я не умею убедить их), в другой — те, кто может. И отныне отдавать свою любовь и предпочтения этой второй части. Словом, отвернуться от части человечества и отказаться от мысли, что любого человека можно исправить.
В категории избранных окажется тогда много простых людей, людей из народа и очень мало тех, кого мы называем «наши друзья».
Едва ли не самое большое открытие последнего года — это чувство отрешенности. Большой вопрос: как преодолеть пропасть, которая теперь отделяет меня от каждого встречного.
* * *
Чем больше вокруг людей, которые от нас зависят, потому что мы их любим или даже просто знаем, тем больше страданий выпадает на нашу долю. Страдать самому — пустяки, и я никогда не стану из-за этого жаловаться; ведь каждое сиюминутное страдание — повод для того, чтобы успешно преодолеть себя. Иное дело — боль за других, за близких и всех остальных.
Я понимаю, как терзается мама, ее мучения сильнее многократно, они возрастают во столько раз, сколько жизней зависит от нее.
«Здоровье и хорошее настроение в их беспримесном виде даются только эгоистам — у того, кто много думает о друзьях, не может быть хорошего настроения»
[197]. Ките. Письмо к Бейли.
Понедельник, 25 октября 1943
Прочла вчера вечером в «Эпилоге» «Семьи Тибо»:
«Он… разразился пышной тирадой о различных фазах войны, начиная с момента вторжения в Бельгию. Отцеженные, сведенные к четким схемам события следовали одно за другим с впечатляющей логичностью. Казалось, речь идет о разборе шахматной партии. Война, которую Антуан прошел сам, день за днем, отступила в прошлое и предстала перед ним в своем историческом аспекте. В красноречивых устах дипломата Марна, Сомма, Верден — все эти слова, которые раньше вызывали в Антуане свои, живые, личные трагические воспоминания, вдруг лишались реальности, становились параграфами какого-то специального отчета, названиями глав какого-то учебного пособия, предназначенного для будущих поколений»[198].
Вот что давно не дает мне покоя: эта разница между тем, что есть, и тем, что было, превращение настоящего в прошлое, отмирание многого, еще недавно живого. Мы сейчас живем в большой истории. Те, кто, как Рюмель
[199], облечет теперешнюю жизнь в слова, смогут по праву гордиться собой. Но будут ли они знать, сколько человеческих страданий вмещает каждая строка этого описания? Сколько душевного трепета, сколько слез, крови, треволнений она таит?
Как подумаешь о будущем — кружится голова. Еще когда я была совсем маленькой, я мучительно думала, куда денется внешний мир, когда исчезну я. Нет, я неловко выразилась. Скажу яснее (насколько мне удастся передать сегодня тогдашнее острое ощущение): «Будет ли все это существовать, когда я умру?» Этот вопрос мгновенно вызывает чувство страшного одиночества. В детстве оно меня ужасно терзало. Теперь, когда я более или менее привыкла жить среди людей, несколько притупилось.
Я думаю об истории, о будущем. О времени,
когда мы все умрем. Жизнь так коротка и драгоценна. А сегодня, когда на моих глазах все вокруг тратят ее попусту — преступно или бессмысленно, за что держаться? Если каждую минуту сталкиваешься со смертью, все теряет смысл. Сегодня вечером я думала об этом на проспекте Ла Бурдоннэ, проходя мимо до отказа переполненной гостиницы. «Достаточно одному человеку швырнуть сюда бомбу, чтобы в отместку расстреляли двадцать, целых двадцать невинных человек, у них отнимут жизнь ни за что ни про что; среди них можем Очутиться и мы — возьмут и устроят облаву во всем квартале, как было в Нейи…» А тот человек и не подумает об этом, потому что не сможет, потому что в ту минуту его разумом будет владеть страсть, потому что невозможно думать обо всем.
С недавних пор я опасаюсь, что меня уже не будет, когда вернется Жан. Иногда я еще могу вообразить, что он вернулся, и думать о будущем. Но если не отрываюсь от реальности и ясно вижу, что происходит, мне становится страшно.
Это не значит, что меня что-то
пугает, я не боюсь того, что может случиться со мной; думаю, я смогу это принять, как уже приняла много ударов, и характер у меня не такой, чтобы бояться испытаний. Но я боюсь, что не исполнится, не сбудется моя заветная мечта. Боюсь не за себя, а за счастье, которое могло бы быть.
Рассудок говорит: это страх не напрасный, не вздорный, не «бредовые выдумки» и не метания, которые годятся для романа. Меня подстерегает столько опасностей — странно, как это до сих пор мне удавалось избегать их. Думаю о Франсуазе и не могу избавиться от щемящего чувства: в ту облаву… почему она, а не я?
Удивительно, но такое оправдание моего страха, подтверждающее, что он вполне реален, обоснован и рационален, вместо того чтобы усиливать мою тревогу, умеряет ее, делает не столь мистической и страшной и превращает в печальную и горькую уверенность.
Среда, 27 октября
В понедельник утром на бульваре Бомарше были без малейшей «причины» арестованы двадцать пять семей. Квартиры тотчас опечатали. Если это случится с нами, я бы хотела спасти свою скрипку, красную папку, в которой хранятся письма Жана и эти листки, и несколько книг, с которыми я не смогла расстаться.
Иногда я думаю, что держать их здесь — большая глупость, и тут же сама себе возражаю: «Ладно, только вот эти!» Каждая из них чем-то особенно дорога мне. Вот «Братья Карамазовы». Сама мысль о нескольких строчках на титульном листе — дорога бесконечно. Я знаю, что они тут, в библиотеке, как живое доказательство, и я всегда могу взглянуть на них. Вдруг вспомню — и вспыхнет теплый огонек в окружающем холоде.
Другие книги попросту незаменимы. Я вижу их за стеклом средней дверцы: «Воскресение», «Прометей» Шелли, «Джуд Незаметный»
[200] и ниже: «Фриленды» Голсуорси, «Островная магия»
[201], где так хорошо описаны дети, «Ветер в ивах»
[202], две книги Моргана, «Прощай, оружие», три пьесы Шекспира в переводе Порталеса, проза Гофмансталя, рассказы Чехова, «Подросток» Достоевского, сборники Рильке, мой Шекспир, а на каминной полке «Алиса в Стране чудес» и сонеты Шекспира, которые Дениза и Франсуа подарили мне в день их помолвки.
Написала: две книги Моргана. И тут же заныло сердце — я вспомнила, что «Спаркенброк», которого я давала, мадам Шварц, так и остался в нижнем ящике ее стола. Боль в сердце не из-за потери книжки, а из-за нового воспоминания о мадам Шварц. Память о той нашей работе и моих подругах не оставляет меня никогда. Но иногда какая-нибудь мелочь вдруг снова кольнет и заставит еще острее почувствовать или, вернее, иначе, под новым углом зрения увидеть все, что произошло. Так было в тот день, когда, держа за руку маленького Андре Кана, моего любимчика из Нейи, черноглазого, белокурого и розовощекого, я думала о нем и его матери и внезапно мне пришло в голову, что дети мадам Шварц сейчас в таком же положении — их родителей тоже депортировали, все точно так же, — и от этой мысли мне стало невыносимо больно.
Наверное, вот так потом и
образуется прошлое: беда моих малышей в тот момент была для меня реальным фактом, чем-то, что я приняла и осознала, а беда Пьера и Даниеллы Шварц
[203] — еще нет. Пройдет время, и разница сотрется, то и другое станет неоспоримо свершившимся.
Часто на улице меня пронзает мысль о Франсуазе, хотя я не перестаю думать о ней, и мое нынешнее, неизменно мрачное настроение объясняется в немалой степени именно тем, что, ее тут больше нет. Она совсем не была готова к такой участи и не желала ее, она так любила жизнь и была привязана к ней множеством нитей — я думаю о ней невольно, и не потому, что плохо мне самой; думаю, как ей сейчас плохо и как она страдает, вырванная из привычной жизни. Не знаю почему, но я уверена, что она ждала этого меньше, чем я, и ей будет труднее с этим смириться.
А я, стану ли я роптать, когда придет мой черед? Не столько фатализм меня смиряет, сколько смутное чувство, что каждое испытание имеет некий смысл, что оно предназначено мне и что я выйду из него, став чище и достойнее перед лицом своей совести и, может быть, Господа Бога, чем
прежде. Так мне всегда казалось, и я всегда стыдилась и отворачивалась от
прежней себя, такой, какой была за год или полгода
до того.
Мысли о Франсуазе как-то странно раздваиваются, причем на передний план поочередно выходит то одна, то другая их часть: то я думаю о ее моральных и физических страданиях, то о своем собственном горе — о том, что я потеряла что-то поистине драгоценное, ведь я действительно очень любила Франсуазу и знала, что она меня тоже любит. Эта взаимная приязнь была такой нежной, такой живой и светлой!
Теперь вокруг меня пустыня.
Никто никогда не узнает, чем были для меня эти лето и осень. Никто не узнает, потому что я продолжала жить и действовать, но, о чем бы ни думала, никогда не чувствовала себя по-настоящему самой собой, и каждая мысль причиняла боль. Мне не пришлось еще испытывать телесных мук, и один Бог знает, придется ли. Но сердце и душа и все мое существо живут в постоянных мучениях. Никто не узнает, даже самые близкие люди — ведь я не говорю об этом ни Денизе, ни Николь, ни даже маме.
Слишком о многом
нельзя сказать, ничто не заставит меня заикнуться о боли, причина которой — Жан; потому ли, что я храню это в себе и никто не должен в это вмешиваться, потому ли, что какая-то застенчивость не дает мне и самой себе об этом говорить. Попробую объяснить это чувство: иногда я не решаюсь занять это новое место, новую ступень в моей жизни — из-за недоверия к себе и инстинктивного отвращения к тому, чтобы
show off[204], строить из себя невесть что.
Но и это не вся правда. А правда в том, что Жана уже год как нет и я страдаю так долго и так сильно, что не остается никаких сомнений: благодаря ему я действительно стала другой, нисколько не рисуюсь и не выдумываю своих чувств из головы.
У меня очень мало точек опоры. Вовне — ни одной. И стоит мне подумать о том, как все будет в реальности, как я невольно отступаюсь. Раньше — из-за того, что мне тогда казалось, будто любые практические планы испортят мечту. Теперь же — потому что я
знаю, потому что меня жжет слишком ясное воспоминание о предпоследнем разговоре с его матерью, когда, не считая спора о религии — его я ожидала и не боялась, — она так больно ранила меня, что я этого никогда не забуду: накануне того дня я приехала к ним в Сен-Клу, не помышляя ни о чем дурном, а ее муж, по ее словам, ничего не знал и подумал, что я — просто девица, с которой Жан «флиртует». Какие обидные слова! Они не гордость мою оскорбили, а собственное представление о себе, то, что я сама в себе ценила больше всего, — мою чистоту, которую я тщательно и очень строго оберегала. По-видимому и даже наверняка, она это сделала не нарочно, тем более что до тех пор давала понять, что вовсе не считает меня просто… — не хочу повторять эти слова. Скорее всего, это вырвалось у нее нечаянно, потому что до нее вдруг «дошло», как дошло и то, какие битвы с мужем ей придется выдержать. Но в таком случае, при всем моем желании быть беспристрастной, я должна признать, что ей не хватает деликатности, чувства такта, которое подсказывает, как ваши слова отзовутся в душе собеседника, умения «поставить себя на место других». Для этого она слишком импульсивна или своенравна. Тому есть и другие подтверждения: разве настойчивость, с какой она в отсутствие Жана пытается заставить меня согласиться, что наши дети должны быть католиками (по-моему, это непорядочно, даже безотносительно к моим религиозным взглядам), не доказывает ее полного пренебрежения личностью другого человека? Я, разумеется, не думаю, что она дурно ко мне относится, наоборот, в какой-то мере она меня даже любит, но какая-то она толстокожая. Сама я никогда не стала бы никому навязывать свою веру, поскольку слишком уважаю чужую свободу совести.
Словом, никакой внешней опоры у меня нет. Даже тут, дома — насчет мамы я не уверена. Мы никогда не говорим об этом. Ни мама, ни папа никогда не говорят ни о Жане, ни о моем будущем. Возможно, потому, что я сама об этом не говорю и они не знают, что я думаю; возможно, так оно и лучше.
Да и внутри (в том внутреннем храме, который выстроился во мне за те несколько месяцев, что мы были вместе) мне многого не хватает, я слишком мало его знаю. Кроме того, он принесет с собой новый жизненный опыт, который, конечно, окажется весомым и решающим. Однако же есть некое чудесное пространство, где, стоит мне там очутиться, я нахожу тепло и солнце, — это мысль о нашем глубинном сходстве, о том, как мы понимаем друг друга. Туда стекаются все воспоминания трех месяцев прошлого года.
Я не могу говорить и о другом своем горе — о разлуке с Франсуазой, его материя слишком тонка, а потому невыразима.
Остается еще одно, огромное страдание — боль за других: за тех, кто рядом, тех, кого я не знаю, за всех людей на свете. О нем я тоже не могу сказать, потому что
мне не поверят. Не поверят, что людские страдания не давали и не дают мне покоя каждый день и каждый час и что я ставлю их выше своих личных. А ведь именно это, и ничто иное, так резко отделяет меня от лучших друзей. Именно в этом причина той тягостной неловкости, того отчуждения, которое непременно возникает, с кем бы я ни заговорила. Неловкость, недопонимание в общении даже с хорошими знакомыми, даже с друзьями — такова расплата за то, что мне плохо от чужих страданий.
Одному Богу известно, чего мне стоит такая расплата, — ведь я всегда и всей душой стремилась отдавать себя другим людям: товарищам, друзьям! Теперь же вижу, что это невозможно — жизнь воздвигла барьер между мною и ими.
И наконец, последнее, впрочем, это уже не столько страдание, сколько жертва, которую я приношу из чувства долга, хоть не могу не понимать, как много значит для меня отказ от работы, от серьезных занятий музыкой, то есть от того, чтобы развивалась важная часть моего существа.
But that is nothing[205]. Это совсем не трудно.
* * *
Многие ли в двадцать два года вынуждены сознавать, что могут в любую минуту лишиться всех задатков, которые ощущают в себе, — а я без ложного стыда скажу, что чувствую, как велики они во мне, и в этом нет моей заслуги, это всего лишь посланный мне дар; что у них могут все отнять, — сознавать это и не роптать?
* * *
Странное противоречие.
Когда я рассуждаю с позиции, общей для всех: всех «нормальных» людей, всех, кто «может» дожить, то думаю, что война скоро кончится — еще каких-нибудь полгода. Что такое полгода по сравнению с тем, что мы уже прошли?
Но внутри у меня, в моем собственном мире сплошной мрак, тревога, меня преследует мысль о неизбежном испытании. Кажется, огромный темный туннель отделяет меня от того мига, когда я снова выйду на свет, когда вернется Жан. Для меня это символ: чтобы возродилось счастье, счастье для всех, мало уцелеть мне самой, нужно, чтобы вернулся Жан. Угроза для меня — депортация, а для него — опасности, которые его подстерегают.
Если же мне вдруг удается посмотреть на все вокруг глазами нормальных людей (теперь это случается так редко!), у меня поднимается настроение, светлеет на душе, но в то же время мне не верится, я думаю: «Да разве можно радоваться?»
* * *
Вероятно, уныние охватило меня с тех пор, как окончательно уехал Жан. Мне кажется, теперь со мной может случиться что угодно.
* * *
Вчера ходила в гости к Леоте, внешне старалась быть собою прежней, внутри же полный хаос — ужасно неприятно!
Я знаю, зачем веду этот дневник, хочу, чтобы его передали Жану, если, когда он вернется, меня не будет. Пусть, если я исчезну, он узнает все или хотя бы часть того, о чем я думала без него. А думаю я непрестанно. Это, в сущности, одно из моих открытий последнего времени: я постоянно
сознаю все, что со мной происходит.
Говоря об «исчезновении», я не имею в виду смерть, нет, я хочу жить, насколько это будет в моей власти. Даже в депортации буду упорно думать о том, чтобы вернуться. Если только Господь не отнимет у меня жизнь, или ее не лишат меня люди — это было бы страшно и совершилось бы не по Божьей воле, а по злому человеческому произволу.
Если это случится и если кто-нибудь прочитает эти строки, он увидит, что я была готова к такой участи, не то чтобы заранее смирилась с ней — не знаю, на сколько хватит моих физических и моральных сил сопротивляться тому, что на меня обрушится, — но была к ней готова.
И может быть, читающий дневник на этом самом месте содрогнется, как содрогалась я каждый раз, когда встречала у давно умершего автора слова о его собственной смерти. Никогда не забуду, как, прочтя рассуждения Монтеня о смерти, подумала словно «из другого времени»: «И вот он тоже умер, это совершилось, а он еще тогда думал о том, что будет после его смерти», — мне показалось, будто он обманул Время.
И то же самое в стихах Китса, от которых захватывает дух:
This living hand, now warm and capable.
Of earnest grasping, would, if it were cold
And in the icy silence of the tomb,
So haunt thy days and chill thy dreaming nights
That thou wouldst wish thine own heart dry of blood
So in me veins red life might stream again,
And thou be conscience-calm’d — see, here it is —
I hold it towards you.
[206]
Но я увлеклась, я не такая мрачная, как эти строчки. И никого не хочу тревожить.
* * *
Отдам эти листки Андре. И, как только сделаю это, вероятность того, что Жан их прочтет, станет реальной и существенной. Тогда уже я точно буду чувствовать, что обращаюсь к нему, и не удержусь от искушения перейти от третьего лица ко второму и писать, как писала в письмах: «Жан, вы». Но и это «вы», и все прочие формальности представляются мне чем-то фальшивым, наигранным, как будто это не я говорю, хотя, будь он тут, для меня было бы совершенно естественно говорить ему «вы». Теперь же в душе я думаю или, вернее, чувствую, еще не прибегая к словам, — чувствую, что это мой Жан, и говорю ему «ты», иначе я лгала бы сама себе.
Написала и поняла, что и это неправда. На самом деле я не знаю, как называю Жана в душе, — ведь это происходит на том уровне, где еще нет ни мыслей, ни слов.
Если я напишу «милый Жан», получится, как будто я играю в героиню романа — на ум приходит мисс Триплоу с ее «милым Джимом» из «Марины ди Вецца»
[207], — смешно! Смеяться — вот бы хорошо! Жан так любит смеяться. И я раньше смеялась. Теперь же любой юмор кажется кощунством.
* * *
Выписываю цитаты из «Семьи Тибо» (из «Эпилога»), которые поразили меня также, как «Рука» Китса.
С. 221. Антуан говорит о войне и о событиях, которые разворачиваются на севере: «Буду ли я свидетелем этого? Ужасающая медлительность, с какой в глазах отдельной личности происходят события, движущие историю, — вот что не раз мучило меня за эти четыре года».
С. 239. 1918 г.: «[…я почувствовал интерес к будущему] К тому будущему, которое начнется с окончанием войны. Всякая вера будет утрачена на долгие годы, если восстановленный мир не переплавит, не перестроит, другими словами — не сплотит истекающую кровью Европу. Да, если вооруженные силы останутся по-прежнему основным орудием политики государств, если каждая нация, скрывшись за своими пограничными столбами, будет по-прежнему единственным судьей своих поступков и не захочет обуздывать свои аппетиты; если федерация европейских государств не приведет к установлению экономического мира, как того хочет Вильсон […]; если эра международной анархии не отойдет окончательно в прошлое […]; тогда все придется начинать заново, тогда, значит, вся пролитая сейчас кровь была пролита понапрасну.
Но иной раз исполняются и самые смелые надежды».
Если эти строки были написаны в то время (и даже если написаны позднее, но верно передают его дух), значит, я была права, когда в субботу сказала Жану Пино, как раз когда он давал мне «Эпилог»: «Все безнадежно». Безнадежно вдвойне: во-первых, для нас, а во-вторых, по отношению к сказанному в последней фразе; эту вторую безнадежность почувствуют лишь те, кто, как я, читая, ставит себя на место повествователя и доверяется ему (может, это моя наивность?).
«(Пишу это, словно и я тут буду „при чем-то“…)».
Знаю, что это всего лишь вымысел, что автор не наблюдал свое умирание, как Антуан, но верю, что он смотрел глазами своего персонажа. Я думаю, Мартен дю Гар ничего не придумал, а показал все правдиво, поскольку его талант делает его прозорливее нас. И верю в психологическую достоверность его романа.
С. 270. Жан-Полю: «Особенно мне хотелось бы защитить тебя от тебя же самого. Превыше всего опасайся обмануться на свой счет. Глупо поверить внешнему. Будь искренним даже в ущерб себе […]. Пойми, попытайся понять следующее: для мальчика твоей среды — я хочу сказать развитого, много читающего, живущего с непрерывным общением с людьми умными и свободными в своих суждениях — представления о некоторых вещах, о некоторых чувствах обгоняют опыт. Вы постигаете умом, воображением тысячи чувств, не испытав их на практике, непосредственно. Вы сами не подозреваете; об этом. Вы не отличаете „знать“ от „испытать“. (Ср. у Китса:
sensation with and without knowledge[208]). Вы полагаете, что испытываете такое-то чувство или потребность; на самом же деле вы только знаете, что такие-то чувства и потребности испытываются людьми…»
С. 281: «Не опасайся противоречий. Они хоть и неудобны, но полезны. Именно в те минуты, когда мой разум находился в тисках неустранимых противоречий, именно тогда я чувствовал себя ближе, чем когда-либо, к той Истине с большой буквы, которая вечно ускользает от нас.
И если бы мне было суждено „вернуться к жизни“, я хотел бы, чтобы это совершилось под знаком сомнения».
Шекспировская беспристрастность.
С. 293: «Сохранять свое „я“, не бояться впасть в ошибку. Неустанно, без боязни отрицать себя самого еще и еще. Видеть свои ошибки так, чтобы все ярче становился свет самопознания, все глубже — сознание своего долга».
Вот этому я только что получила самое наглядное подтверждение. Вдруг явилась Элен — попросить, чтоб я вышла к какой-то мадам Сарбор (?), которая уже давно дожидается папу. Ругаюсь про себя, злюсь на Элен — и она уже представляется мне этакой мамзель Агатой из Акселя Мунте
[209]; знаю, что неправа, но ничего не могу сделать со своим раздражением. А оказалось, это мадам Сартори, чудесная эльзаска, которая обожает папу. Раздражение мое тут же прошло (как я и думала), и я устыдилась своей «предвзятости». Мы с ней разговорились. Ее сестра уже сорок лет живет в Эльзасе, у нее пятеро детей, а муж в Савойе — так вот, ее отпустили в Париж всего на неделю, а дети на это время остались в заложниках.
Надо бы обладать способностью смотреть на вещи взглядом судьи, который возвышается над всем и видит обе стороны любого вопроса.
С. 293: «Газеты. Англичане топчутся на месте. Мы тоже, хотя кое-где наблюдается незначительное продвижение. (Слова „незначительное продвижение“ я переписал из сводки. Но я-то вижу, что это означает для тех, кто „продвигается“: похожие на кратер воронки, забитые ползущими людьми ходы сообщения, переполненные перевязочные пункты…)».
С. 245: «У меня никогда не было ни времени, ни вкуса (романтического) вести дневник. Жалею об этом. Если бы мог сейчас, сегодня иметь вот здесь, под руками, записанное черным по белому все мое прошлое, начиная с пятнадцатилетнего возраста, я острее ощутил бы,
что оно действительно существовало; моя жизнь обрела бы объемность, весомость, реальность очертаний, плоть истории; она не была бы чем-то текучим, бесформенным, как полузабытый сон, при пробуждении неуловимый для сознания».
И выше: «Кажется, будто проваливаешься в открытый люк… Я заслуживал лучшей участи. Я заслуживал (самонадеянность?) того „прекрасного будущего“, которое сулили мне мои учителя, мои товарищи. И вдруг, на повороте окопа, струя газа…»
А вот еще отрывок, очень красивый:
«Было так тепло, что около часу я поднялся, чтобы отдернуть занавески. Прямо с постели погружался в прекрасное летнее небо. Ночное, бездонное. […]
Вдруг мне подумалось (и я считаю эту догадку правильной), что астроному, привыкшему жить мыслями в межпланетных пространствах, должно быть, много легче умирать.
Долго-долго раздумывал обо всем этом. Не отрывал глаз от неба. Оно необъятно, оно уходит от нас все дальше и дальше, с каждым новым телескопом. Поистине умиротворяющие мысли! Бесконечные пространства, где медленно движутся по своим орбитам множества светил, подобных нашему Солнцу, и где Солнце, — которое кажется нам громадным и которое, если не ошибаюсь, в миллион раз больше Земли, — есть ничто, всего-навсего одно из мириад небесных тел…
Млечный Путь, звездная пыль, легионы светил, к которым тяготеют миллиарды планет, отделенных друг от друга сотнями миллионов километров! И туманности, откуда возникнут в будущем новые и новые вереницы светил. И все эти кишащие рои миров ничто, ибо и они, как показывают расчеты астрономов, занимают лишь бесконечно малое место в бесконечном пространстве, в том эфире, который, по нашим догадкам, весь изборожден, весь трепещет от излученья под пронизывающим действием сил взаимопритяжения, полностью нам неизвестных.
Напишешь такое, и с воображением уже не совладать. Благотворный вихрь кружит голову. Этой ночью, — в первый раз, в последний, быть может, раз, — я мог думать о смерти с каким-то спокойствием, с каким-то трансцендентным равнодушием. Освободился от страхов, был почти чужд своей тленной плоти. […]
Дал себе слово каждую ночь смотреть на небо ради этой безмятежности».
* * *
В свете открытий современной науки человек — бесконечно малая пылинка, но существует молитва.
* * *
«Эпилог» «Семьи Тибо» великолепен, в нем уже почти нет никакого действия, а в центре внимания остается одно: душа человека (Антуана или любого другого — не важно, но это подлинная человеческая душа), и она показана так, что каждый читатель чувствует, что это касается его лично, потому что это
мог быть он.
На днях ехала в поезде за Шарлем
[210] и поняла, что есть еще две причины, по которым я так люблю эту книгу. Во-первых, этот плачевный конец целой эпохи, описание зияющих брешей, которые война пробила в этой семье и в этом круге людей, — все это, вне всяких сомнений, ждет и нас —
потом.
А во-вторых, как больно становится Антуану, когда он только после того, как Жак исчез, осознаёт, что мог бы его понять. Мне так знакомо это мучительное сожаление: когда сближаешься с кем-то настолько, что, кажется, вот-вот у вас начнется самое чудесное, и тут теряешь этого человека; так было с Ивонной, Жаком, Франсуазой, Жаном.
* * *
Перечитала начало этих записей и заметила, что в них есть две части: одна — то, что я пишу из чувства долга, чтобы рассказать о вещах, которые должны сохраниться в памяти; другая же — то, что пишу для Жана, для себя и для него.
Такое счастье знать, что, если меня схватят, Андре сохранит эти листки, частицу меня самой, то, чем я больше всего дорожу, потому что все материальное потеряло для меня всякую ценность; душа и память — только это важно сохранить.
Приятно думать, что Жан их, возможно, прочтет. Но я не хочу, чтобы это было как в «Руке» Китса. Я вернусь, Жан, я вернусь.
При мысли, что конверт, в который я кладу эти странички, вскроет только Жан, если вообще его когда-нибудь вскроют, — и в редкие мгновения, когда я успеваю осмыслить то, что пишу, меня охватывает волнение: я бы хотела записать все то, что у меня для него накопилось за эти месяцы.
Но осмыслить почти что никогда не получается, постараюсь не упустить такой момент, когда он выдастся.
Четверг, 28 октября, вечер
Прекрасный был денек — ко мне сюда приходили любимые подруги: мадам Лавеню, М.-С. Модюи, Жаннина Гийом и с ними Катрин — послушать английскую речь. М.-С. Модюи — как она напоминает мне Кэтрин Мэнсфилд! — принесла мне репродукцию гравюры-иллюстрации Рокуэлла Кента к «Беовульфу». Недаром меня так поразили его иллюстрации к «Моби Дику» в Американской библиотеке — чутье меня не обмануло. Теперь я больше знаю о Рокуэлле Кенте, потому что она дала мне почитать его книгу о путешествии в Гренландию, которую он сам проиллюстрировал.
Мадам Лавеню — мой большой друг, одна из тех, кто все понимает. Наша дружба завязалась на следующий день после облавы: я была совершенно подавлена, а она пришла сюда ко мне.
Еще заходил Франсуа. Увлеченно беседовал с Жанниной Гийом. Она взяла почитать часть моего диплома, «Охоту на Снарка» и «Ветер в ивах» — обожаю такие обмены.
А сейчас думаю о Жане. Как мне его не хватает и как бы с ним я расцвела.
* * *
Странный день, символ всей моей нынешней жизни. В девять утра приехала в детскую больницу
[211] справиться об одном из своих подопечных, пошла между рядами кроваток, и все малыши привстали с подушек мне навстречу. Дуду
[212] первый меня узнал и улыбнулся, а уж я его узнала по этой лучезарной улыбке, он сильно изменился, стал куда лучше, чем прежде, у него теперь красивые рыжие кудри.
Потом поехала к Кеберу в Сен-Дени. Пока разносила пакеты, разговорилась с одной женщиной из народа и очень расстроилась — она
ничего не знала. По ее мнению, в Париже много евреев — разумеется, с этой звездой они бросаются в глаза, и она мне сказала: «Ну французов же не трогают и вообще забирают только тех, кто что-то сделал».
Такие встречи очень мучительны. Но я не в обиде на эту женщину — она просто
не знает.
После обеда пошла на ул. Бьенфезанс поговорить с мадам Стерн; так грустно: на месте нашего бюро теперь располагается юридическая служба, там сидят адвокаты. Меня никто не знает; И мне это все равно. Они не знают того, что узнала тут я, и мои воспоминания о подругах останутся со мной. Из наших видела только мадам Дрейфус, единственную уцелевшую после разгрома, она все такая же. Она рассказала, что Леа, которой столько раз удавалось избежать опасности, в том числе облавы 30 июля
[213], арестована со всей семьей. Я была потрясена.
Говорили о мадам Самюэль. Ее все-таки депортировали. Казалось, ее оставили в покое как полукровку и беременную, но в конце концов забрали из лазарета и отправили в санитарном вагоне; это какая-то насмешка: чтобы в составе из вагонов для скота какой-то один был санитарным! Депортировать людей в санитарных вагонах — нужно ли более наглядное доказательство чудовищной нелепости нацистской политики?
Какой в этом смысл? Ломаю голову и вижу только один ответ: запущена страшная машина и они бездумно крутят ее ручки.
Каждый раз она хватает и перемалывает все более известных людей. Теперь депортации проходят каждую неделю.
Когда мы с мадам Самюэль говорили о том, что будет после войны, она, единственная из всех моих знакомых, сказала, что прежде всего надо довести правду до сознания немцев, чтобы они прозрели. Она оставила годовалого ребенка, который родился, пока его отец был в Дранси, и с которым она не долго успела побыть, потому что полгода провела в больнице; теперь ребенок с ее молодым мужем — его-то благодаря ей удалось освободить.
Ехала в метро и думала: многие ли смогут понять, каково это было — в двадцать лет, в том возрасте, когда ты готов воспринять всю прелесть жизни и полон доверия к людям, приходится жить в постоянной муке? Понять, какая это была
заслуга (говорю не стесняясь, потому что все про себя знаю) — сохранить трезвый ум и не ожесточиться в этом аду? Думаю, мы стали ближе к добродетели, чем многие другие.
Суббота, 30 октября
Весь день ходила и ходила. Возвращалась пешком с урока немецкого по улицам Сен-Лазар, Ла Боэси, Миромениль, Мариньи и вдоль Сены.
Шла у самой воды, а она оказывает на меня магическое действие — успокаивает, завораживает, дает не забвение, но хотя бы отдых моей перевозбужденной голове. Вокруг ни души. Медленно, беззвучно проплыли две баржи, и только длинные волны, расходившиеся от них в обе стороны, с тихим плеском достигли берега и затихли.
Я думала о Жане. О том, что он приснился мне этой ночью. Это бывает редко, и для меня такие сны драгоценны — как будто мы и правда повидались. Кажется, когда я снова увижу его и оглянусь на все долгое время, пока его не было, мне смутно припомнятся наши встречи в каком-то другом, не повседневном мире.
Однако в этих снах он не является мне в полном смысле слова; будь это так, было бы страшно горько просыпаться: Нет, слабый намек на реальность в них всегда присутствует, ведь что-то всегда мешает мне по-настоящему увидеть его, значит, в глубине сознания я все помню. Вот и сегодня ночью я куда-то ходила, не помню зачем (что-то было срочно нужно), а Жан остался дома один. Я спешила вернуться, но знала: что-то мне помешает, потому что в глубине души знала:
на самом деле все не так. И вот это знание внедрилось в сон и стало его изменять под себя: лифт, в котором я поднималась, сначала проехал до седьмого этажа, а потом пошел вниз, и я никак не могла его остановить. Когда же наконец добралась, уже поднимались гости, и я знала, что теперь уж его больше не увижу. Вошла в свою комнату — он стоит у окна. Обернулся — и на короткий миг он мой; до сих пор помню, как он меня обнимает, я вжалась в его широкие плечи, мне жарко. А дальше — провал, и после я уже сижу на кровати, а посреди комнаты стоит игральный стол (как вчера во время урока с Симоном), и за ним сидят гости (зачем я их пригласила? Всё как в тот день, когда он приходил сюда в последний раз и у меня было чувство, как будто я безуспешно пытаюсь удержать минуты). Там была Николь. Я тяну ее за руку, чтобы она ушла, даю понять, что хочу побыть с Жаном одна. Но Жана уже нет, сон кончился.
Наверное, он мне приснился потому, что вчера звонила его мать; я не очень понимала, что сказать по телефону, и у нее тоже голос был неуверенный. Никаких новостей, она просто сказала, что не забывает меня. Я посетовала, что у меня нет фотографий, и зря, потому что она теперь будет об этом беспокоиться.
Так, глядя на воду, я дошла до моста Альма. И вдруг неожиданно для себя подумала, как мы могли бы жить вместе и я могла бы сделать его счастливым, — мысли невольные и непривычные. Пока что впереди — черная бездна, как ее преодолеть? Поэтому я и не позволяю себе строить такие планы, это было бы
a fallacy[214].
Обедали с мадемуазель Детро, Денизой и Франсуа.‘А потом я снова убежала — в лавку Галиньяни выбрать книгу в подарок Анни Дижон на свадьбу. Захотелось еще пройтись, и опять потянуло на Сену. К самому берегу я не спускалась, шла вдоль парапета по Кур-ла-Рен, топча пахучие опавшие листья. Выглянуло солнце, небо просветлело. Кругом буйство красок: все оттенки золота, медь последних каштановых листьев, изумрудная зелень травы, прозрачно-легкая синева неба, а в воздухе стойкий запах палой листвы и чисто осенняя сладковатая горечь — жгут кучи сухих листьев. Сена вся в чешуйках света, какая-то невероятная, хрупкая, волшебная красота.
На площади Согласия полно немцев! С женщинами — и, несмотря на желание оставаться беспристрастной, вопреки убеждениям (глубоким и искренним!), меня захлестнула волна… не ненависти — она мне чужда, — но гнева, омерзения, презрения. Эти люди, сами того не понимая, отняли радость жизни у всей Европы. Никак не вяжутся они с лучезарной, тонкой красотой Парижа — люди, способные на слишком хорошо нам всем известные жестокости, выходцы из народа, породившего таких тварей, как нацистские вожди; те, кто позволил себя оболванить, превратить в бездушную скотину, безмозглые автоматы с интеллектом не выше, чем у пятилетних детей; это из-за них мне теперь будет становиться тошно всякий раз, когда зайдет речь о любом немце. Мне противен германский характер, претит любое соприкосновение с ним — может, во мне говорит латинский темперамент? Культ силы, гонор, сентиментальность, страсть к преувеличенным эмоциям, вечная беспричинная тоска — все эти черты германского характера возмущают мое естество. Ничего не могу с собой сделать.
Эта неприязнь никак не связана с тем, что имеет отношение лично ко мне, я и не думала сейчас о гонениях на евреев.
Но, когда я зашла под аркады улицы, Риволи и почувствовала, как сильны узы глубокого родства, взаимной любви и понимания, которые связывают меня с этими камнями, небом, со всей историей Парижа, во мне вскипело негодование при мысли о том, что эти люди, эти
чужаки, которым не дано понять ни Париж, ни Францию вообще, заявляют, что я не француженка, считают, что этот город и эта улица принадлежат им.
Купила у Галиньяни отличное издание
Sentimental Journey[215] и
Lord Jim[216] для себя. Если б могла — застряла бы там на несколько часов.
Потом перешла через мост Согласия и дошла до дома Франсуазы — повидаться с Сесиль. Сесиль говорит, что каждый раз, когда видит солнечным утром баржи на Сене, с тоской вспоминает Франсуазу. И я, когда гуляю, все время думаю о ней. Каждый раз, как что-нибудь доставляет мне удовольствие — теперь это не столько удовольствие, сколько
сознание того, что я вижу что-то прекрасное (удовольствие тут ни при чем), — я думаю о Франсуазе, ведь она так любила жизнь, так любила Париж. Мысленно я всегда с ней.
* * *
Может, я создана для бурной жизни? Мне никогда не нравилось, когда все тихо и благополучно, маленькой я вечно была чем-то
discontented[217]. Но после этого потока человеческих страданий я никогда больше не найду покоя, и никогда моей
better self[218] не удовольствоваться собственным эгоистичным счастьем.
И все же я не жалуюсь. Не упиваюсь страданием, как в песни Китса:
— никто не усомнится в том, что оно настоящее.
Я только хочу сказать, что, по-моему, сейчас естественнее горевать, чем радоваться.
* * *
Возможно, поэтому я, в отличие от Николь, не люблю Жида. После «Узких врат» читаю «Имморалиста». Насколько меня восхищала «Семья Тибо», настолько не нравится философия наслаждения жизнью у Жида.
* * *
Меня всюду подстерегают воспоминания о прошлом годе: калитка в Тюильри, листья на воде! Я живу в этих воспоминаниях, и каждый уголок Парижа пробуждает новые.
* * *
Приехал Жан-Поль. Видела его вчера на улице Рейнуар. Ужасно рада за Николь. Наверное, его приезд и навеял мне сон о встрече с Жаном.
* * *
«Семья Тибо» — «Эпилог», глава XVI.
С. 305: «Европа не будет чувствовать себя в безопасности, покуда не вырван с корнем германский империализм. Покуда австро-германский блок не проделает эволюции в сторону демократии. Покуда не будет уничтожен этот рассадник ложных идей (ложных — потому что они противоречат общим интересам всего человечества), рассадник мечты о мировой империи, цинического воспевания силы, веры в превосходство германца над всеми прочими народами и его право подчинить их себе».
С. 310, по поводу речи Виктора Гюго против деспотизма: «Если пятьдесят лет назад уже проповедовалось уничтожение деспотизма и ограничение вооружений, это вовсе не значит, что ныне нужно терять веру в то, что человечество выйдет наконец из тупика».
Не значит? В 1943 году нужно иметь большое мужество и веру, чтобы ставить вопрос также, как Антуан в 1918-м.
С. 313. Жан-Полю: «Так соблазнительно освободиться от слишком тяжкого бремени собственной личности! Так соблазнительно дать себя втянуть широкому движению коллективного энтузиазма! Соблазнительно верить, ибо удобно, в высшей степени комфортабельно! […] Чем запутаннее нам кажутся тропы, тем более склонны мы любой ценой выбираться из лабиринта, цепляясь за любую уже готовую теорию, лишь бы она успокаивала, указывала выход. Всякий мало-мальски убедительный ответ на те вопросы, которые мы ставим перед собой и которые не можем решить сами, предстает перед нами как некое убежище, в особенности если мы полагаем, что ответ этот одобрен большинством. […] Крепись, отвергай штампованные формулы!
Не позволяй завербовать себя! Пусть лучше терзания неуверенности, чем ленивое моральное благополучие, которое предлагают доктринеры каждому, кто согласен пойти за ними!»
С. 347. Священнику: «Почему молчит церковь, почему она не разоблачает войну? Ваши французские и их германские епископы благословляют знамена и поют
Те Deum, возносят хвалу господу за резню…»
Воскресенье, 31 октября, 7.30
Только что разобрали Четвертый квартет Бетховена. Приходила Анник. Несмотря на нашу неуклюжесть, внутренняя мелодия, анданте Так хороши, что меня пробрало до дрожи. Душа моя словно расширилась, вся я наполнилась звуками, и почему-то хочется плакать. Я так давно не слушала эту музыку. Всем сердцем призываю Жана. Это с ним мы слушали квартеты, он научил меня любить их.
Понедельник, 1 ноября
Вчера вечером дочитала «Имморалиста». Кажется, я не понимаю Жида, не улавливаю смысл его книг, потому что он едва намечен, сама проблема изложена не совсем ясно. Зачем Мишель довел жену до смерти? Чего ради? Что позитивного в его позиции? Она даже не выражена определенно.
Кроме того, философия Жида противоположна моей собственной; в его желании от всего получать удовольствие есть что-то
дряхлое, вымученное, рассудочное, эгоистичное.
Он исходит из заранее продуманной схемы, его Я — центр мира, ему не хватает смирения, великодушия. Нет, он мне не нравится.
Даже стиль его мне кажется, так это или нет, каким-то вычурным, манерным, устаревшим. Некоторые фразы коробят своей неестественностью.
Мои мысли бесконечно вращаются вокруг двух осей: первая — человеческое страдание, живое, ощутимое страдание людей, которых арестовывают и депортируют; вторая — разлука с Жаном. Две эти боли слились воедино, одну от другой уже не оторвать.
Я будто ворочаюсь с боку на бок в постели — и так мучение, и этак.
* * *
Утром получила письмо от мадам Кремье, которая пишет: «Я совсем отчаялась». Боже мой, чем я могу ей помочь? Теперь-то мне легко себе представить, что с ней стало за полтора года тревожного ожидания и неизвестности.
Как-то раз, когда нам обеим с Франсуазой захотелось обнять мадам Кремье, Франсуаза сказала: «Знаете, Элен, она так несчастна, ей сейчас так плохо». Франсуаза всегда весело улыбалась, но в голосе ее — так и слышу его до сих пор — угадывалось искреннее сочувствие. Мы тогда удивлялись, откуда у таких женщин, как мадам Кремье, берется столько сил, чтобы вынести чудовищные испытания. Франсуаза говорила, что она похожа на ребенка, у которого отняли все, — да, мне тоже так потом казалось. А теперь вот и сама Франсуаза… Ее веселый, срывавшийся на высокие ноты голос, ее радостный смех тоже смолкли и звучат только в моей памяти. Она еще сравнивала мадам Кремье с мадам Шварц. Сколько зияющих пустот вокруг меня! После облавы 30 июля меня долго не отпускало чувство, что я — единственная уцелевшая после крушения, и в голове звенела и плясала одна и та же фраза. Пришла незваной и преследовала меня, это слова из Книги Иова, которыми заканчивается «Моби Дик»:
And I alone am escaped to tell thee.[220]
Никто никогда не узнает, каким убийственным было для меня это лето.
С той первой высылки 27 марта 42-го (день, когда депортировали мужа мадам Шварц) мы так ничего ни о ком и не узнали. Говорили, будто депортированных отправляют на русский фронт и пускают впереди войск, чтобы они подрывались на минах.
Еще говорили об отравляющих газах, которыми убивают всех, кого привозят составами на польскую границу. Должно быть, это не беспочвенные слухи.
И подумать только, что каждый, кого арестовали сегодня, вчера, даже прямо сейчас, обречен на эту страшную участь. Что это еще не
закончилось, а продолжается и продолжается с какой-то сатанинской регулярностью. И если, например, меня арестуют сегодня вечером (а я давно этого жду), через неделю я буду где-нибудь в Верхней Силезии, а возможно, уже буду мертва, и вся моя жизнь, а с ней вся бесконечность, которую я чувствую в себе, исчезнет.
И так будет с каждым, кого это уже настигло и кто тоже вмещал в себя целый мир.
Понимаете, почему меня так потряс дневник Антуана Тибо?
В эту минуту я смерти не боюсь, потому что думаю, что, когда она придет,
я уже не буду думать. Я сумею выкинуть из головы мысли о том, что я теряю, смогла же я забыть о своих
желаниях.
И вообще, столько вокруг тех, кто каждый день жертвует своей жизнью. Люди внезапно придвинули к нам Смерть, расширили ее зону действия, удесятерили ее силу.
Но мне не хочется представлять себе Смерть в виде какого-то существа, как у Дюрера, как в сознании средневекового человека или у Акселя Мунте. Нет, ее следует мыслить не как отдельную сущность, но как проявление божественной воли.
Вот только это трудно сделать, когда каждый день видишь столько смертей, причиненных людьми. Как будто есть не одна, а две Смерти: та, которую посылает Бог, — «естественная»; и та, которую сотворили сами люди.
А должна быть только одна. Не вправе человек отнимать жизнь у человека.
Ливень Смерти проливается над миром. Убитых на войне называют героями. Ради чего они умерли? Те, кто сражался на другой стороне, были уверены, что защищают то же самое. А ведь каждая жизнь так драгоценна сама по себе.
The pity of it, Iago! о Iago, the pity of it, Iago!
[221]
Многих возмутило бы то, что я пишу. Но, прислушайся они к здравому смыслу и к своему сердцу, разве они пришли бы к чему-то иному? Мне кажется, я не труслива, потому и смею писать такое. Те же, что в ответ на мои слова примется вопить о «мужестве», «доблести», «патриотизме», просто заморочены ложными страстями. Они заблуждаются, они слепы.
Разве и в прошлую войну после двух лет на фронте солдаты не чувствовали себя, как им казалось, «разочарованными», тогда как на самом деле у них просто рассеивались эти ложные страсти? И тогда они признавались, что в них не осталось даже ненависти к бошам и вообще они забыли, что такое ненависть. Об этом говорится в «Жизни мучеников» Дюамеля, в «Эпилоге» «Семьи Тибо», в «Чудесном улове» Пурталеса
[222].
Сами они считали, что на них обрушилась тяжкая глыба роковой неизбежности и сопротивляться бесполезно. Однако эту глыбу раскачали люди, и эта «неизбежность» — дело рук человеческих.
«Жизнь мучеников» подарила мне на день рождения мадам Шварц. Без Жана мой день рождения был, конечно, ущербным, но все-таки его скрасили друзья и письма от него. Теперь же меня лишили всего, я чувствую себя оголенной,
naked to the awaited stroke[223].
Да, после «Жизни мучеников» я упала духом: эта книга написана с предельной беспристрастностью, которую я почитаю более всего, но вид с этой высоты внушает лишь отчаяние. Каково же решение? Быть может, люди пристрастные счастливее, поскольку для них решение, пусть и ошибочное, существует, им понятно, что делать, они знают, кого ненавидеть,
и это гораздо удобнее, чем жить без ненависти.
По-моему, высшая добродетель, к которой может стремиться человечество, это такая вот беспристрастность. А дальше… я пока не знаю, не вижу решения, не могу об этом говорить, по мне, это все равно что рассуждать о загробной жизни. Но предчувствую, что верное решение лежит на этом пути, и первый шаг к нему — беспристрастность.
Вот почему «Жизнь мучеников», хоть в ней не высказано окончательное суждение, очень полезна как урок. Дюамель не дает собственной оценки, он приводит факты, беспристрастно говорит о результатах войны, безумной, свирепой, слепой, и, главное, полностью разоблачает страшное заблуждение, которое лежит в ее основе.
Помню, сначала эта бесстрастность меня удивляла и раздражала. «Ну, и к чему он ведет?» — вертелось в голове. Но со временем я поняла, что в этой книге заложена великая мудрость, которая мне открылась.
«Реальным становится только то, что пережито в действительности: даже пословица — не пословица, пока жизнь не докажет вам ее справедливости»
[224].
Китс.
Выписала эту фразу, никак не связанную со всем предыдущим, потому что она поразила меня сегодня утром, в ней сформулировано главное, что не дает мне покоя: проблема человеческого взаимопонимания и сочувствия. На мой взгляд, из этого проистекает
все.
Это я утром опять штудировала Китса и, как и прежде, очень увлеклась.
Как бесконечно много наша мысль способна охватить за несколько часов!
* * *
Два часа — с Николь.
Все те же люди: Франсуаза Воог, Перец, Элиана Ру.
Вторник, 2 ноября
Утром была с мамой в Нейи.
Дети меня не отпускали — все хотели уехать со мной. Деде Кан горячо сказал — так и вижу его умоляющую мордашку, черные, на диво черные при светлых волосах глаза, всегда готовые заискриться весельем: «Хочу, чтоб ты спала рядом со мной!» Это высшее проявление его любви.
Среда, 3 ноября
Еще одно насыщенное утро — удивительно! Я оказалась свободна. Наконец-то привыкла к хаотичной жизни, приучилась использовать свободные часы, как только они выдаются, и больше ничего не делать по заранее составленному плану. Понадобились все эти потрясения, все обстоятельства, которые уже целый год мешают мне вести нормальный образ жизни, чтобы довести меня до этого, заставить
уступить — я говорю уступить, потому что мало кому так, как мне, претят всякие перемены. Настолько, что я опасалась даже новых развлечений, впечатлений, какими бы соблазнительными они ни были (например, путешествий или непредвиденных событий), потому что они могут внести в мою жизнь беспорядок и еще потому что
я пред ними робела.
Так вот, сегодня утром я занималась в своей старой комнате. Корпела над «Одами» Китса, делала выписки.
Просидела два часа и поняла, как прав Вольф
[225], говоря, что основное свойство поэзии Китса — это сила внушения. Например, когда я прочитала «Оду к осени», она еще долго звучала,
lingered deliciously[226] во мне.
Хочу, чтобы Жану передали еще и мои заметки, особенно большую коричневую тетрадь в картонной обложке, потому что они — такое же мое отражение, как эти листки. Я не успела написать, что думаю сама о Китсе, но мои выписки из литературы о нем точно показывают, что мне в нем нравится или не нравится.
Четверг, 4 ноября
Утром ходила на первое собрание слушателей курса Казамиана.
Вот что я думала перед этим: я начинаю третий учебный год без права заниматься вместе с теми, кто готовится к агрегасьон, просто как «вольнослушатель». Почувствую ли я и на этот раз прелесть первого учебного дня?
Смогу ли вернуться в свою обычную стихию после всего, что пережила этим летом?
Будет ли меня мучить воспоминание о том, как год назад я пришла на первую лекцию и очень огорчилась, что Жана нет (он еще был в Париже)?
А вот мои теперешние впечатления: я полна разных планов, страшно хочется работать, делать задания, писать рефераты. Никакой неловкости я не почувствовала, во всяком случае, гораздо меньше, чем в прошлом году. Может, теперь я прочнее срослась с Сорбонной?
И — как в насмешку! — у меня так мало времени. Как совместить с учебой Нейи и все остальное, занимающее столько времени? Что же делать?
Пока что я не принимаю в расчет никакие препятствия. Взяла на третий триместр тему реферата по Шелли. Сама понимаю, что это одни разговоры, смеюсь над собой, но пусть — это будет забавно, такая веха в непроглядно темном будущем.
* * *
Видела Савари. Совсем как в прошлом году. В это же время. Но он мне решительно не нравится.
Пятница, 5 ноября
Лекция мадам Юшон.
И первый урок у Надин. Прошел год. Такие регулярные возвраты лучше всего размеряют время.
Целый год, и ничего не изменилось.
Суббота
Мадам де ла В. — к ужину, Надин Анрио, музыка у Жобов.
Говорят, по английскому радио передавали какие-то страшные вещи о польских лагерях.
Воскресенье, 7 ноября
Шарль и Симон.
В воскресенье вечером, когда мы с Шарлем сидели вдвоем в малой гостиной, он рассказывал мне, как их арестовывали и его разлучили с родителями, и сказал: «Я даже плакать не мог, так мне было плохо».
Причем говорил без всяких эмоций,
matter of fact[227] тоном. Но он это не придумал, это подлинное воспоминание.
Понедельник, 8 ноября
В библиотеке — приходил немец, спрашивал англосаксонские книги. Знал бы он, к кому обращается! В довершение всего единственный язык, на котором мы могли общаться, был английский — презабавная ситуация!
Мари-Луиза Реж вернулась из Крёза, ходят слухи, что туда прибыли немцы с
пулеметами, чтобы истреблять еврейских беженцев. И постепенно пройдутся так по всем департаментам.
Отвозила Анну в больницу Ротшильда, по пути она рассказала мне про свою двоюродную сестру родом из Польши, которая потеряла на этой войне четверых сыновей. А муж ее умер от отравления газами на предыдущей. Жизнь ее разбита, она отдала Франции всех близких, а теперь скрывается, живет как загнанный зверь, почти помешалась.
Дома меня ждала открытка от того несчастного военнопленного, что все спрашивает, удалось ли мне что-нибудь выяснить про его двенадцатилетнего сына, о котором уже год ничего не известно. Что может быть ужаснее положения таких, как он: они вернутся и не найдут ни жен, ни детей!
Вторник, 9 ноября
Утром отвезла в детскую больницу девчушку двух с половиной лет, похожую на маленькую арабку. В больнице она все время плакала и звала маму — инстинктивно, механически. «Ма-ма!» всегда срывается с губ, когда нам больно и плохо. Я вздрогнула, когда различила эти два слога в потоке рыданий малышки.
Ее мама и папа были депортированы, ее отдали няне, а потом и оттуда забрали! И она месяц провела в лагере Питивье.
Жандармам дали приказ забрать у няни двухлетнего ребенка и отправить в лагерь, и они его выполнили. Вот оно, самое наглядное доказательство нашего нынешнего озверения, полного морального падения. И это самое ужасное.
Страшно, что моя реакция — протест — на происходящее остается исключением, тогда как все должно быть наоборот: отклонением от нормы должны считаться они, те, кто
способен на такие вещи!
Оправдание всегда такое же, как то, что дал мадам Коэн полицейский инспектор, явившийся в ночь на 10 февраля в приют, чтобы арестовать тринадцать детей, старшему из которых было тринадцать, а младшему пять лет (родители их были депортированы или пропали, но надо было укомплектовать очередной состав, где не хватало нескольких человек до тысячи): «Что вы хотите, мадам, я исполняю свой долг!»
Дойти до того, чтобы считать своим долгом нечто несовместимое с совестью, справедливостью, добром и милосердием, — это несомненный крах всей нашей так называемой цивилизации.
Ладно еще немцы — там уже у целого поколения старательно развит рецидив варварства (у них это повторяется периодически). Так что мозги у них атрофировались. Хотелось, однако, надеяться, что с нами такое не пройдет.
* * *
Ужасно еще и то, что мы почти не видим тех, кто всем заправляет. Система так отлажена, что ответственные лица показываются мало. А жаль, иначе протест был бы шире.
Или мне так кажется, потому что я смотрю извне? Ведь нужно же хотя бы минимальное количество людей, которые все организуют и осуществляют.
* * *
Однажды на улице мне пришло на ум: «Нет, неверно, что немцы — народ художников, раз они изгоняют таких, как Менухин и Бруно Вальтер
[228], раз отказываются слушать виолончелиста, потому что он другой веры или, как они утверждают, другой расы. Отказываться читать Гейне… не укладывается в голове».
Среда, 10 ноября
Страшно беспокоюсь за близких. Возвращалась сегодня после встречи с мадам Моравецки, вконец уставшая за день, но прижимая к груди пачку мыла, которую Жан мне прислал через мать; оно лавандовое, этот запах сохранился у него на руках, когда мы расстались, а внутри была еще бумажка — память о другом мыле (о том, что я посылала ему в прошлом году). Это лучше всего доказывало, что, несмотря на разделяющее нас молчание, он думает обо мне. Еще у меня есть его последняя фотография.
Папа прочел мне зашифрованное письмо Ивонны
[229]. Она пишет о разъезде. Я сразу поняла. Разговор с Мари-Луизой Реж открыл мне глаза, так что трудно было не догадаться. Они будут действовать методично: департамент за департаментом. Боюсь, и новое убежище окажется ненадежным.
Мы тут уже привычные, и так хочется защитить других — как их, должно быть, ошарашило. А что делать, если все убежища рухнут одно за другим?
Не станет и маленькой тихой гавани, где письма и фотография Жана могли бы укрыть меня хоть на краткий миг. Но я больше беспокоюсь за других. Сама не жалуюсь и ни о чем не жалею. Чем суровее испытание, тем, может быть, лучше.
Ну и денек! Была на свадьбе Анни Дижон в Сен-Жермен-де-Пре и потом на банкете. Там были Пино (и еще много знакомых). Теперь мне всегда грустно после встречи с Пино. И свадьбы утомляют и удручают.
Пятница, 12 ноября
После обеда примчалась разъяренная мадам Агаш — она узнала, что молодую мадам Бокановски, которую поместили в больницу Ротшильда вместе с двумя грудными детьми, увезли в Дранси, где уже давно находится ее муж. Она была вне себя и все спрашивала маму: «Как? Они депортируют детей?»
Не могу передать, как тяжело мне было видеть, что до нее
дошло только теперь, когда дело коснулось ее знакомых. Мама, видимо, почувствовала то же самое и ответила ей: «Мы уже год твердим вам об этом, а вы не хотели верить».
Не понимать, не ведать, даже когда знаешь, — значит держать закрытой дверь в свою душу; и, только когда она распахнется, человек по-настоящему осознает хотя бы часть того, о чем пассивно знал. Это самая большая трагедия нашего времени. Никто ничего не знает о чужих страданиях.
И я подумала: как могут говорить о христианском милосердии те, кто неспособен на сострадание и братскую любовь? Разве вправе они считать себя посланцами Христа, самого рьяного социалиста в мире, чье учение основано на равенстве и братстве всех людей? Да им вообще неизвестно, что такое братство. Жалость — да, пожалеть они могут, по-фарисейски, потому что жалость подразумевает превосходство и снисхождение. Нужна не жалость, нужно
понимание — понимание, которое позволит им почувствовать всю глубину, всю неизбывность человеческого страдания, чудовищную несправедливость такого обращения с людьми и разбудит протест.
Мысленно я говорила мадам Агаш: «Теперь вы понимаете, почему мы в тревоге и скорби? Мы страдаем за других, за всех людей, а вы просто жалели тех, о ком слышали».
Но разве она хоть когда-нибудь видела, что творится у меня в душе? Она всегда видит меня спокойной, занятой сотней разных дел. Так что это и моя вина. Моя внешность вводит людей в заблуждение. Мне бы решиться показать себя такой, как я есть, отбросить стыдливость или гордость, заставляющую меня все еще выглядеть как все, и не принимать их жалости; решиться выказать свое смятение, ради того чтобы добиться своей цели: обнажить страдание во всех его видах.
Мне часто кажется, что я играю роль, тогда как должна бы не притворяться спокойной, а обнажать и углублять пропасть, отделяющую нас от других людей, не делать вид, что ее нет, не отворачиваться от нее из деликатности, как мне нередко случается, чтобы они не подумали, будто я их упрекаю.
Если бы люди знали, как истерзано мое сердце!
Вчера из больницы забрали сорок четыре больных, в том числе одного с последней стадией туберкулеза, двух женщин с дренажами в животе, одну потерявшую речь, одну на сносях и мадам Бокановски.
Но зачем? Зачем депортировать таких людей? Это же нелепость. Чтобы они работали? Они же умрут по дороге.
Боже мой, какой ужас! Вокруг густой мрак, и я не вижу выхода. Я готова выслушать самые жуткие рассказы, вобрать всю боль, но я не знаю, как быть, все слишком страшно.
* * *
Теперь я уже справилась с этим чувством, подавила его как не имеющее право на существование. Но перед ужином у меня мелькнула мысль: что плохого в желании очутиться наконец в тихой гавани, среди любви и ласки? Чтобы меня холили и лелеяли, чтобы расплавились доспехи, которыми я, одиночка, заслонялась от бури. Или нет, плавиться нечему, но придется оживлять глубинные пласты. Настанет ли день, когда я перестану быть одна,
captain of ту soul[230] когда мне можно будет окунуться в материнскую (как ни парадоксально это прозвучит!) нежность Жана? Хочу, чтобы меня качали, как ребенка. Пока что я сама забочусь о детях. А потом мне понадобится много, очень много нежности. Тем больше, что сейчас мне этого нельзя.
Я не могу просить участия у мамы, ее душа — такой же раскаленный уголь, как моя. Я нахожу в ней свою боль, свою печаль, в страдании все равны, так что и мы с ней ровня, хоть она мне мать. Когда она сажает меня на колени и тихонько обнимает, я только плачу. Но легче не становится — утешить меня, знаю, она уже не может.
Неделю назад я горела желанием взяться за работу. Но оно быстро прошло. Да я и понимала, что это лишь иллюзия. Ее рассеял один случай, сам по себе пустяковый, но многое обнаруживший. Вчера я вернулась из Сен-Дени только в четверть восьмого и потому опоздала на занятие к Делатру. А он отдал тему, которую я наметила, другой студентке. Я подошла к нему после занятия, извинилась и спросила, нельзя ли мне ее вернуть (он мог бы это сделать, не говоря уже о том, что мог бы, как любезно поступил в то же утро Казамиан, закрепить ее за мной даже в мое отсутствие), но он не захотел и сказал мне: «Если вас нет, ваше место занимают другие». От огорчения, обиды и просто от того, что со мной довольно грубо обошлись, у меня слезы навернулись на глаза, и я еще час не могла успокоиться. Думала о том, что я с таким трудом пытаюсь удержаться в университетской жизни, которая для меня так важна; что ведь Делатр знал, как дорога мне умственная работа, знал, что я к ней способнее, чем многие другие. Я добровольно пожертвовала ею, а это было бы хоть каким-то возмещением.
Ну а потом и, в общем-то, без особого труда, поскольку я легко могу от чего-то отказаться, даже забыть об этом, заставить себя сделать,
что сочту нужным (никогда не могла объяснить мадам Шварц, что это значит, а это главное в моем характере), я решила прекратить все попытки готовиться к агрегасьон.
Суббота, 13 ноября
Вчера вечером читала «Винни-Пуха», которого дала мне Жаннина Гийом. Улыбалась про себя и даже смеялась в голос. Попадаешь в типичную атмосферу английского детства, мне сразу вспоминается мисс Чайлд. А какие остроумные находки, какой тон — серьезный и веселый, автор подшучивает над детьми и восхищается ими, прекрасно понимает, что они намного выше взрослых. Я была в восхищении.
Утром, после урока немецкого, поднялась по улице Родье, дошла до улицы Ламарка под проливным дождем, вода струилась по ступенькам Сакре-Кёр.
К обеду пришли Дениза с Франсуа и мадемуазель Детро. Мне непременно нужно было рассказать кому-нибудь про «Винни-Пуха». Я начала и сразу же заметила, что это никому не интересно. Но все-таки продолжила, хоть видела, что злоупотребляю вниманием сидящих за столом и надоедаю им. Быть назойливой неприятно, но я преодолела это чувство. Мне в голову не пришло, что другим нет дела до моего «Винни-Пуха». Извечная моя проблема: найти с кем поделиться своим восторгом, иначе мне, одной, радость не в радость. Теперь никого из тех, с кем я могла бы поделиться, не осталось, в первую очередь Жана.
Все же мадемуазель Детро меня выслушала и похвалила прекрасные иллюстрации к «Винни», и вот я, стоя на коленках около ее кресла, давай объяснять ей, про что там.
Объясняла плохо, не получалось передать всю прелесть оригинала, на французский это непереводимо, а мадемуазель Детро этот дух не так близок, как Денизе и маме. Однако я не останавливалась, мои щеки пылали. Другие вокруг разговаривали о своем, и мы были как бы отдельным, отрезанным от всех островком. Я позабыла обо всем, только изо всех сил старалась дать ей почувствовать очарование книги.
Потом мама, немножко сонная, с улыбкой спросила: «Ну и что там было с этим Винни?» Но я знала: она спрашивает не столько потому, что заинтересовалась «Винни-Пухом», сколько удивленная моим пылом. Ей интересна не книжка, а я. Еще, конечно, она хотела сделать мне приятное. Ну, и забавно было. Но не было понимания этой книжки, которого я так добивалась.
Я зашла к Галиньяни. «Винни-Пуха» не нашла, зато нашла «Алису в Зазеркалье» — продолжение «Алисы в Стране чудес» и книжку детских стихов того же автора, который написал про Винни, тоже с отличными картинками.
Потом пили чай с мадам Кремье. Мы с ней пришли одновременно.
Никому не понять, какой ужасной жизнью живет мадам Кремье. Я только отдаленно могу себе это представить. А знать никто не может. Как-то она мне сказала: «Вам не понять, Элен. Мне и самой-то временами кажется, что это какой-то сон. Открываю дверь и думаю: „Муж, наверное, дома“, — и тут же думаю, что это невозможно, ведь его нет». Как тяжело это слушать!
Несколько раз звонил телефон, один раз сказали, что в понедельник будет депортация. После звонков мы не могли вернуться к разговору, что-то мешало. Но надо было, чтобы она поменьше думала об этих вещах.
Она хотела что-то отыскать в своей тетради, которая лежала в ящике мадам Шварц. Что ж, все кончено, безвозвратно ушло. Наше бюро, мадам Шварц,
ласковый взгляд ее блестящих глаз и легкая улыбка. Смешливая Франсуаза, которая сновала туда-сюда с какой-нибудь бумажкой в руках. Мадам Робер Леви, статная, красивая, всегда собранная, всегда в хорошем настроении и полная оптимизма, мадам Кан, которая вечно ворчала и ругалась с курьерами, Жак Гетшель, заходивший проверить картотеку, мадам Орвиллер, уже встревоженная и удрученная множеством бед, — все это оживает во мне, но обеззвученно, как
dumb show[231], одни фигуры, голосов не слышно, и оттого страшновато.
А ведь этот разгром не был нам наказанием, мы всего лишь старались помочь несчастным людям. Мы знали обо всем, что происходит, каждый новый приказ, каждая депортация прибавляли нам боли. Нас считали предателями
[232], потому что туда приходили те, у кого только что арестовали кого-нибудь из близких, и нас они, естественно, воспринимали именно так. Учреждение, существующее за счет чужой беды. Я понимаю, люди так и думали. Со стороны оно примерно так и выглядело. Но каждое утро сидеть, как на службе, в конторе, куда посетители приходят справиться, был ли такой-то арестован или депортирован; сортировать письма и карточки с именами женщин, мужчин, стариков и детей, которых ждет жуткая участь. Ничего себе служба! Довольно страшное занятие.
Да, правда, у меня настолько вошло в привычку по утрам, в один и тот же час проделывать один и тот же путь, что раза два мне случалось на минуту ощутить эту однообразную жизнь как «работу», как что-то регулярное, обыденное и даже порадоваться предстоящей встрече с подругами. Но если это чувство и можно поставить мне в вину (а это было бы неправильно, потому что внешне эта жизнь ничем не отличалась от обычной службы), клянусь, оно рассеивалось тотчас, едва я переступала порог, ибо я в полной мере создавала, что имею дело с людскими страданиями и что у нас тут не просто контора, — а значит, обвиняют нас напрасно. Прекрасно понимаю, насколько омерзительной могла казаться вся эта канцелярская возня. Помню, когда я первый раз пришла на Тегеранскую улицу после ареста папы, у меня тоже сложилось ужасное впечатление. Когда видишь, как сидят себе бюрократы и обслуживают фабрику страданий, которые немцы умышленно, планомерно причиняют людям…
Зачем я сюда пришла? Чтобы иметь возможность делать хоть что-нибудь, быть рядом с несчастными. И мы в отделе интернированных лиц делали все, что могли. Те, кто знал нас близко, это видели и судили о нас справедливо.
Те же, кто, глядя со стороны, думает, что мы взялись за эту работу ради того, чтобы получить пресловутые удостоверения, якобы гарантирующие безопасность… Да если б я заботилась об этом, ни за что бы сюда не пошла. В июле 42-го, сразу после облавы шестнадцатого числа, когда мы начинали тут работать, а все наши друзья в панике бежали из Парижа, месье Кац сказал маме, что если мы хотим остаться — а видит Бог, как Все уговаривали нас уезжать, — то нам нужно найти занятие; тогда говорили, что всех достаточно молодых людей, у которых нет работы, будут забирать. А удостоверения были чем-то побочным; выдавая их, он говорил: «Предъявите это, если вас задержит на улице гестапо». Однако в то время этот документ не имел такого значения, которое получил потом (а теперь опять утратил). Мы и не думали об этом. А думали, что поступить в такое учреждение — значит пожертвовать собой. С тех пор я сильно изменилась, от многого избавилась, иногда ценой страшных потерь. А разгром 30 июля окончательно опроверг мнение тех, кто думал, будто бы мы тут хотим уцелеть.
Никто лучше нас самих не понимал, насколько наше положение ненадежно и шатко. Я же помню, что говорила мадам Шварц.
Зачем я ворошу воспоминания? Вот думаю об этом, и прошлое опять видится как
dumb show. Все это мертво.
Нет, поразмыслив, я, пожалуй, понимаю, откуда этот сбой, этот
out of join[233], почему все это кажется мне мертвым. Я забываю, что сейчас живу посмертной жизнью, ведь я должна была умереть вместе с остальными. Если бы я ушла вместе с ними, новая жизнь казалась бы мне продолжением предыдущей и у меня не было бы такого наваждения.
Мы вышли от мадам Кремье в семь часов, на улице по-прежнему — как из ведра; подождали 92-й автобус, но не дождались и поехали на метро. Я вышла на Трокадеро и пустилась бегом в темноте и холоде, под ливнем, то и дело наступая в лужи.
На улице Фуркруа мадам Кремье, держась за меня и укрываясь под моим зонтиком (большим старым бабушкиным зонтиком), спросила: «Элен, а что в такую погоду делают
они?» Что я могла ответить…
Ужасно, когда не можешь ничем утешить.
Воскресенье, 14 ноября
Вышла из дому рано, поехала поговорить с мадам Ш. о Шарле. Дело хлопотное, а мама предоставила мне полную самостоятельность. Это, конечно, признак уважения, но теперь я осталась одна. Перед уходом зашла к Шарлю, он бросился мне на шею и не отпускал все время, пока мы разговаривали. Столько любви, удивительно — не верится, что это мне.
Потом поехала в Нейи за Одеттой — отвезти ее домой. Эта трехлетняя девочка с васильковыми глазами и золотыми кудрями — ни дать ни взять маленькая англичанка. Она все время молчала. Единственное, что ей явно нравилось, это чтоб ее держали на руках.
К четырем я ее привезла и сразу отправилась к Денизе, приехала к ней без сил.
К счастью, она стала играть на пианино. Но это тут же напомнило мне совсем еще недавнее прошлое, когда я, уже поднимаясь по лестнице, слышала ее игру и, главное, когда она окружала меня такой нежной заботой. И я поняла, что чувствую себя одинокой еще и потому, что нет Денизы. Я как-то до сих пор не осознала, что она вышла замуж.
Утром меня задержал телефонный звонок — звонила Дениза Манту, она проездом в Париже, и мы с ней встретимся в другой раз. Но ее брат Жерар здесь, сказала она, и был бы рад повидаться со мной. Брат и сестра Манту — отголосок такой далекой жизни, я не уверена, что мне будет приятно.
Вчера вечером после ужина читала
The Good Natured Man[234] Голдсмита, как вдруг позвонили в дверь. Это был молодой человек, которого прислала мадемуазель Детро за советом: как ему быть с двумя детьми, которых он приютил после ареста их отца (врача), матери и двух младших братьев, годовалого и двухлетнего. Отца задержали на улице, он рванулся бежать, когда у него хотели проверить документы, потом пришли за всей семьей — они уже собирали чемоданы, но, увы, было поздно. Немец, который пришел арестовывать мать, говорил ей: «Почему вы не скажете, где ваши остальные дети? Семья всегда должна быть вместе». А как же семьи из Меца, когда жен разлучали с мужьями?
Теперь депортируют целыми семьями — с какой целью? Создать в Польше государство евреев-рабов? И они думают, что эти несчастные люди, чьи предки укоренились здесь, некоторые — пять веков тому назад, не будут всеми силами стремиться назад?
Дальше читать я уже не смогла. Легла спать. И снова меня мучит вопрос о том, что такое зло, вопрос огромный и неразрешимый.
Март, 16 ноября
На Вокзальном бульваре, где открыли филиал «Левитана»
[235] (центр, где «привилегированные» заключенные Дранси, то есть «супруги арийцев»
[236], сортируют и упаковывают предметы, украденные немцами из еврейских домов — теперь эти вещи отправят в Германию), сейчас содержатся двести человек, мужчин и женщин вперемешку, в одном помещении с общим туалетным — закутком. Все приходится делать на виду, мужчин и женщин изощренно унижают.
Там находятся месье Кон, Эдуар Блок — калека, как он справляется? Мадам Верн, жена банкира. Хотя какое теперь имеют значение классовые различия? Страдают все, но особо чувствительным и утонченным натурам, как месье Кон, приходится особенно туго.
Заходила в Нейи, просто так.
В половине двенадцатого была в Сен-Дени.
После ужина плакала.
Среда, 17 ноября
Вернулась из детской больницы, куда меня позвала старшая медсестра по поводу одного ребенка. Эта добрая умная женщина хотела спасти Дуду; я объяснила ей, что тут ничего нельзя сделать — Дуду «на учете»
[237], — и почувствовала ее неодобрительное отношение к УЖИФ. Мне стало горько. Я ее хорошо понимаю, и так трудно объяснять все это людям. Чудовищно уже то, что это организация официальная, не подпольная. Но, во-первых, если бы ее не было, кто бы занимался заключенными и их семьями? А во-вторых, кому известно, сколько добра делают многие ее члены?
Она пересказала то, что видел один их санитар, вернувшийся из Польши; французским работникам там запрещается выходить из особой зоны. Он же однажды вечером, в темноте выбрался за ее пределы, очутился на берегу какого-то озера и вдруг услышал шум. Он спрятался и стал свидетелем беспримерного злодеяния: увидел, что немцы гонят перед собой толпу женщин, мужчин и детей. Потом по одному заставляют их подниматься на что-то вроде трамплина. И оттуда — плюх! — прямо в озеро. Я слушала, и у меня кровь стыла в жилах. То были польские евреи. Оказывается, я еще не все знаю, и каждый новый рассказ огнем обжигает душу. А под конец она сказала: вполне вероятно, что, отступая на русском фронте, немцы вернутся в эти места, вытащат трупы и объявят, для устрашения наших добрых буржуа, что это сделали большевики. Может, и Катынь — их рук дело?
[238]
Этот санитар был в концлагере вместе с русскими. В том самом, где разразилась страшная эпидемия тифа, из-за которой в Германию был послан Лемьер (и, по ее словам, ничего не смог сделать). Там умерли четырнадцать тысяч русских пленных. На исходе дня немцы впрягали русских в повозки, в каждую по четверо, и сваливали на них обнаженные тела, причем хватали без разбора — мертвых и еще живых.
Там были и русские женщины; французы хотели дать им поесть, но их заперли в камеру. А вечером провели обнаженными перед французскими работниками, которые так кричали на немцев, что те снова загнали женщин в камеру.
Могу ли я, зная все это, оставаться спокойной и прилежно работать? Да, сегодня утром я решила поработать над диссертацией, но в глубине души понимала, что это невозможно и непременно случится что-нибудь еще и помешает. Так и вышло: сначала известие о том, что Ивонна и все остальные вынуждены прятаться поодиночке из-за угрозы облав. А потом вот это — как же можно сохранять душевное равновесие, которое требует прежде всего
singleness of mind, если стоит отстраниться от зла, свирепствующего в мире, как оно само напоминает о себе?
Счастливы лишь те, кто знать ничего не знает.
Среда, 24 ноября
Меня вдруг охватило отчаяние. Может, потому что наступила зима, третья долгая зима без всякой надежды? Или просто нет больше сил? Как знать? Человек наделен невероятным запасом прочности. Кто бы мог подумать, что мы способны выдержать то, что выдерживаем сейчас? Как, например, не сойдет с ума мадам Вейль, мать мадам Шварц, которую я видела вчера утром? Или старая мадам Шварц, у которой депортированы два сына и невестка; зять в плену, дочь в лагере и парализованный муж?
Судя по всему, нацистская партия в Германии достаточно сильна, чтобы война продолжалась еще долго. Мужчин обязывают оставаться в разрушенных бомбежкой городах, женщин переводят на другие заводы, а дети с шести лет ходят в нацистские школы. Дети! Какие у нас основания полагать, будто немцы видят положение вещей так же, как мы, оценивают шансы обеих сторон, понимают, что воевать бесполезно? Не стоит сравнивать логику сегодняшнего рядового немца с нашей собственной. Они отравлены, их отучили думать и иметь свое мнение:
«За нас думает фюрер!» Я не рискнула бы спорить с немцем, потому что уверена: он совершенно неспособен нас понять. Их доблесть — не более чем животный инстинкт. Одни воюют потому, что им приказали, из стадного чувства, другие — из безумного фанатизма.
Меня ничто в них не восхищает, потому что в них не осталось никаких благородных человеческих качеств. Поэтому война не кончается и будущее так безотрадно.
Утром читала «Защиту поэзии» Шелли, а вчера вечером — платоновский диалог в его переводе. Как горько думать, что эти шедевры утонченного, благородного человеческого духа, высота ума, широта мысли — все это сегодня мертво. Жить в наше время и тянуться к таким вещам — просто насмешка, одно с другим несовместимо! Что сказал бы Платон? Что сказал бы Шелли? Многие считают, что я витаю в облаках, занимаюсь бессмыслицей. Но разве не бессмыслица и не заблуждение та одержимость злом, что нынче правит миром? Родись я в другое время, то, что мне дорого, было бы в чести.
Сегодня год, как уехал Жан. Ровно год назад я получила от него букет разноцветных гвоздик. А в субботу исполнился год с тех пор, как он приходил последний раз, и с самого утра я заново переживала все детали этого последнего дня. Но теперь словно переступила некую черту, избавилась от власти воспоминаний, осаждающих меня в каждую такую годовщину.
Пятница, 26 ноября
Плохая ночь, ухо болело так, что я испугалась, не отит ли это, так же, как два года назад, в то ужасное 12 декабря. Наверно, И температура поднялась. Весь день ходила какая-то
funny[239]. Но все-таки была у Надин. Адажио из Пятого трио Бетховена. Как это прекрасно!
Воскресенье, 28 ноября, полдень
Умерла бабушка, внезапно, позавчера вечером, сразу после маминого ухода.
Я так устала, что не могу даже думать. Да и не успела еще как следует понять. Пойму, когда все кончится. То, что происходит теперь: бдения в бабушкиной спальне, вид лежащего на кровати тела, — это горе, составляющее часть большого испытания, но в нем нет ничего ужасающего, такого, что переворачивало бы душу и вызывало протест, оцепенение или страх (а ведь я первый раз вижу мертвое тело). Все бесконечно просто, она как будто спит, лицо ее почти не изменилось — только приобрело желтоватый оттенок слоновой кости. Когда я первый раз зашла к ней вчера утром, меня больше всего поразила именно эта каменная неподвижность. Вот уже три дня она спит, спит и не просыпается, и ничто уже ее не потревожит.
Но я точно знаю, что не
это заставит меня горевать о смерти бабушки.
Это никак не вяжется с памятью о ней живой. А осознание потери возникнет именно из памяти, из воспоминаний о тысяче связанных с бабушкой мелочей.
Пока же я только чувствую, что утрачена последняя веха, обозначавшая наше место во времени, между прошлым и будущим.
Стараюсь не спать. Этой ночью снились такие кошмары, что заставила себя больше не засыпать.
С нежностью смотрю на это спящее тело цвета слоновой кости. Как хорошо, что она так мало изменилась.
Вчера утром Николь сказала: «Жизнь в ней еле теплилась. И вот погасла, как свеча». Так и есть, и не стоит роптать. Эта тихая мирная смерть просто милость на фоне того, что творится вокруг.
Тетя Марианна убита горем. Теперь она последняя, кто еще жив из того поколения, и это для нее настоящая трагедия. Дядя Эмиль, бабушка, тетя Лора — никого уже нет. Много часов она молча сидела у кровати, уронив голову в свои меха, сама такая же бледная и осунувшаяся, как покойница. Никто из нас не скорбит так сильно, как она.
Бабушка умерла на той же кровати, на которой когда-то родилась я, а еще раньше — мама. Я это узнала сегодня от мамы, в таком смешении жизни и смерти есть что-то утешительное.
Вечером перечитала письмо Жана от 27 июня, где он писал о бабушке, когда ей было очень плохо. Прошло полгода, и как все переменилось — вокруг меня пустота.
Мне бы так хотелось, чтобы бабушка успела с ним познакомиться, — мне будет не хватать ее благословения. Одно то, что она его знала, улыбалась ему, разговаривала с ним, приобщило бы его к моему прошлому, моему внутреннему миру. Так жаль, что это не случилось, сначала было такое половинчатое знакомство, а потом он надолго уехал.
Понедельник, 29 ноября, вечер
Пришла от тети Марианны. Как это грустно. Там была Дениза. Она что-то бормотала, глядя в пустоту, с трудом ходила, то и дело задавала одни и те же вопросы. И вдруг — каково было на это смотреть тете Марианне, и без того потрясенной смертью бабушки, — принималась распевать, грузно приплясывая, кафешантанные куплеты, которые записаны у нее на пластинках. И только в это время говорила связно и внятно.
Тетя Марианна очень мне обрадовалась.
Я все никак не осознаю, никак не сходится одно с другим: бабушка, какой она была раньше и в последние дни. В моей памяти останется первая, живая, и, когда в голове прояснится, именно этот образ будет отзываться болью. Другой ничуть меня не испугал, будто это не она, а кто-то чужой. Я не входила в комнату, когда ее клали в гроб, не потому что было страшно (страх я бы поборола, кроме того, она не сильно изменилась), а потому что для меня
это уже была не бабушка. Вечером просидела несколько часов около гроба; сегодня утром купила гвоздики, а вчера фиалки, чтобы положить в гроб, но все это меня ничуть не взволновало. Разложила все цветы.
Сегодня вечером, вернувшись домой, нашла среди писем с соболезнованиями два замечательных — от Надин Анрио и мадам Кремье. Расплакалась от сочувствия друзей. И вдруг подумала, что с ними обеими меня познакомила Франсуаза. Сердце сжалось при мысли о ней.
Завтра мне надо будет выйти на станции метро «Пер-Лашез». Именно там почти год назад, около пяти вечера у нас была первая долгая беседа с мадам Шварц; поезда проезжали один за другим, а мы сидели на скамейке и разговаривали. Я рассказала ей про Жана, не могла не рассказывать тем, к кому лежало сердце. Теперь — ни таких признаний, ни порывов, все, кого я любила, исчезли. Но я все еще слышу ее голос, вижу сияющие нежностью глаза (в них всегда-всегда сияла любовь): «Как это хорошо, милая вы моя девочка!»
Мадам Дюшмен очень верно написала маме — что бабушка теперь покоится в надежном убежище. До нее не доберутся. Помню, мы с ужасом думали, что она может попасть в дом престарелых, в этот ад, где мучится столько стариков. И вообще, разве не лучше покой, чем наша нынешняя жизнь, полная постоянных тревог и страданий? И этот страх за близких и невозможность знать, что будет завтра… Когда постоянно боишься за близких, не можешь строить планы даже на самое ближайшее будущее. Это не пустые слова — мне в самом деле глубоко созвучны прекрасные строки из «Адонаиса», и хочется затвердить их наизусть:
Не has outsoared the shadow of our night;
Envy and calumny, and hate and pain,
And that unrest which men miscall delight,
Can touch him not and torture not again;
From the contagion of the world’s slow stain
He is secure, and now can never mourn
A heart grown cold, a head grown gray in vain.
[240]
В какую-то минуту сегодня мне стало казаться, что это мои стихи.
* * *
Понемногу приходит осознание, что бабушки больше нет.
Я приходила к ней не только из уважения к семейным обычаям, не только потому, что это было частью хорошего обряда, поклонения прошлому, которое она воплощала, но еще и потому, что ее дом стал для меня тихой заводью посреди страшной жизни, с ней я не говорила о том, что творится, это был зеленый островок доброй старины, островок покоя.
Я старалась дарить ей любовь и нежность и сама черпала нежность полной мерой. Как же мне теперь жить без нее?
* * *
Бедная мадам Баш! Вчера она сказала, что бабушке теперь лучше, чем всем нам. Она измучена тревогой за мужа, заботами о родителях, которым по 85 лет, и перед ними надо притворяться, что все хорошо. Это очень стойкая женщина: прекрасно все понимая, она обычно остается трезвой и спокойной. Но вчера она совсем сломалась и рыдала на лестнице.
В гроб (не говорю: бабушке, потому что это совсем разные вещи) положили букет фиалок, который я купила в воскресенье, веточку мелиссы из Обержанвиля — она лежала у меня в бельевом ящике, это единственное, что осталось тут на память о Байонне, — и гвоздики, купленные по просьбе Ивонны и Жака.
Вторник, 30 ноября
Утром написала письмо Ивонне, а вчера вечером — Жаку. Удивительно, как смерть бабушки словно вызвала из прошлого внука и внучек, какими мы были когда-то, связала нас еще прочнее.
Вот исполнение желания, которое она высказала в последнем письме: чтобы внуки всегда жили дружно. По-моему, замечательная мысль.
Единственный доступный нам неоспоримый опыт бессмертия души — это бессмертная память о мертвых среди живых.
О другом бессмертии никто и ничего не может утверждать, так как никто ничего не знает. Для многих вера в будущую жизнь — это уловка, маскирующая страх смерти, и католицизм, к сожалению, играет на этих чувствах, поощряет их. Быть может, кто-нибудь и
знает, через озарение. Но по большей части люди верят в рай и ад лишь потому, что им это внушали с детства, как нынешние немцы верят в то, что все евреи — негодяи. На самом деле это неисповедимая тайна, и лично я вверяю себя Богу. Единственный из смертных, кто верно рассуждал об этом, был Гамлет в монологе «Быть или не быть».
Память о бабушке светлая, во-первых, потому что она просто умерла, когда кончилась ее жизнь, а в неизбежности есть своя красота. Так и должны мы, люди, относиться к жизни и смерти — как к неизбежности. Что понимаешь, с тем смиряешься. А вот с чем смириться нельзя, так это с преступным безумием тех, кто сеет смерть по собственному произволу, кто убивает друг друга, тогда как только Бог распоряжается смертью.
А во-вторых, эта память светла, потому что у бабушки душа была светлая. С бабушкой связаны только счастливые воспоминания, при мысли о которых сердце наполняется нежностью.
30 ноября 43 г.
Если бы смерть была такой, как в «Освобожденном Прометее», а она и была бы такой, если бы в людях не было зла:
And death shall be the last embrace of her
Who takes the life she gave, even as a mother,
Folding her child, says, «Leave me not again».
[241]
Потрясающе: это как раз то, что я сейчас пыталась выразить. И вдруг нашла, точно свет вспыхнул в ночи, в «Прометее» Шелли. Тут говорится о возрождении мира после освобождения Прометея. Это Земля говорит.
Flattering the thing they feared, which fear was hate.
[242]
Зачем Бог заложил в человека способность творить зло и способность постоянно верить в освобождение человечества?
The loftiest star of unascended heaven,
Pinnacled dim in the intense inane
[243].
Как у Китса:
Bright Star!
Hung in lone splendour among the night…
[244]As the billows leap in the morning beams.
[245]
Ликование.
Once the hungry Hours were hounds,
Which chased the day like a bleeding deer,
And it limped and stumbled with many wounds
Through the nightly dells of the desert year
[246].
Это как сейчас.
Для меня. И тем более для депортированных и заключенных.
Нет никакого преувеличения в словах Шелли о том, что поэзия — превыше всего. Из всего сущего она ближе всего к истине и к душе. (Сказано плохо, но искренне.)
Прекрасная греза Четвертого действия — неужели в ней представлено то, чего не существует, о чем можно мечтать и что противоречит яви? Об этом каждый раз задумываешься с тоской, когда читаешь утопии.
Понедельник, 6 декабря, вечер
Хочется бегать, прыгать, плясать. Не могу сдержать радости: есть известия о Франсуазе и других. Уф, я это сказала! Мать мадам Шварц прислала пневматичку — она получила открытку от дочери, датированную 25 октября, из Биркенау
[247]. Франсуаза передает привет отцу. Мадам Робер Леви и Лизетта Блок тоже с ней. Наконец-то пробита стена молчания!
Надо подумать, как бы рассказать Сесиль, Надин, Монике де Виган. Ни у кого из них нет телефона,
damn it![248] И из дома не выйти — половина восьмого. Побегу завтра прямо с утра на Лилльскую улицу. Позвонила от Эбраров Канлорбам. Ответил муж Николь. На счастье, согласился передать.
Слава Богу! Я так молилась.
Знать, где они находятся! Получить эту весточку — впервые после страшного отъезда. Хоть какая-то зацепка, а то ведь тычешься вслепую, не знаешь, что думать.
Вторник, 7 декабря, вечер
Жак прислал маме два полных нежности письма. Его преподаватель месье Колломп был зверски убит — его застрелили из револьвера в Клермон-Ферране во время налета на Страсбургский университет — до нас доходили слухи о том, что там случилось. Мы знали, что факультет окружили, убили кого-то из специалистов по античной истории, а всех преподавателей и студентов из Эльзаса-Лотарингии построили во дворе, заставили десять с лишним часов простоять с поднятыми руками и в конце концов депортировали. Заправлял всем студент-француз, сын французского офицера, он выдавал немцам всех эльзасцев и лотарингцев. А убитый преподаватель, значит, и был месье Колломп
[249].
Я понимаю, как Жак был потрясен. Ему внезапно, в один момент открылось все, что мучит меня уже много месяцев. Он пишет о человеческом страдании. Хочет писать работу о страдании у греков. Во мне все бурлит, как подумаю, что он проходит то же, что прошла и я, что вот теперь-то он хорошенько поймет, о чем говорилось в моих письмах и почему меня так волнует «Гиперион». Так хочется написать ему прямо сейчас. Чтобы он понял, что со мной произошло и до чего мы похожи. И, конечно, помочь — уж я-то знаю, каково ему.
* * *
Рассталась с мадам Леман, расстроенная подлым поступком ее компаньонки, которая продала их общее предприятие без ее ведома. Наверное, работа служила ей единственной опорой, а теперь на нее обрушилась вся тяжесть ее бедственного положения. На прощание она сказала: «Отдохнем на том свете».
Недавно я читала что-то подобное в одном русском романе — кажется, в «Поединке» Куприна была цитата из Чехова: «Погоди, дядя Ваня, мы отдохнем… мы отдохнем»
[250].
Еще она сказала: «Мне все говорят: ваши дети молоды, они выдержат, устоят. А я им отвечаю: они не устоят против револьверной пули».
Что они сделают со всеми этими лагерями, когда дела пойдут совсем плохо? В Киеве уничтожили двадцать тысяч евреев. В Феодосии, в Крыму — двенадцать тысяч в одну ночь
[251].
* * *
Весь день бегала. Пять раз за утро ездила на метро, чтобы доставить месье Б. радость передать записку в ответ на письмо мадам В. Страшно обрадовалась, когда увидела на открытке от мадам Шварц характерную подпись «Тереза»; приписала в конце письма фразу на корявом немецком. С таким волнением держала в руках это письмо, которое, надеюсь, дойдет до нее месяца через два.
* * *
Побег Жана К. С. Невероятная история. Избиение в камере, стрельба через подвальное окошко, клятва четырнадцати человек.
Среда, 8 декабря
Приходила в гости мадам Моравецки. Принесла самодельные тряпичные куклы.
С интересом слушала все разговоры.
Но есть в ней что-то такое — до сих пор не — пойму, нравится она мне или нет. По-моему, в ней мало тепла, душевности, что ли, и из-за этого между нами всегда остается определенное расстояние. Хотя затея с куклами очень трогательная. Она проявляет к нам внимание. Но любит ли она меня? Принимает ли, как мне бы хотелось? Или остается при прежних взглядах?
Понедельник, 13 декабря, вечер
Почему-то у меня дурные предчувствия. Вот уж недели две, как со всех сторон говорят, что к первому января нас всех арестуют. Сегодня в институте меня специально дождалась Люси Моризе (мы с Денизой ходили покупать книги для Жака), один знакомый просил ее предупредить таких, как мы, что их заберут до 31 декабря. Она умоляла меня что-нибудь сделать. Но что? Перевернуть мир?
Такие слухи ходят не первый раз. И не первый раз нам дают подобные советы. Так почему я так встревожилась?
Объективно — есть от чего. Мне кажется, мы — последняя порция, и вряд ли нам удастся выскочить из сети. В Париже почти не осталось евреев, а поскольку арестовывают теперь немцы, нас некому будет предупредить, так что шансов уцелеть очень мало.
А субъективно — позапрошлой ночью мне приснился сон, как обычно, очень внятный, будто бы мы наконец решили, что пора прятаться в разных местах, и наметили, кто куда пойдет. Я проснулась в смятении. Это было так похоже на реальность.
Почему я встревожилась? Мне не страшно. И я давно ко всему готова. Так давно, что уж думаю, не глупо ли ждать, раз точно знаешь, что с тобой сделают. Не безрассудно ли? Не думаю, потому что я остаюсь здесь, понимая всю опасность, и это сознательный выбор.
Почему я делаю такой выбор? Не потому, что хочу показать свою смелость или выполнить долг — в такой позиции слишком много гордыни, да я и не считаю это своим долгом. Будь я врачом и речь бы шла о том, чтобы бросить больных, тогда другое дело.
И все-таки, если бы я оставила свою «официальную» жизнь, мне бы казалось, что я совершаю предательство. Не других предаю, а себя. Я слишком свыклась со страданием, с борьбой, с несчастьем, чтобы заново привыкать к другой жизни. Потому что испытания — это путь к очищению.
Да и практически все очень сложно: если прятаться, так уж всем — родителям, Денизе, семейству С. При большом желании это осуществимо. Но я прекрасно знаю, что никто из нашей семьи не решится на это, пока не возникнет прямой опасности, а тогда, весьма вероятно, уже будет поздно.
Я сказала, что мне не страшно. Но, может, это от незнания: ведь я не знаю, какие мучения мне предстоят и смогу ли я их выдержать. Может, оказавшись там, я подумаю, как же мы были слепы и безумны, что остались.
Я точно знаю, что если нас схватят, то меня и родителей депортируют отдельно, и для нас всех это будет не меньшая беда, чем сама депортация.
И тогда я подумаю: как же, зная заранее, ты ничего не сделала, чтобы этого избежать?
Если кто-нибудь будет читать эти строки и
это действительно произойдет, он будет потрясен, будто его коснулась та самая «рука» Китса, и скажет: да, как же, как же так?
Но не за себя я тревожусь. Сама, одна я все бы вынесла. Я боюсь за других: за Денизу и Франсуа, ведь Денизу, в ее положении
[252], разлучат с Франсуа. Кроме моральных страданий будут и физические: голод, плохое обращение, никакой медицинской помощи.
А бедная, хрупкая тетя Жер, и без того уже совершенно подавленная (она-то с самого начала была настроена фаталистически, и я за это на нее сердилась), а дядя Жюль — он этого не вынесет! И Николь, особенно Николь с Жан-Полем. Она представления не имеет, что это будет, иначе не говорила бы так безучастно. Словом, по-моему, я осведомлена лучше всех.
А может быть, это снова ложная тревога. Наспех принять такое важное решение, все бросить, а потом, глядишь, ничего и не случится?
Впрочем, даже если это окажутся пустые слухи, все равно каждый день арестовывают сотни людей, всего депортировано уже около ста тысяч человек, и ложная тревога или нет, но факты таковы, и нас лишь по случайности еще не настигла та же судьба; эти всплески тревоги разгоняют туман, которым мы сами себя окружаем, и доводят до сознания то, что мы давно уже должны были осознать, потому что оно давно существует и угрожает нам.
* * *
Вчера после обеда я не сдержалась и расплакалась. По сути, из-за пустяка — вышел очередной спор с мамой об англичанах; в который раз я убедилась, что с мамой спорить бессмысленно: стоит высказать какое-нибудь мнение, как она, вместо того чтобы вникнуть и начать спокойно обсуждать, тут же с горячностью выдвигает другое, прямо противоположное. Например, скажет кто-нибудь, что во внешней политике англичане ведут себя эгоистично, а зачастую не слишком благородно (нельзя же это отрицать!), — она тут же заявит: «Мы не имеем права их судить, мы их предали!» или «Немцы, по-вашему, лучше?» (В обоих этих случаях мы с ней сходимся.) Неужели нельзя, несмотря ни на что, уважать свободу слова? Особенно когда никто не держится за свою правоту. Я ужасно расстроилась, потому что никак не могу добиться от мамы объективности, потому что начинаю сердиться на нее, а она, чувствую, — на меня, и не могу решить, что важнее: доискиваться до истины или смириться с маминым характером — такая уж она есть! — и что-то во мне, как иногда бывает, противилось моему собственному убеждению, что надо понимать и принимать других, признавая их право иметь свои взгляды, равноценные любым иным. К этому раздражению прибавилась вся накопившаяся горечь, и я проплакала или пыталась плакать целых полчаса.
22 декабря
Не прикасалась к дневнику неделю или больше. Последнюю запись сделала в тот день, когда Люси Моризе сказала, что нас скоро арестуют, и заклинала меня уезжать. С тех пор мне каждый день твердили об этом все подряд, вплоть до месье Руши в субботу. Но в субботу же случилось еще кое-что, заставившее нас всполошиться куда сильнее и, как оказалось, напрасно. Теперь мне уже трудно вспомнить, как было страшно тогда, днем и вечером; показалось, что сбылись мои худшие опасения: утром к Денизе явился немец в форме — хотел посмотреть квартиру. Потом нас успокоили, сказали, что это обычное дело. Но тогда я уже ясно увидела, и все мы ясно увидели, как Денизе и Франсуа приходится покинуть свой дом, как они прячутся, где-то скитаются, и так до конца войны — еще двое обреченных на такую жизнь, на этот раз из нашей семьи. Дениза, в ее положении! Она не могла прийти в себя после этого посещения и весь обед изо всех сил старалась не разрыдаться. Потом я до вечера сидела тут, дежурила, мама, Дениза и Андре с мужем пошли на квартиру, а папа и Франсуа — к Роберу Л. Пришлось вытерпеть визит четы Робер Валь. Машинально я все продолжала одевать кукол. На другой день чувствовала себя разбитой, будто всю ночь танцевала на балу!
* * *
Вчера вечером мама сказала мне, что депортирован Андре Бор — он сам, жена и четверо маленьких детей. Это не выходит у меня из головы. Конечно, ничего удивительного. Но все были уверены, что уж их-то не тронут. И именно сейчас, под Рождество, это же детский праздник — я как раз наряжаю елки. От этого особенно горестно.
Понедельник, 27 декабря
Вчера у нас была елка. Я не ошиблась, просто двое суток слились в одни, я и трех часов не проспала из-за того, что был заложен нос.
Съездила за Пьером и Даниеллой. Даниелла — копия матери, каждое слово, каждый взгляд так напоминают ее, что мне стало как-то по-особому больно, как еще никогда не бывало. Облик мадам Шварц немного стерся в памяти, осталось просто грустное воспоминание. Но Даниелла его воскресила.
В два часа, когда я уже собралась на урок немецкого, пришла Одиль. Я даже не удивилась. Восприняла, как будто так и надо. И вообще, мне кажется, мы расстались вчера. От одиночества? Мы словно бы продолжили прерванную беседу.
Пятница, 31 декабря
Хотела посвятить все утро работе, хотя отлично знаю, что теперь работа для меня — всего лишь способ ненадолго забыться. Знаю, что так и не разрешила противоречие между работой и действительностью, между самоосуществлением и деспотичным призывом этой самой действительности и что это противоречие возобновится, как только в полдень я закрою книгу. Собиралась поработать еще вчера вечером, но слишком устала. За несколько драгоценных свободных часов, которые буквально удалось урвать, ничего не сделала, потому что, когда я пришла домой, у нас была Дениза, и я слишком устала (в каникулы не отдыхала ни дня), в результате опять расплакалась, как в тот день с мамой; ничего не поделаешь — как будто прорывается плотина.
Пыталась сесть с утра — иной раз все еще мечтаю, как это было бы прекрасно: все утро проработать, думаю о поэзии, о том, сколько радости это могло бы мне доставить и сколько я могла бы Сделать. И как же до сих пор не поняла, что такого больше не будет, не может больше быть? Как до сиг пор не отказалась от этой мысли и не смирилась с тем, что это невозможно? Вот и сегодня утром я решила поработать всего-то до одиннадцати часов, потом надо сходить в больницу к Мишель Варади
[253]. (Еще одно нововведение немцев: теперь евреи не имеют права лечиться в больницах.) Но мама прочитала газету, и все рухнуло: последние крохи надежды, последняя, с таким трудом отвоеванная возможность доставить себе несколько минут искусственного счастья; действительность победила. Две новости: Дарнан
[254] назначен комиссаром Сил поддержания порядка. Не знаю, кто он, верно, какой-нибудь бандит, холоп нацистский, каких теперь немало развелось. Но означает это только одно: будет настоящая гражданская война, новые аресты и новые убийства. Убийства со всех сторон. А что значит убивать? Убивать — значит прерывать чьи-то жизни, полные надежд и сил, уничтожать внутренние миры, такие же богатые и яркие, как мой, к примеру. Причем хладнокровно. Убийцы видят только тело, но убивают вместе с ним и душу. И чем дальше, тем больше убитых. Стоит начать кровопролитие — конца ему не будет.
Как быстро исчезает всякая мораль и уважение к человеческой жизни, когда перейдена определенная черта! Люди мгновенно скатываются на уровень животных. Нацисты скатились уже давно. Они играют с пистолетом и со смертью, как с носовым платком. Это они запустили страшный механизм, который теперь набирает все новые обороты.
Я, кажется, схожу с ума. И временами теряю власть над собой.
Вторая новость — речь
гауляйтера Заукеля
[255], вся целиком направленная против евреев. Мне тошно от этого: мало, что ли, их мучили, преследовали, убивали вот уже четыре года? Евреев больше не осталось (и сколько немыслимых страданий принесло это людям, которые уж точно имели больше прав на жизнь, чем чудовища вроде этого Заукеля) — и что же, это помогло им выиграть войну? Что-то им принесло?
Какое, интересно, впечатление произвела бы подобная речь на сторонних людей? Думаю, только отчасти такое же, как на меня: показалась бы глупой и нелепой. Но они не почувствовали бы другого: боли за все перенесенные страдания.
* * *
На днях читала рассказ Куприна «Гамбринус». История еврея-музыканта в России, написанная с чувством и объективно, что-то похожее на Дюамеля (в «Жизни мучеников») или Роже Мартена дю Тара. Про гонения там рассказано в общих чертах. Но я будто бы вижу собственными глазами все, как было. Обозначены все те же методы, с их холодным расчетом и дикой жестокостью. Ужасно. Знать, что так было всегда и всегда одинаково беспощадно.
* * *
Когда я пишу «еврей», это не передает мою мысль, потому что для меня такого выделения не существует, я не чувствую себя отличной от других людей и никогда не смогу воспринимать себя как часть какой-то обособленной группы — может, потому я и страдаю, от непонимания. Страдаю оттого, что люди так жестоки. Оттого, что на человечество обрушилось зло; но поскольку я не чувствую себя частью национальной, религиозной или иной группы (это всегда предполагает некую гордость), то могу опираться только на свои личные суждения и переживания, только на свой разум. Вспоминаю, что говорил Лефшец во время собрания на улице Клода Бернара и как меня бесили его речи в защиту сионизма: «Вы уже не знаете, за что вас преследуют». Это правда.
Сионистский идеал кажется мне слишком узким, проникнутым духом групповой исключительности; что сионизм, что чудовищно раздутый германизм, который мы сейчас наблюдаем, что любой шовинизм — во всем этом есть непомерная гордость. Нет, все такие группировки решительно не для меня.
1944
Воскресенье, 10 января 1944 г., вечер
Дойду ли я до конца? Этот вопрос звучит все страшнее. Дойдем ли мы до конца?
Перед нами сейчас два больших пути, оба чреватые опасностью и, возможно, смертью: это постоянно угрожающая депортация и события, которые произойдут до конца войны. Они приведут к ее окончанию, но, как я вижу теперь, после слов Жерара, ужасной ценой.
Боюсь за Жана — ему придется рисковать жизнью. Если после всего этого мы увидимся вновь, если я избегну опасности, которая подстерегает нас уже два года, а он пройдет сквозь эту огненную бурю живым и здоровым, как же дорого обойдется нам это счастье! Каким оно будет драгоценным!
Но его возвращение окажется совсем не таким, как представлялось мне раньше. Никакого звонка в дверь. Мне не придется думать, в какой комнате его встретить. Вряд ли я буду здесь. Даже если со мной ничего не случится, где все мы очутимся после великого потрясения, которое ждет Францию?
Через три месяца? Три месяца — это очень долгий срок для тех, кто каждый день ждет высадки десанта, опираясь только на свои надежды и ложные слухи. Но этот срок станет коротким, как только придет точное известие, что ожидаемое состоится.
Да, это страшно долго для страдающих, для узников концлагеря около Вены, про которых рассказывала мадам Понсей: они так ослабли, что шатаются, когда в них попадают куски хлеба, которые бросают им соседи, пленные французы. Для депортированных, умирающих от голода, для тех, кого пытают в тюрьмах.
Сегодня у Брейнара Франсуа рассказал историю, которую услышал от своего знакомого, инженера-железнодорожника из Шалона. В Шалоне остановился поезд с депортированными (уклонистами
[256]). В одном из вагонов узники разобрали пол и легли между рельсов в надежде таким образом спастись. Поезд тронулся. Но немцы все предусмотрели. Все вагоны состава были наглухо заперты, кроме последнего, где ехали вооруженные солдаты. Когда состав отъезжал, они видели людей на полотне и стреляли в них из всех стволов (разрывными пулями, уродующими тело). Два-три человека пытались бежать — их убили. Стреляли до тех пор, пока не попали в каждого. Потом сошли с поезда, стали бить прикладами раненых, заставили их встать, снова выстрелы, и наконец всех без разбора: мертвых, раненых и умирающих — побросали в грузовик. Поезд уехал. Двенадцать погибших, о которых никто не узнает.
Всюду жестокость. Свирепствует шквал смерти, его не глядя насылает обезумевшая нация на кого попало, потому что не все желают принимать эту их теорию расового превосходства.
* * *
Я перестала заниматься музыкой, потому что меня томит предчувствие страшных бед. Например, так и вижу
Денизу в вагоне для депортации — невыносимая мысль. Я на нее сердилась, думала: она не понимает, не отдает себе отчета, что ей грозит, это преступно. Ей надо немедленно скрыться. Мы ждем настоящей, не ложной тревоги, а тогда уж будет поздно. Как можно жить при таком риске?
В пятницу мы это и обсуждали у мадам Мийо
[257]. Она говорила: потом, когда беда нагрянет, мы будем ужасаться своему безумию: почему остались и не спрятались, хотя была возможность. Да, наверное, многие не до конца сознают. Но я, я все прекрасно сознаю, поэтому так мучаюсь.
Вторник, 11 января 1944, вечер
Сегодня днем опять в полной мере ощутила, каково возвращаться в страшную реальность.
Вчера, казалось, я схватилась за спасительный круг: в библиотеку приходил Андре Бутелло, мы проговорили два часа, он предложил мне сделать перевод «Защиты поэзии», о котором я как-то упоминала. Это значило бы, что у меня вдруг появится более близкая и достижимая цель, чем диссертация. Настоящий спасательный круг, потому что в последнее время я тону, да, в полном смысле слова. Эта беседа вдохнула в меня надежду, я ненадолго снова стала такой, как три года назад, когда с воодушевлением почувствовала призвание к литературе, когда все казалось новым и чудесным (это время кончилось с отъездом Жана), когда я получила первый диплом по английской литературе, а потом написала и защитила второй.
Сейчас вижу, что моя вчерашняя радость была какая-то надуманная, ведь радоваться, как прежде, невозможно. Раньше это было естественным состоянием, непрерывным кипением. Теперь же это чувство противоречит жизненной реальности, я пытаюсь его сохранить, потому что иначе погружусь в полный хаос. Душевная смута выражается в том, что я отчетливо понимаю: передо мной два мира, несовместимых друг с другом: Андре Бутелло не может и не хочет войти в мир тягот и страданий, который мне открылся, а значит, я смогу посвятить этим занятиям лишь какую-то часть души. Тогда как для меня важнее всего душевная цельность,
single-mindedness.
Словом, я чуточку восстановила внутреннее равновесие, примерно как больной, который хочет встать на ноги. Но оно оказалось настолько натужным, искусственным, хрупким, что нарушилось при первом же толчке. Едва приехав в Нейи, я узнала от Жаннины, что мадам Шукер сообщили по телефону об аресте сына (одиннадцатилетнего), он был в Бордо, и она думала, что там он в безопасности.
Этого было довольно, чтобы я снова погрузилась в реальность. На сердце легла привычная тяжесть.
Остаток вечера провела у матери мадам Шварц. Среди прочего узнала вот что. Молодая женщина, которую я у нее видела, мадам Каркассон, арестована вместе с мужем и одиннадцатилетним сыном. Ребенок слабенький (кажется, даже нездоровый). Когда к ним позвонили в полвторого ночи, он попытался убежать по черной лестнице, его побили. Внизу мать бросилась на колени и стала умолять,
чтобы ребенка оставили дома (надо хорошо понимать, что ждет впереди, чтобы вымаливать разрешение
бросить ребенка одного). Не разрешили. Еще час их заставили прождать в машине, пока не обчистят квартиру. Будет что отправить на Вокзальный бульвар. Всех троих депортировали.
Сестру другой знакомой женщины (которую вскоре тоже забрали) арестовали с двумя детьми: восьми месяцев и четырех лет. Мадам Шварц сказала: «Зачем им восьмимесячный младенец? Здесь она с ним гуляла, укладывала его спать…» Когда слышишь такое, видишь все отчетливо, как в страшном сне.
На Вокзальном бульваре сортируют буквально все: мебель, одежду, галантерею, ювелирные украшения. Вещи, украденные из квартир арестованных и депортированных людей, эти же люди и разбирают по ящикам. А ящики отправляются в Германию.
Четверг, 13 января
Пришла вечером совершенно раздавленная страшной и очевидной реальностью.
Порой все становится столь очевидным, что мне кажется, будто я барахтаюсь в океане под черным, без единого просвета небом. Такое бывало и раньше (например, в феврале прошлого года, когда отлавливали детей). Но теперь это повторяется то и дело, и думаю, это нормальная, правильная реакция, то есть такова реальность, и таким должно бы все время быть мое состояние, если не заслоняться от очевидного.
Что на этот раз вызвало обострение?
Случайный набор фактов в голове, всего несколько фактов из тысяч подобных.
Вот, например: утром пришла я в Сорбонну поговорить с Жозеттой по поводу моего перевода. (Подумать только: вчера вечером я с восторгом читала Китса, и тогдашнее мое Я все еще живо, оно такое же живое и настоящее, как Я другое, но имеет ли оно право на существование?) Навстречу вышел институтский привратник и спросил меня, «все ли в порядке», постоянно одно и то же — ему велели призывать таких, как я, студентов к осторожности. Что отвечать? Я все прекрасно знаю, понимаю, что вероятность весьма велика, и даже понимаю, что он на это мне и намекает. Но за два года я так устала.
Потом зашел разговор о последних новостях. Он вспомнил, как один студент с итальянского отделения сказал ему на днях: «Месье, я видел нечто ужасающее!» — «Ничего удивительного, — отвечал ему А. — кругом сплошной ужас». — «Я видел немецкий грузовик, полный трупов, ничем не прикрытых».
Видимо, расстрелянные, о которых теперь никто ничего не узнает.
Потом я час сидела на лекции Казамиана о Вальтере Скотте. Небольшая передышка. Оттуда отправилась прямо в детскую больницу проведать трех моих подопечных. Мадам П. делилась со мной планами кровавой мести негодяям и мерзавцам, которые выдают людей, а потом грабят их квартиры (она знает одну такую консьержку).
После обеда ходила в Нейи, взяла там двух детей и отвезла на улицу Жюльена Лакруа.
Маленького Шукера арестовали в Бордо во время общей облавы: в половине второго ночи забрали всех тамошних евреев. Ждем, когда его привезут в Дранси, чтобы попробовать добиться освобождения. В одиннадцать лет ребенка, совсем одного, хватают среди ночи! Какую страшную опасность он представляет для Рейха!
Две недели назад приходили за главным раввином юрода Бордо. Его не застали, так в отместку арестовали всех стариков и больных из приюта. Мадемуазель Феррейра из дирекции УЖИФ (я постоянно видела ее имя, когда работала в службе перемещенных лиц) покончила с собой.
В Нейи появился мальчик четырех лет, о котором неизвестно ничего, кроме имени, его сунули в руки турецкой супружеской паре — вчера «отпустили» в дом престарелых. Мальчик очень милый, шустрый, но ничего не может сказать о Дранси. Встретила мадам Бейер, она рассказала, как по соседству с ней арестовывали алжирские семьи и французские жандармы ходили за детьми в школу, одни сторожили родителей, другие ходили по школам.
Думаю о семье доктора Зейденгара — они жили тут неподалеку: бабушка с дедушкой, невестка и четырехлетняя внучка, а отец — в плену. Их всех пришли арестовывать в один и тот же день. Молодая женщина исчезла, что с ней стало, неизвестно; деда депортировали первым. Потом — бабушку и внучку. Как не сойти с ума отцу, когда он вернется?
17.1.44
Умер Делонкль
[258], говорят, его убили гестаповцы, они там сводят счеты с теми, кто с самого начала был слишком плотно замешан в их дела.
* * *
У нас в Нейи есть неизвестно откуда взявшийся малыш, кто-то сунул его в руки турков, которых выпустили из Дранси, — он очень хорошенький и все время тянется обниматься. Ему четыре года, он смышленый. И воспитанный, как-то вечером пришел просить нянечку: «Мадемуазель, не могли бы вы, если не трудно, убрать у меня в комнате?» Говорят, по вечерам он плачет в постели и зовет маму. Где она? В лагере? Депортирована? Никто не знает.
Сколько же маленьких детей, у которых даже нет такого Нейи, зовут свою маму? Николь пришла в институт сама не своя. Жан-Поль написал ей, что снова уезжает, и ей предстоят тяжелые дни. Он заменял ей весь мир, и, может, потому она видела не так ясно, а я, глядя на нее, думала в минуты отчаяния, не схожу ли я с ума и не превращаюсь ли в Кассандру — ведь вокруг все так спокойны. Она говорит:
«Для него и для меня нет ничего хуже». Я тоже через это прошла, но иначе: узнала все только после долгого молчания. Чем я могу им помочь?
Жерар говорит, что уезжать не надо.
Видела Андре Бея, очень мил,
introduced[259] месье Катену и Мари-Луизе Реж.
Вторник, 18
Единственное свободное утро за всю неделю, и это так хорошо, что даже непонятно, что с ним делать. В девять получила по почте
SOS из Бордо. Весь день бегала по не слишком важным делам. Родителям не нравится, что я туда хожу. На Рошфор, в Дени, на Ламарка и т. д.
Два месяца назад арестовали Одиль Варло, когда она несла одежду детям, которых спрятала в монастырь; кто-то наверняка ее выдал, дело было в Ницце, ее отправили как была — в летнем платье и босоножках.
Суббота, 22 января
Опять говорят про облавы, одна была сегодня ночью. Маму предупредила мадам Пессон.
Папа сказал, что, пожалуй, больше здесь оставаться нельзя и надо что-то придумать. Боюсь, как бы не было поздно. Что мы будем делать, если они позвонят? Не открывать? — они вышибут дверь. Открыть и показать удостоверение? — один шанс из ста.
Попытаться бежать — а если они ждут и у черного хода? Быстро убрать постели, чтобы они не поняли, что мы ушли только что; на крыше холодно, шок, мысль, что отныне придется где-то укрываться. Я никогда не покидала дом. Открываем, грубый окрик, поспешно одеваемся среди ночи, рюкзак нельзя, что взять с собой? Понятно, что пришла беда, меняется вся жизнь, и нет времени думать. Бросаем все, внизу ждет машина, лагерь, встреча со знакомыми, их невозможно узнать. Случится это или нет?
Среда, 24 января 1944
Лавина дел, новостей, отчаянно идем ко дну.
Вчера утром отвела маленького Жерара к мадам Карп. Он не хотел меня отпускать. Нежный умоляющий голосок: «Вы останетесь со мной? Мы будем обедать вместе?» К счастью, он быстро поладил с мадам К. (.Сколько доброты и простоты в этих людях! Я им это сказала, а ее муж ответил: «Да что вы! Только надо бы, чтобы нас было больше».) Страшно подумать: чуть ли не половина человечества творит зло и всего лишь горстка людей пытается его исправить!
Вторая половина дня каким-то чудом оказалась свободной. Хотела помузицировать с Денизой. (Все равно не получилось бы, потому что мы заговорили о том, что ей опасно оставаться; и ведь я прекрасно знала: она рассердится, возмутится, что я вмешиваюсь, но внутренний голос заставлял меня наступить на свои
feelings[260] — в общем, настроение было испорчено.) И
as a joke[261] сказала: «Наверняка сейчас свалится какое-нибудь дело».
В два часа приходит старшая из сестер Бьедер: вся семья в панике — естественно, женщина с восемью детьми, ей одной не справиться, и она просит отправить хотя бы четверых — вот и свалилось дело! Я пошла к ним вместе с этой девочкой, ужасно глупой, потом к Мари М., всегда готовой помочь (еще одна из горстки праведников), потом к мадам Б., но мадам Мийо там не застала.
Вечером пришел Робер Неве с женой. Они рассказали о его брате Жане — он приехал в отпуск в шикарной немецкой форме, на груди военный крест и железный крест. Какое помрачение умов! У меня не укладывается в голове, как могут свободные люди с живой душой и совестью, в здравом рассудке превратиться в фанатиков, в автоматы. То, что сделали с Жаном Неве, — уменьшенная модель того, что нацизм сделал с немцами.
Сегодня, как только я встала, пришла пневматичка от бабушки Даниеллы. В связи с этим пришлось пробегать все утро. Я должна записать кое-какие вещи, которые никогда не должны забыться. Мадам В. рассказала: по соседству с ней полиция явилась арестовывать одну старую женщину, у нее ампутирована нога и рана не заживает из-за диабета. В первый раз инспектор увидел, в каком она состоянии, и оставил ее. Но через два дня за ней пришли с носилками и поместили в больницу Ротшильда.
Больница Ротшильда переполнена, а поскольку другие не имеют права принимать таких больных, как мы… На днях больница Святого Иосифа была вынуждена отослать лежавшую там парализованную женщину, причем «евреев» запрещено перевозить в каретах скорой помощи, так же как им запрещено сидеть в немецких присутственных местах. Так, когда на днях в комендатуру вызвали больную пожилую женщину и она прибыла в сопровождении сиделки, им сказали: «Вы (сиделка) садитесь, а еврейке — стоять!» (целых два часа).
Кто дал им право обращаться с людьми как со скотом? Вот до чего мы дошли через двадцать веков после пришествия Христа.
Теперь даже частные лечебницы обязаны отказывать евреям. Дениза записалась в клинику на улице Нарсиса Диаза. Вчера пришла владелица (в слезах) и вернула ей деньги. Что делать? И кто обо всем этом знает? Я должна рассказать. Но те, кто не испытал этого на себе, даже мои друзья, даже Леоте, если я им это расскажу, все равно не осознают до конца. Они Пожалеют нас, именно нас, но не осознают масштаба и последствий происходящего.
Еще одна история: мадам Бьедер рассказывала утром, что ее дочь потеряла цветную косынку, которой очень дорожила, потому что это подарок отца. И вот однажды она ее увидела на ком-то из соседок по кварталу (у заставы Сен-Дени). Спросила, не нашла ли она случайно Этот платок. Та отвечает: «Нет, мне его дала ваша консьержка, он ей достался от покойной невестки, носить его она не может из-за траура, вот и отдала мне». Консьержка подобрала платок на лестнице (и траура никакого она не носит). До какой же степени надо опуститься, чтобы обворовывать семью с восемью детьми, зная, что их отец депортирован и сами они живут в нищете? Меня замутило при одной мысли. Несчастная мадам Бьедер вынуждена все время что-то давать консьержке (вино, картошку — ничего, кроме вареной картошки, они не ели уже месяц), чтобы она их не выдавала. Она целиком в ее руках.
Понедельник, 31 января 1944
Вчера, как обычно, заходил к обеду Жорж. Я привезла двух детишек из Нейи: Рафаэля и Деде. Пока они играли в гостиной, я вдруг догадалась (сколько таких догадок в последнее время), что он рассказывает моим родителям плохие новости. Подошла поближе. Так и есть.
Сюзанна осталась одна и без всего (даже сумки при ней нет); Марианна, Эдит (жена Франсуа) и старая мадам Орас Вейль арестованы; Эммелины, к счастью, не было дома, Жан-Поля тоже; маленький Бернар тоже спасся.
У меня сжалось сердце от боли, теперь других новостей не бывает. Но когда это касается близких, боль особая. Крутятся шестерни страшной машины, крутятся и перемалывают людей. Загребают то посторонних, то своих, обрекая всех вокруг на страдания и беды.
Судьба семьи Вейль-Рейналь — единичный случай из тысяч и тысяч подобных. Таких историй каждый может рассказать сколько угодно: Франсуа, офицер бронетанковых войск, в июне 1940-го был смертельно ранен осколком снаряда в легкое, когда отдавал приказ сжечь танки, чтобы они не достались врагу. Я до сих пор не могу смириться с его смертью, а для его родных эта потеря осталась незаживающей раной. Он оставил двухлетнего сына Бернара и жену-литовку, которую толком никто не успел узнать. Все заботы о малыше взяла на себя бабушка Франсуа.
Август 41-го. В первый же раз, когда пошли аресты адвокатов, схватили Мориса, отца Франсуа. Год продержали в Дранси, потом депортировали в таком плачевном состоянии здоровья, что вряд ли он вернется живым.
Декабрь 41-го. Арестованы Жорж и Робер, братья Сюзанны. Их три месяца держали в Компьене, потом выпустили. Робер умер три месяца тому назад, скорее всего, сказалось пребывание в Компьене.
Сюзанна после депортации Мориса уехала к детям в свободную зону. И вот теперь… Ее дочь Марианна, невестка и свекровь тоже депортированы.
Недавно, из любви к литературе, я приводила слова из одной русской пьесы, которые попались мне в «Поединке»: «Погоди, дядя Ваня, мы отдохнем… мы отдохнем». Речь шла о вечном сне. Теперь мне все чаще приходит на ум, что только мертвые могут избежать этих гонений и мук, и когда я слышу о смерти какого-нибудь еврея, невольно думаю: «Теперь немцам его не достать». Это ужасно. Мы почти перестали оплакивать мертвых.
Жить стало так мучительно и сама человеческая жизнь обесценилась настолько, что начинаешь задумываться, есть ли что-нибудь за пределами этой жизни. Никакие учения и доктрины не заставят меня поверить в загробный мир, но, может быть, это сделает нынешняя повседневная жизнь.
Я бы этого не хотела, ведь это будет значить, что я утратила вкус к жизни. Конечно, где-то на земле есть хорошая жизнь, есть счастье и в будущем оно нас ждет: меня — если уцелею, а других наверняка. Но никогда не сотрется сознание того, как мало стоит человеческая жизнь, и, главное, уверенность, что в человеке таится зло и это дурное начало, раз пробудившись, способно обрести огромную силу.
31 января 1944
Вчера приходила Франсуаза, принесла ответ на запрос о Даниелле. Она рассказала, что один ее знакомый, который работал напротив гестапо (на площади де Соссэ), был вынужден перебраться на другое место, потому что не мог больше слышать криков, которые доносились оттуда каждый день. Арестантам загоняют иголки под ногти, чтобы вырвать у них признания, допрашивают их по десять часов, а потом дают «отдохнуть» под охраной огромного полицейского пса, готового перегрызть горло человеку, едва он шевельнется, хоть носовой платок захочет вынуть из кармана.
Что творится в тюрьмах? Тем, кто там побывал, тоже будет что рассказать.
Вторник, 1 февраля
Вчера утром забирала из больницы Дуду. Дети и медсестры не хотели его отпускать. Потом зашла к мадам Вейль. Она в отчаянном состоянии. Страх за детей. Бесконечные хлопоты.
Записываю для памяти. Пьер сейчас в пансионе, и там есть один старый учитель, которому, если хочешь, чтоб он к тебе хорошо относился, надо приносить подарки. И вот он, отчитав за что-то Пьера, обратился к нему при всем классе: «А вам самое место под Бурже, рядом с вашими единоверцами!»
Сердце разрывается. Когда знаешь, что подразумевают эти жестокие слова, что такое Дранси.
Естественно, ребята стали спрашивать, кто он такой. А как заставить ребенка соврать? И что ему делать в этой безвыходной ситуации? Конечно, он тут же «под страшным секретом» сказал двум товарищам, кто он.
Вот чего прежде не было: я с ужасом замечаю, что стоит мне увидеть немца или немку, как во мне разгорается ярость, так бы на них и набросилась. Они для меня стали носителями зла, с которым я ежеминутно сталкиваюсь. Раньше я смотрела на них иначе, считала, что они слепые автоматы, тупые, замороченные и не отвечающие за то, что делают, — может, это и правильно? Теперь же смотрю глазами простого человека, реагирую примитивно, подчиняясь инстинкту, — что это, ненависть?
Почему бы не уступить этому примитивному импульсу? Зачем стараться: рассуждать, разбираться в причинах и искать корни, раз они сами этого не делают? Оправдан ли такой вопрос? Если усилием воли подавить в себе инстинктивное желание отомстить, можно ли будет исправить все содеянное зло? Поймут ли они что-либо, кроме закона возмездия? Это не дает мне покоя.
Вчера была годовщина — одиннадцать лет пришествия Гитлера к власти! Одиннадцать лет режиму, который, как мы теперь знаем, опирается главным образом на концлагеря и гестапо. Кто-то может этому радоваться?
Ночью почти не спала; вчера вечером, когда я вернулась, папа объявил, что оставаться тут на ночь нельзя. Я разрываюсь между папой, который твердо держится за разумное, видимо, давно обдуманное решение, и мамой, предельно уставшей, которая его не примет. Кто прав? Папа, который видит факты, или мама, которая полагается на чувства? Может быть, мама не так ясно все понимает, как папа? Не знаю. Несомненно одно: вся тяжесть такой жизни и все заботы лягут на мамины плечи, на плечи женщины, как всегда. Перед ужином она расплакалась, ее вдруг словно прорвало — неудивительно, вот уже сколько месяцев она оберегает нас всех и всегда и не имеет права дать себе волю. Это страшное перенапряжение. Боже мой, что же будет?
Придется пожертвовать тем малым, что осталось от семейной жизни. Вечерами, когда все в сборе. Но если на другой чаше весов реальная угроза? Папа уже испытал это на себе, так что я понимаю его решение. Но понимаю и безумную усталость мамы.
Пятница, 4 февраля 1944, вечер
На этот раз бури не избежать. Нарыв назревал всю неделю. В полдень приходила некая добрая женщина по поручению мадемуазель Д., чтобы нас предупредить, но только озадачила. Речь шла о какой-то темной истории с женитьбой, и мы подумали, что это обман. Долго ломали голову, я пожалела, что у меня нет дара сыщика.
Но все оказалось правдой. Возвращаясь домой, я встретила на лестнице папу — у него был Н. и сказал: «Тревога на ближайшие три дня».
Я шла от Надин. Занятие опять сорвалось. Пианиста, который должен был играть с нами, в четверг арестовали вместе с сестрой и, скорее всего, уже депортировали. По доносу. Мадам Журдан играла с Надин сонату Бетховена. И вдруг на середине адажио меня скрутила боль — из-за жестокости, дикой нелепости этого ареста, еще одного среди тысячи, десятка тысяч других. Такой прекрасный молодой музыкант, способный дарить миру чистейшую радость своим искусством, таким далеким от всякого зла, — и вот он во власти грубой силы, в мире материи, не просветленной духом. Сколько людей, наделенных талантом, который должен вызывать в других благоговение, были вот так же перемолоты, уничтожены германскими варварами? Так грубая, кощунственная сила берет и разбивает драгоценную скрипку, хранящую в себе столько возможностей пробуждать самые высокие, самые чистые чувства. Все эти люди, арестованные, сосланные, расстрелянные бошами, стоили в сто тысяч раз больше, чем их палачи. Какая утрата! Какой триумф зла над добром, уродливого над прекрасным, силы над гармонией, материи над духом!
Чистейшие в мире, наделенные чудесными дарами души, такие как Франсуаза, загублены этой машиной зла.
Закроем глаза. Забудем о происходящем здесь и сейчас и зададим вопрос: «Допустимо ли, чтобы злые люди имели власть отправлять на смерть множество, миллионы невинных людей, как это, например, делается сегодня с евреями, но пусть это будут действия любой другой небольшой части людей против множества любых других?» Ведь именно так, если излагать обнаженную суть, этот вопрос должен стоять перед совестью любого честного человека, именно это творится, именно это творят немцы.
И все равно я верю в победу добра над злом. Пусть сегодня все опровергает эту веру. Все стремится внушить мне, что настоящую, ощутимую, реальную победу одерживает сила. Но душа моя отметает очевидность. Откуда такая неискоренимая вера? Не думаю, что дело только в традиции.
Бедный, бедный Жан Маркс! Как он все это вынесет? Я чувствую, хоть не могу доказать, что художники страдают во сто раз сильнее, чем люди обычных профессий. Потому что это полный отрыв от идеального мира, в котором они жили. И, кроме того, их чувствительные души трепещут от малейшей царапины.
А тут сегодня приехал Жан-Поль!
Вот и закончился еще один этап. Надо привыкать к кочевой, богемной жизни. Конец моей «официальной жизни».
Понедельник, 14 февраля 1944
Шваб, Марианна, Жильбер.
Уже неделя, как я перестала вести дневник — решила, что в моей внешней жизни наступил перелом. Но пока ничего не произошло. Я по-прежнему ночую у Андре, родители — у Л.
[262] Каждый вечер, когда надо уходить, так и подмывает заупрямиться; это бессмысленно — мы уже все обсудили и все решено. Мы знаем, что никто не считает свою позицию единственно верной, и мы не вправе спорить с папой, который уже прошел через это. Всему виной усталость и искушение остаться дома, поспать в своей постели — это они подбрасывают доводы, которые мы уже давно обсуждали и сознательно отвергли.
На этой неделе пришла записка от Марианны с просьбой прислать теплые вещи. Она и все остальные в Дранси. Наши собственные теплые вещи мы уже собрали и упаковали. Для нее я сделала швейную коробочку, Хочу приготовить такую же для себя. Стараюсь предусмотреть разные мелочи жизни в депортации. В четверг отправили тысячу пятьсот человек. Может быть, и их тоже.
Мать Жильбера арестовали в Гренобле. Это завершение ее полной страданий жизни: сначала разорение семьи, затем внезапная смерть мужа, последовавшая через год после того, как за несколько часов умер их восемнадцатилетний сын Ив. В Гренобле она оставалась исключительно ради старой свекрови, которую не стали забирать.
Жорж вчера рассказал об одной восьмидесятилетней женщине, которую арестовали вместе с мужем во время облавы в Труа. Ее сын забеспокоился, что от нее нет никаких известий. Ее стали искать в доме престарелых, в больнице. И наконец ему сказали, что она в морге, лежит без рубашки и даже не прикрытая простыней, значит, с нее сняли всю одежду, в которой была при аресте. Мама, услышав это, воскликнула: «Надо все же записывать такие вещи, чтобы потом они не забылись». Похоже, она не знает, что я как раз это и делаю и стараюсь запомнить все как можно точнее.
На днях во время тревоги тридцать человек со звездами были арестованы, отправлены в Дранси и депортированы, просто потому что находились на улице (надо думать, не для собственного удовольствия). Раввин Закс возвращался с похорон. Еще одного человека, который шел из церкви после поминальной службы по сыну, погибшему на фронте, высадили на станции метро «Сите» (вероятно, не из бомбоубежища), и его схватила немецкая полиция. «Арийцев» оштрафовали на пятнадцать франков, остальных депортировали.
Вторник, 15 февраля 1944
Сегодня в Нейи видела мадам Кан, она только что из Дранси, провела там неделю. Ее арестовали в Орли, а накануне последней депортации освободили, поскольку она из персонала. От нее я узнала подробности, которые никто другой, кроме тех, кто когда-нибудь вернется из депортации, рассказать бы не смог. Она дошла, как говорится, до последней черты. Дальше — неизвестность, что дальше, знают только те, кого увозят.
В самом Дранси жизнь вполне сносная. За неделю она ни разу не голодала. Я-то больше всего хотела узнать именно про отъезд. Дранси я знаю, в прошлом году два раза по две недели бывала там каждый день, так что представляю себе тамошний быт. Так и вижу здание с большими окнами, прижавшиеся к стеклу лица — люди сидят взаперти, без всякого дела или собирают свои скудные запасы съестного и едят сидя на кроватях в любое время дня. Прямо напротив поста полиции по делам евреев
[263] жила семья Клотц, арестованная в Туре: отец, мать, сын, две дочери; мать была красивая изящная женщина с седыми волосами. Я бы рассказала больше, но если уж рассказывать, то не мне, а тем, кто там сидел и сам все пережил.
Я расспросила обо всем подробно: за день или два до отъезда в один отсек помещают шестьдесят мужчин и женщин без разбора, которые поедут в одном вагоне (видимо, до Меца семьи не разлучают). На полу вагона двенадцать тюфяков на шестьдесят человек, на всех одно (или три?) туалетное ведро — когда же его опорожняют? Каждый получает паек: четыре большие вареные картофелины, фунт вареной говядины, 125 г маргарина, немного сухого печенья, полкоробочки плавленого сыра и хлеб — буханка с четвертушкой. Рацион на шесть дней пути.
Трудно сказать, испытывают ли они Голод. В этом спертом воздухе, где пахнет нечистотами, немытым телом. И никакой вентиляции? Могу себе представить. Да еще судороги — когда в вагоне шестьдесят человек, многие не могут ни лечь, ни сесть.
Тут же больные, старики. Хорошо еще, если люди подберутся порядочные. Но все равно никуда не деться от невыносимо тесного соседства.
Моются в лагере мужчины и женщины вместе. Мадам Кан говорит: «Если народ приличный, можно помыться так, чтобы тебя никто не видел, а когда женщина нездорова, другая встанет перед ней и прикроет». Мадам Кан — человек отважный, кроме того, она медсестра. «Конечно, для особо стыдливых, — она говорит, — это неудобно». Но ведь есть и такие.
Я спросила: «Кто опорожняет туалетные ведра в вагонах (для меня это больной вопрос)?» Она не знает. Спросила, не видела ли она, как привозят арестованных (я подумала, что она могла бы видеть Марианну и ее бабушку, но ее отпустили до того, как они туда прибыли). Она говорила: «Например, в моей комнате была семья из тринадцати человек, родители и дети, арестованные в Арденнах, отец — инвалид войны, имеет награды, одиннадцать детей, младшему год и три месяца, старшему — двадцать один. Фюидин (еще один служащий из Орли) увидел, что я пустила их в нашу комнату, и сказал: „Здорово придумала!“ Но, уверяю вас, все эти дети были очень опрятные и воспитанные. А мать — никогда ни слова, полна достоинства!» У меня сжималось сердце от этого рассказа.
Тринадцать человек — родители и дети, что Они собираются делать с малышами? Если людей депортируют для работ, зачем нужны дети? Правда ли, что их отдают в немецкие приюты? У других работников, которых отсылают в Германию, жен и детей не берут. Чудовищная непостижимость, дикая нелепость всего этого терзает мозг. Хотя, скорее всего, тут не о чем размышлять, ведь немцы и не ищут логики и пользы. У них есть цель: истребить.
Но почему тогда встречные немецкие солдаты не бьют меня по лицу, не оскорбляют? Почему они часто придерживают для меня дверь в метро или извиняются, что прошли передо мной? Почему? Потому что они не знают, точнее, перестали думать, они лишь исполняют то, что им прикажут. И в упор не видят непостижимой нелепости того, что сегодня они мне придержали дверь в метро, а завтра, может быть, отправят в депортацию, меж тем как я есть я, одно и то же лицо. Причинной связи для них не существует.
При этом не исключено, что они и не знают всего. Один из самых страшных признаков этого режима — его лицемерие. Они не знают обо всех ужасных подробностях преследований, потому что в этом участвует горстка палачей и гестаповцев.
А если б знали, то почувствовали? Почувствовали бы страдания людей, оторванных от родного очага, женщин, у которых отнимают их плоть и кровь? Они слишком тупы для этого.
Кроме того, они не думают, я постоянно это повторяю, в этом, по-моему, корень зла — и еще в силе, на которой держится режим. Первый шаг к нацизму — это уничтожить самостоятельное мышление, голос совести отдельного человека.
Мадам Кан говорила: «Я видела людей из Бордо, Ниццы. Гренобля (мадам Блок?), с побережья»
[264]. Эти люди, наверное, страдают еще больше — такая резкая перемена. Я, например, мы все тут — мы уже кое-что знаем, кое-чего насмотрелись. А они там жили почти нормальной жизнью, и вдруг их вырвали из нее! Как им, должно быть, трудно привыкать!
«Попасть в Дранси для меня не так страшно, настоящим потрясением было, когда мне сказали, что я оттуда выйду». Я тоже хорошо знаю «пейзаж» Дранси. Но что почувствую, когда пойму, что меня «в самом деле замели» и что безвозвратно закончена целая часть моей жизни, а может быть, и вся жизнь, хоть я хотела бы жить даже там.
Похоже на репортаж, правда? «Видела такую-то, она вернулась из… Мы ее расспросили». Но в какой газете прочтешь сегодня репортажи о таких вещах? «Я вернулся из Дранси». Кто об этом расскажет?
Да и не будет ли оскорбительным для людей, терпящих невыразимые страдания, свои у каждой отдельной личности, говорить о них в форме репортажа? Кто сможет передать страдания каждого человека? Единственным достоверным и достойным написания репортажем было бы собрание полных свидетельств всех, кто был депортирован.
У меня в голове постоянно всплывают страницы из второй части «Воскресения», где говорится про этап ссыльных. Как-то утешительно (хорошенькое утешение) знать, что кто-то еще, сам Толстой, — видел и описал нечто подобное. Ведь мы живем изгоями среди людей, само наше обособленное страдание возводит стену между ними и нами, поэтому передать им наш страшный опыт невозможно, он остается никак и ничем не связанным с опытом остального мира. В будущем, когда все всё узнают, такого уже не будет. Но нельзя забывать, что, пока все это происходило, люди, терпевшие страшные муки, были полностью отделены от остальных, не желавших их знать, и что был попран великий завет Христа, согласно которому все люди братья и все должны разделять и облегчать страдания себе подобных. Выходит, помимо социального неравенства, существует также неравенство в страдании (нередко, особенно в мирное время, идущее об руку с первым).
Год назад в эту же пору я писала Жану безмерно восторженные письма о «Воскресении». И даже целиком переписала ему одну страницу — ту, где Толстой ищет причину творящегося зла. Теперь я даже не могу поговорить с ним об этом. На днях у Андре я нашла весь свой дневник, который начала в тот трагический и вдохновенный год, когда познакомилась с Жаном, когда мы бывали в Обержанвиле.
Теперь трагедия сгустилась до черноты, нервы предельно напряжены. Кругом беспросветная серость и смятение, однообразная, страшная шарманка вечного страха.
…Это было два года назад. Дурно становится, как подумаю, что прошло уже два года, а этот кошмар все длится. Складываю месяцы в годы, они превращаются в прошлое, и мне кажется, плечи мои вот-вот сломаются.
Мадам Лёв спросила, когда мы в лазарете раздевали двух только что доставленных четырехлетних братьев-близнецов: «Ну, что вы обо всем этом скажете?» Я ответила: «Ужасно». А она меня подбодрила: «Ничего, не расстраивайтесь. Мы попадем в одну партию, поедем вместе».
Она думала, я боюсь за себя. И ошибалась. Я боюсь за других, за всех, кого арестовывают каждый день, и за тех, кто это уже прошел. Я болею чужой болью. Если бы это касалось только меня, было бы легко. Я никогда не думала о себе, а сейчас и подавно не собираюсь. Мне причиняет боль все вместе, вся эта чудовищная фабрика жестокости, сама депортация. Как же она ошибалась!
7.15
Только что приходил бывший заключенный того лагеря, где находится маленький Поль; он писал мне раньше, спрашивал, что может сделать для мальчика.
Страшно худой, со впалыми глазами, как все освобожденные узники. Мне было приятно с ним общаться — это человек, который сам все видел, все испытал и все знает. Хотя он не знал, что немцы взялись за женщин и детей. Но поверил без труда.
Он говорит, что видел, как на одну ферму недалеко от Гамбурга привезли двадцать венских евреек из разных сословий, некоторые явно не простолюдинки. Я спросила, как с ними обращались.
«С неслыханной жестокостью. В пять утра их будили ударами кнута, выгоняли на весь день работать в поле, обратно они возвращались вечером, спали в двух тесных каморках, на дощатых двухъярусных нарах. Фермер был с ними груб, жена — пожалостливее и худо-бедно их кормила».
Кто дал право этому фермеру обращаться как со скотами с этими людьми, явно превосходящими его в духовном отношении?
По поводу катынских рвов он сказал, что точно такое же видел своими глазами. В 41-м году в концлагерь, где он был, привезли тысячи страшно истощенных, умирающих от голода русских пленных. Там свирепствовал тиф, люди умирали сотнями каждый день. И каждое утро немцы добивали прикладами тех, кто не мог встать. Желая избежать такой участи, больные опирались на своих здоровых товарищей, чтобы держаться в строю. Немцы били прикладами по рукам тех, кто поддерживал. Больные падали, их швыряли на тачки, стаскивали с них одежду и сапоги, подвозили к краю рва и сбрасывали навозными вилами подряд живых и мертвых, а сверху посыпали известью. И всё.
Примерно то же самое рассказывал тот санитар из детской больницы.
Horror! Horror! Horror![265]
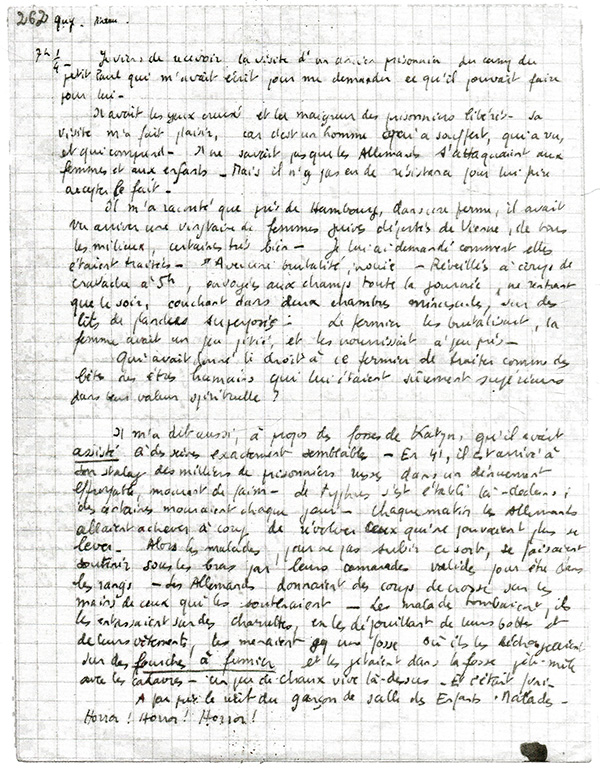
Последняя страница дневника, запись от 15 февраля 1944 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Моим родителям Денизе и Франсуа Жоб, испытавшим на себе все страдания, которые согласились отвечать на мои вопросы и передали мне все, что пережили сами.
Жану Моравецки, чье участие и поддержка были мне так необходимы.
Всем свидетелям описанных событий и незнакомым людям, выразившим мне сочувствие.
Мариэтта Жоб
Сестра Мариэтты Надин, брат Дидье, двоюродные братья Максим и Ив и двоюродная сестра Ирен, которые родились во время и сразу после войны и всегда помнили об истории жизни и трагической смерти своей тети, а также их дети горячо благодарят Мариэтту за бесценную работу верного и усердного «проводника» записок Элен Берр.
Семьи Шварц и Жоб
Мариэтта Жоб
Украденная жизнь
Такое счастье знать, что, если меня схватят, Андре сохранит эти листки, частицу меня самой, то, чем я больше всего дорожу, потому что все материальное потеряло для меня всякую ценность; душа и память — только это важно сохранить.
Элен Берр Дневник, 27 октября 1943 г.
Единственный доступный нам неоспоримый, опыт бессмертия души — это бессмертная память о мертвых среди живых.
Дневник, 30 ноября 1943 г.
Элен Берр родилась 27 марта 1921 г. в Париже. Ее родители — Антуанетта, урожденная Родригес-Эли, и Реймон Берр принадлежат к старинным французским семьям еврейского происхождения. Дед Реймона Берра по материнской линии Морис Леви, президент Академии наук, был сотрудником Леона Гамбетта
[266], а его мать Анриетта Сэ — сестра Жермена Сэ, врача императора Наполеона III. Брат-близнец Реймона Берра Максим, капитан артиллерии, командир батареи, погиб в мае 1917 г. в бою.
У Антуанетты и Реймона Берров было пятеро детей: Жаклин (родилась в 1915-м, умерла в возрасте шести лет от скарлатины), Ивонна (родилась в 1917 г.), Дениза (1919), Элен (1921) и Жак (1922). Элен училась в частной школе сестер Буте де Монвель и получила два аттестата с отличием по двум специализациям: в 1937 г. латынь и греческий и в июне 1938 г. — философия.
В 1940–1941 гг. она изучает английский язык в Сорбонне и получает степень лиценциата, а в июне 1942 г. защищает диплом по английскому языку и литературе на тему «Интерпретация римской истории у Шекспира», за который получает 18 баллов из 20 возможных и оценку «отлично». Подать документы на конкурс для получения степени агреже ей не позволяет вишистское антиеврейское законодательство, поэтому в октябре 1942 г. она подает проект докторской диссертации, посвященной эллинизму в поэзии Китса.
С 1941 г. Элен участвует в работе «Временной взаимопомощи», подпольной организации, созданной Денизой и Фредом Мийо, которая продолжала заниматься судьбой детей-сирот и после войны. Элен вместе со своей сестрой Денизой и их кузиной помогают устраивать детей на воспитание, главным образом в департамент Сона и Луара. Антуанетта Берр, мать Элен, собирает средства у частных лиц и предприятий. Ивонна, другая сестра Элен, уезжает из Парижа с маленьким сыном Максимом и мужем Даниелем Шварцем, получившим работу в свободной зоне. Младший брат Жак едет к Ивонне в Экс-ан-Прованс, получает степень лиценциата классической филологии в Клермон-Ферране и поступает в Страсбургский университет. Дениза Берр 12 августа 1943 г. выходит замуж за Франсуа Жоба и поселяется у мужа. Элен, одна из всех детей, остается жить с родителями в квартире по улице Элизе-Реклю, 5, в 7-м округе Парижа.
7 апреля 1942 г. она начинает вести дневник, в котором описывает события повседневной жизни. С 28 ноября 1942 г. по 25 августа 1943 г. — перерыв в записях. Время от времени Элен передает исписанные страницы кухарке Берров Андре Бардьё, чтобы в случае ее ареста та передала их ее жениху Жану Моравецки. Андре Бардьё делает все, чтобы помочь попавшим в беду. Она укрывает Элен и ее родителей во время ночных облав, прячет детей-сирот. Утром 8 марта 1944 г. Андре присутствует при аресте семьи Берр.
Первая встреча Жана Моравецки и Элен Берр происходит в ноябре 1941 г. в Большом амфитеатре Сорбонны. После этого несколько месяцев они не видятся. 27 апреля 1942 г. студент-философ Молинье говорит Моравецки, что хотел бы познакомиться с «образованной девушкой, которая любит музыку». Моравецки приглашает Элен в Литературный дом на улице Суффло послушать с ним и Молинье квартеты Бетховена.
26 ноября 1942 г. Жан покидает Париж, чтобы через Испанию добраться до Северной Африки и вступить в Свободные французские войска. Но попадает в плен в Памплоне. Потом его отправляют в лагерь близ города Миранда, оттуда ему удается отправить Элен открытку, содержащую понятный для специалистки по Шекспиру намек: он «удочери Просперо»
[267]. Находясь в плену, Жан получает от Реймона Берра деньги, на которые покупает себе одежду. Его переводят в Мадрид, где он заказывает себе два костюма и покупает коробку с роскошным лавандовым мылом, которую отправляет Элен. Ему все же удается попасть в Марокко и в Алжир, он участвует в высадке десанта в Прованс в августе 1944 г. и в немецкой кампании.
В 1942 г. семью Берр настигают нацистские репрессии. 23 июня Реймон Берр, до недавнего времени вице-президент компании «Кюльман»
[268], арестован и вскоре отправлен в лагерь Дранси. Фирма платит залог, благодаря чему 22 сентября 1942 г. его выпускают с условием, что он будет выполнять служебные обязанности, находясь дома и ни с кем не вступая в контакт. Но круг сжимается, семейству все чаще приходится уходить из дома. 14 февраля 1944 г. Элен Берр пишет: «Я по-прежнему ночую у Андре, а родители — у Л
[уазле]. И каждый вечер, когда надо уходить, так и подмывает заупрямиться. […] Всему виной усталость и искушение остаться дома, поспать в своей постели — это они подбрасывают доводы, которые мы уже давно обсуждали и сознательно отвергли». Берров укрывают разные знакомые. Но вот 7 марта 1944 г. они решают переночевать дома. А 8-го в 7.30 утра их арестовывают и вскоре отправляют в Дранси. Элен депортирована вместе с родителями 27 марта 1944 г., в день, когда ей исполнилось 23 года.
Реймон Берр попадает в лагерь Аушвиц-III — Моновиц. В конце сентября 1944 г. у него на колене образовалась флегмона. Он умер в результате вмешательства врача-антисемита. Вот что написал об этом в 1947 г. Давид Руссе в книге «Дни нашей смерти»
[269]:
Бернару помогала память оРеймоне Берре. Берр очутился в Krankenbau из-за флегмоны на ноге, за ним хорошо ухаживали Blockältester 16-го барака, немецкий еврей, коммунист и молодой Stubendienst[270] поляк Манелли, но он все же угодил в руки главного врача — поляка, отъявленного антисемита, который прооперировал его и, по всей вероятности, отравил, согласно приказу начальства.
Бернар с удивлением вспоминал, как интересно и понятно, даже для простого человека, Берр рассказывал о математике. И как он совершенно отстраненно анализировал перед всеми, для всех, для самого себя собственный лагерный опыт. Такая сила воли; неослабевающая решимость сохранять самообладание побуждала Бернара ревностно следовать его примеру. В нем еще жила молодая сила, он был способен на такие порывы.
В избранных личностях он видел идеал и неизменно восхищался ими, подобно многим, всю жизнь сохраняющим веру в мифических героев. Он хотел кончить свои дни, как Реймон Берр.
Антуанетта Берр умерла в газовой камере 30 апреля 1944 г. «Передайте им, что мне было не страшно», — просила она.
Только Элен прожила больше года. 31 октября ее увозят из Аушвица, 3 ноября она прибывает в Берген-Бельзен. Надин Эфтлер, которая была вместе с ней в Аушвице летом 1944 г., так говорит о ней в письме 1993 г.:
Так и вижу, как она сидит по-турецки или полулежит, приподнявшись на локте, на третьем, верхнем ярусе нар (мы спали по десять человек на нарах). Вокруг нее всегда собиралось, много народу, она неспешно рассказывала, как жила до лагеря, и вдыхала в нас жизнь, так что на какое-то время мы забывали, где находимся. Я еще и сегодня ясно вижу ее лицо. Это и было самым поразительным: необыкновенное спокойствие в сочетании с жизненной силой, которое она старалась нам передать. Что она нам говорила? Всячески нас ободряла; могла одной лишь магией слов перенести нас куда-то далеко от лагеря, от этого бесконечного ужаса. Еще в ней была некая нравственная красота, некое, скажем так, природное благородство. Ее единственную я запомнила по фамилии, потому что она любила повторять, что ее зовут Элен Берр.
В этой «клоаке зла»
[271] она не теряла веры в будущее. У нее хватало сил бороться с кошмаром, который ее окружал. Она берегла свою душу и души подруг — напевала свои любимые мелодии, чтобы отогнать уныние от себя и других узниц: Бранденбургские концерты и сонату для скрипки и фортепиано Сезара Франка.
По рассказам немногих свидетелей, собранным в мае 1945 г., когда освобождали концлагеря, Элен была единственной, кто подходил к одной заключенной, сошедшей с ума. «Думаю, со мной случится то же самое», — говорила она своей вскоре умершей подруге Алисе. Но вышло иначе. Утром, за пять дней до освобождения лагеря англичанами больная тифом Элен не смогла встать и выйти на перекличку. Ее забила до смерти охранница. Вернувшиеся в барак женщины нашли ее лежащей на полу. Так угасла еще теплившаяся в ней искра жизни (свидетельства собраны Денизой Жоб).
20 июня 1945 (1946?) г. — Жан Моравецки писал Денизе Жоб:
Такие создания, как Элен, — не уверен, что они вообще есть, — не только прекрасны и сильны сами по себе. Они озаряют красотой и увеличивают силы тех, кто умеет их понять. Для меня Элен была символом силы — той светлой силы, которая и есть сама красота, гармония; притягательность, верность, надежда и честность. Все это погибло. Смерть отняла не только женщину, которую я любил, но нечто большее: душу, столь близкую моей (читая дневник, я еще острее ощутил эту потерю). Все, что я отдал Элен: верность, нежность, любовь — она унесла с собой. Я даже не могу сказать: в могилу… и это так ужасно. Унесла и другое сокровище: чудный источник, из которого я мог бы в будущем черпать силы, и даже успел ненадолго приникнуть к нему. Что такое полгода? Однако полугода хватило, чтобы связать наши жизни прочными узами, которые могла бы развязать лишь смерть, и она их развязала. Даже в разлуке Элен занимала во мне все больше места. Я все-все хранил для нее. И как я мог оставить ее, не убедившись, что она в безопасности?
Что осталось от этих шести месяцев, по которым память блуждает, словно они длились вечность, и которые пролетели как один час? Какой-то витающий вокруг неуловимый аромат, смутно похожий на лаванду…
Был еще один экземпляр дневника Элен — его отпечатал на машинке кто-то из служащих компании «Кюльман», и в таком виде его хранили в семье. Я узнала о его существовании в пятнадцать лет, а спустя еще несколько лет прочла. И у меня возникло глубокое убеждение, что надо что-то сделать, чтобы свет личности Элен остался с нами, возобладал над всеми гнусностями. Эта боль не утихала годами. Как выжить, как восстать против заговора молчания, подобного свинцовому колпаку? Задавать вопросы считается неприличным, непозволительным, есть только то, «что было до», и то, «что было после», Я благоговейно собирала рассказы переживших то время, словно старалась извлечь из зияющей раны драгоценный камень — вновь обретенное, освобожденное слово.
9 ноября 1992 г. я приняла решение отыскать оригинал. И в первую очередь подумала о Жане — ведь дневник предназначался ему. Я знала, что он когда-то работал советником в посольстве, и отправила письмо на его имя в Министерство иностранных дел. 25 декабря 1992 г. он пригласил меня к себе домой.
«Это был гармоничный, волнующий, так сказать bitter sweet
[272], дуэт сердец, — написал он мне потом. — Да, это было волшебство, которое коснулось нас благодаря любимой тени…»
Через два года он передал мне оригинальную рукопись. Признался, что это его «избавляет от угрызений совести, от упреков самому себе в том, что он не смог ничего сделать». И прибавил: «Я благодарен вам за то, что вы освободили меня от этой муки, разорвали обруч из раскаленного железа».
Жан дал мне большой конверт из крафтовой бумаги, который хранился у него в шкафу, на самом верху. В конверте были сложены отдельные листки из школьных тетрадок, заполненные ровным тонким почерком. Текст очень разборчивый, написан на едином дыхании, в полной гармонии мысли и чувства, почти без помарок и исправлений.
В 2001 г. я заново прочитала рукопись, записала текст на дискету и распечатала 12 экземпляров — для всех членов семьи и для Жана.
В 2002 г. передала рукопись в Мемориал Шоа
[273]. Там мне посчастливилось встретить заведующую архивом Карен Тайеб, — которой я вручила все документы, касающиеся нашей семьи. Ее горячее участие и усердие позволили оживить этот документ.
В Мемориале есть витрина, посвященная дневнику Элен и истории семьи Берр. Однажды я увидела, как ее окружили и склонились над ней несколько девушек, они пытались разобрать, что написано в рукописи, а рядом, на скамейке терпеливо дожидались своей очереди другие.
«Дневник» опубликовали сначала во Франции в январе 2008 г., а потом еще более чем в двадцати странах. «Элен была бы очень рада такому невероятному успеху», — написал мне Жан. Он скончался, когда готовилось английское издание. Этот человек редкостного обаяния, с благородным умом и сердцем навсегда останется со мной.
Пусть же этот «Дневник», символ победы над смертью, живет долгой жизнью и не дает угаснуть памяти обо всех, чьи голоса были уничтожены.
Мариэтта Жоб, январь 2009 г.
Семья Элен Берр
Бабушка
Берта Родригес-Эли, мать Антуанетты
Родители
Реймон Берр (1888–1944), вице-президент компании «Кюльман»
Антуанетта Берр (1891–1944), урожденная Родригес-Эли
Братья и сестры
Жаклин Берр (1915–1921)
Ивонна Шварц (1917–2001), урожденная Берр, жена Даниеля Шварца (1917–2009)
Дениза Жоб (1919–2011), урожденная Берр, жена Франсуа Жоба (1918–2006), брата близнецов Николь и Жаклин Жоб
Жак Берр (1922–1998)
Жених
Жан Моравецки [Ж. М.] (1921–2008)
Круг чтения Элен Берр
«Беовульф». Средневековый англосаксонский эпос (с иллюстрациями Рокуэлла Кента), 1932.
Луис Бромфилд. «Пришли дожди», 1937.
Морис Бэринг. «Дафна Эдин», 1927.
Поль Валери. «Наброски», 1941.
Роже Мартен дю Гар. «Семья Тибо», кн. 8-я, «Эпилог», 1940.
Генрих Гейне. Стихи.
Оливер Голдсмит. «Добрячок», 1768.
Джон Голсуорси. «Фриленды», 1915.
Элизабет Гоудж. «Островная магия», 1934.
Гуго фон Гофмансталь. «Сочинения в прозе», 1927.
Кеннет Грэм. «Ветер в ивах», 1908.
Федор Достоевский. «Преступление и наказание», 1866. «Вечный муж», 1970. «Подросток», 1975. «Братья Карамазовы», 1880.
Жорж Дюамель. «Жизнь мучеников», 1917.
Андре Жид. «Имморалист», 1902. «Тесные врата», 1909.
Генрик Ибсен. «Бранд», 1865.
Рокуэлл Кент. «Саламина», 1935.
Редьярд Киплинг. «Рикки-Тикки-Тави» (из «Книги джунглей», 1894). «Воскресенье на родине» (из сборника «Труды дня», 1898).
Джон Китс. «Эндимион», 1818. «Гиперион», 1819. «Моя рука — она еще живая», стихотворение, 1819. «Оды» (в частности, «Ода к осени», 1819).
Джозеф Конрад. «Сердце тьмы», 1899. «Лорд Джим», 1900.
Александр Куприн. «Поединок», 1905. «Гамбринус», 1907.
Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране чудес», 1865. «Алиса в Зазеркалье», 1887. «Охота на Снарка», 1876.
Уолтер де Ла Мар. «Пирог павлина», 1913.
Герман Мелвилл. «Моби Дик», 1851 (с иллюстрациями Рокуэлла Кента).
Алан Александр Милн. «Винни-Пух», 1926. Стихи для детей, 1924–1927.
Чарлз Морган. «Спаркенброк», 1936.
Аксель Мунте. «Легенда о Сан-Микеле», 1929.
Ги де Пурталес. «Чудесный улов», 1937.
Райнер Мария Рильке. «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке», 1904. «Записки Мальте Лауридса Бригге», 1910.
Лоренс Стерн. «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», 1768.
Лев Толстой. «Воскресение», 1900.
Мэри Уэбб. «Ушедший на землю», 1917.
Олдос Хаксли. «Эти бесполезные страницы», 1925. «Контрапункт», 1926. «Слепец в Газе», 1936.
Томас Харди. «Джуд Незаметный», 1895. «Возвращение домой», 1878.
Эрнест Хемингуэй. «Прощай, оружие!».
Антон Чехов. «Дядя Ваня», 1899. Рассказы — вероятно, в переводе на английский Констанс Гарнетт, 1917–1921.
Уильям Шекспир. «Отелло», 1604. «Кориолан», 1607. Сонеты, 1609. Три пьесы в переводе Ги де Пурталеса: «Гамлет», «Мера за меру», «Буря», 1929.
Перси Биши Шелли. «Освобожденный Прометей», 1820. «Адонис, элегия на смерть Джона Китса», 1821. «Защита поэзии», 1821.
Письмо Элен Берр сестре Денизе после ее свадьбы с Франсуа Жобом 12 августа 1943 г.
Суббота, 10 часов вечера
Dear Mrs[274] Франннсуа (произносить как написано)!
Надеюсь, ты обратишь внимание, в котором часу я тебе пишу — десять вечера — ну? это тебе ни о чем не говорит? Десять вечера — это час наших разговоров на кухне, когда, совершив удачные набеги в нужные места, обшарив буфет, кладовку, обе плиты и шкафчики, мы болтали обо всяких «глупостях» — они были безумно интересны для трудновозрастных особ, но, к счастью, быстро забывались, как только их стопы покидали заколдованный круг, выложенный надтреснутой каменной плиткой. И вот сегодня вечером я грустно поплелась «перекусить» (эвфемизм для обозначения ночного обхода). Действовала как заведено: установила две кастрюли на огнедышащее ложе и заглянула в: 1) газовую духовку (результат нулевой); 2) электрическую духовку (там стояло блюдо для запеканки, но, увы, пустое, вымытое и вычищенное, как будто постаралась ты); 3) кухонный шкафчик (несколько невзрачных вареных картошек в кастрюльке; взяла одну штучку для порядка); 4) буфет (отличный кусочек сыра, который по крошечке сгрызла, — эх, моя страсть к зеленому горошку может Не выдержать конкуренции). И в завершение этого одинокого обхода заглянула в чугунок — он был ПОЛОН макарон с помидорами-кабачками (ты обожаешь эту смесь). And then the melancholy cloud did fall[275]! Я робко окунула палец в это варево и вдруг почувствовала — что твой Гамлет, — как кто-то plucked те by the sleeve[276], этот кто-то был твой призрак; и с той минуты все потеряло вкус (злые языки свалят все на недосоленные кабачки и нехватку сыра), я, как вор, закрыла крышку чугунка, и под этот лязг сердце мое разбилось вдребезги, оно так и осталось бы разбитым, если бы не сбежала из кастрюли и не зашипела на плите моя еда, тем самым вернув меня к действительности.
Отныне уж не будет больше той непринужденной кухонной атмосферы, в одиночку я стану слишком conscious[277] и не смогу наслаждаться своими трофеями. Но я пишу это письмо не затем, чтобы жаловаться. Сама не знаю, для чего взялась его писать: возможно, это завершение тех двух дней, в течение которых я непрестанно думала о тебе и о том, что ты для меня значишь. А может, оно навеяно тем самым кухонным обходом.
Хочешь, я расскажу, что творится у меня на душе, — все очень просто, хотя и удивительно похоже на двуликого Януса: я ощущаю огромную пустоту, будто мне ампутировали руку или ногу и рана еще не зарубцевалась (прошу прощения за этот образ, но он точнее всего отражает истину). С другой стороны, твое счастье (а о нем говорят твои письма) — для меня яркий живой огонь, около которого я греюсь. Вот почему я благодарна тебе за твой брак — потому что ты сотворила этот светлый очаг.
Когда я думаю, к примеру, как ты готовишь для Франсуа, как вы с ним музицируете, я очень счастлива — наверняка в меня сама собой проникает частица вашего счастья. Эта мысль для меня такая же утешительная, такая же cosy[278], как освещенное окошко в хижине доброго дровосека для заблудившихся в лесу детей из волшебной сказки. Прямо сейчас, когда за окном дождь и ветер, я думаю о доме номер 78 по Версальской улице и вижу свет в темноте. Если б ты знала, какая это для меня поддержка! Ваш брак — истинное благословение, источник молодости и надежды в бурном грозном море. Thank you so much, Mrs[279] Франннсуа. Посылаю тебе открытку, которую просили передать Шарль и Фалик: я сама не придумала бы ничего лучше! Над стилем, вероятно, поработали Фалик с Бернаром. Но виден замысел и чувство.
Утром я получила письмо от Уильяма Э. Смита (номер 3) без единого знака пунктуации, в котором все фразы соединяются союзом as[280].
Поскольку (= as) я не хочу делать то же самое, останавливаюсь. Это не значит, что я не буду писать вам опять, когда придет охота.
До свидания, мои светлые окошки.
Люблю вас обоих.
Кролик[281].
P. S. Зайду к вам в понедельник около полудня (позднее не могу) — принесу мясо, хлебные карточки, фрукты и точно скажу, когда ты сможешь встретиться с родителями. Маргерит придет в два часа.
Записка Элен Берр сестре Денизе с рассказом об аресте[282]
8 марта 1944 г., 10 ч. 20 мин.
Сегодня утром в 7.30 — дзынь! Я подумала — пневматичка!! Дальше вы знаете. Персональная мера. Цель — Анри [Реймон Берр], якобы из-за того, что полтора года назад слишком часто бывал вне дома. Короткая поездка в особом автомобиле чуть ли не через дорогу, к Гастону Беберу [в отделение полиции]. Ждали в автомобиле. Прибыли сюда, в управление 8-го округа, прямо под цирком Ранси! Марсель [французская полиция] сегодня утром был нелюбезен (на мой взгляд). Здесь — все учтивы. Ждем. Тут есть кот по имени Негус! Мало что успели взять. Хорошо бы лыжные штаны и ботинки (для мамы) и рюкзак для меня. Маме маленький чемоданчик.
Надеюсь, Денден [Дениза] будет беречь себя; малышу Жито [Житомиру — так Дениза Берр в шутку называла своего еще не родившегося ребенка, возможно, в честь наступления советских войск под Житомиром] будет хорошо у кузена Поля [у акушерки в Аржевиле]. У Анри [Реймона Берра] с собой только одна дочь Элен, она ему дорога. Но если появится на свет [родит] Дениза, сделайте все для нее.
Пусть Ники [Николь С., двоюродная сестра Элен] обо всем расскажет своей свекрови. Я успела отложить книги из Сорбонны. Видите, какая я предусмотрительная! Постарайтесь раздобыть суппонерил [снотворное] для Минни [Антуанетты Берр]. Может, есть у Андре [Бардьё]. Думаю, УЖИФ сделает все возможное. В любом случае, что бы ни случилось, мы твердо намерены вернуться. Я этого ждала! Еще не посещала здешний Gospodje [туалет[283]]. Папа говорит, он сносный.
Денден не должна ходить к Элизе [домой, на улицу Элизе-Реклю]. Минни категорически против. Филипп Д. сделает все, что нужно, в Обержанвиле, он знает.
Поговори с Шарлем и Люси [с Жаком Берром и Ивонной Шварц], мы думаем о них с любовью. Пусть видят, что я сохранила sense of humor[284] (доказательство — история с Gospodje!). Все хорошо, родная.
До скорой встречи.
Сто тысяч kisses[285].
Ленлен

Записка от Элен Берр сестре Денизе с рассказом об аресте. 8 марта 1944 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Письмо Антуанетты и Элен Берр, написанное в Дранси перед депортацией
Вторник, 21 марта [1944 г.]
Дорогие мои, поскольку тут всерьез заговорили об отъезде и у нас в ближайшие дни может не оказаться возможности вам написать, делаю это сейчас. Вы, наверное, получили две пневматички из Парижа, раз мы получили все, что просили. Я весь день хожу в лыжных штанах и ботинках, ни дать ни взять tomboyish[286] во вкусе Люси [Ивонны Шварц]. У нас все хорошо, не думайте, что нас страшит отъезд. Мы были к этому готовы с первой минуты. На наше счастье, мы здоровые и сильные. Вот для стариков, таких как бабушка Жиля, для многих маминых пятничных подопечных, которых прислали сюда, и для детей это действительно ужасно. Мы же — другое дело. Нам повезло еще и в том, что мы поедем в числе последних и ненадолго. Тут мы ни в чем не нуждаемся, жизнь почти нормальная, и все совсем не так, как может представляться извне. Возможно, и дальше будет не так уж страшно. Я говорю это не для того, чтобы вас успокоить, так думают все, исходя из того, что видят тут. Все, что нужно для отъезда, у нас есть.
Люди рядом с нами вполне приличные. (Семейство из Вив, жена одного знакомого полковника и др., есть и кузены самой Нины [России], ее тезки, отец, мать, очаровательные сын и маленькая дочка.) Бывают, конечно, споры и стычки, порой очень забавные.
Мы беспокоимся об одном: чтобы вы все берегли себя и мы могли уехать с уверенностью, что по возвращении застанем вас живыми и здоровыми. Это единственное и непременное мое желание. Надеюсь, вы постараетесь его исполнить.
[Антуанетта Берр]
Я тут занимаюсь детьми, делаю кое-что в столовой. Найти себе занятие — это главное. Самый тяжелый день — воскресенье. Мама с папой иногда работают на чистке овощей.
[Элен Берр]
Пятница, 24 [марта 1944 г.]
Все хорошо. Нас перевели в вагонную комнату на 60 человек, люди в основном хорошие. Когда леди и джентльмены перемешаны, куда приятнее быть среди хороших людей. Похоже, отъезд завтра. Но это не точно. Папа молодцом (его обрили, но это ничего, его круглая голова стала только милее). Я сплю над мамой.
Покажите наше письмо Поллуксу [Жаку Берру] и Люси [Ивонне Шварц]. Я часто думаю о них и хочу, чтобы они знали, что с нами все хорошо, и не тревожились. А то, боюсь, они такого могут навообразить! Часто думаю: видела бы нас тут Люси — то-то посмеялась бы! Скажите Франсуа [Жобу], что я ношу свои красные носки, заштопанные серым. А Ник [двоюродной сестре Николь] — что я думаю о ней по p+q раз в день. Ходила она к mother-in-low[287]? Буду думать о ней 25 марта. Расскажите Одиль [Небюрже], как у меня дела, и убедите ее, что все хорошо. Что нового в Нейи? [Приют для еврейских детей, которым занималась Элен Берр.] Скучаю по малышам и всем остальным. Поцелуй от меня мадам Кремье — я тронута до слез ее вниманием. Нет ли новостей от Жана? После всего этого мы с ним сравняемся в лагерном опыте. Надеюсь, Андре [Бардьё] совсем не плачет. Целую ее и папашу Барда [ее мужа]. Скажите Луизе [служанке], что мы тут встаем в 6 часов и целый день чистим овощи и работаем по хозяйству. Прошло уже два понедельника, и я вспоминала, что это мой день в библиотеке. Поручаю Ник, если она еще туда ходит, передавать новости обо мне всем моим тамошним друзьям и подругам. Я записываю все, что вижу, чтобы не забыть. Так что рассчитывайте на меня. Есть утешительные известия об уехавших. Кажется, положение их сильно улучшилось. Вот одна деталь, чтобы вы лучше понимали, как мы тут живем: некоторые женщины по полчаса подкрашивают себе глаза!
Я должна 800 франков мадам Бикар за перевод, который остался дома. Заплатите ей, если у вас есть деньги. Здешний туалет — просто поэма. Хорошо, что у меня постоянно заложен нос! Надеюсь, у моих подопечных: Шарля [Жака Берра], Симона, Жерара — всё в порядке. У Надин есть адрес маленького Клода. Думаю, вы открываете письма, которые мне приходят, и отвечаете, если нужно. Уступаю место маме, обнимаю вас крепко-крепко. Самое главное: не беспокойтесь о нас. Не грустите, а надейтесь.
Мадам Жюль [Элен Берр]
25 марта [1944 г.]
Если вы получите это письмо, значит, мы уехали из Парижа, шлем на прощание улыбку всем друзьям. Не забудьте затребовать три посылки, они, скорее всего, придут к Веберам. Обещайте, что будете заботиться о себе и прибегать к щедрой помощи месье Сестера [к деньгам — от «сестерций»], которого хорошо знает Рене [Дюшмен, президент компании «Кюльман»] с сотоварищами. Любите и берегите друг друга. Заботьтесь о моей милой Жер [тетушке Жермене], и пусть она не тревожится. У нас все хорошо, и когда-нибудь Мариэтта [Марианна, то есть Франция] будет гордиться нами и вами. Пусть Жито [Житомир] будет похож на своих двоюродных братьев. Первая его улыбка, я уверена, будет обращена к нам. Приходят хорошие известия от Нины [из России], и улыбаемся при мысли о том, как ее боятся наши добрые друзья. Если бы они к нам сюда заглянули, они бы, верно, догадались, как я им желаю того же, что происходит с нами. Но Господь справедлив, и все переменится. Не забывайте про Обер [Обержанвиль] ради папы, пусть Юп [садовник] с женой делают, что должны. Пусть мадам Орлеан [мадам Шевалле, протестантка, работавшая во «Временной взаимопомощи»] сходит к Рене [Дюшмену] по поводу детей Элианы [еврейских], у Денизы Эйло для нее есть еще деньги. Не забывайте ни о Марго — ежемесячно [ежемесячно платить портнихе Марго], ни о бедняжке Марте [мадемуазель Детро, учительница детей Берров, когда они были маленькие]. Передайте Андре, что я ей бесконечно признательна за то, что она продолжает вам помогать. Что бы она сказала, если б увидела, в какой грязи мы тут живем? Думаю обо всех друзьях. Вы — наша сила и надежда. Мне, кажется, удалось подбодрить всех тут, хорошо бы и вы в это верили. Мы будем смотреть на одни и те же звезды, нас будет соединять любовь к Франции. Да благословит вас Господь, мои любимые, да сохранит ваши души в чистоте и не допустит их ожесточиться, разве что на злых. Мы любим вас. Ваша мама, Минетта, ваш друг. Целуйте тетю Марианну и скажите Жер, пусть бережет себя ради меня.
Нетта [Антуанетта Берр]
Вейль-Рейнали уехали на другой день после своего прибытия.
26 марта [1944 г.]
Дорогие любимые! Жребий брошен, несмотря на оптимизм милого, великолепного Бе. Впрочем, я и не сомневалась. Наши чемоданы, нагруженные всеми замечательными вещами, что вы прислали, уехали. Посылки с Милоном [сливочным маслом], как большая редкость, пришлись особенно кстати. Попробуйте посылать питомцам Нетты маленькие посылочки исключительно с Милоном и темной черешней — через Андре дяде Одиль, вам дадут его адрес, он будет очень благодарен. Племянницы Марты Шарль тоже дали о себе знать и получили посылки. Возможно, мадам Орлеан сможет что-то разузнать, но, кажется, все идет по нарастающей. Настроение бодрое. Получила благодарность от всей комнаты за поднятие духа. Элен пригласила гостей на 4 часа!!! Несколько приятных девушек, подходящая компания.
Для нас этот день был не таким тяжелым, как для вас, мы понимаем: вам больнее, чем нам. Постарайтесь получить томик Шекспира, который Кастор [Элен Берр] купила для брата и очень хотела бы, если можно, ему передать. Знаем, что Нина в добром здравии, и думаем, что Роза скоро решится вас навестить. Анри [Реймон Берр] и его напарник не прочь повидаться с Нинеттой, а потом поручить Валентине сообщать, как идут дела. Поездка, конечно, будет не из легких, но молодым это на пользу.
Все тут стараются нам помочь, но хозяин — Гастон [полиция]. Октавы, друзья Нины, не едут — отсрочка, потому что у М. грипп, но, скорее всего, ненадолго, если только Руаяли окажутся сильнее и честнее, чем друзья этого мерзавца Жозефа, я тут узнала много нового про его художества от одной знакомой его второй жены. Мадам Мален постарается через свекровь Мадлон [кузины Папуля], которая едет вместе с ней, переслать письмо своему сыну — он в плену. Денден [Дениза Жоб] может связаться с мадам Шаванн (улица Куронн, 36) и предупредить ее. Мадлон останется здесь, она прекрасно выглядит, ее малыш тоже. Будьте уверены: мы все выдержим. Хотим вернуться целыми и невредимыми, чтобы помочь очищению Мариэтты [Франции] и обняться со всеми вами. Берегите себя, надевайте мои летние платья, а если нужно, поищите летние ткани в чемодане у Лабомов. Привет Элен, Карпантье, Бабинетте. Желаю Рене немножко поумнеть. Луизу отпустите не раздумывая. Андре — ангел, тут и говорить нечего. Кажется, еще столько хочется сказать. Горжусь моим Анри. Просто молодец. Элен — ну, вы ее знаете. Думаю только о возвращении, как мы все будем рады, нежно люблю вас всех, мой любимый Шарль, его сестры, зятья и племянники, которые, Луи уверен, сейчас у Фриделя, моя милая Жер и ее домашние, Марианна, все мои дорогие друзья. Позор Жижи и Бишетте. Когда-нибудь они будут здесь, с Эбером.
Да благословит вас Господь и да здравствует Франция.
Ваша Минетта [Антуанетта Берр]
Жан Моравецки
Моя жизнь с дневником Элен
В послевоенные годы я жил за границей. Дневник Элен всегда был у меня с собой в двух видах: рукопись и один из тех машинописных экземпляров, которые сделали выжившие члены семьи. И перечитывал я чаще всего именно копию. Оригинал будил слишком много эмоций. Почерк, «рука» Элен создавали впечатление ее живого присутствия, словно и не прошло столько лет; я снова переживал жестокую, невозвратимую утрату, та самая бескровная ледяная рука словно тянулась ко мне, чтобы я вернул ей жизнь…
В 1956 г., вернувшись в Париж из Эквадора, где я жил долгое время, я на одном приеме встретил Лоранс, молодую разведенную женщину, наделенную и душевной, и телесной красотой. Мы полюбили друг друга и поженились. Несколько лет спустя я понял, что больше не могу утаивать от моей дорогой супруги самое трагическое событие моей молодости. Я дал ей рукопись. Она прочитала и сказала: «Как прекрасно, что тебя любила такая необыкновенная девушка». Эти простые слова означали, что она не хочет отгонять от нашего семейного очага тень моей юной подруги и эта тень не стоит между нами.
В 1989 г. Лоранс скончалась — ее погубил табак, — я стал чаще брать в руки дневник и все глубже вникать в него. Боль от страшного удара, полученного в 1945 г., не проходила, и хотя острота ее со временем притупилась, зато теперь я лучше понимал страдания Элен, видел, как ей было плохо, оттого что меня не было рядом. Я ощутил угрызения совести. Ледяная рука тянулась ко мне и о чем-то просила. Как и эти точно обращенные ко мне слова: «Единственный доступный нам неоспоримый опыт бессмертия души — это бессмертная память о мертвых среди живых».
Тогда мне пришло в голову выполнить этот долг и, объединившись с Элен, составить и опубликовать «Дневник на два голоса». Первым был бы голос Элен, такой как есть, а вторым — мой: я рассказал бы о переходе через Пиренеи с провожатым и компасом, о гостеприимстве генерала Франко, которое я испытал в памплонской тюрьме и концлагере Миранда. Мое участие в военных операциях в составе Свободных французских войск особого интереса не представляло. Тогда как в тюрьме и лагере я соприкоснулся со странным миром, где соседствовали безобразное и героическое. Трудность заключалась в том, что, во-первых, эти две части слишком отличались друг от друга этически и эстетически, а во-вторых, в том, что я в то время не делал никаких записей, поэтому по сравнению с дневником с точно отмеченными датами мое повествование было бы хронологически расплывчатым.
В один прекрасный день в ноябре 1992 г. я получил письмо от Мариэтты Жоб, племянницы Элен, — оно предлагало выход из тупика. Мы встретились у меня дома, и я почувствовал в ней призвание «проводника». Я был очень взволнован и очень рад сердечно поговорить о моей погибшей невесте. Горячо одобрил намерение Мариэтты опубликовать дневник и передал ей рукопись. Еще несколько лет она неустанно преодолевала препятствия — иные оказались совершенно неожиданными — на пути к публикации. Но затем дневник вышел в свет, имел, как известно, большой успех, и теперь я наконец спокоен: «ледяная рука» живет отныне в памяти людей и говорит мне:
And thou be conscience-calm
’d — see, here it is
[288].
Жан Моравецки, письмо Мариэтте Жоб, 1 мая 2008 г.
Фотографии Элен Берр

Элен Берр в саду загородного дома Берров в Обержанвиле. Лето 1942 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job

Элен Берр и Жан Моравецки. Обержанвиль, лето 1942 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job

Слева направо: Элен Берр, Антуанетта Берр, Дениза Берр, Жан Моравецки и Жаклин Жоб. Обержанвиль, лето 1942 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job

Элен Берр с подопечными детьми. 1943 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Примечания
1
Часть сносок в этой книге (они выделены курсивом) содержится во французском издании 2008 г., по которому выполнен перевод. Однако для русского издания сделаны дополнительные примечания, при составлении которых переводчик во многом опирался на сведения, любезно предоставленные Мариэттой Жоб, племянницей Элен Берр и публикатором «Дневника», а также на материалы из архива парижского Мемориала Шоа.
(обратно)
2
После капитуляции Франции в июне 1940 г. страна была разделена на две зоны: оккупационную на севере и так называемую свободную на юге, со столицей в Виши, где находилось коллаборационистское марионеточное правительство.
(обратно)
3
УЖИФ (Union Générale des Israélites Français, UGIF — Всеобщий союз французских евреев, легальная организация, представлявшая евреев в оккупированной Франции.
(обратно)
4
В июле 1942 г. была проведена самая крупная за все время нацистской оккупации облава на евреев. Тысячи человек, в том числе детей, согнали на парижский Зимний стадион, где держали несколько дней, после чего отправили в лагеря смерти.
(обратно)
5
Строки из стихотворения Артюра Рембо «Песня из самой высокой башни». (Пер. Елены Баевской.)
(обратно)
6
В 1941–1942 гг. французский философ Симона Вейль состояла в переписке с испанцем Антонио Атаресом, содержавшимся в концлагере Верне.
(обратно)
7
Этти Хиллесум — молодая нидерландка, работавшая в 1942 г. волонтером в концлагере Вестерборк, а в 1943 г. погибшая в лагере смерти Аушвиц (около польского города Освенцим). После войны были опубликованы ее дневники и письма.
(обратно)
8
Имеется в виду поэт Жиль Ивен (псевдоним Ивана Щеглова, 1933–1998).
(обратно)
9
Сама затеяла — сама расхлебывай
(англ.). Дословно «Некого винить, кроме себя»
(прим. верст.).
(обратно)
10
Частная учительница английского языка.
(обратно)
11
В Обержанвиле под Парижем находился загородный дом семьи Берр.
(обратно)
12
Франсуа Жоб — будущий муж Денизы, сестры Элен. Николь — его сестра.
(обратно)
13
Роман американского писателя Луиса Бромфилда (1937), действие которого разворачивается в колониальной Индии.
(обратно)
14
Одиль Небюрже, лучшая подруга Элен, и Жерар Лион-Кан (1920–2004), с которым она была помолвлена. Жерар воевал в составе Свободных французских войск. Впоследствии стал известным юристом.
(обратно)
15
«Палубный теннис», или ринго, — игра, в которой игроки перебрасываются резиновым кольцом через сетку.
(обратно)
16
Двоюродная сестра Элен и сестра Франсуа Жоба.
(обратно)
17
Неготовности что-либо делать
(англ.).
(обратно)
18
Жалости к себе
(англ.).
(обратно)
19
Жалким
(англ.).
(обратно)
20
Речь идет о так называемой арианизации экономики, то есть конфискации собственности, недвижимости, предприятий, принадлежавших евреям. Начиная с осени 1940 г. как оккупационные немецкие власти, так и правительство в Виши последовательна осуществляют меры по изъятию имущества евреев и передаче его временным управляющим.
(обратно)
21
Довольно и того, что все поведал я тебе
(англ.). Возможно, Элен переделывает строчку Шекспира из трагедии «Юрий Цезарь»: «Довольно и того, что день придет к концу» (акт V, сцена 1).
(обратно)
22
Робер Эскарпи (1918–2000) — филолог, писатель, журналист, во время немецкой оккупации участвовал в движении Сопротивления.
(обратно)
23
Элен Берр называет своих друзей именами книжных героев. Спаркенброк, герой одноименного романа английского писателя Чарлза Моргана (1894–1938), — это Андре Бей.
(обратно)
24
Луи Казамиан (1877–1965) — специалист по английской литературе, преподаватель Сорбонны.
(обратно)
25
Флорис Делатр (1880–1950) — преподаватель английской литературы, племянник знаменитого философа Анри Бергсона.
(обратно)
26
Тетя Жерара Лион-Кана.
(обратно)
27
Шантеклер и Пертелот — петух и курица, герои одной из стихотворных новелл «Кентерберийских рассказов» английского поэта XIV в. Джеффри Чосера.
(обратно)
28
Младший брат Жерара Лион-Кана, тоже сражавшийся в Свободных французских войсках и погибший в 1944 г.
(обратно)
29
Лизетта Леоте — школьная подруга Элен. Семьи Леоте и Берр жили по соседству.
(обратно)
30
Элен Берр работала библиотекарем-волонтером в библиотеке Английского института в Сорбонне.
(обратно)
31
Жан и его жена Клодина — родственники Элен.
(обратно)
32
Клод Лион-Кан — брат Жерара и Жоржа.
(обратно)
33
Английским институтом называлось английское отделение филологического факультета Сорбонны. Находился он в Латинском квартале, на улице Медицинской школы, 5. Теперь это одно из зданий Новой Сорбонны — Париж-III.
(обратно)
34
Жермена — старшая сестра матери Элен, — Антуанетты Берр.
(обратно)
35
Супруги Перилу — друзья семьи Берр.
(обратно)
36
Мадам Леви жила в том же доме — на авеню Элизе-Реклю, 5, что и Элен с родителями, этажом выше, и дружила с семейством Берр.
(обратно)
37
Спэндрелл — герой романа Олдоса Хаксли «Контрапункт». В финале романа его убивают под звуки этого квартета Бетховена.
(обратно)
38
«Благодарственная песнь»
(нем.) — из 15-го квартета Бетховена.
(обратно)
39
Жан Моравецки страдал сенной лихорадкой.
(обратно)
40
Школьная подруга Элен.
(обратно)
41
Элен Берр училась в частной школе, которую держали сестры Жюльетта и Сесиль Буте де Монвель.
(обратно)
42
Полагаюсь на инстинкт
(англ.).
(обратно)
43
Поль Доттен — специалист по староанглийскому языку.
(обратно)
44
«Беовульф» — древняя англосаксонская эпическая поэма.
(обратно)
45
Имеется в виду мастерская, изготовлявшая сандалии для «Временной взаимопомощи», межконфессиональной подпольной организации, которая существовала с марта 1941 г. и занималась спасением осиротевших еврейских детей. Их помещали во французские семьи и пансионы. Антуанетта, Дениза и Элен Берр активно работали в этой организации.
(обратно)
46
Американская библиотека, одно из любимейших мест Элен Берр в Париже, находилась совсем рядом с ее домом на ул. Генерала Каму. Библиотека была основана в 1920 г., с ней связаны имена Хемингуэя и Гертруды Стайн (они писали статьи для библиотечного журнала), а в годы оккупации здесь, несмотря на категорический запрет нацистских властей, выдавали книги евреям.
(обратно)
47
Лео-Морис Нордман — адвокат, участник Сопротивления, был расстрелян на холме Мон-Валерьен.
(обратно)
48
«Король Хорн» — английский рыцарский роман XIII в.
(обратно)
49
То есть в Обержанвиле.
(обратно)
50
Непонятно, что имеет в виду Элен Берр.
(обратно)
51
29 мая 1942 г. вышел восьмой антиеврейский приказ нацистских властей, обязывающий всех евреев старше шести лет носить в общественных местах желтую звезду. «Еврейская звезда — шестиконечная, размером в ладонь, с черным контуром. Она должна быть сделана из желтой ткани и иметь надпись черными буквами: „еврей“. Носить ее следует слева на груди, она должна быть на виду и прочно пришита к одежде».
(обратно)
52
В глубине сознания
(англ.).
(обратно)
53
В жутком замешательстве
(англ.).
(обратно)
54
Сумасшедшее утро
(англ.).
(обратно)
55
Элен Журдан-Моранж — скрипачка, была дружна с Морисом Равелем. Элен Берр брала у нее уроки игры на скрипке.
(обратно)
56
Безумный
(англ.).
(обратно)
57
Т. е. о желтой звезде.
(обратно)
58
Домашняя учительница всех детей семьи Берр, когда они были маленькими.
(обратно)
59
Вероятно, намек на начало вторжения фашистской Германии, которое быстро привело к капитуляции Франции.
(обратно)
60
Правительство Виши уже в октябре 1940 г. приняло решение о помещении в специальные лагеря евреев-беженцев из других стран. Концлагеря были созданы в так называемой свободной зоне, а в 1941 г. начали действовать и в северной части страны, в оккупированной зоне. Самые крупные из них: Бон-ла-Роланд в департаменте Луаре, Питивье, а также Дранси и Компьень. Сначала арестовывали только евреев-иностранцев, потом и французских евреев, взрослых мужчин; в лагере они жили в тяжелейших условиях, голодали. Первые составы в Аушвиц отправились из Компьеня 27 марта и 5 июня, из Дранси — 22 июня 1942 г.
(обратно)
61
Прислуга
(англ.).
(обратно)
62
«На самом деле для Жана Моравецки не было неожиданностью появление желтой звезды на одежде Элен. В 1992 г. он рассказывал ее племяннице Мариэтте Жоб: „Когда Элен достала свой пиджак, я, еще не глядя, понял ее боль, которая, видимо, отразилась на моем лице, ее-то, в свою очередь, почувствовала Элен. Я ничего не сказал, и она по-прежнему думала, что я ничего не знал“». («Дневник Элен Берр. 1942–1944», издательство Талландье / Мемориал Шоа, Париж, 2011, с. 144.)
(href=#r62>обратно)
63
Агрегасьон — общенациональные конкурсные экзамены, которые нужно пройти, чтобы получить ученую степень агреже, дающую право преподавать в средней и высшей школе. Элен Берр не могла участвовать в этом конкурсе, потому что вишистское законодательство запрещало евреям преподавать в учебных заведениях. Она после защиты университетского диплома начинает готовить диплом о поэзии Джона Китса.
(обратно)
64
7 июня 1942 г. по требованию немецких властей префект департамента Сена обязал евреев ездить в метро только вторым классом и только в последних вагонах. Во избежание скандала префект заявил, что никаких объявлений и публичных сообщений не будет.
(обратно)
65
Помеха
(англ.).
(обратно)
66
Резко
(англ.).
(обратно)
67
Выдающиеся музыканты — пианистка Маргерит Лон и скрипач Жак Тибо были также педагогами, а в 1943 г. организовали ставший знаменитым конкурс молодых исполнителей.
(обратно)
68
Чокнутые
(англ.).
(обратно)
69
Тут так много народа
(англ.).
(обратно)
70
Имеются в виду Высокие плато — пустынная область в Алжире, где в то время находился Жерар Лион-Кан.
(обратно)
71
На вопрос Мариэтты Жоб о том, какой концерт они с Элен слушали в тот день, Жан Моравецки ответил, что это был знаменитый скрипичный концерт, Макса Бруха соль минор. Элен имеет в виду его вторую часть, адажио, написанную в ми-бемоль мажоре. Вообще у Элен было два любимых скрипичных концерта: этот концерт Бруха и концерт ре мажор Бетховена, который был исполнен в память о ней на ее скрипке во время траурной церемоний сразу после войны.
(обратно)
72
Душевное одиночество
(англ.).
(обратно)
73
Там находилось представительство химического концерна «Кюльман», вице-президентом которого был Реймон Берр.
(обратно)
74
Рене Поль Дюшмен — президент компании «Кюльман», который немало способствовал освобождению Реймона Берра из лагеря Дранси.
(обратно)
75
На проспекте Фоша находилось парижское, управление гестапо.
(обратно)
76
С лета 1942 г. почти всех евреев интернировали в Дранси, а оттуда отправляли в Аушвиц.
(обратно)
77
Андре Бардьё — кухарка семьи Берр, у нее Элен ночевала в последние месяцы перед арестом, когда из-за ночных облав стало опасно оставаться дома, ей она доверила свой дневник. И Андре его сохранила.
(обратно)
78
Английской гувернантки.
(обратно)
79
Наступление немцев под пикардийским городом Лоном.
(обратно)
80
Через 12 дней после ланского прорыва, 28 мая, капитулировала Бельгия.
(обратно)
81
Чувство юмора
(англ).
(обратно)
82
Участливый
(англ.).
(обратно)
83
Герой романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».
(обратно)
84
Свиньи
(нем.).
(обратно)
85
Там находилось бюро УЖИФ.
(обратно)
86
Посол Греции в Париже.
(обратно)
87
Он тоже был интернирован в Дранси.
(обратно)
88
Высшая нормальная школа — одно из самых престижных высших учебных заведений Франции.
(обратно)
89
Казармы Турель в Париже на бульваре Мортье.
(обратно)
90
Прием гостей в саду
(англ.).
(обратно)
91
Садовник в Обержанвиле.
(обратно)
92
Акция, вошедшая в историю как «облава на Вель д’Ив» (т. е. на Зимнем стадионе, куда согнали около 14 тысяч парижских евреев, вскоре высланных во французские концлагеря, а оттуда в лагеря смерти), первоначально была назначена на 13 и 14 июля, а потом перенесена на 16 и 17 июля. По требованию немецких властей французское правительство организовало масштабную облаву как в оккупированной, так и в свободной зоне. Теоретически французская полиция должна была арестовывать не французских подданных, а только евреев-иностранцев. В результате-утёчек из столичной городской администрации еврейские организации были информированы о неизбежной облаве.
(обратно)
93
Фернан де Бринон — французский политик, коллаборационист, в 1940–1942 гг. был представителем правительства Виши при немецкой администрации в Париже.
(обратно)
94
Оливье Дебре — студент, учился на филологическом факультете и в Высшей школе изящных искусств. Впоследствии стал известным художником. Он сын профессора Робера Дебре и брат будущего премьер-министра Мишеля Дебре, оба они были участниками Сопротивления.
(обратно)
95
Известный своими зверствами эсэсовец Теодор Даннекер в то время возглавлял французскую канцелярию гестапо по делам евреев и руководил массовыми депортациями.
(обратно)
96
Еврейская больница, фактически превращенная с декабря 1941 г. в тюремную. При больнице существовал детский приют, затем хоспис. Медицинский персонал делал все возможное для спасения взрослых и маленьких пациентов: врачи и медсестры подделывали диагнозы и документы, всячески продлевали пребывание узников Дранси и детей в стационаре.
(обратно)
97
Инструментальный квинтет Франца Шуберта.
(обратно)
98
Картофель
(англ.).
(обратно)
99
Имеется в виду поэма «Принцесса» английского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892).
(обратно)
100
Скрытый смысл
(англ.).
(обратно)
101
На этой улице находились социальные службы УЖИФ.
(обратно)
102
Нездоровое веселье
(англ.).
(обратно)
103
УЖИФ был учрежден правительством Виши по указанию оккупационных властей в ноябре 1941 г. и должен был объединить еврейские благотворительные организации, чтобы было удобнее отслеживать их деятельность. Арман. Кац был генеральным секретарем УЖИФ в оккупированной зоне. Элен Берр записалась волонтером в службу социальной помощи. Всем членам этой организации выдавались удостоверения или карточки (в подтверждение их легального положения), которые давали им некую иллюзию защищенности.
(обратно)
104
Врач-офтальмолог.
(обратно)
105
Имеются в виду близнецы Эммелина и Марианна Вейль-Рейналь. Семейство Вейль-Рейналь было в дружеских отношениях с Беррами. Сестры-близнецы, как и многие другие члены этой семьи, были депортированы и погибли в Аушвице.
(обратно)
106
Роман Олдоса Хаксли (1936).
(обратно)
107
Девятый антиеврейский закон немецких властей от 9 июля 1942 г. запрещал евреям посещать общественные места: театры, кино, музеи, а также библиотеки, стадионы, бассейны, парки, рестораны, чайные. И даже в магазины и другие торговые точки они имел и право заходить только с 15 до 16 часов.
(обратно)
108
Брат Элен Жак и сестра Ивонна Шварц, чей муж получил назначение в свободную зону, уже находились по другую сторону демаркационной линии.
(обратно)
109
За два дня, 16 и 17 июля 1942 г., французская полиция арестовала 12 884 человека: 3031 мужчину, 5802 женщины, 4501 ребенка. Холостых взрослых и бездетные пары отправили в Дранси, семьи с детьми — на Зимний стадион (Вель д’Ив) в. 15-м Округе Парижа.
(обратно)
110
Демаркационной.
(обратно)
111
Жена Андре Бора, вице-президента УЖИФ оккупированной зоны; они оба и четверо их детей были депортированы и погибли в Аушвице.
(обратно)
112
Знакомую Жана Моравецки Тамару Иссерли арестовали за то, что она, еврейка, отказалась садиться в последний вагон метро. Жан хотел узнать, не в Дранси ли она. На самом деле ее отправили в Аушвиц 22 июня 1942 г.
(обратно)
113
Повесть Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (1829) описывала мысли и чувства человека, осужденного на смертную казнь.
(обратно)
114
В тумане
(англ.).
(обратно)
115
Т. е. к родителям Жерара.
(обратно)
116
Правительство Виши протестовало против депортации ветеранов войны, а также их жен.
(обратно)
117
Франсуаза Бернейм тоже работала в УЖИФ, была арестована 30 июля 1943 г. 2 сентября депортирована в Аушвиц, где и погибла.
(обратно)
118
На Вель д’Ив заключенных охраняли не немцы, как думала Элен Берр, а французская полиция.
(обратно)
119
Пьер Лаваль (1883–1945) — премьер-министр правительства Виши в 1942–1944 гг. Организовал насильственный вывоз лучших французских рабочих в Германию, разрешил на неоккупированной территории деятельность гестапо для борьбы с Сопротивлением, руководил арестами и отправкой на уничтожение евреев Франции.
(обратно)
120
На улице Клода Бернара в 5-м округе Парижа находился центр УЖИФ с детским приютом.
(обратно)
121
Эмманюэль Левшец — директор центра на улице Клода Бернара.
(обратно)
122
С желтой звездой.
(обратно)
123
Видимо, в свободную зону.
(обратно)
124
Поезда отправлялись не прямо из Дранси, а со станции Бурже; позднее, с июля 1943 г., — из Бобиньи. Узников доставляли туда на автобусах.
(обратно)
125
Максим Шварц, сын Ивонны и Даниеля Шварц, внук Реймона Берра. В 1942 г. ему было два года. Впоследствии он стал крупным ученым, молекулярным биологом, долгое время заведовал Институтом Пастера.
(обратно)
126
Т. е. Денизы и Элен.
(обратно)
127
Седативное лекарство.
(обратно)
128
Обычно эшелоны из Дранси в Аушвиц укомплектовывали по тысяче человек, набирали в первую очередь евреев-иностранцев. Если в списке был недобор, эсэсовцы могли взять наугад несколько французских евреев. Это и имеет в виду Реймон Берр.
(обратно)
129
Ошарашенная
(англ.).
(обратно)
130
По прибытии в Дранси заключенных обыскивали, у них отнимали личные вещи. Золото, деньги, украшения конфисковывались, учитывались и после депортации, владельцев поступали в кассу лагеря.
(обратно)
131
После облавы на Вель д’Ив Эмманюэль Левшей, директор приюта УЖИФ на улице Клода Бернара, создает подпольную молодежную организацию, членов которой посылает во все концы Парижа и области, чтобы собирать и защищать детей, чьи родители депортированы или опасаются депортации. Говоря о «гетто», он имеет в в иду традиционные старинные еврейские кварталы.
(обратно)
132
На Лиссабонской улице находилось управление французской полиции.
(обратно)
133
Юстасия — героиня романа английского писателя Томаса Харди (1840–1928) «Возвращение домой». Эгдонская пустошь — воображаемое место в Эссексе, где происходит действие романа.
(обратно)
134
Беспримесный
(англ.).
(обратно)
135
Смешки, хихиканье
(англ.).
(обратно)
136
Элен Берр опекает детей в УЖИФ.
(обратно)
137
Плесси-Робинзон — парижское предместье.
(обратно)
138
Реймона Берра выпустят под залог, выплаченный фирмой «Кюльман».
(обратно)
139
Загородный приют УЖИФ.
(обратно)
140
Напряженной
(англ.).
(обратно)
141
Морис Нослей работал вместе с Антуанеттой, Денизой и Элен Берр в подпольной организации «Временная взаимопомощь».
(обратно)
142
Так Элен называет Жана Моравецки. Ланселот Озерный (прозванный так, потому что его воспитала Дева Озера) — герой средневековых легенд и романов о рыцарях Круглого стола, в него была влюблена и вылечила его от страшной раны Элейна из замка Астолат.
(обратно)
143
Видимо, Пятой симфонии Бетховена.
(обратно)
144
Тройной концерт Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром.
(обратно)
145
Книга основателя скаутского движения Роберта Баден-Пауэлла (1857–1951), пособие для занятий с «волчатами», т. е. младшими скаутами 7–11 лет.
(обратно)
146
Скауты делятся на маленькие группы — шестерки.
(обратно)
147
Жозетта Беркель — подруга. Элен, готовившаяся к экзаменам на степень агреже по английской филологии в Сорбонне. Ее сестра Жаклин Мениль Амар замечательно написала об Элен в книге «Те, кто бодрствовал» (издательство «Сток»).
(обратно)
148
Мадлен Будо-Ламотт — секретарь издателя Гастона Галлимара.
(обратно)
149
Жак Шардон (псевдоним Жака Бутелло) — известный в довоенное время писатель. С 1940 г. он сотрудничал с Германией. После освобождения был осужден за коллаборационизм. Андре Бутелло — его брат.
(обратно)
150
Роман английского писателя Мориса Бэринга (1927).
(обратно)
151
Роже Пиронно — девятнадцатилетний участник Сопротивления, расстрелян 29 июля 1942 г. в Париже, на холме Мон-Валерьен.
(обратно)
152
Пламя буйной радости
(англ.).
(обратно)
153
Еврейский праздник Нового года.
(обратно)
154
В октябре 1941 г. сторонники Жака Дорио, лидера ультраправой Французской народной партии, с одобрения немецких властей разгромили парижские синагоги.
(обратно)
155
Сен-Кюкюфа — лес в окрестностях Парижа.
(обратно)
156
Одна из старейших католических церквей в Париже.
(обратно)
157
В переписке члены семьи Берр часто прибегают, к условному шифру, «Элиан Эберы» — это французские евреи.
(обратно)
158
Пьер Масс — адвокат, зять Леона Лион-Кана (отца Жерара). Он был арестован 20 августа 1941 г. вместе с шестью другими коллегами-евреями, составлявшими цвет столичной адвокатуры (это Жан Вейль, Теодор Валанси, Морис Азулэ, Альбер Ульмо; Гастон Кремье, Эдуар Блок).
(обратно)
159
С 17 по 30 сентября 1942 г. 34 тысячи человек были депортированы из Дранси в Аушвиц.
(обратно)
160
Судный день — день поста и покаяния в иудаизме.
(обратно)
161
Центр помощи военнопленным и их семьям.
(обратно)
162
Комическая опера французского композитора Андре Мессаже (1853–1929).
(обратно)
163
Там находился приют УЖИФ для девушек.
(обратно)
164
Цикл песен Шумана.
(обратно)
165
Чаепитие
(англ.).
(обратно)
166
Sang within [me] — пело внутри [меня]
(англ.).
(обратно)
167
Взбудораженная
(англ.).
(обратно)
168
Песни
(нем.).
(обратно)
169
На улице Ламбларди в 12-м округе находился сиротский приют Ротшильда.
(обратно)
170
Настроении
(англ.).
(обратно)
171
Апельсиновый конфитюр, придуманный в XVIII в. бакалейщиком из шотландского города Данди.
(обратно)
172
С декабря 1941 г. по приказу префекта полиции все евреи должны были проходить периодический контроль — являться в префектуру и регистрировать свое удостоверение личности, на которое в обязательном порядке ставился красный штамп: «еврей» или «еврейка».
(обратно)
173
Жан Моравецки решил присоединиться к «Свободной франции», движению за освобождение Франции во главе с генералом Шарлем де Голлем со штаб-квартирой в Лондоне. Ему удалось выехать из Франции в Испанию. Там он был задержан франкистами, но спустя некоторое время достиг Северной Африки и вступил в армию освобождения — Свободные французские войска. 15 августа 1944 г. он участвовал в высадке союзников в Провансе, позднее, весной 1945 г.; в боях на территории Германии.
(обратно)
174
Симон — один из мальчиков-сирот, которые приходили домой к Беррам.
(обратно)
175
Еще могло бы оставаться место для сомнений
(англ.).
(обратно)
176
Там находилось одно из отделении Управления по делам евреев.
(обратно)
177
Видимо, «Концертную симфонию» Моцарта для скрипки и альта.
(обратно)
178
Приятный
(англ.).
(обратно)
179
Анген-ле-Бен — поселок в северном пригороде Парижа.
(обратно)
180
Церковь святой Марии Магдалины в Париже.
(обратно)
181
Безрассудна
(англ).
(обратно)
182
Черный-пречерный вторник
(англ.).
(обратно)
183
Джон Миддлтон Марри (1889–1957) — английский писатель и литературный критик, автор известных работ о Китсе и Шекспире.
(обратно)
184
Надин Детуш — ученица знаменитой пианистки и музыкального педагога Нади Буланже, преподавала игру на фортепиано.
(обратно)
185
Ведь каждый, чья душа не ком земли, / Имеет взгляд и мог бы говорить, когда бы знал любовь / И вспоен был родною речью. (Джон Китс. «Падение Гипериона», песнь 1, 13–15).
(обратно)
186
Так и сияю
(англ.).
(обратно)
187
Отменную шалость
(англ.).
(обратно)
188
Служанка.
(обратно)
189
Там находился один из приютов УЖИФ.
(обратно)
190
Робер Дрейфус, родственник Элен Берр, был судьей.
(обратно)
191
Главный раввин Парижа.
(обратно)
192
«Я сравниваю человеческую жизнь с огромным домом, в котором множество комнат». Из письма Джона Китса Джону Гамильтону Рейнолдсу от 3 мая 1818 г. (Пер. Сергея Сухарева.)
(обратно)
193
«Семья Тибо» — роман нобелевского лауреата Роже Мартена дю Гара (1881–1958). Первый том романа вышел в 1922 г., последний, «Эпилог», — в 1940 г. Главные герои романа — братья Антуан и Жак Тибо. Во время Первой мировой войны Жак погиб, а Антуан, врач, был отравлен газами.
(обратно)
194
Из письма Джона Китса братьям Джорджу и Томасу Китсам от 21 декабря 1817 г. (Пер. Сергея Сухарева.)
(обратно)
195
«Пирог павлина» — сборник стихов английского поэта Уолтера де ла Мэра (1913).
(обратно)
196
Горное озеро Анси — во Французских Альпах, в Верхней Савойе.
(обратно)
197
Из письма Китса Дж. Бейли от ноября (число неизвестно) 1817 г. (Пер. Елены Баевской.)
(обратно)
198
Здесь и далее цитаты из романа Роже Мартена дю Гара «Семья Тибо» («Эпилог») — в пер. Надежды Жарковой.
(обратно)
199
Рюмель — персонаж романа «Семья Тибо», дипломат. Это он в приведенном выше фрагменте пересказывал военные события.
(обратно)
200
Роман Томаса Гарди.
(обратно)
201
Книга Элизабет Гоудж (1934).
(обратно)
202
Сказочная повесть шотландского писателя Кеннета Грэма (1908).
(обратно)
203
Пьер и Даниелла — сын и дочь депортированной Терезы Шварц.
(обратно)
204
Выставлять себя напоказ
(англ.).
(обратно)
205
Но это ничего
(англ.).
(обратно)
206
Моя рука — она еще живая / И тянется к тебе с теплом и лаской, / А будь она мертва и холодна, / Безмолвное касанье ледяное / Тебя бы день и ночь терзало страхом, / Раскаяньем, желаньем умереть, / Чтоб только смолкли совести укоры — / Утешься, не казнись, я здесь. (Пер. Елены Баевской.)
(обратно)
207
Героиня романа британского писателя Олдоса Хаксли, В оригинале этот написанный в 1925 г. роман называется
Close up those barren leaves («Закройте эти бесполезные страницы» — это цитата из стихотворения Уильяма Вордсворта), во французском переводе — «Марина ди Вецца» (это название итальянской деревни, где происходит действие книги).
(обратно)
208
Чувство, основанное и не основанное на знании
(англ.). (Из письма Китса Джону Гамильтону Рейнолдсу от 3 мая 1818 г.).
(обратно)
209
Мамзель Агата — назойливая экономка из автобиографической книги «Легенда о Сан-Микеле» (1929) шведского врача и писателя Акселя Мунте (1857–1949).
(обратно)
210
Тоже, как Симон, мальчик-сирота, который бывает в семье Берр.
(обратно)
211
Больница Enfants-Malades на Севрской улице.
(обратно)
212
Эдуар Вейнриб, любимец Элен.
(обратно)
213
В 1943 г. преследования распространялись на всех евреев без разбора: французских и иностранных. 30 июля 1943 г. по приказу нациста Алоиза Бруннера были арестованы все служащие бюро социальной службы УЖИФ на улице Бьенфезанс. Бруннер, возглавлявший депортацию в лагеря смерти евреев из Берлина, Вены, Греции, Франции и Словакии и руководивший отправкой транспорта из Дранси в Аушвиц, был заочно приговорен к смертной казни, позднее к пожизненному заключению, но мирно закончил свои дни в Дамаске в 2010 г.
(обратно)
214
Заблуждение
(англ.).
(обратно)
215
«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» классика английской литературы Лоренса Стерна (1713–1768).
(обратно)
216
«Лорд Джим» — роман английского писателя Джозефа Конрада (1857–1924).
(обратно)
217
Недовольна
(англ.).
(обратно)
218
Лучшей части меня
(англ.).
(обратно)
219
Приди же, Горе! / Сладостное Горе! (Джон Китс. «Эндимион», песнь 4).
(обратно)
220
И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. (Книга Иова, I, 19.)
(обратно)
221
«Но как все это грустно, Яго! О Яго, как все это грустно, Яго!» (Шекспир. «Отелло», акт IV, сц. 1. Пер. Михаила Лозинского.)
(обратно)
222
«Чудесный улов» — роман франко-швейцарского писателя Ги де Пурталеса (1937).
(обратно)
223
Беззащитной перед грядущим бедствием
(англ.).
(обратно)
224
Из письма Джона Китса Джорджу и Джорджиане Китс — от 14 февраля — 3 марта 1819 г. (Пер. Сергея Сухарева.)
(обратно)
225
Имеется в виду Люсьен Вольф, один из крупнейших исследователей творчества Китса.
(обратно)
226
Сладостно длилась
(англ.).
(обратно)
227
Безразличным
(англ.).
(обратно)
228
Иегуди Менухин (1916–1999) — великий американский скрипач. В апреле 1945 г., буквально через несколько дней после гибели Элен Берр в лагере Берген-Бельзен, он дал концерт перед только что освобожденными узниками этого лагеря. Бруно Вальтер (1876–1962) — немецкий дирижер и пианист, в 1939 г. покинул Германию после прихода нацистов к власти.
(обратно)
229
С ноября 1942 г. перестала существовать свободная зона. Немцы оккупировали всю территорию Франции. Преследования евреев усилились и на юге, где находились Жак Берр и Ивонн а Шварц, брат и сестра Элен Берр.
(обратно)
230
Сама себе госпожа
(англ.).
(обратно)
231
Пантомима
(англ.).
(обратно)
232
Организация УЖИФ была легальным посредником между немецкими оккупационными властями, правительством Виши и еврейским населением. Поэтому ее деятельность многими осуждалась.
(обратно)
233
Сбой, вывих
(англ.). Возможно, цитата из «Гамлета» (акт I, сц. 5): Time is out of joint (Век вывихнул сустав).
(обратно)
234
«Добрячок» — пьеса английского писателя Оливера Голдсмита (1730–1774).
(обратно)
235
«Левитан» — большой мебельный магазин в Париже.
(обратно)
236
Так нацисты называли евреев, состоящих в браке с неевреями. Теоретически они не подлежали депортации.
(обратно)
237
На учет ставили детей, чьи родители были депортированы, немцы помещали их в приюты УЖИФ, откуда их запрещалось брать. Большую часть таких детей в конце концов депортировали.
(обратно)
238
В апреле 1940 г. в Катынском лесу под Смоленском сотрудники НКВД, выполняя решение высшего партийного начальства, расстреляли около четырех с половиной тысяч пленных польских офицеров. В апреле 1943 г. наступающие немцы нашли тела жертв и объявили о зверском расстреле на весь мир. Советский Союз, напротив, приписывал катынские казни немцами только в 1990 г. официально признал ответственность за них НКВД.
(обратно)
239
Чудн
ая
(англ.).
(обратно)
240
Он воспарил над нашим наважденьем, / В котором оставаться мы должны, / Горячку называя наслажденьем / В ночи, где ложь и злоба так сильны, / И жизнью безнадежно мы больны; / Он воспарил над миром, исцеленный, / И не узнает ранней седины… (Перси Биши Шелли. «Адонаис. Элегия на смерть Джона Китса, автора Эндимиона, Гипериона и др.». Пер. Владимира Микушевича.)
(обратно)
241
И смерть придет, как ласковая мать, / Которая дитя свое обнимет / И скажет: «А теперь пора уснуть». (Перси Биши Шелли. «Освобожденный Прометей», действие III, сц. 3. Пер. Елены Баевской.)
(обратно)
242
Кадя тому, чего они страшились / И в ненависть свой страх преобразив… (Там же, сц. 4).
(обратно)
243
Далекая звезда в пустом пространстве, / Что светит нам сквозь бесконечный мрак. (Там же.)
(обратно)
244
О ясная звезда! / Одна в ночи ты красотою блещешь… (Неточная цитата из сонета Китса «Ясная звезда». Пер. Елены Баевской.)
(обратно)
245
Как волны плещут в утренних лучах (Перси Биши Шелли. «Освобожденный Прометей», действие IV. Пер. Елены Баевской.)
(обратно)
246
Были злые часы, как голодные псы, / Как усталый олень убегал от них день, / И под лай собак по стезе невзгод / Ковылял во мрак сквозь пустынный год… (Перси Биши Шелли. «Освобожденный Прометей», действие I. Пер. Елены Баевской.)
(обратно)
247
Биркенау, или Аушвиц-II, — это, собственно, и есть лагерь уничтожения, с газовыми печами. Но Элен, как и все, ничего об этом не знает.
(обратно)
248
Черт возьми!
(англ.).
(обратно)
249
Поскольку Эльзас и Лотарингия были аннексированы и присоединены к Третьему рейху, Страсбургский университет в сентябре 1939 г. был переведен в Клермон-Ферран, где в сентябре 1940 г. начались занятия. Университет стал крупным очагом Сопротивления. 25 ноября 1943 г. гестаповцы устроили налет. Был убит специалист по древним папирусам Поль Колломп, 1200 человек арестованы, 110 из них попали в заключение.
(обратно)
250
В «Поединке» Куприна нет этой цитаты из «Дяди Вани», Элен подвела память.
(обратно)
251
По понятным причинам до Элен доходили неточные сведения. В Бабьем Яре под Киевом в 1941–1943 гг. были, по разным данным, расстреляны более ста тысяч человек. Отступая в августе-сентябре 1943 г., нацисты уничтожали следы преступлений — откапывали и сжигали останки жертв. В Феодосии в декабре 1941 г. были уничтожены около двух тысяч евреев и крымчаков.
(обратно)
252
Дениза, сестра Элен, в то время была беременна.
(обратно)
253
Сохранились сведения о том, кто такая была Мишель Варади. Эта девочка прожила всего пять лет (1939–1944), после депортации родителей содержалась в детском приюте в Нейи, потом и ее отправили в лагерь смерти.
(обратно)
254
Жозеф Дарнан — коллаборационист, создатель французской милиции, призванной бороться с партизанами и Сопротивлением. В конце декабря 1943 г. вошел в состав вишистского правительства в качестве главы Сил поддержания порядка. С этого времени милиция усиливает действия против членов Сопротивления и евреев. Расстрелян в 1945 г. по приговору французского суда.
(обратно)
255
Фриц Заукель — нацистский лидер, назначенный Гитлером ответственным за привлечение в Германию рабочей силы со всей Европы. Повешен по приговору Нюрнбергского трибунала.
(обратно)
256
Те, кто уклоняется от принудительных работ в Германии, на которые, согласно оккупационным и вишистским законам, начиная с февраля 1943 г. должны были ехать все молодые французы от 20 до 22 лет.
(обратно)
257
Дениза Мийо и ее муж Фред — создателя «Временной взаимопомощи».
(обратно)
258
Эжен Делонкль, французский политик крайне правого толка, один из основателей лиги крайних правых «Кагуль», запрещенной во Франции после попытки государственного переворота 1934 г. Он был убит в гестапо 17 января 1944 г. за связи с членами Абвера, находившимися в оппозиции к Гитлеру.
(обратно)
259
Представлен
(англ.).
(обратно)
260
Чувства
(англ.).
(обратно)
261
В шутку
(англ.).
(обратно)
262
Луазле.
(обратно)
263
Специальная служба, созданная в октябре 1941 г. в рамках полиции Виши.
(обратно)
264
Средиземноморского.
(обратно)
265
«О ужас, ужас, ужас!» (Шекспир. «Макбет», акт II, сц. 3. Пер. Юрия Корнеева.) Следующие строки в этой реплике Макдуфа: «Ни языком не высказать такое, / Ни сердцем не постигнуть».
(обратно)
266
Леон Гамбетта — премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881–1882 гг.
(обратно)
267
Мирандой звали дочь волшебника Просперо из пьесы Шекспира «Буря».
(обратно)
268
В межвоенные годы он сыграл значительную роль в развитии французской химической промышленности.
(обратно)
269
Давид Руссе (1912–1997) — французский писатель, во время войны участник Сопротивления, затем узник Бухенвальда, после войны разоблачал в прессе систему советских концлагерей.
(обратно)
270
Krankenbau, или Revier, — лагерный лазарет, Blockältester — староста барака, отвечающий за весь его состав перед эсэсовцами. Stubendienst — ответственный за порядок (нем.).
(обратно)
271
Так назвал Берген-Бальзен Уинстон Черчилль, когда 15 апреля 1945 г. лагерь был освобожден британскими войсками.
(обратно)
272
Сладостно-горький
(англ.).
(обратно)
273
Мемориал Шоа — музей и исследовательский центр в Париже, посвященный Холокосту.
(обратно)
274
Дорогая миссис
(англ.).
(обратно)
275
Тут меланхолия туманом снизошла
(англ.) — неточная цитата из «Оды Меланхолии» Джона Китса.
(обратно)
276
Дернул меня за рукав
(англ.).
(обратно)
277
Сознательной
(англ.).
(обратно)
278
Уютная
(англ.).
(обратно)
279
Я
так благодарна тебе, миссис
(англ.).
(обратно)
280
Поскольку
(англ.).
(обратно)
281
Домашнее прозвище Элен.
(обратно)
282
В письмах члены семьи Берр пользовались условным кодом и употребляли домашние словечки. В квадратных скобках — объяснения Мариэтты Жоб. Некоторые имена и намеки расшифровать не удалось.
(обратно)
283
Gospodje — по-хорватски значит «господа». Видимо, Элен намекает на какой-то забавный случай, который произошел во время семейной поездки в Югославию.
(обратно)
284
Чувство юмора
(англ.).
(обратно)
285
Поцелуев
(англ.).
(обратно)
286
Под мальчика
(англ.).
(обратно)
287
Свекровь
(англ.).
(обратно)
288
Утешься, не казнись, я здесь. (Из стихотворения Дж. Китса «Моя рука — она еще живая». Пер. Елены Баевской.)
(обратно)
Оглавление
Предисловие[1]
1942
Вторник, 7 апреля, 4 часа дня
Среда, 8 апреля
Четверг, утро, 9 апреля
Суббота, 11 апреля
Среда, 15 апреля
Среда, 15 апреля
Четверг, 16 апреля
Воскресенье, 19 апреля, 12 часов
Понедельник
Вторник, 21 апреля
Среда, 22 апреля
Пятница, 24 апреля
Суббота, 25 апреля
Воскресенье, 26 апреля
Понедельник, 27 апреля
Вторник, 28 апреля
Среда, 29 апреля
Четверг, 30 апреля
Воскресенье
Понедельник, 4 мая
Четверг, 7 мая
Суббота, 9 мая, вечер
Воскресенье
Четверг, 14 мая
Среда, 20 мая
Четверг, 2 часа
7 часов
Пятница, 22 мая
Суббота, 23 мая
Воскресенье
Понедельник, Духов день
Суббота, 30 мая
Воскресенье, 31 мая
Понедельник, 1 июня
Четверг, 4 июня
Понедельник, 8 июня
Понедельник, вечер
Вторник, 9 июня
Среда, 10 июня
Четверг, 11 июня
Пятница, 12
Суббота, 13 июня
Воскресенье, 14 июня
Понедельник, 15 июня, вечер
Вторник, 16 июня
Среда, 17 июня
Четверг, 18 июня
Четверг
Суббота, 20
Среда, 24 июня
Пятница, 26 июня
Пятница, вечер, 23.15
Суббота, 27 июня, утро
7 ч 30 мин
Понедельник, 29 июня
Вторник, 30 июня
Четверг, 2 июля, вечер, 23.15
Пятница, 3 июля, 7 часов утра
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедельник, 5 июля
Вторник, 6 июля, утро
Четверг, 9 июля
Пятница, 10 июля
Суббота, 11 июля
Воскресенье, 12 июля
Понедельник, 13 июля
Вторник, 14 июля
Среда, 15 июля, 23 часа
Суббота, 18 июля
8 часов вечера
Воскресенье, 19 июля, вечер
6 часов
Вторник, 21 июля, вечер
Среда, 22 июля, утро
Четверг, 23 июля
Пятница, 24 июля
Воскресенье, 26 июля, вечер
Понедельник, 27 июля
Вторник, 28 июля
Среда, 29 июля, 14 часов
Четверг, 30 июля
Пятница, 31 июля
Суббота, 1 августа
Понедельник, 3 августа, вечер
Среда, 5 августа, вечер
Четверг, утро
Пятница, 7 августа
Суббота, 8 августа
Вторник, 11 августа
Среда, 12 августа
Четверг, 13 августа
Пятница, 14 августа
Пятница, 14 августа
Суббота, 15 августа
Воскресенье, 16 августа
Понедельник, 17 августа
Вторник, 18 августа
Среда, 19 августа
Четверг, 20 августа
Пятница, 21 августа
Суббота, 22 августа
Воскресенье, 23 августа
Понедельник, 24 августа
Вторник, 25 августа
Четверг, 27 августа
Пятница, 28 августа
Суббота, 29 августа
Воскресенье, 30 августа
Понедельник, 31 августа
Вторник, 1 сентября
Среда, 2 сентября
Четверг, 3 сентября
Пятница, 4 сентября
Суббота, 5 сентября
Воскресенье, 6 сентября
Понедельник, 7 сентября
Вторник, 8 сентября
Среда, 9 сентября
Четверг, 10 сентября
Пятница, 11 сентября, утро
Воскресенье, 13 сентября
Суббота, 12 сентября
Воскресенье, 13 сентября
Понедельник, 14 сентября
Вторник, 15 сентября
Среда, 16 сентября
Четверг, 17 сентября
Пятница, 18 сентября
Воскресенье, 20 сентября
6 часов вечера
Понедельник, 21 сентября, 11 часов вечера
Вторник, 22 сентября, утро
Вторник, 22 сентября, вечер
Среда, 23 сентября, вечер
Четверг, 24 сентября
Суббота, 26 сентября
Воскресенье, 27 сентября
Понедельник, 28 сентября
Вторник, 29 сентября
Среда, 30 сентября
Четверг, 1 октября
Пятница, 2 октября
Суббота, 3 октября
Воскресенье, 4
Понедельник, 5 октября
Вторник, 6 октября
Среда, 7 октября
Четверг, 8 октября
Пятница, 9 октября
Суббота, 10
Воскресенье, 11
Четверг, 15 октября
Четверг
Пятница, 16 октября
Суббота, 17 октября
Воскресенье, 18 октября
Понедельник, 19 октября
Вторник, 20 октября
Среда, 21 октября
Четверг, 22 октября
Пятница, 23 октября
Суббота, 24 октября
Воскресенье, 25 октября
Понедельник, 26 октября
Вторник, 27 октября
Среда, 28 октября
Четверг, 29 октября
Четверг, 5 ноября
Четверг
Воскресенье, 8 ноября
Понедельник, 9 ноября
Вторник, 10 ноября
Среда, 11 ноября
Четверг, 12 ноября
Суббота, 14 ноября
Воскресенье, 15 ноября
Понедельник, 16 ноября
Вторник, 17 ноября
Среда, 18 ноября
Четверг, 20 ноября
Пятница, 21 ноября
Суббота, 22 ноября
Воскресенье, 23 ноября
Понедельник, 24 ноября
Вторник, 25 ноября
Среда, 26 ноября
Четверг, 27 ноября
Пятница, 27 ноября
Суббота, 28 ноября
1943
Среда, 25 августа 1943
10 октября
Воскресенье, 10 октября, 21 час
Понедельник, 11 октября, утро
Понедельник, вечер
Вторник
Четверг, 14 октября
Четверг, 14. Продолжение
Пятница
Суббота
Воскресенье, 17 октября
Вторник, 19 октября, утро
Понедельник, 25 октября 1943
Среда, 27 октября
Четверг, 28 октября, вечер
Суббота, 30 октября
Воскресенье, 31 октября, 7.30
Понедельник, 1 ноября
Вторник, 2 ноября
Среда, 3 ноября
Четверг, 4 ноября
Пятница, 5 ноября
Суббота
Воскресенье, 7 ноября
Понедельник, 8 ноября
Вторник, 9 ноября
Среда, 10 ноября
Пятница, 12 ноября
Суббота, 13 ноября
Воскресенье, 14 ноября
Март, 16 ноября
Среда, 17 ноября
Среда, 24 ноября
Пятница, 26 ноября
Воскресенье, 28 ноября, полдень
Понедельник, 29 ноября, вечер
Вторник, 30 ноября
30 ноября 43 г.
Понедельник, 6 декабря, вечер
Вторник, 7 декабря, вечер
Среда, 8 декабря
Понедельник, 13 декабря, вечер
22 декабря
Понедельник, 27 декабря
Пятница, 31 декабря
1944
Воскресенье, 10 января 1944 г., вечер
Вторник, 11 января 1944, вечер
Четверг, 13 января
17.1.44
Вторник, 18
Суббота, 22 января
Среда, 24 января 1944
Понедельник, 31 января 1944
31 января 1944
Вторник, 1 февраля
Пятница, 4 февраля 1944, вечер
Понедельник, 14 февраля 1944
Вторник, 15 февраля 1944
7.15
Мариэтта Жоб
Украденная жизнь
Семья Элен Берр
Круг чтения Элен Берр
Письмо Элен Берр сестре Денизе после ее свадьбы с Франсуа Жобом 12 августа 1943 г.
Записка Элен Берр сестре Денизе с рассказом об аресте[282]
Письмо Антуанетты и Элен Берр, написанное в Дранси перед депортацией
Жан Моравецки
Моя жизнь с дневником Элен
Фотографии Элен Берр
*** Примечания ***

 Первая страница дневника, запись от 7 апреля 1942
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Первая страница дневника, запись от 7 апреля 1942
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
 Книга, которую Поль Валери подписал для Элен Берр.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Книга, которую Поль Валери подписал для Элен Берр.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
 Страница Дневника. Запись, сделанная 8 июня 1942 года, в день, когда Элен первый раз надела желтую звезду.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Страница Дневника. Запись, сделанная 8 июня 1942 года, в день, когда Элен первый раз надела желтую звезду.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
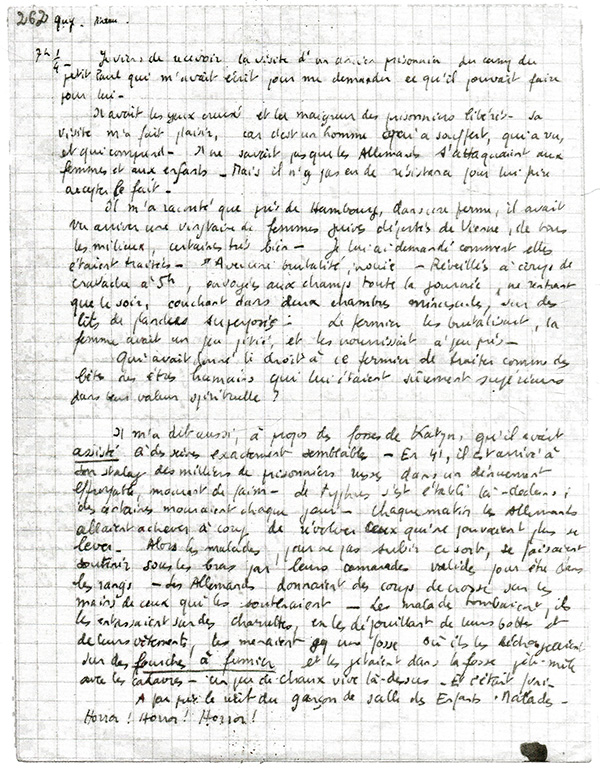 Последняя страница дневника, запись от 15 февраля 1944 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Последняя страница дневника, запись от 15 февраля 1944 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
 Записка от Элен Берр сестре Денизе с рассказом об аресте. 8 марта 1944 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Записка от Элен Берр сестре Денизе с рассказом об аресте. 8 марта 1944 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
 Элен Берр в саду загородного дома Берров в Обержанвиле. Лето 1942 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Элен Берр в саду загородного дома Берров в Обержанвиле. Лето 1942 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
 Элен Берр и Жан Моравецки. Обержанвиль, лето 1942 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Элен Берр и Жан Моравецки. Обержанвиль, лето 1942 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
 Слева направо: Элен Берр, Антуанетта Берр, Дениза Берр, Жан Моравецки и Жаклин Жоб. Обержанвиль, лето 1942 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Слева направо: Элен Берр, Антуанетта Берр, Дениза Берр, Жан Моравецки и Жаклин Жоб. Обержанвиль, лето 1942 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
 Элен Берр с подопечными детьми. 1943 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Элен Берр с подопечными детьми. 1943 г.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job