Леонид Репин
ЛЮДИ И ФОРМУЛЫ
Новеллы об ученых
О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях-революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей.


 Вольт, ампер, фарада, менделевий, курчатовий… Как часто встречаемся мы с этими понятиями. Встречаемся, иногда не задумываясь, что за каждым из них стоит человек. Сохранивши в себе память о людях, имена эти вошли в таблицы как наименования различных физических величин, именами их названы теории, гипотезы, формулы, эксперименты, которые стали классическими.
Об этих людях рассказывает книга.
Вольт, ампер, фарада, менделевий, курчатовий… Как часто встречаемся мы с этими понятиями. Встречаемся, иногда не задумываясь, что за каждым из них стоит человек. Сохранивши в себе память о людях, имена эти вошли в таблицы как наименования различных физических величин, именами их названы теории, гипотезы, формулы, эксперименты, которые стали классическими.
Об этих людях рассказывает книга.
Исаак НЬЮТОН (1643–1727) — один из рода человеческого

 Ньютон — имя человека, который вывел и сформулировал закон всемирного тяготения, который открыл, что свет — это волны; который построил удивительнейшие телескопы. Без этого имени нет физики.
А когда это имя пишут с маленькой буквы, оно становится названием единицы измерения силы в абсолютной системе механических единиц: это сила, сообщающая массе в один килограмм ускорение в один метр в секунду за секунду.
Будь возможность измерить силу человеческого гения, ее тоже можно было бы назвать ньютоном.
Ньютон — имя человека, который вывел и сформулировал закон всемирного тяготения, который открыл, что свет — это волны; который построил удивительнейшие телескопы. Без этого имени нет физики.
А когда это имя пишут с маленькой буквы, оно становится названием единицы измерения силы в абсолютной системе механических единиц: это сила, сообщающая массе в один килограмм ускорение в один метр в секунду за секунду.
Будь возможность измерить силу человеческого гения, ее тоже можно было бы назвать ньютоном.
…Он похоронен в пышной гробнице Вестминстерского аббатства, в английском национальном пантеоне. Ваятель высек его из белого мрамора, полулежащим, в свободно ниспадающих одеждах, опирающимся на толстые тома своих трудов. На лице его — печать глубокой задумчивости, даже некой отрешенности, которой художники прошлого часто наделяли великих мира сего, и которая, как им, наверное, казалось, отличает великих от всех прочих смертных.
Ньютон был великим, был смертным и был обыкновенным. Обыкновенным — в жизни. Он знал радость и отчаяние, знал, что это такое — испытать боль разочарования, когда успех казался и близким, и доступным. Он ощутил силу власти и успел познать славу живого гения. В его долгой жизни было все.
В детстве это был хилый мальчик, застенчивый и скрытный, который шумным играм своих сверстников предпочитал спокойную тишину одиночества. Наверное, это не стоит считать первым проявлением его незаурядности, — такая черта в характере свойственна многим мальчишкам, растущим без отца. Исаак Ньютон — отец Исаака Ньютона умер еще до рождения своего сына. Отец был мелким землевладельцем, и после его смерти мать Ньютона едва-едва сводила концы с концами. Когда сыну исполнилось три года, она вышла замуж за священника — человека состоятельного, так что, наверное, уже здесь надо искать зачатки склонности к богословию, которую Ньютон не утратил до последних дней своей жизни. Впрочем, в те годы, наверное, и не могло быть иначе. Но Варнава Смит — так звали отчима, не ограничился образованием своего приемного сына, полученным в сельской школе, и отдал его учиться в Грантем — близлежащий небольшой городок, где двенадцатилетний мальчик поселился на квартире городского аптекаря Кларка. В этой семье Ньютон обрел своего первого друга. Им стала падчерица аптекаря — мисс Сторн. Возможно, их объединило то, что ни он, ни она не знали отца, возможно, что-то другое, но подругу своего детства Ньютон не забывал до конца жизни. Они иногда виделись. И человек, которым гордилась вся Англия и который жил ее государственными интересами, всегда помнил своего первого друга и часто помогал ей.
Итак, Грантем. Первый город на жизненной дороге Ньютона.
Он невелик, этот городок, но в нем все было не так, как в родной деревеньке Вулсторп. Мощеные улицы, длинные, ровные ряды старых домов с каминными трубами, быстрые экипажи, высекающие искры из гладких камней мостовых коваными ободьями. И люди — тоже быстрые, подвижные, совсем не такие, как у него дома.
Мальчишка из деревни мог бы стать в городской школе объектом постоянных шуток, которые не всегда просто отделить от издевательств, но не таков Ньютон. Он был слаб — это верно, и не мог отколотить всякого обидчика, но он был самолюбив, горд и не прощал обиды. Он быстро понял, что если не может выделиться силой, то может стать лучшим в учении. Он медленно, но упорно стал добиваться этой цели. И вот деревенский мальчишка, застенчивый и не слишком-то общительный, из средних учеников вышел в ряд лучших. Пусть теперь попробуют взяться за старое его обидчики…
И все-таки главную зависть его товарищей вызвал вовсе не быстрый взлет Ньютона, а те игрушки, которые он мастерил. Впрочем, среди игрушек были такие, которые могли сослужить и добрую службу. Он сделал маленькую мельницу, на которой можно было смолоть горсть зерна, эту мельницу приводила в движение усердная мышь. Он смастерил солнечные часы, а потом и водяные. Он клеил воздушные змеи, на которые с завистью смотрели мальчишки всего города. Ньютон прикреплял к ним небольшие фонарики и запускал поздно вечером, и эти змеи безмолвно скользили над крышами, бросая таинственные желтые отсветы…
А в школе? В школе учили другому. Главный предмет — священное писание, библейская история. Языки — латынь и греческий. Арифметика — самые элементарные знания. Геометрия Евклида, которую он так полюбил впоследствии, — тоже лишь самые общие знания. Физику не изучали. Ее тогда еще не было. Как не было еще и великих законов Ньютона. Открыть их и сформулировать должен был этот худой, сосредоточенный мальчишка со сжатыми губами и крупным носом.
Непонятно, как до нашего времени сохранилась школьная тетрадь Ньютона.
Кто бы мог подумать, что хозяин этой тетради станет одним из величайших ученых всех времен…
Но это была не обычная школьная тетрадь. Ее страницы пестрели химическими формулами, рецептами, всякими шифрованными записями. Ньютон мальчишкой увлекался алхимией, и такие «секретные» записи, прячущие смысл самого главного, алхимики сделали своим вторым языком. А увлечение Ньютона алхимией вряд ли было случайным: в Грантеме он жил в семье аптекаря, а лаборатория аптекаря более трехсот лет назад была очень похожа на лаборатории таинственных и, как тогда казалось, всемогущих алхимиков.
Но вот сделан и второй шаг в жизни: школа Грантема позади. Директор школы произносит речь, восхваляющую Ньютона, его способности — то, что при нем было всегда, и его характер — то, что он сам воспитал в себе за годы, проведенные в стенах грантемской школы. Ньютон все-таки многое узнал и многому научился. Он стал понимать, что все в жизни дается трудом и свое «я» надо научиться отстаивать, как бы это порой ни было трудно.
В это время семья его вновь осталась без кормильца — отчим умер, и пятнадцатилетнему Ньютону пришлось вернуться в Вулсторп, чтобы помочь матери вести хозяйство. Его тянули книги, математика, его влекла бездонная пучина космоса, в которой по неведомым еще законам перемещались светила и планеты, а вместо этого ему приходилось ехать на базар в Грантем, чтоб выручить гроши за те продукты, что им дала земля…
В жизни многих великих людей встречается кто-то, кто первый обращает внимание на талант и помогает ему. Такой человек был и у Ньютона. Его дядя, некто Эйскоу, окончивший в свое время Кембридж, увидел однажды, как его племянник, вместо того, чтоб торговаться на базаре, погрузился в решение какой-то математической задачи. Эйскоу убедил мать Ньютона, что ее сыну необходимо постигать науку дальше.
Ньютон вновь у своего старого учителя в грантемской школе, вновь углубился в книги, оставив с радостью заботы по хозяйству. Он был готов ко всему, лишь бы вернуться в мир дерзких мыслей, формул, который уже приоткрылся перед ним. Конечно же, он и думать тогда не мог, что дверь университета, за порог которого он готовился ступить, вновь откроется перед ним лишь через тридцать пять лет после того, как он его закончит.
Тридцать пять лет… Почти полжизни. Но за эти годы Ньютон стал сэром Исааком Ньютоном и совершил все то великое, что должен быть совершить.
В Кембриджский университет Ньютон поступил в 1661 году.
Университетский Тринити-колледж, где учился Ньютон, был точной микрокопией общества тогдашней Англии. Там, как полагалось, были курсы и факультеты, но были еще и классовые ступени, перешагнуть через которые студенты не могли. Их было много — этих невидимых барьеров и ступеней, и будущий великий физик встал на низшую из них.
Всех студентов этой группы, а их было, в общем-то, немного, называли «субсайзерами». Они не платили за учебу, но в их обязанности входило обслуживать богатых студентов — «коммонеров» и «пенсионеров». Многие из этих «пенсионеров», наверное, хвастались потом, что сапоги им чистил Ньютон. Но кто теперь вспомнит этих беззаботных весельчаков, хотя Ньютон и чистил им сапоги?
Теперь… Теперь Ньютона нет. А тогда его унизительное положение стоило ему дорого. Можно представить, как мучился самолюбивый юноша, когда ему приходилось быть слугой юнцов только потому, что у их отцов деньги были, а у него, чье имя вскоре станет гордостью страны, не было ни денег, ни отца.
Ньютон пришел в науку, когда интерес к ней стал не только всеобщим, не только новой чертой времени, не только исторически сложившейся необходимостью, но даже модой. Известный английский историк Маколей писал о том времени: «Для изящного джентльмена было почти необходимостью уметь поговорить о воздушных насосах и телескопах, даже знатные дамы по временам считали приличным выказывать любовь к знанию. Они приезжали в каретах шестернею смотреть диковины Грешем-колледжа и испускали крики восторга, видя, что магнит действительно притягивает иголку и что микроскоп показывает муху с воробья». В истории можно найти много таких периодов, когда люди делали для себя словно бы новое открытие науки. Вот в один из таких периодов и пришел в университет Исаак Ньютон. Разница между ним и многими другими людьми была лишь в том, что для него наука не была модой. Наука для него — вода, воздух, пища.
Сохранилась и студенческая тетрадь Ньютона. В ней уже нет шифровок алхимика, зато есть записи о системе мира, как ее дал Коперник. Есть чертежи, свидетельствующие о том, что тот, кто их чертил, знал геометрию Евклида, Декарта, астрономию. Наконец-то Ньютон добрался до той сокровищницы, в которую человечество множество веков откладывало все лучшее, что ему удалось достичь в науке. В ней было место, пока еще не занятое, — для Ньютона.
Через три года после поступления в университет Ньютон на старшем курсе. Теперь он не субсайзер. Теперь у него есть звание «действительный студент», еще через год он бакалавр. Профессор Исаак Барроу, выступая перед студентами, публично объявил его «мужем славным и выдающихся знаний». Начался крутой восходящий путь Ньютона.
На города старой Англии надвинулась грозная эпидемия чумы, и многие горожане кинулись в деревни искать спасения. Ньютон вернулся в родной Вулсторп, и здесь, на земле, где родился и вырос, пришел к своим великим открытиям. Они давно зрели в нем, но, видимо, нужно было вернуться на землю отцов, чтобы все мысли обрели ясность, законченность.
Это не легенда: яблоко действительно навело Ньютона на мысль о существовании закона тяготения. Уже будучи глубоким стариком, он рассказывал своему приятелю, что, когда увидел падение яблока, подумал: почему оно всегда падает отвесно? Почему не в сторону, а всегда — к центру Земли? Если падение это всегда одинаково, то, значит, должна существовать какая-то постоянная сила, вызывающая это падение. И эта сила должна быть сосредоточена в центре планеты. Но если одна материя притягивает другую, в их взаимоотношении должна быть и пропорциональная зависимость. Значит, не только Земля притягивает к себе яблоко, но и яблоко — Землю.
И он пишет: «В том же году я начал думать о тяготении, простирающемся до орбиты Луны… Я вывел, что силы, удерживающие планеты на их орбитах, должны быть в обратном отношении квадратов их расстояний от центров, вокруг коих они вращаются. Отсюда я сравнил силу, требующуюся для удержания Луны на ее орбите, с силой тяжести на поверхности Земли и нашел, что они почти отвечают друг другу. Все это происходило в два чумных года, 1665-м и 1666-м, ибо в это время я был в расцвете моих изобретательских сил и думал о математике и философии больше, чем когда-либо после».
Но он не спешил. Ему незнаком был этот зуд нетерпения, который заставлял многих до него и после поспешно объявлять миру о сделанном открытии, а позже конфузливо сообщать о том, что наблюдения не подтвердились. Нет, Ньютон не таков. Он чувствовал необходимость проверить и перепроверить. Вновь и вновь он погружался в расчеты, а миллионы людей, не зная еще, что свершилось великое открытие, по-прежнему смотрели на падение яблока, не подозревая о тайне всего мироздания, которое оно несло в себе.
Ньютону было около двадцати семи лет, когда его учитель — профессор Барроу уступил ему место на кафедре. Исаак Ньютон стал профессором Кембриджского университета.
Кафедра Ньютона — так стала она называться с тех пор. Профессор Барроу читал на ней богословие и математику, и, судя по всему, одно с другим уживалось отлично, а Ньютон начал читать оптику, науку конкретную, точную. Это было начало новой эпохи в науке.
В оптику он пришел не случайно. В те времена почти каждому, кто посвящал себя астрономии, прежде всего нужно было сделать самому телескоп. Ньютон сам шлифовал стекла для своих телескопов, все время экспериментируя, отыскивая наиболее удобную форму. Астрономические трубы второй половины XVII века были сколь огромны, столь и неудобны: длина некоторых доходила до тридцати метров, а увеличение, которое они давали, оказывалось вовсе не таким, как можно было бы ожидать. И все из-за несовершенства стекол, из-за сферической и хроматической аберрации.
Ньютон построил телескоп нового типа — рефлектор. Он использовал комбинацию стеклянных линз и металлического зеркала. Зеркало он изготовил сам, полируя смолой, потом золой, потом тонкой кожей — тоже работа, на которую способен не каждый…
Первый его рефлектор был похож скорее на микроскоп: диаметр всего 2,5 сантиметра, длина — пятнадцать сантиметров. Но зато он давал увеличение в сорок раз! Эффект поразительный. «Через него я видел Юпитер отчетливо круглым с его спутниками и Венеру в виде рога». Следующий телескоп производит уже настоящую сенсацию: Королевское общество выписало его в Лондон, где к нему приложился король, а все члены общества единодушно дали этому инструменту высочайшую оценку.
Ньютона избирают членом Королевского общества.
Но главное в этом «оптическом» периоде жизни, как ни странно, не то, что Ньютон построил телескопы, которых прежде не было. Главное в другом: работая с линзами, он открыл, что свет состоит из лучей различной преломляемости.
Опыт за опытом, шаг за шагом он уверенно продвигался ко второму своему великому открытию: он обнаружил волновое происхождение света и стал человеком, который мог сказать о себе: «Я первым измерил длину световых волн». Результаты, при этом полученные, могут и сейчас, спустя столетия, показаться поразительно точными.
Слава Ньютона не досталась ему легко. Наоборот, она принесла ему и горечь разочарования, и боль обиды. А таких обид на его долю выпало немало. Буквально после каждого открытия Ньютона обвиняли в том, что все это много раньше уже сделано другими и что он просто-напросто воспользовался чужими работами. Он делает в Королевском обществе доклад о своих оптических открытиях, и тут же на него со скрытой джентльменской яростью обрушивается знаменитый Роберт Гук — тот самый Гук, без законов которого сейчас не найти ни одного учебника по сопротивлению материалов. Перед лицом виднейших ученых Англии Гук утверждает: то, о чем говорил Ньютон, уже сделано им, Гуком. Сдержанно, но вполне уверенно его поддерживает другой апостол физики — Христиан Гюйгенс. Гюйгенс, стиль и методы которого всегда так восхищали Ньютона…
Он открывает и формулирует закон тяготения — и снова Гук обвиняет его в плагиате.
Конечно, для того, чтобы предъявить столь серьезные обвинения, нужны и столь же серьезные доказательства. Могли ли они быть? В том-то и дело, что могли. Идеи-то давным-давно витали в воздухе. Значит, Ньютон все-таки не делал своих великих открытий? Да нет же, конечно, делал. Но многое из сделанного им его современники, даже великие современники, просто не понимали. Гук утверждает, что это он пришел к закону всемирного тяготения. Он, а не Ньютон! Но в таком виде — самом общем виде, — как Гук понимал этот закон, Ньютон знал его еще лет за десять до Гука! Верно, Гук подошел к этому закону и даже обрисовал его смутные контуры, но главное-то сделал Ньютон… Закон зрел давно, но только Ньютон дал ясное доказательство, вывел четкую формулу, показал всю необъятность его вширь и в глубину — от центра Земли до бесконечности вселенной…
Споры вокруг Ньютона, яростные, обостренные, хотя и облеченные в утонченно-изысканную форму, длились долгие годы. Великий физик ожесточался, уходил в себя, терял веру в людей, но никогда не сомневался в своей правоте. Движимый горечью и разочарованием, он пишет: «Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на защиту своего открытия…»
Что ж, если Гук считает себя изобретателем первого рефлектора и автором ряда работ по оптике, он, Ньютон, больше никогда не будет печатать трудов по оптике. По крайней мере, до тех пор, пока жив Гук. Так он решил. И так сделал. Ньютон был человеком слова.
Был еще и другой Ньютон. Его мы знаем очень мало. Этот Ньютон — политик, член Учредительного парламента, человек, который совершенно непонятным образом ухитряется сочетать научную работу с административной, со службой государственным интересам.
Что это, дань вдруг проснувшемуся тщеславию? Или, быть может, лишнее доказательство тому, что жизнь гения не может идти в одном русле, и он невольно ищет выхода в другую сферу жизни, где он может еще проявить свою силу и дарование. Наверное, все-таки и то и другое. Ньютону нравилось быть на виду, да и тщеславие ему было не чуждо. Но он был сыном своего отечества и стремился принести возможно большую пользу просто как гражданин. Некоему Астону, собирающемуся в путешествие, он дает такие поручения: «Надо следить за политикой, благосостоянием и государственными делами наций, насколько это возможно для отдельного путешественника. Узнать налоги на разные группы населения, торговлю и примечательные товары. Укрепления, которые попадутся вам на пути, их тип, силу, преимущества обороны и прочие военные обстоятельства, имеющие значение…» Эти слова написал автор закона всемирного тяготения.
Казалось бы, весь погруженный в науку, он вдруг обнаруживает неожиданную для него жесткость, бескомпромиссную принципиальность, когда приходится принимать решение, вставать ли Кембриджу в оппозицию к королю, отстаивая свои интересы, или сдаться, оставить все так, как потребовало того его высочество.
На совещании, где собрались члены университета, мнения разделились. Ньютон склонил всех отстаивать перед королем свои убеждения. А за два года заседаний в парламенте он не выступил ни разу. Просто потому, что не любил выступать. Рассказывают, что единственные слова, произнесенные в парламенте, предназначались служителю: «Пожалуйста, закройте окно — дует». Вполне возможно, что Ньютон действительно сказал это и дал превосходный повод для шуток. Но какое же это заблуждение — считать, что Ньютон в парламенте был всего лишь слушателем! Лучшего представителя в парламенте Кембридж наверняка никогда не имел. Ньютон не выступал с трибуны — это так. Просто он был из тех, кто предпочитает молча делать свое дело.
В эти годы он очень много трудился. Наконец-то вышли в свет «Математические начала натуральной философии». Эта книга стала его огромной победой. Теперь борьба за свои научные взгляды позади. Впереди — простор для новых поисков, новых исследований.
Он сам не заметил, не почувствовал, сколько сил у него отняла работа над этой книгой, а тут еще парламент, требующий постоянного внутреннего напряжения. Друзья говорили потом, что в то время Ньютон был измотан и силы его казались исчерпанными. Потом в Кембридже случился пожар, и Ньютон потерял часть бумаг с расчетами. От большого потрясения великий физик заболел. Утомленный мозг вышел из повиновения и стал рождать смутные образы, несущие в себе постоянную смертельную опасность… Ньютону казалось, что его все время кто-то преследует…
Болезнь продолжалась два года. Два года он не брал в руки перо. Кто знает, сколько потеряла наука за это время…
Все же он сумел преодолеть свой недуг. И сразу вновь за работу. Теория движения Луны — вот что его теперь привлекает. А еще через два года судьба его делает неожиданный зигзаг, уводящий из Кембриджа в Лондон: друг его Чарльз Монтегю становится канцлером казначейства — министром финансов и назначает Ньютона хранителем Монетного двора. Должность ответственнейшая, но, кажется, Ньютон с радостью ее принимает.
Это было напряженное для Англии время. Фальшивые кроны и шиллинги заполнили рынок, деньги стремительно теряли свою ценность. Разразился острейший финансовый кризис. Великий физик стал одной из самых главных фигур, которые помогли спасти Англию. Он участвует в секретных переговорах с лордом хранителем печати Сомерсом и с министром финансов — своим давним другом Монтегю, предлагая выход из сложившегося положения. Потом, когда король утвердил закон о перечеканке всех монет, имеющих хождение внутри страны, и когда встала неимоверно трудная, трудная технически задача — сделать это в кратчайший срок, Ньютон прекрасно справляется с ней. Он реконструировал старые станки, увеличив их производительность в восемь раз, и новые монеты появились еще до окончательного срока, назначенного королем. За два года Ньютон пропустил через свои машины все пенсы и шиллинги Англии. Награда — должность директора Монетного двора.
Монеты с изображением Ньютона тогда не было, но, право же, он больше любого монарха заслужил такую монету. Еще тогда заслужил. Что ему до того, что много позже об этом подумали и такую монету все-таки выпустили.
Но он теперь богат. Его имя знакомо всем. И все-таки ему чего-то не хватает. Возможно, он мечтает о развитии своей политической карьеры, возможно, о чем-то еще, что могло бы удовлетворить его вечно угнетаемое самолюбие.
Университет снова выдвигает Ньютона в парламент. На этот раз парламентарии заседали недолго: всего три месяца, а потом политическая обстановка в стране резко изменилась, и все члены парламента были распущены. Ньютон близко к сердцу принял политическое поражение своей партии вигов, но надеялся еще увидеть в ее судьбе поворот к лучшему. Он не хотел расставаться с политикой.
Великий физик давно мечтал о дворянском звании, но королевская милость долго обходила его. Ему было шестьдесят три года, когда королева Анна, посетив Кембридж, прикоснулась шпагой к плечу коленопреклоненного Ньютона, возведя его в рыцарский сан. Теперь к его имени стали добавлять: «сэр».
Имя Ньютона… Разве оно стало от этого звучнее и громче?
Впрочем, сам Ньютон не скрывал своей гордости. Его честолюбие было полностью удовлетворено. Он сам составил свое генеалогическое древо, корни которого уходили в старый шотландский род Ньютонов. Ему очень хотелось быть дворянином, имеющим свою родословную.
Но мы его знаем только как физика. Нам все равно, кем были его далекие предки. Важно то, что сделал он сам. И в нашем представлении Ньютон видится могучим седовласым профессором, облаченным в мантию Кембриджа, стоящим на кафедре, с умудренным нелегкой жизнью взором. Он действительно был такой. Но и совсем не такой. Он мог поддаться обыкновенной человеческой слабости, мог потерять власть над собой. На посту президента Королевского научного общества он не раз проявлял твердость, властность, непреклонность и даже жестокость. На его совести один некрасивый поступок по отношению к человеку, которому он был многим обязан.
Этот человек — известный астроном Флемстид, основатель ныне всемирно известной Гринвичской обсерватории. Много лет Флемстид посылал Ньютону результаты своих наблюдений Луны. Без этих данных Ньютон просто не смог бы работать. Мало того, что Флемстид работал в обсерватории, им созданной, но и все инструменты были его собственными. Неизвестно, что стало первопричиной их расхождений, но Ньютон и Флемстид рассорились. Когда готовился к печати большой звездный каталог, составленный по материалам, полученным в Гринвиче, председателем комиссии, издававшей каталог, был Ньютон. В ее составе находился и его друг — известный астроном Галлей. И вот первый том выходит. Его авторы — Ньютон и члены комиссии. Флемстид, получается, вроде бы ни при чем. А ведь это были в основном его труды. Несправедливо обиженный астроном жалуется во все инстанции, а Ньютон в ответ добивается создания новой комиссии — для управления Гринвичской обсерваторией. Председателем комиссии назначается Ньютон. Флемстид теперь понимает, что он окончательно проиграл.
Так Ньютон обошелся с человеком, который бескорыстно ему помогал.
История с Флемстидом — как будто единственная история подобного рода в жизни Ньютона. Но как быть с ней? Прощать нам человека, повинного в ней, или не прощать? Великого физика, наверное, можно простить. Но сэра Исаака Ньютона, пожалуй, нет. Да, конечно, Ньютона где-то можно понять: это жизнь сделала его таким. Но именно потому и оправдать его было нельзя: он, вытерпевший столько несправедливостей от других, казалось бы, должен быть особенно чутким в отношении к людям. Тем более в отношении к тем, кому он был многим обязан. А может быть, и другое: в нем всегда дремал властный, не терпящий возражений характер. И только вот в те годы, когда Ньютон добился всего — положения, славы, богатства, тенета, его удерживающие, прорвались, и в человеке заговорило второе «я».
Оставим этот эпизод. Все равно Ньютон — это Ньютон. Он автор закона всемирного тяготения. Он автор многих других открытий. Сделанное им для науки, для всего человечества неизмеримо больше совершенных ошибок. Он был прежде всего человек. А люди, как известно, имеют обыкновение и заблуждаться, и делать ошибки.
Пытался ли он постигнуть самую суть своих открытий? Да, пытался. Иногда ему удавалось, иногда нет. Он написал в самом конце своей книги: «До сих пор я объяснял небесные явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, ко я не указывал причины самого тяготения». Прошло двести восемьдесят лет, как он написал эти слова. А добавить к ним и сейчас можно лишь очень немногое. Мы и сейчас еще не знаем до конца этой причины.
Умер он глубоким стариком, в возрасте восьмидесяти четырех лет. Хилый, недоношенный мальчик, обуза для небогатой семьи, вырос в титана, о котором на могиле его было начертано: «Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение человеческого рода». А на его памятнике в Кембридже скульптор высек слова Лукреция: «Разумом он превосходил род человеческий».
Без всякого сомнения, он заслужил и такие слова.
…Да, это верно: «идеи витают в воздухе». Но, право же, они не достаются случайным людям.
Алессандро ВОЛЬТА (1745–1827) — первым познавший вкус электричества

 Он приступил к изучению электрических явлений в те времена, когда все связанное с ними считали проявлением колдовства, когда исследователей, осмелившихся посягнуть на тайны этих явлений, считали вступившими в заговор с дьяволом
Он приступил к изучению электрических явлений в те времена, когда все связанное с ними считали проявлением колдовства, когда исследователей, осмелившихся посягнуть на тайны этих явлений, считали вступившими в заговор с дьяволом.
Вольта — великий мудрец и великий изобретатель, вышел на бой с невежеством, подняв забрало.
Его имя первым стали писать с маленькой буквы: вольт — единица напряжения. Напряжения, которое в проводнике, имеющем сопротивление в один ом, производит ток силой в один ампер.
Пожалуй, ничье имя мы так часто не произносим в нашей повседневной жизни.
В жизни он был удачлив. Ему везло, житейских забот и лишений он не знал, и, кажется, можно было ожидать, что он мирно и спокойно пройдет свою дорогу, состарится и, не испытав ни падений, ни взлетов, отойдет в лучший мир, оставив после себя кучу потомков.
А он в душе был бунтарь. Он совершил переворот в науке и оставил наследство воистину неоценимое.
…Дон Филиппо Вольта не скрывал свою радость, когда ему сообщили, что у него родился сын. Итальянский аристократ, отпрыск старинной фамилии, он очень заботился о продолжении рода и давно уже приготовил для мальчика имя. И вот теперь судьба вновь милостиво улыбнулась ему и подарила еще наследника. Пусть будет больше потомков знатного рода!
Алессандро был младшим в семье — седьмым ребенком, но почему-то именно на него дон Филиппо возлагал основные надежды.
А мальчик рос вялым ребенком, безразличным ко всему окружающему. Мать его, герцогиня Магдалена де Конти Инзаги, показывала сына медицинским светилам Милана, и все они говорили что-то неопределенно успокоительное и лишь намекали весьма осторожно, что, вероятно, мальчик будет немым. Радость в семье Вольта сменилась несчастьем…
До четырех лет этот невзрачный малыш не говорил. Первое же слово, которое он произнес, как гласит семейное предание, — «нет!». Наверное, можно было бы, отталкиваясь от этого эпизода, начать рассуждения о том, что вот то самое «нет» стало символом жизни Вольта, что именно с этим символом он начал сокрушать застарелые взгляды и теории, успевшие покрыться налетом плесени. Давайте не станем делать этого. Проследим лучше, как Вольта становился ученым.
Началось с того, что его воспитание дон Филиппо доверил Елизавете Педралио ди Бруните. Имя этой ученой дамы, безусловно, стоит упомянуть, поскольку она была женой известного в Италии мастера, делающего приборы для всевозможных физических измерений. И, судя по всему, благодаря своей воспитательнице юный Вольта играм с кубиками стал предпочитать несложные опыты с теми приборами, которые его наставница приносила из дома.
А потом он прилежно учился в школе иезуитов своего родного города Комо, что расположен подле Милана. Кроме как усердием и обостренным интересом к науке, он от своих сверстников ничем не отличался. Старшие сестры вспоминали, что он был самым обыкновенным — живым, веселым мальчишкой.
Как непохож на того мальчишку этот гордый, недоступный старик в богатом камзоле с высоким стоячим воротником и с роскошным шитьем, знающий, кажется, все; старик, который внимательно смотрит на нас со старинной картины из-под тяжелых, немного опущенных век…
В школе его больше всего интересует электричество, он собирает отдельные разрозненные сведения — те немногие, скупые крохи знания об электричестве, которые успело собрать человечество. В старых хрониках сохранились рассказы о том, что к восемнадцати годам Вольта знал об этой новой таинственной науке все, что тогда можно было узнать. Он молод, дерзок, для него не существует авторитетов, которым бы он поклонялся как идолам, и мысль его не стеснена узкими берегами ограниченной догмы. Он чувствует, что может уже попытаться что-то сделать и сам, и делает такую попытку, связывая некоторые явления электричества с законом Ньютона о притяжении.
Это была первая научная работа Вольта. Вольта никак не может решить, кому из ученых послать ее, потом запечатывает в большой плотный конверт и отправляет во Францию Жану Антуану Ноллэ, известному ученому, чьи работы он давно хорошо знал.
Вольта окрылен, когда приходит ответ. Значит, и он кое-что сделал! Значит, он на верном пути.
Впрочем, не только физика привлекает и волнует его. Он занимается много химией, изучает латынь, сочиняет стихи. В девятнадцать лет он пишет на древней латыни поэму — нет, не о любви, не о горах, синими зубцами оторочивших горизонт. Он пишет поэму о крупнейших открытиях в физике и химии. Наука для него — и любовь и поэзия.
А в двадцать четыре года выпускает в свет свою первую печатную работу «О притягательной силе электрического огня и явлениях, отсюда вытекающих». Работа эта была вполне серьезной и добросовестной, однако никаких открытий в ней не описывалось. И во второй работе, вышедшей через два года, тоже вроде бы никаких откровений. Видно, не пришел еще час, когда мир должен будет узнать его имя. Правда, ждать того часа Вольта осталось совсем немного.
И до Вольта электростатическую индукцию изучали многие, и после него — тоже. Но он сумел объединить усилия одних и наметил дорогу другим. Изучая индукцию, Вольта изобретает свой знаменитый электрофор, и этот прибор приносит ему уже мировую славу. О своем изобретении он докладывает губернатору Ломбардии, и тот, будучи человеком весьма просвещенным, назначает молодого ученого профессором экспериментальной физики в его родном городе. А прибор тот так и называют с тех пор «электрофором Вольта».
Открытие Вольта состояло в том, что он нашел способ получения электрических зарядов с помощью индукции, что он открыл способ увеличения заряда в любое число раз. Теперь можно было снять медный диск и перенести его заряды на другое тело, а потом диск снова вернуть на прежнее место и повторить всю операцию. Так можно было накапливать электричество, понемногу переливая невидимые и неощутимые потоки зарядов.
А потом он вновь обращается к химии и пишет исследование по природным горючим газам. На это исследование натолкнул его случай. Впрочем, случай, этот ветер удачи, всегда помогает и сопутствует тем, кто ищет с ним встречи, пытливо вглядываясь в окружающий мир.
Однажды ясным летним днем Вольта плыл в лодке вдоль берега Лаго Маджоре — озера на севере Италии. Жесткие тростниковые листья шуршали по бортам лодки, и Вольта, стоя на корме и отталкиваясь длинным шестом, с усилием продвигался в высоких густых зарослях. Шест глубоко погружался в вязкое илистое дно, и Вольта обратил внимание, как в том месте, где шест втыкался, вереницей всплывают мутные пузыри. Этого столь незначительного наблюдения оказалось достаточно, чтобы возбудить интерес Вольта. Он ставит эксперименты и доказывает, что горючий газ возникает не только там, где есть уголь, но и там, где поколение за поколением погибают растения. Из их останков и из останков животных образуется это вещество, этот горючий газ, или, как его еще называют, болотный газ. И уж так он был устроен, Алессандро Вольта: изучая какое-то новое для него явление, он обязательно изобретал. Во время работы с горючим газом появилась водородная лампа Вольта, прибор с непривычным для нас названием — эвдиометр, ставший поистине спасением для химиков и физиков, изучающих свойства воздуха. Гумбольдт и Гей-Люссак заявили в один голос, что лучшего прибора им не доводилось встречать.
Потом он вновь возвращается к электричеству, исследует, от чего зависит наэлектризованность тел, подводит итоги работ разных ученых, сделавших свои наблюдения раньше его. Вольта обладал редким умением охватить единым взглядом и то, что он только что сделал сам, и то, чего добились его предшественники. Этот дар позволял ему сделать выводы, которые, как многим казалось, лежали вот здесь, совсем рядом, и странно — как это никто не сумел к ним раньше прийти. А вот Вольта сумел. Он показал, что если взять пучок тонких проволок и одну толстую и наэлектризовать их, то тонкие проволоки окажутся гораздо более сильно наэлектризованными. Чтобы доказать свой вывод, Вольта построил «громоносную» машину, собрав ее из шестнадцати тонких проволок, покрытых слоем серебра, и длиной более трехсот метров. Разряд этого странного сооружения мог поразить крупных животных.
Вольта щедр. Он не прячет своих открытий, а спешит поделиться ими с коллегами. О каждом из новых своих наблюдений он пишет во все концы Европы, подробно описывая то, что ему удавалось увидеть. Он давно уже известен, его имя сопровождает теперь целая вереница звонких и пышных титулов, академии множества стран Европы избирают его своим почетным членом, он совершает вояжи — и всюду ему устраивают пышные встречи, и всюду — речи, в которых ему возносят хвалу. Он знаменит, его называют великим, а все самое главное, его действительно великие открытия еще впереди.
В истории науки можно найти немало примеров тому, как труд, посвященный одному явлению, попадал в руки человеку, который, поймав нить, ускользнувшую от автора этой работы, распутывает ее и приходит к иному открытию. И часто потом забывают о том труде, где человек, совершивший открытие, нашел эту счастливую нить. Нечто похожее случилось и с Вольта.
Как-то раз он взял в руки трактат Гальвани «Об электрических силах в мускуле», раскрыл его, прочитал одну страницу, другую и увлекся, позабыв обо всем. Сохранились строки, написанные рукой Вольта после того, как он прочел тот трактат: «Настолько поразительными казались мне описанные явления, которые если и не противоречили, то слишком превосходили все то, что до сих пор было известно об электричестве, такими чудесными они мне показались».
Вольта оставляет свои предыдущие опыты и проходит весь путь, который прошел до него Гальвани, желая проверить, не ускользнула ли от его внимания какая-нибудь мелочь, какой-нибудь факт. И находит. Но это не мелочь — это едва ли не самое важное: лапка лягушки, лежащая на столе, начинала дергаться только тогда, когда к ней прикасались двумя разными металлами. Гальвани или не заметил этого, или не придал никакого значения. Ну а Вольта сразу же решает поставить опыт Гальвани на себе — так будет вернее, лапка лягушки никогда не сможет рассказать, что она чувствует во время опыта…
Он и сам не верил в успех своего предприятия, и не думал это скрывать — уж слишком невероятным ему все показалось…
Вольта сделал так: он взял две монеты из разных металлов и положил их в рот — сверху, на язык, и под него. Потом соединил монеты тонкой проволокой и тут же ощутил вкус не то подсоленной воды, не то медного купороса, во всяком случае, вкус, которого прежде не было. Снова и снова соединял он монеты, держа их во рту, — и всякий раз ощущал то же самое. Нет, никогда бы ему не испытать всего этого, если бы он бездумно повторял то, что сделал Гальвани.
Вольта понимает, что он уже продвигается дальше — гораздо дальше. И, что очень важно, открытие Гальвани-физиолога изучает и развивает Вольта-физик. Его интересует все — и то, что происходит, и то, как происходит. Он впервые измеряет силу электричества, потому что странный, не слишком-то приятный вкус во рту — Вольта это уже отлично знает — не что иное, как вкус электричества.
Электричество, вкус которого испытал Вольта, рождено было металлами. А Гальвани, маг и волшебник Гальвани, прикладывавший электроды к ногам овец и лягушек и заставлявший их дергаться, упорствует, утверждая, что это электричество имеет «животное» происхождение, а металлы — всего лишь проводники. Довод Гальвани был столь понятен и ясен, что не находилось смельчаков, которые могли бы ему возразить. Он говорил: при чем здесь металлы? Если к лапке лягушки прикоснуться, скажем, кусочками дерева, лапка не шевельнется. Значит, источник электричества заключен в самих мышцах. А когда прикладывают металлы, электричество просто перетекает в них. Как же он ошибался, Луиджи Гальвани!
Вольта доказывал это везде, где только мог, и Гальвани тоже не упускал случая, чтобы выпустить ответные стрелы. За каждым из них стояла армия верных оруженосцев, и спор этот мог бы превратиться в войну в науке, если бы Вольта не был изысканно-вежлив, бескорыстен и честен. Гальвани ни на секунду не сомневался в своей правоте и умер, так и не узнав всей глубины своего заблуждения.
Умер человек, совершивший великое открытие, наметивший в физиологии новое направление — наверное, на несколько столетий вперед, но так и не сумевший понять до конца то, что он сделал.
Вольта очень скоро разрушил теорию животного электричества. Его вольтов столб — первый источник тока — был построен в точном соответствии с его теорией, теорией «металлического» электричества. Как же он был прост, этот первый в истории науки источник постоянного тока — прост и гениален — все вместе! Вольта положил друг на друга более ста небольших цинковых и серебряных кружочков (поначалу-то это были монеты), проложив меж ними бумагу, смоченную подсоленной водой. Вот и все. Но получился невероятно сильный по тем временам источник тока.
Вольтов столб… Мы бы увидели в нем силы немного. Ее хватило бы, чтоб зажечь всего одну слабую лампу. Пройдет всего двадцать пять лет, и Ампер — великий архитектор электродинамики — воздвигнет на фундаменте, заложенном Вольта, стройное здание новой науки. Еще немного времени — и Фарадей сделает свой неудержимый рывок в будущее, подарив человечеству, пожалуй, величайшее из всех когда-либо сделанных изобретений — электромагнитный генератор тока, — и это тоже начиналось от Вольта. От этого немногословного учтивого человека с изысканными манерами аристократа, еще далеко не старого, для которого наука — это вся жизнь. И вся жизнь — это наука.
Сам Вольта называл свой «столб» «искусственным электрическим органом», потому что он находил его похожим на электрический орган некоторых рыб.
Он прочел все, что смог найти об электрических скатах, изучил устройство этой живой батареи и пришел к выводу, что электрический орган рыб состоит из множества проводников, которые, как он полагал, «сильно разнятся друг от друга». Вольта был и первым испытателем своего прибора. Он с удивлением наблюдал, что прибор его может оказать действие буквально на все органы чувств. Совершенно не представляя, к чему это может привести, ученый опускает руку в чашу с водой, к которой подсоединял один из контактов «столба», а к другому контакту он прикрепляет проволоку, свободным концом которой он прикасается ко лбу, к носу, к веку. Он чувствовал или укол, или резкий удар — и все это аккуратно записывал. Иногда боль становилась невыносимой — и тогда Вольта размыкал свою цепь. Он понял, что его «столб» — это источник постоянного тока.
И все-таки
тень Гальвани еще витает над ним. Он, верный последователь Гальвани и его непримиримый противник, все же не видит иного применения своему изобретению, кроме как в медицине. И Вольта вновь погружается в опыты, где сам он все. Он теоретик, он экспериментатор, он изобретатель, и он же испытатель.
Самыми интересными ему показались опыты с глазами. Смелый, безрассудный Вольта! Не ведая страха, не сознавая опасности, он присоединял контакт от источника к мокрому веку или глазному яблоку, а другой контакт подводил ко второму глазу или брал в мокрую ладонь. Он пробовал по-всякому. Так он увидел «прекрасное сверкание». Он в восторге. Снова и снова он подсоединяет электроды и, позабыв о неприятных ощущениях, наслаждается сверканием радужного роя звезд.
Потом он переходит к опытам со слухом. В оба уха он глубоко вводит два металлических зонда с закругленными концами и соединяет их с контактами «столба». Чуть позже, когда он пришел в себя, он сразу же взялся за перо — чтобы не забыть деталей в ощущениях, и записал: «В тот момент, когда замкнулся круг, моя голова сотрясалась, и через несколько мгновений (сообщение не прерывалось) я услышал звук или вернее трудноопределимый шум в ушах. Это было нечто вроде треска или лопания, как если бы кипело какое-то масло или вязкое вещество. Этот шум продолжался, не увеличиваясь, все время, пока круг был сомкнут. Ощущение было очень неприятное, и я опасался его вредных действий на мозг, а потому больше не повторял его». Наконец-то он ощутил грань опасности и понял, что надо остановиться.
Впрочем, неисследованным остался еще нос. Но, к счастью или к сожалению, а выжать никакого запаха из электричества он все-таки не смог. Тогда, закончив свои «медицинские эксперименты», он вновь берется за перо и пишет: «Есть над чем подумать и анатому, и физиологу, и врачу-практику».
А думать над его изобретением начал весь ученый мир. Вольта прорубил первую просеку — и предоставил другим ее расширять и углублять. Блестящим каскадом посыпались открытия — и это Вольта предвосхитил их. В России его эстафету принял и понес дальше Петров, во Франции — Ампер, в Германии — Ом, в Англии — Фарадей. Если бы он знал, Алессандро Вольта, как далеко уйдут его открытия…
Но Вольта этого не знал. Как мог он знать, что в то время, когда он сделал доклад о своем «столбе», в туманном Альбионе уже жил девятилетний мальчик Майкл Фарадей, который через семь лет после смерти Вольта скажет: вот здесь великий Вольта был не прав, а здесь он сделал то, что будет долгие века питать науку. Вольта думал, что лишь от прикосновения разных металлов возникает «электродвигательная сила». Она, эта сила, «разделяет соединенные электричества и гонит их в виде токов по противоположным направлениям». Еще и при жизни Вольта у него появились противники, и спор, который возник, длился долгих три десятка лет. Майкл Фарадей подвел черту в нем и внес предельную ясность: в вольтовом столбе источник тока — химический. Но это ни в коем случае не было низложением Вольта — великие открытия сделали его неприступным, и никто никогда не пытался отнять у него корону в том королевстве, которое он же и основал.
Слава его еще при жизни была всемирной. Он граф, сенатор. Старый, быстро беднеющий род Вольта вновь оживился. Вольта — рыцарь ордена Почетного легиона, ордена Железного креста. Наполеон сумел оценить вклад Вольта в науку и учредил в его честь огромную премию за лучшие исследования в области физики. Он вникал во всякие детали работы Вольта и как-то раз, беседуя с придворным лекарем Корвизартом, сказал о «столбе»: «Взгляните — ведь это прообраз жизни!» Однажды Наполеон увидел на стене в библиотеке Национального института в окружении лаврового венка надпись: «Великому Вольтеру» — увидел и внезапно остановился. Секунду постоял и приказал стереть последние две буквы — так, чтоб получилось: «Великому Вольта». А Вольта к почестям и славе оказался совершенно равнодушен.
Он был еще не стар, но чувствовал себя усталым, утомленным. Он оставил исследования и стал читать лекции в городе Павии. Потом он жил недолго в Париже, но вскоре понял, что его тянет домой. Он вернулся в родной Комо — город, где он тихо и мирно прожил еще десять лет. Апоплексический удар случился с ним, когда он был уже глубоким стариком. Тогда ему было семьдесят восемь. Еще четыре года он не жил, а существовал.
Умер он в один из первых дней весны, в том же городе, где и родился. Так замкнулся жизненный путь этого великого человека.
Его похоронили на старом кладбище, под пологом древних могучих деревьев. Он оставил после себя трех сыновей, и они воздвигли на его могиле надгробие — пышное, монументальное, похожее на средневековый замок, украшенное скульптурными фигурами. Многим, кто приходил на кладбище, нравилось это роскошное сооружение.
Он предпочел бы скромный обелиск.
Андре Мари АМПЕР (1775–1836) — великий и обделенный счастьем

 По существу, это с него, Ампера — физика, химика и математика, — началась наука об электричестве. Он основал эту науку, ввел в нее термины и наименования, сохранившиеся до нашего времени. Наверное, теперь уже они навсегда сохранятся. Как навсегда сохранится ампер — вечный ему памятник, название, которое на языке всех народов звучит одинаково.
Ампер. Сила неизменяющегося электрического тока, который, проходя через водный раствор азотнокислого серебра, отлагает за одну секунду 1,118 миллиграмма серебра.
Ампер. Скромный, почти незаметный при жизни титан. И очень несчастный человек.
По существу, это с него, Ампера — физика, химика и математика, — началась наука об электричестве. Он основал эту науку, ввел в нее термины и наименования, сохранившиеся до нашего времени. Наверное, теперь уже они навсегда сохранятся. Как навсегда сохранится ампер — вечный ему памятник, название, которое на языке всех народов звучит одинаково.
Ампер. Сила неизменяющегося электрического тока, который, проходя через водный раствор азотнокислого серебра, отлагает за одну секунду 1,118 миллиграмма серебра.
Ампер. Скромный, почти незаметный при жизни титан. И очень несчастный человек.
Он был некрасив, неловок и потому, наверное, застенчив неимоверно. Друзья его рассказывали, что временами им казалось, будто он смущается собственной тени. За собой он никогда не следил. Одевался почти небрежно, даже неряшливо, и это его нисколько не беспокоило. Он смиренно переносил все удары судьбы, хотя небезропотно — часто жаловался, как она, эта судьба, несправедлива к нему, мог даже заплакать, не скрывая от дам своих слез. И вообще он, казалось, всегда покорно плыл по течению жизни.
И вдруг мощный напор ума, целеустремленная сосредоточенность, неудержимый натиск в работе, отважный бросок в неизведанное…
Просто поразительно, как все это в нем сочеталось…
В школу этот мальчик никогда не ходил. Зато он целыми днями просиживал в отцовской библиотеке. Тогда только что вышла «Энциклопедия», написанная Д’Аламбером и Дидро, и Андре Мари прочел ее от корки до корки. Он читал подряд статьи, напечатанные в алфавитном порядке, — ему все было интересно. Многие из них он запомнил на всю жизнь. В старости он не раз изумлял своих друзей, читая наизусть статьи из «Энциклопедии», прочитанной в детстве.
Однажды отец пригласил к нему учителя математики. Долгое время они беседовали, оставшись вдвоем. Учитель вышел обескураженный: многие разделы математики мальчик знал лучше него. Он, правда, не умел извлекать корни, не имел представления о ряде других элементарных вещей, зато превосходно умел интегрировать, мог пуститься в пространный спор об аберрации. Учитель вынужден был отказаться от столь необычного ученика, и Андре вновь обратился к «Энциклопедии».
Когда Андре Мари исполнилось восемнадцать, жизнь нанесла ему первый удар: его отец купил себе должность королевского прокурора и, подписывая бумагу о назначении, подписал себе приговор.
Франция переживала тогда бурное время: произошла революция, политическое положение в стране обострилось, на площадях возникли уродливые и страшные сооружения — гильотины, отсекающие головы и виноватым и правым: тот, кто был прав вчера, оказывался виноватым сегодня. Так случилось с отцом Ампера. Он не был тонким политиком, а скорее наивным и действовал по велению совести. Он попал под горячую руку жаждавших крови и был обезглавлен.
Незадолго до казни он написал жене: «Далеко до того, моя дорогая подруга, чтобы я оставил тебя богатой или обеспеченной; ты не должна приписывать мое плохое состояние какой-либо расточительности. Самым большим моим расходом была покупка книг и геометрических приборов, без которых мой сын не мог обойтись, но даже и эти расходы я производил с разумной экономией, так как у него никогда не было других учителей, кроме самого себя…»
Отцы всегда верят, что их сыновьям удастся добиться большего, чем добились они, — верят все, и многие из них так ошибаются…
Жан Жак Ампер, отец Андре Мари Ампера, тоже думал так. И не ошибся.
Сын услышал о смерти отца и не поверил… Потом вдруг выронил книгу, лишился чувств…
Несколько месяцев, почти год, он жил как в бесцветном сне, не замечая, что происходит вокруг. А в это время звезда рода Ампера померкла и стала клониться за горизонт. Имущество казненного отца было конфисковано, на поместье наложили арест, но мать беспокоило даже не это — больше всего она опасалась, что потрясенный рассудок сына уже не поправится, однако буйная сила жизни спасает его: гуляя, он уходит все дальше и дальше от дома, по тропе, лежащей меж лесистых холмов, и с каждым разом все сильней ощущает, как оживает и наполняется силой. Еще почти бессознательно он собирает цветы и травы, ищет в книгах латинские названия их — и мозг его пробуждается.
А потом новое открытие, которое помогло ему лучше увидеть мир. Как-то раз, прогуливаясь по берегу Соны, приятель водрузил на нос Амперу свои очки. Тот замер и вдруг почти задохнулся от нахлынувшей радости: весь мир ожил, заискрился красками, обрел новые, четкие формы. Оказывается, этот странный молодой человек даже и не подозревал, что он плохо видит…
И так же случайно и тоже во время прогулки он сделал другое открытие. Это открытие принесло ему и радость, и боль, и счастье, и горе. Счастье, правда, длилось очень недолго.
Он увидел ее, когда она вместе с сестрой перебиралась через мелкий ручей, бегущий в лощине. Судя по всему, этот ручей показался им серьезным препятствием. Ампер стоял, словно прикованный к месту, потом вдруг понял, что дамам надо помочь, приблизился и не слишком уверенно предложил свою руку. Когда он ощутил в своей ладони маленькую руку в высокой белой перчатке, его переполнило незнакомое прежде чувство…
Он узнал, что эти две девушки — сестры Каррон и ту, которая так взволновала его, в семье называли Жюли. Карроны жили поблизости от Полемье — родовой усадьбы Амперов, но юноша, ведя жизнь затворника, не знал даже своих близких соседей.
Андре Мари тут же, возле ручья, получил приглашение нанести визит — просто как знак вежливости, ни в коем случае это нельзя было считать особым проявлением интереса. Он это понимал и не льстил себя напрасной надеждой.
Запершись в своей маленькой цитадели — библиотеке отца, впечатлительный юноша пишет стихи:
Золотистых волос и лазурных очей
Не могу позабыть я во мраке ночей…
И все кажется мне: сквозь чарующий сон
Голос твой я услышал — навеки влюблен.
Стихи эти он прячет в своем дневнике подальше от случайного нескромного взгляда и так же старательно прячет от матери свое первое чувство. Он ведет себя как шестнадцатилетний мальчишка…
Предмет его обожания суров, даже жесток и не упускает ни единого случая, чтобы над ним посмеяться. Андре Мари все чаще появляется у Карронов, благо пути всего двадцать минут. Он использует малейший предлог, чтобы увидеть Жюли, а она пишет сестре в Лион: «Он похож на старика, он так серьезен, никогда не увидишь, чтобы он смеялся». Что ж, у него действительно нет светских манер, он не умеет танцевать и изысканно кланяться, он может даже задремать невзначай, когда сестры в гостиной вдвоем музицируют, зато он может дать уроки итальянского языка, научить наблюдать солнечное затмение. Он может часами говорить о звездах, рассказывать о тайнах растений — он знает поразительно много, этот странный молодой человек с крупными, мало привлекательными чертами лица и с большими мечтательными глазами. Только в этих глазах можно было увидеть внутренний мир Ампера.
А она в эти глаза не смотрела. Свое будущее Жюли никак не связывала с этим мешковатым, застенчивым молодым человеком, который при виде ее терял дар речи. Однажды он собрался с духом и написал о своих чувствах — написал отчаянно, почти без надежды. Ответа он не получил.
Жюли еще долго оставалась равнодушной к нему, и неизвестно, куда бы дальше повела дорога судьбы, если бы не письмо ее сестры Элизы, сумевшей понять существо Андре Мари. Она писала: «Устраивайся, как хочешь, но прежде чем полюбишь его сама, позволь мне его любить хотя бы немного: он так добр!» Неизвестно, что тут сыграло роль — внезапная ревность или просто письмо помогло Жюли лучше увидеть Ампера, но она стала смотреть на него иными глазами. Проходит время, и она с удивлением обнаруживает, что любит его…
Родители девушки, которые совсем недавно давали понять Андре Мари, что его визиты слишком часты и что было бы совсем неплохо, если бы он вообще сократил их до минимума — теперь, увидев столь неожиданную перемену в чувствах любимой дочери, озадачены, даже обеспокоены тем, как она будет жить. Уж слишком маловероятно, что этот робкий юноша добьется какого-либо успеха в жизни и станет опорой семьи. К тому же он совсем небогат, если не сказать больше… Он ничему нигде не учился… Нет, право, непонятно, как он думает жить…
А Андре Мари… Как у него все просто! Приступы отчаяния у него так легко сменяются волной оптимизма… Верно, у него нет профессии, но он много знает. Разве знания — это не капитал? Он может преподавать итальянский язык и математику. Говорят, в богатых семьях очень модно изучать математику… Нет, все будет прекрасно, он в этом уверен!
Ампер убеждает всех, что настало время ему ехать в Лион — искать себе место — все согласны, а он вдруг на грани отчаяния: если он уедет, значит, гораздо реже сможет увидеть Жюли… Лион недалеко — с вершины холма в Полемье он открывается весь, почти как на ладони, но и это расстояние ему кажется большим, он боится, как бы Жюли не охладела, пока он будет в Лионе…
Едва успев уехать, он сразу же пишет ей: «Каким проявлением вечной любви смогу я вознаградить вас за счастье, которое вы мне даете? Посвящая вам свою жизнь, я буду строить собственное счастье…»
Нет, в самом деле, все будет хорошо. Только в это надо верить и за это надо бороться.
В Лионе он дает уроки математики. Ученики его любят, но, как водится, не упускают случая над ним подшутить. Это просто: Ампер всегда был очень доверчив.
Он много работает: изучает те разделы математики и философии, где, ему казалось, он был еще слаб. Весь день у него уходит на занятия с учениками, поэтому для себя он может выкроить лишь раннее утро.
Он приучил себя вставать в четыре часа, а к вечеру ему казалось, что на следующий день уже не останется сил. Если бы можно было бросить это треклятое преподавание и целиком погрузиться в науку… Но это невозможно. Он должен помогать матери, и Жюли тоже ждет, что он упрочит свое положение.
В конце каждой недели Андре Мари отправляется домой, в Полемье, а оттуда, подгоняемый радостным нетерпением — в Сен-Жермен, чтобы увидеть Жюли. Из Лиона домой он всегда ходит пешком, чтобы не тратить денег на дилижанс — он не жаден, просто жизнь научила считать те немногие франки, что он зарабатывал. Только зимой он позволяет себе сесть в дилижанс.
И вот, наконец, пришел этот желанный день — Андре Мари и Жюли поженились. Кажется, они оба по-настоящему счастливы. Они переезжают в Лион, где возник род Ампера — от старого каменотеса Клода Ампера. Здесь им вдвоем хорошо, они ходят в театры, гуляют по набережной, и кажется, что так хорошо, как сейчас, будет всегда.
Но это счастье было очень недолгим. У них родился сын, которого в память казненного деда назвали Жан Жаком, а Жюли вдруг начинает серьезно болеть. Врачи сначала колеблются, сомневаются, а потом уверенно объявляют Амперу: это туберкулез. С той минуты кончилось счастье Ампера.
Тяжелая болезнь — очень дорогое несчастье. Андре Мари это почувствовал сразу. Тех денег, что он зарабатывал, ему не хватало, и он решает увеличить число учеников. Теперь у него уже больше двенадцати уроков в день — работа тяжелая, однообразная. Совершенно непонятно, как он еще находит силы и время, чтобы заниматься наукой, но именно в это время он пишет свой первый труд — о равенстве симметрических многогранников.
Андре Мари еще больше уходит в себя, друзья замечают, что он стал еще более рассеянным. Однажды он потерял кошелек с деньгами — тридцать три ливра — сумма не бог весть какая, но для него эти деньги — потеря. Другой человек, наверное, недолго бы переживал, а он буквально мучается, представляя, что можно было бы купить на те деньги для больной жены и для сына. Никогда до сих пор он не нуждался столь сильно.
Он нередко впадает в отчаяние — глубокое, настоящее. Временами ему кажется, что единственный выход и избавление от всей этой гнетущей жизни — покончить с собой. Долг перед семьей удерживает его от безумного шага. А вскоре ему предложили постоянное место преподавателя в Центральной школе города Бурга. Правда, на этот раз уехать надо действительно далеко от родных. Что ж, теперь он готов ко всему.
В школе Ампер читает курс физики. Перед изумленными слушателями он распахивает необозримые горизонты прекрасной всесильной науки, таящей в себе столько загадочного, что еще предстоит познать человеку. Физика — это весь мир вокруг человека, от недр планеты, которая дала ему жизнь, до самых далеких видимых звезд, и дальше — что мы с Земли не видим и никогда не увидим. Ибо мир бесконечен.
Ампер увлекает своих учеников и увлекается сам. Его лекции превращаются во вдохновенный рассказ во славу любимой науки. Даже некоторые из коллег приходят послушать выступления Ампера. Его поздравляют, говорят, что он доставил своим слушателям подлинное удовольствие. Он с застенчивой скромностью принимает поздравления и начинает верить, что наконец-то обретает себя. И снова он верит в свою звезду, снова с надеждой взирает в будущее. Но только недолго.
Письма Жюли — печальные, тоскливые письма умной женщины, трезво оценивающей свое состояние и почти потерявшей надежду на выздоровление, эти письма наполняют горем Ампера. Он с милой непосредственностью влюбленного просит ее не болеть больше, подумать о кем и о сыне, а она отвечает: «…впрочем, я тебя знаю, и это не в первый раз ты меня смешишь своими просьбами обещать тебе больше не хворать. Ах, мой добрый друг, здоровье — это такая драгоценность. Его так ценят, когда им нельзя наслаждаться».
Как-то раз он вырывается из Бурга в Лион, и оба, обнимая друг друга, плачут от радости. Андре Мари Ампер никогда не был тем мужчиной, о которого разбивались все невзгоды и бури житейского моря, он не мог стать верным оплотом семьи, хотя так сильно желал этого. Но зато как преданно он делил с близкими и радость и горе…
Его горе с ним никто не мог разделить. Жюли умерла, когда ей не было и тридцати лет. Для Ампера это было трагедией. Он заболел и как когда-то, когда умер отец, делается безучастным ко всему, что происходит вокруг. Его маленький мир, который он так бережно, старательно строил, вдруг развалился, и Андре Мари вновь почувствовал себя одиноким и беззащитным. Его состояние серьезно беспокоит мать, и она ему пишет: «…ты произвел на меня своим видом удручающее впечатление, мой бедный. Постарайся же, милый друг, нести свой крест… ты просто страшен — бледный, исхудалый. Знаешь ли, куда это может тебя привести? К полному изнеможению!» Она призывает его подумать о ней, о сыне — ведь для них обоих он остался единственной опорой в жизни.
Ампер собирает все свои силы и уходит в работу. Потом понимает: здесь, в Лионе, ему не избавиться от тяжелых воспоминаний. Надо уехать, и чем быстрее, тем лучше. Его тянет в Париж, он строит планы, как всегда фантастические, несбыточные — он мечтает открыть крупнейший в Париже магазин по торговле химикалиями или учебный пансион. Но нет, это не для такого доверчивого и бесхитростного человека. Ему на этом поприще никогда не добиться успеха.
Неизвестно, какой бы шаг сделал Ампер, на чем бы остановился, но благодаря ходатайству академика Деламбра, с которым он познакомился как-то в Бурге и который высоко оценил первые работы Ампера по математике, Андре Мари предлагают должность репетитора в известной на всю Францию Политехнической школе. В общем, это должность обычного преподавателя, но, во-первых, ему открывалась прямая дорога в Париж, и, во-вторых, твердый заработок — то, чего он давно пытался добиться.
В Париже первое время он чувствовал себя одиноким. Друзей у него здесь еще нет, а новые знакомства во многом случайны и непрочны. Своему старому другу он пишет в Лион письмо, в котором есть и неоправдавшаяся надежда на быстрое исцеление души, и разочарование от тех людей, с которыми ему пришлось повстречаться: «…как я почувствовал ничтожество всего того, к чему стремлюсь в Париже. Боже мой! И вы допустили, чтобы я приехал сюда испытать, насколько суетен здешний мир, вид которого, казалось мне, представлял такое блестящее зрелище. Эти ученые, столь гордые своими знаниями, что значат они в сравнении с простыми, неискушенными душами?..»
Он долго еще тоскует в Париже, не замечая тех грандиозных перемен, которые вокруг него происходят. В Соборе Парижской богоматери коронуется Наполеон.
В школе, где Ампер преподает, учеников одевают в мундиры, вместо классов появляются роты и батальоны.
Ампер весь в работе. Он и здесь добивается признания как преподаватель, и через два года после приезда в Париж его назначают на должность профессора. Внешне он никак не меняется: то же печальное выражение не сходит с его лица. Одет он в свой старенький фрак, в котором на улице привлекает насмешливые взгляды, а в школе среди ярких мундиров он и вовсе выглядит странно. Молодой профессор так и не научился в Париже ни держать себя, ни следить за собой и выглядеть сообразно с занимаемой должностью. Ему не до этого. Все эти мелочи жизни его просто не волнуют. И как долго не уходит тоска…
Его друзья всерьез озабочены, они осторожно подводят его к мысли о женитьбе — так будет лучше и для него самого, и для сына. И мать пишет о том же… Ампер воспринимает этот совет как лекарство, но сам не предпринимает ни шага, чтобы изменить свое положение. Пусть будет как будет.
Один из его лионских друзей знакомит Ампера с семьей Пото, где зреет на выданье несколько жеманная и весьма энергичная девушка. Ее отец — типичный буржуа, коммерсант, надеется найти в Ампере человека, который поможет ему укрепить связи с полезными людьми. Проницательным взглядом он видит в молодом профессоре крупную, растущую личность и всячески приветствует его появление в своем доме. Ампер, так долго мечтавший о семейном уюте, отогревается возле камина Пото, и снова надежда в эти минуты нисходит к нему. Ему кажется, что он снова любит, что на этот раз счастливая судьба уже не изменит ему.
А он просто наивен, как юноша, только-только вступающий в жизнь. Кокетство Женни Пото для него — искреннее проявление чувств, расчетливая любезность ее отца — дружеское участие и расположение. Нет, так и не научился Ампер разбираться в людях.
Тот же Дежерандо, на чьей совести лежит знакомство Ампера с семьей Пото, устраивает его в Бюро искусств и ремесел. Это солидная прибавка к тому, что Ампер получает в школе.
Ампер очень рад назначению — не только потому, что это еще работа и деньги, в которых он всю жизнь нуждался, здесь, в этом бюро, бывают интересные люди, светлейшие головы века. Он познакомился там с Гей-Люссаком, с братьями Монгольфье. У него появились новые друзья, новые интересы. Наконец-то вновь ожил Андре Мари…
Накануне свадьбы с Женни пораженный Ампер вдруг узнает, что почтенный Пото откровенно надувает его. Брачный контракт составлен любвеобильным папашей так, что Ампер попадает к нему в настоящую кабалу.
Ампер растерян, он не знает, как себя вести. Дежерандо пытается помочь Амперу и наносит визит к коммерсанту, надеясь уговорить его изменить хотя бы несколько пунктов контракта. Тот, видя, что его ход разгадан, сбрасывает маску доброго дяди и запрещает Амперу появляться в их доме.
То, что Ампер испытывал в эти дни, безусловно, можно назвать и отчаянием, и полным разочарованием в жизни. Тем более что он, как и все искренние, доверчивые люди, был совершенно беззащитен перед такими, как любезный Пото.
Андре Мари решает вернуться в Лион — там мать, там его верный друг Элиза — сестра Жюли. Но накануне отъезда Пото его приглашает, уверяя, что Женни совсем плоха и разлука с Ампером ей может стоить жизни. Ампер, конечно же, не выдерживает, спешит в этот ненавистный и одновременно такой желанный дом, застает Женни в слезах, выслушивает лицемернейшее извинение ее отца и уступает. Поверенный в делах матери уговаривает Ампера не совершать этого шага, убеждает, что, кроме бед и горя, он ничего не принесет, но Андре Мари так хочется побыть рядом со счастьем…
На свадьбу тщеславный Пото приглашает министра внутренних дел Шампаньи, директора Политехнической школы генерала Лакюе, академиков Лапласа, Лагранжа, Деламбра. Ампер скован в обществе этих громких имен, даже немного растерян. Но ничего, это все продлится недолго. Потом они с Женни всегда будут вдвоем…
Вот какая трагикомедия произошла с женитьбой Ампера.
Впрочем, она еще не кончилась: в доме Пото Ампера замыкают, как в крепости — письма от матери он получает уже в распечатанном виде, а затем и вообще заставляют Андре Мари написать, чтобы она не утруждала себя даже и письмами. Странно, но он пишет такое письмо. Можно представить, каким оно стало ударом для матери, да и для него самого. Нередко друзьям, пришедшим с визитом к Амперу, говорили, что его нет дома. Эти первые шесть месяцев после женитьбы были для него сущим адом.
У молодых рождается дочь — и это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения семейства Пото: жена, оказывается, вовсе не хотела иметь детей. Она перестает разговаривать с Ампером и даже не здоровается, встречаясь с ним в доме. И однажды, глядя ему в глаза, предлагает немедленно убраться из дома. Он уходит и берет с собой дочь.
Так он вновь оказался с тем, с чего начал в Париже. Только теперь ему надо было заботиться и о маленькой дочери. Единственное утешение для него — это работа.
Измученный, усталый Ампер… Он сделал бы больше, будь к нему жизнь благосклоннее…
У него двое детей, и, когда умирает его мать, он вновь в отчаянье, понимая, что теперь ему придется еще труднее. Бредену, своему другу, он пишет: «Что мой душевный мир без бедной матери? Какое неописуемое приятное чувство меня охватывало, когда я видел ее, входя в дом, слушал ее голос, мне теперь приходят на память все ее слова, но я уже больше ее не увижу и не услышу! На сердце моем гнетущая тяжесть…»
Мать всегда поддерживала Ампера в трудные минуты жизни. Теперь он должен был надеяться на себя самого.
В работе он пытается найти забвение, в нее он хочет уйти от несчастий. Он пишет несколько важных исследований по математике.
О нем говорят как о восходящей звезде на небосклоне науки. Его теоретические труды привлекают внимание ведущих ученых Франции. Впрочем, он и сам отлично сознает ценность своей работы. И еще он понимает, что это только начало.
Ампер не занимается математикой отвлеченно, абстрактно, кет — он ищет пути ее применения в механике, физике. Он предлагает новый метод доказательства «принципа возможных перемещений» — одного из главнейших принципов теоретической механики. В механике он тоже добился огромных успехов. У него теперь есть и имя и авторитет, его выдвигают в члены Национального института наук и искусств, из которого выросла чуть позже французская Академия. В члены института выбирали лишь в том случае, если освобождалось вакантное место и, конечно, если позволяли заслуги претендента на это место. Умер Лагранж — и вместо него предложили Ампера и Пуансо. Ампер не прошел: за него проголосовал всего один человек. Вероятно, такое решение было вполне справедливым: к тому моменту вклад Пуансо в науку был все-таки больше. Но Ампер, судя по всему, признавая это, очень огорчался своей неудачей.
Через год его вновь выдвигают в академики. Он, наученный горьким опытом, еще не верит в удачу, он очень боится второго провала, а иногда вдруг обретает уверенность, что именно в этот раз все будет отлично, и снова колеблется в мучительном ожидании.
И вот его наконец избирают. Он становится в ряд бессмертных, как называют во Франции академиков, еще не сделав главного в жизни открытия, после которого его имя будут писать с маленькой буквы, но зато и встанет среди имен корифеев науки.
Ампер приходит буквально в восторг, когда узнает об опытах Эрстеда, открывшего взаимодействие электрического и магнитного поля. Его увлекают сразу десятки вопросов, на которые никто не смог бы ответить, и сам Эрстед — тоже. Ампер хочет знать, как происходит это взаимодействие, почему, какие силы и какие законы движут этими столь необычными явлениями. Он развивает открытие Эрстеда, ставит несколько блестящих опытов, он обнаруживает, что проводники, по которым течет ток, притягиваются или отталкиваются в зависимости от направления тока. Он первый приходит к выводу, что действие это таково в точности, как и в случае, когда два тела самым обыкновенным образом намагничены.
Бот оно, великое открытие Андре Мари Ампера.
Открытие это признали не сразу. У него появилось много противников, доказывающих, что якобы сделанное Ампером на самом деле сделано Эрстедом. Ампер вместе со своими сторонниками терпеливо их убеждает, доказывает. Он, всегда так любивший порядок и четкость в работе, вводит новые термины — «электростатика» и «электродинамика».
И снова он, блестящий математик, пытается выразить свои открытия в формулах, связать воедино науку-теорию и науку-практику. Он ставит ряд опытов с круговым током и убеждается, что такой ток оказывает иное действие, чем обычный, прямолинейный. Ампер пытается вывести закон, который был бы справедлив для любого проводника. Для этого он изучает действие тока на бесконечно малом отрезке. Потом от бесконечно малого элемента можно будет прийти к любому большому — опять же с помощью математических формул. Ему удается вывести этот закон, и он с гордостью произносит: «Пусть впоследствии создадут новые теории электричества, пусть возникнут новые гипотезы об электромагнитных процессах, — формула установленного мною закона останется незыблемой».
Нет-нет, эту фразу произносит уже не слабый, легко увлекающийся человек, восторженно встречающий свой малейший успех и теряющий от радости голову, едва завидев этот успех. Эти слова говорит великий ученый, трезво оценивающий плоды своей многолетней работы. Это его, Ампера, Джемс Клерк Максвелл называет «Ньютоном электричества». «Сочинение его совершенно по форме, недосягаемо по точности выражений и дает в результате формулу, из которой можно вывести все явления, представляемые электричеством, и которая навсегда останется основной формулой электродинамики», — говорит Максвелл.
Теперь, наверное, Ампер мог бы быть счастлив — он добился успеха, признания, но в той жизни — вне формул и опытов — он неудачник. Ему отчаянно не везло. Он по-прежнему еле-еле сводил концы с концами. Министр внутренних дел предлагает ему выйти в отставку и отказаться от должности инспектора, которая приносила ему хоть какие-то деньги. Эта должность понадобилась кому-то из личных друзей министра. Ампер тяжело переживает очередную несправедливость судьбы.
И дома тоже неладно. Его дочь Альбина вышла замуж за молодого кавалерийского офицера, который после ранения стал психически ненормальным, и не раз забавлялся тем, что приставлял заряженный пистолет к голове напуганной насмерть жены. Однажды он поджег на ней платье, в другой раз гонялся по дому за ней со шпагой в руке. Как-то ночью с пистолетом в руке он ворвался в спальню Ампера…
Такой человек, как Ампер, ни в чем не мог помочь своей дочери. Он сам страдал не меньше ее.
Сын Ампера Жан Жак тоже доставлял ему одни огорчения. Он, как и отец в своей молодости, долго не мог найти себя, занимался историей, философией, литературой. Уже в зрелом возрасте он сочинил пьесу, и отец, веря в ее гениальность, обивал пороги у всевозможных сановников, прося, убеждая, доказывая, что пьесу надо немедленно ставить. Ее поставили, а вскоре забыли.
Жан Жак был таким же увлекающимся человеком, как и отец. Он полюбил светскую женщину гораздо старше его и всю жизнь был платонически предан ей. Отец пытается устроить его брак с дочерью Жоржа Кювье, обо всем договаривается и с сыном, и с родителями невесты, а его неустойчивый отпрыск совсем потерявши голову бежит от отца за границу. Ампер в крайне неловком положении перед семейством Кювье…
Потом к сыну все-таки нисходит успех. Видно, он унаследовал от отца искры таланта. Его избирают профессором литературы во французском коллеже. Отец не раз приходил потом слушать лекции сына. И вот ведь какая ирония: слава Ампера-сына была в то время гораздо больше славы Ампера-отца. Нет, не могли современники оценить то, что он для них сделал…
Умер Ампер в шестьдесят один год от воспаления легких, вдалеке от дома, от любимого сына. Болезнь захватила его во время служебной поездки по югу Франции. За день до смерти он пишет сыну: «Я изнемогаю от усталости, написав это письмо. Покидаю тебя с нежностью, которую ничто не может превзойти».
Он умирал мучительно долго, и в ясный солнечный день такой вопиющей нелепостью казалась агония этого великого человека…
Его именем назвали единицу силы тока. Через сорок пять лет после его смерти попытались воздать почести, о которых он когда-то мечтал и которые заслужил. Он заслужил и обыкновенное человеческое счастье — этот добрый, отзывчивый человек. И его в жизни он никогда не узнал.
На своей надгробной плите он просил высечь слова: «Наконец счастлив!»
Майкл ФАРАДЕЙ (1791–1867) — этот поразительный лондонец
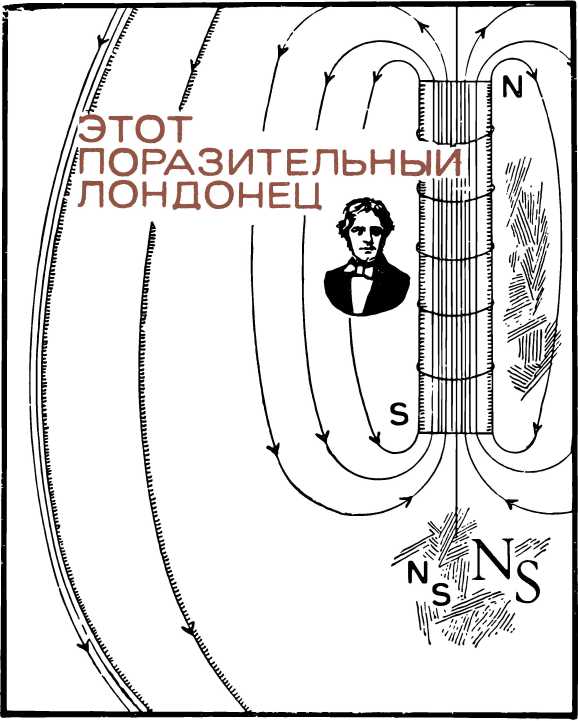
 Он родился позже Кулона, Ампера и Вольта — родился, когда они уже сделали все, что им предназначалось судьбой.
Ему предстояло двигаться дальше и глубже — в мир, где на каждом шагу ждало неизвестное.
Его звали Майкл Фарадей. Его именем нарекли единицу электрической емкости.
Фарада, кулон, вольт… Так они оказались рядом — Шарль Кулон, Алессандро Вольта и Майкл Фарадей. Так они стали звеньями единой, прочной цепи. Фарадею предстояло нарастить в ней новые звенья.
Он родился позже Кулона, Ампера и Вольта — родился, когда они уже сделали все, что им предназначалось судьбой.
Ему предстояло двигаться дальше и глубже — в мир, где на каждом шагу ждало неизвестное.
Его звали Майкл Фарадей. Его именем нарекли единицу электрической емкости.
Фарада, кулон, вольт… Так они оказались рядом — Шарль Кулон, Алессандро Вольта и Майкл Фарадей. Так они стали звеньями единой, прочной цепи. Фарадею предстояло нарастить в ней новые звенья.
За большим столом, покрытым толстой скатертью, сидел человек лет сорока. Лицо его, усталое, но сосредоточенное, было освещено блеклым светом, который проникал через два огромных окна, обрамленных тяжелыми портьерами.
Там, за окном, сновали, натыкаясь друг на друга, люди, спешили степенные омнибусы. Улица столичного города была тем рупором, который издавал тысячи звуков — голоса людей и редкое ржание лошадей, стук колес по булыжной мостовой и слабые звуки военного оркестра, несшиеся откуда-то издалека. Но человек, сидевший одиноко в огромной комнате с картинами, с книгами, хоть и поднимал иногда голову и смотрел в окно, ничего этого не видел, не слышал.
Перед ним лежал большой лист плотной бумаги, покрытый мелкими, но очень четкими буквами — с правильным, ровным наклоном. Окуная перо в массивную чернильницу, человек машинально провожал его взглядом и снова отпускал в стремительный бег по бумаге.
Он писал: «…Я хочу, передавая это письмо на хранение Королевскому обществу, закрепить открытие за собой определенной датой и, таким образом, иметь право, в случае экспериментального подтверждения, объявить эту дату датой моего открытия. В настоящее время, насколько мне известно, никто из ученых, кроме меня, не имеет подобных взглядов».
Потом помедлил и подписал: «Королевский институт, 12 марта 1832 г.» Справа, внизу, поставил подпись «Майкл Фарадей».
Письмо получилось большим, обстоятельным, и Фарадей аккуратно сложил бумагу, еще не зная, когда и кто ее развернет.
Потом он вложил письмо в узкий длинный конверт и надписал его: «Новые воззрения, подлежащие хранению в запечатанном конверте в архивах Королевского общества».
Его нашли и вскрыли через сто шесть лет. Нашли случайно, даже не подозревая о его существовании.
Воистину, то, что написал Фарадей, было поразительно: впервые в истории науки в нем говорилось о том, что электрические и магнитные поля — тоже волны. Только через пятьдесят пять лет после того, как было написано это письмо, Герц подтвердил существование электромагнитных волн. Только через семьдесят с лишним лет зазвучал радиоприемник Александра Попова.
То, что написал в своем письме Фарадей, было одним из самых крупных открытий, сделанных человечеством.
…Один энергичный статистик ухитрился подсчитать, сколько гениев создало человечество за всю историю своего существования. Потом с помощью какого-то непостижимого вычисления он определил, что количество общепризнанных гениев значительно — раза в два или три меньше, чем могло бы быть. И виной всему неподходящие условия, в которых родились и жили в юности эти гении. Именно поэтому никто никогда о них не узнал. И человек такой же гениальный, скажем, как Моцарт, Бетховен или Чайковский, всю свою жизнь ходил за плугом по полю, а другой, обладающий всеми достоинствами Федора Достоевского или Льва Толстого, выпекал хлеб или грохотал в кузне тяжелым молотом.
Мысль неожиданная, подкупающая, но все же не надо спешить с ней соглашаться. Да, конечно, жизнь — сложная штука, и часто успех человека зависит от случая или удачи и, уж конечно, в немалой доле от того, в какой среде живет человек. Но талант, мощный талант просто не может не проторить свой собственный путь.
Жизнь Фарадея тому лучший пример.
Он родился 22 сентября 1791 года на окраине Лондона, в семье кузнеца.
Кем отец хотел увидеть своего сына? Вряд ли кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос. В те времена газетные репортеры не брали интервью у Фарадея-отца. У Майкла был старший брат Роберт, и ему предстояло унаследовать отцовскую кузню. Были среди Фарадеев и сапожники и кровельщики, были торговцы и фермеры. Наверное, любой из них мог бы взять мальчишку в учение. Но все дело в том, что он оказался из тех, кто предпочитает учиться сам.
Он очень рано проявил самостоятельность, этот мальчишка. Майкл еще в школе почему-то решил, что ни алгебра, ни геометрия ему а жизни никогда не понадобятся, и пренебрег ими, чтобы все время отдать любимым химии и физике. Да, действительно, кажется невероятным, но один из величайших физиков всех времен и народов до конца своих дней так и не знал математику.
Майклу едва исполнилось тринадцать лет, когда отец подозвал его, положил на плечо тяжелую, сильную руку и произнес: «Пора, Майкл, и тебе за работу…» И младший Фарадей сделал первый, действительно самостоятельный шаг в жизни. Отец его был нездоров, и старший брат Роберт давно ходил на работу вместе с отцом. Теперь же пришла очередь Майкла.
Он стал работать там, куда его тянуло всегда с тех пор, как он научился читать. Он хотел быть как можно ближе к книгам, чтобы постичь хотя бы долю той мудрости, которую они хранили в себе.
Путь Майкла был недалек: по неровным камням мостовой, к одной из окраинных улочек — к Блэндфорд-стрит, которая вряд ли сохранилась в нынешнем Лондоне, — к крепкому кирпичному дому, где красовалась манящая вывеска: «Жорж Рибо, торговля книгами и переплет». В этом доме Майкл стал учеником переплетчика. За порогом этого дома для него открылась дорога в желанное царство — к книгам.
Свободного времени у Майкла было немного: помимо ученья, ему приходилось делать кое-что по дому, да и в магазине всегда находилась работа. Иной раз Рибо поручал своему ученику продажу книг и газет — и будущий великий физик, сжимая в руке свежий номер, в толпе таких же, как и он, горластых мальчишек кидался к подъезжающим экипажам, выкрикивая последние новости.
Кто помнил потом эти новости?.. Может, только сам Фарадей? Многие годы спустя в его памяти не раз всплывали картины далекого детства, и тогда он вновь видел себя — юного, возбужденного, с увесистой кипой газет…
И все-таки Фарадей читал в те годы много. Очень много. Странно, но этот мальчишка — такой же, как все другие, и не такой — не читал рыцарских романов, не читал и книг об увлекательных приключениях в Африке и в Америке. И пусть Вальтер Скотт, Майн Рид и Фени-мор Купер не написали еще своих бессмертных романов — на полках магазина Рибо стояли книги с другими именами, тиснутыми золотом по настоящим кожаным переплетам: Джонатан Свифт, Даниэль Дефо, Мигель Сервантес. Майкл знал эти имена, читал книги, написанные этими людьми, как читал и сказки «Тысячи и одной ночи», но чаще он брал с полок «Британскую энциклопедию», в которой изучил все, что хотя бы отдаленно касалось электричества. А любимой его книгой были «Беседы о химии» некой госпожи Марсе.
О, эти «Беседы»! Именно после них Майкл стал лучше понимать самого себя, потому что именно они, эти «Беседы», помогли ему сделать самое первое его открытие: он родился для того, чтобы заниматься наукой. В этой книге описывались десятки опытов, и Майкл все их проделал. Нет, он взялся за опыты вовсе не потому, что не доверял госпоже Марсе, а потому, что, зная заранее результат, очень хотел получить его сам, испытать то волнение ожидания, которое сопутствует каждому эксперименту. Тем более — самому первому эксперименту в своей жизни.
А потом была в жизни Фарадея одна встреча, самая важная, которая принесла ему много радости и огорчений. Она наполнила его уверенностью и сомнениями. Один клиент лавки, где вот уже восемь лет работал Майкл, узнав о том, что он увлекается химией, какие приборы мастерит из обыкновенных бутылок и какую гальваническую батарею он сделал из цинковых пластин и медных монет, пригласил Фарадея на лекции в только что открытый Королевский институт. Лекции эти были общедоступны, и читал их сэр Гэмфри Дэви — знаменитый химик, гордость английской науки.
На эти лекции Фарадей ходил, как в театр, где играл только один актер, но актер, обладающий
силой необычайной, который умел заставить забыть о мире, что простирался за этими стенами, о заботах и о тщетных треволнениях. Да, Фарадей забывал обо всем, слушая Дэви.
Чем переплетчик мог отблагодарить именитого химика — отблагодарить за те часы, в которые перед ним открывалась прекрасная страна познания… И молодой Фарадей посылает Дэви тетрадь с записью лекций, тетрадь, переплетенную своими руками. Быть может, это было первое издание лекций сэра Дэви, издание тиражом в один экземпляр.
Первая встреча с Дэви разочаровала Фарадея и обнадежила. Ученый поблагодарил Майкла за тщательность и прилежность, с которыми были записаны лекции, и сверх того пообещал впредь отдавать ему переплетать свои книги.
Но Фарадею нужно было совсем другое! Он мечтал хотя бы приблизиться к лаборатории, где священнодействовал Дэви. Он был готов тогда на любую работу — лишь бы осуществить эту мечту.
Однажды ему повезло. В тот самый момент, когда здорово не повезло сэру Дэви: во время опыта случился взрыв, стеклянная колба разлетелась вдребезги и один из осколков ранил глаз Дэви. Пока Дэви не мог ни читать, ни писать, ему понадобился секретарь. Конечно, желательно, чтобы это был толковый секретарь. И Дэви вспомнил о Фарадее.
Недолго Фарадей служил личным секретарем сэра Дэви: тот был просто поражен познаниями бывшего переплетчика. А он-то, Дэви, хотел, чтоб Фарадей переплетал его книги!
Так случилось, что Дэви стал просить главного администратора Королевского института Пиписа позаботиться о месте для некоего Фарадея. Ответ Пиписа сохранила история: «Пусть он моет посуду. Если он чего-нибудь стоит, то начнет работать. Если же откажется, значит, никуда не годится».
Фарадей стал мыть посуду.
Это было счастливое для него время. Он много экспериментировал, помогая Дэви в изучении соединений азота и хлора. В те дни Фарадей испытал все: бывало, что прахом шел труд целой недели. Делать ему приходилось вовсе не то, о чем он мечтал и на что надеялся. Бывало, что колбы взрывались у него в руках, обдавая фонтаном острых стеклянных брызг. У него были поранены руки. Но глаза и лицо — никогда. Слишком близок печальный пример Дэви. Фарадей помнил о нем и работал всегда осторожно. Нет, эта осторожность не была родной сестрой робости — наоборот, Фарадей экспериментировал истово, смело, иногда, может быть, даже рискованно. Но осторожно.
Да, время действительно было счастливое. Жаль, что длилось оно недолго — всего несколько месяцев. Осенью 1813 года Дэви надумал отправиться в путешествие. Ему нужен был компаньон и, естественно, выбор Дэви остановился на Фарадее. Фарадей до этого никогда не покидал родины, и путешествие по Европе, конечно же, показалось ему заманчивым: надо же все-таки повидать большой мир!
За несколько дней до отъезда произошло осложнение: камердинер Дэви заявил, что не сможет поехать. Дэви и его жена лихорадочно принялись искать слугу, которого бы не испугало предстоящее путешествие, и не нашли. Дэви было очень неприятно, но иного выхода не предвиделось, и он попросил Фарадея выполнять все эти мелкие, чрезвычайно неприятные услуги. О да! Разумеется, временно! Лишь до Парижа. А там он, Дэви, обязательно подыщет слугу — в Париже их всегда предостаточно!
Да, так было всегда. Но не теперь. В Европе шла война — разбитый в России Наполеон отчаянно пытался сохранить распадающиеся куски своей разбухшей империи. Нет, не легко было найти в Париже слугу. Франция куда острее нуждалась в солдатах. Не лучшее время выбрал сэр Дэви для путешествия.
Фарадей не слишком бы тяготился своим двусмысленным положением — он был молод, но уже привык к любой работе относиться спокойно, тем более что сам сэр Дэви старался его оградить от самых неприятных из поручений — да, Фарадей не слишком бы тяготился, если бы не жена сэра Дэви. Она считала Фарадея выскочкой, человеком, не заслуживающим расположения ее знаменитого мужа, и, будучи особой властной, не упускала возможности лишний раз подчеркнуть границу, их разделяющую. Эти неприятные сцены в начале путешествия были особенно часты. Но Фарадей сумел с достоинством выйти из этих словесных сражений.
Будущий великий физик не только мыл посуду для своего патрона — он еще чистил ему платье и обувь. Впрочем, недоброго умысла сэра Дэви в этом, признаться, не было: он хорошо понимал Фарадея и старался не обременять его неприятной работой.
Полтора года разъезжал Фарадей по странам Европы. Париж, Лион, Рим, Флоренция, Генуя, Неаполь, Женева — что ни город, то норов; столицы совершенно не похожи одна на другую, и города, чем-то неуловимым напоминающие друг друга. Оно было прекрасно, это путешествие, но Фарадею уже нестерпимо хотелось вернуться домой, в лабораторию. Да, конечно, он не терял времени даром — рядом с ним был Дэви, и они подолгу вели беседы о жизни и о науке — и Фарадей потихоньку обогащал свои знания.
И вот он дома. Здесь все по-прежнему. Кажется, все должно измениться за то долгое время, пока его не было — ведь время бежит, но все осталось, как прежде. Те же прожженные кислотой столы лаборатории, те же пробирки и колбы и, кажется, даже те же запахи…
Фарадей с жаром взялся за дело.
Через год после возвращения он публикует свою первую научную статью, читает свои первые лекции. Ему всего двадцать пять, а имя его уже хорошо известно в научных кругах. Он поздно начал, но быстро наверстывал.
Великий физик был еще и выдающимся химиком. Он любил эту науку, в которой таинства реакций свершались скрытно от глаз, и вдруг ярко, почти всегда неожиданно возникал результат: словно наградой за труд, терпение и ожидание являлось вещество, которого минуты назад еще не было…
Фарадей много работал над проблемой сжижения газов. Неустанно экспериментируя, он нашел свой собственный метод, по которому газ можно было обратить в жидкость. Это были красивые опыты, где лед и пламень, повинуясь воле экспериментатора, свершали чудо. Фарадей брал газ и помещал его в толстую, с прочными стенками трубку, изогнутую в виде буквы Г. Потом он нагревал на горелке один конец трубки и охлаждал другой. Давление в трубке поднималось — ведь от нагревания образовывались пары, а в холодном конце трубки эти пары остывали и каплями оседали на стенках. Капли становились крупнее, крупнее, пока под собственной тяжестью не стекали, образуя сжиженный газ. Так Фарадею удалось получить жидкий аммиак, углекислый газ, сероводород. Это было важно, но еще важнее оказался вывод, к которому пришел ученый, проделав серию таких экспериментов: сочетание высокого давления и низкой температуры способно превратить газ в жидкость. Фарадей был первым, кто это сказал. Слова, произнесенные Фарадеем, стали формулой большого открытия.
Так пришел к Фарадею первый крупный успех. О молодом протеже сэра Дэви заговорили как о восходящей звезде, а сам Дэви будто и не рад был успеху своего ученика. Фарадей не понимал, откуда взялась эта отчужденность в их отношениях и почему сэр Дэви вдруг сделался подчеркнуто холоден.
Быть может, он, Фарадей, допустил какую-то оплошность, которая осталась для него незаметной, а для сэра Дэви превратилась во что-то значительное? Или, возможно, сэру Дэви показалось, что его компаньон и ученик не слишком почтителен? Фарадей был еще молод и не очень-то разбирался в слабостях и страстях человеческих. Все оказалось и сложнее и проще.
Дэви крайне ревниво воспринял успех Фарадея. Ему казалось несправедливым, что в этот священный храм, каким он считал свою науку, и служению в котором он отдал всю свою жизнь, вошел совсем еще молодой человек, который недавно только и делал, что переплетал книги. Причем вошел смело, уверенно и сразу же добился успеха. И какого успеха!
Дэви был председателем Королевского общества — высшего научного учреждения Англии. Вряд ли он считал это общество чем-то вроде клуба аристократов, где сообщения и доклады о научных работах перемежались беседами о лошадях и парусных гонках, но то, что Дэви считал Королевское общество обществом избранных, это не вызывает сомнений.
Один человек голосовал против принятия Фарадея в члены Королевского общества. Конечно, этим человеком был сэр Дэви.
Почему Дэви остался в одиночестве — потому ли, что полагал, будто в обществе избранных не место вчерашнему переплетчику? Или, быть может, потому, что не мог смириться с той мыслью, которая давно не давала ему покоя: его ученик, согласившийся чистить платье своего патрона только ради того, чтобы быть к нему ближе, чтобы видеть его и говорить с ним, теперь оказывается на одной с ним ступени.
Нет, Дэви допустить этого не мог. Он вызвал к себе Фарадея и стал его убеждать, что тот должен снять свою кандидатуру. Должен снять сам, иначе это придется сделать ему, сэру Дэви, химику с мировым именем, председателю Королевского общества. Да, конечно, ему эта миссия крайне неприятна, но другого выхода нет: Фарадею рано вступать в члены Королевского общества…
Свидетелей во время этого разговора не было. О нем можно судить лишь по тем немногим записям, которые сохранились в дневнике Фарадея.
Теперь уже никто, никогда не сможет сказать, какими были лица этих двух людей — учителя и ученика, еще недавних друзей, бескорыстно и искренне почитавших друг друга. Теперь можно лишь предполагать, о чем думали эти двое, оставшиеся наедине со своей совестью.
Наверное, это было так: Дэви сидел за столом в своем кабинете — строгий и непреклонный, в черном камзоле, а Фарадей сидел напротив него, мучаясь от чувства обиды и чувства неловкости. Наверное, он сидел прямо, Майкл Фарадей, и вовсе не потому, что жесткий крахмальный воротничок его сорочки не позволял ему опустить голову. Нет. Но потому, что он был всегда горд, честен и справедлив. И он ждал такой же справедливости от своего учителя.
Потом Фарадей поднялся и произнес: «Наверное, сэр Дэви сделает то, что он считает полезным для Королевского общества». Склонив голову, повернулся и вышел.
Эти слова спустя много лет нашли в дневнике Фарадея…
Но Дэви остался верен себе.
Впрочем, и справедливость восторжествовала в тот миг: Фарадей все-таки вступил в высший научный клан.
А что было потом? Как потом жили Дэви и Фарадей? Наверное, после того разговора они перестали встречаться друг с другом — обиженные и уязвленные… Нет. Эти двое вели себя так, словно ничего не случилось. Трудно сказать — было ли искренним такое поведение со стороны Гэмфри Дэви, смирившего свое высокомерие, но Фарадей зла не помнил. Он все простил.
Прошло много лет. Дэви умер. Слава Фарадея давно уже затмила славу его учителя. Что ж, и в этом тоже одна из непременных закономерностей жизни: дети продолжают дело отцов, ученики идут дальше учителей. Но, видно, род Дэви существовал еще и для того, чтобы позаботиться о неприятностях для Фарадея. Сначала эту отнюдь неблагородную миссию добровольно возложила на себя леди Дэви, потом — сэр Гэмфри и позже его брат — доктор Джон Дэви.
Кажется, в чем можно упрекнуть Фарадея — этого тонкого и безукоризненного экспериментатора в работе, кристально честного и скромного человека в его обычной человеческой жизни? Но нет, Джон Дэви нашел, в чем можно упрекнуть Фарадея. В газетах и в книге о своем выдающемся брате — всюду, где только можно, он говорит и пишет о том, что якобы Фарадей обходит молчанием заслуги Гэмфри Дэви, не воздает ему должного.
И это было сказано о человеке, который всегда относился к сэру Дэви не только с огромным почтением, но даже и с преклонением!
Майкл Фарадей никогда не забывал, чем он обязан Дэви. И двадцать лет спустя после смерти Дэви и еще позже Фарадей не раз говорил своему другу химику Дюма: «Да, он был велик, сэр Дэви… Не так ли?» Но в те годы всемирно известному ученому приходилось защищать свое имя от выпадов и обвинений в несправедливости.
Видно, таков удел почти всякого гения: еще при жизни они возвышаются над толпой, и редко кто из их недругов удерживается от соблазна запустить в них тухлым яйцом или гнилым яблоком. Ведь цель так близка и доступна…
Впрочем, история чаще всего воздает и им по заслугам: она сохраняет имена и этих людей, чтобы и о них знали потомки. Знали о том, какую роль им привелось сыграть в жизни гения.
А жизнь гения по имени Майкл Фарадей не была ни приятной, ни легкой. Впрочем, с обычной точки зрения ее вряд ли можно оценивать: да, действительно, Фарадей работал, не щадя ни себя, ни тех, кто ему помогал. Иногда он забывал есть, иногда у него не оставалось времени спать. Но зато он делал любимое дело, и не просто делал, а добивался колоссальных успехов. Так, может, он все-таки был счастлив? Кто знает…
Теперь мы знаем: Фарадей был удивительно работоспособен и успел сделать поразительно много. Он не только проверил и либо исправил, либо подтвердил и дополнил все, что сделали его предшественники, изучавшие электричество, но и сам совершил несколько великих открытий. Чтобы рассказать о каждом из них подробно, нужно написать целую книгу. Но вот чего стоил Фарадею только один эксперимент, который должен был убедить скептиков в существовании электрической индукции. Это был великий эксперимент Фарадея.
Ученый взял деревянную катушку, обмотал ее двумя проволочками, изолированными шелком. Потом конец одной проволоки он соединил с батареей из десяти гальванических элементов, а конец другой проволоки — с гальванометром. Фарадей полагал, нет, он даже был уверен в том, что при прохождении электрического тока по первой проволоке во второй тоже должен возникнуть ток. Ток индукции.
Замыкание. Стрелка гальванометра по-прежнему недвижима.
Фарадей решил, что слаба батарея, и увеличил в ней число элементов. И снова безрезультатно. Но Фарадей упорно продолжал эксперимент. Стрелка прибора вздрогнула и отклонилась лишь тогда, когда число элементов в батарее достигло 120. Причем ток индукции был скоротечен, легок и неуловим, словно дуновение весеннего ветра: он появлялся лишь при замыкании и размыкании цепи. Ученый получил результат, которого ждал и в который по-прежнему верил. Другой, быть может, оставил бы все попытки, отчаявшись от тщетного ожидания, но не таков был Майкл Фарадей. Он всегда знал, что делал…
И вот только один закон Фарадея — один из целого свода законов, которые дал науке один человек. Закон Фарадея, без которого не найти ни одного учебника физики: при равных количествах электричества разлагаются эквивалентные количества различных электролитов. И термины, которыми теперь пользуются во всем мире — электролиз, электролит, электрод, анод и катод, — эти термины тоже ввел Фарадей.
Но все-таки главные открытия этого воистину удивительного человека лежат в той сфере науки, которой до него, можно сказать, не существовало. Он писал: «Еще немного лет назад магнетизм был для нас темной силой, действующей на очень немногие тела; теперь же мы знаем, что он действует на все тела и находится в самой тесной связи с электричеством, теплотой, химическим действием, со светом, кристаллизацией, а через последнюю — с силами сцепления. При таком положении вещей мы чувствуем живую потребность продолжать свои работы, воодушевленные надеждой привести магнетизм в связь даже с тяготением». Быть может, в этих словах заключена программа для целого поколения…
Нет, он никогда не был жаден, Майкл Фарадей. Если ему в голову приходила идея и он считал ее ценной, он тут же спешил поделиться ею с коллегами. Впрочем, и в случае неудачи он тоже рассказывал все как было, не утаивая ни малейшей подробности; он не хотел, чтобы его ошибки повторяли другие.
…Великий физик умирал в одиночестве. Свою любимую жену и верную спутницу жизни — Сарру Бернард он уже давно схоронил. Да и сам он превратился в почти беспомощного старика, который уже плохо помнил и с трудом мог написать хотя бы строчку. Фарадей сознавал свою беспомощность и очень страдал от этого. Из дома он выходил все реже и реже. И не принимал у себя никого. В это время к нему был вхож только один человек — его ученик Джон Тиндаль.
Он знал точно: все в жизни, что он должен был сделать, он сделал. Он был почетным членом множества крупных академий и носителем целой коллекции научных титулов. Но от дворянства почему-то отказался. Говорят, он сказал при этом такую фразу; «Благодарю. Но я хочу называться просто: Майкл Фарадей».
Быть может, он уже знал, что имя его и так переживет века? А может, он не думал о своей славе, как не думают люди о чем-то малозначительном, что в их жизни не играет решительно никакой роли…
Он умер в семьдесят шесть лет — 25 августа 1867 года в местечке Гамптон-Корт близ Лондона, города, где он родился и где прожил всю свою жизнь.
Пожалуй, лучше всех о нем сказал наш великий ученый А. Г. Столетов: «Никогда со времен Галилея свет не видел столько поразительных и разносторонних открытий, вышедших из одной головы, и едва ли скоро увидит другого Фарадея…»
Прошло больше ста лет, как умер поразительный лондонец. Другого Фарадея за это время не появилось.
Пафнутий ЧЕБЫШЕВ (1821–1894) — острый, могучий ум

 Россия подарила миру нескольких выдающихся математиков. Каждый из них — это событие, явление в науке. Чебышев — это эпоха. Пожалуй, немногие из великих жрецов математики сумели столь прочно связать эту абстрактную науку с реальностью, с практикой…
В работе он был неутомим. Она сделалась для него всем смыслом жизни. Она была его любовью, заботой, счастьем.
Он умер, а в математике навсегда остались «закон Чебышева», «теорема Чебышева», «формула Чебышева». Он отдал свою жизнь математике, и она навечно сохранит память о нем.
Россия подарила миру нескольких выдающихся математиков. Каждый из них — это событие, явление в науке. Чебышев — это эпоха. Пожалуй, немногие из великих жрецов математики сумели столь прочно связать эту абстрактную науку с реальностью, с практикой…
В работе он был неутомим. Она сделалась для него всем смыслом жизни. Она была его любовью, заботой, счастьем.
Он умер, а в математике навсегда остались «закон Чебышева», «теорема Чебышева», «формула Чебышева». Он отдал свою жизнь математике, и она навечно сохранит память о нем.
Он был очень похож на своего отца: такие же гладкие, коротко подстриженные волосы, высокий лоб мудреца, густые мохнатые брови над узкими, широко поставленными глазами, крупный нос и пышные бакенбарды во всю щеку, загибающиеся под подбородком. Да и на портретах того времени они очень похожи: оба внимательно, чуть-чуть испытующе смотрят на мир.
А вот характер отцовский он не унаследовал. Да и матушкин характер, по счастью, тоже не оставил в нем своих черт. Аграфена Ивановна происходила из старинного дворянского рода, была женщиной властной, расчетливой, суровой и не слишком приветливой. Детей она понимала плохо, даже своих, ласка ее была и скупой и редкой. Она и к детям-то относилась по-деловому: Коля и Володя пускай офицерами будут, а вот Пафнутия в военную академию не возьмут из-за того, что хромает немного. Этот пускай в студенты готовится.
Аграфену Ивановну не любили за то, что она могла быть жестокой, держалась надменно, и даже близкие родственники, кто победнее, на ее расположение никогда не рассчитывали. О ней никто никогда не мог сказать доброго слова.
А Лев Павлович, отец Пафнутия, был другой человек. В двадцать лет он был лихим кавалерийским корнетом, и в 1812 году гнал до Парижа отступающих французов. Потом вышел в отставку, поселился в своем Окатове, часто принимал там гостей — принимал широко и хлебосольно, в Боровске — уездном городе, как предводитель дворянства, устраивал развеселые балы, во время которых либо в зале, либо прямо в саду выставляли длиннейшие столы с угощением.
Родители Чебышева имели свои дома и в Москве. Собственный выезд — вернейшее свидетельство добропорядочности и процветания всей фамилии. А фамилия Чебышева тоже была старинной, хотя и не слишком знатной. В старых боярских книгах упоминается Павел Иванович Чебышев — бывший стряпчий и стольничий — он-то и дал начало чебышевскому роду, не очень богатому, не очень и славному, не имевшему даже герба, который заносили бы в «Общий гербовник дворянских родов».
Вот в такой старой семье, потихоньку богатевшей из поколения в поколение, и у таких вот разных, столь непохожих друг на друга родителей родился Пафнутий Чебышев, великий русский ученый, непревзойденный математик, выдающийся изобретатель и педагог. Этот-то Чебышев и прославил свой род на века.
Детство великого математика прошло в деревне, в старом огромном доме. Комнат в нем, казалось, было множество, а длинные полутемные коридоры по вечерам внушали мальчишкам благоговейный страх, который утром казался им смешным и нелепым. Как может быть страшным дом, в котором ты родился и где каждый закоулок знаком тебе с раннего детства?
Дом этот дряхлел год от году, потом его разобрали, а на месте, где он стоял почти полтора века, Пафнутий вместе с младшими братьями установил громадную гранитную глыбу, на которой было высечено: «Здесь у Льва Павловича и Аграфены Ивановны Чебышевых родилось пятеро сыновей и четыре дочери». Камень и сейчас там стоит.
Пафнутий был старший ребенок в семье. И отец мечтал, что сын станет офицером — многие отцы хотят видеть в своих детях продолжение собственной жизни. А мальчик играл в тихие, спокойные игры. Сам себе мастерил игрушки да и вообще из дома мало выходил. Он очень страдал от того, что не такой, как все, и что его хромота у сверстников вызывает насмешки. Злые, беззаботные мальчишки… Они кричали ему вслед и свистели, притаившись в кустах, а он возвращался домой несчастный и незаслуженно оскорбленный.
В детстве друзей у него не было, исключая разве что братьев, да и потом он очень нелегко сходился с людьми. Наверное, потому так мало оказалось людей, которые могли бы добавить штрихи к рассказу о том, каким он был человеком. Не было тех, кто бы знал его хорошо. Он был замкнут и никогда не говорил о себе.
Учился он дома — родители пригласили известных педагогов Москвы. Учился с огромным интересом и удовольствием. Семья жила в то время в Москве, и Пафнутий, привыкший к тихой, размеренной жизни в деревне, с удивлением наблюдал жизнь огромного города. Дом стоял на углу Долгого переулка, подле Пречистенки — на месте шумном и оживленном по понятиям прошлого века. На тротуарах разместились лотошники, неподалеку виднелись трактир и галантерейная лавочка, а мимо степенного городового то и дело катились извозчики и экипажи, украшенные затейливыми вензелями.
Теперь-то от дома того ничего не осталось. Как не осталось и тех, кто жил в нем, и тех, кто спешил по своим делам мимо, обуреваемый мелкими заботами преходящего дня. Все сметает неутихающий ветер времени. Остается лишь память о людях и их делах, которые они оставляют в наследство потомкам.
Математику юному Чебышеву преподавал известнейший педагог Платон Погорельский. Многие считают, что именно он привил Чебышеву страсть к математике. Наверное, он пробудил в молчаливом мальчике интерес к к этой науке, но дар-то у Чебышева был несомненный. О великих поэтах не говорят, что кто-то привил им любовь к поэзии, это ведь дар, то же можно сказать и о великом ученом.
А латынь — один из самых главных предметов в девятнадцатом веке — Пафнутию преподавал студент-медик Алексей Тарасенков — великолепный знаток древнего языка. Впоследствии он женился на одной из сестер Чебышева, чем поверг родителей в немалое изумление. Особенно мать. Она считала преподавателей людьми низшего класса и всячески противилась этому браку. А Тарасенков был человек интересный. Позже он стал известным врачом и писателем. Это он лечил Гоголя, когда тот был прикован к постели и доживал последние дни…
Люди вокруг Пафнутия были талантливые и интересные, постепенно они раскрывали ему неизмеримую силу науки.
Властная матушка осталась довольна домашним образованием своего старшего сына и разрешила ему поступить в университет. В шестнадцать лет Чебышева зачислили своекоштным студентом на второе отделение философского факультета. Нет, Чебышев вовсе не собирался быть философом. Просто в те времена математику читали на философских факультетах.
Каким он был студентом? Об этом никаких особых рассказов не сохранилось. Похоже, что в университете среди товарищей он ничем не выделялся — носил строгий вицмундир, застегнутый до самого подбородка на все сияющие пуговицы, неизменную студенческую треуголку с кокардой. Поведения он был наиприлежнейшего и никогда никаких замечаний не получал. Видно, сказалась и тут домашняя школа Аграфены Ивановны.
На четвертом курсе Чебышев впервые заставил заговорить о себе. Каждый год для четверокурсников объявлялся конкурс на лучшее решение заданной темы. В тот раз предложили такую: «О числовом решении алгебраических уравнений высших степеней». Чебышев представил настоящий научный труд — работу интересную, оригинальную, но получил лишь серебряную медаль. Жюри не сумело до конца оценить то, что он сделал. Золотая медаль досталась студенту, который никогда до этого и никогда после никак о себе не заявил. Чебышев отнесся к своей медали очень спокойно, и сокурсники его так и не поняли — гордится он ею или считает себя обиженным. Судя по всему, он действительно отнесся к своей награде совершенно спокойно.
Зато он впервые испытал вкус исследования, серьезного, самостоятельного, и вкус удачи, когда выводы, сделанные самим, радуют красивой строгостью и красноречивой лаконичностью — всем, чем может наградить математика своего упорного и терпеливого поклонника.
Университет Чебышев окончил с отличием. Он собирался остаться в науке, продолжить исследования, просто посмотреть, чего он сможет добиться на этом поприще. Однако на такой шаг надо было решиться. Не только потому, что он означал бы окончательный выбор пути. Но еще и потому, что теперь он должен был сам себя содержать. А это со жреческим служением науке так плохо увязывается…
В тот год, когда Чебышев снял студенческий вицмундир, в России случился голод. Дела отца пошатнулись, он оказался в долгах и вынужден был тотчас расплачиваться, а расплатившись, оказался почти без денег и сумел сохранить только свой дом в Москве и имение. Жить в Москве ему было теперь не по средствам, да и помогать старшему сыну он больше не мог. Он быстро собрался и вместе с Аграфеной Ивановной уехал в родное Окатово.
Пафнутий же, оставшись один и желая найти хоть какой-то доход, открывает в отцовском доме небольшой пансион, пытается преподавать своим жильцам математику, но быстро понял, что не годится для этой роли.
Плюнул на все, прикрыл пансион и отдался науке.
Он начал писать свою магистерскую диссертацию по анализу теории вероятностей, увлеченный идеей сделать этот анализ лишь с помощью алгебры и разве что с самыми простыми формулами теории рядов. До Чебышева этого никому еще не удавалось сделать. А он доказал, что можно «проверить все эти заключения анализом, строгим и простым, доступным до большей части учащихся». Работу эту он сделал просто блестяще, и диссертация его прошла без сучка, без задоринки, и те, кого можно было назвать жрецами храма математики, поняли: в российской науке появилась новая видная фигура.
Все, кто знал его неохоту к перемене мест и то, как он привыкает и к дому и к работе, могли полагать, что здесь, в Московском университете, он так и осядет. А он через два года после получения магистерской степени вдруг переезжает в Петербург. Кто знает, что потянуло его в другой город…
Он поселился в старом доме на углу Кадетской линии и Среднего проспекта, что на Васильевском острове. Поселился в одной комнате с двумя жильцами. Большего средства ему позволить тогда не могли. Впрочем, это, кажется, его нисколько не беспокоило.
В Петербурге он тоже много работает, изредка — раз в полгода, а то и реже ходит в театр, и только в оперу. И вообще, ведет жизнь затворника. А через два года защищает новую диссертацию с таким же блеском, как и первую, и получает степень доктора математики и астрономии.
Жизнь его, в общем, течет теперь гладко, спокойно. Он много работает, и все дела его тут же получают признание. Его имя знают уже за границей, в Петербурге он адъюнкт академии, потом академик, в Париже его единогласно избирают членом-корреспондентом Парижской академии, о нем все чаще говорят как о восходящем светиле науки.
Он был удивительный человек, Пафнутий Львович. Мозг его — отточенный, заостренный мозг великого математика, умеющий стремительно оперировать сложнейшими формулами, искать единственно правильный выход в тех лабиринтах теорий, из которых многие прежде пытались найти выход. Этот же человек часто обращался и к вполне реальным задачам практики. Чебышев изобретает счетную машину — арифмометр, и его признают и самым совершенным, и самым удобным. Он изобретает самокатное кресло, и многие из тех, кто был прикован к постели, получили возможность передвигаться. Он придумал хитроумный гребной механизм для лодки, и известный французский механик, профессор Двельсоуэрс-Дэри пишет ему: «Я в восторге от Вашей лодки с ногами, которая пойдет по воде, словно лошадь». Но самое удивительное из всех его изобретений — это «стопоходящая машина», ноги которой, если двигать корпус, начнут переступать, как ноги животного. Вряд ли сам Чебышев собирался построить такую машину, видимо, его увлекла сама идея создать такой механизм, но именно он, стопоход, вскружил головы многим конструкторам второй половины двадцатого века, открыв путь для новых инженерных решений. Сколько появилось этих прямых потомков стопохода — шагающих машин — неутомимых вездеходов, с членистыми ногами вместо привычных колес. Из романов фантастов они вышли на испытательные полигоны. Чертежи конструкторов воплотились в реальные модели. Американские ученые, работая над проектом своей первой лунной машины, рассчитали по теории Чебышева несколько шагающих вариантов. Советские конструкторы перед тем как остановились на том луноходе, который мы все знаем, тоже не обошли вниманием шагающий механизм. В этом «лунном» споре одержало верх колесо, но и машины с «ногами» доказали, что могут пройти там, где не пройдут никакие другие. Наверное, мы еще увидим эти странные машины, напоминающие не то гигантских насекомых, порожденных неудержимым воображением, не то аппараты неведомых пришельцев с иных планет.
А началось все с чебышевского стопохода.
Чебышев так и прожил всю жизнь один. Он никогда не женился и никто не мог сказать почему. Детей он любил, хотя и играл с ними весьма неумело. Когда к нему в Петербург приезжала в гости сестра и привозила с собой ребятишек, Чебышев говорил с ними о школе, любил задавать им вопросы по арифметике. Наверное, он и допустить мысли не мог, что кого-то совершенно не интересует его любимая математика… Он внимательно слушал ребят, смеялся весело, если ответы получались невпопад, и добавлял иногда: «А я вот не умею решать таких задачек!» — и сам же смеялся шутке, искренне полагая, что это, должно быть, очень смешно.
А действительно, смешное с ним иногда приключалось. Как и многие великие люди, всегда углубленные в мысли, он был рассеян. Как-то раз, когда у него в доме сидели гости, он вдруг поднялся, сказал, что устал и что ему пора собираться домой. Вышел в переднюю и стал одеваться, к немалому удивлению своих гостей.
О нем говорили иногда, что он был скуп, да он и сам рассказывал, как всякий раз торгуется с извозчиком из-за копейки. Но на приборы и изыскания он никаких денег не жалел. А жил действительно предельно скромно — держал одну кухарку и собственного дома не имел.
Человек вообще-то он был отзывчивый, всегда готовый оказать помощь другим. Когда в Петербург после шестилетней работы в Стокгольмском университете вернулась Софья Ковалевская, большинство математиков встретило ее очень сдержанно. Как-то не привыкли они видеть женщину в профессорском звании. А Чебышев был приветлив с ней, и видно было, что все это искренне. Мало того, он предлагает избрать Ковалевскую в члены-корреспонденты Российской академии и, несмотря на препятствия, добивается этого. Радуясь за нее, он шлет ей телеграмму: «Наша Академия наук только что избрала Вас членом-корреспондентом, допустив этим нововведение, которому не было до сих пор прецедента. Я очень счастлив видеть исполненным одно из самых пламенных и справедливых желаний».
О чьем желании он говорит здесь, своем? Ее? Своем, конечно. Но скромно опускает это.
Он в самом деле был необычайно скромен. Ученики его пытались много раз отметить его юбилей, а он сердился в ответ, и так ни одного не дал отметить.
Они стали потом большими друзьями — Чебышев и Ковалевская. Она дополнила решение одной из труднейших задач механики о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки — той самой задачи, над которой бились Лагранж и Эйлер. Он к тому времени был уже ученым с мировым именем. Его избрали почетным членом почти всех русских университетов, президент Франции вручил ему командорский крест Почетного легиона, да и во многих других странах имя Чебышева было внесено в списки почетных членов своих университетов и академий. А русский орден Благоверного князя Александра Невского он давно уж имел. Это ему, Пафнутию Чебышеву, писал известный французский математик Эрмит: «Все члены академии… воспользовались случаем засвидетельствовать ту горячую симпатию, которую Вы им внушаете. Все они присоединились ко мне, заверяя, что Вы являетесь гордостью науки в России, одним из первых геометров Европы, одним из величайших геометров всех времен».
А за шестнадцать лет до этого письма французы удостоили Чебышева великой чести, избрав его в число восьми иностранных членов академии — чести, которую оказывали лишь самым замечательным ученым в мире.
Французы называли своих академиков бессмертными…
Но, конечно, этот русский, носящий старинное и редкое имя, бессмертным стал не потому, что его избрали в сонм академиков. Его дела уже прошли испытание временем, как прошли через это испытание великие математики древности. Чебышев взял у них эстафету и понес ее дальше. Как-то в одном письме он сказал: «Зная трудность предмета, мною избранного, и сознавая свое бессилие, я везде поверял себя открытиями великих геометров, с особенным удовольствием видел согласие своих выводов с истинами давно известными». Он сам подчеркнул, что шел той же дорогой. Ну а бессилие… Ум его был могуч, но он понимал, что невозможно объять необъятное и сделать все, что хотелось бы сделать. Может, поэтому он иногда казался себе бессильным.
Чебышев был прекрасным педагогом. Почти тридцать пять лет читал он лекции в Петербургском университете. Лекции его всегда были ярки и интересны. Говорил он столь быстро, что лишь немногим удавалось за ним записать формулы, которые он почти молниеносно писал на доске, выстукивая мелком частую дробь, и так же быстро стирал. Но слушать его тем, кто знал математику, доставляло одно наслаждение. А на экзаменах он не терпел, когда кто-то пускался в пространные рассуждения, обрывал и просил говорить сжато и ясно. И очень любил, когда студент доказывал, что умеет думать самостоятельно. Уж кто-кто, а он знал: без самостоятельности в науке никогда ничего не добиться.
Чебышев много сделал и для военной науки. Он рассчитал наиболее выгодную форму для удлиненных артиллерийских снарядов, выпущенных из гладкоствольных орудий. Летели они не вращаясь, и нужно было придать им наибольшую устойчивость в воздухе. Чебышев это сделал блестяще. Потом он вывел формулу для выражения дальности полета снаряда и ряд других формул, которые и сейчас применяют на практике.
Он оставил после себя очень много. Его знаменитую теорию приближения функций еще при его жизни назвали чудом анализа. Закон больших чисел так и называется «законом Чебышева», как и «предельная теорема Чебышева», как «полиномы Чебышева», как «квадратурная формула Чебышева» и как многое-многое другое, за что он брался и что довел до конца. А он все доводил до конца.
В конце ноября 1894 года он перенес грипп на ногах — ложиться в постель некогда было — и вдруг всерьез занедужил. Однако он встал, оделся, попросил подать самовар. Заварил себе чаю, налил стакан. Когда прислуга вошла, он сидел за столом уже мертвый… А стакан был горячий, и из него поднимался белесый парок…
Никто не видел его последней минуты.
Александр БУТЛЕРОВ (1828–1886) — строитель химии

 Он вышел из Казанского университета — школы великих русских химиков. Ему не было еще тридцати лет, когда он основал новую теорию, совершившую переворот в химии. Стоя перед ведущими химиками Европы, этот молодой русский говорил о том, что ему удалось увидеть и что многие из столпов химии мечтали увидеть и понять прежде — о связях между атомами внутри молекулы, о том, как возникают эти связи.
Потом некоторые пытались оспорить его открытие, и Бутлеров убежденно, с достоинством защищался. Он боролся за славу русской науки.
Его именем называют теорию в химии.
Он вышел из Казанского университета — школы великих русских химиков. Ему не было еще тридцати лет, когда он основал новую теорию, совершившую переворот в химии. Стоя перед ведущими химиками Европы, этот молодой русский говорил о том, что ему удалось увидеть и что многие из столпов химии мечтали увидеть и понять прежде — о связях между атомами внутри молекулы, о том, как возникают эти связи.
Потом некоторые пытались оспорить его открытие, и Бутлеров убежденно, с достоинством защищался. Он боролся за славу русской науки.
Его именем называют теорию в химии.
Однажды теплым весенним днем 1836 года в одном из частных пансионов Казани, где детей состоятельных родителей готовили к поступлению в гимназию, случился взрыв. Старший воспитатель, некто Роланд, стремглав кинулся в подвал, вероятно надеясь спасти кого-нибудь, и вскоре извлек на свет круглолицего белобрысого мальчишку с опаленными бровями и волосами. Мальчишка понуро тащился за воспитателем, и одного взгляда на его физиономию было достаточно, чтобы признать в нем очевидного виновника чрезвычайного происшествия.
Мальчишку замкнули в темном карцере, но, полагая, что этого явно мало за содеянное преступление, воспитатель повесил ему на шею черную доску, на которой каллиграфическим почерком вывел: «Великий химик» — и с этой доской выставил маленького экспериментатора на осмеяние.
В те слова, написанные на доске, Роланд вместил всю иронию, на какую был только способен, и полагал, что совершенно уничтожил мальчишку и раз навсегда отбил у него охоту заниматься всякими опытами.
Если бы он только мог знать, этот Роланд, как над ним, именно над ним, посмеется судьба! Этот мальчишка и в самом деле станет великим химиком, славой и гордостью русской науки, перед которым склонят головы авторитеты с мировым именем. Он создаст новую теорию, новую химию, и они станут носить его имя.
А тогда мальчишке было всего восемь лет, звали его Саша Бутлеров…
Не было для него большей радости, чем, забравшись в какое-нибудь укромное место, предаваться таинственным опытам, когда знакомые вещества прямо на глазах испытывают волшебные превращения. Но мальчишка не просто любовался этими превращениями и не бездумно созерцал все, что происходило в пробирках и колбах: он старался понять, почему, смешивая одни вещества, можно получить совершенно другие, с новыми свойствами и совершенно непохожие на те, которые он брал в самом начале. Маленький Бутлеров растворял медный купорос, опускал в него белый блестящий гвоздь и зачарованно глядел, как гвоздь покрывается красным налетом меди. Он умел в нужных пропорциях смешать селитру, серу, уголь и получить порох. Наверное, во время такого опыта и раздался взрыв, пробудивший дремавшего Роланда. Он очень много умел, этот мальчишка.
Мать свою он не знал — она умерла через несколько дней после того, как он родился, и отец всю свою любовь и привязанность перенес на него одного. Они были друзьями — отец и сын Бутлеровы.
Летом они не раз отправлялись в походы, уходя из дому на несколько дней, и предавались радостному спокойствию, сидя поздним вечером у едва колышущего пламенем костра, или на берегу тихой речки, отражающей последние лучи уходящего солнца. Вдвоем им было хорошо.
Стоит ли говорить, что отец для сына был всегда идеалом и младший Бутлеров бессознательно поступал так, как и отец. Возможно, именно этому желанию походить на отца будущий химик обязан своей необыкновенной аккуратностью — отец-то был на редкость во всем аккуратен. Возможно, эту черту характера он получил просто в наследство, как наследуют добродушный или вспыльчивый нрав, но именно эта аккуратность так изумляла всегда — сначала друзей по гимназии и университету, а потом — коллег и учеников. Коллекция бабочек, которую Александр собрал еще во время походов с отцом и в окрестностях своей уютненькой Бутлеровки, и во время путешествия по Оренбургскому краю, долго хранилась в Казанском университете не только потому, что ее собрал Бутлеров, но и потому, что эта коллекция служила образцом тщательной и кропотливой работы.
Отец научил сына видеть и находить радость в походах — старый полковник, прошедший по следам отступающей наполеоновской армии от Москвы до Парижа, выйдя в отставку, сохранил любовь к истинно мужской, походной жизни. Он был счастлив оттого, что и сын понял и разделил эту любовь. Но мог ли он знать, какой жестокий удар готовила ему судьба именно на этой дороге…
Однажды летом, после окончания не то первого, не то второго курса университета, Александр вместе с друзьями поехал в экспедицию на берега Каспийского моря — на охоту за насекомыми. Стояли жаркие, сухие дни, натуралисты много ходили и уставали, хорошая вода у них порой не всегда с собою была, и Бутлеров неожиданно тяжело заболел. Друзья сразу поняли, что это тиф, оставили экспедицию и повезли больного в Симбирск. Туда же помчался отец. Он не отходил от постели больного сына, не думая о себе, заботясь лишь об одном — чтобы Саша скорее поправился.
Сын был уже вне опасности, когда отец почувствовал, что тиф не обошел и его. Тогда он уезжает домой, в Бутлеровку, и ничего не подозревающий Александр, не успевший как следует поразмыслить над спешным отъездом отца, еще не знает: отца он больше никогда не увидит.
Отец спас сына и погиб сам.
Александр тяжело переживает потерю отца и снова болеет. Второго отца не бывает, но он знал, что и друга такого ему тоже не найти…
Он только-только кончил второй курс, но уже потерял самого дорогого человека и остался один. Правда, теперь к нему отошла Бутлеровка — вместе с домом отца. Сюда он не раз будет приезжать, чтобы забыться, развеяться, в самые трудные дни. Дом отца станет для него спасительной гаванью.
Он еще будет счастлив в доме отца. Здесь же он встретит и свой последний жизненный час.
А в университете в это время царил Зинин. Он был в зените славы, его имя гремело, и он был у казанских студентов любимым профессором. Почему? Наверное, потому, что никогда не подчеркивал грань, разделяющую его и студентов, быстро находил с ними общий язык и, конечно же, потому, что просто он был такой человек — обаятельный, общительный. К нему часто приходили за помощью, и он никогда не отказывал.
Бутлеров уже в зрелые годы вспоминал как-то о Зинине:
«Лекции его пользовались громкой репутацией, и действительно, всякий слышавший его сообщения о своих исследованиях знает, каким замечательным лектором был Зинин…» И пожалуй, главное его достоинство было в том, что всякий, кто беседовал с ним, как рассказывал Бутлеров, уходил окончательно и бесповоротно обращенным в веру химии.
Бутлерова же не надо было обращать в эту веру — он родился великим химиком, но Зинин ускорил процесс созревания в нем ученого. Бутлеров учился на другом курсе, где Зинин не читал своих лекций, но, конечно же, он бегал к Зинину и, зачарованный, слушал его волнующие речи. И Зинин среди многих десятков студентов увидел его, приблизил к себе, научил своему подходу к науке, научил смотреть в самую суть явлений.
Возможно, поэтому Бутлеров свою первую диссертацию написал на тему, которая так всех удивила. Диссертация будущего великого химика называлась: «Дневные бабочки волго-уральской фауны». За эту работу он получил степень кандидата наук.
Диссертация Бутлерова не удивила только тех, кто его хорошо и давно знал. Это была его дань старому увлечению и еще, наверное, дань памяти об отце.
Александру Бутлерову исполнился двадцать один год, когда он защитил диссертацию и когда руководители факультета решили готовить его к профессорской должности. Пока же освободилось место адъюнкта — помощника преподавателя, и Бутлерову было предложено занять эту должность.
Старый педагог Бутлерова Клаус, который, как можно было бы ожидать, ревниво припомнит ему «измену» с Зининым, сам предложил своему любимому ученику вступить на столь желанное для многих сокурсников место адъюнкта.
В решении факультета было записано: «Факультет, со своей стороны, совершенно уверен, что господин Бутлеров своими познаниями, дарованием, любовью к наукам и к химическим исследованиям сделает честь университету и заслужит известность в ученом мире, если обстоятельства будут благоприятствовать его ученому призванию. Вследствие этой уверенности факультет считает своею обязанностью ходатайствовать о причислении господина Бутлерова к университету в каком бы то ни было качестве».
«…Заслужит известность в ученом мире…» Он заслужил эту известность. И еще какую!
И Бутлеров вступил на самостоятельный путь в науке.
С чего он начал? С истории. Он понимал: прежде чем попытаться двигаться дальше, нужно изучить опыт предшественников. Его интересовало все в истории науки, которую называли органической химией и которой — это он уже понимал — посвятит свою жизнь.
Погрузившись в историю, Бутлеров находит тему своей второй диссертации. И это было уже большим посвящением в рыцари химии.
В своей магистерской диссертации Бутлеров обозначил дальнейший путь для себя, предсказал грядущее торжество органической химии. С ясновидением волшебника еще за двадцать лет до того, как Менделеев объявит миру о создании периодической системы элементов, Бутлеров писал в той магистерской диссертации: «… будет, наконец, время, когда не только качественно, но и количественно исследуются продукты органических превращений, когда мало-помалу откроются и определятся истинные законы их и тела займут свои естественные места в химической системе. Тогда химик по некоторым известным свойствам данного тела, зная общие условия известных превращений, предскажет наперед без ошибки явление тех или других продуктов и заранее определит не только состав, но и свойства их. Время это может и даже должно настать для нашей науки, и между тем сколько предстоит трудов, какое поле для пытливого ума!»
И разве тут не задумаешься: что это, обязательное свойство гения, умение увидеть далекое будущее? Ведь случилось-то именно так, как предвидел двадцатитрехлетний ученый…
В двадцать три года Александр Бутлеров уже читал лекции в Казанском университете. Давно ли он сам сидел на этих скамьях, полукруглыми ярусами обступивших кафедру… И вот теперь он стоит на этой кафедре, обратившись лицом к аудитории, заполненной такими же молодыми людьми, как и он сам…
С волнительным трепетом он обхватывает руками край кафедры и голосом, ничем, впрочем, не выдающим его волнение, произносит: «Милостивые государи! Сегодня я намерен изложить вам…» — и волнение сразу же отступает, потому что он на мгновение забывает, где находится, и вступает в мир, где нет ни студентов, ни лектора, а только познающие суть скрытых явлений. В этом мире перед лицом еще не разгаданных тайн природы все были равны.
Этот молодой профессор очень любил читать лекции и стал вскоре самым любимым преподавателем. На его выступления приходили студенты с других потоков, как он сам некогда ходил на лекции Зинина. Всякий раз его лекций ждали, как ждут только праздник. И Бутлеров дарил им этот праздник — яркий, запоминающийся. Зинин силой своей яростной любви к химии обращал в свою веру тех, кто приходил его слушать, и Бутлеров, словно получив этот дар в наследство, увлекал за собой многих, кто еще недавно и не помышлял о месте химии в его собственной жизни. Из тогдашних слушателей Бутлерова выросло много известных ученых.
В жизни часто бывает так, что, добившись почетного места, человек незаметно для себя самого перестает двигаться дальше. У Бутлерова, в общем-то, уже было все: его труды знали и уважали, студенты в нем как в профессоре просто души не чаяли, он любил свою молодую жену, и они прекрасно понимали друг друга. Но он не умел оставаться на месте, его влекли далекие просторы науки, которые он сам же и приоткрыл для себя.
Он много работает, засиживаясь в лаборатории допоздна, и руки его, стальные руки, которые шутки ради могли согнуть кочергу в букву Б, чтобы оставить друзьям напоминание — мол, был тут Александр Бутлеров, но никого не застал, эти руки с поразительной ловкостью, даже с утонченным изяществом обращались с хрупкими ретортами, пробирками, колбами. Он мог вести оживленную беседу о жизни, о химии, о чем угодно, и все это время непрестанно манипулировать с весами, разновесками и всевозможной посудой, которой всегда так много на лабораторном столе всякого химика. Говорят, все это он делал просто красиво.
В двадцать пять лет Бутлеров написал третью свою диссертацию — пришла пора стать доктором химии и физики. На этот раз с диссертацией вышла история: оба рецензента были молоды, горячи, и мнения их разделились. Профессор Савельев, физик чистой воды, счел диссертацию слабой; профессор Киттары высказал свое мнение сдержанно, но заявил, что Бутлеров достоин степени доктора.
Может быть, они немного ревниво отнеслись к работе своего молодого коллеги, а может, действительно было таково их беспристрастное мнение — в науке тоже не все можно измерить и оценить, но на заседании факультета решили отправить диссертацию на отзыв в другой университет. Бутлеров просил совет факультета разрешить защититься в Москве. Совет дал согласие, и в самом конце 1853 года Бутлеров первый раз в жизни поехал в Москву.
Дорога была длинной, скучной, и санный возок сонно скользил по скрипучему снежному насту. Глядя на застывший зимний пейзаж, Бутлеров размышлял о том, что его ждет впереди. В дороге думается так хорошо и спокойно…
В Москве он поселился в третьеразрядных номерах на Цветном бульваре, где спал в одной кровати вместе со своим старым товарищем Николаем Вагнером. Когда-то они и в походы ходили вместе, а теперь вот приехали вместе в Москву с одной целью — защитить диссертацию. Они думали, что дело решится быстро, без проволочек — за месяц, ну, в крайнем случае, за полтора, а задержаться пришлось на целых полгода. И все это время они жили в одной комнатенке в старом гостиничном доме. Бутлеров, конечно, мог бы устроиться лучше, но у него только-только родился Михаил, семья была небогата, и молодой отец не рисковал в столице тратиться. И конечно же, ему не хотелось оставить Вагнера одного в большом чужом городе.
А Москву Бутлеров все-таки полюбил. Ему нравилось бродить по бульварам, еще пустым рано утром, и оставлять первые следы на снегу, выпавшем за длинную темную ночь. Он доходил пешком до Тверской, где облюбовал себе кондитерскую, где было всегда натоплено и где так вкусно пахло пирогами и печеньем. Ему здесь было уютно, и он любил подолгу сидеть у окна в одиночестве.
По весне ему нестерпимо захотелось домой, он вдруг болезненно заскучал по жене, по сыну, по дому. В городе весной хорошо, но разве можно променять на него запах подогретой первым солнцем земли, и лес, словно бы задернутый прозрачной изумрудной кисеей, и мягкую извилистую тропу, ведущую вниз, к реке, отражающей голубой полог неба. Он очень скучал без всего этого.
В начале июня он защитил диссертацию и, в общем-то, неожиданно для себя самого собрался к Зинину в Петербург.
Встреча с Зининым снова наполнила энергией Бутлерова, а может, она давно уже копилась — все эти долгие месяцы, пока он жил в Москве. Позже Бутлеров рассказывал о своих встречах с учителем: «Непродолжительных бесед с Н. Н. в это мое пребывание в Петербурге было достаточно, чтобы время это стало эпохой в моем научном развитии». Зинин обратил внимание Бутлерова на роль водорода в различных органических соединениях, и тот сразу же заторопился домой, чтобы побыстрее погрузиться в исследования.
И вот он дома. Вся семья наконец в сборе. Радости тогда у них было много, но и забот прибавилось тоже. Бутлеров видел, что старый отцовский дом надо чинить, да хорошо бы закончить пристройку флигеля, и вообще, без него хозяйство пришло в запустение. До осени он проблаженствовал в Бутлеровке, возился со своими любимыми камелиями, размышлял о том, как осенью станет работать в Казани.
Интересы его были обширны, разнообразны. К тому времени у него было несколько печатных работ, которые, казалось, не могли бы принадлежать одному человеку. В парижском научном журнале появилась его статья о новом сорте камелии, который он вывел сам. В Петербурге напечатали его «Отрывки из дневника путешественника по киргизской орде». В Праге — другая статья — «Об Индерском озере». И все это, не считая его трудов по химии, уже снискавших ему известность. Бутлерова избирают экстраординарным профессором, потом очередная ступень — ординарным.
Его посылают в командировку в Германию, оттуда он едет в Швейцарию, Италию, Францию, Англию, снова в Германию, повсюду изучая работу коллег. Он убедился во время вояжа, что русская химия не только не отстает от науки в Европе, но в ряде областей вышла вперед. Он убедился и в том, что если у европейских ученых есть все для успешной работы, то в России для этого условий нет почти никаких.
Но главное… Нет, главное вовсе не в этом. Он чувствовал, что подбирается к чему-то необычайно важному, о чем думал давно и к чему никак не мог отыскать верной дороги.
Он старается понять законы, по которым строятся молекулы органических веществ, и почему это углерод, внесший «раскол» в химию, поделив ее на органическую и неорганическую, почему он ведет себя столь необычно и странно, когда его атомы соединяются сами с собой.
Среди ученых тогда бытовало мнение: молекула органического вещества никогда не откроет человеку своих тайных законов.
А Бутлеров взял да и опроверг это мнение.
В январе 1858 года, было ему тогда тридцать лет, Бутлеров выступает в Париже в Химическом обществе и делает доклад о строении молекул некоторых органических веществ. Он доказывает, что органические соединения образуются, исходя из своих валентных возможностей. Это закон природы.
Так наметилась в химии теория строения. Потом ее будут называть теорией Бутлерова.
А дома убогая лаборатория, и многие приборы сделаны самим ученым, и реактивов не хватает, и газовый заводик с трудом снабжает газом лабораторию, где даже столов мало. Работать в такой лаборатории радости немного…
Но и в этих невероятно трудных условиях Бутлеров движется к цели уверенно, быстро. В лекции, которые он читает студентам, ученый вкладывает то, что постиг сам на собственном опыте. С точностью, которая и сейчас не может не поражать, он совершенствует свою теорию. И вот в сентябре 1861 года в Германии — в Шпейере, Бутлеров читает доклад, название которого, пожалуй, не остановит даже любопытного взгляда: «Нечто о химическом строении тел».
Это «нечто» можно назвать революцией в химии.
Выступая перед ведущими учеными Европы, Бутлеров говорил: «Исходя из мысли, что каждый химический атом, входящий в состав тела, принимает участие в образовании последнего и действует здесь определенным количеством принадлежащей ему силы, я называю химическим строением распределение действия этой силы, вследствие которого химические атомы, посредственно или непосредственно влияя друг на друга, соединяются в химическую частицу».
И до него многие пытались разобраться в связях между отдельными атомами внутри одной молекулы. Но Бутлеров первым обрисовал то, как устанавливаются эти связи. Он прекрасно понимал, что постигнуто далеко еще не все и что за семью печатями лежат пока тайны самого химического взаимодействия атомов. Он сделал главное: постиг принцип.
Кажется, он понимал, что сделал великое открытие в химии.
Впрочем, почему только в химии? В жизни.
Ему было всего тридцать два года, когда его назначили ректором университета. Больше всех удивился он сам. Университет тогда переживал беспокойное время — волновались студенты, свергая неугодных профессоров, поддерживая тех, к кому питали симпатии. Бутлеров хотел ввести в жизнь университета свежую струю, думал, что настанет новая эра, и ошибся. Через год он пытается сложить с себя ректорство, ему не позволяют, а потом снова началась волна брожения. Решительных мер он не стал принимать, и ему тут же дали понять, что теперь его прошение об отставке не стали бы класть под сукно.
Он покидает ректорский кабинет, но в этой истории остается что-то неясным. Профессор Н. П. Загоскин уже после смерти Бутлерова писал в «Волжском вестнике»: «Более подробные сведения об обстоятельствах оставления А. М. ректорского кресла будут, без сомнения, сделаны со временем достоянием истории Казанского университета… К сожалению, мы еще лишены возможности из-за недостатка материалов полностью вскрыть этот интересный момент в жизни Бутлерова…» Судя по всему, профессор намекает на какую-то очень серьезную причину. Что это могло быть? Возможно, скрытый, глубокий конфликт с высшим начальством, возможно, что-то еще. Ясно одно: такой человек, как Бутлеров, не мог терпеть несправедливость подле себя, но был не в силах ей помешать…
С ранней весны и до поздней осени он живет в своей Бутлеровке. Когда он в широкополой соломенной шляпе и в кургузом, видавшем виды пиджачишке возится с цветами или вырезает из листа жести флюгер на крышу, в эти минуты он совсем непохож на великого химика, имя которого теперь знает мир.
Он любил врачевать, и крестьяне со всех окрестных сел приходили к нему лечиться. Они верили, что порошки, которые им дает Александр Михайлович, обладают особенной силой и чудодейственным свойством.
С особенным удовольствием он мастерил деревянные весы, строил свой удивительный водопровод, в котором вода из реки силой течения поднималась на берег, в гору.
Он заводит пчел и делает из пчеловодства науку — изучает самые разные конструкции ульев, комбинирует их, находит самую лучшую, много размышляет над повадками пчел, пишет научные статьи, участвует в выставках. Пчелы стали для него еще одним увлечением в жизни.
Он любил бродить по лесным тропам или по полю — по пояс в сочной траве, а то садился на берегу реки и подолгу глядел на бегущую воду. О чем он думал тогда? Наверное, он не раз вспоминал в эти минуты отца и те счастливые дни, когда они были вместе.
Он был общительный, живой человек — Александр Михайлович Бутлеров, но он любил и одиночество…
В третий раз за границу — в Германию, он поехал больше по необходимости: там издавался его труд, требовалось его присутствие и, кроме того, нужно было выяснить отношение с немецкими химиками. Там нашлись люди, которые вопреки очевидному пытались отрицать его приоритет в структурной теории.
В присутствии Бутлерова никто не осмелился посягнуть на то, что он сделал. Но стоило только ему уехать, как некто Мейер в научном журнале разразился статьей, почему-то названной им «К защите», где всячески нападал на редуты Бутлерова. А Бутлеров узнал об этом лишь в Ницце, прочел изумленно и тут же напечатал в том же журнале «Ответ».
Нет, он не горячился — в этой дуэли он выступил сдержанно. Он признал сделанное другими, но просил признать и его: «В мои намерения, конечно, не входит доказывать своих притязаний цитатами; однако если сравнить мои, вышедшие с 1861 года, работы с работами других химиков (в хронологическом порядке), то придется признать, что эти притязания не совсем необоснованны». Только зная скромность Бутлерова, можно представить, что стоит за этим истинно джентльменским ответом…
И он вбил-таки этот столб, на котором было начертано: «Сделано в России».
Потом он решил отдохнуть от всех треволнений и отправился в путешествие и на пути из Марселя в Алжир, посреди Средиземного моря, старенький пароход захватил жесточайший шторм. Судно потеряло управление, тяжелые удары волн сметали надстройки, восьмерых матросов смыли рассвирепевшие воды…
Бутлеров работал вместе с командой. Позже, по еще свежим следам, он написал письмо старому другу Вагнеру, где с поразительной силой описал минувшую бурю: «Судорожно цеплялся я за веревку и, к счастью, удержался. Секунды две я был совершенно в воде, невольно открытыми глазами видел синеву водяной массы, рот был полон воды… Водяные горы между тем поднимались и рушились по-прежнему. Спустя несколько мгновений одна из них ударила на ют, где находился капитан и двое рулевых. Капитан поднял руки и вскрикнул. Колесо руля и поперечина оказались изломанными, раздробленными, но люди уцелели». Это только отрывок. Все то длиннейшее письмо — замечательное описание бури, право же, достойно пера лучших писателей-маринистов. Он никогда не пробовал силы в литературе и, как знать, чего бы сумел добиться, если б попробовал.
А потом на него посыпались почести. Пока он был за границей, его избрали экстраординарным профессором Петербургского университета. Вскоре, когда он уже собрался уезжать из Казани, его избирают почетным членом Казанского университета.
В Петербург он уехал, но оставил после себя великолепную школу русских химиков. Многие из них составили потом гордость науки. Почему он решился перебраться в столицу? Трудно ответить. Наверное, потому все-таки, что был главой российской химии и хотел занять это место.
В Петербурге он работает плодотворно, много, сражается яростно за Менделеева, которого всячески оттирают в онемеченной академии.
В русскую академию просто из преклонения перед иностранцами избирали часто неизвестных ученых, которые по-русски не могли сказать ни единого слова. А столпы русской науки долгое время оставались в тени. Неужто был прав поэт, когда написал: «Нет пророка в отечестве своем»? Нет, Бутлеров понимал, что дело вовсе не в этом. И потому вновь и вновь выступал в академии, доказывая, что нет человека более достойного быть избранным в академики, чем Менделеев. Он говорил об этом всегда резко, зло, и было видно, что это его волнует до глубины души.
Эти петербургские годы наверняка стоили ему нескольких лет жизни.
Смерть к нему пришла неожиданно. Он чувствовал себя хорошо, но как-то январским днем взобрался на скамейку в кабинете, чтобы достать нужную книгу, оступился, почувствовал вдруг резкую боль под коленом. Боль прошла вскоре, он подумал, что никаких последствий не будет. И ошибся. Остался тромб.
Он чувствовал себя хуже и хуже, с трудом ходил, но сельских дел своих не оставлял, хотя и руки его, некогда могучие руки, почти непрестанно болели.
Давным-давно, еще мальчишкой, накануне Нового года, он написал отцу письмо, которое назвал «Мои желания и надежды». Четырнадцатилетний мальчик Саша Бутлеров писал тогда: «После трудных подвигов в пользу отечества желал бы я, наконец, успокоиться в тихом приюте моего детства, где первый раз узнал я радость жизни вместе с теми, кто драгоценны моему сердцу…
Наконец, я желал бы встретить старость и смерть мирно, окруженный сельскими занятиями, оставив по себе память добра и пользы ближним».
Он умер в Бутлеровке. Так, как хотел.
Джемс Клерк МАКСВЕЛЛ (1831–1879) — его уравнения физики и уравнения жизни

 Вот наследство, которое этот человек нам оставил: уравнение Максвелла, правило Максвелла, ток Максвелла, теория Максвелла. Просто максвелл — единица измерения магнитного потока. При изменении потока на один максвелл в секунду в контуре индуктируется электродвижущая сила, равная одной стомиллионной доле вольта.
Так далеко — через всю Европу, через десятилетия протянулась нить от Алессандро Вольта к Джемсу Клерку Максвеллу. Потом она потянется еще дальше и глубже. Максвелл был великим ученым и человеком сильной воли. Что бы он успел сделать еще, подари ему судьба хотя бы лет десять жизни…
Вот наследство, которое этот человек нам оставил: уравнение Максвелла, правило Максвелла, ток Максвелла, теория Максвелла. Просто максвелл — единица измерения магнитного потока. При изменении потока на один максвелл в секунду в контуре индуктируется электродвижущая сила, равная одной стомиллионной доле вольта.
Так далеко — через всю Европу, через десятилетия протянулась нить от Алессандро Вольта к Джемсу Клерку Максвеллу. Потом она потянется еще дальше и глубже. Максвелл был великим ученым и человеком сильной воли. Что бы он успел сделать еще, подари ему судьба хотя бы лет десять жизни…
Джемс Клерк Максвелл носил бы более скромное имя и назывался бы просто Джемсом Клерком, если бы его отец не получил в наследство от деда — от семейства Максвеллов, небольшое именьице Миддлби. Старший брат отца унаследовал от деда — сэра Джемса Клерка и титул баронета, и богатейшую усадьбу, а отец будущего великого физика, кроме Миддлби, не получил ничего. Впрочем, и этот дар деда — старого моряка, капитана, — отец Джемса не принял как щедрый подарок судьбы. До мозга костей он был горожанином, служил юристом, увлекался наукой, и необходимость заботиться об имении, необходимость им управлять скорее тяготила его.
Биографы Максвелла иногда пишут, что он происходил из старинной, знатной семьи. Это не так. Вся знатность началась вот с этого сурового моряка, с деда, да и то досталась она другой линии Клерков.
А родился Максвелл не в Миддлби, а в Эдинбурге, старинном шотландском городе, ощетинившемся бессчетным частоколом каминных труб, из которых вечно струился дым. Сами шотландцы называли свой город «старым курилкой».
Улица, где стоял дом Максвеллов, осталась такой же, как и сто сорок лет назад, когда Джемс родился, и дом тоже остался — массивное трехэтажное сооружение с толстыми стенами и высокими окнами.
Говорят, что улица действительно нисколько не изменилась, наверное, это так, но одна деталь на ней все же прибавилась — это доска на доме Максвеллов, на которой выбиты слова: «Джемс Клерк Максвелл, физик, родился здесь 13 июня 1831 года».
И еще есть одно отличие в жизни этой окраинной улочки: раньше она была тиха, неприметна, теперь люди с разных концов света приходят сюда, чтобы постоять немного у дома Максвелла…
Вскоре после рождения Джемса с отцом случается невероятное: он вдруг заговорил о радостях сельской жизни и неожиданно для многих друзей отбыл со всем семейством в Миддлби. Он не расстался совсем с городской жизнью, да и, наверное, не смог бы этого сделать, просто ему хотелось, чтобы сын рос на лоне природы, а не в каменных, отдающих холодом стенах большого города.
Максвелл, конечно, бы вырос Максвеллом и в городе, но в деревне было все, чтобы рано пробудить его мозг.
Мать Джемса написала очень милое письмо родственнице о своем маленьком сыне — это письмо сохранилось: «Этот мужчина очень счастлив, он намного поправился с тех пор, как погода стала умеренной, у него много работы с дверями, замками, ключами, а слова „покажи мне, как это делается“ постоянно сопутствуют ему… Что касается звонков, то они не заржавеют, он стоит на часах в кухне… или звонит сам, посылая при этом наблюдать и кричать ему о том, что в это время происходит, потом таскает всюду отца, заставляя показывать дыры, сквозь которые проходят проволоки». Мальчику в это время было всего три года.
Почему нас всегда так интересует — каким было детство гения, проявлялось ли как-то его дарование в те времена, когда никто бы не смог сказать — выйдет ли из него что-нибудь путное? Может быть, потому, что, не признаваясь себе, мы надеемся отыскать общие штрихи и в своем собственном детстве, и в детстве наших детей, потому что так хочется верить и в себя и в них… А может, это интересует нас потому, что просто любопытно проследить путь гения, его развитие от самых первых шагов в жизни до зрелости. Может быть, так.
Максвелл-младший жил в деревне до десяти лет, и это действительно было для него счастливым временем. А потом отец надумал отвезти его в Эдинбург, в школу, которая почему-то называлась академией. Здесь он впервые в жизни остался один — без совета отца и без ласки матери и сразу же натолкнулся на отчужденный прием своих однокашников. Для них он был простым деревенщиной, и они с ходу окрестили его «дуралеем». Возможно, кое-какие основания для э
того были: Джемс не очень общителен, в науках на самых первых порах, мягко говоря, не блистал, а по арифметике будущий гениальный математик учился из рук вон плохо.
В академии десятилетний мальчик очень скучает по дому, часто вспоминает прогулки с отцом по перелескам, полям, когда они вместе собирали интересные камни, растения, наблюдали за лягушками и ящерицами.
Близких друзей у него в первые годы в академии не было. Скучающий без всего, что он любил, мальчик как-то написал отцу: «Мой дорогой папа, в тот день, когда ты уехал, мы пошли в зоопарк, и там был слон, и Лиза испугалась его некрасивой морды. А у одного джентльмена был мальчик, который спрашивал, не индийская ли это корова. Собачка Аски думает, что она тоже школьник, и хочет идти со мной в школу… Твой почтительный слуга
Джемс Клерк Максвелл».
А потом Джемс здорово разочаровал всех своих насмешников: в школе начали читать геометрию, и он вдруг увлекся ею и доказал, что нет в академии никого, кто бы знал геометрию лучше его.
Однажды отец навестил Джемса в школе и взял с собой на заседание Королевского общества. Там Джемс услышал, как ученые мужи рассуждали об одной из загадок древних этрусков: не ведая формул высшей математики, те могли придавать погребальным урнам идеально правильную овальную форму. Ученые так ни до чего и не договорились, а Джемс потерял покой, стараясь придумать такой способ. Отец был поражен и горд неимоверно, когда сын воткнул в деревянную доску две иглы, положил вокруг них толстую нить, связал ее концы и, натягивая нить карандашом, вычертил идеальный овал, а потом рассказал о том, как он применил этот метод для кривых, у которых сумма расстояния до первого фокуса и утроенного расстояния до второго остается постоянной.
Сейчас этот метод знают многие, но мало кто помнит, что первым обобщил идею этого метода школьник прошлого века по имени Джемс Клерк Максвелл.
Решение Максвелла не было счастливой случайностью — это был его первый научный труд, прошедший официальную научную апробацию и опубликованный в «Трудах Эдинбургского королевского общества». Поскольку случай был беспрецедентный и доклад должен был бы делать школьник, а это считалось непринятым, на заседании общества с чтением статьи выступил известный ученый — профессор Форбс. Джентльменов смутило то обстоятельство, что им пришлось бы с почтением выслушивать мальчика…
Максвеллу тогда исполнилось пятнадцать лет. Через три года он публикует еще одну научную работу — по теории кривых качения, чуть позже — третью — об упругих твердых телах.
Люди по-разному ищут свое призвание. Одни не спеша, подолгу присматриваясь, выбирают себе дело, потом, испытав разочарование, находят что-то иное. Другие берутся буквально за все, что попадается им на пути, и так же легко бросают, в надежде, что так быстрее найдут то, «свое».
Максвелл никогда не искал свое призвание. Оно само пришло к нему.
После академии Джемс поступает в Эдинбургский университет, потом, окончив его, едет в Кембридж — Тринити-колледж, где учился когда-то Ньютон. Здесь Максвелл впервые берет в руки труды Фарадея и поражается необъятности горизонтов, открывшихся в них. Двадцатилетний Максвелл писал: «Я решил не читать ни одного математического труда в этой области, пока основательно не изучу „Экспериментальных исследований по электричеству“». Так назывался труд Фарадея.
Иногда говорят о соперничестве Максвелла и Фарадея, спорят, кто из них сделал больше в науке. Соперничества никакого не было, да и быть не могло: Джемс еще только родился, когда Фарадей уже сделал многие свои великие открытия. Максвелл всегда с огромным почтением относился и к самому Фарадею, и к его вкладу в науку. Да и спорить о том, кто из них больше сделал, тоже не стоит: Фарадей был великим экспериментатором, Максвелл — великим теоретиком. Один из них клал первые камни в фундамент науки, другой ставил стены на этот фундамент.
Профессором Джемс Клерк Максвелл стал в двадцать четыре года. До этого он уже преподавал два года в Кембридже, но не на профессорской кафедре, и потому почти сразу же согласился принять место в Шотландском университете. Наверное, роль в этом решении сыграло даже не столько то, что он втайне желал повышения в должности, сколько соблазнила возможность перебраться ближе к родному дому, к отцу. Но отец так и не узнал этой радостной новости: он не дожил всего нескольких дней до получения от сына письма о назначении.
Молодой профессор с жаром берется за работу и с головой уходит в исследования. Уж очень все удачно сложилось на новом месте: он не преподавал теперь, и это, естественно, прибавило времени, и потом он подолгу замыкался в старом родительском доме, где его покой никто не мог потревожить. В это время он увлекся кольцами Сатурна — тогда о них шли самые разнообразные споры — какие это кольца: жидкие или твердые? И около трех лет занимался только этой проблемой.
В тиши огромного дома, похожего на неприступный замок, Максвелл все глубже погружался в расчеты, буквально кончиком пера ведя нить к открытию. Думалось ему хорошо, ум был молод и быстр, и работа шла успешно. В те дни он писал другу: «…Я снова обрушился на Сатурн… Я уже пробил несколько брешей в твердом кольце, а сейчас окунулся в жидкую среду, погрузившись в мир поистине удивительных символов и обозначений. Вскоре я углублюсь в туманность, напоминающую чем-то состояние воздуха, скажем, во время осады Севастополя. Лес пушек, занимающих площадь прямоугольника со сторонами 100 и 30 000 миль, изрыгает ядра, которые никогда не останавливаются, а вращаются по кругу радиусом 170 000 миль…» Наверное, это письмо Максвелла было продиктовано не только желанием объяснить другу — объяснить возможно более просто — то, над чем он работал тогда. Очень похоже, что он сам для себя хотел нарисовать картину далекого фантастического мира, в который вторгался, сплетя сложнейшую вязь формул. Может быть, ему просто хотелось представить зримей то, что пряталось за длинными вереницами значков и цифр, которыми он покрывал за страницей страницу.
Когда Максвелл закончил эту работу, Кембридж издал его книгу о кольцах Сатурна. Он получил желанную для многих физиков премию Адамса — тоже за эти кольца. Он умел и любил работать — Джемс Клерк Максвелл, ему нравился сам процесс работы, когда малейшее продвижение вперед стоило многих серьезных усилий. Он всегда, если брался за что-то, забывал обо всем, что могло бы отвлечь или рассеять внимание. Он был талантлив необычайно, но без трудолюбия он вряд ли бы добился такого успеха.
Он мог появиться в лаборатории налегке, с видом человека, у которого здесь нет никаких дел и который зашел лишь для того, чтобы перекинуться с коллегами парой ничего не значащих фраз. Бывало, что он заглядывал в лабораторию даже с собакой, чем немало шокировал тех, кто его плохо знал. Поэтому многие считали, что Максвелл и всегда-то работает так — легко и непринужденно, что все его открытия сделаны без всяких усилий. Но это не так. Он работал много, сосредоточенно, яростно.
Иногда ему хотелось оставить формулы и взяться за стихи. Как-то он написал:
Наш мир, может, несколько страшен,
И жизнь наша — без толку труд.
Все ж буду работать, отважен.
Пускай меня глупым зовут.
Эти, в общем-то, наивные стихи он написал для себя, не надеясь и не думая о том, что они станут тем штрихом, который дополнит картину его характера, расскажет о его отношении к жизни, к труду.
Он избрал для себя совершенно невероятный режим дня и строго следил за его выполнением: вставал в семь утра, работал до пяти вечера, потом снова спал — обязательно четыре с половиной часа. С половины десятого до двух ночи снова запирался в своем кабинете, а потом полчаса отводил для гимнастики. Впрочем, вряд ли можно назвать гимнастикой то, что он делал: эти тридцать минут Максвелл просто бегал по пустым коридорам и лестницам погруженного в сон преподавательского общежития. Только в половине третьего ночи он ложился спать. И после этого находились люди, которые считали, что он мало работает…
Максвелл прожил недолгую жизнь, но успел сделать много. На основе его теоретических исследований, а также работ знаменитого австрийского физика Людвига Больцмана взошло могучее древо статистической механики. Максвелл видел газы не как нечто неосязаемое, но обладающее некими свойствами, а как гигантское скопление молекул, находящихся в непрерывном движении. Эти невидимые частицы вещества все время сталкиваются, разлетаются в разные стороны — и снова сталкиваются, теряя свою скорость или, наоборот, приобретая ее. Если бы можно было увидеть, услышать этот бурный, меняющийся в ничтожные доли секунды мир…
Максвелл и Больцман открыли и сформулировали статистический закон, описывающий распределение молекул газа по скоростям. Этот закон всегда будет носить их имена. Известный английский физик Д. Макдональд в своей книге о Максвелле написал: «Я думаю, что если бы Максвелл не сделал больше ничего в своей жизни, то и этого было бы достаточно, чтобы увековечить его имя в памяти потомков».
Но он сделал и еще очень много. Он развил теорию цветового зрения, по-прежнему занимался электромагнетизмом. Впрочем, «занимался» — не то слово: по существу, он стал создателем электромагнитной теории. Ампер, Фарадей, Генри — они были первооткрывателями электромагнитных явлений. Максвелл все объяснил и построил теорию, сумев выразить ее в виде системы нескольких уравнений, в которые он ухитрился вместить все. Эти уравнения во всем мире называются не иначе как «уравнения Максвелла», и, наверное, ни один современный физик не сможет сказать, что он может обойтись без этих красивых, поразительно емких математических описаний. Это о них, об уравнениях Максвелла, о его теории сказал Генрих Герц: «Нельзя изучать эту удивительную теорию, не испытывая по временам такого чувства, будто математические формулы живут собственной жизнью, обладают собственным разумом — кажется, что эти формулы умнее нас, умнее даже самого автора, как будто они дают нам больше, чем в свое время в них было заложено». И первым в этом убедился сам Максвелл.
Исследуя пока еще не ясное для него происхождение одной из постоянных величин, входящих в уравнения, Максвелл обнаружил, что эта величина равна скорости света. Случайное совпадение? Максвелл был поражен открывшимся сходством и попытался проникнуть в его суть. Шаг за шагом он продвигался к открытию, пока не увидел — почти воочию, если бы только вообще это было возможно: электромагнитное поле — волна бегущая в пространстве с незатухающей скоростью Он понял, почему энергия электрического поля переходит в энергию магнитного, и обратно. Потом догадывается: это не просто волны, а поперечные волны. Так он подошел к доказательству электромагнитной природы света.
Максвелл был бы первым человеком, узнавшим это, если бы не то загадочное и позабытое всеми письмо Фарадея, которое пылилось в архиве Королевского общества, и о котором мы с вами уже знаем. Но ни Максвелл, ни кто-либо другой из его современников не знал о существовании письма, потому что сам Фарадей хотел, чтобы оно надолго затерялось во времени. Фарадей высказал гениальное предположение, намного опередившее исторический ход науки. Максвелла привела к этому открытию математически стройная теория, которую он сам же и создал. Отныне от теории Максвелла, от уравнений Максвелла началась новая физика.
В ней он оставил много следов — это и «ток Максвелла», и «правило Максвелла», и просто «максвелл» — как назвали единицу измерения магнитного потока. Подобно тому, как открывателям новых земель, закрашивающим белые пятна на карте нашей планеты, ставили памятники, давая их имена островам, проливам, морям, называя их именами горы, хребты, ледники, так и в физике имена самых первых легли на карту науки и в физике именами первопроходцев называют покоренные вершины науки и неизведанные области, которые еще недавно были белыми пятнами. Максвелл закрасил много таких пятен.
…Ему было всего сорок шесть лет — возраст, который многие считают для мужчины расцветом, когда он впервые почувствовал в желудке что-то неладное. Невольно он вспомнил о матери: у нее тоже вот так, с болей, с расстройства, с невинных, казалось, симптомов начиналась долгая, мучительная болезнь… Она умерла от рака.
Максвелл еще больше замыкается в себе, не решаясь, а может, просто не находя времени — тогда он работал над книгой — обратиться к врачу. Друзья его видели, что с ним происходит что-то серьезное, что изменило даже его облик: глаза потеряли присущий им живой блеск и стали казаться усталыми. Походка, некогда упругая, быстрая, сделалась медлительной, вялой, как бывает у человека, который и на ходу думает о чем-то своем.
Эдинбургский врач — доктор Лоррейн колебался, не зная, сказать своему пациенту правду или еще подождать. Он сказал Максвеллу, что тот болен раком. Ученый выслушал свой приговор внешне спокойно, спросил только, сколько, по мнению доктора, он еще проживет. Тот сказал: не более месяца.
В сентябре 1879 года он был в своем родном Миддлби, когда его захватил внезапный и резкий приступ. Друзья и врач решили, что лучше всего его отправить в Кембридж — там, во всяком случае, будет надлежащий уход.
Жена его, Кэтрин Мэри Дьюар, тоже была нездорова последние годы, и они вместе отбыли в Кембридж. Гленлейр, его родительский дом в Миддлби, опустел навсегда.
В Кембридже его лечил известный врач — доктор Пагет. Не в силах изменить ход болезни, потрясенный самообладанием умирающего Максвелла, доктор рассказывал: «Во время болезни, лицом к лицу со смертью, он оставался таким же, как прежде. Спокойствие духа никогда не покидало его. Через несколько дней после возвращения в Кембридж его страдания приняли очень острый характер… Но он никогда не жаловался… За несколько дней до смерти он спросил меня, как долго ему осталось жить… Казалось, он беспокоился только о своей жене, здоровье которой за последние несколько лет пошатнулось… Его ум оставался ясным до конца… Никто из моих пациентов не сознавал так трезво свою обреченность и не встречал смерть более спокойно. Пятого ноября он тихо отошел».
Стоял туманный, пасмурный день, моросил мелкий и частый дождик, и стены Гленлейра, отдавая тепло, накопленное за те десятилетия, пока процветала семья Максвеллов, казалось, сочились исторгнутой влагой…
Джемс Клерк Максвелл умер в сорок восемь лет, в том же возрасте, что и его мать, и от той же болезни.
Он оставил четыре строчки своих великих уравнений, и еще четыре строки, четыре уравнения жизни, с которой он так не хотел расставаться:
Зачем, когда так ярко солнце,
Зачем, когда надежды с нами,
Зачем, когда прекрасна жизнь,
Такая боль приходит?
Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ (1834–1907) — умеющий видеть сквозь время

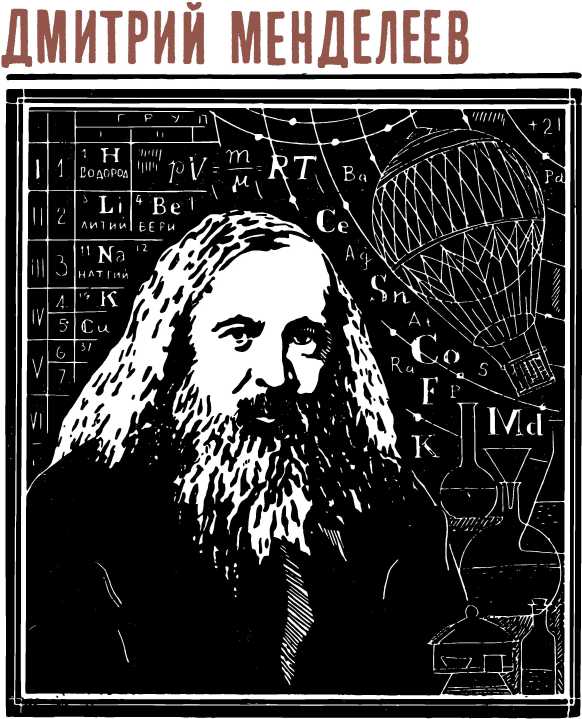 Сколько химиков до него пыталось привести в систему все многообразие элементов, которые создали удивительный мир вокруг человека и которые составляют самое его существо…
Сколько людей поставили ради этого на карту свою жизнь. Многие понимали, чувствовали, что должна быть такая система — закон природы, стремились открыть его — и напрасно. Он построил ее один — периодическую систему элементов. Систему элементов Д. И. Менделеева.
Сколько химиков до него пыталось привести в систему все многообразие элементов, которые создали удивительный мир вокруг человека и которые составляют самое его существо…
Сколько людей поставили ради этого на карту свою жизнь. Многие понимали, чувствовали, что должна быть такая система — закон природы, стремились открыть его — и напрасно. Он построил ее один — периодическую систему элементов. Систему элементов Д. И. Менделеева.
Это был могучий человек, потому что сделанное им под силу только гиганту. Как ему это удалось? Благодаря чему? Благодаря своему невероятной силы таланту, благодаря крепости духа, благодаря уверенности в том, что дело его необходимо.
Он появился в Петербурге тихо и незаметно, преодолев на лошадях долгий путь из сонного Тобольска, где он родился, до шумной, говорливой Москвы и чинного, великолепного города на Неве. Да и как иначе мог появиться в незнакомом большом городе этот голубоглазый юноша, не имеющий ни знатного родства, ни богатых родителей? Отец его был директором Тобольской гимназии — должность не бог весть какая доходная, а маленький стеклянный заводишко, который в основном и стал кормить семью после того, как отец, ослепнув, вынужден был оставить преподавание, тоже не приносил большого дохода. И все-таки, когда он сгорел дотла, это было большим ударом для Менделеевых. Как-никак четырнадцать душ одних детей…
Митя был младшим и, похоже, самым любимым. В детстве он обладал не слишком крепким здоровьем, а во влажном петербургском воздухе и вовсе неважно стал себя чувствовать. Иногда у него горлом шла кровь, и врачи полагали, что у него началась последняя степень чахотки. Он лежал в клинике педагогического института, где он учился, когда однажды во время обхода главный лекарь, думая, что Менделеев уснул, сказал директору: «Ну этот-то уже не поднимется…» А «этот», услышав свой приговор, сел на кровати, достал тетради и тут же погрузился в записи с лекциями.
Институтские друзья сумели устроить для Менделеева аудиенцию у придворного медика Здекауэра, и тот, прослушав его, деликатно посоветовал ехать на юг. Правда, Здекауэр дал еще совет — показаться просто так, на всякий случай Пирогову.
А в Крыму в это время шла война, и Пирогов, засучив рукава, оперировал с раннего утра и до позднего вечера. За день — десятки ампутаций. Менделеев много
раз видел его издалека, но все не решался к нему подойти. Пирогов раненым был больше нужен.
Менделеев и думать не мог, что вид Симферополя, города, в общем-то, достаточно удаленного от линии фронта, может произвести на него такое тяжелое впечатление. Рестораны работали, гимназии — нет, больниц было мало, и вокруг города сгрудились палатки с красным крестом. И всюду раненые, раненые…
Менделеев здесь никого не знал. Пирогов казался недосягаемым. И выпускник столичного института, приехавший на консультацию, найти себе дело здесь, конечно, не мог. И он пишет брату в письме: «Юг, который так влечет тебя, этот юг, поверь, хорош только на севере, да два-три месяца в году, а то бог с ним…»
Но вот наконец Менделеев перед Пироговым. Великий врач с неожиданной внимательностью осматривает столь странного здесь пациента и… дарует ему жизнь! Менделеев навсегда запомнил то, что сказал ему Пирогов: «Нате-ка вам, батенька, письмо вашего Здекауэра. Сберегите его, да когда-нибудь ему и верните. И от меня поклон передайте. Вы нас обоих переживете».
Окрыленный Менделеев несется налегке в Одессу. С ним только то, что на нем, да денег немного, но все так хорошо, впереди столько дел — заманчивых и интересных, теперь надо спешить, потому что время, потерянное в тягостном ожидании, уже не вернуть.
В Одессу у Менделеева направление. Он получил там место преподавателя естественных наук, у него там небольшая лаборатория, первая своя лаборатория, и тут же, под рукой — превосходная библиотека.
Здесь, в южном приморском городе, он начинает искать «причину химического сродства» — то, о чем думал уже давно и чему он посвятит всю свою жизнь.
Полгода в Одессе, и вот Менделеев вновь в Петербурге. Приехал он не с пустыми руками: работа, которую он привез — тончайшее и кропотливейшее исследование по удельным объемам. Это фактически его диссертация. Она дает ему первую ученую степень магистра. Магистра физики и химии. Менделееву исполнилось тогда всего двадцать два года.
Это была его первая большая победа. Но победа, радость которой омрачило горе: умерла Лиза — его любимая сестра, приехавшая вместе с ним из Тобольска. И вот теперь он остался в Петербурге один. Иногда его тянет домой — взглянуть на родные места, увидеться с близкими, но эта мечта еще долгие десятилетия будет мечтой. И лишь на склоне лет, уже всемирно известным ученым, возвращаясь из экспедиции, он сделает крюк, чтобы увидеть Тобольск. Это будет недолгое возвращение, но полное разочарований.
А в октябре того же года, когда он стал магистром, Менделеев поразил всех своих друзей: он защитил вторую диссертацию. Что и говорить — случай необычайнейший! Ученые не без колебаний приняли второй труд Менделеева, хотя это и был серьезный вклад в химию стекловарения. Но уж слишком все это было необычно…
А потом молодой Менделеев на почтовой карете, которую резво катила четверка лошадей, едет в первую свою командировку — через Варшаву — дальше, в знаменитый Гейдельберг, в лабораторию патриарха химии — профессора Бунзена.
Менделеев верил, что дни, проведенные в лаборатории Гейдельбергского университета, рядом с прославленным химиком, будут ему полезны, но он ошибся. Бунзен, занятый своими опытами, встретил молодого русского коллегу вежливо, но сдержанно. А в лаборатории, где Менделееву выделили место, было все как нельзя более нескладно: в тесноте толпились студенты, не хватало посуды, реактивов. Менделеев тотчас понял, что здесь он лишь потеряет время. С видом глубочайшего сожаления сказал Бунзену, что он нездоров, поблагодарил за столь радушное гостеприимство и тут же съехал с университетской квартиры. А вскоре снова в путь. На этот раз — в Париж, к мсье Салерону — тому самому Салерону, лучше которого никто не мог делать химические приборы и инструменты. Менделееву нужны были самые точные из всех точных весов, потому что для его работы не годились другие.
Он вернулся в Гейдельберг, где снял крохотную комнатенку под лабораторию, и где его уже ждало обеспокоенное письмо попечителя Петербургского учебного округа — видно, дошли сообщения о выходке с Бунзеном.
Менделеев ответил: «Главный предмет моих занятий есть физическая химия».
Он не спешил домой — и не потому, что не желал видеть город, уже давно ставший ему родным. Он не спешил потому, что в Гейдельберге ему хорошо работалось, он чувствовал себя свободным, независимым. И потому еще, что здесь он обрёл новых друзей.
Иван Сеченов, Александр Бородин, Дмитрий Менделеев — они были тогда молоды, их имена еще не звучали так громко, но каждый из них уже был известен своими работами. Все трое с увлечением занимались химией. Менделеев пытался постичь суть явлений, происходящих на уровне значительно более тонком, нежели молекулярный, и открыл температуру абсолютного кипения. Сеченов проникал в химию газообмена в живых тканях, а автор «Князя Игоря» с упоением возился с пробирками и колбами и к тому времени был автором нескольких крупных печатных работ по химии.
Трое великих русских. Маленькая «могучая кучка». Они работали не покладая рук, а вечерами сходились за чаем, делились всем, что накопилось за день. Чуть позже, когда к ним присоединился Мечников, они дали клятву, что, если кому-нибудь из них в жизни будет трудно, все соберутся, чтобы прийти на помощь. Они сдержали эту клятву.
…А в Гейдельберге они переживали счастливое время. В работе все ладилось — и поэтому настроение было прекрасным, а отдыхали они тоже самозабвенно. Бородин часто садился за рояль, а то все разом шли в соседний городок слушать знаменитый орган.
Вместе с Бородиным Менделеев частенько ходил в горы. Что их влекло… Разве можно об этом сказать? Им нравилось идти вверх по трудной дороге, цепляясь за камни, увязая иной раз в грязи и в снегу. А без этого в жизни чего-то недоставало. Как хорошо Дмитрий Иванович сам написал об этом Феозве Лещевой — подруге своей сестры Ольги, своей будущей жене. Как его тянуло тогда к Феозве и как много позже он будет готов отдать все, что угодно, лишь бы расстаться с ней. Как хорошо он написал ей: «Не забудешь этой минуты, рад будешь десять верст лезть, чтобы еще раз испытать то же. А отчего? Я Вам не скажу. Не скажу не потому, что не хочу, нет, сам не знаю и выдумывать не могу…»
Друзей объединяло не только пристрастие к химии — они были во многом похожи — с одинаковой страстью отдавались работе, а увлекшись чем-то, с головой погружались в новое дело. Правда, проявлялось у них это по-разному. Менделеев весь отдавался страсти и не остывал, пока в нем тлела хотя бы искра. Он не брался за что-то другое, пока не убеждался в том, что здесь он узнал и взял все. Он искренне радовался своей близости с Бородиным, поскольку считал его необыкновенно талантливым человеком и благодарил судьбу за то, что она их свела.
А Бородин был похож на шумный, сверкающий фейерверк, который он сам умел готовить и готовил всегда отменно, с любовью. Он отлично писал маслом и рисовал, умел лепить и гравировать — не говоря о том, что он играл на многих инструментах, — был химиком и композитором. И как знать, не от этой ли дружбы с Бородиным пошло потом менделеевское увлечение искусством. Видимо, все-таки многогранность — это действительно неизбежное проявление большого таланта. Человек, великий по-настоящему, наверное, не может вложить в одно русло всю свою силу и весь свой талант. Жизнь, словно бы опасаясь потерять бесценные крупицы человеческого дарования, не позволяет ему сделать это.
А в Петербурге Менделеев вдруг ощущает острую радость возвращения. Он понял, что все годы скучал без этого города. Теперь он не один здесь: вернулась сестра Ольга. Вместе со своим мужем декабристом Басаргиным она была в долгой сибирской ссылке. Здесь, в ее доме, Менделеев все чаще встречается с Феозвой Лещевой — она ему нравится, но он плохо знает женщин и не уверен в том, что надо следовать совету сестры и жениться. Он хочет выяснить — смогут ли они с Феозвой понять друг друга, но всякий раз растерянно умолкает: нет, видно, не пристало спешить, торопить судьбу. Пусть все складывается так, как есть, без всяких усилий.
Он верит, что так будет лучше. Потом вдруг прилив отчаяния — он сомневается в себе, в своей избраннице и пишет письмо. Нет, не письмо, а крик души несется к сестре в Москву (ее увлекли на время дела). А та отвечает: «Ты помолвлен, объявлен женихом, в каком положении будет она, если ты теперь откажешься?» И он уступает.
И вот ведь что странно: он был человеком с сильным характером, умел постоять за себя и не дай бог кому-то его обидеть, а здесь вдруг он уступил. С чего бы? Он знал, что был влюблен только, а не любил. А вот женился. Не было же ему безразлично? Наверное, нет. Но он верил, что, если бы оставил Феозву, для нее это действительно стало б ударом. И вот с этим-то он смириться не мог. Он не умел причинять боль другим.
Через три года у Менделеевых родился сын. Дмитрий Иванович вкупе с другом своим профессором Ильиным покупает у разоренного князя небольшое именьице Боблово, неподалеку от Клина, переезжает туда и с пылом начинает заниматься сельским хозяйством.
Впрочем, увлечение это не было случайным: Менделеев давно скучал без природы.
В Боблове ему хорошо. Он много гулял, ездил верхом, хлопотал на своем опытном поле, а вечерами частенько встречал идущее с пастбища стадо. Он все это очень любил. Но дело не только в этом. Опыты, которые он ставит, служат одной цели. Его наука должна сослужить людям конкретную пользу. Здесь, в Боблове, он воспитывает в себе иное отношение к делу: труд ученого не должен быть вне связи с практикой. И в самом конце своей жизни он вспомнит об этих бобловских днях и напишет об опытах: «Они важны для меня потому, что оправдывают все мое дальнейшее отношение к промышленности». Вот, оказывается, когда он начал думать о будущем.
А пока еще он гулял с сыном по просекам, с мальчишеским азартом играл на лужайке в крокет, возился на току, собирал только что купленную молотилку. И видно было, что вот здесь, в Боблове, он чувствует себя самим собой, вольготно и счастливо.
Так думала, глядя на него, его жена. Она думала, что так будет всегда, что Дмитрий Иванович понял, наконец, где и в чем его счастье. От одних только этих мыслей волна тихой радости переполняла ее.
Но она ошибалась. В ее муже в то время зрел великий ученый. Он сам об этом не помышлял. Она этого просто не понимала.
И вновь Петербург. Мысль о химическом сродстве элементов, которая пришла еще в годы студенчества, опять волновала его. Он был абсолютно твердо убежден, что непременно должен существовать некий закон — властный, неумолимый, который и определяет это сродство или различие элементов, населяющих мир.
Сколько до него было попыток — наивных, надуманных — найти этот закон, повинуясь ему, расставить все элементы по стройной системе… В то время химики открыли и «обмерили» 64 элемента, знали их атомные веса, так что уже был материал для работы. Не было только человека, который сумел бы проникнуть в эту тайну, лежащую, как казалось, где-то неподалеку и тем не менее недосягаемую.
Французский химик Шанкуртуа искал закономерность, расположив элементы по винтовой нарезке, нанесенной на стоящий цилиндр. Все напрасно.
Английский химик Ньюлендс, человек, вероятно, утонченной натуры, напряженно искал разгадку с помощью музыки. Он верил, что те соотношения, которые существуют между элементами, похожи на соотношения между музыкальным тоном и его октавой. Ньюлендс построил-таки свою систему, искусственно впихивая в нее элементы, подстругивая их под те размеры, которые сам же и уготовил. Система была, но системы элементов не было. Ньюлендсу пришлось пережить пренеприятные минуты, когда председатель британского съезда естествоиспытателей спросил его, не пряча иронии: «Не пробовал ли уважаемый джентльмен расположить элементы по алфавиту и не усмотрел ли он при этом каких-либо закономерностей?»
Менделеев смотрел в самую суть явлений и не пытался искать какую-то внешнюю связь, объединяющую все элементы в фундаменте мироздания. Он пытался понять — что их связывает и что определяет их свойства. Менделеев расположил элементы по возрастанию их атомного веса и стал нащупывать закономерность между атомным весом и другими химическими свойствами элементов. Он пытался понять способность элементов присоединять к себе атомы сородичей или отдавать свои.
Он вооружился ворохом визитных карточек и написал на одной стороне название элемента, а на другой — его атомный вес и формулы его некоторых важнейших соединений. Он снова и снова перекладывал эти карточки, укладывая их по свойствам элементов. И в его сознании всплывали какие-то новые закономерности, и он со знакомым волнением, предшествующим открытию, осторожно продвигался дальше и дальше. Часами он сидел, склонившись над своим столом, снова и снова вглядываясь в записи, и ощущал, как начинала кружиться от напряжения голова и как глаза застилала дрожащая пелена…
Говорят, что во сне к нему пришло озарение и что ночью ему привиделось, как, в каком порядке надо разложить те карточки, чтобы все легло по своим местам по закону природы. Может быть. Мозг человека всегда бодрствует. Но шел-то Менделеев к этому прозрению годами! Он продвигался осмысленно, заранее намечая и рассчитывая каждый свой очередной шаг. Может, и было то озарение, но его нельзя назвать случайным.
Менделеев нашел связь даже между самыми непохожими элементами. Он обнаружил, что свойства элементов, если их разместить в порядке возрастания атомных весов, через правильные промежутки повторяются. Менделеев понимал: случайностью это быть не могло. Тогда он сделал последний — решающий шаг: расположил все элементы еще и по группам, объединив в отдельные семьи ближайших родственников. Он настолько ясно видел стройность созданной им системы, что, заметив отсутствие элемента между алюминием и титаном, оставил ему свободное место. Таких пустых клеток пришлось оставить еще две. Система Менделеева позволяла ему предвидеть открытие.
Первое из них последовало через четыре года. Элемент, для которого Менделеев оставил место и свойства, атомный вес которого он предсказал, вдруг объявился! Молодой французский химик Лекок де Буабодран послал в Парижскую академию наук письмо. В нем говорилось: «Позавчера, 27 августа 1875 года, между двумя и четырьмя часами ночи я обнаружил новый элемент в минерале цинковая обманка из рудника Пьерфитт в Пиренеях». Но самое поразительное еще предстояло.
Менделеев предсказал, еще оставляя для этого элемента место, что его плотность должна быть 5,9. А Буабодран утверждал: открытый им элемент имеет плотность 4,7. Менделеев, и в глаза-то не видевший новый элемент — тем это и удивительней, — заявил, что французский химик ошибся в расчетах. Но и Буабодран оказался упрямцем: он уверял, что был точен. Этот спор походил на какую-то игру, в которой участвовал маг-прорицатель. Этот маг носил русское имя.
Чуть позже после дополнительных измерений выяснилось: Менделеев был безоговорочно прав. Первый элемент, заполнивший пустое место в таблице, Буабодран назвал галлием в честь своей родины Франции. И никому тогда не пришло в голову дать ему имя человека, который предсказал существование этого элемента, человека, который раз и навсегда предопределил путь развития химии. Это сделали ученые двадцатого века. Имя Менделеева носит элемент, открытый советскими физиками.
…А дома у него все идет как-то нескладно. Ему одиноко. Он давно уже знает, что Феозва его никогда не поймет. Она хочет, чтобы он был примерным семьянином и все свободное время от преподавания проводил вместе с нею в деревне. А он не может. Боблово стало для него этапом в жизни, и этот этап оказался уже позади.
Менделеев на несколько месяцев уезжает в Америку — изучать тамошние методы добычи нефти. Америка его удивляет: он ожидал увидеть нечто совсем иное. Первый город Штатов — Нью-Йорк. Он показался великому химику просто невзрачным, напоминающим большие уездные города России. Знаменитые нефтепромыслы? Но более бездумного отношения к природным богатствам он нигде не встречал…
Впрочем, он не встречал еще многого в жизни, этот крупный, чуть сутуловатый мужчина с русой бородой и длинными волосами. Ему за сорок, но он не встречал очень важного в жизни, что наполняет ее особым, трепетным смыслом. Он еще не любил.
Они познакомились в доме его старшей сестры. Ее звали Анной, она была дочкой казачьего полковника и так не походила на всех девушек, которых он встречал прежде… Она была стройна, нетороплива, под густыми черными бровями светились большие серые глаза, а голову украшали длинные, тяжелые косы. Она приехала в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств, и осталась в этом городе навсегда. Она нашла здесь то, о чем не смела мечтать и в самых смелых своих мечтах.
Он влюбился в нее как мальчишка. Сначала он даже не понимал, что с ним происходит: рядом с ней он ощущал острые приступы одиночества. Это было очень похоже на то, как человек, исстрадавшийся от жажды в пустыне, рядом с источником острее ощущает мучения. Он избегал ее, прятался на своей половине дома, но никак не мог заставить себя не думать о ней.
Отец ее, узнав, сколь холодно она обошлась со своим женихом, встревоженный, поехал в Петербург и здесь узнал то, что знали все: его дочь и Менделеев любят друг друга. Однако надежд у них никаких не было. Феозва развод давать не соглашалась, и отец Анны велел ей потребовать у Менделеева, что он не будет искать с ней встреч. Менделеев обещал.
Но обещал зря. Он просто не мог сдержать свое слово. Его влекло в те места, где, как он знал, можно было встретить ее. Он входил в здание Академии художеств и выжидал ее, прячась за колоннами, скрываясь в тени залов. Он и вел-то себя как мальчишка.
Отец Анны предпринимает еще один шаг: он отправляет дочь на зиму в Италию.
Стоял морозный декабрь, а Менделеев, глядя в окно вагона, сжимал шляпу в руках. Было туманно, и ему казалось, что они больше никогда не увидятся…
Она уехала, а он писал ей письмо за письмом и опускал их в ящик, приделанный к столу, за которым работал. Ведь он обещал не напоминать о себе…
Потом ему подошло время ехать в Алжир — на химический съезд. Его друг — Бекетов, видя безнадежное отчаяние, с которым Менделеев собирался в дорогу, не вытерпел и помчался к Феозве в Боблово. На что он рассчитывал, зная ее, было непонятно, однако вопреки всякой разумной логике сумел убедить ее предоставить свободу мужу. Заручившись согласием на развод, Бекетов на крыльях полетел в Петербург и едва-едва застал Менделеева перед отъездом на пристань.
Пароход причалил в Алжире, но Менделеева на борту не было. Он был в Риме. Возле нее.
Из Рима — лишь бы остаться вдвоем, они кинулись в Африку, очутились в Египте, потом — в Испании. А в Риме-то — так спешили — ни с кем не простились…
Но до полного счастья еще далеко. Церковь наложила на брак Менделеева епитимью — запрет, и он семь лет не имел права жениться. Через год кронштадтский священник нарушил этот запрет и обвенчал Дмитрия Ивановича с Анной Ивановной и на другой же день в наказание был лишен своего сана.
Вот такая у них была любовь. Трудная, красивая, мучительная и счастливая. Менделеев, к чему бы он ни прикасался в жизни, всегда отдавался весь — со страстью, в могучем порыве. Так он любил, так громил врагов, так работал — изо дня в день — всю свою жизнь.
Были у него и увлечения, но даже они превращались в большое, серьезное дело.
Много лет подряд Менделеев занимался исследованием газов, у него были серьезнейшие научные труды на эту тему. Но он задумывается и о другом: «Россия… владеет обширнейшим против всех других образованных стран берегом еще свободного воздушного океана. Русским поэтому и сподручнее овладеть сим последним… С устройством доступного для всех и уютного двигательного снаряда…» И дальше: «…прикреплять к аэростату герметически закрытый, оплетенный, упругий прибор для помещения наблюдателя, который тогда будет обеспечен сжатым воздухом и может безопасно для себя делать определения и управлять шаром». Вот ведь что удивительно! О герметичной гондоле он писал за несколько десятков лет до того, как Огюст Пиккар, покоритель стратосферы, впервые построил такую гондолу. А спускаемый аппарат космического корабля, на котором возвращался на землю Юрий Гагарин? Та же идея. Идея герметичной кабины…
Седьмого августа 1887 года Менделеев добился разрешения вместе с пилотом и еще одним исследователем подняться на шаре для наблюдения полного солнечного затмения. Был серый дождливый день, все небо затянуто тучами, и шар, наполненный водородом, лениво натягивал тросы. К Менделееву подошел его ассистент В. Е. Тищенко и сказал: «Дмитрий Иванович, у аэростата нет подъемной силы. Я вижу, я знаю дело, лететь нельзя, уверяю вас, нельзя».
Менделеев ответил, и в этом ответе он был весь — и как ученый, и просто как человек: «Аэростат — это тоже физический прибор. Вы видите, сколько людей следит за полетом как за научным опытом. Я не могу подорвать у них веру в науку».
Вместе с пилотом Менделеев перелез через борт высокой корзины и сразу же понял: шар не поднимет даже двоих. И он немедленно решает лететь один. Подумать только: человек, никогда раньше не летавший на шаре, решается лететь в одиночку!
В полете он хладнокровен, все делает «по науке», а закончив все наблюдения, обнаруживает, что веревка, идущая от выпускного клапана, запуталась и не позволяет открыть его. Тогда Менделеев вылезает из корзины, взбирается по строповке и распутывает злополучную веревку…
С университетом Менделеев прощался в 1890 году, и это были тоскливейшие дни в его жизни. Уходил он не по своей воле — и тем тяжелее было это прощание. Он попал на студенческую сходку, стал убеждать всех разойтись, его не послушали, тогда он предложил студентам написать свои требования и пообещал донести это письмо до министра просвещения. Слово свое он сдержал и студенческую петицию вручил министру. А тот вскоре вернул письмо, сопровождаемое запиской, в которой не оставалось места двусмысленности: тот, кто состоит на службе его императорского величества, «не имеет права принимать подобные бумаги». Министр, видимо, не вполне отдавал себе отчет, к кому он обращал эти слова.
Менделеев не стал дожидаться, пока ему намекнут дважды. Он подал в отставку. Ректор университета прошение не принял. Тогда Менделеев просто взял и сунул в карман ректора сложенный вдвое бумажный лист.
Курс он дочитал до конца. Последнюю лекцию прочел великолепно, хотя, наверное, это ему дорого стоило. Аудитория его в тот день была заполнена, как никогда: прощаться с ним пришли студенты и других факультетов. Опасаясь волнений, в аудиторию направили отряд жандармов. Увидев их в зале, Менделеев опустился на стул и, положив свою большую голову на руки, беззвучно заплакал…
Но это далеко не конец. Он не сдался. Он еще много работал. Он изобретает новый, бездымный порох, который приобретает огромное значение для военного дела и рецепт которого по преступной небрежности самого же правительства уплывает в Америку. Менделеев предупреждал, что так может случиться — вот так и случилось. И в 1914 году русское военное ведомство купило у Штатов несколько тысяч тонн этого пороха. Американцы, получая золото от вступившей в войну России, не скрывали, что это «менделеевский порох».
Потом он становится ученым хранителем Депо образцовых мер и весов, ведет огромную работу по введению единой метрической системы, самолично определяет массу эталона фунта в граммах — с очень большой точностью — до шестого знака после нуля, да еще воюет с бюрократами, выбивая деньги на реконструкцию и расширение здания. Потом, видно, махнув рукой, замыслил хитрость: организовал посещение Палаты мер и весов его императорским высочеством и накануне его приезда велел вытащить из подвалов всякие ненужные приборы, ящики и разместить все прямо в коридорах, на дороге, чтобы создать тесноту. Руководил этой работой (по воспоминаниям его сотрудницы О. Озаровской) усердно: «Под ноги, под ноги! Чтобы переступать надо было! Ведь не поймут, что тесно, надо, чтобы спотыкались, тогда поймут!» И ведь блестяще добился, чего хотел! Деньги-то дали!
Вот такой он был выдумщик, увлекающийся и вместе с тем такой постоянный. Написал как-то, уже в старости: «Сам удивляюсь, чего только я не делывал на своей научной жизни». Да, талант многогранен. Гений — тем более…
Гений? Услышав однажды, как кто-то из его учеников произнес это вслух, рассердился всерьез, замахал руками и крикнул сварливо: «Какой там гений! Трудился всю жизнь, вот и гений…»
Нет, все-таки гений.
Александр Грэхем БЕЛЛ (1847–1922) — сблизивший людей и континенты

 В истории человечества, в общем-то, немного таких изобретений, которые люди сначала отвергают, а потом уже не представляют, как это можно было без них обходиться. Именно такую вещь — телефон — изобрел Александр Грэхем Белл. Его имя — бел — носит единица логарифмической относительной величины. Наш век — самый шумный век — таким его сделали машины, изобретенные человеком. Измеряют шум, вернее уровень громкости звука, в децибелах. Это десятая доля бела.
А человек он был цельный, честный и справедливый…
В истории человечества, в общем-то, немного таких изобретений, которые люди сначала отвергают, а потом уже не представляют, как это можно было без них обходиться. Именно такую вещь — телефон — изобрел Александр Грэхем Белл. Его имя — бел — носит единица логарифмической относительной величины. Наш век — самый шумный век — таким его сделали машины, изобретенные человеком. Измеряют шум, вернее уровень громкости звука, в децибелах. Это десятая доля бела.
А человек он был цельный, честный и справедливый…
Перед старым человеком с тонкими чертами лица и умными, проницательными глазами, сидевшим в глубоком кресле подле камина, стоял высокий, худой мальчик с прямыми черными волосами, оттенявшими глубокую бледность лица. Старый джентльмен не скрывал своего недовольства, потому что мальчик из рук вон плохо читал монолог Гамлета. Мальчик, впрочем, и сам это прекрасно понимал, и тонкие, нервные пальцы выдавали его волнение.
Старик не вытерпел, поднялся с кресла и хорошо поставленным голосом начал читать:
Быть или не быть — вот в чем вопрос;
Что благородней духом — покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством?
Мальчик слушал, широко раскрыв свои черные глаза, пораженный той глубиной, которая ему вдруг открылась в этих строках и о которой он еще минуту назад не догадывался.
Это были внук и дед. Александр Белл — так звали и того и другого. Один из них внес это имя в историю филологии Англии, другой внесет в историю физики.
Через пятнадцать лет Александр Белл-младший вновь будет читать монолог Гамлета — читать прекрасно, с большим чувством, но с таким же волнением. Он будет произносить бессмертные строки перед странным, довольно неуклюжим сооружением, которое только что изобрел и которое назвал — телефон. А на другом конце провода будет изумляться некая августейшая особа в окружении своей пышной свиты: «Какая это занимательная штука, этот ваш телефон, господин Белл!»
…Сначала телефон Белла был никому не нужен. Бизнесмены при виде изобретателя потуже держались за свои кошельки, полагая, что более невыгодного помещения капитала найти невозможно, а лихие газетчики предрекали, посмеиваясь, что единственным, кому телефон может понадобиться, это влюбленным, чтобы они могли шептать друг другу на ухо всякие нежности.
А потом вдруг все поняли, какую великую революцию в связи производит этот не слишком сложный прибор, но почему-то заслугу самого изобретателя еще довольно долго признавать не хотели.
Говорили, что и до Белла был изобретен телефон.
Говорили, что вот тот телефон, который все знают, изобрел Элиша Грей и что Белл пришел в Патентное бюро с заявкой на изобретение всего на два часа раньше Грея. Так что еще неизвестно, кто из них раньше сделал изобретение.
Говорили, что Белл никогда бы не изобрел телефон, если бы ему в руки, когда он еще жил в Англии, не попал аппарат Филиппа Рейса, который, кстати сказать, Рейс тоже называл телефоном.
Все это так. И не так.
Но давайте говорить обо всем по порядку. И начнем с того, что сделал Филипп Рейс.
Он родился в Гнельгаузене, маленьком немецком городе, в семье пекаря. Казалось, что его ждала та же участь, что и отца. Учился он в столь бедной школе, что по ряду предметов в ней не было преподавателей, и школьники постигали азы науки, читая друг другу учебники. Рейс выбрал себе географию и очень неплохо вошел в роль учителя.
А позже, когда ему исполнилось шестнадцать лет, он вдруг «заболел» телеграфом. Еще позже его привлекает устройство органов слуха, и он изобретает «аппарат, при помощи которого можно было ясно и наглядно демонстрировать принцип действия уха и переносить с помощью гальванического тока любые тоны на любое расстояние. Свой аппарат я назвал телефоном».
Рейс никогда не был известным изобретателем, но за этот аппарат, спустя одиннадцать лет после того, как он умер, в Гнельгаузене ему поставили памятник. И совершенно заслуженно, пусть его телефон сделан из старой, надтреснутой скрипки, вязальной спицы, гальванического элемента и пробки от бочки. Пусть сооружение это примитивно, внешне даже нелепо, но зато какая идея!
Когда Рейс старательно произносил отдельные слова, разделяя их на слоги, из корпуса старой скрипки неслись звуки, похожие на сильное скрежетание. Но вот ведь что самое поразительное: прислушавшись, в том скрежетании можно было узнать слова, которые произносил изобретатель. Рейс сделал свой телефон по образу и подобию уха, которое долго и тщательно изучал и которое, к счастью для себя, недостаточно хорошо изучил.
Сто десять лет назад, когда жил Филипп Рейс, ученые думали, что звуки, слышимые человеком, принимает барабанная перепонка и передает их на слуховой нерв, ведущий уже прямо в мозг. А на самом-то деле ухо оказалось во много раз более сложным и тонким прибором. Рейс сделал свой телефон по тому принципу, по которому, он думал, устроено ухо — и кое-что получилось, а знай он, сколь сложен орган, модель которого он взялся построить, то вряд ли ему удалось бы добиться успеха…
Тот редчайший в науке случай, когда незнание помогло найти правильный выход. А сама идея, конечно, отличная…
Знал ли Белл о телефоне Филиппа Рейса? Наверное, знал. Но вот ведь в чем дело: Белл-то изобрел совсем другой телефон! Это телефон, который стоит у нас на столе, который, словно общедоступная драгоценность, упрятан в стеклянный ларец уличной будки. Белл использовал только идею.
Теперь перенесемся из Европы в Америку и познакомимся с другим изобретателем по имени Элиша Грей. Тут уж вообще случилась история, которая сегодня нам может показаться просто забавной. Дело в том, что Грей никогда не изобретал телефона. Он только хотел изобрести телефон. По этому поводу он торопливо сочинил заявку и поспешил в Патентное бюро. Законы Америки позволяли американцам получить патент на то изобретение, которое они еще только собирались сделать.
В бюро же Грею сказали, что за два часа до его прихода поступила заявка от мистера Александра Белла на уже готовое изобретение. Кстати, сам Белл об этом не знал: без его согласия и без ведома заявку подал его будущий тесть. Грею оставалось только поздравить соперника, что он, впрочем, и сделал. А потом вдруг с Греем что-то случилось — то ли в нем заговорили тщеславие и самолюбие, то ли пробудилась дремавшая алчность — только он заявил публично, что изобрел телефон раньше Белла. И началась тяжба — долгая, жестокая и изнурительная.
Справедливость в ней победила. Выиграл Белл.
Был и еще один человек, который буквально кипел от злости, когда прочитал об изобретении Белла. Это известный американский изобретатель Мозес Фармер. Он потерял и сон и покой, казня себя за то, что не догадался изобрести телефон раньше Белла. Фармер заявил как-то: «Если бы Белл был чуть-чуть более сведущ в электричестве, он никогда бы не изобрел телефона», и, как ни странно, во многом был прав. Но он не учел, что и чистый специалист в электричестве вряд ли бы сумел изобрести телефон. Тут нужен был прежде всего специалист по акустике. Белл оказался именно таким человеком.
Отец Белла, профессор риторики, с малых лет пробудил в сыне любовь к науке. Эту любовь можно назвать семейной традицией Беллов. О деде мы уже говорили, отец же прославился тем, что изобрел «видимую речь» — систему особых знаков, с помощью которой можно было записать и потом прочесть любые слова на любом языке. Бернард Шоу позаимствовал «видимую речь» профессора Белла, когда работал над «Пигмалионом». Это благодаря работе ученого сорванец Элиза Дулиттл становится дамой высшего света, в совершенстве владеющей изысканной речью.
Вот в такой просвещенной семье рос будущий изобретатель.
Отец учил его и другой науке — науке жить. Он объяснял сыну, как это важно, когда человек с самых первых своих шагов стремится к самостоятельности, когда он ставит цель перед собой и, невзирая на препятствия, упорно к ней идет. Александр слушал отца, еще не зная, что избрать для себя делом всей жизни. Часто человек приходит к своему открытию нежданно, даже незаметно, но, сделав это открытие, уже никогда с ним не расстается.
В семнадцать лет он уже преподавал в академии ораторское искусство и музыку. Уроки отца не прошли даром: Александр Белл очень быстро становится самостоятельным человеком.
Когда отцу предложили кафедру в Штатах, в Бостонской школе для глухонемых, он послал вместо себя сына. В двадцать четыре года Белл-младший остался в далекой, чужой стране один. Он еще не знал, что испытает здесь самые радостные и самые тяжелые часы в своей жизни.
Белл был рожден изобретателем. Его мозг — быстрый, рациональный, остроумный мозг инженера, хотя Белл никогда не получал инженерного образования, помогал находить ему четкое, порой неожиданное решение сложной задачи. Он не умел жить, не имея перед собой поставленной цели, потому что иначе жизнь для него становилась лишенной всякого вкуса. Где-то он прочитал, что одна из крупнейших компаний обещала огромную премию изобретателю, который найдет способ одновременной передачи нескольких телеграмм по одному проводу.
Александр Белл никогда не считал себя специалистом, и потому попытку решить такую проблему можно было бы назвать безрассудностью, если бы он не был специалистом в другой области, как могло показаться, не имеющей ничего общего с первой. Белл-музыкант нашел оригинальнейший выход.
Он рассудил так: если возле рояля поставить несколько камертонов и ударить по какой-либо клавише, то тотчас отзовется камертон, настроенный на прозвучавшую ноту. От этой мысли он подошел к другой: почему бы не послать по проводу электрический ток с частотой колебания определенной музыкальной ноты? Тогда на другом конце провода зазвучит электромагнитный камертон, настроенный на эту ноту — «депешу». Но ведь можно послать по проводу сразу несколько таких «депеш» — с разной частотой колебания, и тогда приемник, разделив эти сигналы, заставит звучать сразу несколько камертонов. Вот и решение. Семь нот — это семь телеграмм.
На идее музыкального телеграфа Белла стоило хотя бы ненадолго остановиться, потому что, работая над этим изобретением, он сделал совершенно другое. Он изобрел телефон.
Однажды Белл и его молодой помощник Том Ватсон возились над приемным устройством. Что-то не ладилось. Ватсон вышел в соседнюю комнату, где стоял передатчик, и стал копаться в металлических пластинах, закрепленных на одном конце. Эти пластины начинали колебаться и издавать определенные звуки, когда по проводу проходила музыкальная «депеша». Ватсон уже терял терпение, потому что ему никак не удавалось вытащить свободный конец одной из пластин, застрявший в щели. Торопясь и злясь на непослушную пластину, Ватсон то и дело задевал руками другие пластины, издававшие слабые звуки. Неожиданно Белл услыхал, как зазвучал возле него приемник. Звуки были слабы и недолги, но он сразу понял, откуда они.
Возбужденный Белл буквально ворвался в комнату Ватсона и крикнул с порога: «Что вы сейчас делали? Ничего не меняйте!»
Случилось же вот что: застрявшая пластина сработала как мембрана. Белл замышлял свой телеграф так, что концы пластин, оставленные свободными, должны были замыкать и размыкать электрическую цепь. А застрявшая пластинка, едва начинала колебаться, вызывала ток в стоящем рядом электромагните. Но в том-то и разница между тем, что Белл хотел сделать, и тем, что получилось: телеграф должен был передавать прерывистые сигналы электрического тока, причем сигналы, обладающие одинаковой силой, а телефон требовал постоянного тока, сила которого менялась бы в точной зависимости от силы звука. Теперь Белл уже точно знал, каким будет его телефон.
Он весь погрузился в работу. Он молод, ему еще только двадцать восемь, он пылок, горяч, он может работать с утра и до позднего вечера. Здесь, в Бостоне, он встретился с молодой девушкой Майбл Хаббард — дочерью богатого адвоката. Она была очень несчастна — потому что в детстве, после болезни, перестала вдруг слышать, и ей казалось, что никогда и никто не сможет ее полюбить.
Александр Белл ее полюбил. И она тоже обратила внимание на этого высокого, стройного преподавателя с необыкновенно живыми глазами. Держался он скромно, хотя и уверенно. Этот молодой человек умел смеяться так, что не улыбнуться ему в ответ было уже невозможно, а если на него находила печаль, то казалось, что он переживает ее всем своим существом. Он был из тех людей, о которых говорят, что это тонкая, артистичная натура.
И еще он был очень горд, Александр Белл. Для опытов с телефоном ему нужны были деньги — еще предстояло многое сделать — путь от сверкнувшей идеи до ее воплощения в жизнь и долог и труден. Белл это понимал, но торопился — не потому, что боялся оказаться не первым или хотел получить скорее реальную выгоду — нет, он просто уже не мог спокойно, методично работать. Его подгонял властный, волнующий ветер открытий.
Белл не стал просить денег у родственников, он не обратился с этой просьбой и к отцу Мейбл — уж он-то мог бы дать сколько угодно, а предложил одному канадскому бизнесмену право делать с телефоном все, что тому заблагорассудится в течение полугода — и за самую ничтожную сумму.
А канадец не понял, какое великое изобретение попало ему в руки. Он просто не знал, что делать с этим аппаратом, позволяющим говорить с человеком, находящимся в другом здании. Говорить так, как будто он стоит рядом. Он не понимал, что нужно немедленно брать патент, а Белл, увлеченный работой и верный своему обещанию полгода не говорить о правах на сделанное изобретение, тем более был далек от всяких формальностей.
Эта беспечность могла Беллу дорого стоить. Гардинер Хаббард — отец Мейбл, деловой человек, считающий, что уж если изобретение сделано, то должен быть и патент на него, не испросив разрешения Белла, отправился с заявкой в бюро. Всего через два часа в Патентном бюро появился Элиша Грей — человек, который надумал изобрести телефон и который, несомненно, получил бы этот патент, выйди он из дома несколько раньше.
В Америке телефон признали не сразу. Летом 1876 года в Филадельфии на Выставке столетия мимо него прошли десятки тысяч людей, и лишь император Бразилии Педро Второй задержал шаг возле стенда, где стоял телефон, да и то потому только, что как-то раньше, во время поездки по школам Америки, обратил внимание на молодого преподавателя. Тут, впрочем, Белл не упустил счастливой возможности продемонстрировать изобретение в действии. И вскоре и сам император, и его пышная свита, позабыв о несносной жаре, сгрудились возле неказистого аппарата, из которого доносился голос Белла, читавшего «Гамлета». А потом все начали говорить друг с другом и даже петь, с нетерпением ожидая, когда освободится место у микрофона.
На изобретении Белла нажились многие. Когда телефон, наконец, оценили, когда поняли, что это не только отличное средство для общения между влюбленными, как писали поначалу газетчики, но что этот волшебный аппарат экономит всем время — тогда-то в Америке поднялся вокруг телефона бум.
Сначала пытались лишить Белла патента. Дельцы составили заговор, в который вошли сенаторы, конгрессмены и губернаторы — все, кто хотел загрести миллионы чужими руками. В той шайке был и генеральный прокурор — человек, задумавший организовать телефонную компанию и уже успевший вложить в нее, существующую лишь на бумаге целую кучу денег. Непонятно, даже удивительно, как Белл выстоял в этом неравном сражении.
Потом Томас Эдисон, знаменитый, напористый и самоуверенный американец, пытался выхватить пальму первенства. Одна из крупнейших компаний, еще недавно отвергнувшая крайне выгодное предложение Белла, спохватившись, поручает Эдисону изобрести… другой телефон.
Сам Белл как будто держится в стороне от всей этой шумихи, но его друзья и сторонники организовали свою компанию, прикрывшись адвокатским щитом тестя Белла и, видимо, памятуя о том, что лучшая защита — это атака, ринулись в ответное нападение на похитителей телефона. Правда, война кончилась мирно: обе компании объединились, и Белл в один миг стал богатым.
В это же время, но далеко от Америки, патент на телефон получил еще один человек. Это был некий Сименс, известный немецкий заводчик. Он быстро смекнул, что в Германии никто еще не патентовал телефон, и тут же подал заявку. Собственно говоря, он с трудом представлял, как телефон устроен…
На изобретении Белла многие толстосумы умножили свои капиталы.
А теперь телефон можно увидеть почти в каждом доме. Города и континенты, связанные телефонными кабелями, словно бы сблизились. Человек привык к телефону и теперь уже не мыслит жизнь без него. Очень уж быстро человек привыкает к тому, что еще недавно ему казалось несбыточным.
Белл свое дело сделал. Теперь он спокойно наблюдал, как тысячи изобретателей кинулись совершенствовать телефон, превращая его в детище многих умов и многих рук. Но первый-то аппарат все равно сделал Белл…
Он смотрел в будущее и ясно видел, каким путем пойдет его изобретение дальше. Он разработал план развития телефонной сети, предложил в каждом городе построить центральную станцию. Он предвидел все, что случилось с телефоном потом.
Когда-то, давным-давно, он мечтал построить летательный аппарат и подняться на нем. Телефон вытеснил эту мечту. Но зато он выдвинул Белла в ряд изобретателей, попавших в историю физики. Впрочем, в физике остался и бел с маленькой буквы — так в
память о нем и в память о его заслугах в акустике назвали логарифмическую единицу уровня громкости звука. Правда, вели чина эта оказалась очень большой, неудобной немного, и в практику вошел децибел — одна десятая бела.
Жизнь доживал он спокойно, в довольстве. Он ни в чем не нуждался и помогал молодым изобретателям, которые обращались к нему за помощью. Среди них был и Альберт Майкельсон. Друзья Белла рассказывали, что помогал он всегда щедро и с искренней радостью. Он помнил, как было трудно ему самому, и от своей неизлитой еще доброты старался облегчить участь других.
Особенных почестей ему как будто оказали немного. Гейдельбергский университет присудил ему почетную степень по медицине, французы наградили орденом Почетного легиона. Вот, кажется, и все.
Хотя нет. Французская академия присудила ему знаменитую премию Вольта. Только один человек до Белла сумел ее получить. Премия была огромной, и Белл основал на нее институт имени Вольта.
В этом институте родилось много открытий, составивших славу Америки, страны, которая так неприветливо встретила Белла и которая потом так стала гордиться им.
Альберт МАЙКЕЛЬСОН (1852–1931) — властитель точности

 Этот человек рожден был для того, чтобы стать великим экспериментатором. Хладнокровный, расчетливый, упорный, он мог ставить одну серию тончайших опытов за другой и был счастлив, когда находил у себя же ошибку: тогда у него появлялся повод еще раз поставить тот же эксперимент.
С точностью, поражающей и сейчас, он определил скорость света — сделал, казалось бы, невозможное. Этот опыт так и называют: опыт Майкельсона.
Этот человек рожден был для того, чтобы стать великим экспериментатором. Хладнокровный, расчетливый, упорный, он мог ставить одну серию тончайших опытов за другой и был счастлив, когда находил у себя же ошибку: тогда у него появлялся повод еще раз поставить тот же эксперимент.
С точностью, поражающей и сейчас, он определил скорость света — сделал, казалось бы, невозможное. Этот опыт так и называют: опыт Майкельсона.
Люди пунктуальные любят говорить с гордостью: точность — вежливость королей. Они говорят так, чтобы лишний раз подчеркнуть это свое достоинство, которое многие из нас в наш стремительный век растеряли. Впрочем, и короли, если с доверием относиться к хроникам, не грешили особой точностью, почти всегда на всякие торжественные церемонии они являлись чуть позже условленного часа.
Но пусть будет так, пусть действительно точность — это вежливость королей. И тогда физики — это короли вежливости. Ибо никто, пожалуй, как физик, не выверяет с такой точностью каждый свой шаг в науке. Они делают это не только ради установления истины, но и ради того, чтобы те, кто пойдет следом за ними, могли доверить себя тем результатам, которые получили идущие первыми.
Но и доверяя, они проверяют. Хотя бы потому, что новые приборы и новые методы позволяют добиться еще более высокой точности. А эта новая «уточненная точность» помогает продвинуться дальше, куда еще недавно путь был закрыт.
Вот почему особого уважения и удивления достойны те, кто сумел добиться результатов, не потерявших своего былого значения и своей былой точности спустя многие и многие десятилетия.
Все сказанное больше, чем к кому-либо другому, пожалуй, относится к Альберту Майкельсону, который почти сто лет назад с поразительной точностью измерил скорость света.
«Опыт Майкельсона» — так называется этот классический эксперимент. Это опыт, который человек ставил всю свою жизнь.
Но кто он такой, Альберт Майкельсон…
Родился он в Стрельно — маленьком польском городе. Отец его, как многие его соотечественники в те времена, не найдя счастья на родине, отправился искать его за океан. Альберту тогда было два года.
Отец попытался вначале осесть в Нью-Йорке и занялся там ювелирным делом, но дело пошло не так, как хотелось, да тут еще слухи о поистине золотой земле Калифорнии, куда в погоне за золотом устремились тысячи переселенцев. Сэмюэл Майкельсон вновь собирает вещи, закупает товар для будущей лавочки и отважно пускается в новое путешествие через весь континент.
Тогда путь в Калифорнию был долог и труден: либо на корабле пол года по морю, вокруг мыса Горн, либо в тряском фургоне по пустынным местам, где на путешественников нередко нападали бандиты. Сэм Майкельсон выбрал другой путь. До Панамского перешейка они плыли по морю, через перешеек ехали верхом на мулах и в телегах, а потом вдоль побережья плыли на стареньком паруснике. Это было путешествие, полное настоящих приключений, но маленький Майкельсон запомнил лишь большой, пахнущий старой смолой корабль с туго натянутыми парусами.
На прииске, неподалеку от лагеря Мэрфи, того самого Мэрфи, о котором писали Марк Твен и Брет Гарт, Сэм Майкельсон открыл свою галантерейную лавочку, такую же, какая была у него когда-то на родине, в Польше.
Золотоискатели — суровые люди, но один из них полюбил кареглазого мальчишку с иссиня-черными волосами и научил его играть на скрипке. Альберт учился прилежно и был потом благодарен этому человеку всю жизнь: скрипка помогала скрасить ему одиночество, она приносила радость, она успокаивала.
Отец в Калифорнии не разбогател. Золотые жилы захирели, а вскоре и вовсе иссякли. Прииски опустели, и Майкельсоны, нажившие за эти годы лишь шестерых детей, отправились в Вирджиния-Сити — город, в котором работал никому не известный газетный репортер по имени Сэмюэл Клеменс и которого узнает чуть позже весь мир. Узнает под именем Марка Твена.
В школе Альберт учился хорошо, но преуспевал лишь в математике, а больше, кажется, его ничто особенно не интересовало. Мать надеялась, что сын, когда вырастет, станет врачом, отец же во время разговоров о будущем сына больше молчал: он думал о том, что за учение в университете надо платить, а платить было нечем. Видно, Сэм Майкельсон не слишком удачно избрал свой жизненный путь…
Альберт выбрал Морскую академию. Нет, его не привлекала романтика моря и в будущем он не видел себя блестящим морским офицером, но в этой академии платят стипендию, проезд до Аннаполиса — города, где она находилась, тоже оплачивался, ну а главное все же — академия открывала дорогу в науку. Альберт Майкельсон, а было ему тогда семнадцать лет, уже знал, что ступит на эту дорогу.
Но получилось это не сразу. На штат Невада, где обосновались Майкельсоны, академия предоставила всего одно место и досталось оно не Альберту. Тогда он собирается и едет один в Вашингтон, чтобы просить самого президента Штатов предоставить ему возможность поступить в академию.
Мальчик узнал, что рано утром, в один и тот же час, президент Грант выводит гулять свою любимую собаку и, набравшись смелости, обращается к президенту. Уже в старости Майкельсон с улыбкой вспоминал, как обещал президенту, что тот сможет гордиться им, если он сумеет поступить в академию.
Самое удивительное не то, что президент выслушал мальчика и предоставил ему одно из вакантных мест, которые сам распределял, а то, что этот мальчик сдержал свое обещание. Он стал выдающимся физиком-экспериментатором, он стал первым американцем, который получил премию Нобеля. Он стал гордостью и славой Америки.
В академии Майкельсон учился средне: ряд предметов его не интересовал — такие, как история и словесность, и по ним он был одним из последних. Зато по динамике и математике считался вторым, а по оптике и акустике он, бесспорно, был лучшим. Директор академии, в недавнем прошлом морской офицер, сказал ему как-то: «Если вы будете уделять поменьше времени всем этим естественным наукам, а побольше артиллерийскому делу, то, может быть, когда-нибудь вы и окажетесь полезным вашей родине». По счастью, Альберт Майкельсон не последовал совету наставника.
Четыре года в академии… Что о них можно сказать? Майкельсон всегда вспоминал о них с грустью, как вспоминают обычно что-то дорогое, что безжалостно смыли вечно бегущие волны времени. Он много занимался спортом, играл в теннис, фехтовал и боксировал. Говорят, он был чемпионом академии среди легковесов-боксеров. Однажды ему это пригодилось. Майкельсона назначили командиром какого-то отделения, и один из подчиненных, некий Фиске, сказал, что ему не понравился тон, каким Майкельсон стал командовать. На драку собралось много народа, но боя, по существу, не было: первая перчатка академии так за минуту отделала противника, что тот восемь дней пролежал в лазарете. Фиске стал потом известным адмиралом, но, кажется, не без гордости рассказывал о столь плачевном для него поединке.
В академию поступило восемьдесят шесть человек, окончило всего двадцать девять. Среди них был и Альберт Майкельсон.
А потом он плавал два года на военном корабле, дослужился до младшего лейтенанта и, когда истек срок обязательной службы, получил приглашение в академию, на кафедру физики и химии. Несколько раньше, когда его корабль заходил в Англию, у могилы Диккенса он встретился с девушкой, с которой обменялся всего-то двумя-тремя фразами и сразу расстался и которая тем не менее ему очень понравилась. Нежданно-негаданно он увидел ее в Америке, она оказалась дальней родственницей одного из преподавателей академии, увидел и больше не захотел потерять.
Альберт Майкельсон и Маргарет Хэминуэй поженились, когда ему было двадцать пять лет, а ей — восемнадцать. Это была красивая и счастливая пара.
Тогда он еще ничего не сделал в науке. А всего через полтора года о нем писали газеты, его имя уже гремело. «Нью-Йорк тайме», одна из самых больших газет в Америке, оповещала: «На научном горизонте Америки появилась новая яркая звезда. Младший лейтенант морской службы, выпускник Морской академии в Аннаполисе Альберт Майкельсон, которому нет еще двадцати семи лет, добился выдающегося успеха в области оптики: он измерил скорость света».
Почему именно он? Ведь и до него были исследователи, которых влекла эта задача — поймать неуловимое, измерить вечно ускользающее. Датчанин Рёмер, французы Фуко и Физо — они первыми измерили скорость света, и порядок их измерений был достаточно точен, а в учебниках физики описывается «опыт Майкельсона». Почему?..
Да потому, что, во-первых, нужно было быть именно Майкельсоном — ревнителем точности, чтобы поставить столь тонкий, изысканный эксперимент и получить ошеломляюще точный, точный до скрупулезности результат. И, во-вторых, нужно было обладать таким характером, как у Майкельсона, чтобы в течение многих десятилетий уточнять этот результат от опыта к опыту и довести его до такого совершенства, что и сейчас, спустя почти сто лет, он остается, в общем, незыблемым.
Ему во многом помогло то редчайшее соответствие между характером и задачей, которую он перед собой поставил. А как он нашел эту задачу, задачу всей своей жизни? Быть может, ответ кроется в его же словах: «То, что скорость света является категорией, недоступной человеческому воображению, и что, с другой стороны, ее возможно измерить с необыкновенной точностью, делает ее определение одной из самых увлекательных проблем, с которыми может столкнуться исследователь».
Вот в чем дело. Его манила сама трудность задачи. Есть такие люди, которым тем интереснее жить и работать, чем больше им попадается трудностей. В борьбе с этими трудностями они проверяют себя, свою силу и прочность характера. И жизнь для них тогда становится наполненной особым, волнительным смыслом. Майкельсон был одним из этих людей.
То, что он сделал, помогло связать в единую цепь предсказания Максвелла и достижения физиков, которые работали после него. И так уж сложилось, Альберт Майкельсон открыл дорогу Альберту Эйнштейну.
Незадолго до смерти Максвелл сказал, что вряд ли человеку когда-нибудь удастся «измерить скорость света по времени, которое ему требуется, чтобы пройти расстояние между двумя точками на поверхности Земли». Максвелл очень хотел бы это сделать, потому что, проделав эти же измерения в обратном направлении, удалось бы определить и скорость движения эфира.
Максвелл ошибался, думая, что сделать это невозможно. И Майкельсон блестяще доказал это. Он же, Альберт Майкельсон, развенчал и низложил теорию эфира, которая царила в физике со времен Христиана Гюйгенса. В самом деле, что такое свет? Звук — это понятно: волны, упругие колебания среды, в которой он возникает и распространяется. Но тогда вполне возможно, рассуждал Гюйгенс, и со светом происходит нечто похожее, хотя и значительно более сложное. Звук в пустоте умирает — это он знал, свет не теряет силы. Значит, что-то передает все-таки и в пустоте световые волны? Но что?
Гюйгенс ответил: эфир. Некое вещество, которое всюду. Возможно, к этой мысли его подтолкнул Аристотель, написавший слова, посеявшие смуту в умах физиков на много столетий вперед: «Земля окружена водой, вода — воздухом, воздух — эфиром. Дальше нет ничего». И как это оказалось удобно — верить в этот эфир! Все просто, и все объясняется!
А тут еще Ньютон, укрепивший и усовершенствовавший теорию эфира. И она стала такой же неоспоримой и сама собой разумеющейся, как и утверждение о том, что человек дышит воздухом. Нужно было обладать огромной решимостью, чтобы посягнуть на столь прочную крепость эфирной теории. Нужна была еще смелость и уверенность в собственных силах.
Это сделал тот человек, который еще мальчишкой преградил дорогу президенту своей страны и имел смелость пообещать, что президент будет гордиться км.
Это сделал Альберт Майкельсон. Но самое удивительное здесь то, что он совершил открытие, не помышляя об этом.
…Говорят, Майкельсон по ночам думал над опытом. Над опытом, который бы доказал, что да, эфир существует либо он — плод гениальной фантазии.
Это был замечательный опыт. Если эфир существует, размышлял Майкельсон, то он должен так же влиять на распространение света, как течение реки на пловца. Всякий пловец знает, что гораздо легче переплыть реку поперек и вернуться обратно, нежели проплыть то же расстояние вдоль реки и вернуться. Если эфир существует, подумал экспериментатор, то он должен или ускорять, или замедлять движение света.
Теперь решить все должен был опыт.
Майкельсон готовит его долго, тщательно, изобретает тончайший инструмент, который теперь так и называют «интерферометр Майкельсона», превзошедший в точности все существовавшие ранее такие приборы. Все, что Майкельсон делал, всегда оказывалось самым точным.
И вот эксперимент. Физик напряженно всматривается в показания приборов и не верит себе: ничто не мешает свету распространяться во всех направлениях! Где он, этот эфир? Впрочем, может быть, Земля, летя по орбите вокруг Солнца, увлекает эфир за собой и этим объясняется, почему интерферометр не отметил изменения в скорости света?
А может, эфира нет вовсе? Тогда результат опыта — отрицательный результат — объясняется как нельзя лучше… Но нет. Майкельсон об этом еще не думает. Так все просто, что невозможно поверить…
Но в одном он уверен: «Гипотеза неподвижного эфира ошибочна». Он верил в свой прибор, в свои измерения, в себя, наконец, и потому опубликовал этот вывод в научном журнале.
Как-то он встретился с профессором химии Эдвардом Морли — тоже большим любителем точности. Встретил и подружился с ним. Морли доставляло удовольствие получить лишний знак после запятой. В своих измерениях он стремился к абсолюту точности. Двадцать лет он исследовал содержание кислорода и водорода в чистой воде и определил его с точностью до пятого знака. Наверное, Майкельсон увидел в Морли самого себя. Такому человеку он, пожалуй, мог бы довериться.
А когда они были рядом, никто, наверное, не мог бы предположить, что у этих столь непохожих внешне людей может быть много общего. Майкельсон и в зрелом возрасте не расставался со спортом, отлично играл в теннис, был строен и энергичен. Быстрый, но проницательный взгляд обличал в нем человека решительного, которому чужды минутные колебания и который готов действовать в любое мгновение. Одет Майкельсон всегда был с иголочки и не терпел в костюме малейшей неряшливости.
А Морли… Морли внешне был его антиподом. Одевался он кое-как, и видно было, что мешковатый костюм его отнюдь не смущает. Майкельсон всегда был подстрижен и гладко причесан и лишь под левым виском у него топорщились непокорные волосы, а Морли, кажется, и вовсе не стригся и предпочитал носить шевелюру до плеч. Огромные, торчащие, цвета чищеной меди усы дополняли портрет ближайшего друга и верного соратника Майкельсона. Эти двое и поставили последнюю точку над «и» в спорах вокруг эфира. Именно потому, что они были столь разные и столь похожие.
Вдвоем они сконструировали новый чуткий прибор. Сделан он был необычайно тщательно, чтобы исключить все возможные помехи во время эксперимента. Потом серия опытов. И снова — прежний, майкельсоновский результат: эфир по-прежнему неуловим. Майкельсон настолько был уверен, что на этот раз он все-таки изловит эфир, что новый сверхточный интерферометр обязательно обнаружит изменения в скорости света — и вот опять то же самое… Он чувствует себя просто растерянным.
И снова он публикует свой отрицательный результат, впервые доказывая, что скорость света не зависит от движения Земли, что это величина постоянная. Что свет, как быстро ни мчаться за ним, догнать невозможно: он все время будет убегать со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Именно с такой скоростью, какую предсказал Джемс Клерк Максвелл.
Майкельсон не нашел то, за чем охотился все эти долгие годы, и результат его тончайших экспериментов был, как говорят физики, отрицательным, но, по выражению Джона Бернала, выдающегося физика двадцатого века, это был «величайший из всех отрицательных результатов в истории науки». Теперь на фундаменте, который заложил Альберт Майкельсон, Эйнштейн мог начинать строительство своей теории относительности.
А он сам, этот человек, для которого весь мир заключен в любимой науке, еще не понимает, что сделал. Рассказывая об этом эксперименте, он заявил как-то: «На мой взгляд, эксперимент не прошел впустую, поскольку поиски разрешения этой проблемы привели к изобретению интерферометра». Вот так. Интерферометр, и больше ничего.
А Эйнштейн? Он всегда говорил о том, что опыт Майкельсона оказал огромное влияние на его работу и что он многим обязан этому странноватому американцу, для которого главное в жизни — эксперимент и который так никогда и не понял его теорию относительности.
Он вообще никогда не мыслил глобальными категориями. Его стихия — эксперимент, здесь он — король точности, гений ошеломляюще простого решения. А если нужно было отступить один шаг, чтобы окинуть взглядом здание новой идеи или теории — это ему если и удавалось, то далеко не всегда. Однажды он спросил одного известного астронома, в чем суть новой теории звезд Эддингтона. Тот ответил: в том, что звездное вещество может быть сжатым до плотности, большей плотности воды в тридцать тысяч раз. Майкельсон переспросил: «То есть превосходящей плотность свинца?» Выслушал подтверждение и убежденно добавил: «Тогда в этой теории что-то не так».
Может показаться, что измерение скорости света было для Майкельсона нечто вроде навязчивой идеи. Но это не совсем так. После изобретения интерферометра он проделал совершенно иную работу. Только за одну эту работу он достоин того, чтобы его поставили в ряд великих экспериментаторов.
Ясно, чем ему не понравился метр — единица длины и ее эталон: весьма приблизительной точностью. Что такое метр? Одна сорокамиллионная доля парижского меридиана. А весь-то меридиан никто не мог измерить с достаточной точностью. Во всяком случае, с такой точностью, которая могла бы удовлетворить Майкельсона. Тем не менее эталон метра — стержень из сплава платины и иридия изготовили и упрятали в глубокий подвал, где старательно следили за постоянной температурой и неизменным давлением. Столько забот ради сомнительной точности…
Майкельсон подумал о том, что есть в природе иной эталон — вечный и неизменный. Надо только как следует его поискать и скрупулезно измерить. Но путь ясен: ничто в нашем мире не обладает таким постоянством, как длина волны света. Монохроматического света, имеющего определенную длину волны. И он нашел такой эталон и измерил так, как, кроме него, наверное, никто не мог бы измерить. Новый эталон — это 1553163,5 длины волны красного кадмия. Такая длина волны в точности соответствует тому драгоценному стержню, над которым трясутся хранители Палаты мер и весов. Этот эталон вечен и точен, как… Не с чем сравнить эту точность.
И мир принял эталон Майкельсона.
Нет, он не был исследователем ограниченным, с шорами на глазах, не дающими увидеть ничего, что находится по обе стороны дороги, им избранной. Однажды он написал исследование под названием, которое как-то совсем не вязалось с тем, что привыкли ждать от него: «О металлической окраске птиц и насекомых». Работу сопровождали великолепные иллюстрации автора.
И этот труд нельзя считать случайным. Майкельсон решил проверить — не обязаны ли бабочки, жуки и колибри своей пестротой особому отражению света. И убедился: да, это так, происходит явление, очень похожее на то, когда свет, отражаясь от тонких металлических поверхностей, рождает яркое буйство красок.
В сущности, это была его очередная работа по оптике. А что касается рисунков насекомых и птиц, то тех, кто его знал, и это не могло удивить: он всегда отлично рисовал акварелью, и, если приходило вдруг вдохновение, часами пропадал в ущелье или на море. Пейзажи его нравились многим и как-то раз выставлялись на выставке. Его и самого уговорили прийти на открытие, и он послонялся немного, чувствуя себя не у дел, а вскоре ушел, жалея о потерянном времени.
Этот человек дорого заплатил за свою страсть к науке. Семейная жизнь, хоть и тянулась вот уже двадцать лет, все не ладилась — жена не могла понять, как это он не может найти времени ни для нее, ни для детей. А он и дома был мыслями в лаборатории.
Они расстались, прожив вместе двадцать лет, а еще лет через тридцать, уже будучи второй раз женат, он вдруг сообразил, как было трудно его жене Маргарет Хэминуэй с ним, и стал просить о прощении.
Но, кажется, и с Эдной Стентон он не был счастлив.
В семьдесят лет Майкельсон возвращается к тому, с чего начал. Ему кажется, что его самые первые измерения, поражавшие всех своей точностью, на самом деле недостаточно точны.
Он едет в Калифорнию, куда жизненный ветер занес когда-то энергичного галантерейщика из Польши — его отца — и где он сам еще малышом стал впервые познавать мир. Он решил уточнить здесь ответ на одну из самых увлекательных загадок природы.
В Калифорнии, на горе Сан-Антонио, на высоте около шести километров, он ставит одну установку и другую — на горе Маунт-Вильсон, на расстоянии тридцати пяти километров. Многие ночи подряд узкий луч света прорезывал непроглядную темень, отражаясь от зеркала на горе Сан-Антонио, и попадал на вращающуюся призму на горе Маунт-Вильсон. Три года почти каждую ночь — опыт за опытом…
Он получил средний результат скорости света — 299 798 километров в секунду.
Ну вот, кажется, и можно поставить точку в конце жизненного пути, где пусть было не все так гладко, зато целеустремленно и где, в общем-то, он жил так, как хотел. Кажется, можно позволить себе удалиться от дел, отдавая все свое время прогулкам с мольбертом — или по берегу моря, от которого пахнет вечностью, или в горах, где человек невольно размышляет о смысле собственной жизни.
Но нет: Майкельсон задумывает свой новый опыт. Он хочет сделать расстояние между зеркалами как можно больше. Опять ему не нравится точность.
Во время последнего опыта ему часто мешали туман и дым: в Калифорнии горели леса, и физик хочет избавиться от всех этих помех и пропустить световой луч через вакуум. Тогда уже никто не скажет, что атмосфера влияет на опыт.
Для эксперимента сделали гигантскую трубу — диаметром около метра и длиной в полтора километра. Из нее выкачали воздух — одна только эта работа отняла несколько суток. Никогда прежде скорость света не измерялась в почти полном вакууме. Полтора года, сотни вычислений…
А Майкельсона на площадке, где ставили опыт, не было. Он только что перенес кровоизлияние в мозг и руководил экспериментом лежа в постели. Потом он как будто поправился, во всяком случае, ему показалось, что он чувствует себя значительно лучше, начал вставать и даже приехал на конференцию, на которой присутствовал доктор Эйнштейн.
На банкете в его честь Эйнштейн обратился к старому, скромно сидящему среди других Майкельсону: «Вы, уважаемый доктор Майкельсон, начали свои исследования, когда я был еще мальчишкой. Вы открыли физикам новые пути и своими замечательными экспериментами проложили дорогу для теории относительности… Без вашей работы эта теория была бы и поныне лишь интересным предположением, она получила первое реальное подтверждение в ваших опытах».
Те, кто видел Майкельсона в эту минуту, вспоминают, что он был очень взволнован…
Игорь КУРЧАТОВ (1903–1960) — человек, который успевал делать все

 Многие поколения людей строили величественные храмы науки.
Менделеев открыл периодический закон, построил систему элементов, другие шаг за шагом стали заполнять в ней пустые места, закрашивать белые пятна на карте континента под названием «химия».
На этой карте появилось много славных имен, воплощенных в названиях элементов. Среди них — менделевий, курчатовий…
Игорь Курчатов был физиком. Но есть ли та железная грань, разделяющая эти две древние науки! В этой таблице они стоят рядом — химики и физики, объединенные общей целью и тем, что каждый из них сделал в науке.
Многие поколения людей строили величественные храмы науки.
Менделеев открыл периодический закон, построил систему элементов, другие шаг за шагом стали заполнять в ней пустые места, закрашивать белые пятна на карте континента под названием «химия».
На этой карте появилось много славных имен, воплощенных в названиях элементов. Среди них — менделевий, курчатовий…
Игорь Курчатов был физиком. Но есть ли та железная грань, разделяющая эти две древние науки! В этой таблице они стоят рядом — химики и физики, объединенные общей целью и тем, что каждый из них сделал в науке.
Не каждому поколению удается застать рождение новой науки, увидеть ее расцвет и торжество. Не каждого ученого судьба награждает редкой привилегией — положить первые кирпичи в фундамент новой науки и потом возвести кровлю над ее стройным зданием. Так уж складывается жизнь человека — трудно успеть сделать все, что хочется. Не хватает времени, сил, упорства, везения — всего того, из чего в конечном счете слагается в науке успех. Конечно, при условии, что у человека есть главное — дар быть ученым.
Про Курчатова можно сказать, что он успел сделать все. Все из того, что наметил. Но, конечно же, отпусти ему жизнь еще хоть толику времени, он сделал бы больше.
Отец его был лесничим, да и родился он, можно сказать, в лесу: глухой уральский лес со всех сторон окружал небольшой поселок в Уфимской губернии. Ему было девять лет, когда он впервые увидел море — семья переехала в Симферополь, — увидел и полюбил его на всю жизнь.
Вместе с братом — свой жизненный путь они прошли рядом, плечом к плечу — они любили стоять у кромки прибоя, глядя на корабли, возникавшие словно видения на горизонте и растворявшиеся безмолвно, медленно, как уходящий мираж, оставляя за собой легкий шлейф дыма. Провожая их взглядом, мальчишки выдумывали всякие истории, которые приключались с этими кораблями, воображали свирепых пиратов, преследующих их по пятам. Эти двое мальчишек, двое мечтателей станут потом физиками.
Игоря всегда тянуло делать что-то своими руками. Он учился в гимназии, но и отцу помогать успевал — семья жила небогато. Его взяли в мастерскую, где вырезали из дерева мундштуки. Он очень скоро постиг таинства этого изящного мастерства. Потом он решил научиться слесарить и научился. У него как-то рано проявилось это в характере: он всегда сам ставил себе цель и всегда добивался ее.
Книг в доме Курчатовых было немного — денег для них не оставалось, и Игорь смог купить себе только одну. Ее автор — итальянский ученый. Называлась она «Успехи современной техники». Казалось бы, мальчишка с таким пылким воображением и склонностью погружаться в мечты должен был купить себе Дюма, Купера или Майн Рида, а он выбрал эту. Нет, сам по себе малозначительный шаг — подумаешь, первая книга — не был случайным. Игорь Курчатов еще в гимназии задумал стать инженером. А пока же его едва-едва не забрали в армию Врангеля: спасло лишь то обстоятельство, что родители в свое время не спешили зарегистрировать сына, когда он родился. Прошло тогда дней десять, не менее, наступил Новый год, и в паспорт вписали новую дату. Этот год и решил все: Врангелю пришлось обойтись без Курчатова.
Старший Курчатов окончил гимназию с золотой медалью. Медаль, правда, он и в глаза не увидел: шел двадцатый год, с золотом в стране небогато было, и, конечно, в Симферополе золотой медали просто-напросто не оказалось.
И вот он уже в Таврическом университете. Время тяжелое — война. Не всегда было вдоволь хлеба, не всегда можно было купить пару ботинок. Как-то раз будущий академик сам сшил себе постолы из шкуры быка — кусок грубой кожи обернул вокруг стопы, а края сверху стянул узким сыромятным шнурком. Наверное, не слишком красиво вышло, но не в этом, как говорится, счастье.
Тогда трудно было всем, зато перед Игорем и его друзьями стояла ясная цель — они учились и ради этого готовы были стерпеть все. Что из того, если заниматься вечерами приходится при скудном свете коптилки и если брови и волосы чернеют от копоти? Мелочи жизни! Надо думать только о главном.
Это было трудное и все-таки счастливое время. Потому что самые первые шаги в науке, когда открытия, открытия для себя, делаются каждый день и чуть ли не каждый час, как еще это можно назвать?
Можно считать, что студентам, которые в те годы учились в Таврическом, здорово повезло: ректором университета был академик В. И. Вернадский, из Петрограда приезжал читать лекции сам «папа» Иоффе, да и среди постоянных преподавателей тоже встречались имена известные, звучные. Многие из них уже оценили способности Игоря Курчатова, но мог ли тогда подумать академик Абрам Федорович Иоффе, что вот этот худой черноглазый юноша с волосами, торчащими ежиком, станет его любимым учеником и возглавит наступление на новом, ставшем вдруг самым главным участке физики. И, конечно, Игорь Курчатов об этом тоже не думал.
Он не думал тогда, да и не мог думать, что именно физика станет делом всей его жизни и что в ней откроется для него мир, манящий, поразительно многообразный, что ему предстоит войти в этот мир в числе самых первых и начать строительство с нуля, на пустом месте.
Что было главным в его жизни в то время? Учеба, работа. Он ходил на лекции и работал препаратором на кафедре физики — готовил опыты, приводил в порядок приборы. Он успевал поработать и дома — в огороде, потому что знал: огород будет кормить семью зимой. Работал и на стройке, и грузчиком в автоколонне — в общем, везде, где только представлялась возможность поддержать чем-то семью.
Конечно, ему было трудно. Но так уж устроена жизнь- трудности закаляют характер. Сильный человек, преодолевая преграды, быстрее находит себя.
Игорь кончил университет, но не кончил учиться. Дорога привела его в Петроград, в политехнический институт. И вот он в городе, о котором столько слышал, столько знал, но никогда еще не видел. Пораженный величием города, Курчатов ходит по улицам, останавливается, подолгу стоит перед соборами, потом идет в порт.
Он поступает на кораблестроительный факультет. Через много лет жизнь снова столкнет его с флотом — тогда он будет уже известным физиком, но пока он с жаром вникает в науку корабелов, полагая, что это то самое дело, которое для него станет главным.
Но проучился он менее года: его отчислили. Нет, он и здесь был в числе лучших студентов, просто в институте решили, что если у человека уже есть один диплом, то второй ему ни к чему. Мест в студенческих аудиториях не хватало, а желающих занять эти места более чем предостаточно. Молодой республике так нужны были инженерные кадры…
Как бы то ни было, будущего академика окончательно и бесповоротно отчислили. Впрочем, те немногие месяцы для него не стали потерянным временем. Случилось так, что именно в то время судьба привела его к той ветви науки, которую он уже навсегда изберет для себя.
В Петрограде Игорь искал работу, которая хотя бы как-то смыкалась с его интересами. И не нашел. Тогда кто-то из преподавателей посоветовал ему съездить в Павловск — там есть магнитометеорологическая обсерватория. Может, там что подвернется…
До Павловска дорога неблизка: проехал в оба конца — и считай день потерянным. Но Курчатов поехал. Рискнул — и не прогадал.
Руководитель обсерватории профессор В. Н. Оболенский почти сразу же дал тему этому настойчивому юноше из Симферополя. Курчатов с блеском провел исследование и в том же году сумел даже опубликовать свой отчет — свою первую научную работу. Она называлась «К вопросу о радиоактивности снега».
Нащупал-таки Курчатов свою золотую жилу!
Он шел по ней, продвигаясь вперед хотя и медленно, но уверенно. Временами даже терял ее, но всегда возвращался. Наверное, можно считать, что он наткнулся на нее совершенно случайно — посоветовали и поехал, больше ничего не оставалось делать, и вот, наткнулся. Повезло. Но это не так. Потому что в то время он, возможно даже не отдавая себе отчета, искал. Искал самого себя, ожидая смутно то волнение, которое приходит всегда, когда человек находит, наконец, что-то для себя очень важное.
Потом он работал в экспедиции в Феодосии, куда его взял профессор Н. Н. Калитин — старший физик обсерватории — и куда Курчатов ехал «зайцем» на товарняке, спрятавшись в корпусе мины. В Феодосии ему работать нравилось: он чувствовал себя полностью самостоятельным, все время в море, все время гидрологические исследования. Понадобился новый прибор для определения мутности воды, Игорь сделал его. Затем два серьезных исследования: математический анализ приливов Черного моря и изучение стоячих волн в море. Теперь он уже иными глазами смотрел на море. Он уж не тот мальчишка, который, глядя в синий простор вслед кораблям, воображал кровожадных пиратов. Теперь он смотрит на море глазами ученого.
Потом еще один небольшой шаг в сторону: профессор С. Н. Усатый, любимый преподаватель Игоря в университете, переезжает в Баку и приглашает с собою нескольких своих лучших учеников. Среди них, конечно, и Игорь. В Баку он стал ассистентом Усатого, получил твердый оклад и впервые в жизни купил новый костюм, шляпу и, как тогда полагалось, галстук-бабочку. Ему шел тогда всего двадцать первый год, и, право же, он давно мечтал об этом костюме.
И вот дорога поисков, проб и ошибок вновь привела его в Ленинград — город, в который он стремился и от которого все время чего-то ждал.
В Ленинграде он попадает в знаменитый «физтех» — в дружную физическую семью «папы» Иоффе. Здесь он вырос и стал физиком.
Прощаясь с друзьями в Баку, Курчатов сказал: «Учитесь на инженеров, а мы пойдем в физику!» Наверное, он уже почувствовал, решил для себя окончательно, что вот где-то здесь, совсем близко, лежит то, что так часто мы именуем призванием.
Физико-технический институт стал для Курчатова той школой, где выковался его характер и где он обрел себя как ученый. Вокруг Иоффе собралось в те годы много талантливых молодых людей, и каждый из них учился его отношению к науке, его взглядам на место и долг ученого. Весь этот «физический» молодняк часто называли «детским садом», но работать они умели и все, как один, рвались за порог неизведанного.
Курчатов с самого начала своей жизни в науке приучил себя внимательно изучать опыт предшественников. Это необходимо, если ты не хочешь повторить ошибки, уже сделанные другими, если ты хочешь найти тот единственно правильный ход, который кто-то уже пытался найти до тебя. Курчатов понял сразу: иначе в науке трудно пробиться вперед. Другое дело, что надо критически осмыслить весь собранный опыт — и это становится его вторым обязательным правилом. Впрочем, его «доверяя — проверяй» он относил и к себе самому. К своей собственной работе он всегда относился еще более критически — качество, совершенно необходимое для экспериментатора.
Это нелегко, это отнимает много времени, сил — ведь так не просто заставить себя проделать еще и еще раз опыт, в котором как будто и так все ясно. Зато результат однозначен, ему можно верить, и от него можно двигаться дальше.
Была в школе Иоффе и еще одна традиция: результат каждой работы обязательно обсуждают все.
«Папа» Иоффе записал как-то свои соображения по поводу первой работы Курчатова: «Уже в первой этой задаче появилась одна из типичных черт Игоря Васильевича — подмечать противоречие и аномалии и выяснять их прямыми опытами». Иоффе видел, что Курчатов обещает вырасти в серьезного ученого.
Так что же, теперь у него все текло гладко, спокойно, и кропотливое усердие, как стальной щит, закрыло его от ошибок и неудач? Нет, была тогда, в первые годы в физике, одна неудача. Но она стоила ему многих других неудач. Не каждый, наверное, смог бы найти в себе силы спокойно встретить свое поражение и тут же с жаром погрузиться в другую работу. А Курчатов нашел. Возможно, потому, что понимал: в науке не может все время везти. В науке ошибиться проще, чем в обыденной жизни, но зато и этот отрицательный результат — тоже результат. Так случилось с его работой по исследованию диэлектриков в сильных электрических полях, когда, казалось, все так отлично сходилось и впереди вырастала чрезвычайно заманчивая перспектива. А потом все рухнуло и оказалось, что надежды напрасны и тщетны. Так случилось и с другой его работой, которой он вместе с товарищем отдавался весь, не щадя ни времени, ни сил, когда он экспериментировал, облучая нейтронами бром из смеси двух изотопов, и когда вопреки ожидаемому вдруг оказалось, что, судя по всему, удалось обнаружить новый элемент. Они боялись поверить себе — ставили снова опыт за опытом и всякий раз убеждались, что не ошиблись, и, когда сами в это уже были готовы поверить, выясняется: нет, это не новый, неизвестный ранее элемент. Это всего-навсего еще один радиоактивный изотоп брома. Третий изотоп. Так что бить в литавры пока не придется…
Но и успех здесь тоже был: в ходе этих «неудачных» экспериментов удалось показать, что свойства ядра атома зависят не только от количества частиц, как до сих пор предполагалось, но и от самой структуры ядра. Ядра атомов с одним и тем же количеством протонов и нейтронов Курчатов предложил назвать изомерами, а само явление — ядерной изомерией. Теперь это классика. Теперь об этом явлении пишут в учебниках.
Однажды Иоффе вызвал Курчатова. Войдя к нему в кабинет и увидев выражение лица академика, Курчатов понял, что речь пойдет не о работе. Иоффе сказал, что есть возможность поехать в длительную командировку в Англию, в прославленный Кембридж, и что в эту поездку предлагается кандидатура Курчатова. А он в это время был увлечен исследованием кристаллов сегнетовой соли, помещенных в электрическое поле, и все тут казалось ему заманчивым необыкновенно.
Иоффе ждал, испытующе глядя на Курчатова, но тот ответил, что не поедет, что сейчас он вплотную занялся сегнетовой солью. У него есть неотложное дело, так что уж пусть едет кто-нибудь другой.
Иоффе убеждал, уговаривал ехать, доказывая, что, возможно, такого случая и не представится больше, но Курчатов был тверд.
Он приехал в Кембридж через двадцать шесть лет, будучи уже ученым с мировым именем, как академик, возглавивший ядерные исследования в Советском Союзе. Английские журналисты, увидев наконец мифического Курчатова с экзотической бородой, развевающейся по ветру, следили буквально за каждым его шагом, ловили буквально каждое слово. Все это уже нужно было истории.
То «увлечение», ради которого Курчатов отказался от поездки в Кембридж, претерпев чудесные превращения, выросло в новую ветвь на могучем древе физики. Курчатов фактически создал новую область науки, имеющую огромное практическое значение. Пройдет еще много лет, и «папа» Иоффе скажет с гордостью, вспоминая те далекие дни, когда и сам был еще не старик, и лучшие его ученики еще оставались почти что мальчишками: «…Самый выдающийся результат в учении о диэлектриках — это сегнетоэлектрики Курчатова и Кобеко». Кобеко — химик, с которым Курчатов работал вместе. Позже он стал известным ученым, членом-корреспондентом Академии наук.
Те, кто работал с Курчатовым, говорили о том, сколь сильна у него была интуиция. Совершенно непонятным образом, каким-то шестым чувством он угадывал, в каком направлении стоит вести исследования, какой путь выведет потом в необъятные дали вдруг распахнувшегося горизонта науки. Вполне возможно, что именно эта интуиция подтолкнула его к той «двери», за которой таились секреты атомных ядер.
К этой двери в те годы стремились еще немногие, но зато они пробили первые бреши. Английский физик Д. Чадвик открывает престраннейшую частицу, вовсе не несущую электрического заряда, и называет ее нейтроном. Сразу же наш Иваненко, из того же физтеха, предлагает протонно-нейтронную модель ядра атома. Резерфорд, почти за пятнадцать лет до этого открывший излучение протонов при бомбардировке ядрами азота альфа-частицами, теперь находит: реакция между ядрами водорода может идти при значительно меньших скоростях альфа-частиц, чем он сам недавно еще предполагал.
Это было волнующее время, насыщенное трепетом от только что сделанных открытий, когда физики уже ощущали, что они совершают нечто чрезвычайно важное, что пока еще они сами не могут ни взвесить, ни оценить.
Но… Новая наука требовала не только новых идей, нового образа мышления и новых методов. Нужны были и новые инструменты, без которых проникнуть за ту дверь таинств было совсем невозможно. У нас тогда еще не хватало главного из тех инструментов — ускорителя.
Физики, отложив на время теорию, принялись строить первую высоковольтную установку и первый ускоритель протонов. Курчатов вместе со всеми своими товарищами участвует в этом строительстве. И вот уже первая работа, первый результат — расщепление ядер бора и лития. Теперь-то всерьез можно было браться за дело.
Курчатов очень интересовался в то время реакцией взаимодействия ядер атомов с нейтронами. Много тогда было поставлено опытов, кое-что прояснилось, но больше еще предстояло узнать. Да, активность мишени зависит в основном от действия замедленных нейтронов — опыты убедили в этом, но как бы нащупать «ту сферу притяжения» ядра, попадая в которую нейтрон уже не вырвется и неизбежно будет захвачен ядром? Расчеты Курчатова помогли определить эту «сферу» — сечение захвата. А потом вдруг нечто странное: при конкретной, совершенно четко ограниченной скорости нейтронов их поглощение в веществе резко увеличивалось. Это
наблюдение Курчатов сделал вместе с Л. А. Арцимовичем.
Явление, которое стали называть «резонансным поглощением», породило жесточайшие споры. И больше всех спорили авторы открытия: Арцимович доказывал, что сам факт существования резонансного поглощения нельзя считать бесспорным и окончательным, а Курчатов настаивал, что наблюдаемое ими явление не случайность, а закономерность. Как вспоминает академик А. И. Алиханов, «обычно спор кончался на том, что „противники“ приходили к соглашению: провести еще один решающий опыт». Они были очень требовательны к себе, потому что оба прекрасно понимали: речь идет о крупном открытии.
Но их ждало жестокое разочарование: в разгар споров — «быть или не быть» — вдруг появляется сообщение Ферми об открытии… резонансного поглощения нейтронов! Оказывается, он тоже шел параллельным курсом, но «застолбил» открытие раньше. Что ж, в науке так тоже бывает…
Они были тогда молоды, а молодости свойствен оптимизм, и в своей неудаче, даже скорее оплошности, увидели зерно положительного: значит, они стоят на верном пути. Очень скоро они смогли доказать это — открыли захват нейтрона протоном и впервые точно высчитали площадь сечения захвата.
Нет, в науке ничто не делается зря. Путь в ней может быть ошибочным, но никогда напрасным.
Курчатов работает много, устремленно, и нет в его жизни большего увлечения, чем работа, и нет ничего, что могло бы доставить такую же радость, какую доставляет работа.
Он обладал редкой способностью переключаться на отдых. И в те часы или даже минуты, когда отдыхал, делал это с такой же страстью и увлечением, как и работал. Если он уходит в поход, то не возвращается, пока не почувствует приятную тяжесть сильной усталости. Если играет в теннис, то тоже до пятого пота. Он очень любил пинг-понг и, рассказывают, часто носил в кармане пиджака маленький целлулоидный шарик. Он мог под утро заявиться с работы — еще горячий и возбужденный, поднять жену и уговорить ее сыграть пару партий. Просто так, для разрядки. Зато потом, когда выльется все напряжение, скопившееся за длинный тяжелый день, как хорошо спится потом…
Может быть, вот в этом умении сбросить с себя всю усталость, отключиться, заставить себя не думать о деле и кроется секрет Курчатова: многие из тех, кто его знал, просто не понимали, как это он успевал делать все. Все, за что только ни брался. В тридцать три года он был уже и профессором, и заведующим кафедрой физики. Профессором — потому что его вклад в науку был заметным, весомым, и заведующим — потому что редкий организаторский дар сделал его великолепным руководителем.
Когда строили циклотрон, Курчатов вникал в каждую мелочь, вернее, так: мелочей здесь для него не было. Жена его, Марина Дмитриевна, вспоминала такой эпизод. Однажды они возвращались домой на последнем трамвае. Курчатов долго смотрел в окно, потом резко поднялся и сказал, что им надо сойти. Оказывается, где-то возле забора он увидел бочки из-под цемента, а ему позарез нужно было достать цемент. Не поленился, обошел забор, нашел вывеску, прочитал название конторы, где умели «добывать» цемент, и на следующий день действительно разжился цементом. Ну а в тот вечер возвращаться пришлось, конечно, пешком.
Циклотрон тогда не построили — ворвалась война.
Физики всегда остаются физиками. Группу ученых из физтеха направили в Севастополь — искать новые, надежные методы размагничивания военных кораблей. В этой группе был и Курчатов. Немецкие магнитные мины доставляли много хлопот нашим судам, поэтому задача, которую поставили перед физиками, требовала решения, безукоризненно четкого и быстрого. Даже безотлагательного.
Они нашли такой метод — и ни один корабль не выходил больше из порта, не пройдя у физиков магнитную профилактику. Курчатов и здесь делал все сам: выверял и настраивал приборы, размагничивал уходящие на боевое задание корабли. Был случай, когда его во время работы на подводной лодке застал налет и лодка погрузилась, чтобы отлежаться на дне. Курчатов выпросил, чтобы ему разрешили смотреть в перископ, уже когда лодка всплыла, и напряженно следил, как наши зенитки бьют по самолетам с крестами. А после отбоя физики продолжали работать.
Из Севастополя его перевели на Кавказ, и судно, на котором он плыл, атаковал немецкий корабль: выпустил пару торпед, но промахнулся. Что, впрочем, не помешало немцам объявить корабль потопленным. Об этом Курчатов узнал уже в Поти. На Кавказе они вновь испытали свой метод защиты кораблей, наладили дело так, что их помощь уже стала не нужной. Курчатова посылают в Казань, где впервые за долгие месяцы он смог увидеть жену, брата, товарищей, которых не видел бог знает сколько… Здесь, вдали от бомбежек и воя портовой сирены, дающей сигнал о налете, напряженно трудился физтех. Курчатов хотел сразу включиться в работу, но буквально в первый день после приезда тяжело заболел. Это был тиф.
Поправлялся он медленно и тяжело. Вероятно, сказалась еще и усталость, которая копилась все эти долгие месяцы. Во время болезни у него отросла большая черная борода, он не захотел расстаться с ней и оставил ее уже навсегда. С тех пор его так и стали звать — Борода.
А потом перед ним открылась другая дорога. Он первым вышел на нее и уже не сворачивал до конца жизни. Он собрал всех своих друзей-физиков и начал исследования на ином фронте науки, на том, который в то время был крайне нужен стране.
Еще недавно о ядерных исследованиях за границей писали часто и много, и каждый, даже маленький, шаг вперед тотчас становился известным. Так и должно быть в науке: успех в ней слагается из усилий, вложенных многими. Ученый должен знать, каким путем движется его коллега, работающий на таком же участке, и чего он добился — тогда можно уже не повторять пройденный путь.
И вдруг — полная тишина. Ни слова о том, что делается в ядерных исследованиях за рубежом. Как будто все исследования прекратились разом, везде. Курчатов, академики А. И. Алиханов, Г. Н. Флеров, И. С. Панасюк и П. Л. Капица поняли, что это произошло не случайно, что немцы и американцы взялись всерьез за создание атомного оружия. Все то немногое, что они знали, говорило об этом. Они отлично понимали, что у нас в стране надо начинать такую работу, и начинать немедленно.
Курчатов стал организовывать новый институт, новые лаборатории. Только люди вокруг него были те, с кем он привык работать. Им предстояло встать в авангарде новой науки.
И вновь циклотрон. Вновь хлопоты — где взять медь и латунь, где раздобыть мощный электромагнит: страна воевала, и все силы ее были отданы фронту. Просто поразительно, что в те тяжелейшие годы они построили свой циклотрон и в 1944 году впервые в Европе получили на нем пучок дейтронов. Эта работа открыла прямой путь к созданию ядерного оружия в нашей стране. И не только оружия. Если удастся овладеть цепной реакцией и накопить плутоний, выделяющийся во время нее, то удастся проторить дорогу не только к взрывной реакции, но и к управляемой тоже.
Наш первый атомный реактор — первый в Европе — был запущен «в шесть часов вечера после войны» — 25 декабря 1946 года. Прошло три года с этого дня — и изумленный мир услышал о том, что для советских ученых секрета атомного оружия тоже не существует.
Сообщение об этом произвело эффект потрясающий. В 1945 году правительство США собрало своих крупнейших атомщиков с единственной целью — выслушать их мнение о том, когда СССР сможет сделать атомную бомбу. Р. Оппенгеймер, Э. Ферми, Э. Лоуренс и их коллеги уверили, нисколько не сомневаясь в своем ясновидении: не раньше чем через 10 лет. Центральное разведуправление Штатов дало другой прогноз: атомное оружие Советский Союз сможет создать через 15–20 лет. Но еще в сентябре 1949 года президент США Трумэн вынужден был произнести: «У нас есть доказательства, что недавно в СССР произведен атомный взрыв».
У президента действительно были весьма веские доказательства для столь категоричного заявления: американские летчики взяли на большой высоте пробы воздуха и первый же радиохимический анализ дал четкую и ясную картину, в которой не было места двусмысленности: в воздухе содержались осколки ядер плутония. Советы испытали свою первую бомбу. В Советском Союзе воздвигнут атомный щит.
Прогнозы американских ученых, предсказания специалистов из разведуправления — все пошло прахом! Потому что есть такие вещи, которые не поддаются прогнозам. Это то, что создается волей, талантом, то, во имя чего тратятся бессонные ночи, проведенные в лабораториях, то, что заставляет людей забыть обо всем, кроме работы, и вот ведь странное дело — чувствовать себя от этого только счастливыми!
Все эти годы Курчатов работал, не зная отдыха. В сорок девятом году ему кто-то напомнил, что последний раз в отпуске он был еще до войны. Он не мог жить иначе, потому что считал: время для отдыха еще не пришло. И он понимал: он сам — это живой пример для всех, кто работал с ним рядом. Вот почему он не задумываясь первым вошел в радиоактивную зону реактора, когда увидел, что рабочие, хотя им и сказали, что они защищены, еще колебались войти. Вот почему он не мог позволить себе отдыхать, Он имел моральное право быть столь же требовательным и к другим.
А здоровье его неисчерпаемым не было. Один инсульт, потом второй… И ведь никогда раньше сердце его не подводило…
Небольшой домик, где жил Курчатов, находился прямо на территории института, но врачи запретили и думать о деле. Он убеждал, доказывал, что не может быть рядом и ничего не знать о том, что делается в лабораториях. Уверял, что нет для него лучше лекарства, чем добрые вести из института, и добился-таки, чтобы хоть к телефону его допустили.
Потом он, кажется, выправился — снова с жаром работал и отдыхал в любимом Крыму — часто купался, любил заплыть подальше от берега. Наверное, вспомнил тогда, как двое мальчишек давным-давно сидели у этого лазурного моря, мечтая о чем-то несбыточном. И наверное, вспомнив, улыбнулся своей тихой улыбкой: жизнь оказалась сложней, интересней.
Однажды темным январским утром собрался ехать в Барвиху, где лежал в больнице его старый товарищ. Жена встала в девять, а его уже не было. Она не знала, что больше его не увидит живым.
Он долго не возвращался, потом стук в дверь, на пороге — лечащий врач. Марина Дмитриевна, едва взглянув на врача, сразу поняла: с ним что-то случилось. В больнице ей сказали, что его больше нет…
Он умер мгновенно, почти на ходу, едва опустившись на запорошенную снегом скамейку в прозрачном больничном саду.
Но все, что он сделал, осталось.
Сделал он поразительно много, хотя прожил, в общем-то, не длинную жизнь. Что такое пятьдесят семь лет… Ему бы еще лет десять… Нет, двадцать. Нет, ему все равно было бы мало.
Он не открыл разве что нового элемента. Это сделали его ученики и друзья — те, кто шел вместе с ним. Они назвали сто четвертый элемент его именем. Теперь курчатовий навсегда занял свое место в таблице.
Это память о человеке, который очень много сделал для физики.
Это памятник Физику.


Оглавление
Исаак НЬЮТОН (1643–1727) — один из рода человеческого
Алессандро ВОЛЬТА (1745–1827) — первым познавший вкус электричества
Андре Мари АМПЕР (1775–1836) — великий и обделенный счастьем
Майкл ФАРАДЕЙ (1791–1867) — этот поразительный лондонец
Пафнутий ЧЕБЫШЕВ (1821–1894) — острый, могучий ум
Александр БУТЛЕРОВ (1828–1886) — строитель химии
Джемс Клерк МАКСВЕЛЛ (1831–1879) — его уравнения физики и уравнения жизни
Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ (1834–1907) — умеющий видеть сквозь время
Александр Грэхем БЕЛЛ (1847–1922) — сблизивший людей и континенты
Альберт МАЙКЕЛЬСОН (1852–1931) — властитель точности
Игорь КУРЧАТОВ (1903–1960) — человек, который успевал делать все



 Вольт, ампер, фарада, менделевий, курчатовий… Как часто встречаемся мы с этими понятиями. Встречаемся, иногда не задумываясь, что за каждым из них стоит человек. Сохранивши в себе память о людях, имена эти вошли в таблицы как наименования различных физических величин, именами их названы теории, гипотезы, формулы, эксперименты, которые стали классическими.
Об этих людях рассказывает книга.
Вольт, ампер, фарада, менделевий, курчатовий… Как часто встречаемся мы с этими понятиями. Встречаемся, иногда не задумываясь, что за каждым из них стоит человек. Сохранивши в себе память о людях, имена эти вошли в таблицы как наименования различных физических величин, именами их названы теории, гипотезы, формулы, эксперименты, которые стали классическими.
Об этих людях рассказывает книга.

 Ньютон — имя человека, который вывел и сформулировал закон всемирного тяготения, который открыл, что свет — это волны; который построил удивительнейшие телескопы. Без этого имени нет физики.
А когда это имя пишут с маленькой буквы, оно становится названием единицы измерения силы в абсолютной системе механических единиц: это сила, сообщающая массе в один килограмм ускорение в один метр в секунду за секунду.
Будь возможность измерить силу человеческого гения, ее тоже можно было бы назвать ньютоном.
Ньютон — имя человека, который вывел и сформулировал закон всемирного тяготения, который открыл, что свет — это волны; который построил удивительнейшие телескопы. Без этого имени нет физики.
А когда это имя пишут с маленькой буквы, оно становится названием единицы измерения силы в абсолютной системе механических единиц: это сила, сообщающая массе в один килограмм ускорение в один метр в секунду за секунду.
Будь возможность измерить силу человеческого гения, ее тоже можно было бы назвать ньютоном.

 Он приступил к изучению электрических явлений в те времена, когда все связанное с ними считали проявлением колдовства, когда исследователей, осмелившихся посягнуть на тайны этих явлений, считали вступившими в заговор с дьяволом.
Вольта — великий мудрец и великий изобретатель, вышел на бой с невежеством, подняв забрало.
Его имя первым стали писать с маленькой буквы: вольт — единица напряжения. Напряжения, которое в проводнике, имеющем сопротивление в один ом, производит ток силой в один ампер.
Пожалуй, ничье имя мы так часто не произносим в нашей повседневной жизни.
Он приступил к изучению электрических явлений в те времена, когда все связанное с ними считали проявлением колдовства, когда исследователей, осмелившихся посягнуть на тайны этих явлений, считали вступившими в заговор с дьяволом.
Вольта — великий мудрец и великий изобретатель, вышел на бой с невежеством, подняв забрало.
Его имя первым стали писать с маленькой буквы: вольт — единица напряжения. Напряжения, которое в проводнике, имеющем сопротивление в один ом, производит ток силой в один ампер.
Пожалуй, ничье имя мы так часто не произносим в нашей повседневной жизни.

 По существу, это с него, Ампера — физика, химика и математика, — началась наука об электричестве. Он основал эту науку, ввел в нее термины и наименования, сохранившиеся до нашего времени. Наверное, теперь уже они навсегда сохранятся. Как навсегда сохранится ампер — вечный ему памятник, название, которое на языке всех народов звучит одинаково.
Ампер. Сила неизменяющегося электрического тока, который, проходя через водный раствор азотнокислого серебра, отлагает за одну секунду 1,118 миллиграмма серебра.
Ампер. Скромный, почти незаметный при жизни титан. И очень несчастный человек.
По существу, это с него, Ампера — физика, химика и математика, — началась наука об электричестве. Он основал эту науку, ввел в нее термины и наименования, сохранившиеся до нашего времени. Наверное, теперь уже они навсегда сохранятся. Как навсегда сохранится ампер — вечный ему памятник, название, которое на языке всех народов звучит одинаково.
Ампер. Сила неизменяющегося электрического тока, который, проходя через водный раствор азотнокислого серебра, отлагает за одну секунду 1,118 миллиграмма серебра.
Ампер. Скромный, почти незаметный при жизни титан. И очень несчастный человек.
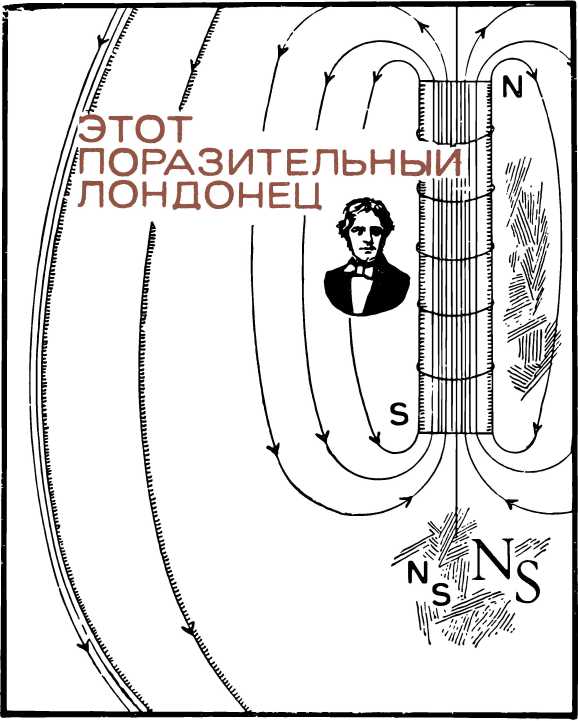
 Он родился позже Кулона, Ампера и Вольта — родился, когда они уже сделали все, что им предназначалось судьбой.
Ему предстояло двигаться дальше и глубже — в мир, где на каждом шагу ждало неизвестное.
Его звали Майкл Фарадей. Его именем нарекли единицу электрической емкости.
Фарада, кулон, вольт… Так они оказались рядом — Шарль Кулон, Алессандро Вольта и Майкл Фарадей. Так они стали звеньями единой, прочной цепи. Фарадею предстояло нарастить в ней новые звенья.
Он родился позже Кулона, Ампера и Вольта — родился, когда они уже сделали все, что им предназначалось судьбой.
Ему предстояло двигаться дальше и глубже — в мир, где на каждом шагу ждало неизвестное.
Его звали Майкл Фарадей. Его именем нарекли единицу электрической емкости.
Фарада, кулон, вольт… Так они оказались рядом — Шарль Кулон, Алессандро Вольта и Майкл Фарадей. Так они стали звеньями единой, прочной цепи. Фарадею предстояло нарастить в ней новые звенья.

 Россия подарила миру нескольких выдающихся математиков. Каждый из них — это событие, явление в науке. Чебышев — это эпоха. Пожалуй, немногие из великих жрецов математики сумели столь прочно связать эту абстрактную науку с реальностью, с практикой…
В работе он был неутомим. Она сделалась для него всем смыслом жизни. Она была его любовью, заботой, счастьем.
Он умер, а в математике навсегда остались «закон Чебышева», «теорема Чебышева», «формула Чебышева». Он отдал свою жизнь математике, и она навечно сохранит память о нем.
Россия подарила миру нескольких выдающихся математиков. Каждый из них — это событие, явление в науке. Чебышев — это эпоха. Пожалуй, немногие из великих жрецов математики сумели столь прочно связать эту абстрактную науку с реальностью, с практикой…
В работе он был неутомим. Она сделалась для него всем смыслом жизни. Она была его любовью, заботой, счастьем.
Он умер, а в математике навсегда остались «закон Чебышева», «теорема Чебышева», «формула Чебышева». Он отдал свою жизнь математике, и она навечно сохранит память о нем.

 Он вышел из Казанского университета — школы великих русских химиков. Ему не было еще тридцати лет, когда он основал новую теорию, совершившую переворот в химии. Стоя перед ведущими химиками Европы, этот молодой русский говорил о том, что ему удалось увидеть и что многие из столпов химии мечтали увидеть и понять прежде — о связях между атомами внутри молекулы, о том, как возникают эти связи.
Потом некоторые пытались оспорить его открытие, и Бутлеров убежденно, с достоинством защищался. Он боролся за славу русской науки.
Его именем называют теорию в химии.
Он вышел из Казанского университета — школы великих русских химиков. Ему не было еще тридцати лет, когда он основал новую теорию, совершившую переворот в химии. Стоя перед ведущими химиками Европы, этот молодой русский говорил о том, что ему удалось увидеть и что многие из столпов химии мечтали увидеть и понять прежде — о связях между атомами внутри молекулы, о том, как возникают эти связи.
Потом некоторые пытались оспорить его открытие, и Бутлеров убежденно, с достоинством защищался. Он боролся за славу русской науки.
Его именем называют теорию в химии.

 Вот наследство, которое этот человек нам оставил: уравнение Максвелла, правило Максвелла, ток Максвелла, теория Максвелла. Просто максвелл — единица измерения магнитного потока. При изменении потока на один максвелл в секунду в контуре индуктируется электродвижущая сила, равная одной стомиллионной доле вольта.
Так далеко — через всю Европу, через десятилетия протянулась нить от Алессандро Вольта к Джемсу Клерку Максвеллу. Потом она потянется еще дальше и глубже. Максвелл был великим ученым и человеком сильной воли. Что бы он успел сделать еще, подари ему судьба хотя бы лет десять жизни…
Вот наследство, которое этот человек нам оставил: уравнение Максвелла, правило Максвелла, ток Максвелла, теория Максвелла. Просто максвелл — единица измерения магнитного потока. При изменении потока на один максвелл в секунду в контуре индуктируется электродвижущая сила, равная одной стомиллионной доле вольта.
Так далеко — через всю Европу, через десятилетия протянулась нить от Алессандро Вольта к Джемсу Клерку Максвеллу. Потом она потянется еще дальше и глубже. Максвелл был великим ученым и человеком сильной воли. Что бы он успел сделать еще, подари ему судьба хотя бы лет десять жизни…

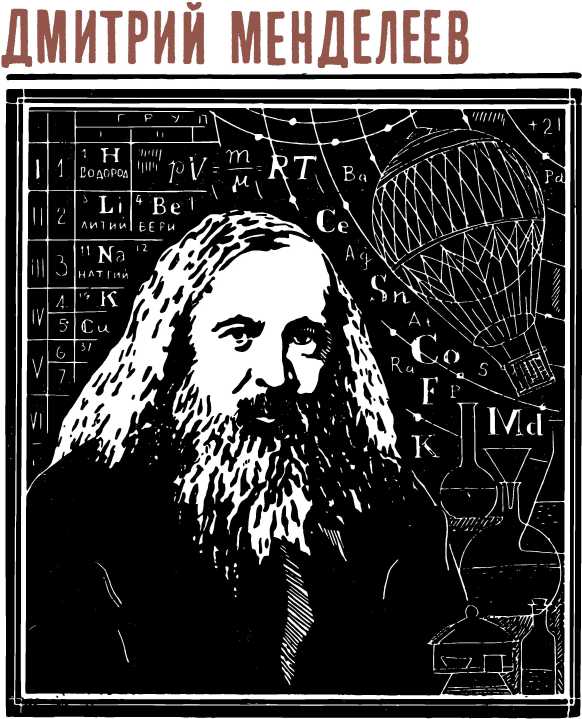 Сколько химиков до него пыталось привести в систему все многообразие элементов, которые создали удивительный мир вокруг человека и которые составляют самое его существо…
Сколько людей поставили ради этого на карту свою жизнь. Многие понимали, чувствовали, что должна быть такая система — закон природы, стремились открыть его — и напрасно. Он построил ее один — периодическую систему элементов. Систему элементов Д. И. Менделеева.
Сколько химиков до него пыталось привести в систему все многообразие элементов, которые создали удивительный мир вокруг человека и которые составляют самое его существо…
Сколько людей поставили ради этого на карту свою жизнь. Многие понимали, чувствовали, что должна быть такая система — закон природы, стремились открыть его — и напрасно. Он построил ее один — периодическую систему элементов. Систему элементов Д. И. Менделеева.

 В истории человечества, в общем-то, немного таких изобретений, которые люди сначала отвергают, а потом уже не представляют, как это можно было без них обходиться. Именно такую вещь — телефон — изобрел Александр Грэхем Белл. Его имя — бел — носит единица логарифмической относительной величины. Наш век — самый шумный век — таким его сделали машины, изобретенные человеком. Измеряют шум, вернее уровень громкости звука, в децибелах. Это десятая доля бела.
А человек он был цельный, честный и справедливый…
В истории человечества, в общем-то, немного таких изобретений, которые люди сначала отвергают, а потом уже не представляют, как это можно было без них обходиться. Именно такую вещь — телефон — изобрел Александр Грэхем Белл. Его имя — бел — носит единица логарифмической относительной величины. Наш век — самый шумный век — таким его сделали машины, изобретенные человеком. Измеряют шум, вернее уровень громкости звука, в децибелах. Это десятая доля бела.
А человек он был цельный, честный и справедливый…

 Этот человек рожден был для того, чтобы стать великим экспериментатором. Хладнокровный, расчетливый, упорный, он мог ставить одну серию тончайших опытов за другой и был счастлив, когда находил у себя же ошибку: тогда у него появлялся повод еще раз поставить тот же эксперимент.
С точностью, поражающей и сейчас, он определил скорость света — сделал, казалось бы, невозможное. Этот опыт так и называют: опыт Майкельсона.
Этот человек рожден был для того, чтобы стать великим экспериментатором. Хладнокровный, расчетливый, упорный, он мог ставить одну серию тончайших опытов за другой и был счастлив, когда находил у себя же ошибку: тогда у него появлялся повод еще раз поставить тот же эксперимент.
С точностью, поражающей и сейчас, он определил скорость света — сделал, казалось бы, невозможное. Этот опыт так и называют: опыт Майкельсона.

 Многие поколения людей строили величественные храмы науки.
Менделеев открыл периодический закон, построил систему элементов, другие шаг за шагом стали заполнять в ней пустые места, закрашивать белые пятна на карте континента под названием «химия».
На этой карте появилось много славных имен, воплощенных в названиях элементов. Среди них — менделевий, курчатовий…
Игорь Курчатов был физиком. Но есть ли та железная грань, разделяющая эти две древние науки! В этой таблице они стоят рядом — химики и физики, объединенные общей целью и тем, что каждый из них сделал в науке.
Многие поколения людей строили величественные храмы науки.
Менделеев открыл периодический закон, построил систему элементов, другие шаг за шагом стали заполнять в ней пустые места, закрашивать белые пятна на карте континента под названием «химия».
На этой карте появилось много славных имен, воплощенных в названиях элементов. Среди них — менделевий, курчатовий…
Игорь Курчатов был физиком. Но есть ли та железная грань, разделяющая эти две древние науки! В этой таблице они стоят рядом — химики и физики, объединенные общей целью и тем, что каждый из них сделал в науке.

