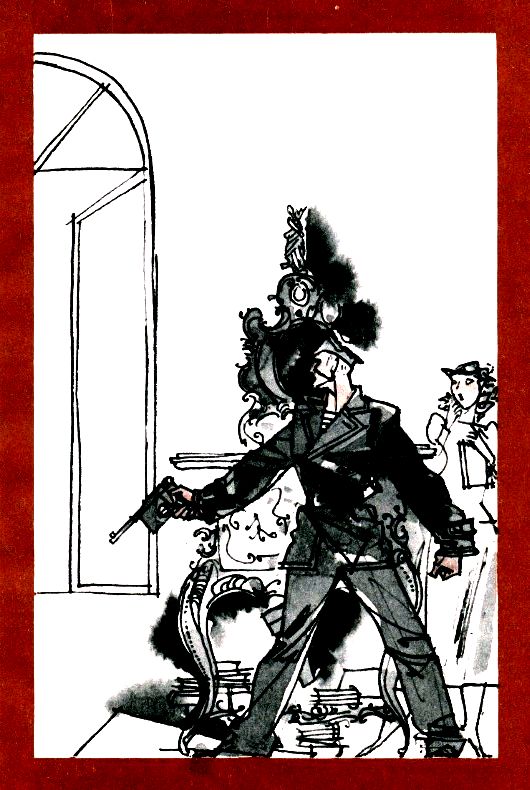Михаил Иванович Демиденко
Сын балтийца



СЫН БАЛТИЙЦА
Глава 1 «ВОЛЧЬЯ СОТНЯ»
1
Бабье лето 1919 года выдалось долгим и теплым. Семья бывшего балтийского моряка Сергея Ивановича Сидорихина занимала флигель купца Хихина по ордеру губисполкома. Под Каменным мостом в тенистых яблоневых и вишневых садах рассыпались деревянные домики с мезонинами воронежских скототорговцев, купцов, чиновников средней руки и богатых мещан. Среда не пролетарская, черносотенная, не признавшая Советской власти. Сидорихин, в кожаной куртке, полосатой тельняшке и с маузером на боку, вызывал у затаившейся контры лютую и глухую ненависть, и если они не расправились в темноте тихих переулков с ним и не пробили гирькой голову его жене, так только потому, что боялись: матрос служил начальником отдела губчека, к девятнадцатому году контра отлично усвоила, что с ЧК шутки плохи, если потребуется, со дна моря достанут. Ну а сыну моряка приходилось драться. Пацанье споры родителей решало на кулаках. Доставалось Ванятке с походом, бывало, и он с дружками из Народной школы гоняли, как голубей, сынков «буржуев недобитых»; бои шли, как говорится, с переменным успехом.
Жена матроса, Полина Гавриловна, работала экономкой в Училище для слепых. Женщина она была видная, с голубыми глазами и длинными густыми русыми косами. Сергей Иванович сносил не одну пару казенных штиблет, прежде чем дочка минера из Кронштадта дала ему согласие на вечную любовь. Поля знала французский, английский, была намного начитанней мужа, могла сойти и за «благородную», разве только руки выдавали ее происхождение: с детства Полина росла без матери, рано познала труд, стирала, гладила на господ, была и модисткой, шила в «Салоне» мадам Клико шляпки с вуалью, модные перед первой мировой. Были руки с короткими рабочими ногтями, трещинками на подушечках и припухшими венами. Золотые руки! Они умели все, только не смогли научиться почему-то топить по-черному кизяками русскую печь.
Революция застала Сергея Ивановича в Архангельске, куда его за участие в Кронштадтском восстании сослали по решению царского трибунала в штрафной экипаж. Поля с сыном подалась следом. Хлебнула горя выше головы, спасибо, помогали подпольщики. Иначе молодая женщина не выдержала бы испытаний, зачахла или вернулась бы домой, к отцу в Кронштадт, а не ютилась по углам в Соломбале.
Сын пошел по стопам отца. Ванятку двенадцати лет сумели пристроить на тральщик N 37, мальчонка на нем исходил все Северное море, доходил до Мурманска и далее, чуть ли не до Англии. Полина тоже нашла место - устроилась поваром в английскую концессию, а когда прогремела Октябрьская революция, Сидорихины воспряли: Сергей Иванович стал первым депутатом от матросов в Северном Центральном Совете, позднее его назначили членом революционного трибунала. Матросы решили: раз его судили, значит, Сидорихин тоже должен разбираться, кто прав, кто виноват.
Интервенцию в Архангельске большевики ожидали, все шло к этому, и сбросили бы белогвардейцев и англичан в море, если бы не предательство эсеров. Полина с сыном сумела выехать из города, помогло, так сказать, место работы - концессия Британского льва. Сергей Иванович пробился с боями, встретились муж и жена через два месяца в Воронежской губернии, в деревне Семилуки на левом берегу Дона.
Лихой балтиец думал, что любимая жена и сын смогут отсидеться в отчем доме, буря пройдет стороной, но гражданская война на то она и гражданская - разлом вошел в дома, разметал по разные стороны баррикады многие семьи, кровавым рубцом пролег через каждое сердце.
Семью Сидорихина тоже раздирали страсти. И вроде жить стали богаче, хату поправили, венцы сменили впервые за сто лет, соломорезку приобрели, чтоб резать скотине солому, перемешивать с отрубями - корм отличный, корову весной не поднимали вожжами. После раздела помещичьей земли по первому декрету Ленина Сидорихины получили хороший надел: землю делили не как раньше, по количеству мужского пола, а по справедливости, по ртам - у Сидорихиных было четыре бабы и пять девок, прокормить их сколько хлеба надо, целую прорву, а захудалого клочка земельки не выделяли. Работать Сидорихины умели, не на чужого дядю теперь горбатились, а на себя. Появился достаток, и так как-то сразу зажили сыто. Дед, Иван Кузьмич, накопил даже пригоршню золотых царских червонцев. Он ссыпал их в глиняную кубышку, затем всех отослал возить навоз в поле и куда-то кубышку спрятал, может, закопал или в печь замуровал. Только в печь вряд ли. Средний Семен с младшим братом Григорием всю печь общупалй, свежей кладки не было. Куда старый зарыл золото - ума не приложить! По злобе решили, что отец прикопил червонцы старшему брату, Сереге. Откуда такую напасть принесло - моряк, большевик, ни дна ему ни покрышки!
Сидорихины дружно садились обедать за стол без скатерти, до белизны выскобленный куском старой косы, мать торжественно вынимала ухватом из печи чугунок с горячими щами, жир сверху плавал блестящей пленкой, хлеб не то что в Петрограде - резали огромными ломтями. Ванечка никак не мог привыкнуть к такому обилию хлеба, да и Полина стеснялась брать лишний кусок, хлебали молча, не до бесед, поддерживали снизу деревянные ложки ломтями, но мяса не трогали до тех пор, пока не съедали жижу. Дед командовал:
- Таскай!
Тут не зевай, только успевай выхватывать горячие куски мяса, давясь, обжигая рты и горло, проглатывали почти не жуя, а то останешься с носом.
Полина вставала:
- Благодарствую!
- Стесняется! - ухмылялся Семен. - Не хочет миром есть.
Ванятка вставал за ней раз, вставал два, а там сообразил, что лучше сидеть, быстро приспособился к ритму поглощения жирного мяса, но через неделю оно встало у парнишки поперек горла.
Семен и Григорий искали повода для скандала и нашли, когда дед протянул единственному внуку мозговую кость, которая считалась на деревне лакомством.
- Моим дочерям не даешь, а Серегиного сына приваживаешь, - прогнусавил Григорий.
Как по команде заорал Семен:
- Понаехали голопузые! Что ты там заслужил на своем флоте? Шапку без козырька и маузер? Так оружия, тех же обрезов, на деревне хоть пруд пруди.
Все было элементарно, как единожды один: с достатком у братьев появилась жадность, а по деревенскому закону первородства, в случае смерти деда, старшему сыну доставалась хата, лучшие земли, и лошадь, и корова, и золото запрятанное.
- Креста на тебе нет! - продолжал, точно голосил по упокойнику, Семен. - Ты якоря бросал, жил не тужил на казенных харчах, а мы с голода пухли. Видел бы ты, какой я с германской вернулся. Приехал на все готовенькое да еще барышню с барчуком привез, известное дело, ничего по хозяйству не хотят делать.
Это была явная ложь. Мать и сын от работы не прятались, правда, им было трудно приспособиться к незнакомому труду, привычному с детства сельским жителям. Полина чуть хату не сожгла, когда ей приказали истопить русскую печь соломой и кизяками-брикетами из навоза. Трубы в доме не имелось, открыть дверь перед топкой Полина не догадалась, она чуть не задохнулась от дыма, который повалил в дом, хотя пламени и не было видно. Вся деревня потешалась над незадачливой женой моряка.
- Ты косил сено для коровы и овец? - продолжал разоряться средний брат. - Ты сеял овес для коняки? Ты поле орал под озимые? А твой Ванька жрет, как косарь после покоса.
- Буржуи вы скороспелые! - рассердился не на шутку Сергей Иванович и отложил деревянную ложку в сторону. - Забыли вкус лебеды? С голоду испокон веку подыхали, а теперь пузом вперед. А кто вам землю дал? Кто помещиков взашей погнал? Советская власть. Власть рабочих и беднейшего крестьянства. А я эту власть вот этими руками брал. И защищал ее. И есть вы новорожденные тараканы во дворце новой жизни!
Иван Кузьмич молчал, лишь насупил густущие брови да бороду чесал: старик думал, прикидывал, он не торопился со скороспелыми выводами, жизнь научила держать свои мысли при себе.
Не прижились «гости» из Питера в Семилуках, перебрались в город. Партийного Сергея Ивановича губком откомандировал в губчека, жену в Училище для слепых, Ванечка стал учиться в Новой трудовой школе. Жизнь наладилась, вроде осели на месте, да вот все полетело, завертелось, как сухой лист на ветру.
Случился прорыв фронта конным корпусом Мамонтова и Шкуро. Подобный глубокий рейд огромной массы конников по тылам противоборствующей стороны, стремительность передвижения, рассчитанная не на закрепление захваченных территорий, а на подрыв тыла, дестабилизацию положения, нарушение снабжения фронта боеприпасами, продовольствием и живой силой, были чреваты многими бедами. Белоказаки с ходу брали города, местечки, села, затопили в крови Центральную Россию, грабили, жгли рабочие кварталы, и пух от вспоротых подушек и перин понесло ветром по русской земле, как снег в пургу.
2
Сергей Иванович прискакал на взмыленном коне в училище на Малой Дворянской, переименованной в Плехановскую, привязал к фонарному столбу дончака, взбежал на второй этаж по белой мраморной лестнице, прошел широким шагом в «каптерку», как он называл закуток, где стоял письменный стол жены, заваленный докладными, заявками и прочими документами.
Слепые шестым чувством почуяли, что случилось самое худшее: белые подступили к городу. Инвалиды заволновались, забегали, как зрячие, по коридорам, и не без причины - большинство из них были ослепшими красноармейцами: кто от пули, кто от шашки, кто от трахомы или сыпного тифа. От него тоже слепли, теряли зрение процентов на девяносто.
- Поля, - снял с плеч жены красную косынку Сергей Иванович. - Тебя за версту видно, что за красных.
- А что произошло? - не поняла Полина.
- Где Ванятка?
- Где-то тут крутился. После школы я его покормила. Он на балалайке учится играть. У нас на вторую годовщину Октября концерт будет. Приходи!
- Балалайка! - усмехнулся Сергей Иванович. - Митинг отменить, слепых собери немедленно в актовом зале. Эй, - крикнул он в коридор, - мигом все в актовый, я речь держать буду.
- Сережа, что произошло? - уже догадалась Поля, но никак не могла поверить в догадку.
- Сбили наши кордоны, сбили, раскатали, как поленницу, - сказал с горестью матрос. - Силища у них, да и не ожидали мы, что так быстро подойдут. На Москву у них духа не хватит, а Воронеж возьмут. Уходить надо.
- Когда?
- Сейчас! Зови Ванятку, я тут скажу… И к отцу!
- Не пойду я!
- Ты характер прижми, - сказал Сергей Иванович. - В деревне не сахар, а больше некуда. Под Каменный мост не ходи. Контра из щелей вылезет, на тебе с Ванькой зло сорвут, могут и затоптать.
- Как же в «Коммуне» писали?
- Писали. Придушим их, но время надо. Зла много успеют натворить. Каратели идут, должна понимать.
- А как же слепые? - спросила Полина. - Как я их брошу? Я же за них отвечаю.
- Ты меня удивляешь, - упер в бока руки матрос. - Каратели идут. Они госпиталя на пику берут. Тут же всех перерубают. Тебя с
Ванькой в первую очередь. Пошли, пошли, там собрались, людей тоже надо спасать.
Слепые сидели в зале тихо.
- Товарищи! - сказал чекист. - Так… Временно училище закрывается. Расходитесь по домам, кто по знакомым, кто куда. Гимнастерки надо снять: Шкуро будет в городе. Кажись, он уже в городе.
С улицы послышалась стрельба и топот копыт. С улюлюканьем по середине бывшей Малой Дворянской, переименованной в Плехановскую, скакали казаки в черных бараньих шапках, размахивая шашками. Сергей Иванович подскочил к окну, выхватил маузер.
- Амба! Уже тута!
3
Один из казаков направил коня на широкий тротуар, наехал грудью коня на человека в рабочей кепке, блеснул клинок… И человек завалился на тротуар. Казак поскакал дальше. Ради чего сгубил человека? Наверное, он и сам бы не ответил - раз сабля есть, надо рубить.
Сергей Иванович вскинул маузер, только взял душегуба на мушку, чтоб покарать за злодейство, как на руке повисла Полина.
- Сереженька! - взмолилась она. - Не надо. Они же на выстрел бросятся. Ты глянь, кто в доме есть, они же вроде детей. Всех погубишь!
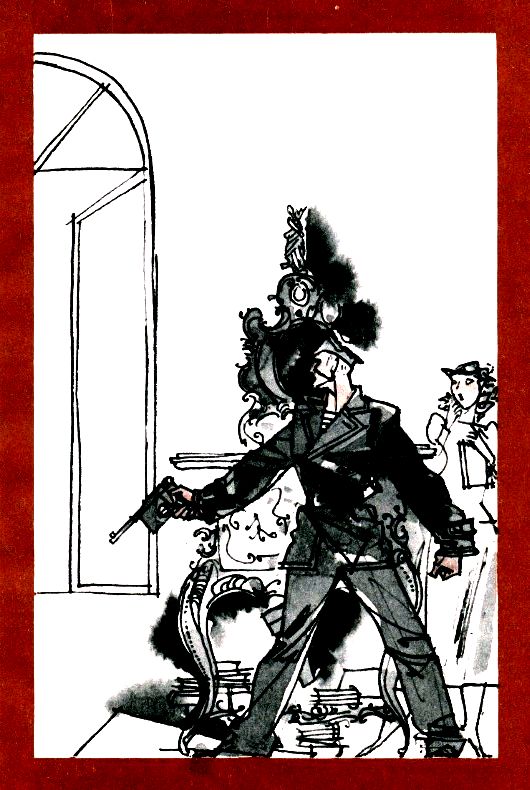
Слепые сидели, вытянув белые шеи, как птенцы сизарей в гнезде, когда горлица приносит пищу.
- Чего ждете? - рассвирепел моряк. - Очистить палубу! Чего расселись? Полундра!
Повторять не пришлось, слепые поспешили к выходу. Кто знал дорогу к родным или знакомым, застучал впереди себя палочкой, некоторые встали гуськом за поводырем, тоже инвалидом, но имеющим хоть какой-то процент зрения.
Сергей Иванович подхватил жену, следом Ванятку, тоже выскочили во двор.
И настало самое трудное - расстаться, и на такую трудность отпущено несколько минут.
- Рысака моего контра уже зафрахтовала, факт! - опять сплюнул матрос. - Теперь на нем не погарцуешь. Я к вам скакал, а на Большой Дворянской толпы буржуев ходят, разных мадамов в шляпах, как на Невском при Керенском. Около «Бристоля» тасуются, как карты в колоде. Два раза вслед выстрелили, не попали. Отцы города небось вешателю хлеб-соль преподнесут. Вот еще один урок классовой борьбы! А мы цирлих-манирлих разводили! Схватишь гада-офицер не успел в Добровольческую перебежать, сидит ждет Мамонтова со Шкуро, - а его не трожь, допрос снимай, вину доказывай… алиби проверяй. Пальцем его, шкуродера, не трожь. А они нашего брата сейчас начнут вешать. Мимоходом человека зарубили…
Он обнял жену, расцеловал ее голубые глаза, поцеловал сына.
- Поля, Ваня, уходите через сад, вот через ту калитку. Идите в деревню, к деду, он мужик мудрый, спрячет. Не кочевряжься. Знаю, не сладко, ну а что делать? С Семеном не связывайся, он враг, точно теперь знаю. Опасайся его! Я пока остаюсь в городе. Надо в депо с людьми встретиться. Ох, говорил я позавчера в Чека и в Совете… Предупреждал. За ошибки платим кровью. Говорят, панику пущаю! Ладно, прощайте, до встречи!
Он постоял…
- Это возьму на память, - отец спрятал красную косынку матери за пазуху, поближе к тельняшке.
Он перемахнул через забор в соседний двор. Стало тихо. Откуда-то донеслись крики «ура!» и звук марша. Видно, действительно на Большой Дворянской уцелевшие офицеры, дворяне, купцы встречали белогвардейцев куличами и духовым оркестром.
Полина вернулась в училище, поднялась к себе, открыла стол, вынула деньгу, кассу, сложила дензнаки в мешочек из-под сахара, перевязала веревочкой, спрятала на грудь. Ей казалось, что это самое надежное место.
- Теперь идем! - сказала она сыну.
Они прошли по опустевшим коридорам, спустились к парадному входу по белым мраморным ступенькам. Мать закрыла главный вход на крюк, затем они вновь поднялись на второй этаж, вновь прошли по коридору, заглядывая в каждую комнату, в каждый класс. Убедившись, что здание пустое, по черной лестнице сбежали во двор. Полина замкнула черный ход на ключ, ключ положила под камень у стены.
- Кажется, все ушли, - сказала она. - Наша совесть чиста. Мы сделали все, что могли.
Они прошли через железную калитку, висевшую на единственной скрипучей петле, и оказались в саду. Это был не фруктовый сад, яблони здесь не росли. Под могучими каштанами тянулись дорожки, посыпанные мелким речным песком, стояли скамейки, в беседке на столике лежали кем-то забытые темные очки.
- Принеси, - попросила мать. - Не оставлять же Шкуро. Тарас Бульба из-за люльки погиб, но в его поступке был смысл.
Ванечка набрал полные карманы темно-коричневых каштанов. Плоды уже попадали с деревьев, зеленые колючки отпали, они побурели, полопались. Каштаны были гладкими и холодными, и почему-то их тоже жалко было оставлять.
Из сада они вышли на узкую улочку, пошли глухими улицами к Курскому вокзалу, но к нему выходить было опасно, слышалась стрельба, они свернули на окраину Чижовки, пригорода Воронежа, где жили беспокойные потомки московских стрельцов, выселенных сюда Петром I после стрелецкого бунта. Воронеж при Петре считался окраиной России.
Неистово лаяли собаки за заборами. И не поймешь, кто там, за забором: то ли друг, то ли враг. Дома деревянные, по деревенским понятиям даже богатые. Удивительное дело: воронежская земля жирная, самая плодородная в мире, ткни палку - дерево вырастет, а в деревнях жили с земляными полами, без труб. Полина никак не могла понять: колесо изобрели, а трубу нет, топили по-черному, как бани. И тараканов… Тьма-тьмущая! Зимой их выводили следующим способом: на время перебирались в летнюю избу, в хату открывали настежь дверь в самый лютый мороз. Холод постепенно заполнял дом, выветривал кислые запахи, холод снизу поднимался кверху, тараканы тоже ползли, спасались от мороза, на потолке образовывался клубок, как пчелиный рой, его сметали в ведро веником, ведро ставили в раскаленную печь - сжечь паразитов. Но тараканьи яйца холода не боялись, через некоторое время появлялся новый выводок, за лето он овладевал утраченными позициями предков, и так до зимы, до морозов.
Собаки за заборами сходили с ума от злости. К Сидорихиным пристроились три красноармейца из молодых, по новым гимнастеркам видно было, что недавно мобилизованные. У одного на поясе висела граната в виде белой бутылки.
С другого конца улицы тоже послышался лай.
Ванюша и не сообразил, что произошло, только мать почему-то обхватила его руками, прижала к калитке, закрыла собой: по немощеной улице, поднимая клубы пыли, скакала СМЕРТЬ! Один из казаков держал что-то в руке, это что-то прыгало по выбоинам улицы, хлопало на ветру, как длинное зеленое узкое знамя. Бойцы тоже сообразили, что надо сопротивляться. Они вскинули винтовки, защелкали затворами… Господи, у них даже патроны оказались не в патронниках! Стрельнули раз, два; третий красноармеец рвал с пояса гранату, и, черт ее знает, почему-то она не срывалась, да и как она могла сорваться, если в запарке он дергал не гранату, а ремень.
Вдруг открылась калитка и сильные руки втащили Полину и сына во двор. Дубовая калитка захлопнулась, звякнул крюк.
- Куда вас несет нелегкая!
Спасительницей оказалась женщина непомерного роста. На ней была цветастая кофта и черная юбка. На ногах тапочки со смятыми задниками.
- Если будут барабанить в ворота, - сказала она шепотом, - бегите за дом, у сарая доска оторвана, выскочите на пустырь, а там внизу ложком, кустами, орешником. Никто не словит.
- Спасибо!
- Бог в помощь!
С улицы в ворота ударили пули, полетели щепки, женщина и мать присели на корточки от неожиданности.
- Ой! Чур меня! - закрестилась женщина. - А мужика моего дома нет. Понесло его в Рамонь за поросенком, а тут страсти таки!
Рванула граната. Ворота упали.
- Чтоб вам пусто было, ироды! Чтоб вам… - завопила хозяйка от такого разора, но осеклась на полуслове.
В канаве вдоль забора лежали два убитых красноармейца. Рядом била копытами умирающая лошадь, она лежала на боку, придавив мертвого казака, сжимающего в руке конец штуки зеленого ситца. Вот оно что прыгало по дороге и трепетало на ветру - ситец. Он скакал, штука разворачивалась, как длинный и узкий вымпел.
Казаки пьяно ругались, но не громко, а как-то чуть ли не по-домашнему, вроде бы даже и беззлобно, так, для порядка.
- Что, кончился Тимоха?
- Говорил ему: «Брось материю! Класть некуда!» Вот и преставился, - ответил один из казаков. Он слез с коня, собрал оружие красноармейцев, повесил винтовки на седло, затем попытался вытащить мертвого станичника из-под лошади, но ничего у него не получилось. Лошадь опять ударила копытами в забор, вздрогнула и замерла.
- Ляксей! Подсоби!
Ляксей спешился, помог, они перевалили убитого животом через седло с винтовками и пошли по улице, ведя двух коней в поводу, остальные казаки ехали следом.
Где-то в проулке вновь залились собаки, и казаки в седлах помчались на лай, взяв клинки на изготовку.
Большая женщина как бы очнулась, подошла широким шагом к ситцу и начала судорожно собирать его в охапку. Казаки столько награбили добра, что ситец им был ни к чему, они втаптывали в грязь материал, который ценился не меньше соли и спичек, а то еще и дороже.
- Не пропадать же добру! - сказала она, перехватив осуждающий взгляд Полины.
- Это же мародерство, - сказала Полина.
- Чего? - не поняла женщина. - Вы идите… Железную дорогу перебежите, а там орешник начинается. Ныне дюжа ядреные орехи народились. Еще есть. Пощелкаете.
Она понесла охапку зеленого материала в дом, около сорванных взрывом ворот посетовала:
- А мой мужик, как назло, в Рамонь поехал за поросенком. Придется ждать… Хотя соседи помогут, а то все со двора сопрут, как пить дать растащат.
Другой мерки у нее для народа не было. Кому война, а кому поросенок из Рамони.
- Дайте лопату, я похороню убитых товарищей! - потребовала Полина.
- Чего? - опять не поняла женщина, видно, она от взрыва и упавших ворот немного оглохла. - Да беги ты, пока цела! Тебя же видно, что ты жена комиссара.
Женщина унесла в дом материал, тут же вернулась, зычно закричала с крыльца:
- Матрена! Слышь! Да выходи, уехали казаки. Все окончилось. Вы-ходь! Матрена! Подь до меня, тут убиенные валяются, как бы заразы не было. А вы бегите, пока целы!
На соседней улице вновь возник яростный собачий лай, раздались выстрелы, возможно, и там произошла трагедия, как и на Пушкарской улице, тем не менее Полина не ушла, добилась от хозяйки лопаты, пошла на пустырь рыть общую могилу зарубленным новобранцам. Женщина и Матрена с соседнего двора помогали ей. Полина не могла поступить иначе, даже если бы ей пришлось разделить судьбу с павшими.
Сидорихины ушли из города в сумерках. Незамеченными перебежали железную дорогу, вдоль нее уже патрулировал казачий разъезд, задерживая всех, кто пытался уйти из города. Приказ был строгим: «Всех задержанных отправлять в контрразведку полковнику Белову. Оказавших сопротивление расстреливать на месте».
Позади остались тополя, с дерева на дерево с громким криком перелетали стаей скворцы, птицы никак не могли угомониться на ночь, их пугали выстрелы.
К полуночным петухам подошли Сидорихины к огородам Семилук.
4
Дом Сидорихиных стоял на краю села. Дом белел в ночи молодой соломой, остриженный, точно казак под горшок. Деревня - одна улица, рядом река Дон, через него горбатый железнодорожный мост на Курск. Деревня считалась небедной, о чем говорили с десяток каменных домов. Дон - понятие сложное, это не только река… Тут и русские деревни, и украинские села, ниже по течению начинались станицы Войска Донского, жители станиц считали упрямо реку казачьей, и если им говорили, что Дон - река русская, так как начинается в глубине матушки России, они смертельно обижались на подобные слова.
На левом берегу Дона были хлебные поля, на правом - в заливных местах - косили траву, пасли скот, выше по берегу раскинулись богатые бахчи с арбузами, тыквами и дынями. Город рядом, что ни вырастишь - все съедят горожане. На лошадях и быках возили на базары топленое молоко в продолговатых глиняных крынках, домашний творог, сливочное масло, битую птицу, картофель, огурцы и капусту, моченые яблоки.
Полина с сыном подошли к дому свекра при полной луне, дорогу высеребрило, постояли у калитки… Здоровенный, бандитского вида и поведения кот бело-черной масти по кличке Филипп признал женщину и мальчика, расхаживал хвост трубой, терся о ноги и мурлыкал. Собаку Сидорихины не держали.
- Что же делать, сынок? - сказала Полина. - Придется идти на поклон.
- Это ты, что ли, Пелагея? - послышался от дома голос старика.
- Здравствуйте, батя!
- Не стучи калиткой и не торчи столбом, вон она, ночь-то, какая, хоть рожь молоти. Быстро заходи!
На столе стояла лампа с привернутым фитилем, стекла не было, потому что стекло в городе стоило сто яиц. Без стекла можно прожить, не книжки читать в темноте и не бисер шить. Свекровь - тихая больная женщина, бывало, ее голоса и за целый день не услышишь - налила по кружке теплого парного молока, пододвинула хлеб, нарезанный огромными ломтями. Она чего-то ожидала… Полина догадалась, перекрестилась на икону, тогда старуха вынула из печи сковороду с жареной картошкой на сале, залитой яйцами.
Семен и Григорий тоже не спали, в выпростанных рубахах, шлепая босыми ногами по глинобитному полу, подошли к столу, сели в другом конце на общую лавку, скрутили по «козьей ножке», набили самосадом и прикурили от лампы. По дому поплыл едкий сизый дымок.

На печке завозились дети, мал мала меньше, они спали скопом, куча мала. Дуня, сестра Сергея Ивановича, высунула голову с распущенными волосами из-под одеяла, сшитого из разноцветных лоскутков. Спала она с бабкой на полатях. Мужики по лавкам на тулупах, один дед на деревянной кровати под пологом.
Дуня овдовела, мужа ее стравили газом ипритом немцы на фронте. Родня мужа не стала ее кормить с двумя девчонками, она вернулась к отцу. Семен встал на дыбы, Григорий молчал. Дед выслушал среднего сына и сказал как отрезал:
- Ты пустоцвет, тебе голоса не дано. Не хочешь жить в семье - отделяйся. Только что ты получишь? Ты да твоя баба, и весь поход. А Дунькины девки все же мое семя. И не по-христиански дочь родную из дома выгонять. Что ж ей, руки наложить на себя и девок? И откуда злость у тебя, как у змия подколодного? Одно слово - пустоцвет!
Семен с германской пришел совсем худым, в чем только душа держалась. Ранен он был тяжко. Детей у него не было. По деревенским понятиям, такой человек был хуже горбуна-колдуна, дети испокон веков были самым большим богатством и мерилом весомости человека в обществе. Путь бедняка беспросветный, но раз детей много, он есть уважаемый человек, а что портки с дырой, так это же портки, там, глядишь, выбьется, сыновья вырастут, отца с матерью поддержат, на старости лет не покинут, а бездетный, как трутень, все под себя гребет. Возможно, поэтому, когда Семен оклемался, набрал силу, стал он дюже лютый и завистливый, спасу нет, ярился на людей, как паук на комаров.
За печкой заблеяла овца, она принесла двух ягнят, поэтому ее и взяли в дом, поставили за печь, куда зимой помещали теленка после отела, чтоб не замерз.
После города трудно привыкнуть к такому укладу жизни, даже в бараках для рабочих судоверфи в Архангельске не так было тесно и обнаженно, тут же все время кто-то рядом, каждое движение, каждый вздох на виду, и ты тоже невольно становишься свидетелем чужой жизни до утомительных подробностей.
- Ты, дочка, рассказывай, - сказал дед, поглаживая бороду. - Как там в городе-то?
- Ничего хорошего! - ответила Полина, вытянув под столом натруженные ноги. - Как только Ванюша вытерпел этот день! Не свалился по дороге, ни разу не пожаловался. Казалось, конца пути не будет. Шли целиной, рощицами да кустарниками вдали от дороги, как только показывались всадники, ложились на землю, и ночь была, как назло, полнолунной.
- Оно видно, что ничего путного, - сказал Семен. - Прибежали как наскипидаренные.
- Не пойму, чему ты радуешься? Блажной, что ли? - сказала Полина устало и вязальной спицей сняла нагар с фитиля лампы. - Горе пришло, а ты сияешь, как медный пятак.
- Уж больно умная. Нам-то чего? Верно, батя? Деревня без города проживет. И прокормится, и сами себя обуем и оденем… А город без деревни не проживет.
- При чем тут эсеровская демагогия? - удивилась Полина. - Одни по недомыслию говорят, другие от «большого ума» повторяют! Подумай своей головой: ну где твоя деревня возьмет плуг, серп, керосин? Где керосин раздобудет? - Полине почему-то проблема освещения керосином казалась самой убедительной,
- С лучиной просидим, - как попка-дурак, сказал Семен.
- Глупости говоришь! - усмехнулась Полина. - Баламутят эсеры народ, тянут его в болото, вот и пришли беляки. Дождались! С вашей помощью.
- Не нравится? - зашипел Семен, кадык на его тощей, жилистой шее забегал мышью. - Сразу к нам, к мужикам, за помощью. А когда ваша власть была, мужика продналогом задушили. Дай хлеб, хоть помри! Что для вас деревня, корова дойная? Где это ваши серпа и керосин? В лавке не купишь, только на базаре за хлеб да сало выменяешь. А хлеб отдавай? Излишки отбирали… Когда у крестьянина был лишний хлеб? В хозяйстве каждое зернышко к делу приложено.
- Не прибедняйся! У вас хлеб отобрали по правде.
- По чьей правде?
- Могли бы и мимо проехать, - сказал дед. - Сын-то мой старший, чай, в Чека служил, в начальстве ходил, могли бы и проехать мимо двора.
- Ваш сын не царский генерал, а слуга народа. И законы для него так же писаны, как для всех. Если бы у нас самих были излишки, мы бы без позора отдали, - твердо сказала Полина. - Советская власть землю давай, от помещиков оберегай, а Советской власти взамен кукиш? Неужели вы не понимаете, что в рабочих городах люди без хлеба? Пухнут. А вы хлеб гноите…
- В чужих руках куль всегда толще! - ответил дед.
- Последнее отобрали! - подскулил Семен.
Григорий молчал, слушал, думал, взвешивал. Он был такой же тугодум, как дед, но приняв решение, не отступал от него, хоть убей.
- У тебя отберешь - на второй день сдохнешь, - сказала Полина. - На посев оставили, на семью оставили… Это временная экспроприация. Временная мера, как сказал товарищ Ленин. Беляки сейчас там! - она махнула в сторону города рукой. - Убивают рабочих, а вы по хатам попрятались: «Моя хата с краю…» А продотрядчиков из-за угла стреляли… Храбрые.
- Как же ты думала! - привстал со скамейки Семен. - Меня грабят… Мой хлеб! Батя, хлеб-то наш? Наш! Его еще вырасти, убери, обмолоти, завези помолоть на мельницу, прежде чем квашню поставить. А его за просто так отбирают. Вот мужики и взялись за обрезы.
- Мужики разные, - сказал тихо Григорий. - Кто бедняк, кто кулак, а кто у кулака на побегушках вроде мопсы.
- Ты чего тут агитацию пущаешь? - окрысился на него Семен.
- Чего, чего, да ничего! - Григорий потушил самокрутку и пошел в угол избы, завалился на лавку, накрылся тулупом. - Болото ты козлиное. Чего на людей гавкаешь? Всех бы загрыз, да бог зубьев не дал.
- Поговори мне, поговори! - припугнул младшего Семен.
- Белых прогоним - Чека разберется, кто в продотрядовцев стрелял, - сказала убежденно Полина. - Советская власть встала навеки.
Семен аж подпрыгнул, забыл про курево.
- Это что ж, наш Сергей будет искать? Брательник мой? Бать, ты слышишь? Серега будет мужиков в расход пущать? Смотри, как бы ему самому не обломилось.
- Не пугай, пуганые!
- На, бери! - рванул на себе рубаху Семен. - Души голыми руками, пока я добрый.
- Папаня, простите! - встала Полина. - Ошиблись адресом. Ваня, вставай, надо уходить, пока не поздно.
Ванятка спал за столом.
- Цыц! - вдруг рявкнул дед Сидорихин и треснул кулачищем по столу. - Цыц, поганки! Как счас врежу и тому и другому, поножовщину в доме, устроили. Дай веник, мать!
Старуха молча подала ему веник, связанный из хворостин лозняка.
- Сколько лет учу, - сказал в сердцах дед, - притче о венике. Вот сломай, когда веточка к веточке, а по одному хоть воз переломаешь. Нашли время лаяться! Готовы в глотку друг другу вцепиться. Иди ко мне, внучек, ты у меня одна надежа. Что хлеб? Когда не было, так и не было, а был, так будет, дело наживное, тут жисти надо спасать. Дело пришло нешуточное.
Иван Кузьмич приваживал Ванюшку, единственного внука, продолжателя рода Сидорихиных.
- Только ты у меня и отрада, умнее всех этих дураков стоеросовых, иди ко мне!
Он погладил Ванятку по вихрам, прижал к себе.
- Ты не слухай этих олухов, иди под полог на мою кровать, со мной спать будешь. Мать, ты на лавку ложись. Иди, Ваня, тезка мой! Ты, Пелагея, объясни толком, с чувством, что высвечивается, будут ли белые назад землю отбирать? Или обойдется? Или чудотворцу свечу ставить?
- А вы как думали? - Села Полина, от усталости ноги не держали. - Отберут! Вы в шестом сами землю поделили, чем окончилось?
- Моего отца всуе не поминай! - сурово сказал дед.
- Извините, Иван Кузьмич, нечаянно выскочило, - сказала Полина.
- Видать по всему, к тому дело и придет - отберут! - сказал старик. - Тут сельсоветчиков ловили, комбедов. «Волчья сотня», бают. Хромоногого большака, этого, что к новой жизни все звал, друга-то Сереги, Ваську, убили. И бабу его убили. Как бы про Серегу не вспомнили да нам не всыпали бы за него. Большевик и еще, господи, чекист. Вот подумай!
- А при чем мы? - опять взвился Семен. - Мы за него не в ответе, мы сами за себя. Нас тоже продотряд тряс, чуть душу не вытряс, тут Чека ни с боку припеку, и ни спереди и ни сзади. Мы как все!
- При том, - подал голос с лавки Григорий. - Усадьбу кто грабил? Забыл, зонтик со цветочками принес, в сундук спрятал.
- Так я из сундука выну. А граммофон не я взял, мне не дали, опоздал.
- Вынешь! - рассмеялся Григорий. - Выпорют всех, как в шестом. Я-то мальцом был, а тебя пороли, и батю, и мать, и еще деда Кузьму. Вспомнишь, как зонтиком размахивать.
- Мы за винтовки возьмемся! - сказал неуверенно Семен.
- А патроны где возьмешь? - встряла в разговор Полина. - Ты же против города выступал, клялся, что деревня без города проживет. А где патроны возьмешь, в огороде накопаешь? А пулемет? Из кочерги скуешь? Кочерга тоже из чугуна сделана. Припомнят вам все генералы! Они, как рабочие, на голодном пайке сидеть не будут. Помещики - то же офицерье да их барышни в шляпках с вуалью. Им шампанское да устриц подавай.
- Тетя Поля, а ты устрицев ела? - послышался с печки детский голос.
- Глотала. Они вроде жемчужин в Дону.
- Господи! - закрестилась, лежа на полатях, Дуня. - Чего только в городе не едят с голодухи. Господи, это ж такую пакость в рот взять… Удавиться легче.
- Замолчите! - рявкнул Семен. - А насчет кочерги… В леса уйдем, на Тамбовщину. Ищи-свищи!
- Беги, лапти не потеряй! - отозвался Григорий. - А хозяйство? Хорошо, ты гол, как сокол, а дети, а баба, а корова?
Старик ничего не сказал, он отлично помнил, как тринадцать лет назад, в шестом году, мужики пожгли помещичью усадьбу, захватили землю, поделили, благо крови не случилось - господа заблаговременно укатили в ландо в Воронеж. Финал был известен - пришли солдаты, самых крикливых заслали в Сибирь, остальных выпороли. Позорище! И стариков розгами учили, двое от потрясения умерли. Вся деревня до рождества не могла сесть на лавки. Срамота! Землю, само собой, отобрали, и луг на правом берегу заодно прихватили, за «красного петуха» штраф наложили, платили всем миром. Помещик новый особняк выстроил, лучше прежнего, поэтому на этот раз в семнадцатом году, когда грабили усадьбу, «петуха» пустить остереглись: мало ли что, всегда успеется. Затем особняк помещика комбед захватил, школу в ней для ребятишек открыли.
- Слухайте! - сказал дед. - Мое слово - золотое! Пелагея, скидывай свое городское. Дунька, дай ей сарафан, и юбку, и кофту, и плат на голову, чтоб глаза на деревне не мозолила. Ваня, внучек мой сердешный, тебе тута в усадьбе нечего в цацки играть. Поедешь с Гришкиными девками, будешь пасти скотину по-над Доном. Подальше положишь - поближе возьмешь. Телка, понимаешь, год растет, а казак-басурман чикнет ей шашкой по горлу, как у Васьки хромого, и нет телки. Ты девок, Ваня, не балуй, ты с ними построже, начнут взбрыкивать - мне пожалься, быстро вожжами поучу. Начнут скотину отбирать, Дунькины девки прибегут - тогда гони к лесу. Там мужики схоронят.
Дед подумал, запустил пятерню в косматую бородищу, потом добавил:
- Если дождь почнет, осень не лето, так в овраге клуня имеется с загоном. Девки, не спите? Харчей вам бабка даст на неделю. Ванятке каждый божий день кулеш варить. Если сало голяком сожрете, шкуру спущу.
У детей чувство опасности выражено меньше, чем у взрослых или у стариков, дети кажутся бесстрашными лишь потому, что у них нет жизненного опыта, они не пуганые, у них не отложился осадок страха. Они не могут предполагать последствий того или иного поступка, факта.
Ванечку, разумеется, потрясла гибель красноармейцев, и агония лошади, и смерть казака… Но почему-то в память ярче врезалось то, что они с матерью в полной темноте целиной пробирались в деревню, шли вдали от дороги, спотыкались.
Утром его переобули в лапти, показали, как закручивать вокруг ноги онучи, как завязывать лапти на лодыжке лыковой веревочкой. И непривычная легкость при ходьбе в лаптях, точно крылышки выросли на косточках, и то, что ему приказали пасти скот, а он боялся с прошлого года бодучего барана с литыми рогами, и то, что его впервые посадили на скользкую спину работяги-лошади, Зорьки, посадили без седла, дали в руки поводок, и еще множество неизведанных ранее ощущений, которые лавиной обрушились на мальчика, а он даже не успевал осмыслить и до конца прочувствовать их, - все это перемешалось у него в голове, притупило остроту восприятия и уже не фиксировалось в его сознании, и страшное растворилось в повседневном, обыденном, забылось, затуманилось.
Скот - две коровы, овцы, лошадь - пригнали в овраг. Девчонки не слушались Ивана, с презрением смотрели в его сторону. Оно и понятно - они лучше его знали нравы коров или характер барана, который на них не бросался, подчинялся им, как собачонка, Ване лучше было помалкивать.
К ним примкнул с коровой и двумя лошадьми соседский мальчишка, остриженный матерью ножницами «под лесничку», чтоб вшей не водилось. Звали его Ленькой. У него был веселый характер.
Вечером пошел дождь. Клуней оказалась мазанка с печуркой и загоном под навесом.
Ленька, сидя у печурки и глядя на язычки пламени, рассказывал про упырей и утопленников, пугая Гришкиных девчонок до икоты.
Ванечка удивлялся буйной и мрачной фантазии Леньки и простодушной доверчивости девчонок, которые враки воспринимали, как чистую правду.
За стеной клуни мерно жевали жвачку коровы, громко и грустно вздыхали лошади, изредка слышался топот овец - они перебегали из одного загона в другой: овцы почему-то сломя голову бросались вслед за бараном. Наверное, если бы он бросился с парома в Дон, овцы тоже бы нырнули за ним.
Глупая скотина - овца!
5
В деревне вставали чуть свет с третьими петухами. Всю ночь бушевал ветер с дождем. К утру буря стихла, осталась хмарь, она повисла над шляхом, домами, пригибая дым из печей к земле. При такой тяжелой погоде Сидорихины не топили - дым оставался в избе, не желал вытекать во двор. Если бы даже и был дымоход, печь все равно бы дымила.
В предрассветной влажной неразберихе Полина пошла с ведрами к колодцу. Носить воду на коромысле она научилась еще в Архангельске, где не было водопровода в домах, ходили за водой к уличной колонке.
Старые яловые сапоги со стоптанными каблуками скользили по мокрой траве, от них разило дегтем, зато они не пропускали воду, и ноги были сухими. На голове лежал толстый теплый платок из плотной нити.
- Эй, хозяйка! - окликнул кто-то Полину из кустов лозняка. Листья уже опали, но лоза росла плотно, в ней можно было спрятаться от постороннего глаза.
- Кто это? - встрепенулась Полина.
Голос был хриплый, простуженный.
- На дворе чужих нет?
- Нет! Выходи, не прячься!
- Не признала?
- Сереженька? Ты, что ли? Ой! Ты! Что с тобой случилось?
- Ничего! Переодели для маскировки.
Полина глазам не поверила - моряк Балтфлота вышел из лозняка в серой солдатской шинели без хлястика, в рваной зимней шапке, в замызганных опорках… Где же его кожаная куртка, где знаменитые широченные клеши и тельник в прорезе фланельки, где бескозырка? Где, наконец, верный маузер? Казалось бы, ерунда: в чем ни ходить, лишь бы не голым, шапка рваная заячья или бескозырка - на ленточке «Северный флот»… Ан нет! Беляки и те за погоны держались. Тельняшка, клеши или широкий ремень с бляхой - все это ясно указывало, как мандат ревкома, на социальное положение хозяина, на чьей он стороне борется - за большевиков и Ленина или за царских наследников, Учредительное собрание. Вроде всего-навсего полосатая тряпица - тельник, но за право носить ее братишки жизни отдавали - беляки не брали моряков в плен, они боялись их пуще холеры или светопреставления.
- Здравствуй! Уж не обессудь, - простуженно попросил Сергей Иванович. - Придет время, свое надену. Поль, как тут? Что нового в родном краю? Не штормит?
Он обнял и горячо поцеловал любимую жену.
- Ой, колешься, как сапожная щетка, - сказала Поля, потирая щеку.
- Ты без меня с сапожной щеткой целовалась, что ли? - рассмеялся матрос. - Что, разлюбила без кожанки?
- Сережа, не говори ерунды, - сказала Полина. - Ты мне всякий люб, сам знаешь. Страшный больно, никогда тебя таким не видела. Всегда подтянутый ходил, мой моряк.
- Перезимуем так… Все спокойно? - спросил моряк.
- Куда там… - вздохнула Полина. - В округе терские казаки свирепствуют, даже не с Кубани они, а откуда-то с Северного Кавказа. В черкесках, кинжалы наподобие «Дикой дивизии» Корнилова. Горцев тогда сагитировали, не пустили на Петроград, эти свои, русские, эти страшнее, потому что свои. Какая-то «Волчья сотня» подчиняется лично Шкуро.
- Самые у них зверье, - посуровел Сергей Иванович. - Про меня не спрашивали?
- Вроде нет… А чего про тебя спрашивать?
- Насолил я им. Пусть ищут. И не заезжали?
- Мимо проезжали. Они Васю, твоего дружка, зарубили, его жену. Семен говорил, в общем, белые знают, что отца тоже прижал продотряд, хлеб отобрали.
- Семен враг, - сказал зло моряк. - Сын где?
- Дед его спрятал.
- Ты бы тоже сховалась. Жену чекиста жалеть не будут. Зови деда, я в бане подожду. Стой! Семен дома?
- Собирался в кузню ехать за Дон, к цыгану. Борону починять. Я видела, он мерина запрягал, Зорьку с Ваняткой отослали. Сел Ваня на лошадь - вылитый казак.
- Сыну моряка незачем быть казаком, - проворчал Сергей Иванович.
Иван Кузьмич не заставил себя ждать, прибежал, запыхавшись, с шумом вошел в баню, плюхнулся кулем на лавку.
- Сергунька, сынок, живой? Сердце за тебя изболелось. Тут тебя шкуровцы ищут. Верные люди предупредили. Ты б поостерегся. Споймают - пощады не жди, да и мужики на тебя в обиде.
- Чего я им так не угодил? Я не красная девка мужикам нравиться.
- Ты вот это… того… насовсем… - замялся дед. - Это же твоя родная деревня, ты тута и Клашку вон целовал, за тобой ее отец аж с оглоблей бежал. Призвали тебя на царскую службу, а то бы порешил.
- Богатея она дочка, - сказал уклончиво Сергей Иванович. - Приказчик ее за приданое взял, не по любви. Дошли вести и до Кронштадта.
- Деньги, приданое - не про то речь. Ты с мужиками не ссорься. Ты с ними помирись, они тебя и укроют, не выдадут.
- Нет, батя! - сплюнул моряк. - Я у них в погребе сидеть не собираюсь. Знаю я земляков. Забыл, как у того отца Клашки по весне брал меру пшеницы, а по осени отдавал три?
- Так конечно, - согласился дед. - Смотри, тебе виднее. Но народ не стращай! Думается,
после казаков многие поумнеют.
- Ты, батя, Семену про меня все же не говори, - попросил старший сын.
- А че? - взъерошился дед. - Нарожал пауков. Одна кровь, а друг от друга хоронятся. Чего же ты брата родного стережешься?
- Семен был в кулацкой банде, в той, что двух продотрядовцев убила.
- Брешешь! - вскочил отец. - Нишкни!
- Факт установленный, - вздохнул Сергей Иванович. - Не в моих силах, не в меня стрелял, я бы простил. Покрывать не могу и не хочу. Знал, с кем и на что шел. Трибунал разберется.
- Я тебя прокляну! - вскочил с лавки дед и поднял над головой тощие длинные руки в буграх от вздутых вен. - Знамо ли дело, брат брата под трибунал подведет! Где правда? Вот твоя баба и сын, мой внук, пришли ко мне, я их принял, укрыл. Ты сейчас пришел, я тоже закрою… А когда красные вернутся, ты брата хочешь выдать на погибель? За добро злом заплатить? Не по-божески! Да и не стрелял он по красным, трус он, заячья душа, сидел в кустах и свистел, как Соловей-разбойник.
Деду было жаль сыновей: какой палец ни укуси - любой больно. По вековому опыту он знал, что в тяжелые годы выживают те, у кого семья дружнее, и он никак не мог понять, что за напасть разъединяет его сыновей. И тот прав, и этот…
Поговорили бы, посудачили, пришли к единому мнению, ан нет, как скаженные, друг на друга чуть не с вилами.
Росли вместе, он их на руках носил, наказывал, не без этого, за шалость, учил уму-разуму - жизнь впереди у сыновей предстояла несладкая, внушал добро, любовь к земле.
- Не моя вина, что твой сын, сын бедняка, стал бандитом! - бушевал старший сын. - Разменял революционную и пролетарскую совесть…
- Да будя тебе! - повис на нем отец. Старик был дряблым и тяжелым. - Будя! Сядь, сынок! Сергуня, Сергуня, каково мне? Подумал бы хоть малость об отце. Сядь, сынок! Всю жизнь для вас старался, и когда жисть наладится… Тьфу, неладная! Жить бы да жить! Может, баньку тебе истопить? Без шума, без крика. И бельишко на каменке прожаришь, а то вши зажрут. Свалит сыпняк, твоя революция на погосте тремя аршинами закончится.
- Я понимаю тебя, - смягчился Сергей Иванович. - Баньку хорошо бы. Осторожно только. Вдруг Семен с Гришкой париться придут?
- Уйдут! Отошлю я их к цыгану с бороной. Скажу, Дуньке с Пелагеей приказал стирку затеять. Так-то лучше, Сергуня, по-людски.
- Я воды наношу, - сказала радостно Полина. - Нам на двоих немного потребуется. Я тоже попарюсь. Помнишь, как в Архангельске парились, когда ты в самоход прибегал? Напаримся и в сугроб. Здорово!
- Бать! - попросил Сергей Иванович. - Пошли Катьку за Ваняткой. Далеко он? Соскучился больно!
- Внук мой, весь в меня! - крякнул довольный дед. - Знамо дело, с отцом встретиться. Шустрый мужик будет, по всему видать.
Дед любил Ванятку вначале сдержанно, постепенно как бы оттаивал. Гришка был прав, что дед приваживал лишь внука и не глядел в сторону внучек, хотя и заботился о них, другой раз покупал горсть леденцов в деревенской лавке. Сказывалась традиция! Внук - продолжатель рода, наследник, внучки уйдут в другой дом, от них ничего, кроме порухи.
Катьке дали наказ, она побежала в овраг, прибежала к клуне, заорала во всю глотку:
- Ванятка, айда до дому! Твой батяня пришел, тебя кличет!
Вот дура девка!
Но откуда она узнала, что балтийский моряк украдкой заглянул в отчий дом?
Видать, плохо хоронился, не остерегся. Деревня не город. В деревне чихни в кулак, а в другом конце скажут: «Будь здоров, Сергей Иванович!»
Ваня помчался стрелою к дому. Бежал, ног не чуял от радости, ни разу не остановился.
Вбежал во двор, красный от бега, глазенки горят… и замедлил бег, и встал столбом, и страх сковал ноги, руки, голос. И кровь в височках застучала молотами: тук-тук-тук!
Во дворе деда бушевало лихо!
Во дворе казаки в черных черкесках с газырями, в бурках и мягких сапогах без каблуков - такое одеяние Ваня видел на базаре в Воронеже у фотографа на занавеске: сунь в дыру лицо и получай фотографию, вроде ты джигит с кинжалом, а сзади гора Казбек.
Во дворе деда бушевало лихо! Ох, лихо! Лихо мне, лихо людям родным!
Отец валялся связанный около соломорезки.
Отца схватили беляки!
Не знал Ванятка, что скрутили отца в бане, на полке с веником в руке, и не успел чекист дотянуться до верного маузера, и не уложил наповал ни одного казака. Да и сам бы им в руки живым с женой не дался!
Кто-то выдал Сергея Ивановича!
Выдал!
Посередине двора стоял невысокого роста, поджарый, весь какой-то дерганый, с усиками казак в белой бурке с погонами есаула Войска Терского, поигрывал кинжалом в серебряных ножнах. Главный небось в банде!
И Ванятка с разбега бросился на есаула, поддел его головой в живот. У есаула аж дыхание перехватило, он открыл рот, как окунь на песке, начал заглатывать воздух, а когда очухался, завопил:
- Ах ты, красный последыш! Всыпьте ему. Ежели выживет, помнить будет!
И он отбросил Ванятку ногой, как кутенка. Ваня чуть под крыльцо не закатился.
- Помилуйте, ваше благородь! - упал перед есаулом на колени седой дед. - Ваше благородь, смилуйся! Сын мой, внук мой! Ну, что хошь бери, меня заруби! Малец за батьку заступился. У тебя есть сын? Молчишь! Знать, есть. Он бы тоже за тебя жизни не пожалел.
- Уйди, старик! - отвернулся есаул. - Ты до моих кровей не дюже бреши. Нас красные не жалкуют!
- Погодь! Погодь! - еще пуще взмолился старик и бросился к сараю, где держал курей. - Погодь!
- Чего он там? Эй, Сергуненко, возьми на мушку, а то как в Горловке - стрельнет или бомбу шваркнет.
Один из казаков сдернул с плеча карабин и побежал за стариком в сарай.
Иван Кузьмич на коленях судорожно руками разрывал куриный помет под насестом, вырыл ямку, из ямки вынул горшок, прижав к груди, устремился к выходу.
- Погодь, ваше благородь!
Он разбил о камень горшок, разгреб черепки, выбрал на сморщенную ладонь четыре золотых червонца с ликом Николашки и шесть пятирублевиков.
- Выкуп за сына и внука!
- Ну-ка… - повеселел есаул и взял золото. - Дед! У помещика награбил?
- Никак нет, разве можно! - закрестился дед. - Потные свои, всю жисть копил. Бери выкуп-то! Отпусти сына и внука.
- Ты, старик, не заговаривайся! - рассмеялся есаул. - Живой моряк?
- Дышит еще… - сказал казак без зубов. Щеки у него запали, поэтому он выглядел намного старше своих лет.
- Бросьте его на бричку! - приказал есаул. - Пусть с ним полковник Белов разбирается. А може, старик, его тут и пристрелить, дома, в семье похороните по-православному? - спросил есаул. - Ему все равно не жить… Хоть умрет без муки. Полковник Белов дюже лютый.
Нет, Хмара не шутил, говорил на полном серьезе, по-своему хотел отработать золотишко.
- Христос с тобой! - закрестился дед.
Неожиданно к ним подбежал Семен, упал рядом с отцом на колени, затем затараторил:
- Господин есаул! Господин Хмара! Это золото мое, вот вам крест! Мое теперь! Теперь я старшим в доме остался.
Борода у Семена сбилась набок, точно отклеилась.
- Ранило меня на германской… - сказал, точно простонал, Семен. - Это раны за бога, царя и отечество. Золото мое! Вы же обещали - моего не тронете. Корову обещали и лошадь…
- Сергуненко, дай ему, большевистскому отродью.
Казакам не требовалось повторять приказ, они умели бить с оттяжкой.
Семен кулем свалился на разбитые черепки от горшка.

Ванятка в этот момент пришел в себя, он подобрался, вскочил и молча вновь налетел кочетком на есаула, но споткнулся о ногу дяди Семена и юзом поехал к крыльцу.
- Га! Глянь, опять морока ударила у голову!
И есаул автоматически, отработанным ударом внахлест перепоясал Ванечку нагайкой. Спасибо - удар пришелся не по голове. Лопнул овчинный кожушок, рубашка. Ваня потерял сознание.
Сколько он провалялся? День, два?.. Нет, больше, намного больше. Очнулся, когда уже снег покрыл землю, сады. Дон стал, и по нему, минуя мост, тянулись обозы с хлебом в город.
Лежал Ваня на кровати деда под пологом. В ногах сидела мать. Он сразу узнал ее, хотя узнать ее было нелегко - исчезли у Полины роскошные русые косы, была она острижена, как тифозная, коротко до безобразия.
Она не выразила радость, что сын наконец очнулся. Она была вроде бы не в себе. Глядела неотрывно в дальний угол, Ванятка тоже посмотрел туда, но ничего не увидел.
- С выздоровлением! - обрадовалась тетя Дуня. - Выходили. Ну, молодец! Поля, Полина Гавриловна, ты иди - тоже ляжешь, - взяла мать за руку и повела к печке. - Все хорошо… Сынок живой…
- Где папа? - первое, что спросил Ваня.
- Уехал! Уехал! - ответила тетя Дуня и испуганно обернулась к матери. Та вроде и не слышала. - Уехал!
- Куда?
- Увезли его, - отвернулась тетя Дуня. - Отпустят! Отпустят.
И выскочила в сени, задержав дыхание, чтоб не разрыдаться.
У кровати шустрила Катька, что с нее взять, с дурехи, выложила начистую:
- Дедушка помер… У него жила в груди лопнула. А дядя Семен повесился на вожжах в овраге. Березу видел? Он на ней повесился. Это он дядю Сережу казакам отдал. Ты и тетя Поля живы остались. А мой батяня хитрый, он убег и спрятался в клуне, его даже пальцем не тронули, во какой он ходкий!
Ей хватило ума не сказать двоюродному брату, что его отца, матроса Балтийского флота чекиста Сергея Ивановича Сидорихина, казнили в Землянске на главной и единственной площади.
А буденовцы с пиками ворвались в Землянск на следующий день.


Глава 2 МУЗЫКАНТЫ
1
Кисловодск лежал защищенный со всех сторон горами от холодных ветров. Городишко был небольшим, курортным, почти таким, каким его описал Лермонтов в «Княжне Мери»: здания в основном двухэтажные, по окраинам чисто выбеленные казацкие мазанки, многие под железной крышей. Жили казаки куда зажиточнее воронежских мужиков. Оно и понятно - тут не было векового засилья крепостников-помещиков.
Сидорихины Полина Гавриловна и Ванюша приехали на Северный Кавказ в августе 1920 года и поселились в Кисловодске в трехэтажной каменной гостинице «Бештау» в самом центре города. Совсем недавно в ней останавливались дамы двора, именитые сановники из Петербурга, офицерье и промышленники, теперь в номерах располагались трудящиеся. Номер Сидорихиным достался просторный, солнечный, с ванной. Правда, из-за нехватки воды водокачка работала с перебоями, ванная бездействовала, но все равно было приятно иметь собственную ванную. Дверь на балкон круглые сутки была открыта. Целебный горный воздух пьянил, Сидорихины спали, как сурки, ложились рано, вставали поздно и еще днем приминали подушки.
Плата в «Бештау» оказалась невысокой, а после того, как Полина Гавриловна сходила в горком партии и встала на учет, показала бумаги из Воронежского губисполкома, с нее полностью сняли оплату, потому что семье зверски замученного чекиста, балтийского матроса Сергея Ивановича, требовались длительный отдых и серьезное лечение, а средства, выделенные в Воронеже, кончились.
Жизнь в «Бештау» шла сумбурная и шумная: на гостиницу претендовали военные и гражданские, победили военные. Второй этаж захватила служба тыла какого-то крупного военного соединения. Как можно было понять из разговоров, после взятия красными Новороссийска в плен буденовцам попали тысячи белоказаков, не успевших отплыть морем в Турцию на транспортных кораблях Антанты.
Когда Полина Гавриловна узнала об этом, она потеряла покой.
- Как же так? Ничего не понимаю? Товарищи! Все они виноваты! Нет им прощения!
Но в горкоме сказали, что она не понимает текущего момента. Полина Гавриловна пошла в ЧК, к товарищам мужа по работе.
Вернулась Полина Гавриловна в гостиницу поздно, когда на улицах зажглись редкие фонари. В горах прошел дождь, и воздух стал прохладным. Ванечка на балконе накачал примус. Примус в «Бештау» держать запрещалось, но с приездом штаба забыли про многие запреты, иногда прямо во дворе разжигали костер, на нем варили кулеш для красноармейцев.
Мать отказалась от чая, она ходила по номеру, обняв себя руками за плечи с накинутым платком. Тихо задавала себе вопросы, спорила и отвечала.
Ванечка знал, что мать нельзя ни в коем случае оставлять в подобном состоянии. «Это преддверие к тихому помешательству», - говорили врачи. Ее направили в Кисловодск, чтоб со сменой места жительства она забыла о пережитом.
- Мама, что произошло? Мама! - пытался остановить ее Ванечка. - Мама!
Он схватил фарфоровую чашку, которую привезли из-под Каменного моста, и бросил ее на пол. Чашка со звоном разлетелась на куски.
- Что? - остановилась мать. - Зачем разбил чашку? Я слышу…
- Мамочка, что случилось? Я боюсь, когда ты такая!
- Не знаю даже! - Полина Гавриловна села с ногами на кровать. - Иди ко мне! Мне, понимаешь, мне предложили в Чека ехать в станицу Боргустанскую! Ты понял? Это где «Волчья сотня» начала формироваться.
- Какая «сотня»? - похолодел Ванечка.
- Да, да! Она самая! - поежилась мать и набросила на ноги одеяло. - Сегодня прохладно, закрой дверь на балкон. Там живет и семья есаула Хмары… Да, да! Того самого, что тебя чуть не убил.
- Ага! - вскочил с кровати Ванечка. - Ура! Нашли!
- Ты не понял сути, - сказала мать.
- Как не понял? Их нашли! Они ответят за отца.
- Сядь! Голова болит. Ничего ты не понял! Мне предложили ехать в станицу Боргустанскую работать среди жен казаков.
Ваня действительно ничего не понимал… Он глядел на мать таким же отсутствующим взглядом, которым она минуту назад смотрела на него.
- Я должна создать женский комитет. Я должна буду призывать казачек, чтоб они уговаривали мужей прекратить борьбу с Советской властью и вернулись к семьям. И за это им гарантируется жизнь! Ты понял, Ваня? Им за то, что они наконец перестанут убивать сыновей трудового люда, им будет дана жизнь.
- Мама, ты шутишь!
- Нет! - коротко ответила мать.
- И ты согласилась?
- Нет!
- Правильно! - заплакал от волнения Ваня. - Это предательство!
- Не говори ерунды! Что-то происходит, а мы с тобой не понимав ем. Воззвание подписано в Москве. Лениным! Мы с тобой, сын, что-то не понимаем.
- Как? - закричал Ваня.
- Вот так! А я могу сорваться. Вытащу наган, у меня семь богов в стволе. Чай не остыл? Давай по чашечке! Жаль, что разбил самую любимую. Партийная дисциплина, Ваня, должна быть единая для всех.
- Ты что говоришь-то? - сказал Ваня. - Ты соображай, что говоришь.
- Я и соображаю, - ответила мать. - Но в мою голову никак не укладываются все факты. Может, в Москву съездить?
- А деньги? Пропуск надо.
- Голова идет кругом, - пожаловалась мать. - Не все белоказаки оружие сложили. Многие ушли в банды. Это уже не армия, как у Деникина была, у Колчака или сейчас прячется в Крыму. Казаки местные жители, их поддерживают родственники, жены, братья… Требуется открывать глаза. Открывать глаза! Понятно? А не есть ли это мягкотелость? Не сдаются, стреляют, рушат, а мы им: «Касатики, хватит баловаться, идите до жен, будьте паиньками». Страшно говорить такие слова… Я мать, но говорю тебе: я бы их под корень… Не могу я их прощать! Не могу!
Сидорихины легли спать поздно и еще долго спорили, но так и не пришли к единому мнению.
2
Военные постепенно вытесняли цивильных постояльцев из гостиницы. Конники по-хозяйски расхаживали гулкими коридорами, гремели оружием, стучали шашками, звенели шпорами. Тихо жить они не умели, им было тесно в «нумерах», заставленных громоздкой мебелью, обитой ярким бархатом. Лихие конники жили с распахнутыми дверями, к тому же они постоянно встречали друзей, которых считали погибшими, эти встречи вызывали бурную радость.
Круговерть бушевала по этажам круглые сутки без перерыва на обед. Ване такая жизнь нравилась. Он ходил по штабу, знакомился с командирами. Девушки-машинистки (их называли в шутку «ремингтонными барышнями» за то, что они печатали на машинках марки «Ремингтон») в нем души не чаяли, но он с ними поссорился - они взяли и повязали платочек на Ивана: «Ой, какая хорошенькая девочка!» Надо же такое придумать!
На первом этаже находился бывший ресторан. Он не работал, его хозяин удрал с беляками на Черное море, дошли слухи, что он добрался до Парижа. Хозяин был дальновидным человеком - сумел до бегства обратить столовое серебро, картины, посуду в наличные доллары и фунты стерлингов. От прежней роскоши «Бештау» остались лишь пальма в кадке и фикус в высокой фаянсовой китайской вазе, мебель, обитая плюшем, ценности не представляла. Ресторан был закрыт. Ваня несколько раз залезал в него со двора из любопытства. Большой зал со столиками, кабинетами, большая кухня и множество кладовок для продуктов… Хорошо было играть в дикий Запад. И вот в одно прекрасное утро двери ресторана оказались распахнутыми.
Ваня вошел в зал.
Ресторан захватил агитотряд. И «Бештау» сразу стал напоминать вокзал в Ростове, когда на пятый запасной путь подают теплушки из Армавира для мешочников из Тамбова. Недаром говорят, что порядок в театре потеряли при. первой постановке греческой трагедии вместе с текстом.
Ресторан без хозяина, агитотряд без командования. Киномеханики и киноаппарат с «динамкой», оборудованной велосипедным приводом, чтоб дать ток, забрали во Владикавказе, плакаты про вшей и дизентерию вместе с чтецами-декламаторами услали в Среднюю Азию. Осталась часть труппы Народного революционного театра имени первого выстрела крейсера «Авроры», духовой оркестр, художник и два режиссера - Георгий Людвигович Пффер (классик) и Усов-Борисов (авангардист).
Георгий Людвигович Пффер вел род от шведа, попавшего в плен при Полтавской битве. Вначале Пфферы шили хомуты на Охте, затем осели на театре, стали потомственными суфлерами.
- С моим дедом здоровался за руку сам Собинов! - хвастался Георгий Людвигович. - Я суфлировал самому Шаляпину! А вы мне будете читать проповеди о театре! Стыдно, юноша! Вы отрицаете оперу!
Усов-Борисов тоже родился в Петрограде, на Лиговке, про своих родителей ничего не рассказывал, зато он видел Маяковского, писателя Бабеля, в штабе - еще более знаменитого человека, самого Семена Михайловича Буденного.
- Хлам истории! - заявлял Усов-Борисов. - Оперу отрицал даже граф Лев Николаевич Толстой. Вам не понять момента истории! Вы погрязли в проклятом прошлом! Вы - раб искусства эксплуататоров! Вы даже не читали «Готтской программы»!
- Я читал, - признавался Пффер. - Но ничего в ней не понял.
- То-то же! - поднимал палец над головой Усов-Борисов. - То-то же.
И вот это «То-то же!» для интеллигентного человека товарища Георгия
Людвиговича Пффера было горше всех оскорблений, даже если бы они прозвучали на шведском языке: в междометиях ему слышалась бездна собственной никчемности и космическая глубина революционной неподкованности.
Он брал брошюру Маркса «Готтская программа», запирался с ней в кладовке для хранения рыбопродуктов, но когда возвращался в общий зал бывшего ресторана «Бештау», по его печальному лицу становилось понятно, что и на этот раз он ничего не понял.
- То-то же!
Ванечка с первого взгляда влюбился в Усова-Борисова - лет на пять старше, а как преуспел, какой молодец! Какой революционер!
Ваня не успел познакомиться с режиссером-новатором, пришла мать, как всегда не вовремя, взяла его за руку, как маленького, что за привычка у матерей… при всех брать за руку, еще целоваться начнет, поправлять воротник рубашки, мол, порвал, где ты запачкался, поцарапался?
- Пошли! - не стал сопротивляться Ваня. - Зачем я тебе понадобился?
- Разве забыл? - удивилась в свою очередь мать. - Сегодня тебя примет профессор Щелкунов. Будет сам пользовать. Ты не ударь в грязь лицом. Только после его осмотра я смогу быть спокойной.
- Ничего у меня не болит, - сказал Ваня, но сопротивляться не стал: спина побаливала от казацкой нагайки.
Профессор встретил Сидорихина приветливо. Это был крупный мужчина, если бы у него была окладистая борода, его легко можно было бы принять за сибирского купца-оптовика. Он был близорук, щурил глаза, но очки носить стеснялся.
- Раздевайся, герой, - приказал Щелкунов.
- Можно я останусь? - встревожилась мать.
- Оставайтесь, не помешаете. О, как тебя! - увидел профессор еще не побелевший шрам вдоль спины. - Знатно приласкали! Ну-ка, ну-ка, если будет больно, говори сразу. Повернись к свету.
Он долго и внимательно изучал спину Вани. Руки были теплыми, и от их прикосновения наступала дрема, и было приятно, что тебя ласково и в то же время сильно простукивает, прощупывает добрый человек. У злого таких рук не бывает.
Рентгена у профессора Щелкунова не имелось, весь его успех и слава зиждились на огромном опыте, чуткой интуиции. Он на слух и по реакции больного, по малейшему хрипу или глухому звуку находил очаги болезней, ставил точный диагноз, назначал посильное лечение, потому что медикаментов в молодой Республике Советов практически не производилось. Особенно трудно было лечить детей - их организмы были неокрепшие, подорванные голодом и лишениями, шумы могли возникнуть и оттого, что, попав в благоприятные условия, дети начинали быстро расти, их тела наверстывали упущенное, а сердце и легкие отставали от общего роста, не справлялись с возросшей нагрузкой. Подобное было хотя и не болезнью, но все же серьезным недомоганием, которое, если не учесть неравномерности роста различных органов, могло привести к тяжелым последствиям и даже к инвалидности.
- Что я вам скажу… - окончил осмотр профессор Щелкунов. - Сын у вас сильный, раз встал без помощи врача с постели. Легкие в норме. Была отечность от удара, но она почти рассосалась. Я бы его с удовольствием положил в детскую клинику.
- Так положите! - сказала Полина Гавриловна, с надеждой глядя на врача.
- Положил бы для окончательной поправки. - Профессор посмотрел в окно. - Моя клиника очень маленькая. Сюда многие дети ждут очереди. Их состояние здоровья намного хуже, чем у тебя, богатырь. Вот что… Будешь через три дня забегать ко мне. Где вы живете?
- В «Бештау».
- Однако, - как-то уже по-иному посмотрел на них профессор. - Ходят слухи, что там ресторан вновь открывают?
- Откуда вы взяли? Это нелепица!
- Слышали музыку из окон.
- Духовой военный оркестр и театр на первом этаже поселились, - пояснил Ванечка. - Я был у них… Они по воинским полкам ездят, агитируют наших на бой.
- Наших? - профессор вновь уже по-иному посмотрел на Сидорихиных. - Простите, вы… Как вас зовут?
- Полина Гавриловна.
- А разве вы… Простите за назойливость, но раз пошли на откровенный разговор… Вы не из?..
- Нет! - сказала Полина Гавриловна. - Просто я родилась в Кронштадте в семье моряка. Мой отец называл себя «боцманом флота Российского». Он служил на миноносце, был старшим на минном аппарате. Грамотный. Сочувствовал большевикам. В числе немногих учился минному делу в Англии и во Франции. Мне доучиться, правда, не пришлось, хотя в Кронштадте, в городе-крепости, дочке полного Георгиевского кавалера можно было окончить гимназию.
- Господи, твои пути неисповедимы! - перекрестился профессор. - За ваше откровение. Я ведь революцию не принял. Какое там поначалу! Когда бонапарт Сорокин начал стрелять комиссаров, я радовался. Белых хлебом-солью встречал.
- Знаем! - посуровела Полина Гавриловна. Ванечка встал рядом, нахмурил брови. - Пережили подобное в Воронеже! Когда Шкуро встречали такие, как вы!
- Не суди и не судим будешь! Я вам не каюсь и не прошу прощения. Смешно было бы, если бы я сразу закричал: «Ура! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Молчите? Я примыкал активно к белому движению почти до самого конца. Нет, я их не могу теперь называть «наши». Я не воевал, я не стрелял, я лечил офицеров. Госпиталь господ офицеров был в этом вот здании, где сидим мы сейчас. Я давал клятву Гиппократа, и госпиталь казался мне святым местом, раз на нем висел флаг с красным крестом, знаком милосердия. Зло не может долгое время существовать в сильных концентрациях, оно само себя изживает, потому что до бесконечности нельзя убивать, разрушать, иначе теряется связь вещей, просто элементарно жизнь становится невозможной, исчезает питательная среда и для зла. Я понял, что белое дело обречено, когда увидел, как ведут себя в госпитале господа офицеры, получившие раны и, казалось бы, понявшие, как Болконский под Аустерлицем, смысл жизни. Тут был пьяный кабак, не избавление от духовных и физических страданий, а… самопожирание.
3
Слух, что в «Бештау» открывается ресторан с «шантаном», упорно продолжал распространяться по городу. Причиной тому был агитотряд: художник с утра до вечера писал декорации, оркестр репетировал, и в его составе была скрипка. Ее нежный звук иногда вливался в рев медных труб, что придавало мелодии сердечность, правда, пела скрипка в сопровождении военного оркестра революционные песни, тем не менее она же пела.
Оркестр репетировал и каждый день выстраивался перед штабом гарнизона на торжественном разводе городского караула. И гарнизонный караул, четко чеканя шаг, маршировал по главной улице до вокзала. Мальчишки пристраивались сзади строя и рубили строевой шаг азартнее красноармейцев. Ванечка к подобным забавам не прибегал - он считал себя взрослым человеком, хотя иногда стоило огромных усилий удержать себя.
«Бештау» неожиданно стали посещать таинственные личности в накидках-разлетайках и черных шляпах с широченными полями. Они перехватывали красных командиров, посыльных и «ремингтонных барышень» в белых кофточках и галстуках в горошек, блокировали их в темных углах и, завывая, читали стихи про роковую любовь и мертвецов на заросших сиренью кладбищах.
При ближайшем рассмотрении типы оказались доморощенными поэтами, которых почему-то осенью 1920 года в Кисловодске оказалось десятка два. Усов-Борисов поймал гостей на месте преступления: они читали стихи Есенина, выдавая за свои.
- Ворье! - взвился режиссер-новатор. - Плагиаторы!
Решил он вопрос не революционно, зато доходчиво - отлупил публично троих, за что Усову-Борисову пообещали гауптвахту, но не посадили - плагиаторы исчезли из города, говорили, что подались они во Владикавказ, где начали печатать стихи в местной газете.
Следом объявились жонглеры. Их было не меньше поэтов, но они дело знали, демонстрировали свое мастерство в кабинетах стульями, пресс-папье, бутылками с чернилами, после чего требовали у каптенармусов ангажементов.
Доконала «Бештау» певица из Нижнего Новгорода. Она устроила скандал, после чего комендант взвода охраны штаба тыла ввел пропускную систему и еще больше запутал сложные взаимоотношения между постояльцами. По замыслу решение было правильным - негоже было шататься по штабу разным неопознанным гражданам. Война еще не окончилась, еще были Врангель, поляки на Украине, японцы, англичане, американцы и атаман Семенов на Дальнем Востоке. Коменданту бы начать с митинга, а он принес пальму и фикус к Сидорихиным, попросил сохранить для счастливого будущего, затем выставил часовых у входа.
Лихие конники восприняли подобное как личное оскорбление.
- Какую тебе писульку треба? - шумели они у входа. - Ты шо, не видишь, кто стоит перед тобой? Да меня белые генералы знают и боятся, а ты с меня, бумажная твоя душа, пропуск требуешь.
- Назад! Не положено! - повысили голос часовые. - Стрелять будем!
- Это в нас стрелять? Дывитесь, люди добрые!
Часовые не служили в войсках «червонного казачества», иначе бы они не сказали таких необдуманных слов.
- Контра! - схватились за шашки красные конники.
Часовые вызвали начальника караула, тот - караул, прибежал комендант, за ним взвод охраны штаба тыла.
На помощь конникам пришли агитотрядовцы. Прибежал Усов-Борисов и завопил:
- На, бей меня в грудь, как в бубен!
Потом почему-то вспомнил предательство немецких социал-демократов в 1914 году, которые проголосовали за военную программу правительства кайзера Вильгельма II, припомнил ренегата Каутского, затем вспомнил о Парижской коммуне.
Ваня слышал от матери о ней, поэтому прислушался к словам.
Режиссер-новатор в лицах изобразил, как подлые версальцы хватали коммунаров, расстреливали их пачками, как затопили кровью предместья Парижа. Указав на Ванечку, Усов-Борисов упомянул французского мальчика по имени Гаврош.
И Ваня наяву пережил услышанное. И все вокруг тоже сопереживали, затаив дыхание, познавали историю борьбы первых красных против первых белых на земном шаре. Ваня тут же, у входа в гостиницу, увидел баррикаду и превратился в Гавроша, он собирал патроны для коммунаров, и его сразила в сердце пуля врагов всемирной свободы Труда. И он упал. И он умер…
И конники спрятали шашки в ножны. Комендант утер слезы с обвислых запорожских усов, караул зааплодировал, буза прекратилась.
- Я речь скажу! - выступил вперед комендант. - Выслухав такое яркое выступление уважаемого Усова-Борисова, я решил пост снять!
- Це дило! - сказали конники.
- Он будет стоять на втором этаже при входе в штаб. И никого без моей подписи не пропускать! Пусть это будет даже сам товарищ Гаврош! Если у нас не будет революционной беспощадной дисциплины, эти гады версальцы - тьфу! - контрреволюция застанет нас врасплох. Правильно я гутарю?!
- Правильно! Единогласно!
Режиссер-новатор неожиданно подошел к Ванечке, положил ему на плечо руку и сказал:
- А у тебя есть талант, молодой человек! Я наблюдал за тобой! Наблюдал! Как ты относишься к системе Станиславского?
- Как и ты! - выпалил Ваня.
- Тогда мы с тобой сойдемся, - заверил Усов-Борисов, видно, подражая какому-то маститому режиссеру. - А читал ли ты «Отверженных» Гюго?
- Нет!
- Что же читал?
- Про индейцев… Про Шерлока Холмса. Еще «Оливера Твиста».
- Ты не совсем безнадежный, - заверил новый друг. - Вернемся к текущему моменту. Конечно, буржуазные предрассудки думать о еде, но я почему-то все время хочу есть. Ты как насчет буржуазных привычек?
- Я не знал, что это предрассудки, - сказал Ваня. - Мне и врач говорил, чтоб я больше ел.
- Счастливый же ты - тебе даже врачи рекомендуют хорошо есть!
- Пошли к нам, - предложил Ваня. - Мы вчера паек получили, мама мамалыги наварила. Еще таранька есть. Соленая очень.
- Нужно знать и любить свой край! - изрек Усов-Борисов. - Пошли к пещере сорока разбойников. «Сим-сим, открой дверь!»
Талоны на обед им выдал комендант штаба и попросил починить гармонику-тальянку с колокольчиками.
- Я ее в церковь диакону носил, он сало взял, а чинить отказался. Пришлось сало назад отобрать.
- А зачем вам тальянка?
- Память друга, - ответил комендант. - Ты артист, тебе и гармоника в руки.
Друзья пообедали щами и кашей. Вернулись в гостиницу. Режиссер показал сколоченную на живую нитку сцену, кулисами была кухня, на кухонной холодной плите среди кастрюль стоял пулемет «максим». Он был сломанным, его использовали как бутафорию в пьесах.
- А какую теперь будете пьесу показывать? - поинтересовался Ваня.
- По «Отверженным», - ответил Усов-Борисов. - В современной трактовке. Новая жизнь требует и новые формы искусства. Ты когда-нибудь выступал на сцене? Как ты представляешь роль Гавроша?
- Не знаю, - ответил Ваня. - В Воронеже я год назад ко второй годовщине Октября играть учился на балалайке «Светит месяц» и «Страдания».
- Так! - заходил по сцене Усов-Борисов. - Очень хорошо! Ты будешь на баррикаде играть на балалайке. Будешь петь что-нибудь обидное
для версальцев. Гениально. Вот за что они непременно захотят тебя убить Понял? Идея! Точно! Ты поешь частушки про версальцев, а они подползают и стреляют. Наши идут в атаку и… Бедный маленький балалаечник из предместья Парижа!
- А в Париже умеют играть на балалайке? - осторожно усомнился Ванечка.
- А на чем же они играют? - встал на дыбы Усов-Борисов, не терпящий возражений. - У пролетариев одна идеология, одна задача, один «Интернационал». И играть они должны на одном инструменте. Пролетарском. Что ж они, по-твоему, на арфе играют? Или на саксофоне?
- Что я петь буду?
- Так… Баррикада здесь, версальцы, выходя из кухни, тащат пулемет. Вечер. Весна. В руках у тебя балалайка. Тебя слушают коммунары.
- Гаврош собирал патроны, ты сам говорил.
- Ты их уже собрал днем. Так… Ты садишься на баррикаду. - Усов-Борисов опрокинул стул. - В руках у тебя инструмент пролетариата. И ты поешь понятное всем пролетариям. Частушку.
Когда Тьерчик умирал,
Врангелю наказывал:
«Да хлеб рабочим не давать,
Сала не показывать!»
Нравится?
- Очень! - растерялся от гениальности друга Ваня.
- Бред собачий! - послышалось от двери. Там стоял сторонник классического направления в искусстве Георгий Людвигович Пффер. - «Слышен звон бубенцов издалека», «Неаполитанский ансамбль тамбовской песни и пляски». Профанация.
- Ты подумай! - опустился рядом с Ванечкой на стул Усов-Борисов. - Он шпионит за нами. Может, стихи Есенина будете за свои выдавать?
- Как Тьер мог наказывать что-нибудь Врангелю? - не обратил внимания на незаслуженный намек потомственный суфлер.
- А очень просто! Карл Маркс когда умер? Вот в этом вся твоя политическая близорукость. Маркс умер когда, а мы его заветы выполняем сейчас. Почему же наследник версальцев белогвардейский генерал Врангель не может выполнять наказы Тьера? Вы не читали в подлиннике «Капитал» Маркса, вы поклонник короля Лира!
- При чем тут «Капитал» и «Король Лир»? - оторопел Георгий Людвигович Пффер.
- Он спрашивает! - захохотал, как Мефистофель, Усов-Борисов.- Что отдал король дочкам? Капитал - замки, поля, подданных… Отдал капитал, значит, отдал власть! А что из этого получилось?
- Ничего хорошего, - уклончиво ответил потомственный суфлер.- По Шекспиру… Но я не могу понять, при чем тут Шекспир?
- Именно при чем! - бушевал режиссер-новатор. - Не тем отдали и не те взяли. Если бы пролетариат в то время сам бы взял власть и капитал в свои мозолистые руки, не ждал бы веками подачек от эксплуататорских классов, мы бы сейчас с вами подобных дискуссий не вели, все было бы давно решено. Из-за таких, как вы, пролетариат и беднейшее
крестьянство даже при опоре на середняков вынуждены были влачить жалкое существование до наших дней. Даже теперь вы никак не можете понять, зачем Гаврош обращается из прошлого в наше сегодня.
Убедить в произвольном толковании истории Усова-Борисова было никак невозможно, да Пффер и не смог бы при всем желании, потому что, кроме пьес и либретто, ничего печатного в руках сроду не держал, ту же «Готтскую программу» изучил лишь до второй страницы, о «Капитале» и заикаться нечего было.
Спорить с Усовым-Борисовым могла лишь скрипачка Софья Ильинична, она же и капельмейстер оркестра, дама пожилая, строгая, обладающая мужским складом ума, потому что в девичьи годы, чтоб прокормить семью, вынуждена была переодеваться в одежду молодого человека и играть на скрипке в одесском варьете.
Зато как она играла! Равного ей скрипача не было не только в Одессе, но, наверное, и в самом Кишиневе.
Оркестр вернулся с развода караула не в строю. Музыкантов называли «инвалидной командой» - они все были нестроевые, преклонного возраста, маршировать для них хотя и было привычно, но и весьма утомительно. Барабанщик, дядя Гриша, страдал одышкой, барабан вместо него носил на спине дурачок Зуя, прижившийся в агитотряде. Дурачком он стал после того, как побывал в застенках белой контрразведки и чудом спасся при расстреле. Он любил носить барабан. Следом вышагивал дядя Гриша и отбивал такты колотушкой.
- Здравствуй, Тигр! - отдал Зуя честь Усову-Борисову. - Когда будем пу-бу-бу?
- Почему он тебя Тигром зовет? - удивился Ваня.
- Меня кличут Игорем, - пояснил Усов-Борисов. - Зуя правильно выговорить не может, вот я и стал Тигром с его легкой руки.
С капельмейстером Софьей Ильиничной пришел молодой парень, весь в коже - кепка кожаная, куртка, на ногах краги, к такому костюму полагался мотоцикл или автомобиль «Рено». Софья Ильинична на его фоне выглядела особенно неказисто - в длинной гимнастерке, в галифе, заправленных в американские бутсы. Волосы у скрипачки были коротко острижены, она курила и говорила басом.
- Прошу любить и жаловать, - сказала Софья Ильинична режиссерам. - Аграновский.
- Вы случайно не авиатор? - поинтересовался Георгий Людвигович.
- Фотограф из столицы, - сказал Усов-Борисов.
- Не угадали, - добродушно улыбнулся парень. - Я инструктор горкома комсомола.
- Нашим дедам еще рановато вступать в комсомол, - сказал Усов-Борисов. - Дядя Гриш, ты как относишься к этому вопросу?
- Я бы вступил, - на полном серьезе ответил барабанщик. - Да вот жена у меня в деревне вряд ли согласится, внуков заставит нянчить.
- Товарищи! - закурила Софья Ильинична. - Вам бы только позубоскалить, а товарищ пришел по серьезному делу. За помощью… Объясните им…
- Скоро третья годовщина Октябрьской революции. В честь ее комсомольцы решили организовать воскресник, - сказал Аграновский. - Без вознаграждения молодежь будет трудиться. Дело новое, непривычное, ве-линий почин был в Москве. Сам товарищ Ленин участвовал в том празднике Труда. Вот я и уполномочен комсомолом пригласить вас внести свою лепту, хотя вы и стародежь. Сыграть веселую польку или вальс, чтоб настроение у людей стало праздничным, лучше, чем раньше на пасху. Вы агитотряд, и мне ли вас, товарищи, агитировать? Нам нужны новые обычаи, новые обряды…
- Новое искусство! - подхватил Усов-Борисов.
- Да! Теперь в театрах другие зрители и у них другие запросы.
- То-то же! - поднял палец над головой Усов-Борисов и гоголем прошелся перед товарищем Пффером.
- А что? - нахохлился Георгий Людвигович. - Гамлета объявили буржуем? Он нам не нужен?
- И жалеть нечего! - разошелся Усов-Борисов. - Вы своими гам-летами, как стопудовой гирей, тянете нас назад в бездонный колодец эксплуатации трудового народа.
- Стоп! Стоп! - остановил его Аграновский. - У вас тоже бушуют страсти? Давайте этот спор вынесем на общественный диспут. Суд устроим над Гамлетом. Выберем обвинителя…
- Я готов! - ударил себя в грудь Усов-Борисов. - Я его, приспособленца…
- Годится! - согласился Аграновский. - Еще назначим судей, вызовем свидетелей. И разберемся, нужен нам Гамлет или нет?
- Ну, а лично вы как считаете? - спросила Софья Ильинична, разгрызая грецкий орех.
- Я думаю, Врангелю Гамлета отдавать не стоит, - сказал Аграновский. - Пусть он поработает на всемирную революцию. Да, товарищи, приближается окончательный разгром белогвардейцев. Не сегодня-завтра Крым нами будет взят. Подумайте об этом тоже.
- Мы готовим пьесу по Гюго «Коммунары Парижа», - сказал Усов-Борисов, сбитый с толку тем, что представитель горкома комсомола отказался выбросить Гамлета на помойку истории.
- А что народ будет работать? - спросил деловито толстый барабанщик.
- Будем ремонтировать, значит, приводить в порядок детскую туберкулезную клинику профессора Щелкунова. Сейчас в республике многие дети болеют. Простите, вы хотите пить нарзан?
- Как сказать… - смутился барабанщик. - Лично я хочу, но у нас его в оркестре не уважают.
- Чего в нем хорошего? - сказала «валторна». - Вода да вода… Соленая.
- Простите, темный вы народ! - сказал Аграновский. - Кто сюда приезжал на воды? Князья, разные фифочки - аристократы, те, у кого были миллионы, они заботились о своем здоровье. Не все же были у них дураки. А мы по темноте - вода соленая. Господа тебе и подсовывали сивуху, а сами в Баден-Баден ехали или в Кисловодск. Большая сила в этой воде. И мы отдаем эту силу в руки пролетариата. Клиника Щелкунова - начало. Следом будем строить клиники для вдов красноармейцев, израненных, для всего трудового народа. Еще буржуи из разных стран будут проситься к нам попить нарзана, а мы им кукиш в нос! Самим надо! Так что ходите, все ходите и пейте живую воду.
- А я был в клинике профессора, - не удержался и подал голос Ваня.
- Стоп! Ты Ваня Сидорихин? - засек мальчонку Аграновский.
- Да! Откуда вы знаете?
- Узнаешь… Беги домой! Тебя мать искала. Сейчас даст тебе ремня! А на воскресник приходи, только мать предупреди, чтоб не волновалась.
Полина Гавриловна сидела за столом, раскладывала пасьянс, она всегда брала в руки карты, когда у нее были волнения.
- Мама! - сказал с порога Ваня. - Извини, я нечаянно так поздно.
Мать молчала.
- Мама, я же здесь был, в гостинице, на первом этаже у артистов. Я с режиссером познакомился. Он меня тоже в артисты пригласил. Он сказал, что я буду Гаврошем в пьесе о коммунарах. Я буду играть на балалайке. И петь частушки. Про версальцев…

Мать подняла голову, смешала карты.
- Ты будешь Гаврошем?
- Да…
- И на баррикаде будешь играть на балалайке?
- Да… Балалайка - музыкальный инструмент всемирного пролетариата.
- Это он тебе сказал?
- Да. Усов-Борисов. Тигр. Его так Зуя прозвал.
Мать вдруг откинула голову и начала смеяться. Звонко. Заразительно. Как смеялась давным-давно, когда еще был жив отец. Ванечка растерялся. Он даже забыл, как она смеется.
- Ой, не могу! - схватилась она за грудь. - Ой, уморил. Гаврош на балалайке!
И Ванечка тоже засмеялся.
Они покатывались со смеху. Они обнялись. Они были счастливы в этот момент. Мать и сын - одно целое.
Жаль только, что у Полины Гавриловны больше не было густых русых кос. Она их отрезала. Там… в Семилуках. Теперь у нее прическа была короткой. И в ней много седых волос.
- Что-то не к добру развеселились, - вдруг посерьезнела мать и прижала к себе сына. - Ровно год назад мы готовились отметить вторую годовщину Революции. И нам не дали праздновать. На душе почему-то тревожно. Ты меня в эти дни не покидай. Когда я не вижу тебя… Будь рядом со мной. Очень прошу.
4
Ночью Сидорихины проснулись от шума. Ночи уже стали прохладными. Набросив шаль на плечи, Полина Гавриловна отодвинула фикус, открыла дверь, вышла на балкон.
На булыжной мостовой перед «Бештау» выстраивались заспанные музыканты, артисты сладко зевали. Во главе строя стояла Софья Ильинична в мужской военной форме, в кепке. Левый фланг замыкал Усов-Борисов - он был самым маленьким в агитотряде.
- Инструменты брать? - опросила «флейта».
- Оставить! - скомандовал комендант взвода охраны штаба тыла.
- Куда нас подняли?
- Товарищи, не бузить! - сказал комендант. - Инструмент вам не потребуется. И оружие оставить. Софья Ильинична, у вас есть наган, оставьте его под подушкой.
- Я с ним никогда не расстаюсь после налета Махно на хутор Бочка, - сказала капельмейстер.
- Сегодня оставьте! От греха подальше. Куда ты винтовку взял? Снеси в козлы.
- Почто тревога? - спросил толстый дядя Гриша - «барабан».
- Вас подняли на облаву, - ответил комендант.
- А почему нас? Почему не
вас?
- Почему без взвода охраны?
- Почему на облаву без оружия?
- По кочану! - начал сердиться комендант. - Вам девица обрисует. Прошу, товарищ!
Откуда-то из темноты появилась девушка, сверху не разглядеть, красивая или нет. Она, стесняясь, начала объяснять:
- У меня из зоопарка сбежали звери.
- Кто сбежал? - не поняла «труба».
- Зверь, говорят, бандюга махровый.
- Почему же винтовку запретили взять?
- Тихо! Не слышно! Ты, подруга, говори шибче.
- Меня горком комсомола назначил комиссаром зоосада, - продолжала девушка, чуть не плача. - Звери - народное добро, а кормить их нечем. Мало корма… Средств не хватает. Они и убежали. Вечером.
- Все?
- Нет… Только часть. Незначительная часть. Остальные мечутся.
- А мы-то при чем? Нам самим перловки не хватает.
- Утром люди пойдут на работу, дети пойдут. И военные пойдут, - объясняла девушка. - Военные от неожиданности…
- С перепугу, - поправил кто-то. - Если лев на тебя попрет.
- Может быть… Могут выстрелить. И убить зверя. А он - народное достояние…
- Значит, мы будем ловить диких зверей? - догадался наконец Усов-Борисов. - Звероловами будем?
- Вроде, - сказала девушка. - Помогите зоосаду!
- Кто убежал-то? - не поняла «флейта», страдающая некоторой глухотой.
- Зверье.
- Какое?
- Дикое.
- Откуда?
- С зоосада за курзалом.
- А чего они убежали?
- Лопать нечего.
- Так они что, нас лопать будут?
- Всех не слопают - нас много, - уточнил дядя Гриша.
- Ясна задача? - прекратил суды-пересуды комендант. - Софья
Ильинична, командуйте. Вот комиссар по лягушкам вам помощник. А все-таки кто сбежал? Слон или удав?
- Две зебры и гиена.
- Что деется! - сказал кто-то. - Это которая гиена - огненная? Она?
- Нет, хищник, - на полном серьезе объяснила девушка. - Она жительница Африки. Зебры - это те же лошадки, но полосатые, они тоже из Африки.
- Понятно. А дрын можно взять?
Ваня, как услышал про зебр, вскочил с кровати, натянул брюки.
- Мама! Я с ними! Мам? Такое раз в жизни случается.
- Что? - вздрогнула Полина Гавриловна, метнулась к двери, выдернула ключ. - Не пущу! Нет!
- Ты меня как маленького держишь! - обиделся Ваня. - Мне уже четырнадцать лет будет… После Нового года. Они даже оружия не взяли.
- И не проси и не… Не пущу и все! - она подошла к сыну, взяла его за руки. - У меня сегодня карты плохо сложились.
- Не стыдно? Ты же коммунистка, а в какие-то карты веришь. Если узнают, что ты такая отсталая, тебе нагорит. Отпусти! Отпусти! Они уже уходят!
- Нет!
- Я уйду! - вдруг решительно заявил Ваня. - Я все равно когда-нибудь должен уйти. Мам, я не могу всю жизнь быть у твоей юбки.
Мать положила ключ на стол. Ваня подошел, взял ключ, направился к двери. Его остановили слова матери:
- Если уйдешь, завтра я уеду в станицу Боргустанскую. Туда на постой поставили Девяносто шестой кавалерийский полк Шестнадцатой кавдивизии Первой конной. Два дня назад был налет на поезд между Ессентуками и Кисловодском. Пулеметной очередью прошили вагоны с красноармейцами. Есть убитый. Вчера арестовали семь бандитов. Есаул Хмара и еще один бандюга, Савенко, организовали обстрел поезда. Если ты уйдешь, я уеду.
- Это не честно! - оторопел Ваня: мать впервые так безжалостно говорила с ним.
- Честно! - ответила мать. - Ты сам выбрал условия поединка.
- Какой же это поединок?
- Поединок сына, который стал взрослым, с матерью, которая потеряла над ним власть. Все матери проходят через это, но я думала, что это произойдет позже, хотя бы через год. Ты созрел, чтоб принимать самостоятельные решения, а я забыла, в какое время мы живем. Иди! Взял ключ, иди, иначе я буду презирать тебя. Только побыстрее возвращайся домой. Ты прав, чем раньше мальчик отрывается от юбки, тем он быстрее становится мужчиной. И помни всегда - ты сын чекиста!
5
Город досматривал последние сны, мостовые были звонкими, а лужи кое-где прихватило сахарной корочкой льда. На душе было восторженно и немножко почему-то грустно. Во всем теле чувствовалась легкость. Ваня бежал следом за артистами, точно катился воздушный шарик, без усилий отталкивался упругими ногами от земли и ощущал радость полета, как во сне, когда стоит замахать руками, и ты взлетишь под облака. Он чувствовал себя вольным. Он очутился лицом к лицу со всем миром, и будущие его поступки определялись уже собственными его решениями, вытекающими из его желаний, воли, опыта, ума. И было немножко страшно. От собственной смелости. Раньше он самоутверждался среди сверстников, дрался с буржуями или верховодил такими же детьми из бедных семей, бывало, и попадал под влияние более сильного мальчика, более волевого, а сегодня Ваня, точно бабочка, вылупился из кокона прожитого, впереди были новые ощущения, новые друзья, новая жизнь, в которой он сам тоже был новым - самостоятельным. Как щенок, он непременно набьет шишки на лбу, набьет сам, без подстраховки матери, один на один со временем и вселенной. И это пьянило. И будоражило.
Он догнал строй у вокзала. Собственно, это был уже не строй, а толпа, в которой каждый высказывал собственный план отлова диких зверей. Когда каждый высказывался никого не слушая, дядя Гриша догадался спросить у комиссара по диким зверям: а где искать беглецов?
- Я не знаю, - честно созналась девушка. - Где будут кричать, туда, наверное, и нужно бежать.
- А чем мы их вязать-то будем?
- Вот я прихватила уздечку, - сказала девушка.
- Одну на двух зебр?
- Ага.
Зебр нашли около нарзанной галереи, они мирно паслись на клумбах, дощипывая теплолюбивые цветы, не догадавшиеся уснуть на зиму.
- Слушай команду! - взял власть в свои руки Усов-Борисов. - Музыканты заходи справа, драмартисты - слева. Дядя Гриша, бери уздечку и надень на ту, поменьше.
Дядя Гриша взял уздечку и направился к полосатым лошадям, те подпустили его на два метра, затем отбежали, барабанщик подходил к ним, они опять отбегали, вновь подпускали метра на два, и когда, по их соображению, он переходил границы вольера, они вновь делали бросок по ручью вверх на гору, к беседке с разноцветными стеклами.
- Мужики, стоп! - остановил преследование Усов-Борисов. - Так мы их отгоним на Эльбрус, а там потеряем в снегах.
- Тем более, -сказала Софья Ильинична,-они к снегам не привыкли.
- Окружай! - скомандовал Усов-Борисов, забравшись на большой валун. - Беритесь за руки, как в хороводе. Ты, дядя Гриша, стой столбом, мы их к тебе подгоним.
Отбегая от приближающихся, зебры оказались рядом с дядей Гришей.
- Цоб-цобе! - заворковал дядя Гриша, развернув уздечку двумя руками. - Иди сюда, цоб-цобе! Ездить мы на тебе не будем. Так… Суй голову…
Живым дядя Гриша остался чудом. Он с воплями побежал от зебры, а та налетала, кусала его за спину да еще норовила лягнуть передними ногами.

- Где мой наган! - закричал дядя Гриша. - Я их мигом порешу!
- Вот поэтому оружия и не дали, - сказала «флейта».
- Может, вызвать эскадрон червонных казаков? - предложил кто-то.
- У них пики есть. Петлю на пику, пику в руки, петлю зебре на шею…
- Не пойдет! Опрокинут они эскадрон. Надо не меньше полка.
Выручил звероловов дурачок Зуя. Он пришел с караваем теплого хлеба под мышкой.
- Во в пекални дали… Я помогал, тесто месил, мне хлеба дали.
Зебры раздули ноздри, подошли к Зуе, зашлепали губами, большая попробовала даже отнять хлеб у Зуи.
- Не отдавай! - завопили звероловы. - Держи! Беги к зоосаду!
Зуя, прижав каравай к груди, припустил к курзалу. Зебры за ним. Те, кто мог бежать, постепенно вытягивались в длинную цепочку - впереди были самые шустрые, первым, конечно, Ванечка.
Ворота зоосада оказались распахнуты, на скамейке спал сторож с метлой в руках. Топот и гомон разбудили его. Увиденное его нисколько не удивило.
- Привели! Молодцы! Следующий раз пораньше постарайтесь! Матрацы на четырех ногах! - обругал он зебр. - Че я буду бегать за вами?
И зебры опустили гордые головы и перестали пытаться отнять хлеб у Зуи, как пристыженные собачки, затрусили к загону. Сторож погрозил им метлой, закрыл загон. Потом постоял, опершись на метлу, и перебросил через сетку вязанку веточек.
- Это и все им жевать? - спросил Ваня.
- А что им еще? Деликатесами, что ли, кормить? Сена надо бы накосить, да косу кто-то спер и продал. Не подохнут! Я их ночью опять выпущу. Пусть учатся жить на подножном корму. А гиена Машка где? Куда вы гиену дели? Она три переворота выдюжила, а вы ее, родную, за что? Кому она плохое сделала?
- Мы ее не нашли, - ответили сторожу.
- Машку не нашли? - удивился сторож.
- Зачем вы ее выпустили? - спросила девушка - комиссар зоосада.
- Не выпускал, вот вам крест святой. Подрыла Манька ограду. Ее надо бы держать с каменным забором глубиной хотя бы на полметра. А там у меня медведица. Захворала медведица - на зиму спать положено, а жиру не накопила, не до жиру, быть бы живу. Там ей лучше, я листьев в конурку наносил. Лежит… Совсем отощала. Я хотел и ее… Да страшно… А гиена сама ушла, вот те крест святой.
- Где ж ее искать?
- Как где? - икнул от удивления сторож. - На свалке, где ее, родную, искать. Для нас свалка - это фу! А для гиены - это вроде… вроде… парикмахерской - одеколон, духи с повидлом. Там она. Катается, родная, запахами любимыми пропитывается.
- Это где парикмахерская-свалка, - начал соображать Усов-Борисов.
- Так… Где скала Кольцо, - сказал сторож. - За городом. Туда из-за инфекции приказано вывозить мусор и всяческую падаль. Во! Возьмите сети!
- Кольцо? Это верст десять, - сказал дядя Гриша. - Туда десять, оттуда десять… У меня сердце уже барабаном стучит.
- А ты что же хотел, чтоб мусор посредине города сваливали? - сказала Софья Ильинична. - Первое дело по борьбе с брюшным тифом, дизентерией - нечистоты как можно дальше от жилья убирать и сжигать. У нас же была агитка, Тигр ставил.
- Ставил, да оставил, - сказал Усов-Борисов. - В каждой дивизии хотят свою агитку иметь. Я думаю… К Кольцу пойдут добровольцы. Подвод нет.
- А чем же мы гиену огненную назад повезем?
- Доставим, - заверил сторож. - Главное - ее связать. Ежели она падали налопалась.
- Чего? - вытянулась, как по команде смирно, Софья Ильинична.
- Падали, - сказал сторож. - Она, родимая, Машка, падаль обожает. Ну, а где же я ей ее возьму? Надысь трех кошек на помойках разыскал и крысу дохлую, так меня в Чека забрали, мол, я контра, народ хочу заразить холерой.
- А что, гиена свежее мясо не ест? - продолжала Софья Ильинична выяснять волнующий ее вопрос.
- Почему? Ест… Но кто ей мяса-то даст? - пожал плечами сторож.- Вот девчушка пришла, душой болеет, да ведь свою ногу тому же льву она не даст съесть. А он, царь зверей, есть просит. Вот мы с ней и бегаем по городу, чтобы зверье не передохло, а зверье в это время без надзора и разбегается. Вот если тигра выпустить, то есть ежели он убежит…
- Вы как хотите, товарищи, - сказала Софья Ильинична. - Я к скале Кольцо не пойду. Там от меня будет мало пользы.
Она расправила ремень на гимнастерке.
- Становись! - скомандовал Усов-Борисов. - Кто пойдет - налево, кто не в силах - направо! Ваня, ты тоже оставайся! Двадцать верст с хвостиком не шутка. Мы не собираемся нести тебя назад вместе с гиеной.
- К обеду туда приедут подводы, - сказал сторож. - Я ездил уже не раз за ней. Если она голодная, то бегает, а как налопается падали, так добрая, только, родная, воет жалостливо, когда ее вяжут. Как дитя плачет. Я бы там ей клетку поставил. Временно. До расцвета народного хозяйства.
Взяв сети, группа музыкантов во главе с Усовым-Борисовым пошла к выходу из города. Сторож подумал, отбросил метлу и тоже пошел. Последним трусил Зуя. От каравая у него осталась душистая корочка, хлеб поломали не зебры, а музыканты.
Ваня осторожно открыл дверь. Мать лежала на кровати.
«Хорошо, что спит», - подумал он.
Стараясь не шуметь, он подошел к двери на балкон, приоткрыл ее, выскользнул на воздух. Он впервые встречал солнце на Кавказе. С удивлением заметил, что зарозовели вершины гор на западе, где солнце должно садиться.
«Неужели перепутались страны света? - подумал он. - Так это потому, что вершины на западе высокие и первыми видят солнце».
Западные вершины совсем прояснились, выписались на голубом небе, и вот на востоке из-за гребня горы вдруг брызнули лучи и всплыл огромный красный круг светила. В степи оно кажется во много раз меньше. Через минуту нельзя было смотреть на него. Начался новый день.
Рядом оказалась мать. Лицо ее было бледным, глаза большими, испуганными.
- Слышишь? - повернулась она к солнцу. - Стреляют! Опять стреляют!
Ваня напряг слух, но проснувшийся город уже подмял под себя все звуки долины.
- Показалось, - успокоил Ваня мать. - Я думал, ты спишь.
- Ты еще ребенок, - сказала Полина Гавриловна, - если думаешь, что мать может спать, когда дома нет сына.
Полина Гавриловна как в воду глядела… Конечно, не карты открыли ей «правду», сказался опыт и обостренная чуткость восприятия происходящего. Сергей Иванович тоже год назад как бы предчувствовал, что Мамонтов и Шкуро ворвутся в Воронеж и устроят избиение коммунистов и трудового люда. В годы гражданской войны не нужно было быть сказочным пророком, чтоб вдруг почувствовать опасность или услышать выстрелы вдали за городом. Приближалась третья годовщина Октября, и мы, и наши враги, каждый по-своему, хотели отпраздновать эту дату. Бандиты шныряли вокруг Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска, пакостили как могли, устраивали мелкие диверсии, поджоги, обстреливали поезда, обозы, охраняемые красными конниками, попытались взорвать водокачку на станции Минеральные Воды. Их небольшая группка, всего-то пять сабель, и наскочила на музыкантов, что пошли отлавливать гиену. Сети на казаков не набросишь, в седлах сидели матерые убийцы. Бандиты кого постреляли, кого порубали… Усова-Борисова нашли с камнем в руке. И не увидели зрители пьесу о коммунарах, и Ванечка не сыграл роль Гавроша, мальчика с парижских окраин, по замыслу режиссера умевшего играть на «инструменте всемирного пролетариата» - на балалайке.
Похоронили агитотрядовцев скромно, потому что подошла третья годовщина Октября и с нею великая радость, и она как бы заслонила горечь утраты - Красная Армия преодолела гнилой Сиваш, ворвалась в Крым. Было ясно, что Врангель будет уничтожен, что никакие жертвы уже не остановят народ, чтоб раздавить последний оплот белогвардейцев.
В Кисловодске было всеобщее ликование. Люди поздравляли друг друга. Звучали песни, многие плясали, по улицам гордо промаршировал гарнизон, впереди строя не гремел военный оркестр, лишь сухо трещал походный барабан, дядя Гриша выбивал на нем знаменитую «дробь», под которую в старой армии на строевом плацу когда-то солдаты учились тянуть носочек к небу. А Софья Ильинична не играла на скрипке, потому что звуки нежного инструмента не вписывались в общую бурю радости.
И тем более никто не заметил, что из 73-го номера «Бештау» съехали мать и сын по фамилии Сидорихины.


Глава 3 КОНЕЦ БАНДЫ
1
- Спи, угомон тебя возьми!
Засыпай! Мне ведь тоже спать хочется.
Ваня притих, закрыл глаза… В мазанке пахло свежим сеном, молоком, овчиной: сытые запахи, спокойные. Мать накрыла его одеялом. Ване четырнадцать лет. Хлопнула дверь, со двора вошла тетя Акулина Затючиха, как звали ее на улице, хозяйка мазанки. Загремела бадейка, забулькала теплая вода - Акулина замешивала хлеб.
Через окно пробился звук невнятный, как жужжание мухи. И Ваня приподнялся на локтях, сказал радостно:
- Мама, мама, наши идут!
- Наши! - ответила мать из-за занавески, где стояла ее кровать. - Поют, значит, спи спокойно.
96-й кавалерийский полк возвращался в станицу Боргустанскую с рейда. Повелось: если имели потери, возвращались без песни. Песня нарастала, кружила вокруг заснувших хат, вот в окнах засветились огни. Кто-то побежал по улице, на окраине залились собаки звонко и озорно, не как в Воронеже, на Чижевке, когда проулками, глухими улицами люди, спасаясь от белых, бежали из города.
Инструктор райкома комсомола Аграновский приехал в станицу провести митинг среди молодежи. Он обрисовал сложное международное положение, рассказал о поддержке английскими докерами Советской России, затем призвал молодых станичников сплотиться вокруг комсомола.
- У вас свыше двухсот ребят, - горячо убеждал он, - а ячейки нет! Нормальное такое положение, товарищи? Ненормальное! И закрывать глаза на подобный факт не следует. Не простит вам трудовая молодежь всего мира - английские докеры, китайские кули, индусские рикши, немецкие шахтеры - подобную политическую инертность. Не простят! «Позор!» - скажут.
- Пущай брешут! - крикнул кто-то из задних рядов. Митинг проводился под открытым небом, трибуной служила бричка без колеса - лопнула железная шина, колесо сняли, увезли на кузницу. Чтобы бричка не опрокинулась, под передок подложили чурбан.
Голытьба - дети вдов, парни и девушки, чьи отцы сгинули в смуте германской войны, дети иногородних, не вписанные в реестр бывшего казачьего войска и не пользовавшиеся до революции привилегиями казаков, не получавшие земельных наделов, возмутились контрреволюционными выкриками. Назревала драка.
- Спокойно, товарищи! - сказал Аграновский. - Не поддавайтесь на провокацию. Для чего мы царя и помещиков сбросили, для чего отобрали заводы и фабрики у капиталистов? Среди вас есть и такие, у кого отцы и братья ушли к бандитам. Конечно, сын за отца не отвечает, брат за брата тоже, но ваш прямой долг- повлиять на их сознание… Чтоб возвращались домой. Штык в землю!
- А ты сам сходи и повлияй, - сказал кто-то. Молодежь опять зашумела.
Аграновский выждал, когда шум стих.
- Если потребуется - схожу. Нам бояться нечего.
- Иди, иди, Аника-воин. Доходишься!
- Казак не против народной власти, - продолжал оратор. - Среди бандитов большинство заблуждающихся. Многих держат страхом. Народная власть сказала: «Сдай оружие… Повинную голову меч не сечет». Обманом и страхом держат их в бандах бывшие атаманы и есаулы. Казак теперь не верный слуга царского престола, а равноправный гражданин Советской России…
- Що таке равноправие? - ехидно поинтересовалась дивчина, лениво лузгая жареные семечки. - Мне маты не разрешает равноправие. Гутарит, щоб я пошла пид винец.
Опять поднялся шум.
Аграновский тоже рассмеялся.
- Отсталые вы, молодые граждане станицы, - сказал он. - В следующий раз приеду, обязательно организуем комсомольскую ячейку.
- Другого раза не будэ!
На выкрик не обратили внимания. Посыпались вопросы самые разнообразные, нелепые, деловые. Аграновский отвечал обстоятельно, а после митинга пришел к Полине Гавриловне.
- Как вы тут обосновались?
- Живем помаленьку! - ответила Полина Гавриловна, накрывая на стол гостю. - Поешь. Разбираемся что к чему. Чем мельче болото, тем больше инфузорий, тут прямо кишит…
- Слышал, слышал, - сказал Аграновский. - Про тебя, товарищ Сидорихина, легенды ходят. Говорят, ты на самого Хмару выскочила?
- Представь! Спускаюсь в ложок, а он на коне стоит, не промахнешься. Я за наган. У меня с ним личные счеты. С двух сторон цап за руки, отняли оружие. Думаю: «Прощайся с жизнью, Поля!» А он: «Не бойся, бабья комиссарша!» Я ему: «Не боюсь…» А он: «Не ври! Смерти все боятся. Но в другой раз не попадайся». Его бандиты смеются: «Из-за тебя тридцать сабель дезертировало и предалось большевикам». - «Правильно сделали», - говорю. «Замолкни. С ними еще покалякаем».
- Полина Гавриловна, раз вам ехать в Кисловодск, поехали вместе, - предложил Аграновский.
- Когда?
- Сегодня же…
- Вы счастливчик. Что такая скорость?
- Я женился. Сегодня у жены день рождения. Оказия же будет только послезавтра.
Из станиц Бекешевской, Суворовской, Боргустанской в город ездили с военной охраной, как во времена освоения Кавказа, обозы по старинке и называли оказиями.
- Я поеду, - упрямо повторил Аграновский. - На митинге заявляют, что мы трусы.
- Чистой воды провокация.
- Мы обязаны укреплять авторитет Советской власти личным примером. Бричка есть, колесо заменили. Поеду, ничего не случится. Смелого пуля боится.
Сельсоветскую бричку окружили при выезде из станицы. Аграновский с удивлением узнал нескольких молодых казаков, которые были на митинге.
- Здорово, Аника-воин! - сказали ему, схватили и вытащили из брички.
Нет, его не просто били… Его связали, бросили на дорогу, ватага уселась в бричку.
- Н-но, родимые!
Кони захрапели, испугавшись лежащего на земле, но их подстегнули, и они переступили через человека.
Собаки в тот вечер выли жутко, по-звериному, без умолку.
Подводчика отпустили, и он привез страшную весть в сельсовет. Парни, встретившие Аграновского у выезда из станицы, домой не вернулись, ушли к бандитам.
Аграновского похоронили на месте гибели.
А по-пид горою
Яром-долиною
Казаки йдуть.
Гей, долиною, гей…
Песня звучала рядом, сотни глоток выводили:
В одних хатах радостно горели огни, другие смотрели в ночь слепыми окнами, но за ними тоже не спали, падали на колени в переднем углу перед иконами, воровски освещенными лампадками, били поклоны, молили бога, чтобы разудалая песня не была панихидой по их Федьке или Тарасу…
Песня смолкла, донеслись гортанные выкрики команд, заржали кони, чего-то требуя от ездоков, звякнуло ведро у колодца…
«Не буду спать, - поклялся Ваня. - Мать заснет, а я убегу. После случая с артистами она боится отпустить меня от себя на минуту, а сама уходит, по трое суток пропадает в городе. Сдержит слово командир полка или забудет? Неужели прав коневод Логинов Илья? Я рассказал ему по-честному, а он: «Будь при матери!» Мне уже пошел пятнадцатый, я уже не мальчик».
Матери не было. На столе лежала записка, написанная карандашом. Она просвечивала на солнце, как сухой лист.
«Проспал, - испугался Ваня. - Скотину выгнали, а я все валяюсь на перине».
Он спрыгнул с кровати, поспешно оделся.
- Тю, малахольный! - раздался голос Акулины. - Поперед кочетов портки надевает. Очи выкатил, смотри, лопнуть.
- Сколько времени? - спросил Ваня с испугом.
- Коровку еще не доила. Скаче, як скаженный. Лягай, почивай, куда навострился?
- Мне надо, - ответил Ваня. - Мне сегодня к командиру идти, к самому Логинову.
- Связался черт с младенцем! Поснидай трохи…
- Некогда, не хочу.
Акулина сунула ему в карман теплого пшеничного хлеба. Ваня выбежал на двор. Около крылечка гоготали гуси, в крапиве с порубленными верхушками - следы «сабельных атак» ребятишек - квохтала наседка, замычала корова в сарае с полуобвалившейся крышей… Утро показалось подростку необыкновенно радостным. Ноги не чувствовали земли. По утрам почему-то тело ощущает необычную легкость при беге. Тропинка петляла через сад, мимо подсолнухов, поворачивающих желтые плоские головы следом за светилом, тропинка вывела к коновязи.
Ваня сразу заметил незнакомого гнедого жеребца. Дончак. Поджарый, на высоких тонких ногах, с развернутой грудью, с длинным хвостом. Говорят, что когда волки нападают на лошадь, один забегает сзади и дергает за хвост, чтоб свалить жертву, второй вгрызается в горло и не спастись тогда никакому коню. Ерунда это! Взрослую сильную лошадь волкам не взять, если она не в оглоблях, нападают они на раненых, больных или старых, которые еле передвигают ревматичные ноги с узловатыми суставами, могут зарезать жеребенка и то, не дай бог, кобылица или вожак табуна услышит крик детеныша - примчатся, затопчут супостата. Некоторым коням стригли хвосты не потому, что хозяин боялся нападения волков. От небольшого ума эта мода пошла с германской - у немецких битюгов были подрезаны хвосты и гривы, как кустарники в «диком» лесу, где каждое дерево пронумеровано. Настоящий казак никогда не будет уродовать друга: хвост помогает держать направление во время бега, им лошадь отгоняет тучи слепней и мошки. Да и что за Булан, если его изуродовали на манер бульдога!
Дончак фыркнул, понял, что понравился мальчишке, скосил буйный черный глаз… Откуда появилась у Ванюши любовь к лошадям? Родился в Кронштадте среди каменных зданий, на острове, где видел лошадей разве только под седлом господина коменданта города, в Кронштадте даже не было извозчиков. Как-то на улице ремонтировали мостовую, не ту, которая мощена чугунными решетками, а мощенную мраморной брусчаткой около фортов. Он увидел из окна: телега увязла в песке развороченной мостовой, на ней десяток бочек с квашеной капустой для кухни. Мужик тупо бил лошадь прутом, а Ванечка выскочил из дома без пальто, повис на руке мужика:
- Не трожь! Ты плохой! Я тебя не люблю!
Пьяный мужик оторопело уставился на мальчонку, сбросил с рукава, прохрипел:
- Уйди, барин, зашибу!
Рыдающего Ванечку увели домой, мужику, вернее, его лошади подсобили проходившие мимо матросы в белых брезентовых рабочих робах, подтолкнули плечами телегу и выкатили на брусчатку.
Точно такой же звук, как у того прута, и у нагайки, хотя она и не железная, когда есаул Хмара чуть не убил Ваню два года назад. Теперь Хмара бродит где-то рядом… Встретил мать - не узнал. И его, Ваню, встретит - не узнает: парень вырос, ну а шрам вдоль спины… у всякого может быть.
- Угощайся! - Ваня подошел к дончаку, протянул ломоть теплого хлеба. - Почему я тебя не знаю? Тебя ночью привели, тебя взяли в плен?
Жеребец осторожно взял с ладони угощенье, обдало теплом, выгнул шею с маленькой головой.
- Эй, герой, портки с дырой, айда в хату, комполка кличет! - донесся от каменного дома под черепицей голос Ильи.
«Не забыл! - екнуло сердце у мальчика. - Вспомнил!»
Он боязливо переступил порог. Командир полка Логинов сидел за столом перед ведерным самоваром, пил чай. Напротив, привалясь к стене, расселся широкий мужчина в черной кожаной куртке, как у отца, перепоясанной скрипучими, как хромовые сапоги, рыжими ремнями, на боку деревянная коробка с маузером, тоже как у отца, и тельняшка под курткой…
- Вот, Цыбин, - указал на подростка командир полка, - принимай, жалую новым бойцом.
Говорил он быстро, в веселом тоне. Не было случая, чтоб Василий Григорьевич Логинов забыл то, что обещал. Он никогда ничего не записывал, знал наизусть полный список личного состава: фамилии, имена, года рождения, проступки и заслуги каждого. Бойцы говорили с уважением: «Не голова, а штаб фронта с писарями».
Командир первого эскадрона Цыбин поперхнулся чаем. Пил он из блюдца, держа его на толстых загрубелых пальцах, отдувался, как купец первой гильдии.
- Ты серьезно, Григорьевич?
- Весьма, весьма. Не гляди, что мал золотник. Этот хлопец получил закалку: батьку его казнили… Хмара. Вот так вот… Еще до того, как в тебя гранату бросили. Его отец - моряк с Балтики.
- А шо, маты нема, сирота?
- Мать ты знаешь, бачил - Полина Гавриловна, бабий комиссар. Тю, шо, не бачил? Ну, городская она, ну шляпа у нее с перышком…
- Га! - кивнул головой Цыбин. - Она от сына отказывается?
- Типун тебе на язык! - оборвал его командир. - Балакай, да меру знай. Потом объясню. Дело тонкое… Дытыну негде оставить… Так с дивизии звонили… В общем, много будешь знать, скоро состаришься! Берешь чи нет? Боец из него будет не хуже батьки, я тебе ручаюсь.
Детские радости, детские огорчения, страхи… Какие они?
Ване хотелось повернуться и броситься из дома, заливаясь слезами, - торгуются, как цыгане на ярмарке. Но в дверях стоял дядя Илья, коновод, злющий на язык, и дядя Миша Севостьянов - начальник штаба полка, подтянутый, бывший офицер, чуть не расстрелянный белой контрразведкой в Ростове-на-Дону за сочувствие простому народу. Он гладко выбритый, а сапоги блестят, словно их всю ночь шлифовал сапожной щеткой верный денщик.
Цыбин допил чай, поставил осторожно блюдце посредине стола, чтоб не смахнуть на пол. Нос, лоб, губы, скулы точно вытесаны топором, глаза сверлят, как штыки.
- Из барчуков?
- Я тебе гутарю, - наклонился через стол Логинов, - батька - матрос ссыльный в Архангельск за Кронштадтское восстание.
- А маты, чи, по-франьцуськи калякает? Сам слыхал. Из благородных? Опять же за простого матроса вышла… Не лады получается, Григорьич.
- Какое твое дело, кто кого под венец свел? - развел руками Логинов. - Она член партии с девятьсот пятого, на пятнадцать лет стаж больше твоего. Ты проверку кончай, не дело затеял. Не берешь, во второй эскадрон отдам.
- Че тута оказался? - продолжал Цыбин, никак не желая согласиться с доводами командира полка. - Сидели бы в Петрограде, на Кубань потянуло, тримунтана захотели попробовать?
- Ванька! - вмешался дядя Илья. - Покажи спину Фоме неверующему. Я тоже за хлопца головой ручаюсся! Сам-то ты давно, Цыбин, на коняку взгромоздился? Как бугай, навалился, чуть холку не сломал. Ты же шахта.
- Ты на меня не кажи. Я два раза из-под расстрела уходил.
- Задирай подол! - приказал Илья. Повернув мальчишку спиной к окну, задрал рубашку - на спине у мальчика был белый рубец до крестца.
- Чуй, громопад, вот те паспорт. На поправку приезжали с матерью. В Кисловодске их с матерью отхаживали, а ты допрос учинил.
- Ого! - крякнул от неожиданности в кожанке. - Выходит, мы с тобой кривны браты: у меня тоже на спине бугры от шомполов.
Цыбин встал - под потолок, подошел, заскрипели половицы.
- Не серчай, боец Сидорихин, це проверка на вшивость. Скольки рокив?
- Шестнадцать! - сказал Ваня, пряча глаза.
- Ну и брехать горазд! - искренне удивился Цыбин. - Так и быть, командир, возьму этого брехуна в сотню. Сидорихин, держи подарок от донецкого шахтера! - И протянул кинжал с узорчатой ручкой в богатых серебряных ножнах.
- Это вы мне? - растерялся Ваня. - Правда?
- Тебе… Первое личное оружие. Командир, приданое дадите?
- Дадим. Боевого коня. Бери, пока не передумал. - Логинов указал через окно на коновязь, где нетерпеливо танцевал дончак.
- Иди, Ваня, бери трофейного беляка! Только на ус намотай - казак пуще самого себя бережет коня. Будешь любить, вин не пидвэдэ, з па-лымья вынэсэ, з воды спасэ.
Ваня верил и не верил в услышанное - он не мечтал о подобных подарках даже в самых смелых снах. А если это розыгрыш, пошутили дядьки, потешились? Вроде нет, не шутят. Что-то там они про мать говорили?.. Неужели и она отпустит его в боевую часть?
Прижимая кинжал к груди, Ваня пошел к выходу.
- Боец Сидорихин! - прогремел бас Цыбина. - Скачи в распоряжение эскадрона, скажи, что следом буду.
Перепрыгнув через плетень - так ближе, - Ваня побежал к коню, но на полпути остановился: «А где расположение первого эскадрона? Забыл спросить…»
Он побежал к соседней хате, там помещался дежурный взвод.
- Хлопцы, бачьте, пацан с кинжалом! - увидели его бойцы. - Стой, хвороба, замри на месте. Где стибрил?
Ванюшу окружили, без особых церемоний вырвали оружие, дали по шее.
- Тю, глянь, чеченской старинной работы. Кому нес, сознавайся, а то в Чека отдадим, там быстро выяснят.
- Это мой, - закричал Ваня. - Отдайте! Личное оружие!
- Мы тебе покажем личное оружие, белоказацкая твоя душа…
- Не тронь руками! - подбежал Илья. Растолкав бойцов локтями, пробился в круг. - Возверни! Сам товарищ Цыбин подарил, а командир, товарищ Логинов, коня представил, что третьего дня в балке споймали.
- Ну! - удивились бойцы. - За что такая честь?
- Сирота он, - сказал неопределенно Илья, наверное сам не понимая действительно, за что пацан получил награды.
Если бы за Ваню заступился кто-нибудь другой, а не ординарец командира полка, бойцы бы вновь засомневались в услышанном.
- Золотое оружие! Чудеса!
- Он наш боец, - сказал авторитетно Илья, как будто сам отдал приказ о зачислении мальчишки в полк. - Поэтому никакого охальства, не смей забижать!
- Покажи сталь, - попросили бойцы, сменив гнев на милость.
Ванюше самому не терпелось посмотреть на клинок. Он медленно вынул кинжал. Вдоль ножен четко проступала надпись: «Терского казачьего войска».
- Скольких наших братив заризали цей сталью, - сказал с тоской Илья. - Мабудь, от нашей крови такой блестящий.
- Само собой, - поддержали бойцы. - Они мастера. Айда, хлопцы, коня посмотрим, гарный конь, офицерский.
Пошли гурьбой, галдя на ходу, как гуси на дороге. Ваня шел в центре, прижимая кинжал к груди, как мать ребенка.
- Сидай на Беляка, хлопец!
И лица конников вдруг стали отчужденными. Они остановились, не доходя до коновязи, встревоженный конь ударил задними копытами. Ваня понял, что наступил момент, когда от его действий будет зависеть многое, потому что любая промашка сразу же будет известна не только в полку, но и в станице. И дело не в том, что взрослые были слишком требовательные. Ничто так не позорно для казака - а его принимали в часть «червонного казачества», - как неумение обращаться с лошадью.
Вспотели ладони, тело предательски ослабло, как говорила мать: «По ногам ударил холод». Ваня осторожно подошел к возбужденному жеребцу, один на один, народ был в стороне.
- Здравствуй еще раз! - тихо сказал мальчик. - Не подведи, пожалуйста. Ты хороший, самый лучший! Спокойно… я на тебя сяду.

Конь, ухоженный, холеный, по всей видимости, любимый прежним хозяином, разумеется опытным конником, еще помнил своего седока. Он прядал ушами, ловя привычный посвист, на который побежал бы, как верная собака. Несколько дней назад в степной балке произошла стычка. Дончак не боялся выстрелов, замахов сабель, запаха крови и предсмертных криков, но произошло неожиданное - его хозяин упал из седла на землю, и конь как вкопанный остановился, тихо заржал, тыкаясь мордой в бок казака: «Вставай, хозяин, поскакали, опережая ветер, от погони!» А хозяин лежал, и рука была непривычно холодной.
Появились какие-то люди на незнакомых лошадях. Он им долго не давался, но не мог уйти далеко от хозяина, и поэтому его поймали: повод зацепился за куст барбариса. Дончак заупрямился, рванулся, его перепоясали плеткой: «Беляк лютый! Не хочет служить Красной Армии!»
От оскорбления и боли жеребец взвился, но повод держали опытные властные руки, и пленник подчинился. А хозяин продолжал лежать на земле, не вскочил, не заступился…
Мальчик гладил дончака. Это было приятно. Такие руки боли не принесут - конь понял это. Того, кто в сердцах ударил плеткой, поблизости не было, и конь позволил мальчику взобраться в седло, взрослого бы он сбросил, затоптал, действия мальчика конь воспринимал как игру.
- Стой, попридержи!
Подбежал Илья, подошел сбоку, осторожно, без резких движений, приладил длину стременных ремешков, опоясал Ваню узким казацким пояском с кинжалом.
- С богом!
Конь пошел по двору, вышел на улицу, его не неволили, он перешел на рысь, постепенно увеличивая скорость. У Вани ветер засвистел в ушах. Мелькали ворота, то новые, еще не окрашенные, то старые с облупившейся краской неопределенного цвета, плетни с надетыми на колья макитрами - сушили горшки под молоко; обошли стороной подводы, запряженные быками, с полей везли початки молодой кукурузы. Откуда-то вывернулась блохастая шавка, но отстала, не успев забрехать.
Непривычно болтался на ремешке кинжал, он точно вырос в оглоблю, рукоятка била в грудь, а ножны стучали по ноге. Его бы за спину, наподобие карабина.
«Зря я на дядю Илью серчал, - подумал Ваня. - Научил кататься, из седла не падаю, чем не джигит».
На всем скаку, не поняв, что произошло, наездник, как гимнаст в цирке, сделал сальто через голову коня и упал на четвереньки в канаву, засыпанную золой.
Все произошло неожиданно, как выстрел из-за угла.
- Копают где попало! - вскочил Ваня на ноги, отплевываясь. - Чего копаете, проехать невозможно!
- Кажи спасибо, что золой засыпали, - сказала у плетня женщина. - Ридна маты не впизнала бы, колы бы мордой проихав по дерну.
Конь вернулся, виновато фыркнул, мол, извини, забыл, что ты не умеешь держаться влитым в седле, больше не буду.
Мальчик, припадая на ногу, подбежал, удивительно ловко прыгнул в седло.
Веса седока конь опять не почувствовал, но команде подчинился и пошел легкой рысью, вновь перепрыгнул через злополучную канаву.
За Ванюшей наблюдали казачки и детвора. Их глаза были чужими. То, что хлопец вернулся и удачно преодолел хотя и незначительное, но все-таки препятствие, спасло его от насмешек: выездка - наука трудная, не всякий «артикул» берется с первого раза, и настоящим казакам требуется постоянная тренировка.
Удивительная вещь молва! Казалось, скакал впереди нее, завернул к дому Кривошеиных, где расположился первый эскадрон, спешился и понял, что о купании в золе знали все. Вдоль плетня по обе стороны улицы стояли расседланные лошади, у их морд замерли конники, на земле лежали седла вверх попонами. Вдоль строя шел командир Цыбин.
- Сидорихин! - гаркнул он. - Ополосни физию, отряхнись и на левый фланг по причине наименьшего роста.
Цыбин в красных галифе и черной кожаной куртке дотошно проводил инспекторский осмотр. Он подходил вначале к коню, ощупывал холку, спину, ноги, как будто собирался купить коня у барышника, потом осматривал седло…
- Смени войлок… Черт слепой, що не заметил ссадины? Растер бок. Два дня вне очереди на конюшне, чтоб чуял болячку загодя. Паха потерты. Сходи к ветеринару, возьми мази. Гангрену заработаешь!
Осмотр длился невероятно долго. Кони, конники казались сонными, но это было необходимо - делать смотры после каждого похода. «Береги коня пуще глаза» - первая заповедь любой кавалерийской части.
- Седлай! А ты, - обратился к Ване командир, - сидай на Беляка (прилипла кличка к дончаку), айда к Илье. Он тебя сватал, он пусть тебя и в люди выводит. Скажи, что приказал обучить чему треба, пока не скаже, что посылае, ко мне не являйся, бо не приму. Слухай же его, как ридного батьку.
Дядя Илья чистил командирского коня. Без гимнастерки, с выпростанной нижней рубашкой, ординарец командира полка походил на ветеринара в халате. Лицо у Ильи было умиротворенным, он что-то ворковал, как голубь, жесткой щеткой вылизывал коня, а тот стоял, прикрыв глаза, расслабленный от ласки, норовя губами ухватить за руку.
- Не басурмань! - отталкивал морду дядя Илья. - Я те взыграю, хвороба! Вот запрягу тебя в телегу, будешь хворост на кухню возить.
Замечательный скакун был у Логинова - английский, то ли купленный за золото в Англии, то ли выведенный на конеферме крупного помещика. Достался он командиру от белого генерала. Не конь - картина, глядеть не наглядеться, казалось, сядь на спину - проломишь, до того тонкий и легкий. Но в беге не было ему равного. Пассажирский поезд догонял. Таких в телеги не запрягают.
- Вот ты грамотный, - сказал Илья Ване, привязывающему в стороне своего Беляка. - Разгадай загадку: почему каждый конь - лошадь, а не всякая лошадь - конь? Сроду не отгадаешь. Говорят, ты землю орав? - И до него дошла весть, что Ваня приземлился в золу. - Ничего, - сказал покровительственно Илья, - с каждым случается, только не вини коня, в чем сам винен.
Он вышел на середину двора, как дед в белой рубашке, прищурясь на солнце. Ноги у Ильи были на редкость кривыми, как колеса.
- Чего глядишь? - спросил он по привычке. - Думаешь, я рахитик? Ошибаешься! У нас в роду все такие… Ты слухай, раньше еще дикие жили в степу, малолетних хлопцев учили - между ног булыгу зажимали, чтоб мускулы развивать. Потом сажали на необъезженную лошадь. Гутарят - без уздечки, без седла. Ногами управляли лошадью: была сила в ногах. Сдавит - лошадь падает. Чуешь? Ногами управляли лошадью. В руках два меча, може, и лук со стрилами, никакого поводка… Что возвернулся?
Обманутый доброжелательной беседой, Ванюша выпалил напрямую:
- Цыбин к тебе прислал. Наказал, чтобы всему обучил, а то не возьмет. На ученье к тебе…
- Що? - побагровел Илья. - Вин, твой Цыбин, мне не указ! Ха, бачи-те, люди добры, меня, казака, кавалера двух «Георгиев», в няньки записали. Чи война, чи бирюльки с малыми дытынами затевають! Щоб вин сказывся! Чихать я на него хотив с велыкого яру.
На бегу заправляя рубашку, он бросился к штабу. Ваня остался у коновязи, не зная, что делать. Все рушилось. Так замечательно начался день: подарили коня, кинжал, а теперь, выходит, каждый от него отмахивается, как от надоедливого овода. Никто не верит, что он может стать настоящим солдатом. Да если до дела дойдет, то он, да тогда он…
На пороге дома появился Логинов, очевидно услышавший в окно неистовый крик ординарца.
- Товарищ командир! - вопил Илья. - Под трибунал отдайте! Властноручно застрелите, не буду нянькой! Нехай его Цыбин учит. Не старый режим!
- Тихо трохи! - осадил его Логинов. - Ты же за него митинговал? Севостьянов Миша, ты слышал, при тебе он головой ручался, что сделает из Сидорихина казака? Не реви, как молодуха на проводах жениха в солдаты. Сделай из него годного к строевой - скажу спасибо. Не выдержит твоей школы - нам не треба. Иди сполняй! Сроку три недели.
Илья сплюнул от досады… Не то чтоб хлопец не нравился, хлопец толковый, ходит следом как завороженный, буквально в рот смотрит, на лету слова ловит. Нет ничего сладче, чем чувствовать себя кумиром, но одно дело «кататься», другое дело - «саночки возить», пусть бабы возятся, нянчиться не мужское дело. Мужик, он че? Он… ну, можно, конечно, почему не можно показать, как сидеть в седле, как на «парад выезжать». А тут… Тут с азов начинать, возиться, как с кутенком. А спрос… Вдруг пальчик поцарапает или с коня в ту же канаву опять грохнется, но не всегда в канаве зола окажется. Че с хлопцем случится - мать глаза выцарапает, слезами затопит. Вот легка на помине!
Логинов и Миша Севостьянов сделали озабоченные лица и скрылись в хате - во двор вбежала Полина Гавриловна. Знаменитая ее шляпа с пером - предмет зависти казачек и насмешек казаков - трепетала за спиной на голубой ленточке. От бега Полина Гавриловна раскраснелась, волосы рассыпались. Увидев перевязанное колено сына, его поцарапанное лицо, она всхлипнула, бросилась к Ване, но ее опередил Илья. Он встал между сыном и матерью.
- Чего треба? - сказал он грубо, как хорунжий солдату-первогодку. - Що тут тоби робиты? Прилетела… Дытыну забидели. Сам вынэн! Точка! Я те знаешь, товарищ Полина, смерть как уважаю, но теперь не твоя власть, теперь моя власть. Не мешайсь под ногами, а то я страсть горячий. Тебя в штаб дивизии кличут, в Кисловодск едешь с оказией? Гарно! А будешь каждый раз сюда бегать, сопли утирать - сама с ним цацкайся. Утирок не хватит. Бачь, який бугай вырос, а она бежит, кохфетку несет… Уходи с глаз долой, не то передумаю! И забирай его с собой под подол.
Его слова точно ударили Полину Гавриловну, она прижала ладони к лицу. Да, она согласилась в Особом отделе дивизии оставить сына в
кавалерийской части, потому что его просто больше некуда деть. Ее привлекли к работе по борьбе с контрреволюцией… Она написала заявление, все сделала сама, и тем не менее она прежде всего мать и лишь потом солдат революции, хотя… Она пришла в революцию задолго до рождения сына. Любовь к мужу, к сыну, ненависть к врагам - все спеклось в единый сплав, и это была ее жизнь, ее терзания и радости, иной жизни она не представляла, да и не хотела представить. Единственно в чем могла себя упрекнуть, что с семнадцатого по девятнадцатый год, до Шкуро, как бы расслабилась, жила за спиной Сергея Ивановича, даже нагана не имела. И ни к чему он ей был. Эти годы были ее самыми счастливыми, годами ее женского счастья.
- Могу я проститься с сыном? У меня двадцать минут есть. Через полчаса обоз трогается… Если бы к вам ваша мать приехала…
Она стянула шляпу, стала зачем-то расправлять поля.
- Цалуйся, - отвернулся Илья. - Только от твоих поцелуев один вред солдату.
Мать хотела обнять сына, но тот отстранился.
- Мам, не надо, я же не маленький!
- Понимаю! Понимаю… - закусила губу Полина Гавриловна. - Сынок, если ты не выдержишь… Когда ты в море на тральщике ходил, я в сто раз спокойнее была, хотя там мины, подводные лодки… Тут совсем другое. И взрослый не каждый может. Я вот лошадей боюсь. Если не сможешь… Не горюй, не стесняйся, иди к Акулине. В Вэчека, к товарищу Сойкину, он в курсе дела. Запомнил?
- Да, запомнил! - потупился Ваня. - Мам, ты иди, а?
- Хорошо, хорошо… Хотя что тут хорошего? Собственного сына обнять нельзя. И еще… Ваня, если вдруг где-нибудь увидишь меня, еще раз тебе повторяю, не беги ко мне, что бы со мной ни происходило, даже если бы меня вешали. И себя погубишь, и меня, и дело погубишь. Если я тебя сама не позову…
- Помню! - коротко сказал Ваня.
- Да! Иду! Иду! Извини, сын, что с собой не беру, - нельзя!
- Боец Сидорихин! - пришел на выручку Ване Илья Гарбузенко. - Гэть в конюшню, будешь навоз вилами носить. Я те не барышня-нянька, я те красный дядька! Бегом! Кохветок тут немае. Маты тоже немае. Один я для тебя и бог и царь - хочу с кашей ем, хочу с чаем пью. Все! Иди с богом! Пелагея, не сбивай дытыну с панталыку.
- Подъем!
Кто-то сдергивает одеяло, нет, не одеяло - черную жесткую бурку, которая пахнет полынью и лошадиным потом, а запах лошади самый желанный даже во сне.
- Гэть, голопузая команда, дрыхнуть, як барсук, горазд!
В хате полутемно. В окна брезжит рассвет. Дядя Илья одет по форме, встал затемно.
- Что-нибудь случилось? - встревожился Ваня.
Постель тянет магнитом, глаза слипаются.
- На Шипке все спокойно! - отвечает дядя Илья. - Полк ушел, бандиты объявились.
- Мы опоздали, про нас забыли? - всполошился Иван. - Я сейчас, я быстро, мы успеем, догоним…
- Че? - с презрением спрашивает Илья. - Куды всполохнулся? Полка немае тут. Зараз начнем солдатскую науку. Як ты портянку крутишь?
Он огрел мальчишку по спине, скинул легкие кавказские сапожки без каблуков, показал, как пеленают портянкой ногу, подумал, изрек:
- Начнем с подгонки снаряжения.
Наскоро позавтракав, они пошли к коням. На улице было безлюдно, лишь у штаба сидели бойцы, легкораненые и больные, курили «козьи ножки». После караула их не взяли в рейд, оставили нести гарнизонную службу.
Илья долго и витиевато ругал мальчишку: седло не так подтянул, вид у воспитанника не бравый, погода отвратительная - день обещал жару, и что самое печальное - пацан-пентюх для такого опытного учителя, как Илья Гарбузенко, великое наказание, и дважды повторять каждое упражнение он с ним не намерен. Если у дытыны нет таланта к верховой езде, сколько ни учи, все равно бесполезно.
И дни смешались с ночами. Ваня видел себя точно со стороны, то у водопоя, то на манеже. До бесконечности повторяются упражнения - соскок с коня на ходу, посадка…
Он запутался в стременах… Беляк идет рысью, сейчас Ваня упадет, разобьет голову. От страха он судорожно ловит ртом воздух, ставший тугим, как вода. Илья уже не кричит, а свистит на разные голоса, как соловей-разбойник.
Конь прерывает бег: конь опытнее седока. Удивительно умное животное лошадь! Он кладет голову на плечо Ване и дышит в ухо, точно шепчет: «Не отчаивайся! Я тебе помогу. Со мной не пропадешь».
Разбойничий посвист…
Ваня трогает коня. Беляк разворачивается, бежит ровно по «плацу», вытоптанному сотнями копыт пустырю за приземистым мрачным каменным амбаром. Ладонь пустыря обрывается крутым оврагом. Овраг, как спрут, распустил промоины-щупальца и сосет землю каждую весну, каждый ливень, лишь у садов, запутавшись в корнях вишен и яблонь, смиряет свой безудержный аппетит. Зеленеют заросли паслена и лопухов. Лопухи непомерной величины, как казацкие бурки. Из-под них выбираются казачата, перепачканные черным тутовником, как чертенята. С завистью, ревниво наблюдают за «кацапом», как он пытается поднять с земли платок.
С левой стороны паренек берет платок, с правой… ловит пальцами сухую землю.
- С одной може, - приходит в ярость Илья, - з другой чурается. Инвалид! 3 люльки на правой бок уронили. Повторить!
Казачата хихикают: если уж берешь слева, то возьмешь и справа.
Ваня ныряет вправо по потному скользкому боку коня, в глазах темнеет от прилива крови, рука тянется, тянется… она кажется короче, чем была минуту назад, платок увертывается, как живая мышь.
По ушам бьет свист, раскатистый, злой. Конь трясет головой, с губ капает пена, и опять начинается бег рысью. Работать придется, пока наездник не поднимет с земли белую тряпочку.
Система у Ильи, безусловно, была.
Правда, многие упражнения по джигитовке он упустил, ибо считал, что их обязан знать и уметь выполнять каждый нормальный человек на земле, не подозревая, что умению управлять конем в казачьих станицах учатся с детства, как умению плавать в рыбацких поселках. Некоторые упражнения он считал вольной забавой, бесполезными для боевой обстановки. Но и того, что осталось, было для подростка более чем достаточно.
Ваня исхудал, почернел, но не жаловался, терпел… Уставал так, что засыпал, не успев коснуться головой подушки.
В юном теле каждый мускул звенит струной, впереди бесконечная жизнь, и невозможно понять, как ее можно прожить, и не терпится скорее растратить энергию тела, точно на это не хватит будущего.
Ванюша сидел в хате Кривошеиных, перед ним лежала подшивка «Нивы». Дядька и воспитанник рассматривали картинки, читали надписи, иногда непонятные, на исторические темы. Незнание мифологии, истории восполнялось безудержной фантазией. Источник у Вани были сказки, у Ильи - история донского казачества.
Ваня прочитал вслух стихотворение Тютчева, читал «с выражением». Илья слушал напряженно. За каждым словом поэта у него перед глазами возникала картинка: в хате вроде бы запахло умирающими огненными листьями клена, зажурчал ручеек, вроде бы донесся звук пастушьего рожка…
Илья подпер голову рукой, глаза закрыл, зато раскрыл рот. Губы у него были узкие, растрескавшиеся, один зуб выбит, возможно, в этом и заключался секрет его разбойничьего посвиста.
- Не брешешь, что помещик придумал? - неожиданно спросил он. - Мабудь, ему мужик рассказал, помещик и накалякал. Ить они паразиты, помещики, в поле спину не гнули. Ксплуататоры, гады! Нам агитатор рассказывал на фронте, когда к красным сманивал казачью сотню.
О жизни русского крестьянства Центральной России Илья знал понаслышке, представления же о жизни рабочих в городе у него были весьма противоречивые. Знамо дело, умели замки починять и коней ковать, как кузнецы в кузне.
Казаков он считал особым народом и, когда Ваня попытался растолковать ему, что казаки произошли от беглых крепостных мужиков, обиделся не на шутку.
- Вышли мы з степи.
- А в степь-то как попали? - не сдавался Ваня.
- В степь… В степь з степи. Она без конца и краю. В ней есть усе, даже верблюды. Видел верблюда?
- Верблюды не люди. Я тебе про людей говорю.
- Тю, не люди! Нехай не людыны, а татары откуда взялись? А калмыки, башкиры? Чечены - те с гор спустились, они там усю жизть по горам скачут. А внизу вси з степи приихали.
Спорить было бесполезно. Если Илья в чем-то усомнился, тем более во что-то уверовал, доказать обратное ему было невозможно, для этого требовался авторитет не меньше чем командира полка.
- Ты мне писню читал, - сказал он в заключение. - Тильки напев не знаешь. Слыхал я ее, ей-богу, слыхал. Вспомню - скажу, как петь треба.
По-своему объяснил Илья то, что ему понравились стихи Тютчева.
Ваня выбежал из хаты, и земля заходила ходуном, стала как резиновая. Он успел отбежать от крыльца, чуть не упал, удержался, обняв коновязь. Бревна дергались.
- Свят! Свят! - закричали в соседних дворах женщины.
В конюшне бился и ржал жеребец, он вдруг начинал храпеть как придушенный. Илья сделал несколько шагов и упал на бок, встал на четвереньки и опять упал…
- Так это же землетрясение. Я же в учебнике читал, - догадался Ваня. Он отпустил бревна коновязи, метнулся к конюшне, откинул щеколду, вбежал вовнутрь.
Самым устойчивым казался воздух. Ваня опустился на колени, откинул дверцу, выпустил Беляка… Тот рванулся, и быть бы растоптанным хозяину, если бы он не весил, как пушинка, - конь отбросил Ваню к двери.
Беляк выбежал во двор и заржал, и опять не радостно, а испуганно.
Землетрясение окончилось неожиданно, как и началось. Поднялся дядя Илья, смущенно огляделся, не видел ли кто, как он катался, угомонились куры и гуси. Перестали голосить по дворам женщины. Тишина и спокойствие были ощутимы, точно вещь. Только у дончака по-прежнему были расширены от ужаса зрачки.
Ваня подошел, начал оглаживать.
- Ты же меня чуть не убил, - сказал Ваня. - Успокойся, все прошло. Я с тобой… Ты же сам мне говорил, что «нам на пару ничего не страшно». Говорил?
И конь, точно понимал каждое его слово, успокоился и вдруг виновато опустил голову.
- Ничего! - утешал его Ваня. - Бывает… Перепугался? Ты уж больше на меня не прыгай.
Конь фыркнул и прижался головой к мальчику, мол, извини, больше не повторится.
Саднит локоть… Но эта боль светлая, на минуту крапивой обожгла и растаяла, не похожа на жуткое бесформенное чудовище, что поднимается откуда-то изнутри, когда каждая капелька твоего тела цепенеет от ужаса, корчится от муки в предчувствии гибели.
Стучит, плюется огнем и смертью ручной пулемет «Льюис». Пулеметчик Алеша - китаец. Чистокровник китаец из Хунани. Он всегда спокоен и ничего не боится. Эскадрон откатывается вдоль берегов Соленого озера, один Алеша сдерживает бандитов, иначе бы они развернулись в лаву и порубали бы отступающих.
Стучит пулемет…
Цыбин, в разорванной на спине кожанке, в последних рядах. Коня под ним убило.
- Ванька! Сидорихин! - зовет он мальчишку. - Сдвигайся на холку, я в твое седло сяду. Отходи! Алеша, отходи! Ставь пулемет на тачанку. Садись по двое! Сидай!
Они скачут на Беляке. Цыбин хрипит в затылок Ванюше. «Отберет коня, - появляется мысль, - или кому-нибудь прикажет передать».
В низине эскадрон остановился… Здесь весной тоже было озеро, но солнце высушило воду, на растрескавшейся, похожей на паркет земле налет беловато-грязной соли, под копытами хрустят сухие стебли. Растет трава… Растет травка, умудряется расти даже на солончаке.
- Докладывай, докладывай, востряк! - распекает Цыбин командира первого взвода. - Кто за разведку в ответе? Кто засаду проглядел? Убью как гниду.
- Разведчики погибли, - отвечает взводный. - Стороной прошли, их в спины постреляли.
- Потери? Командиров ко мне!
Кроме разведчиков погибло еще четырнадцать бойцов. Раненых много. Даже Алешу-китайца царапнуло по лбу. Ваня оторвал от нижней рубашки подол, завязал пулеметчику голову.
- Шибко спасибо! - пожал ему руку Алеша. - Помоги зарядить магазины.
Самое тяжелое - бандиты покалечили коней. Раненых лошадей отпустили в степь, авось выходятся, не пристреливать же боевого друга. Но лошади не хотели уходить, стояли, как стреноженные, тоскливо смотрели вслед уходящим.
Солнце взбесилось. Бьет жарой, как беляки из пулемета. Во рту сухо и горько. Сколько хватает глаз - засохшая полынь-трава, от нее ветер пропитался горечью.
- Боеспособность паршивая! - подвел итог Цыбин.
Кто-то подвел ему лошадь убитого разведчика. Многие бойцы идут пешком, несут седла, с вожделением посматривают на Беляка.
- Есть из местных? - спрашивает Цыбин.
Но никого из местных казаков в эскадроне не оказалось.
- Як нэ повизэ, так нэ повизэ, - вздыхает Цыбин. - Колодцы есть, а где? Никто не знает, шукай иголку в стогу. Шевелись! Второй взвод выставь охранение, а то опять в засаду втюримся.
Воздух дрожит, степь дышит зноем. От жажды невозможно говорить, языки распухли и стали шершавыми, как напильник.
Ванюша едет в стороне, боится, что отберут коня. Подводу он увидел первым - глаз молодой, цепкий. Ваня поскакал. Казак - видно, местный житель - стоял с подводой у неприметного издалека колодезного сруба.
- Здравствуй, дядя! - сказал Ваня. - Колодец не высох?
Дядя, бородатый мужик в лохматой бараньей шапке, смотрит зверем. Вполне возможно, что тоже бандит, кто докажет обратное? Никто, разве только шашка или пуля станут свидетелями, на чьей он стороне, и кто-то вскрикнет, упадет на спину коня, сползет кулем, ударится о выжженную землю, да в чистом голубом небе закружит коршун.
- Послал бог племянничка! - выдавливает из себя дядька. - Турнули, что ли, у Тухлого озера?
- Да нет, ничего, - бодро ответил Ваня. - Гуляем.
- Гуляем! - усмехнулся дядька. Он стреляный воробей, небось водил сотню в атаку где-нибудь в Галиции или под Царицыном. - Гуляють! Погуляють по шеям.
Ему понравилось слово, и он талдычит его на разный лад. Мальчика дядька не стесняется.
- Дядь, дай ведро коня напоить.
- Коня… Коню дам. Конь - он божья тварь, он ни при чем.
Кожаное ведро влажное, тяжелое. Значит, в колодце еще есть вода.
Ваня размотал веревку, опустил ведро в колодец. Дядька залюбовался дончаком, тот потянулся к мужику. Ване обидно, заревновал коня, свистнул, и конь встрепенулся, подошел… Он тянул морду, от нетерпения шамкал ртом, как беззубый старик.
- Сейчас напьешься, родной.
Но Ваня не успел вытащить ведро, подскочил боец, вырвал веревку, вынул ведро, начал жадно пить, обливая грудь бесценной влагой.
Еще налетело человек пять. Все торопились, Ваню оттерли в сторону. Он обхватил шею Беляка, а тот дрожал от возбуждения, казалось, хотел ввязаться в свалку.
- Спокойно, успеем! - Ваня ослабил подпруги. - Отдохни малость.
Люди пили, поили лошадей. Кто-то, не глядя на казака, стал распрягать его лошадь. Казак сопел, отвернулся в степь - он считал подобное вполне оправданным, сам поступал так же не раз.
- Голодранцы…
Казак засуетился около жеребца, оставленного взамен каурой кобылы. Оглядел круп, разделся, снял с себя рубаху, не задумываясь, разорвал на полосы. Осторожно обтер рану, смастерил заплату, приладил чудом.
Наконец ведро оказалось у Вани. Вода в колодце была наполовину с песком, но это была вода, и он долго поил Беляка. Когда друг напился до упора, напился и сам.
- Ты хлопец гарный, - услышал он голос казака, - коли коня вважаешь пуще собственного брюха. Сознайся, как на духу, ничего не будэ, дончак-то Прохора Хаменко?
- Не знаю. Мне подарили.
- А-а-а… - протянул казак и покачал головой. - Я и думаю, Прохора. То-то его жинка убивалась. Гнедко! Гнедко! Чуешь? Ух, Гнедко! Ух, разбойник!
Дончак заржал, опять потянулся к дядьке. Ваня вскочил в седло.
- Спасибо за ведро!
- За спасибо коня не купишь!
На этот раз пулемет забил слева - бандиты успели догнать и ударить. Алеша-китаец и на этот раз спас от погибели - развернул тачанку и в упор, не торопясь, рассеял конников. Он бил по лошадям - цель большая, а без коня казак, считай, как безрукий в драке.
Ваня поскакал на выстрелы. На ровном месте попалась ямка. Гнедко (вот, оказывается, как звали коня) прыгнул, седло мгновенно повернулось вместе с седоком под пузо. Ванюша вылетел из седла, хорошо, что ноги не успел вставить в стремена.

На какой-то момент он потерял сознание. Боль была оглушительной. Он разбил лицо в лепешку. Гудела голова. Ваня встал, зашатался… Ни души, лишь обиженно прокричал коршун, взмыл ввысь и пошел кругами над степью, ища поживы. Тошнило, вновь смертельно захотелось пить.
«Куда идти? Где наши? Что там? Как там? Почему тишина, не слышно выстрелов?»
Ноги не слушались, но он заставил себя идти, опираясь на карабин.
Он услышал стук копыт. Кто-то скакал с запасной лошадью. Белый или красный?
Спасение или погибель?
Он узнал Гнедка и, уже не думая о том, кто скачет, побежал навстречу.
«Как же я забыл подтянуть подпруги! - упрекал себя Ваня. - Ух, дядька! Друзья, выходит, с хозяином Гнедко. Сказал бы ребятам, кто такой, враз бы хлопнули. Неужели Гнедко - Беляк к нему побежал? Или дорогу домой вспомнил? Признал, значит, своего».
- Ваня, Ванюша, ранен?
- Дядя Илья! Гарбузенко! Живой я… Как ты тут очутился?
- Сидай, горе луковое. Полк подоспел, пошли на преследование. Теперь им не уйти - у наших кони свежие. Гляжу - твой Беляк. Ну, думаю, с хлопчиком дюже плохо. Спрашиваю - гутарят, бачили у колодца, я за тобой, думал, не свидимся. Ой, маты? Кто тебя разукрасил, як икону? Чи рукопашная была? Сколько бандитов порубав? Почему твое седло было под брюхом у коня? На, пей, оставь трохи на дне фляги. Плохо я тебя учил, бить надо было.
- На водопое отпустил подпруги, потом…
- Ясно! Теперь будешь на усю жизнь ученым. Га!
- Моего коня звать Гнедко, - сказал Ваня.
- Откуда дознался?
- Дядька у колодца признал Гнедко. Сказал, что хозяина звали Прохор.
- Як кликали?
- Прохор.
- Тю, дурья башка! - удивился Илья. - Хозяин коня не Прохор, а Иван Сидорихин. Це ж ты… Хозяин коня тот, кто на нем сидэ, кого конь на себе нэсэ, кому служит, из чьих рук овес принимав. А що имячко выпытал - це гарно, бо конь, як пес, всю жизть на одну кличку агукает.
Станица купалась в садах. Ребятишкам купаться было негде» так как летом речушка пересыхала и по руслу, как по дороге» ездили на волах. Воду здесь собирали загодя с весны в запрудах, называемых ставками, из них поили скотину, для питья самим в землю врывали цистерны* куда стекала с крыш дождевая вода, хотя безвкусная, зато чистая,
На воротах красовалась гоголем цифра 2, написанная мелом. Илья кивнул Ване:
- Давай завернем, для нас прописано.
Ехали по трое, эскадрон точно таял…
- А пустят?
- Двоем прописано, - сказал Илья, - цифири квартирьеры малюют, народ тут обвыкший, но треба военная хитрость, чтоб иа топора суп сварить. Ты слухай, я буду шуровать,
Наставник Ванюши никогда не оставался голодным, хотя в походах не было ни кухни, ни фуража и жили на «подножном корму», как овцы в гололед: сумеешь «пробить лед» - будешь сытым и коня накормишь.
Илья спешился, огляделся, словно обнюхал двор, подмигнул Ване:
- Хозяйство справное, сыто живут… Это хорошо! Держи мой поводок. Сними с пояса диски, Алеша ругаться не будет. Чего ты ему их возишь, у него тачанка есть. Громыхни. Набивать не будем, шибче грохочет. Помогать пулеметчику в бою легче, чем у куркуля шмот сала выпросить. Не тушуйся, не психуй, будем действовать по науке. Рассупонь ворота, иди трохи сзади для важности. Пошли!
Он вошел во двор атаманом. Постоял, показал рукой, куда поставить коней, потом широким жестом приказал следовать за ним в хату. В окнах мелькнули женские лица.
В хате было полутемно, горела большая керосиновая лампа с привернутым фитилем. Илья подошел к столу, еще круче выпятил грудь.
- И кто тута есть?
- Що тебе, служивый? - вышла из-за перегородки хозяйка, дородная казачка лет сорока пяти в кофте домашней вязки.
- Приказываю подать кушать моему солдату, - сказал Илья, показывая большим пальцем через плечо на Ванюшу.
- Який же вин солдат? - подбоченилась тетка, уставившись на мальчишку.
- С кем ты гутаришь! - взревел Илья, с трудом контролируя речь, чтоб не перейти на родной диалект. От его могучего голоса чуть не потухла лампа. - Как ты сбрехнуть такое могла, сказать… такое. Это… Это самый мой любимый адъютант, что ни есть верный солдат… из Питера родом. Слыхала Питер? Столица бывшей русской самодержавной империи. Там царь с генералами в преферанс играл… Игра такая. И мой адъютант там жил. Во игде он жил. А теперь я ему сюда приказал явиться. Давай бомбу!
Он подскочил к Ване, вырвал диск от ручного пулемета, громыхнул о лавку.
- Разнесу курень начисто, будете знать, как моего верного солдата лаять!
- Ой, лиху! - перепугались женщины. - Ой, что ты, миленький! Хиба ж я знала, кто вин, я враз ему соберу.
- Другое дело, - сменил гнев на милость Илья. - И мне заодно трохи накладай. Так и быть, попробую кулеша, твою стряпню отведаю. О, какая ты спелая, должна вкусно готовить.
- Настя! - скомандовала хозяйка. - Не ховайся… Главный командир приихал. Хлопчик, заходь в хату, заходь. У нас не Питер, но мы люди чистые. Заходь!
Она поставила табурет, взобралась на него, вывернула фитиль и… застыла.
- Ой, людины, ой, родни, ой, цацу, ой, дытына малое! Що они над тобою зробили! - заголосила она во весь голос, как по покойнику. Откуда-то вынырнула дочка хозяйки, молодуха широкой кости и завидной красоты. В доме точно посветлело. Она тоже уставилась на Ванюшу.
- Перестаньте выть! - стушевался Илья. - С лошади упал во время боя. Переполошите всю станицу. Дайте ему умыться.
С печи, кряхтя, слезла старуха, взяла ухват, вынула из печи чугун с теплой водой. Меньшая дочка, Манька, принесла вышитое полотенце. Хозяйка с молодухой подхватили Ванюшу под руки, повели к умывальнику, пристроенному за печкой, подтащили по полу лохань с теплой водой, начали стаскивать с паренька одежду.
- Не надо! - отбивался Ваня. Ему было трудно говорить. Губы распухли в пол-лица, как у вурдалака, глаза заплыли синевой. - Я живой, а вы меня отпеваете. Не надо!
- Мы жалкуем тебя, - слушали женщины, - трохи смоемо, не рычи вовком, не забидим, само мало и чуть живэ, да еще и командуэ. Маня, сготовь постелью, мы его зараз и положимо.
Илья, руководствуясь старым принципом «где у солдата шинель, там и дом», понял, что ужин обеспечен.
Он подозвал меньшую, Маньку, что-то прошептал, затем, повесив шапку и карабин на гвоздь, вбитый в простенок между окнами, выскользнул во двор к коням. Занятая «адъютантом» хозяйка не обратила внимания на странное поведение «главного командира», и подобное невнимание стоило ей двух торб с овсом.
Вернулся Илья довольный и вовремя: на столе дымилась глубокая глиняная миска вареников, залитых по меньшей мере полкрынкой сметаны. Илья «посурьезнел», опять выпятил грудь, точно на нее прикололи четыре «Георгия» с мальтийским крестом в придачу, пригладил чуб и поинтересовался:
- Гражданочки, мне-то теплой водички не оставили?
- Тебе зачем? - удивилась хозяйка, окатывая Ваню из ковша.
Ваня в трусах стоял ногами в лоханке. Он уже не сопротивлялся, поняв,
что сопротивляться бесполезно. Хозяйка закутала его в чистую лошадиную попону, подхватила, как перышко, на руки, понесла к разобранной постели, вздувшейся периной и двумя огромными подушками. Мальчик утонул в пуховиках.
- Побриться треба, - сказал Илья, проведя рукой по подбородку, и, видно, решив, что с бритьем можно и подождать, засел за стол, вооружившись деревянной ложкой с длинной ручкой.
Ел он долго, солидно, по мере насыщения становясь все более словоохотливым и любознательным. Два раза под столом он незаметно распускал ремешок на брюках. «Адъютант» заснул, не успев выпить кружку молока. Население хаты - четыре души женского пола смирно сидели в сторонке, провожая завороженными взглядами монотонные движения ложкл, дивясь аппетиту «красного атамана».
- Куда ложиться прикажете?
- К адъютанту!
- Спасибо! Добро вам зачтется!
Он добрался до постели, посмотрел на молодуху, и Настя, вспыхнув, вышла. Бабка, ворча что-то под нос, полезла на печь, хозяйка отвернулась. Манька шмыгнула носом, потрясенная тем, что у «атамана» кривые, как колеса, ноги.
- Подштанники-то скидай пид одеялом, - сказала хозяйка. - Постираю, а то простыню запачкаешь. Спокойной ночи, енерал!
Она опять взобралась на табурет и задула лампу: керосин и здесь был дорог, гуся отдавали за бутылку.
Ваня проснулся чуть свет, тело утопало в перине и от этого ощущалось блаженство, глаза опять сомкнулись, он успел подумать: «Раз дядя Илья не будит, можно еще немножко… еще немножко…»
Сон как богатство, - чем больше спишь, тем больше .хочется. Его растолкал часов в одиннадцать «красавец» Чиба из третьего эскадрона, уральский казак из-под Гурьева.
- Продерите очи, барин! - тряс он Ваню. - Я был денщиком у поручика Лядова, он тоже дюже дрыхнуть любил. Еще любил казаков по мордам. И проспал смерть… Царя-батюшку сбросили, а он проспал. Когда солдаты бунтовать начали, они почивали. Его свои же за мордобой и… Царство ему небесное.
- Чего же ты не разбудил? - сел на кровать Ваня и зевнул до писка в ушах.
- Зачем? Он более всего на моих зубах тренировался. Не понимал своего счастья, - как-то непонятно окончил свой рассказ Чиба.
- Чего ты сюда пришел?
- Я сегодня дежурный по штабу полка.
- Ты?
- Не веришь? Сегодня комдив Балахонов приехал. Будет смотр. Что я тебя буду два часа поднимать? Подъем! И быть в штабе полка - начальство требует.
- Зачем?
- Тебе скажут.
- Подожди, я сейчас!
Ваня был легким на подъем. Второпях он даже не заметил, что его белье и гимнастерка выстираны. Он догадался об этом, надевая сапоги: на чуть-чуть влажные портянки сапоги натягивались с трудом.
Чиба относился к редкому разряду бойцов, которых за глаза называли «красавцами». Откуда что бралось?.. Снабжалась 16-я кавдивизия плохо, боеприпасы и те нередко поступали в недостаточном количестве, бойцы старались поэскадронно придерживаться какого-то стандарта. Цыбин, например, был сторонник общевойсковой формы одежды, хотя сам и ходил в красных галифе и кожаной куртке. Он не мог терпеть легкие казацкие седла, считал их «допотопными» и признавал лишь кавалерийского армейского образца. В эскадроне лошади были белой масти и коротко остриженные, чтоб издали видеть, где свои, где чужие. У Вани Гнедко был темной масти, но по сути дела Ваня только лишь числился за первым эскадроном, а службу нес при штабе полка под началом ординарца Логинова Ильи Гарбузенко, выполняя задачи вестового в походах и стоянках, в бою же должен был находиться рядом с Алешей-китайцем, заряжать пулеметные диски.
В четвертом же, например, лошади были темными, как форма - терских и кубанских казаков. Правда, форма эта, латаная-перелатаная, кой у кого из казаков была с нарушениями, «красавцы» же в полку щеголяли одеждой, как говорится, с иголочки.
- Я мигом! - крикнул Ваня и побежал во двор. Ваня смутно помнил, как они вчера вечером вошли во двор, как привязали коней к плетню… Он припомнил, что не успел расседлать Гнедко. Его седло лежало у сарая. «Ага, дядя Илья расседлал, вот спасибо! Ругать, наверное, будет. Пусть ругается. Главное - помог».
Ваня поднял седло над головой, толкнул ногой дверь, быстро вошел в сарай… Гнедко лежал. Он не ожидал появления хозяина с ношей на голове, конь вскочил, шарахнулся в сторону, под ногами у него затрещало, и он исчез…
Ваня замер с седлом: был конь и нет коня. Со свету в полумраке нельзя ничего было толком разглядеть.
- Где ты? - сбросил седло Ваня. - Куда ты делся?
Послышалось ржание, точно из-под земли. Ваня бросился вперед и оказался верхом на Гнедко.
- Ой, куда это мы попали?
Они были в погребе, у которого провалился настил под тяжестью коня. Ваня вылез наверх, догадался распахнуть дверь сарая, подложив под нее камень, чтоб не закрывалась. Гнедко смотрел на хозяина из ямы, обмотавшись вязанками лука и нитками сушеных яблок для компота.
- На помощь! Люди, помогите!
Прибежал Чиба, увидел Ванино несчастье, залился смехом. Пришла хозяйка, сокрушенно закачала головой.
- Конь-то ноги не переломал?
- Не знаю! -. чуть не заревел Ваня. - Как его вынуть? Что теперь мне делать?
- Что дашь, если вытащу? - неожиданно сказал Чиба.
- А у меня ничего нет, - ощупал себя Ваня. - Хочешь кинжал? Только его не показывай Цыбину.
- Нужен он мне, - сплюнул Чиба. - Давай… Я вытаскиваю Гнедко, даю тебе другого коня и еще золотое оружие.
- Откуда у тебя оружие-то золотое?
- Не ори! - огляделся Чиба, не обращая внимания на хозяйку хаты. - Как ворона: «Кар!» Не твое дело… Есть, значит, есть. Идет?
- Нет! - затряс головой Ваня.
- Чего? Коня и золотое оружие.
- Ничего не надо, друзей на золото не меняют.
- Дурак ты! - криво усмехнулся Чиба. - Получит пулю твой Гнедко, или украдут, уведут ночью. Говорят, ты его не стреноживаешь.
- А зачем? - сказал Ваня. - Он никого не подпустит к себе. Пробовали… Пойдут под трибунал, - припугнул он на всякий случай.
- Ну, смотри, боярин, тебе виднее, - сказал Чиба. - Под трибунал!.. Ша! Разговор остается между нами.
Он спрыгнул в яму, поставил передние ноги Гнедко на ее край, затем вылез, отдал повод Ване, сам ухватился за лошадиный хвост, скомандовал:
- Вперед! Н-но!
И Гнедко через минуту стоял наверху. Ваня побыстрее вывел его на двор, мигом оседлал, подтянул подпруги (случай у Соленого озера запомнился ему на всю жизнь) и поскакал следом за «красавцем» Чибой, у которого на рукаве была красная повязка дежурного по штабу полка.
В штабе полка, расположившемся в доме попа, его встретил сам Логинов Василий Григорьевич. Осмотрел опухшее с синевой лицо мальчика, пожевал ус, протянул пакет и, когда Чиба, козырнув, ушел, приказал:
- Скачи к комбеду, там тебя ждет человек…
- Кто?
- Землемер… По фамилии Сойкин.
У Вани стало сухо во рту, а ладони вспотели: перед расставанием мать успела сказать, что если Ваня не выдержит казацкой школы, то пусть уезжает с оказией в Кисловодск, где в ВЧК спросит сотрудника по фамилии Сойкин. Что это? Совпадение фамилий? Но такая фамилия редко встречается. Если приехал человек, о котором упоминала мать, так почему он «землемер»? Почему он в комбеде, а не в штабе, почему не вызвал Ваню в Кисловодск?
- Знаешь такого? - спросил Логинов.
- Нет…
- Молодец, что не знаешь! - похвалил комполка. - Скажи землемеру (командир полка сделал особое ударение на этом «землемер»), что у нас только четырехверстка, других карт нет.
Ваня как в полусне поскакал по станице, нашел по красному флагу комбед, расположенный в пристройке торговой лавки купца Шилова. Лавка - одно название: купец не торговал, отсиживался дома, ссылаясь на болезнь сердца.
Ваня оставил коня у коновязи, вошел в дом. В широкой комнате с единственной лавкой и столом, заваленным папками с бумажками, находились четверо станичников и землемер. Это был среднего роста мужчина в косоворотке, полотняных брюках и полотняных штиблетах, косоворотка перепоясана узким кавказским ремешком с висюльками из серебра, на носу сверкало пенсне.
«Ошибка вышла, - упало сердце у Вани. - Какой же это чекист? Землемера, как врача, за сто верст видно, у них профессия на лицах написана. Пальцы в чернилах…»
- Вы, что ли, Сойкин? - спросил Ваня.
- Да, я! - оживился мужчина. - С кем имею честь? Что у вас с лицом? Боже мой, избили, что ли? Ну и нравы!
- Не все ли вам равно, - несколько грубовато ответил Ваня. - Вот из штаба карты. Других нет. Я пошел…
- Подождите, молодой человек, - остановил его землемер. - Вы так стремительно… Товарищи, вы идите, я тут карты посмотрю, если безнадежно устарели, придется самим план местности чертить. Да, очень попрошу принести аршин, я не привез, с ним неудобно путешествовать.

- Это завсегда, - сказали станичники. - Это пожалуйста!
- Предупредите народ, чтоб не волновался, - продолжал землемер. - Нарезать наделы буду согласно вашему решению, наша контора в ваши дрязги не лезет.
- А кому земля атамана отойдет?
- Беднейшим крестьянам. Иногородним. Они не побоятся, засеют земли атамана. Идите, я тут разберусь и приду через… минут двадцать, тридцать. Молодой человек, вы присядьте, я мигом просмотрю.
И когда станичники ушли, землемер сел на край стола, положил пакет из штаба рядом. И Ваня удивился перемене землемера.
- Ну что, Сидорихин, - сказал Сойкин, - давай знакомиться!
- Это вы? - только и смог сказать Ваня.
- Как видишь. Возьми вон мешочек, это тебе подарки от матери. Полина Гавриловна жива и здорова, шлет тебе привет.
- А где мама?
- Ваня! - развел руками Сойкин, - Неужели тебя отец ничему не научил?
- Извините, - покраснел Ваня.
- Мать на работе. Откровенно говоря, я не знаю где, если бы знал, то не сказал.
- Понятно…
- И нос не вешай, Ваня, классовая борьба продолжается. Убийцы твоего отца творят зло, а мы их никак не можем уничтожить. Ты сам знаешь… Ветра в поле не словить. Надо другие методы применять. Как думаешь?
Ваня пожал плечами:
- Откуда я знаю…
- А надо знать. Вэчека не царская охранка, ее сила в связи с народом. Так учит товарищ Ленин. Конечно, хорошо бы было, чтоб ты ходил в школу, а тебе приходится с конниками ловить белобандитов. Гляди, конь-то у тебя, как огонь!
- Гнедко! - зарделся Ваня. - Он за мной, как собака. Свистну, сразу прибегает. Правда, многие на него зарятся, мол, пацану и плохой конь сойдет.
- Не сойдет, - заверил Сойкин. - Я разговор этот слышал. Логинов правильно сказал: «Пацан у всего полка на виду». И твой подтянутый вид заставляет бойцов подтягиваться. С сегодняшнего дня ты будешь при штабе полка.
- Почему я должен уходить от Цыбина? - не согласился Ваня.
- А потому что… Вчера из-за тебя переволновались. Рано тебе в сабельные атаки ходить. Первый же казак срубит тебя как лозу - и сил у тебя маловато, и рубку ты не изучал.
- Не пойду я…
- Ваня, ты тут не капризничай, а то со мной поедешь в город. Ты о матери подумай. Случись что… Приказ подписан - ты вестовой при штабе. Ох» конь до чего красивый!
- Мне сегодня за него другого коня предлагали и золотое оружие, - похвастался Ваня, думая о другом, о разлуке с эскадроном. Он уже привык к людям, и бойцы признали его.
- Как, как? - насторожился Сойкин. - Золотое оружие, говоришь? Какое?
- Я не видел его. Мне просто предложили в добавку к коню.
- Кто?
- Дежурный по штабу, Чиба.
- Ага! Так… так…
Сойкин машинально вскрыл конверт из штаба, вынул карты, развернул, затем подошел к Ване, положил ему руку на плечо.
- Больше он тебе ничего не говорил?
- Нет.
- Так… Вернешься в штаб, обо мне, само собой, молчок, а Чибе скажи так… Не навязывайся, а вроде с интересом скажи, что хотел бы посмотреть оружие. Мол, если настоящее золотое, то тогда ты подумаешь. Проси, чтоб после смены с дежурства показал. Вечером. Место встречи тебе скажут. Понял?
- Понял. А если он откажется?
- Не откажется, раз предложил.
- А что за золотое оружие?
- Тут одна темная история. Во время турецкой войны офицеру за храбрость было награждение - золотое оружие. Особая сталь, рукоятка и ножны с золотом и камнями. Ценная вещь. Старик умер, его дети живут под Ессентуками. Дом их был ограблен, старуху убили. К сожалению, Ваня, и в нашу среду хоть и редко, но проникают бандиты. Ходят они со звездами на шапке, называют себя красными, а внутри остаются белыми. Подозрение пало на второй эскадрон вашего полка, но концов не нашли. Чиба с какого эскадрона?
- Со второго.
- Ну вот… Вроде хвостик объявился. Надо нечисть вырывать с корнем. Ты скачи, вон уже станичники возвращаются. Делай, как я тебе сказал. Подожди. Сейчас я напишу тебе записку, отдашь лично в руки командиру полка.
Когда станичники вошли с аршином, они услышали, как агроном говорил вестовому:
- Попроси еще у командира туши или чернил. Нам придется план угодий чертить. Карты не годны.
«Карантином» назывался дом, разделенный на две части легкой перегородкой. Когда-то «карантин» принадлежал казачьему кругу, то есть в этом доме находился ветеринарный пункт, где во время призыва казаков на царскую службу врач-ветеринар осматривал лошадей: казак уходил в поход на собственном коне, при собственном личном оружии, в собственной исправе, даже первую неделю должен был питаться собственными харчами.
Дом давно не белили, штукатурка облупилась, в перегородке появились щели: видно, в той половине, куда под конвоем привели Ванюшку и Чибу, держали лошадей - вместо окон по задней стене тянулось щелью зарешеченное оконце, пол был глинобитным, пахло почему-то чем угодно, только не лошадьми! В огороженном углу находилась слежавшаяся подсолнечная шелуха - ядра пошли на отжим масла, шелухой топили печь, приспособив у дверцы воронку из жести, в нее насыпали шелуху, она постепенно оседала в топке и горела с чуть слышным шумом, как нефтяная форсунка… Разумеется, шелуха должна была быть сухой, в «карантине» она сильна подмокла под худой крышей, спеклась, начала гнить, из-за этого ее, наверное, и не сожгли полностью, хотя с топливом в станицах, раскинувшихся в безлесой степи, где зимой, особенно в феврале, случаются страшные снежные бураны, испокон веков с дровами было тяжко.
Ваню в штабе предупредили, чтоб он ничему не удивлялся, чтоб «подыгрывал» Чибе и ни в коем случае не спугнул его,
- Он должен сделать побег, - вразумлял мальчишку Сойкин. - Ты не кричи, когда он будет убегать.
Днем, когда затаившийся в рядах Красной Армии бандит находился в наряде, в хате, где он остановился на постой, сделали обыск, строго-настрого наказав хозяйке молчать, но ничего компрометирующего не нашли,
- Насчет «золотого оружия» он не врал, - объяснил Сойкин. - Что ж… Запрятал надежно, хитрый гад, осторожный. Будем брать с поличным.
Встреча должна была произойти в сумерках у дальнего ставка Давыденко, в нем воды осталось на несколько дней, было видно, как у дна плавали довольно большие рыбины, они подплывали к тому месту, где стоял Ваня, и хлюпали ртами, прося есть: их специально запускали сюда до осени рачительные хозяева. Истошно вопили лягушки, точно им осталось жить последний день.
Чиба запоздал, пришел с карабином, под мышкой держал сверток.
- Я уж думал, не придешь, - сознался Ваня, боясь не выполнить наказа Сойкина. - Хотел было уходить.
Он говорил неправду, потому что ждал бы бандита до полуночных петухов.
- Да, помешали, - ответил Чиба, оглядываясь. - Не слышал, чего в станице всполошились? Коммунистов созвали… Дополнительные посты поставили, приказали по домам сидеть. Непонятно!
- Не знаю. Я с Гарбузенко стою на постое, его дома нет. Меня отпустили, хотя сказали, чтобы тоже не отлучался, если вдруг понадоблюсь.
- Не нравится мне эта суета сует, - проворчал Чиба. - Где Гнедко-то? Не вижу коня.
Ване вдруг говор Чибы показался непривычным, каким-то странным, точно он говорил на другом языке, не на том, что днем.
- А мы и не договаривались, чтоб я его привел, - ответил Ваня, как его научил Сойкин, и добавил от себя: - Сам же говоришь, что патрули рыщут. Чего же я буду на коне носиться из конца в конец станицы? А если Логинов увидит или дядя Илья? Приходил бы ко мне в хату.
- Откуда я знал, что ты будешь один, - ответил Чиба. - Ну, что будем делать?
- Как что? - искренне удивился Ваня. - Ты же мне какое-то оружие особенное обещал показать. Ты такой хитрован, можешь и железку подсунуть. Покажи вначале… Знаем, не маленькие. У меня серебряный кинжал есть, сам Цыбин подарил, вот смотри какой.
Ваня вынул кинжал из ножен, потом с ударом вставил его в ножны.
- Незадача! - остался чем-то недовольным Чиба. - Ладно, гляди! Понравится, беги за Гнедко, только возвращайся на нем к низкому амбару.
- А твой конь где?
- Поставил в саду. Сюда не повел - темно, еще свалится в ставок, как твой в погреб, ноги переломает, совсем без коня останусь.
Ваня наконец сообразил, чем удивила речь Чибы, - говорил он без украинского акцента и местных словечек, которыми была пересыпана речь дяди Ильи или Цыбина.
- Кажи! - сказал Ваня.
Чиба взялся за концы дерюжки и катанул сверток по траве. И в лучах угасающего солнца на земле засверкали звезды - это были уздечка, сабля и кинжал, усыпанные драгоценными камнями.
- Ой, как красиво! - изумился мальчишка. - Это все мне отдаешь? Такую красоту?
- Жирно будет, - сказал Чиба. - Уздечка тебе такая ни к чему: отберут сразу, не царский генерал; сабля тоже не по твоим заслугам. Могу предложить лишь кинжал, но ты мне отдашь свой. Коня за коня, кинжал за кинжал, честно, как у батьки Махно. Ха!
Торг был прерван неожиданно, точно из-под земли вынырнули красно-
армейцы с винтовками, на винтовках были примкнуты трехгранные штыки. Они уперлись остриями в спины - ни вздохнуть, ни охнуть. Задержанных мигом разоружили - у Вани сняли с пояса «серебряный кинжал», у Чибы вырвали карабин, из кармана вынули наган, из другого «лимонку», «золотое оружие» не глядя завернули в мешок.
- Пошли!
- Братцы, да вы чо? - завертелся Чиба. - Мы же свои… Га, глянь на меня. Я же сегодня был дежурным по штабу. А це хлопчик, вин же вестовой товарища Логинова, нашего комполка.
- Пароль?
- Затвор, - сказал Чиба.
- Это вчера был «затвор», сегодня новый. Приказано, кто нового пароля не знает, задерживать до утра.
- Что случилось? Отчего страхи?
- Мабудь, Чека из Ессентуков и Кисловодска приехало. Ловят какую-то контру… Кого-то арестовывать будут…
Ваня заорал от возмущения:
- Замолчите, трепачи! Это же…
- Ты, хлопец, помалкивай! - толкнул Ваню кулаком в спину боец, точно отгадав его мысли. - Посидите трохи, заарестують кого треба, вас и выпустят. Некогда с вами возиться. Куда поведем? В штаб далече, нам и участок у ставка определили. От ставка до амбаров.
- Нехай в «карантине» посидят, - сказал один из бойцов.
- А куда приказано отводить? - спросил третий.
- Ничего не гуторили. Приказали: «Задержать, кто пароля не знает». Повели в «карантин». Оружие утром возвернут им.
Задержанных привели к одинокому зданию, закрыли в той половине дома, где был глинобитный пол и узкое оконце.
Звякнул замок.
- Только не балуйте, - сказал старший патруля. - Будем стрелять, тогда не обижайтесь!
Прошло минут десять. Чиба подошел к разбитому оконцу, крикнул:
- Часовой, принеси воды испить.
Ему никто не ответил.
- Ну, шантрапа! - сказал Чиба, опять без украинского акцента. - Заперли, как овец. Что, до утра сидеть будем?
- Посидим, - сказал Ваня. - На шелухе спать можно, не на сырой земле. Под голову горку насыплешь - и как подушка. Я уже спал так… Зачем уходить? Мой кинжал все знают, завтра сразу найдут. Еще больше попадет. А чего бояться?
- Кроме пули и хворобы, ничего, - сказал Чиба. - Все из-за тебя, сморчок. Жадность попутала: позарился на твоего дончака, не по Сеньке шапка. Господи, прости ты мою душу грешную! Чего они там говорили, кого Чека ловит?
- Откуда я знаю, - даже обиделся Ваня
глупому вопросу.
Он улегся на шелуху, притворно закрыл глаза.
Неожиданно в окошко ударил слепящий свет, донеслось урчание мотора, к «карантину» подъехал автомобиль «Рено», сзади на багажнике в специальной установке стоял пулемет «максим» с вложенной в магазин пулеметной лентой. Машина остановилась около дома.
- Тихо! - прохрипел Чиба, метнувшись к Ване и заслонившись пустыми корзинками.
В дом вошли люди. Кто-то остановился около двери в «конюшню», потрогал замок.
- Замкнуто! Проходите в другую долю, тут было стойло, подойдет под арестантскую.
- Почему часовых нет? - спросил кто-то строго.
- Мы приехали же неожиданно… И комполка и начштабу ничего не говорили. Будем в штабе, возьмем в караул самых проверенных людей, коммунистов. Бурдюков, вы привезете их на машине сюда, будете отвечать за арестованных головой. Посты расставите сами.
Через жидкую перегородку было слышно, о чем говорят в комнате.
«Эх! Они же не знают, что мы здесь, что мы их подслушиваем, - забеспокоился Ваня. - Может, крикнуть или кашлянуть?»
- Если тебя услышат, - горячо задышал на ухо Ване Чиба. - Задушу!
И он взял Ваню за горло цепкими пальцами.
- Понял?
- Понял, - также тихо прошептал Ваня, вспоминая слова Сойкина: ничему не удивляться.
- О цели нашей проверки командование полка не поставлено в известность? - спросил тот же властный голос.
- Нет, как договорились, объясним в последний момент.
Ваня узнал голос того, кто отвечал, - начальника Особого отдела полка товарища Драпкина. Чиба тоже догадался, кто приехал на машине. Он на цыпочках подошел к стенке, прижался ухом к щели.
- Правильно! - сказал человек с властным голосом. - Откровенно говоря, я не особенно доверяю командованию Девяносто шестого полка. У Логинова, например, не ясно с пятнадцатого года до марта восемнадцатого. Пишет, что был в плену. Где? Почему оказался в России до репатриации, до обмена пленными с Германией? А Севостьянов? Капитан Восемнадцатой пластунской… Почему из Москвы перебрался в Ростов, где формировалась Добровольческая? Утверждает, что был схвачен белой контрразведкой… А как проверить? Так можно утверждать, что десять лет был на каторге за покушение на царя вместо Халтурина. «Арестован за сочувствие мировому пролетариату»…
- Он служит честно, ничего не скрывал, - заступился за Мишу Севостьянова Драпкин.
Ване было приятно слышать, что за его друга встал человек. Мальчишка забыл о наставлениях, все происходящее воспринимал сердцем: как же так, заперли случайно в доме, куда приехали из города на специальное задание чекисты? Из-за оплошности патрульных вся операция полетит в тартарары. Вели бы под конвоем в штаб… Он напряг слух, и то, что услышал, совсем привело его в растерянность. Человек с властным голосом говорил:
- Вообще до анекдотов дошло, никакой классовой бдительности! Что у вас за мальчишка объявился? Конь у него, говорят, такой, что нет у командира дивизии.
- Парень как парень, - сказал Драпкин. Он-то уж знал Ваню до мозга костей, знал и про отца, что Сергей Иванович был тоже чекистом и его казнили шкуровцы.
- Развели богадельню! - сказал начальник. - Кто отец у этого пацана?
- Матрос Балтийского флота… Погиб.
- Положение в полку тревожное… Два бывших офицера командуют полком, а вестовым у них сын морского офицера: его в Кронштадте утопили моряки, привязали к ногам колосник и за борт. Зверь был, а не человек.
Ваня чуть не заревел белугой, он забился в слезах, но следующая фраза заставила его сжаться, и мысли прояснились.
- А мать Сидорихина подбросила вам барчука, а сама удрала, возможно, за границу. Но дело не в пацане, его допросить можно, вряд ли он в курсе дела. Вот список бандитов, их требуется арестовать немедленно. Расследование провели, свидетелей опросили… Тринадцать человек - чертова дюжина. В первом эскадроне более-менее благополучно, во втором чистить придется - Авдеенко, Чиба… Тут написано. Есть и в третьем эскадроне, и в четвертом. Придумайте предлоги, как их вызвать из хат во двор. Брать без стрельбы и криков, а то спугнем остальных.
- Почему арестовывать именно сегодня? В течение недели изъяли бы не торопясь: кого перевели бы, кого в обоз…
- Потому что поздно будет: есть сведения, они завтра собираются перебежать к белым.
«Вот почему Чиба пришел с карабином, с наганом и «лимонкой», - догадался Ваня. - И конь ему мой потребовался, чтоб уйти от погони».
- А что делать с Логиновым и Севостьяновым?
- Пока ничего… Усилить наблюдение. Возможно, мы их и зря подозреваем, но от бдительности еще никто не умер. По крайней мере то, что их заранее не поставили в известность, дает гарантию успешного выполнения операции. Кончаем переливать из пустого в порожнее! Кто здесь останется?
- А зачем? - сказал Драпкин. - Помещение я вам показал. Вторая половина замкнута, надо будет новый замок раздобыть, старый сорвем. Отсюда практически уйти невозможно. Бурдюков, я в штабе дам коммунистов, ты их сюда на машине и доставишь. А мы из штаба отлучаться не будем… Аресты проведут мои хлопцы, они лучше ориентируются.
Послышались шаги, чекисты вышли из дома, зажглись фары «Рено» автомобиль уехал.
Чиба забегал по конюшне, потом остановился, собрался - видно, принял решение.
- Порядок! - вытер он пот на лбу. - Голыми руками не возьмешь. Ну что, ваше благородь, - обратился он к мальчику. Ваня вначале не понял, что Чиба говорит с ним. - Кончилась игра в жмурки? Твое счастье, что я услышал правду о тебе, а то бы ты не дожил до утра еще у ставка. Пошли со мной… Дулю вам с маком! Ха! Напустила твоя мамаша тумана… Ты тоже сидишь у Чека на мушке. Пойдешь со мной?
- Нет! Я вам не верю…
- Как хотите, ваше благородие. Выходит, вашего батюшку, как моего полковника, солдатня отправила к праотцам? А в общем, денщиком-то я никогда и не был. Последний раз: идешь со мной? Слово офицера, что я, зная теперь, кто ты, пальцем не трону.
- Не пойду!
- Вольному воля, спасенному рай! - сказал Чиба. Больше он не сказал ни слова. Подошел к закутку с шелухой, оторвал доску, вставил ее между железными прутьями решетки, повернул доску на ребро, навалился телом… И доска сработала, как рычаг, не выдержали гвозди, решетка со скрежетом вышла из пазов, Чиба втащил ее в конюшню, перекрестился и нырнул в оконце.
Где-то внизу затрещали кусты и стало тихо, Чиба шел наверняка. Патрульные, как ему думалось, нечаянно проболтались о границах своего дозора - он шел в обход ставка, где в саду стоял его боевой конь, и беспрепятственно ускакал в сторону гор.
Воспоминания наплывали одно за другим, как облака… И чудно было знать, что было в прошлом, и с восторгом ощущать непритупленную временем бодрость.
Ночь. Рядом горы, но их не видно во мгле. Над головами звезды, как камни на «золотом оружии», воздух, напоенный запахом трав, соткан из лоскутов - то обдаст прохладой, то отогреет. Кованые копыта звенят по каменной дороге, как молоточки в музыкальной шкатулке, и в ушах звучит спокойная мелодия, никогда никем не слышанная и не сочиненная. Конники едут молча, многие спят в седлах.
- Полк, стой!
И сразу движение, тревожные возгласы.
Ваня встрепенулся. Колонна замерла. И мальчик не сумел удержаться от вскрика: там, где положено быть земле, оказалось перевернутое небо. Он поднял голову… И вверху звезды… Звезды были и внизу…
- Миша, Миша! - спросил Ваня шепотом. - Что это?
Миша Севостьянов ответил тоже шепотом:
- Гляди во все глаза. Такое раз увидишь в жизни. Это - светлячки. У них сегодня праздник… Слышишь, как подруг зовут? Такова жизнь.
Земля стрекотала, мерцала, переливалась… Миллионы светлячков пели брачную песнь.
Колонна подтянулась, и от головы в конец покатилась команда: «Шагом!»
Журчит бурунчиками ледяная вода, сказочно прозрачная: иголку урони - найдешь на дне.
- Миша, почему она такая холодная?
- С гор катится. Ее родили ледники. Вырвется на простор - успокоится, станет теплей.
- Как река называется?
- Кубань!
- Кубань? Помнишь, мы переправлялись через нее, так она была грязная, мутная и не такая быстрая.
- Наелась ила и успокоилась.
- Полк, смирно!
Люди замерли, кони - тоже. Около командира полка два бородатых верховых казака. Что-то говорят, а что - не слышно. Полк выстроился на окраине богатой станицы.
Логинов приподнялся на стременах.
- Бойцы! - гремит его голос. - Тут жалкуются. Забижаем, говорят, мы мирных жителей. Полк стоит перед вами, казаки, ежели увидите грабителей, покажите. Мы разберемся, миловать не будем. А чтоб вновь не было повадно другим, полк расстреляет их перед своим строем. Не жалели мародеров и жалеть впредь не будем. Им самый суровый революционный приговор.

Люди насупились. Гнедко переступал рядом с белым жеребцом Севостьянова. Странно устроены лошади: Ваня тянется к начальнику штаба, за честь считает быть около него, а Гнедко и Буян не ладят между собой, ссорятся, мелко пакостят друг другу, как две старые девы, - то прикусят за круп, то лягнут, разве только не вцепятся в гривы, как в волосы.
- Очередная провокация, - говорит Миша Севостьянов. - Хитры на выдумки.
- А если не брешут?
- Еще хуже… Позор на всю армию.
После той памятной ночи, когда приезжали чекисты, в полку было спокойно, да и арестованных по подозрению в бандитизме подержали в «карантине» лишь четверо суток, затем выпустили, взяв с них пролетарское слово помалкивать. К белым ушел лишь Чиба, да во втором эскадроне в крапиве за лавкой купца Шилова нашли зарезанного Авдеенко, лучшего дружка перебежчика: зарезал Чиба своего подручного, не поделив награбленное добро, а добро досталось народной власти.
Поговорили, потолковали, организационных выводов не было, постепенно забыли волнения, а тут опять ЧП!
Казаков не сопровождают. Они медленно едут вдоль строя эскадронов, нахохлившиеся, как сычи. Буравят взглядами конников, и во взглядах их неприкрытая ненависть, и каждый боец в строю отвечал им таким же взглядом, непримиримым и пылким, потому что никто не желал верить, что кто-то смог ограбить этих двух вытесанных из мускулов рубак, точно впаянных в седла. Попадись им в чистом поле - искрошат шашками, как шинками капусту на засол. Ваня запомнил их лица: у одного шрам через лицо, а другой огненно-рыжий, с аккуратно подстриженной квадратной бородой.
Время шло, и казалось, не будет конца постыдному разглядыванию. Первыми зашептались зрители - жители станицы, высыпавшие из улочек. Зароптали и конники, видно, раны, обиды, нанесенные недавней бузой Чибы, были еще болезненными и бойцам требовалось очиститься от «скверны». Лишь Василий Григорьевич Логинов был спокоен, как будто происходящее его не касалось.
Казаки остановились напротив Севостьянова и Вани, и вдруг казак со шрамом на лице подмигнул из-за спины казака с квадратной бородой. Севостьянов, кажется, не заметил знака, а Ванечка заелозил в седле, зачем-то нагнулся к стремени.
Смотр заканчивался. Командир полка понял, что бойцы могут и не сдержаться, и во избежание непредвиденных осложнений послал к казакам дежурного по полку. Тот подлетел и нарочито громко гаркнул:
- Ну что, есаулы, парад приняли?
Казаки перекрестились, как на пасху, загундели:
- Утих во всем вашем кагорту немае. Дюже здается, шо были то не ваши хлопцы, бо несхожи с вашими.
Они повернули коней и нырнули в ближайшую боковую улочку. Кто-то из мальчишек, рассевшихся, как галки, на плетнях, пронзительно засвистел вслед:
- Ату их, ату-ту!
- Миша, - не вытерпел Ваня. - Почему Василий Григорьевич разрешил осматривать полк? Если это разведчики? Они все высмотрели.
- Вполне возможен и такой вариант, - ответил Миша Севостьянов. - Но мы и так на виду. Любой может нас пересчитать, когда полк входит или уходит из станицы. Это бандиты скрываются от населения, а мы регулярная часть - опора Советской власти. Дойдет до боя… Суворов учил: «Воюют не числом, а умгением», тем более что нас больше, чем бандитов. Лазутчики не выведали ни наших намерений, ни маршрута. Вот что главное.
- А ты не заметил?.. - начал было выяснять загадку казацкого сигнала Ваня, но Михаил Севостьянов прижал его колено своим, и Ваня понял, что лучше помолчать.
Жаль, что в полку не было духового оркестра! Очень жаль! Впереди колонны реяло красное знамя, за ним по четверо ехали песенники, самые голосистые хлопцы в когорте. И неслась над Боргустанской звонкая песня, правда, старая, так как новых еще не сочинили.
Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать…
Под оркестр ехать бы было сподручнее - кони удивительно музыкальные животные, как только слышат музыку, начинают гарцевать, и шею изгибают лебедем, и равнение держат лучше…
Эх! Взвейтесь, соколы, орлами!
Сразу видно, что полк вернулся в место расположения без единой потери.
Ваня ехал рядом с Логиновым по правую сторону. Вдоль плетней и заборов стояли люди, хлопцы и девчата вышли встречать. Свои и враги, те, кто за комсомолию, и те, кто за старый режим; на лице не написано, кто сочувствующий Советской власти, а кто притаился змеей подколодной, ждет подлого часа, чтоб укусить ядовитым зубом. Ярко светило солнце, день был теплым, в садах покраснели поспевшие яблоки: наступало время сбора урожая.
Неожиданно Логинов повернулся к Ване и сказал тревожно:
- Скачи в хвост колонны, узнай: кто стрелял? Что-то мне не нравится этот шальной выстрел…
Ваня не слышал выстрела, но приказ есть приказ, он повернул Гнедко и поскакал вдоль строя, вытянувшегося могучей рекой по красной улице станицы. Казачата, его сверстники, что еще недавно снисходительно улыбались, глядя на его конную выучку, теперь смотрели вслед червонному хлопчику с уважением: он сидел в седле лучше любого из них, сразу видно - точно родился на лошади. И обмундирование подогнано, и кинжал не болтается, как лишний, а висит точно приклеенный, карабин у широкого армейского седла, не за спиной, как у казаков. Так держать карабин удобнее, не надо стаскивать через голову, если потребуется начать стрельбу.
В конце колонны Ваня увидел несколько спешившихся человек, они вели коней в поводу, на черной бурке несли молодого взводного четвертого эскадрона… Паренек подъехал к плетню, за которым стояла группа девчат, попросил с улыбкой:
- Красавицы, дайте водицы испить!
Из глубины сада раздался выстрел, парень покачнулся и сполз на землю. Девчата разбежались.
- Командиру первого быть за меня!
К смертельно раненному буденовцу скакал командир полка. Он соскочил с коня, подошел к раненому, нагнулся над ним, а когда выпрямился, молча снял кубанку. И весь полк спешился. И все бойцы сняли шапки. Песня заплуталась и умолкла.
Полк шел, кони следом за хозяевами, шли бойцы молча, и была в этом движении такая яростная сила и гнев, что улицы опустели - враги убежали, друзья примкнули к печальному шествию. Старая женщина было заголосила по павшему, но умолкла, потому что молчание было более скорбным, чем женские слезы.
Такое в Боргустанской произошло впервые.
Ваня завернул во двор Акулины Зютичихи. Она ждала парнишку, перехватила повод, увела Гнедко в конюшню, затем заторопилась в хату накрыть на стол, но в самый последний момент что-то вспомнила и сказала Ване шепотом:
- Твоя маты у штабу. Тоби кличет…
Ваня, не чуя ног, бросился из хаты и помчался стрелой по заветной тропинке к дому, где всегда разворачивался штаб полка. Давно ли он бежал этой дорогой с робкой надеждой стать бойцом 96-го кавполка? Месяцев пять назад… недавно и в то же время очень давно.
Во дворе штаба его перехватил Драпкин, поманил пальцем и сказал:
- Не афишируй радость. Мать никто не должен видеть. Она в санчасти. Стукни четыре раза…
Санчасть располагалась в старом каменном сарае, она пустовала - тяжелораненых транспортировали в Ессентуки и Кисловодск, легкораненые поправились, тифозных и дизентерийных по осени не было. Ваня вошел в сенцы, дверь открылась, мать пропустила его в приемный покой, закрыла на крюк дверь.
- Что ж ты открыла? Я же должен… - затараторил Ваня, мать целовала его лицо… - Нарушаешь конспирацию.
- Я тебя по шагам слышу, - сказала Полина Гавриловна. Она была одета, как казачка: белая кофта с пышными плечами и узкой талией, расклешенная юбка, сапожки подчеркивали ее фигуру.
- Мама… - И слова застряли у Вани в горле: на столе лежал убитый взводный. Мать обмыла его тело теплой водой. Пуля вошла между лопаток, стрелял бандит из обреза в спину.
Сколько раз Ваня представлял эту встречу. Вышла она совсем по-иному, без бурной радости, получилась грустная. Он не плакал. Весной не удержал бы слез, теперь его глаза были сухими.
- Страшная штука смерть, - сказала Полина Гавриловна. - Но она естественна, когда человек прожил жизнь, вырастил детей, оставил о себе добрую память. Сыновья должны предавать земле стариков, когда же мать хоронит сына… Это надругательство над жизнью. Пособи, сынок. Мы его оденем в чистое и новое. Он погиб героем. И если даже нашими телами укроют землю до Подкумка, мы все равно победим… потому что мы за жизнь!
Она опять прижала к себе сына.
- Какой стал костлявый!.. Черный, как грач. Вань, у тебя пушок над верхней губой. Ты не стесняйся! Отец бы видел! А волосы белые, как у деда Сидорихина. Второй дед, мой отец, письмо прислал. Пока большевики кровь проливали на фронте, в крепости, как клопы в бараке, эсеры расплодились и анархисты, баламутят воду. Ничего, руки им укоротят. Покончим с Хмарой и Савенко, поедем ко второму деду. Этот дед золото не копит… Морская душа. Очень тебя хочет видеть.
- Надолго ты приехала?
- Нет… Пока не стемнеет.
- А потом куда?
- На хутор Лыбединой. Ты меня отвезешь. У меня лошади нет, пешком не успеть. К тому же не надо, чтобы видели посторонние.
- Гнедко устал с похода.
- Ты легкий, другим коням было тяжелее.
- До хутора пятнадцать километров…
- Считай, что это приказ!
Ваня набросил на коня войлок, расправил потник, чтобы не было ни морщинки, ни желвачка, иначе потрется спина боевого друга, а это хуже раны: потертость с каждым выездом растирается и будет конь, как пехотинец с нарывом во всю пятку, - далеко не уйдет.
- Извини, - сказал Ваня. - Отдыхать не придется!
Вошла Зютичиха, принесла лохань теплой воды, подсоленой и заправленной отрубями, как корове.
- Напои, - сказала она и встала, подперев рукой щеку. - Выводи лопухами, бо никто не бачив.
Казачки… Из поколения в поколение на переднем крае, с малолетства приучены держать язык за зубами: ты только подумаешь, а они уже знают, в какой стороне гром гремит.
Станица отошла ко сну, но совет Акулины был дельным: если ехать по станице, обязательно кто-нибудь приподнимет занавеску на окне, посмотрит, кто это в темь и куда поскакал. Здесь каждый всадник вызывал жгучий интерес.
Ваня вывел коня за околицу, повел по мягкой траве… Он прошел полкилометра, матери все не было, он уж начал беспокоиться, не напутал ли, не свернул ли на другую дорогу, как из хлеба поднялась Полина Гавриловна.
- Я здесь!
Она села в седло, как Цыбин у Соленого озера, Ваня - на холку. С матерью ехать было куда ласковее. Она обняла его плечи, дышала в ухо…
- Щекотно, - сказал Ваня. - Мурашки по телу бегут.
- Помнишь, как мы пробирались ночью из Воронежа в Семилуки? Как всадник покажется, мы ложились… С тех пор я умею на ровном месте прятаться, как в сундук. Здорово, да?
- Мам, а ты как?
- Ты про что?
- Сама знаешь…
Полина Гавриловна долго молчала. Гнедко пошел мелкой рысью. Ночь выдалась темной, дул ветер, низко стелились облака, тревожно вскрикивала птица. Ваня был счастлив… С матерью скачут в ночь, как в сказке. Хорошо! Спокойно, когда мать защищает спину.
- Я борюсь с контрой, как и ты, - сказала Полина Гавриловна, когда Ваня забыл заданный вопрос. - Не я, так ты отомстишь за отца. Недолго осталось Хмаре нашей кровью упиваться.
Километра за два от хутора они остановились, слезли с Гнедко.
- Ты в низине спрячься, - посоветовала мать. - На фоне неба высвечиваешься, хотя и темнота кромешная. Я скоро!
Вернулась Полина Гавриловна очень быстро, запыхалась от бега, говорить не могла…
- Ой, сердце разорвется. Ой… слушай… Фу! Так… Ух! Легче! Ты любишь своего коня?
- Да! Это мой лучший друг!
- Если даже придется загнать его, скачи! Сынок, вопрос о сотнях жизней наших товарищей. Запомни слово в слово: пятьсот восемьдесят сабель, шесть «максимов», четыре горных орудия. Засада будет… Место называется «Пронеси, господи!», где оно, Сойкин не установил. Если тебя схватят по дороге, ври, что в голову придет, но если будут пытать и ты выдашь… Ты выдашь меня и Сойкина. Еще… и весь полк будет уничтожен. Тебя будет ждать Драпкин. «Капкан» сработал. Запомнил? Давай поцелую на счастье… Скачи, сынок, не жалей коня!
Перед станицей Ваня догадался остановиться, спешиться. «Ушел незаметно, вернусь тоже тихо», - решил он.
Он ввел Гнедко во двор, поставил в конюшню.
«Почему я не встретил дозорных? - размышлял он. - Мне без конца твердят о бдительности… Днем взводного убили, ночью же ходи по станице куда хочешь, никто не остановит. Непорядок! Так бандиты нас всех в постелях вырежут. Надо Драпкину сказать. Надо! Ускакал, прискакал… Знамя полковое украдут, никто не спохватится до утра».
Ваня не догадывался, что каждый его шаг контролируется, разве только в степи они с матерью были предоставлены воле случая. Темной и тревожной ночью в секретах лежали самые дисциплинированные и проверенные бойцы. Затевалась большая игра, и любой неосторожный шаг любого красного конника, и Вани в том числе, мог обернуться проигрышем.
В хате светилось окно. Ваня вспомнил, что мать предупредила: «Тебя будет ждать Драпкин».
«Ожидает!» - решил он. Смело вошел в хату, но невольно попятился назад, натолкнувшись на бородатого мужика, который отрезал путь отхода.
За столом у коптилки сидел Чиба, развалясь на лавке, перед ним стояла бутыль самогона, на столе закуска, но Акулины не было видно.
- Ты что, гостям не рад? - сказал хрипло Чиба. - Проходи, ваше благородь.
Ваня присмотрелся к бородатому и узнал «разведчика», что давеча делал «смотр» с дружком красному полку.
- Куда ездил, Сидорихин?
- Надоело мне все! - ответил Ваня, мучительно соображая, что говорить и с какой целью. Ночной визит бандита был совершенно непредвиденным.
«Чего их бояться, - соображал Ваня. - Им должно быть страшно. Драпкин может прийти… Тогда табуреткой по окну и орать: «Тревога!» Коптилку сбить со стола… В темноте и выстрелить успею… Им не уйти! Так что они больше рискуют, чем я. Главное… Пришел Драпкин или нет? Если пришел, они его схватили. Если не пришел… Успею предупредить».
- Чего надо? Чего явился, как черт во сне? - не ожидая от себя такой смелости и развязности, заговорил Ваня.
- Устрой встречу с Логиновым или Севостьяновым, - сказал Чиба.
- С ума сошел! - Ваня прошел через горницу, сел рядом с ним на лавку, кинжал определил под рукой. - Да он с тобой и разговаривать не будет: столько из-за тебя неприятностей было. Чека его на допросы затаскала… И Мишу Севостьянова хотят снимать с начштаба за политическую неблагонадежность, - врал напропалую Ваня. - Он тебя с ходу пристрелит.
- Это еще посмотрим, кто кого, - сказал Чиба, оскалив зубы. - Следующая пуля его. Первая, предупредительная, взводному была, вторая будет бывшему офицеру Логинову, продавшемуся комиссарам.
- Тогда отсюда не уйдешь! - Ваня выхватил наган, который отобрали у Чибы.
- Ого! Ваше благородие… - отпрянул Чиба. - Убери! Кстати, кажись, мой, мог бы и возвернуть. Да бог с тобой! Не я с ним буду говорить. Я - сошка мелкая. Ему встречу назначает командующий Кубанского и Терского войска казачьего атаман Хмара.
- Есаул… - сказал Ваня. - «Волчьей сотни».
- Атаман! - поправил Чиба. - Не наше дело, о чем они будут калякать. Наше дело с тобой - помочь им встретиться. Ну, как?
- Чего как?
- Ты пойдешь к Логинову или к Севостьянову? С тобой пойдет Кузьма Пахомыч, - он кивнул на рыжего бородача. - С ним он и уговорится о встрече.
- А если мы возьмем твоего Кузьму? - сказал Ваня басом и удивился своему голосу.
- Ваня, кого ты возьмешь? - закачал головой Чиба. - Кузьму Пахо-мыча ты предашь, твою маманю зарубят. Она у Савенков банде. Позавчера сам ее видел. Хочешь, передам привет? Да, самое смешное… У нее жених есть, Ваня. Чего глаза вылупил, как плошки? Замуж она выходит… Че, не слыхал? Цирк! Скоро у тебя папа будет. Не морской офицер, как твой родной, землемеришко какой-то в очках, но, говорят, мужик в силе. Ничего не знаешь? Пойдешь, что ли?
- Ты врешь! - встал Ваня.
- Убери свою пукулку, а то и мы рассерчаем! - разозлился Чиба. - Дали дураку игрушку, не ребенок, знаешь, чем может игра кончиться. Давай веди Кузьму Пахомыча к командирам. И запомни: если с его головы упадет хоть волос, твою мамашу и будущего приемного папаню поставят к стенке. Считай, что они заложники. Идите с богом!
Ваня сунул наган в карман, пошел к двери, он решил выполнить просьбу Чибы. И правильно решил. Один опрометчивый шаг мог нарушить большую игру.
Через день 96-й полк выступил в сторону гор…
Дневали на альпийском лугу, не менее сочном, чем заливной. Лошади отдохнули, бойцы тоже повеселели, нахлебавшись кондея из котлов. Притоптав угли в кострах, конники сели в седла, и полк покатил вниз, в долину.
Горная дорога, прорубленная двести, а то и пятьсот лет назад, вилась по круче, постепенно расширяясь, и выплеснулась на плато. Впереди, километрах в пяти над дорогой, нависла скала. До нее могло быть и десять километров - расстояние в горах обманчивое из-за разреженного хрустального воздуха.
Логинов и Ваня подъехали к огромному растрескавшемуся валуну.
- Кажется, все сходится, - сказал Логинов. - Как мать говорила: «Пронеси, господи»? Это во-он скала висит над дорогой. Раньше, кто проезжал под ней, говорил: «Пронеси, господи!», чтоб не свалилась на голову. Они предложили маршрут по этой дороге. Иван, пора кончать комедию. Ты был молодцом… Скачи, передай приказ: эскадронных ко мне!
Прошло четверть часа, около камня собрались командиры четырех эскадронов. Логинов взобрался на валун с биноклем в руках. Затем он лег на живот, цепляясь за выступы, спустился вниз. Отдал боевой приказ:
- Цыбин, спешивайся, коней в укрытие! С пластунами пойдешь в обход дороги! Ориентир - скала «Пронеси, господи». Видишь лесок? Там орудия. Четыре горных. Ударишь по батарее в штыки. Огонь перенесешь по пулеметам. Где они расставили «максимы», отсюда не определить. Пока не возьмешь батарею, мы в атаку не пойдем. Второй эскадрон… возьмешь лучших конников с третьего, давай влево по низине. Оставшиеся, растянись… Пыль поднимай, пусть думают, что идем всем строем в походном порядке. Чтоб нашей утайки не разгадали. Песенники, вперед! Петь песни!
Перестроение произошло на ходу. Вправо и влево наметом ушли эскадроны. Оставшиеся конники крутились, как бесы, друг от друга на несколько корпусов, песенники затянули лихо:
Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня…
Старая казацкая песня о коне и любимой жене… Ванюшу оставили под командованием Ильи.
Илья когда-то, в возрасте Ивана, пас станичный табун на Дону. Лошади в табуне имеют иной нрав и повадку, чем в одиночку. В одиночку лошадь полностью доверяется человеку, признает его начало, бывает, что и взбрыкнет, но ее всегда можно успокоить, стреножить, в крайнем случае попугать нагайкой. В табуне команда переходит к самым сильным и норовистым жеребцам, табунщик должен быть умнее этих лошадиных командиров.
- Заходи, заходи сзади! - командовал Илья. - Не шарахайся, гони под скалу. Тоже наподобие «Пронеси, господи», мабудь не свалится на головы. Не психуй, а то понесут.
Кони не расседланные, так как в любую минуту могли вернуться пластуны, посланные на захват батареи горных орудий, мог прийти и иной приказ - перегнать к ущелью лошадей, чтоб пластуны вновь превратились в конников и действовали в конном строю. Илья и Ваня загнали коней под скалу. Отсюда был лишь один выход - наверх, но там стоял Илья: мимо него и муха не пролетит.

- Теперь контра пусть палит из всех калибров, - объяснил действия Илья. - Нам не страшно… Покуримо. Мозолить глаза наверху не следует - контра увидит, вразумеет нашу утайку. Что слышно? Песни спивают? Гарно! Сейчас бандюги «запоют Лазаря»!
Старый вояка наперед предугадывал ход боя.
- Во, чуешь? Пулеметы… Нервы у беляков не выдержали, кишка тонка оказалась: не пошли наши в ущелье. А зачем идти? Не дураки с песнями в братскую могилу спускаться!
Грозно загрохотали пушки, эхом отозвались разрывы.
- Куда лупят? - завертел головой Илья. Чтоб лучше слышать, он снял кубанку.
- Чуешь? По пулеметам лупят… Значит, наши батарею взяли. Га! Да здравствует всемирная революция! Чуешь, пулеметы заткнулись?
Илья сел по-башкирски, скрестив ноги. Своего рысака он привязал рядом к кривому, как его ноги, стволу горного кизила.
- Из трехдюймовки шпарят!
Ваня от возбуждения точил кинжалом ветку. Выстрелы, глухой рев голосов, что вблизи, наверное, означало «ура!», ничего ему не объясняли, он молчал, слушая комментарии более опытного бойца.
«Ну вот, Хмара! - думал он почему-то с некоторой грустью, наверное, оттого, что слишком много пришлось пережить и слишком много близких и дорогих людей пришлось потерять, прежде чем он дождался именно этого момента, момента возмездия. - Ты и заплатил за все! И если бы ты не попался в эту ловушку, которую сам поставил на нас, все равно через день, через месяц тебе бы наступил конец».
Ваня встал, вложил кинжал в ножны, зачем-то дослал патрон в патронник, поставил затвор на боевой взвод, выбрался на дорогу, - ему было невмоготу сидеть крысой под скалой, ждать, когда окончится праведный бой, в который Сидорихины вступили два года назад. В полку Ваня научился выполнять приказы, а то бы непременно ускакал, убежал бы туда, где вгоняли в землю банду Хмары.
Отсюда долина просматривалась лишь до валуна, где Логинов отдавал приказ на бой.
Выстрелы зазвучали совсем близко.
Ваня не знал, что основные силы белых казаков спрятались в лощине, куда ушел второй эскадрон. План боя Хмара рассчитал до мельчайших подробностей: ему казалось, что он предусмотрел все варианты. Откуда было знать Хмаре, что побег Чибы был организован чекистами, не случайно мальчишку Сидорихина и разведчика белых поместили в «карантин» .
Чекисты давно взяли на мушку Чибу с напарником, «золотое оружие» было последним штрихом перед его арестом. Но затем, по совету Сойкина и Полины Гавриловны, было решено подстроить побег Чибы, предварительно дав ему «подслушать» разговор «начальства».
Произошла встреча Логинова и Хмары. Хмару можно было схватить, но осталась бы банда. Хмара хитрил… Он потребовал, чтоб Логинов повел полк по дороге мимо скалы «Пронеси, господи». С вечера Хмару начали грызть сомнения: к назначенному сроку не пришла банда Савенко. Хмара хотел снять засаду, но потом решил, что сил у него достаточно, что сам справится - и славу добудет, трофеи, и наконец сможет подчинить несговорчиво-го Савенко, который тоже метил в «главнокомандующие» всех бандитов на Северном Кавказе.
Когда артиллерия, запрятанная около ущелья, ударила по пулеметам, Хмара понял, что бой проигран до первого выстрела, и единственное, что осталось делать, - спасать собственную шкуру.
Оставив банду драться с красными без единого шанса на победу, он с четырьмя телохранителями пошел верхом, на этот раз правильно рассчитав, что его артиллерию брали в пешем строю, значит, только здесь можно будет уйти из захлопнувшейся ловушки.
Неожиданным для хмаровцев был захват артиллерии, еще неожиданнее оказалась конная атака на затаившихся в низине бандитов. Многие из них не успели даже сесть в седла. Остатки белых кинулись к проклятой скале, нависшей над дорогой, предполагая, что огонь казачьих пулеметов отрубит преследователей. Но пулеметы были уже расстреляны, и белых вновь встретили шашки и пули третьего и четвертого эскадронов.
Из долины вело два выхода, и оба плотно перекрыты красными. Сопротивление было бесполезным, белоказаки начали бросать оружие и сдаваться на милость победителей.
Ваня всего этого, разумеется, не ведал. Он увидел, как откуда-то выскочили двое всадников. Он вначале подумал, что Цыбин послал за лошадьми. Увидев красноармейца, они разделились. Тот, что шел справа, в белой черкеске, поскакал на Ивана, подняв клинок над головой, приготовился для неотразимого удара, как по лозе. Самым мастерским ударом считалось, когда перерубленная лоза некоторое время стояла торчком, точно целая. Все произошло в считанные минуты…
Ваня не успел даже испугаться. Он машинально, как бы защищаясь от шашки, вскинул карабин и нечаянно выстрелил. Казак откинулся, его выбросило из седла, клинок, звеня, юзом пошел по камням, выбивая искры, а всадник, - точнее, то, что было за секунду до этого всадником, - свалился на Ванюшу, сбил с ног, поволок по земле, как давеча, когда парнишка у Соленого озера упал с Гнедко. Конь бандита проскакал мимо, чуть не растоптав красноармейца, но, почувствовав, что седока нет, остановился, встал вполоборота, дожидаясь, когда подойдет хозяин.
Казак лежал. Ванюше почудилось, что он притаился. Ваня на четвереньках подбежал к карабину, схватил, вскочил на ноги и отбежал шагов на двенадцать к скале.
Подошвы сапог казака были стоптанные, в грязи. Они пошевелились. Ваня прицелился… Мужчина пытался подняться, оперся руками, но сил не нашлось, и он упал лицом в дорожную пыль.
- Хлопчик, брось винтовку! - с придыханием прохрипел он. - Вмираю, иди до меня.
- А вы, дядь, драться не будете? - спросил Ваня.
- Иди и да поможь, я вмираю.
Ваня положил карабин, потом подошел, готовый пуститься наутек при первой же опасности.
Он узнал казака - аккуратно подстриженная рыжая квадратная борода. Лазутчик бандитов, еще с Чибой приходил в Боргустанскую, требовал встречи с Логиновым или Севостьяновым.
Рыжий казак узнал мальчонку.
- Ваня… Помоги, сынок.
- Чем помочь?
- Очи закрой… Закопай… Не хочу, чтобы мои очи коршуны выпили.
- А Хмара где? - спросил Ваня.
- Кто?.. А… Свои срубили. Предал он… Бросил в бою… Прощай, сынок! Передай…
На белой черкеске расползалось кровавое пятно. Был казак - и нет его…
Перед Ваней лежал убитый им русский человек, может быть, брат или знакомый той же Насти, что мыла его в хате, чей-то сын и муж… Широкоплечий, мускулистый, с шершавыми мозолями на ладонях. Возможно, и сын был у него, однолеток с Ваней, ждал батьку дома, прислушивался к каждому стуку копыт за окном. Но гражданская война жалости не знает. Не ты контру - так контра тебя уничтожит.
Подошел Илья. Вздохнул, утешил:
- Не стой ридным сыном над ним, он трохи не срубыв тебя.
Илья больше не нашел слов, чтобы утешить мальчишку.
96-й полк возвращался в станицу Боргустанскую. На этот раз во главе колонны не гарцевали песенники. Пел весь полк:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!
И как один умрем
В борьбе за это!

КАПКАНКА
Несколько раз останавливали, проверяли документы. Часов в пять мы подъехали к бывшему монастырю - высокая облупленная стена, точно измазанная суриком, широкие, тяжелые ворота, захлопнутые наглухо, у ворот - часовой. Он молча, натужившись, отворил ворота, мы въехали во двор, сзади тревожно зазвенел звонок.
Громыхая подкованными сапогами по булыжнику, подбежал дежурный и сказал шоферу:
- Что так долго? Расход на обед оставили.
- Зря старались, я в штабе порубал, - ответил шофер.
Они еще поговорили о разных разностях… Я огляделся. Справа и слева метров на двести тянулись одноэтажные, как казармы, здания с массивными решетками на окнах. Монастырь снаружи выглядел жалким и обтрепанным, а внутри сверкал той казенной чистотой, которая бывает только в военных подразделениях. В конце двора торчала церковь с высоченной колокольней, с которой, как лианы, свешивались антенны. По монастырским стенам прогуливались часовые.
За церковью к реке спадал сад. Фрукты в нем убрали, красноармейцы постарались.
Меня провели в глубину сада к избенке, не то бывшей келье, не то монастырской кладовой. Она притаилась у самой реки в трескучих, уже голых зарослях малины.
- Иди! До скорой встречи.
В саду стояли странные сооружения - заборы, макеты стен домов, бумы на разных высотах - от низеньких, у самой земли, до поднятых на высоту березки; висели чучела, набитые ватой, валялись куски колючей проволоки. Я видел войсковые полосы препятствий, здесь было посложнее и позамысловатее.
Скрипнула дверь.
На пороге избенки появилась тетя Клара! Она! Наша соседка. Я вместе с ней ушел из города через Чернавский мост, когда на нас пикировали «лапотники», немецкие легкие бомбардировщики, прозванные так за обтекатели на шасси, чем-то напоминающие лыковую обувку русских крестьян до революции. Потом был воздушный бой, наш «ишачок», тупорылый истребитель, сбил фашиста, из горевшего самолета успел выброситься летчик, его поймали, сгоряча, возможно, и убили бы - люди шли из горящего города, где у многих погибли родные и близкие, спасибо тете Кларе, она спасла пленного летчика, сумела объяснить разгоряченным людям, что пленный нужен нашему командованию, к тому же тетя Клара знала в совершенстве немецкий язык. Ее и увезли вместе с немцем в штаб армии, где она начала работать в разведотделе, затем мы растерялись… Не виделись долгих три месяца.
Она целовала меня, гладила по голове и, конечно, как положено, плакала. Никак не понять, почему женщины плачут при встречах. Распускают сырость.
- Чего ревешь-то? - спросил я. - Чего плачешь?
- Соскучилась, - ответила тетя Клара.
Мы вошли в избенку. Внутри было уютно по-мирному. Неплохо окопалась тетя Клара - комод, деревянная кровать, на тумбочке приемник. Меня заинтересовал приемник, сроду такого не видел - в полированной черной коробке, с «рыбьим глазом». Лампочка такая зеленая, чего-то в ней сходится при настройке на волну. Название «Телефункен». Эмблемочка. Интересный приемник.
- Где достала?
- Немецкий, трофейный, - сказала тетя Клара. - Ну, как вы? Сядь, расскажи. Как изменился! Похудел и вырос, лицо крупное. Взрослеешь.
- А где твоя военная форма? - спросил я. - Почему в гражданском?
На ней была черная юбка, двубортный пиджак с подбитыми ватой плечами, шерстяная зеленая кофточка. Не нашенская одежда, сразу видно, что трофейная.
- Надо, - ответила она. - Я теперь буду так, в форме мне нельзя.
Наверное, я побледнел, потому что тетя Клара засуетилась и предложила ложиться спать. По-моему, она боялась, что я начну задавать вопросы, на которые нельзя отвечать. Она настойчиво требовала, чтоб я лег спать.
- Рано!
- День - наша ночь, ночь - наш день, - сказала она.
Вдруг открылась дверь и вошел немец в зеленом мундире.
- Спокойно, спокойно! - сказала тетя Клара. - Познакомьтесь. Ваня… никак не привыкну, Вилли. - Она что-то добавила по-немецки. - Это Алик.
- Здорово! - сказал по-русски немец и улыбнулся.
- Здравствуйте! - ответил я, плохо соображая, что происходит.
- Испугался? - спросил «немец». - Я сам, брат, боюсь. Привыкаю. Чего глаза вылупил? Клара, включи приемник. Любопытное выступление. Включи, послушай! Последние установки.
Тетя Клара включила «Телефункен», раздался щелчок, и загорелась зеленая лампочка настройки - «рыбий глаз». Через секунду из приемника вырвался рев.
И вдруг звуки смолкли. Заговорил человек. С надтреснутым голосом. Немец. Заговорил спокойно, вкрадчиво. Он произнес несколько фраз и внезапно заорал.
И опять как будто что-то взорвалось.
Оратор говорил долго.
Тетя Клара и человек в форме немецкого офицера внимательно слушали радио, изредка переглядываясь между собой.
- Кто это? - спросил я, когда затих очередной рев.
- Гитлер, - просто ответила тетя Клара.
Слово «Гитлер» было для меня целым понятием, и странно было слышать, как говорил один человек. Кончался сорок второй год. Немцы вышли к Сталинграду. И жутко было слышать фашистов - казалось, они рядом, за стенами монастыря.
Затем заиграли марши. Звенели трубы. Гремели барабаны. Раздавались команды - там, где-то далеко-далеко, маршировали, а под Воронежем от поступи фашистов дребезжала пепельница на комоде.
Тетя Клара выключила приемник.
- Что он говорил? - спросил я.
- Хвастался, - сказала тетя Клара и подула на руки, точно они замерзли. - Хвастался. Грозился.
Сорок второй год… Сейчас, когда прошло много времени, можно подумать: что страшного было в крике Гитлера? Он ведь войну проиграет, отравится, и его труп сожгут эсэсовцы. Это теперь он не страшен, как не страшен Чингисхан. Помню, больше всего поразило, что Гитлер говорил, как человек, человек из плоти. Странно!
Спать меня уложили на топчане. На мягкой перине, под теплым одеялом я разомлел и заснул беспробудно.
Встал чуть свет, потому что привык вставать с петухами. В домике уже никого не было. Я оделся, нашел полотенце и кусок пахучего немецкого мыла, вышел в сад.
На улице почему-то белым-бело, голые яблони, красные листья кленов, дубы и рябины поседели.
Иней посеребрил землю. Было звонко. И хотя стояла тишина, казалось, что земля пела, как тонкая фарфоровая чашка.
«Предсказывают синоптики! - подумал я. - Обещают дождь - выпал снег».
Возле огромных сооружений шевелились люди - парни лет по двадцать пять, поджарые, голые по пояс. Перепрыгивали через канавы. Как белки, взбирались на макеты пятиэтажных стен, легко и цепко подсаживали друг друга с этажа на этаж. Интересное упражнение - на карнизе дома замерли бойцы, целое отделение. Ужасно трудно прицепиться к стене и не двигаться. Видно, затекли руки, бойцы спрыгивали на землю и делали разминку. Больше всех выстоял невысокого роста паренек, очень похожий на Толика Брагина.
Захотелось с ними поупражняться. Нельзя - они проходят специальную подготовку, а я здесь гость, вольношатающийся.
Затем начались упражнения по самозащите. Э… Некоторые приемчики я знал.
- Алик, - послышался голос тети Клары. Она стояла с кофейником, накрытым концом шали, чтоб не остыл. - Умывайся на реке, быстрее возвращайся, кофе остынет.
Завтракали втроем - тетя Клара, дядя Ваня-Вилли, уже не в немецкой форме, в гражданской, и я. Ели яичницу. Класс! Тетя Клара расставила на скатерти тарелочки, положила приборы - вилка слева, нож справа. Наконец-то она могла показать, как положено сидеть за столом. Смешно! Как во сне…
Рядом со мной сидел, может быть, настоящий немец. Чинно-благородно,
не спеша ел с тарелочки вилочкой, за ворот куртки заложена салфетка. Чудеса в решете! Разговаривал он с тетей Кларой по-немецки. Изредка она его поправляла, он краснел, как ученик на контрольной, повторял слова.
- Не путайте баварский диалект с берлинским, - поучала тетя Клара.
- Йа, йа, - кивал головой дядя Ваня-Вилли: мол, понял.
На меня все это так подействовало, что после завтрака я сказал:
- Данке шен!
Во до чего дошло! Я по-русски после обеда забывал говорить «спасибо», а тут «данке шен»!
Целый день они разговаривали. Я пытался понять, о чем они толкуют, но так ничего и не понял. Мне делать было совершенно нечего. Спасибо, обнаружились немецкие журналы, целая кипа. Я смотрел на картинки. Все улыбались, улыбался Гитлер, Геринг, Геббельс, было много снимков разных городов. Русские военнопленные. Снятые снизу лица русских выглядели уродливыми. Специально так фотографировали, чтобы был невыгодный для съемки ракурс.
Потом чинно обедал. Не жизнь - сказка!
За окнами во дворе монастыря шла напряженная жизнь - вернее, учеба, еще вернее - тренировка.
Я видел, как целый день у спортивных сооружений натаскивали людей. Уходили одни, приходили другие. Сколько их? Не знаю, да и никто не ответил бы на подобный вопрос. Здесь нельзя было задавать вопросы. Украдкой я поглядывал в окно, выходил из избушки.
Ребята работали, именно работали, настойчиво. Я понял одно: они вырабатывали производственные навыки. Да! Чтоб, не раздумывая, отпрянуть, прижаться к земле, стене, крыше товарного вагона, пропустить мимо пулю, нож, камень, чтоб подобное было таким же обыденным, как наколоть дров для печи, запрячь лошадь в телегу. Здесь учили работе тяжелой и беспредельной, смысл которой заключался в том, чтобы не выдать себя врагу как можно дольше, чтоб сохранить то, что называется внезапностью, чтоб благодаря смелости, инициативе, инстинкту самосохранения, навыку, сообразительности, удаче выжить - и тем победить врага, который хочет выжить сам.
Фашисты как чума. Эти ребята учились быть санитарами. Они обязаны были все уметь делать, бороться с эпидемией чумы. Романтика санитаров.
Кто-то должен был выполнять и эту работу. Кто-то был токарем, лудильщиком, кто-то механиком или артиллеристом, ну, а им выпало быть разведчиками, хотя могли они выучиться и на пехотинца, и на связиста. Они были трудягами войны.
Конечно, я всего этого еще не мог тогда так четко понять, я запоминал, чтобы в будущем осмыслить.
Люди бегали, ползали, пороли финками чучела… Работали.
Преступно соблазнять людей на подвиг. На подвиг идут, потому что другого пути нет, потому что иначе немыслима жизнь. Это мне ясно до оскомины.
Ночью нас с тетей Кларой разбудил капитан, мой старый знакомый:
- Пошли!
Встали молча.
Тетя Клара собиралась не спеша, зачем-то долго глядела на себя в зеркало, надела кольца и дутый браслет, что вынесла из Воронежа в замшевом мешочке. Зачем? Не знаю. Она собиралась точно в гости: основательно, спокойно. Я нащупал в кармане гномика из желудей и разлапистой веточки ольхи. Так и не представился случай передать его Стешке. Может быть, подарить на счастье тете Кларе? Но гномик - невезучий талисман, и я передумал дарить.
Во дворе ждала крытая машина. В нее погрузили какие-то мешки. Сели автоматчики. Забрались в кузов и мы. Дядя Ваня-Вилли уже сидел там. Поверх немецкой формы он накинул русскую плащ-палатку. Кивнули друг другу: «Привет!»
- Готово?
- Порядок!
- Отчаливай!
У ворот часовой крикнул:
- Ни пуха ни пера!
Ему не ответили. Ни к чему было школьное пожелание удачи… Прозвучало вроде шутки. Несерьезный человек.
Выкатили на гладкую дорогу. По верху кузова застучал дождь. Выходит, синоптики не врали, когда обещали дождь. Из кабины через окошечко падал слабый свет. Бледными пятнами высвечивались лица людей. Развернувшись вполоборота, дядя Ваня-Вилли следил через окошечко за спидометром в кабине. Тетя Клара обняла меня, притихшая и грустная.
«Зачем я им понадобился?» - вдруг подумал я. Рано или поздно эта мысль должна была взволновать меня. Что тетя Клара и дядя Вилли разведчики, я давно понял. Понял, что их готовят для засылки в глубокий немецкий тыл. Хотя я и был мальчишкой, такие истины, по-моему, знал в сорок втором году и младенец. Но зачем разыскали меня? Привезли. Я жил с тетей Кларой, слушал немецкое радио, бездельничал… Неужели и меня хотят послать вместе с ними?
От этой мысли меня бросило в жар. Нет, я не испугался, после пережитого во время бомбежки в городе задание пойти в тыл врага хотя и было страшным, но в данный момент, в машине такое задание было отвлеченным, чем-то далеким и почти нереальным.
Нет! Тут что-то было иное. Но что?
Тетя Клара, точно догадавшись о моих мыслях, прошептала мне на ухо:
- Потерпи немного! Тебе скажут, зачем ты едешь с нами. Это я попросила найти тебя. Ты нам поможешь. Только ты можешь помочь нам с Вилли, в этом я уверена. Молчи! Осталось совсем немного времени быть нам вместе.
И я успокоился, мне хватило ума и выдержки молчать.
Особенно отчетливо врезалось в память, как мне почему-то в ту ночь вдруг показалось, что жизни, которая была там, вне машины, никогда не было. Приснилась. Истинная, подлинная жизнь была только здесь, под брезентом, в кузове. Как будто бы родился здесь и вырос. И никогда не был в каком-то городе, в каком-то Доме артистов. Ничего не было, кроме того, что вот сижу я на досках и еду в темноту, по дождю, с неизвестными людьми, у которых вместо лиц белые пятна, а на месте глаз - темные провалы. Я мог реветь, кусать себе пальцы или рвать зубами пилотку, никто бы ничего не заметил, не увидел бы, потому что люди, как и я., чувствовали, что время остановилось и весь мир сжался до размеров машины. Отрешенность сковала. И что произойдет, что случится через час, через два, никто не знал и не мог предвидеть. Судьба была неподвластна.
Так перед дальним походом русские люди присаживаются на дорогу, молчат минуту-другую, то ли вспоминая прошлое, то ли уже живя будущими тревогами и заботами.
Машина свернула с укатанной дороги. Наклонило. Колеса забуксовали. Мотор натужно захрипел, точно старый бык в упряжке.
Ползли по грязюке часа полтора. И все-таки доехали. Точно, доехали! Машина остановилась.
Вылезли. Я не увидел - почувствовал, что где-то рядом дома. Мы должны были приехать на окраину Придачи - отсюда самый близкий путь к Чернавскому мосту.
Пошли.
Спустились в траншею. Под ногами зачавкало. Вышли на открытое место.
Дождь усилился.
Спустились во вторую траншею.
Откинулся полог, и в лицо ударил свет. И опять темно. И вот я уже в блиндаже, ослепленный керосиновой лампой.
Убежище сделано из случайного материала - кусков фанеры и толя, обшито штакетником от заборов. Вместо стола - дверь. Мирная дверь с облупленной белой краской. На ней сохранилась переводная картинка. Чей-то ребенок перевел картинку на дверь. И плыли в неизвестность русские воины со щитами, повешенными на борт корабля.
В блиндаже у железной печурки сидели давешние пехотинцы в маскхалатах, что сватали меня в проводники. Они пили чай из консервных банок, обжигаясь и смакуя.
- Погодка-то - класс! - сказал один, точно сообщил превеликую радость, и закашлялся.
- Грейтесь!
Мы присели на ящики из-под снарядов - тетя Клара, дядя Ваня-Вилли, капитан из разведотдела и я.
- Альберт Терентьевич, - вдруг сказал старший разведгруппы, он тоже был в маскхалате, звания не видно. Что он главный, можно было догадаться по его движениям, по тому, что ему уступили место около фонаря «летучая мышь», по тому, что люди глядели на него и ждали указаний.
- Альберт Терентьевич! - опять повторил он. - Прошу к столу.
- Меня, что ли? - наконец сообразил я.
- Второго тут у нас такого нет, - сказал старший. - Придумал же отец тебе имя.
- Обыкновенное, - несколько обиделся я за отца, - у нас в классе Танк был, Сталина и Арточка, Артиллерийская Академия. Отец читал книжку, а там был герой, его звали Альбертом, вот он и назвал меня так.
- «Разбойников» он читал, Шиллера, - сказала тетя Клара. - Я ему рекомендовала эту книгу, но, мне кажется, суть вопроса не в этом. Алик, подойди к свету. Слушай внимательно. Товарищ майор, может, приступим к делу, а то наш проводник совсем измучился от догадок.
- Альберт Терентьевич, - опять повторил мое имя старший. - Мы вас пригласили проводником. По рекомендации… Нам сказали, что ты весь фарватер реки Воронеж знаешь, как собственную комнату. Ходил на реку купаться?
- Ходил… Целыми днями пропадали. На Капканку, на Трубу, на Собачий брод.
- Во-во, - оживился майор-разведчик. - Брод нам и нужен.
- Так он не здесь. Мы где-то около яхт-клуба?
- Угадал! Молодец! Точно сориентировался.
- Собачий брод на Чижовке около моста на ВОГРЕС, а мы у Чернавского.
- И тут нет брода?
- Почему? - возразил я. - Есть. Капканка. Тут ямы… Надо точно по гребню идти, не оступиться в яму.
- Задание очень ответственное, и без твоего личного согласия проводником мы тебя назначить не можем, не имеем права. Так что подумай хорошенько…
- А чего здесь думать? Раз я один Капканку знаю, и думать нечего. Я согласен, проведу вас.
- Ну и хорошо. Значит, порядок следования такой, - сказал старший. - Идем к реке двумя группами. Альберт Терентьевич, предупреждаю, когда взлетит сигнальная ракета, не вскакивать, лежать спокойно, я буду рядом. Да, молодой человек, переоденься. Свое обмундирование сложи сюда. - Он протянул брезентовый мешок. - Документы тоже клади. Не пропадут. Вернешься - возьмешь. Порядок общий.
- А зачем переодеваться? - не утерпел я.
- Промокнешь. Вернешься - в сухое переоденешься. Мамок у нас нет. Промокнуть придется до нитки. Выйдем к переправе, - продолжал ставить задачу старший, - в стороне, метров на двести. Альберт Терентьевич, где брод-то твой? Давай точные координаты.
- Прямо от водокачки начинается.
- Придется вдоль бережка прогуляться… Не страшно?
- Может, переплыть и натянуть конец? - спросил кто-то.
- Не удержишь. Завязать не за что. Дорогое удовольствие.
- Не стоит мудрить. Делать будем, как решили.
- Верно.
- Значит, порядок следования: первым иду я, за мной - проводник, двое для прикрытия - ты и ты. С интервалом в десять минут выходит вторая группа. Не доходя до берега, залегает. Проводник спускается к реке, находит брод, дает сигнал. Так можешь? - Он прокричал не то птицей, не то кошкой. - Подать звуковой сигнал?
- Могу.
- Ну-ка, попытайся, изобрази.
Я изобразил…
Разведчики подумали и, видно, решили, что сойдет…
- По сигналу фонариком подходит основная группа. Прикрытие знает свою задачу. Так… Первым через реку идет проводник, вторым вы, гражданка, замыкающим вы, господин офицер.
Дядя Ваня-Вилли криво усмехнулся.
- При переходе замыкающий следит за женщиной, чтоб не снесло в глубину. В случае если собьемся, вещи бросайте. То же самое в случае обнаружения: возвращайтесь на исходный рубеж. Прошу к столу, ознакомимся с последними данными. Пленный показал, что стыки батальона проходят между этими домами.
Я не слушал, я переодевался. Достались старые, но еще крепкие лыжные брюки, башмаки на резиновой подошве, майка, рубашка фланелевая, ватник и кепка, как блин. Она была великовата. Гномика дяди Бори я переложил в карман лыжных брюк.
От меня зависела жизнь тети Клары. Жизнь! Вот как обернулось.
Все мы играли в войну… И когда началась война настоящая, я и мои друзья еще долго воспринимали происходящее как что-то увлекательное, романтичное, загадочное… Плохо ли это или хорошо? Многие годы, до настоящего времени я думаю над этим вопросом. Хорошо, что война сразу не сломала нас, что у нас в душах был солидный заряд, если так можно выра-зиться, сопротивляемости, мы не раскисли, не превратились в безвольное стадо баранов, наши убеждения и вера в победу выдержали самый жестокий экзамен - нашествие фашистов, но кое-что оказалось и бесполезным, даже вредным, и многие мои сверстники лишились жизни, потому что не уловили, когда игра стала неигрой. Во время налета немецкой авиации пацаны убегали из дома собирать осколки от зенитных снарядов, а осколки не различают, кто свой, кто чужой. Подрывались на запалах, минах, когда пытались самостоятельно их обезвредить. Сколько подрывалось этих горе-саперов, трудно сосчитать… Бывали случаи, положат снаряд в костер, сами сядут вокруг и ждут, когда снаряд взорвется. А сколько было самострелов из-за неумелого обращения с оружием. Конечно, можно крикнуть: «Пиф-паф!» Но лучше этого не делать, потому что винтовка, как убеждены бывалые солдаты, сама стреляет раз в год, стреляет боевым патроном, который разит наповал. И вообще…
Война не имеет ничего общего с мирной жизнью, это нужно знать твердо, чтоб, когда очутишься в ней, не превратиться в растерянного и перепуганного младенца, чтоб фантазию игры суметь превратить в реальность боя, а приобретенные навыки пусть ненастоящего сражения использовать с толком в невыдуманной войне.
Не хотелось уходить из блиндажа. Глаза долго не осваивались в темноте, и мы шли как слепые, разведчики поторапливали.
Мы шли полем. Затем легли. На мокрую, разбухшую землю.
Дядьки в маскхалатах ползли, как ужаки, точно всю жизнь ползали, а не ходили с автоматами, с ручными пулеметами Дегтярева - весьма неудобной штукой для транспортировки в горизонтальном положении.
- Не отставай!
Не знаю, как бы я справился с подобной гонкой на брюхе месяца три назад. Я бы задохся, умер от разрыва сердца, расплакался бы, сдался. Три месяца выросли в года. Я полз. Пусть не совсем быстро и ловко, но полз. Я промок, как суслик. Меня можно было взять, скрутить, выжать и повесить сушиться на веревочке. Холода не чувствовалось. Наоборот, я задыхался от жары.
- Не мешкай! Ну, где ты?… Как чувствуешь себя, оголец?
Заныла спина, руки исцарапались. Осень, а колючки впивались в ладони, как летом в зной.
Выползли к берегу. Я перевернулся на спину и ловил ртом воздух, его было так мало, совсем не было.
Река шумела. Никогда не подозревал, что река Воронеж шумит.
Вырисовывались какие-то развалины на том берегу. Водокачка, что ли? Взорвали ее. Сгорела.
- Соображай, куда теперь, - шептал сбоку старший. - Что разлегся, как на пляже? Гляди, гляди, куда нужно. Давай, давай!
«Чего давай?» - соображал я. Я не узнавал места. Днем я тут тысячу раз гонял в футбол, кувыркался, загорал, а теперь не могу понять, где мы. В городе не светился ни один огонек. Не за что было зацепиться взглядом. Где-то здесь спускается к реке улица Дурова.
- Давай, давай!
- Погоди! Не узнаю.
- Заблудился?
- Тут блукать негде. Не узнаю места.
- Чего не признал?
- Незнакомое место.
- Не шути, Альберт Терентьевич.
- Дай подумать.
Два бойца с РПД расползлись в разные стороны.
- Валяй к воде, - посоветовал старший. - Может, лучше сообразишь.
- Ладно.
Я скатился с берега - он оказался скользким, точно его намыли. Сел. Я разозлился. И на себя и на разведчиков… Ночью все выглядело иначе… Черным.
Я встал и пошел. Встал, как хотите. Не умею я ночью ползать на брюхе и соображать, где нахожусь. У меня мозг иначе устроен.
«Так… - рассуждал я. - Водокачка. Вот она. На месте. Взорвали - не имеет значения. Здесь где-то была дорожка. По ней к броду спускаться».
И я почувствовал, что нашел ее. Честное слово! Не видел, а почувствовал, что стою на ней. И это меня так обрадовало, что я забыл дать условный сигнал голосом - промяукать, что ли, или прокричать птицей.
Где-то был мелкий заливчик.
Есть!
Вижу!
Блестит река, сюда забегает.
Я захотел было пройти дальше по берегу, чтоб получше разобраться в приметах, но сильно ударили под коленки, я упал. Одновременно на правом берегу взлетела ракета. Ослепительная и злая.
- Нашел! - зашептал я, потому что благодаря ракете смог увидеть противоположный берег, куст, на который мы равнялись, когда переходили реку. - Нашел!
Двинули по затылку, я уткнулся носом в землю.
- Нишкни! - зашипел боец с ручным пулеметом. - Замри, обормот.
Ракета догорела и упала в реку.
- Не сердись, Альберт Терентьевич, - сказал боец. - Дурак же ты! Выдал бы… Чего под носом у фрицев гуляешь, как в школу идешь? Извини, что ненароком пришиб, рука у меня тяжелая.
- Говори, а рукам воли не давай, - сказал я с обидой. - Думаешь, сильный, так… Обрадовался. Нашелся силач.
- Нечаянно… Сгоряча.
- Ну, как, как? - послышалось сбоку. Подполз старший группы. - Нашел? Даю сигнал.
Старший обернулся, распустил маскхалат, как летучая мышь крылья, замигал фонариком. С немецкой стороны не видно было сигналов.
Пока он сигналил, меня опять начали одолевать сомнения - правильно ли я сориентировался, не ошибся ли. Когда горела немецкая ракета, я отлично видел приметы, навалилась темнота и дождик - и я не верил себе.
Где-то стреляли. У Чернавского моста ударили минометы, залились пулеметы… Может, нас обнаружили? Почему тогда стреляют у Чернавского?
Позднее я узнал, что почему-то в районе улицы Степана Разина немцы не могли хорошо контролировать окраину города. Вот почему они нервничали и стреляли всю ночь наобум.
С тыла подползли люди.
- Трогай! Пора! Иди, иди, не отстанут!
Пригнувшись, я вошел в воду. Обожгло. Вода холоднющая… Это не на Первое мая открывать купальный сезон. Светит солнышко, ребята подзадоривают друг друга. Разденешься, прыгнешь в воду - и сразу к берегу, выскочишь как ошпаренный, довольный, что доказал смелость. Потом хвастаешь в школе, во дворе, что купался. Во какой герой!
Может, зря вызвался переводить людей через реку? Сейчас повернусь, упаду на берег и скажу, что вода слишком холодная и страшная. А тетя Клара как же? Ей тоже идти почти по пояс в осенней воде. Я обязан пересилить сам себя, раз она идет за мной.
Я не оборачивался: знал, что за мной идут.
Вода поднялась до колен. Дух захватывало.
Лишь бы не сбиться с брода!
Тетя Клара ухватила меня за плечо, дышала мне в затылок. Она не умеет плавать. Она верила, что я выведу ее на противоположный берег.
Герой, героизм… Я не думал ни о чем подобном, не до того было, чтобы праздными мыслями развлекаться. Это от нечего делать сами себя взвинчивают. Мне требовалось выполнить приказ - вот и все. Три месяца ушли на то, что я приучился выполнять приказы, не капризничал и не говорил: «Почему я, почему не другой?» Раз мне приказали перейти реку - значит, я обязан это сделать. И все!
Самое неприятное, когда вода доставала до еще не захлестнутой части тела, вновь перехватывало дыхание, точно ударяли под дых.
Я шел… Глубина стала по пояс.
«Где же поворачивать? Где-то здесь нужно поворачивать влево, - стучала мысль. - Эх, зря тетя Клара вцепилась в плечо, как рак! Отпустила бы. Я бы прошел вперед, попытался, разведал бы…»
Но она не отпускала - она не умела плавать, и она верила в меня, что я тут каждую ямку знаю.
И я чуть не сорвался на глубину.
Отпрянул. Почувствовал, что впереди глубина с ручками и ножками. Точно глаза выросли на ногах. Впереди глубина.
Я круто забрал влево. И опять чуть не сорвался вниз. Течение было, тащило на глубину. Я еле вылез на узкий подводный хребет и пошел быстрее вперед.
Берег ближе, ближе… Вода откатилась. Обгоняя, вперед прошел напарник тети Клары. На его голове, как у меня когда-то, было привязано белье, лежали вещи: кажется, чемодан, может, и рация.
Мужчина обернулся… Я понял, что он попрощался со мной, что мне нужно возвращаться.
Тетя Клара отпустила мое плечо и пошла за дядей Ваней-Вилли, точно боясь отстать от него хотя бы на полметра. Она не обернулась.
Я остался стоять один на реке. Может быть, стоило догнать и попрощаться с тетей Кларой? Но они торопились к берегу, теперь им не грозила глубина, они таяли в темноте и дожде, они уходили.
Я было бросился за ними. Пойти бы вместе с ними в город. Я же знаю все проходные дворы - может, пригожусь!
Но… приказ у меня был иной. И этот приказ заставил повернуться и пойти к нашему берегу.
По пути я сбился, окунулся, поплыл, ватник намок. Я еле сумел сбросить его - он камнем тянул вниз. Никогда я не думал, что река Воронеж такая широкая.
Я плыл, плыл… Еле добрался до крутого берега. Я выполз на него. Зуб не попадал на зуб.
Меня подобрали разведчики.
- Молодец, Альберт Терентьевич!
Да идите вы к черту! Что мне от ваших похвал! Я замерз до позвоночника. Я хочу согреться. Мечтаю. А молодец или не молодец… Ерунда! Я лишь выполнил приказ. Как все. Вот что самое главное на войне - выполнить приказ!
И еще я понял в ту ночь на всю жизнь: смелость в бою не показывают - ее проявляют.
Оглавление
СЫН БАЛТИЙЦА
Глава 1 «ВОЛЧЬЯ СОТНЯ»
1
2
3
4
5
Глава 2 МУЗЫКАНТЫ
1
2
3
4
5
Глава 3 КОНЕЦ БАНДЫ
1
КАПКАНКА