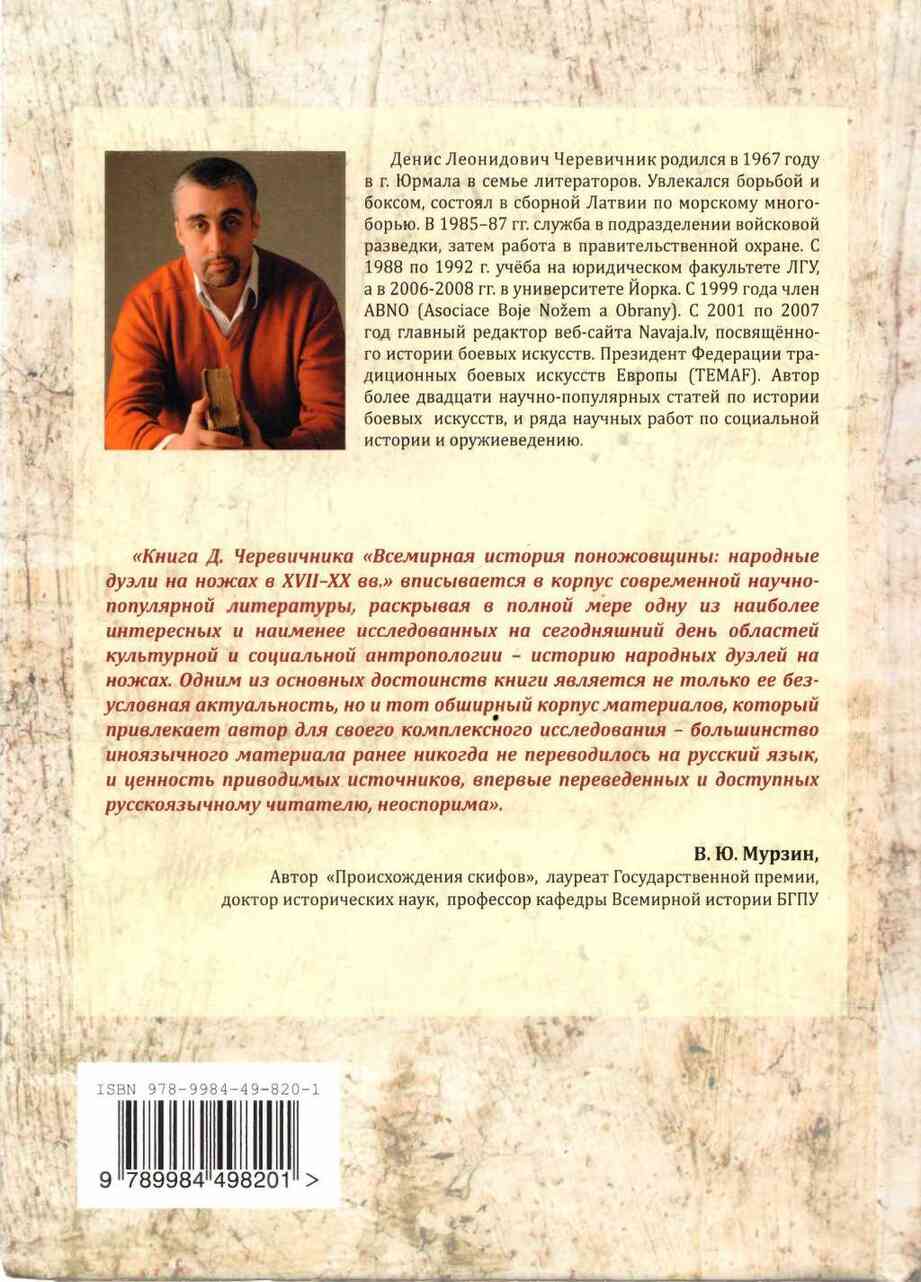Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVІІ-ХХ вв.
Денис Леонидович Черевичник

ПРЕДИСЛОВИЕ
Герои французского шансона 20-х, парижские налётчики, в кепи, с небрежно повязанными шейными платками, отплясывающие в кабаках Марселя популярный во времена Belle Epoque «Танец Апашей». Креолы Буэнос-Айреса начала XX столетия, со злодейскими опереточными усиками и набриолиненными причёсками, скрестившие в ритме «Эль Чокло» или «Ла Кумпарситы» ножи в уединённом баррио за сердце очередной милонгиты. Безжалостный Поножовщик из «Парижских тайн» Эжена Сю, с которым в прекрасной экранизации романа, сражался один из кумиров моего детства, Жан Маре. Старый пират Хэнде, карабкающийся по мачте «Испаньолы» с ножом в зубах за перепуганным Джимом Хокинсом. Роковой красавец Хосе из «Кармен» в расшитом андалузском камзоле и с неразлучной навахой за поясом. Конечно же, нельзя не вспомнить и колоритных сицилийских мафиози из саги о Крёстном отце, в неизменных полосатых костюмах, чёрно-белых штиблетах, с фуксией в петлице, и выкидным стилетом в кармане. Такие знакомые с детства, уже ставшие хрестоматийными, книжные и экранные образы. Ночные мощёные улочки Малаги, Севильи или Марселя, мужественные лица героев, блестящие в лунном свете клинки ножей. Сколько поколений романтиков вдохновили эти образы рыцарей без страха и упрёка.
Но стоит нам подойти ближе и вглядеться в их лица, как вдруг трогательные литературные персонажи начинают обретать плоть и кровь. Книжный пьянчужка — пират Израэль Хэнде из нашего далёкого детства, в реальной жизни превращается в безжалостного убийцу «Базилику» Хэндса, английского морского разбойника середины XVIII века, старшего помощника печально прославившегося пиратского капитана Эдварда Тича, более известного как Чёрная Борода. С опереточного злодея Хосе слетает сценическая мишура, и перед нами предстаёт его реальный прототип, легендарный испанский бандит Хосе Мария Пелагио Хиньяхоса Кобачо, по кличке «Эль Темпранийо», наводивший ужас на жандармов в горах Сьерра-Морена в первой четверти XIX столетия, и впервые убивший человека в драке на ножах в пятнадцатилетием возрасте. Из парижских газет и протоколов французских судов начала двадцатого века мы узнаём жуткие подробности дуэлей апашей, и колоритные грассирующие персонажи в кепи и стильных полосатых майках, из модных салонных песенок Серебряного века, воплощаются в безжалостных головорезов, заливавших кровью улицы Парижа. Квинтэссенция всех романных негодяев, «Поножовщик» Эжена Сю, возвращается к своему изначальному французскому звучанию «Суринер» — слову мелькавшему в тот период в сотнях полицейских досье, и обозначавшему в преступном мире прозвище профессионального убийцы, ловко владеющего ножом, на жаргоне «сурин».
Ножи и поножовщина. Сакральная тема с ореолом таинственности, флёром романтики и металлическим привкусом опасности. Наверное, не существует другого боевого искусства, окружённого таким невероятным количеством спекуляций, слухов и домыслов, как поединки на ножах, или, как этот вид единоборства называют его поклонники, ножевой бой. Из книги в книгу, из статьи в статью, кочуют одни и те же мифы, повторяются и тиражируются самые нелепые заблуждения. Вырванные из контекста, неверно истолкованные и интерпретированные фразы, искажённый в результате недобросовестного перевода смысл слов — из этой сумятицы и складывается представление читателей об искусстве владения ножом. Так, например, в качестве аргумента, якобы доказывающего, что дуэли на ножах являлись самой заурядной поножовщиной, часто приводят фразу из культового фильма о бандитах Дикого Запада, «Буч Кессиди и Санденс Кид», вышедшего на экраны в 1969 году. В одной из сцен фильма член банды — Харви Логан, вызывает главаря — Буча Кессиди, которого играет великолепный Пол Ньюман, на бой на ножах. На предложение Буча установить правила поединка, Логан отвечает: «Правила?! В драке на ножах нет никаких правил!». Но внимательно рассмотрев детали этой схватки, мы убедимся, что там присутствую все канонические элементы дуэли. Во-первых, Харви Логан формально вызвал Буча на поединок, а также предложил ему, как вызванной стороне, выбор оружия. После этого Логан снял рубашку — типичный дуэльный элемент, и занял стойку в ожидании противника. Таким образом, мы видим, что перед нами жёстко ритуализированная хрестоматийная дуэль, со всеми своими кодексами, правилами и нормами: два противника, вооружённых равноценным оружием — в данном случае ножами, наличие формального вызова, и один из дуэлянтов терпеливо ожидает появления соперника.
Почитатели боевых искусств, порядком уставшие от сумбурных и противоречивых пояснений бесчисленных «гуру», нередко задаются вопросом: существовали дуэли на ножах на самом деле, или всё это не более чем выдумка романистов и порождение безудержной фантазии авторов бульварного чтива, экзотика и колорит авантюрных романов. А может это лишь заурядная пьяная драка с поножовщиной, бесшумное «снятие» часового, или удар ножом, нанесённый в спину в тёмном переулке, как это нередко толкуют современные интерпретаторы и «знатоки» ножевого боя.
В результате выражение «ножевой бой» превратилось в общий термин для обозначения множества несвязанных между собой явлений — в некое абстрактное понятие. Таким образом, каждый вкладывает в трактовку «ножевого боя» свой смысл, и количество толкований и оценочных суждений ограничено лишь численностью интерпретаторов. Вследствие этого многие годы на всевозможных интернетных форумах, посвящённых боевым искусствам, тысячи адептов ножевого боя спорят до хрипоты, бесконечно муссируя одни и те же устоявшиеся клише и стереотипы. Как известно, сон разума порождает чудовищ, а информационный вакуум — самые абсурдные теории. Объясняется эта лакуна достаточно просто.
На протяжении многих лет историки, культурологи, антропологи и социологи совершенно не уделяли внимание культуре народной чести. Даже серьёзные исследователи отказывали низшим слоям общества — «низкой черни», в праве на обладание личной честью, достоинством, и, соответственно, даже в гипотетической возможности их защиты с оружием в руках. Эту доминирующую в обществе точку зрения в своё время высказал Александр Дюма устами своего персонажа Вильфора в «Графе Монте-Кристо»: «дуэли, между светскими людьми, а среди простонародья — поножовщина». И только во второй половине двадцатого столетия начал происходить кардинальный перелом в восприятии и интерпретации культуры народной чести и заслуга в этих революционных переменах принадлежит таким учёным, как Петер Спиренбург, Даниэль Боски, Хейки Иликангас, Роберт Най, Пабло Пиккато и Томас Гэллант. В своих новаторских работах эти исследователи проделали титанический труд, по крупицам собирая неоспоримые свидетельства, в корне опровергающие клишированные представления о «бессмысленной поножовщине черни». Доказательства, собранные учёными, убедительно свидетельствуют в пользу существования в Европе Нового времени развитой культуры плебейской чести и традиции «duello rusticano» — народных дуэлей.
Именно их исследования послужили инспирацией к написанию этой книги, и легли в её основу. Другой отправной точкой стали работы основателей легендарной École des Annales — исторической школы «Анналов», Февра и Блока, а также других историков, работавших на стыке нескольких дисциплин: социальной истории, истории культуры, культурной и социальной антропологии, таких как Хайзинга, Гинзбург и Бродель. И, наконец, третьим китом и краеугольным камнем этой книги, стали фундаментальные труды великих фехтовальщиков и популяризаторов истории фехтования викторианской эпохи, Эгертона Кастла, Ричарда Бёртона и Альфреда Хаттона. Людей невероятного сплава романтики, авантюризма и интеллекта с энциклопедическим образованием.
Идея этой книги появилась у меня ещё 1998 году, но дорога к ней заняла долгих 14 лет. Я задумывал эту работу даже не столько о ножах — о них и до меня было написано немало — а, скорее, о личной чести, достоинстве и репутации, о праве индивидуума на их защиту с оружием в руках, и о трансформациях, которые эти нравственные и этические понятия и отношение к ним социума, претерпели за прошедшие века. Честь и ритуал, это два кита, две фундаментальных основы, отделяющие дуэль от уличной драки, и честь в этом контексте можно рассматривать как философский камень, прикосновение к которому превращает заурядную поножовщину в дуэль. Именно необходимость защиты личной чести и достоинства, а вовсе не наличие ножей, или умение владеть ими, как полагают некоторые, вызвала к жизни народные дуэли, а также способствовала развитию сложных техник боя на ножах, и появлению школ и систем ножевого боя. Невозможно рассматривать лишь техническую сторону поединков в отрыве от морально-нравственных принципов. Также крайне важны изменения в трактовке мужской социальной роли и самоидентификации, происходившие на протяжении последних ста лет, так как последствия этих драматических метаморфоз, самым негативным и уродливым образом отразились на многих аспектах жизни современного мира.
Более пяти столетий европейские аристократы решали point d'honneur, — дела чести, на дуэлях. История сохранила для нас подробности сотен поединков и имена их участников. Причины дворянских дуэлей, окружавшие их кодексы чести, ритуалы и традиции, изучены многими поколениями историков, культурологов, антропологов, социологов и философов, и по каждому аспекту и нюансу трактовки личной чести дворянина написано множество монографий. До нас дошли десятки изданий дуэльных кодексов всех эпох и стран, регулирующие всевозможные аспекты поединков чести. И все эти пять столетий рядом с дуэльной традицией высших классов, оставаясь практически незамеченной, как Подземные жители из «Чёрной курицы» Погорельского, жила своей жизнью высокоразвитая культура народных «плебейских» дуэлей. Целый параллельный мир со своей системой ценностей, интерпретацией чести, дуэльными традициями и ритуалами. Со своими героями. Как я уже упоминал, большинство исследователей в лучшем случае игнорировало существование культуры народной чести, хотя чаще всего низшим классам просто отказывали в обладании честью. Чем-то эта точка зрения напоминает мне концепцию Рене Декарта, считавшего животных биологическими машинами, а их крики боли, скрипом плохо смазанного механизма.
Историография народной культуры чести и плебейских дуэлей, в отличие от поединков высших классов, не балует исследователей обилием и доступностью источников, и не может порадовать нас ни роскошными изданиями дуэльных кодексов, ни портретами известных бретёров кисти именитых мастеров Информации катастрофически мало: за исключением нескольких узкоспециализированных научных работ, практически ничего не издавалось. Упоминания о народных дуэлях мне приходилось по крохам выискивать в европейских законодательных сборниках XV–XIX веков, мемуарах и дневниках путешественников той эпохи, ставших очевидцами или участниками поединков. В работах по истории криминалистики Средних веков и Нового времени, газетах, полицейских протоколах и судебных делах тех лет. Кстати, любопытный факт — один из первых в истории человечества кинофильмов был посвящён дуэлям на ножах. 6 октября 1894 года на студии Edison Manufacturing Company вышел фильм режиссёра Уильяма К.Л. Диксона «Mexican knife duel» — мексиканская дуэль на ножах. Роли дуэлянтов, согласно титрам, исполняли некие Педро Эскивель и Дионесио (в одной из версий, Деметрио) Гонзалес. На кадрах из фильма можно увидеть, как двое мужчин сражаются на длинных ножах, ловко уклоняясь от ударов соперника. При этом предплечье одного из дуэлянтов для защиты от оружия противника обмотано курткой, а другой парирует удары зажатой в левой руке шляпой. Хотя некоторые авторы считают фильм хроникой, но на самом деле это постановочная лента, так как и Джозеф «Джо» Эскивель (Педро), и его экранный противник «Гонзалес» — судя по всему, брат Джозефа — Антонио «Тони» Эскивель, участвовали в прославленном Шоу Дикого Запада, с которым гастролировала по миру труппа Буффало Билла.
Работу усложнял и тот факт, что большинство этих материалов раннее никогда не переводилось, и массу сил и времени отняли переводы архаичных текстов, полных устаревших слов, идиом, и не менее сложных региональных диалектов. Минимум творчества, зато в избытке монотонной ремесленной работы с первоисточниками. Хотя, надо признать, в этом есть один, но несомненный плюс: исследователей культуры плебейских дуэлей трудно обвинить в компиляторстве.
Когда я начал работу над этой книгой, то практически сразу встал перед дилеммой: писать научный фундаментальный труд, или лёгкое популярное чтиво. С одной стороны меня манила академичность, но с другой, я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что, скорее всего в таком формате работа будет интересна лишь узкому кругу специалистов, и «неудобоварима» для остальных читателей. В конце концов, победила академичность. Но ближе к концу книги меня всё больше одолевали сомнения. В ожидании знамения я открыл на первой попавшейся странице «Книгу мечей» Бёртона, и сразу же наткнулся на историю о том, как он принёс рукопись своей книги издателю. Тот, бегло пробежав текст, сообщил автору, что ему «нужна книга о мече, а не трактат о «квартах» и «терциях», после чего, Бёртон переписал свою фундаментальную работу о мечах в более популярном и менее профессиональном стиле. Следуя примеру сэра Ричарда Бёртона, и я переписал книгу, но избрав при этом компромисс: попытался сохранить некое подобие научности оставив библиографию, и в тоже время постарался избежать достаточно тяжёлой для неискушённого читателя стилистики, формулировок и терминологии научных работ. Результатом этого оверштага стала некоторая эклектичность — какие-то главы и пассажи переписаны в более популярном стиле, где-то сохранилась изначальная лексика, ориентированная скорее на рецензируемые научные издания.
Ещё одна проблема, с которой я столкнулся при работе над книгой, известна многим авторам — это ограничение поля исследования. В какой-то момент у меня возникли опасения, что из-за недостатка источников придётся отказаться от идеи книги и остановиться на цикле статей. Но в результате, страхи оказались беспочвенными, и мне даже пришлось ограничить количество собранного фактологического материала пространственными и временными рамками, так как тема оказалась настолько ёмкой, что будущая книга уже не вмещалась в изначально планированный объём. Попытка объять необъятное, скорее всего увенчалась бы превращением книги в безразмерный энкциклопедический труд обо всём на свете, подобный справочнику Мортимера из известного рассказа 0. Генри. Учитывая, что книга охватывает хронологический период более чем в пять столетий, и рассматривает события, происходившие на территории многих стран, каким-то историческим, культурным и социальным явлениям и фактам я уделил больше внимания, каким-то, меньше. Также, чтобы остаться в каких-то разумных границах, в этой работе я не рассматривал Азию, Страны Ближнего и Дальнего Востока, ограничился достаточно поверхностным анализом Скандинавии и практически не затронул Восточную Европу — каждая из этих стран может стать темой отдельной фундаментальной монографии, и только ждёт своего автора.
Лучше всего эту проблему сформулировал известный французский историк-медиевист, Филипп Контамин в работе «Война в Средние века»: «Ни один ученый не может надеяться на то, что он освоит все источники о столь пространном предмете на протяжении тысячелетия». И далее он пишет: «Но как можно ограничить поле исследования? Как, в частности, не начать с начала, т. е. с исчезновения Западной Римской империи и образования варварских государств? Как не закончить концом, т. е. первыми постоянными армиями, ландскнехтами, артиллерией, бастионными фортификациями?
Отметим, однако, что исследование будет иметь определенные географические рамки: не только византийский и мусульманский мир будут оставлены в стороне, но в границах самого латинского христианства наше внимание будет сосредоточено на Франции, Англии, Германии, Италии и Иберийском полуострове. Сходным образом в книге не будет затронута война на море, рассказ о которой был бы уместен в истории кораблей и флота.
Определенная таким образом тема все равно остается пространной, слишком пространной. Нужно было выбирать, часто указывать только на основные тенденции, ограничиваться то здесь, то там простым обзором. Автор примирился с такой постановкой вопроса, стараясь только, чтобы краткое изложение, скорее смелое, чем оригинальное, и часто болезненные сокращения не помешали читателю охватить тему во всем ее многообразии».
Я не зря привёл столь пространную цитату Контамина — с такой же проблемой выбора столкнулся и я. Как можно описывать дуэли баратеро — вымогателей в игорных домах Испании, и не рассказать о борьбе испанских правителей с игорной зависимостью своих подданных. Или, говоря о дуэлях членов неаполитанской каморры, не совершить захватывающий исторический экскурс в историю появления этой сумрачного сообщества, и не рассказать читателю о его обычаях и ритуалах?!
Другой фактор, который в некоторой степени сближает мою книгу с работой Контамина, это то, что в обоих случаях раннее не издавалось ничего подобного. Это первая работа такого рода, комплексно рассматривающая все аспекты зарождения культуры народных дуэлей, её историю, предпосылки к появлению этой традиции, и причины, способствовавшие её исчезновению. Как и работа Филиппа Контамина, моя книга написана на грани нескольких дисциплин: социальной истории, культурологи и культурной антропологии, и, надеюсь, что, как и «Война в Средние века», она послужит заполнением своей лакуны.
Я попытался максимально объективно и непредвзято представить вниманию читателей обширный фактологический материал на основе более чем 650 библиографических источников, использованных в работе над этой книгой: монографий, путевых заметок, свидетельств очевидцев и участников народных дуэлей, судебных и полицейских протоколов, газетных статей. При этом я старался минимально докучать читателю своими комментариями, умозаключениями и ремарками. Но иногда, пользуясь правом автора, в качестве «лирических отступлений», я оставлял хоть и спекулятивные, но любопытные, с моей точки зрения, версии, как, например, «спартанский след» в главе посвящённой Италии.
Эта книга практически полностью посвящена Средиземноморской ножевой культуре, включающей в себя Испанию, Италию, Португалию, а также государства, куда вследствие эмиграции, войн и других катаклизмов, эта культура была импортирована: Голландия, Греция, США, Аргентина, Мексика. Исключением стала Финляндия, занимающая среди европейских ножевых культур особое место.
Я постарался рассмотреть все аспекты появления и развития этой традиции: где и когда зародилась культура народных поединков на ножах, какие социальные, исторические и культурные факторы этому способствовали. Кто были эти люди, участвовавшие в народных дуэлях, что заставляло их драться в поединках, выходцами из каких социальных слоёв они являлись, как толковали личную честь и достоинство, во имя чего умирали. Как дуэли на ножах трактовали законодатели, светские и духовные власти, и как эти поединки воспринимались общественным мнением.
Книга разделена на тринадцать глав, каждая из которых представляет собой самостоятельное и законченное исследование, посвящённое определённой стране, социальной группе или явлению.
Какое отношение имеют поединки на ножах к танго, фламенко, танцу апашей и музыке «фаду»? Как финский нож — легендарная «финка», попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию? Что символизировали порезы щеки, откуда появилось идиоматическое выражения «потерять лицо», и как получил свои шрамы Аль Капоне? Почему в старой доброй Англии распространена хоплофобия — боязнь ножей, и из-за чего дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс? Для чего капоэйристы Бразилии носили «сардины» и «клювы»? Какое отношение к поединкам на ножах имеет легендарный боксёр Кассиус Клэй и как возник миф о ноже «боуи»? Почему в одних странах низшие классы выясняли отношения на ножах, а в других только на кулаках? Как умение искусно владеть ножом помогало карьерному росту в Италии? Кто такие «еноты» и почему они дрались на опасных бритвах? Чем отличались различные виды дуэлей на ножах: пастушья «алла капрара» от «зумпаты» каморры, или, «мускульная» дуэль от «корпусной»? В каких случаях дрались до первой крови, а когда до смерти, и что такое «чиччиата»? Как выглядели «ножи любви» и где прятали своё оружие женщины Средиземноморья и Латинской Америки?
Обо всём этом и многом другом, я постарался рассказать в своей работе. Что из этого вышло, судить вам.
Хочется верить, что эта книга будет интересна не только людям увлечённым историей боевых искусств, культурологам, антропологам, социологам или историкам, но и более широкому кругу читателей.
Добро пожаловать в страшный, жестокий, кровавый и безжалостный, но такой притягательный мир. Мир ножей и чести.
Глава I
ФЛАМЕНКО С НАВАХОЙ
Дуэли на ножах в Испании


Что первым приходит нам в голову при слове «Испания»? Корриды в Мадриде? Конкистадоры и гружённые золотом майя каравеллы? Бег с быками в Памплоне, причудливые здания Гауди в Барселоне, или картины Гойи, Веласкеса, Эль Греко, Пикассо и Дали? А может, смуглянки с кастаньетами, отбивающие каблучками такт фламенко, и заунывные мотивы андалузского канте хондо? Гордячка Кармен, и дерущиеся за её любовь бессмертные герои Мериме, Хосе и Кривой, сжимающие в руках легендарные испанские навахи?
Испанцы и ножи. Невозможно представить Испанию без романтических персонажей бесчисленных авантюрных романов — вечно закутанных в плащи мрачных типов, в расшитых андалузских камзолах, надвинутых на глаза шляпах и с огромными неразлучными навахами за широким цветастым поясом. Сердце какого мальчишки не замирало, когда за юным Джимми Хоккинсом из романа Стивенсона с навахой в зубах неотвратимо поднимался по мачте «Эспаньолы» старый пират Израэль Хэнде
[1], или когда герою Эмилио Сальгари — благородному Чёрному Корсару на узкой мощёной улочке ночного города дорогу внезапно загораживали пятеро молчаливых и беспощадных басков со смертоносными навахами наготове
[2]. Испания представала перед восхищёнными читателями как вечный праздник — бесконечная череда танцев и коррид, дуэлей и фиест. Феерия, наполненная перестуком кастаньет гитан, кокетливыми махами с неизменными веерами в руках, ночными серенадами кабальерос под ажурными балконами чернооких дочерей Андалусии и чопорными испанками в строгих чёрных мантильях, преклонившими колени на мессах. Образ, порождённый симбиозом трёх основных факторов: «плутовского» романа, костумбризма и литературного жанра середины — конца XIX столетия, известного как «поездка в Испанию».
Первый камень в фундамент опереточного образа страны, очевидно, заложил столь популярный в Испании XVI веке жанр плутовского, или, как его ещё называют, пикарескного романа, прославленного героями Кеведо, Сервантеса, Кальдерона и Гонгоры. Окончательно же имидж Испании как костюмированного бала — ожившего романа, населённого лукавыми персонажами «novella picaresca», сформировался ближе к середине XIX века стараниями испанских писателей и художников, работавших в жанре костумбризма.
Направление, известное как костумбризм, возникло в литературе и искусстве Испании в первой четверти XIX века на волне романтизма и подъёма национального самосознания, сопровождавшегося повышенным интересом к народной культуре, обычаям, традициям и даже моде. Костумбристы занимались живописанием народного быта, зачастую приукрашивая и идеализируя действительность. В 1843 году группа писателей-костумбристов опубликовала книгу «Los españoles: Pintados рог si mismos» («Испанцы, изобразившие сами себя»), которая стала своеобразной квинтэссенцией и декларацией костумбризма и вызвала целый шквал подобных изданий. Эта лубочная эстетика впоследствии дала жизнь жанру, который можно определить как «Voyage еп Espagne», или просто — «Поездка в Испанию». К середине XIX столетия мода на посещение Испании с последующим изданием своих путевых заметок превратилась в повальную тенденцию, напоминающую эпидемию. Такого внимания не удостаивались ни далёкие экзотические страны, ни даже изобилующая дорогими сердцу каждого путешественника античными развалинами и красочными открыточными видами соседняя «белла Италия».
В Испанию бросились все — профессиональные путешественники и политики, юноши из богатых семейств и бедные студенты, офицеры и суфражистки. Это модное поветрие не обошло стороной и художника Гюстава Доре, отметившего своё пребывание на испанской земле серией чудесных гравюр, и известного русского очеркиста и литературного критика XIX века Василия Петровича Боткина, оставившего свои знаменитые «Письма об Испании». А также издателя Фаддея Булгарина, политика Дэвида Уркварта и сотни других прославленных и неизвестных пилигримов. Эти неутомимые и любознательные путешественники прилежно изучали испанские традиции, быт и обычаи, тщательно записывали и зарисовывали каждую мелочь — детали одежды, жаргон, уличные и бытовые сценки. Оставленные ими путевые заметки — это бесценный источник информации, позволяющий нам восстановить аутеничную и достаточно объективную картину жизни Испании XIX столетия.
Свидетельства этих странников и лаконичные заметки из пожелтевших газет, дополненные не менее скупыми фразами из судебных архивов, помогают нам узнать о существовании другого лица Испании. В этой её сумрачной ипостаси не было места эстетике плутовского романа: песням, гитарам, романтике и любви. Испания представала мрачным ангелом смерти из андалузских баллад Федерико Гарсиа Лорки с «чёрной косой цвета смоли и крыльями из альбасетских ножей»
[3].
За буйством красок апельсиновых рощ, блеском расшитых камзолов, звоном гитар и перестуком кастаньет скрывалась оборотная сторона открытки под названием «Испания» — её мрачная и кровавая культура ножа и чести, патетическая и пафосная, как высокопарные девизы, выгравированные на испанских навахах. Гордость и скорбь страны, воспетая в стихах Эрнандеса, Гумилёва, Борхеса и Лорки, обожаемая и осуждаемая, преследуемая законом и церковью. Такая же плоть от плоти Испании, как кувшин хереса на столе и висящий под потолком каждого крестьянского дома окорок «хамон». Как обжигающие ветры Тарифы, горы Сьерра-Маэстра или палящее солнце Андалусии. Десафио, навахада — эта традиция известна под многими именами в разных ипостасях, и уже пять столетий за ней тянется широкий кровавый след и длинные ряды могильных камней с именами тысяч отважных кабальерос, принесённых в жертву этому кровожадному божеству — чести.
К XV столетию в бывшей имперской провинции Испании мало что изменилось со времён римского владычества. Ни минувшие века, ни вестготы, ни арабское вторжение, ни Реконкиста не внесли существенных изменений в размеренный и неторопливый уклад жизни Пиренейского полуострова. Да и сами испанцы, известные своим консерватизмом, не особо изменились за прошедшие столетия. И в начале XX века они всё так же, как и две тысячи лет назад, заполняли трибуны амфитеатров, чтобы увидеть, как матадоры, потомки зверобоев-бестиариев римских Колизеев, закалывают быков на залитых кровью аренах. Они носили всё те же архаичные римские сандалии, римские плащи и, как и древние иберы, культивировали в своих детях храбрость, презрение к смерти и воинственность. Этертон Кастл писал, что после падения Римской империи гладиаторские бои пустили в Испании более крепкие корни, чем в любой другой римской провинции, и сохранились там в виде национального увлечения корридой. Также он отмечал что боевые школы Древнего Рима под техничным управлением ланист оставались в Испании при менявшихся условиях и во время варварских нашествий, и в период господства мавров, так как эти заведения оказались вполне созвучны их обычаям
[4].

Рис. 1. Кодекс Валлерштейна, около 1470 г.
Испанская аристократия XV столетия, как и их собратья в сопредельных странах, крайне кичилась своим происхождением, ревниво охраняя древние наследственные привилегии, полученные их закованными в железо предками в многочисленных войнах с маврами. Как и ронин из «Семи самураев» Куросавы, они надёжно прятали в окованных железом семейных сундуках, которые частенько служили им и постелью, полуистлевшие свитки со своим родословным древом. Но всё же между дворянством Испании и других государств Европы была одна, но существенная разница: на Пиренейском полуострове не существовало той сословной пропасти, которая разделяла английских йоменов и джентри или бояр и крестьян Руси.
В Испании все без исключения считали себя рыцарями — «кабальерос», ходили с высоко задранным носом и все, от гранда и до водоноса, носили длинные шпаги, ревниво соблюдали кодекс чести и требовали к себе одинакового уважения. Каждый мужчина на Иберийском полуострове, вне зависимости от сословия, был кабальеро, и даже испанский повседневный мужской костюм напоминал рыцарское снаряжение и был стилизован под костюм рыцаря — покорителя мира и женщин. Но хотя средневекового рыцаря сменил кавалер, а средневековый панцирь из пластин заменило придворное платье из атласа, бархата и парчи, даже самый торжественный костюм украшался декоративными пластинками. Испанская куртка, подбитая ватой, с погонами и с подчеркнуто стройной талией, по большей части с короткими полами — дублет, с половины XVI века по форме вплоть до мельчайших подробностей напоминает латы. Эти куртки, хотя и были созданы для придворной службы, отвечали элементарным боевым требованиям. Жесткие кружевные воротники, дополнявшие дублет, сначала узкие, а со второй половины столетия более широкие, также были созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею. Короткие, набитые ватой штаны с позднеготическим прикрытием — бракет, также по форме копировали латы
[5].
Говоря о сословном неравенстве в Европе, в качестве примера можно привести иллюстрацию из пособия по фехтованию 1549 года, более известного как «Кодекс Валлерштейна». На одной из гравюр человек, одетый как дворянин, держит кинжал у горла перепуганного крестьянина. Подпись к иллюстрации, очевидно обращённая к основным покупателям этого пособия, дворянству, гласит: «Если вы хотите ограбить крестьянина, то следует его напугать. Для этого оттяните ему пальцами кожу на горле и проколите получившуюся складку кинжалом, чтобы он решил, что вы перерезали ему глотку»
[6].
Попытка применения подобной рекомендации в Испании была невозможна даже гипотетически. Уже просто пристальный, а следовательно, и вызывающий взгляд на крестьянина мог привести к конфликту, а уж попытка ущипнуть простолюдина за кадык, несомненно, закончилась бы для гранда ударом пейзанской шпаги или ножа. Часто приходится слышать расхожую фразу об «особенном» пути России. Но я полагаю, что если уж и уместно говорить об уникальности формирования культуры и менталитета какой-либо страны, то здесь вне конкуренции именно Испания. Чтобы понять, как испанцам удалось избежать сословной пропасти и как формировалась легендарная испанская честь, что, собственно, является важной преамбулой всего повествования, необходимо совершить краткий экскурс в испанскую историю.
26 июля 711 года у Херес-де-ла-Фронтера войска арабского халифата под командованием Тарика ибн Зияда наголову разбили армию короля вестготов — Родериха. В этом бою пал и сам Родериха. Это событие можно считать отправной точкой арабской оккупации Испании и в то же время началом продлившейся долгих восемь веков войны за освобождение, более известной как Реконкиста, со временем трансформировавшейся из освободительной войны в крестовый поход христиан против мусульман. Вероятно, именно в этом бурлящем котле и произошло зарождение испанского менталитета, а также первых основ культурного феномена, известного как «испанская честь». Эту точку зрения разделял и Василий Петрович Боткин, о чём он писал в своих путевых заметках «Письма об Испании», публиковавшихся с 1847 по 1851 год в журнале «Современник». Будучи профессиональным журналистом и литературным критиком, Боткин очень точно уловил суть испанского характера и определил факторы, повлиявшие на формирование сословных отношений на Пиренеях: «Вообще чувство личного достоинства в этом народе поразительно. Недаром существует у него пословица: «Король может делать дворянами, один Бог делает кавалерами». Семьсот лет испанцы вели непрерывную борьбу с маврами; все энергичные люди целой нации посвящали свои силы исключительно войне, добывая себе и средства для жизни, и почетное имя в обществе мечом, а не мирными промыслами, которые доставались в удел только людям, не имевшим смелости духа, и потому, естественно, должны были не пользоваться особенным уважением».
Согласно легенде, Сан-Яго, национальный святой Испании, по кончине своей предстал пред Богом, который за святость его земной жизни обещал угоднику исполнить все, чего бы он ни попросил. Сан-Яго попросил, чтобы Бог даровал Испании плодотворное солнце и изобилие во всем. «Будет», — был ответ.
«Храбрость и мужество народу, — продолжил Сан-Яго, — и славу его оружию». «Будет», — был ответ. «Хорошее и мудрое правительство». — «Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию», — ответил Господь.
Разделение народа на враждебные касты часто бывает одним из основных препятствий к улучшению его будущего. В Испании же не было этого пагубного разделения и не было непримиримой вражды между сословиями. Здесь вся нация чувствовала себя одним целым. И хотя войны прекратились, традиционное презрение к мирным занятиям уже укоренилось в умах испанцев. В Испании дворяне не были горды и спесивы, а простолюдины завистливы. Единственным, что их разделяло, было только богатство, и ничто другое. Между сословиями Испании царило полное равенство в обращении. И крестьяне, и чернорабочие, и водоносы общались с дворянами на равных. Они могли свободно зайти в дом испанского гранда, усесться поудобней и беседовать с своим благородным хозяином как с равным по положению. Причина подобных удивительных и не типичных для Европы классовых отношений кроется в самой истории Испании. Дело в том, что в Испании никогда не было плебейства, простонародья. И кроме этого, испанские низшие классы не принадлежали к завоёванному народу, а дворяне не были завоевателями, как это, например, произошло в Англии, где конфликтовали нормандская знать и местные англосаксы, или на Руси, где большинство дворянских родов также вели отсчёт от норманнов, или их основатели являлись выходцами из Орды.
Новая Испания началась с изгнания мавров — именно с этого момента здесь появилось право на владение землёй. Но само это изгнание уже являлось свидетельством того, что в Испании остались только победители. Для испанца низкое происхождение означало наличие примеси арабской крови — крови народа, презираемого вдвойне — и как неверных, и как побежденных. По этой же причине «дворянство», с точки зрения испанцев, прежде всего заключалось в том, чтобы быть потомственным христианином. И даже если испанец был последним носильщиком, уже одно это равняло его с самыми родовитыми персонами в государстве. Так, например, между «aguadores» — водоносами, которые почти все являлись выходцами из Астурии, было много дворян. Они знали об этом и кичились своим происхождением. «Yo soy mejor que mi amo» («Я больший дворянин и благороднее, чем мой хозяин»), — говорили водоносы с гордым видом, держа ведро воды на плече. И действительно, самые старые и благородные семейства Испании старались найти родовые корни преимущественно в Астурии. Причина всеобщего уважения, которым всегда пользовалось в народе дворянство, заключалась в том, что предки его были освободителями Испании от арабского ига. В то время как простой народ Испании занимался земледелием, её дворянство билось с неверными и расширяло границы испанского христианства. В этом и коренилось уважение испанского народа к своей аристократии
[7].
Основные постулаты, определяющие фундаментальные понятия личной чести, вероятно, были сформулированы в завершающей стадии Реконкисты, в XII–XIII веках. Во всяком случае именно в этот период — в правление короля Альфонса X, появляются семь частей свода законов Королевства Кастилии и Леона, известные как «Las Siete Partidas» («Семь партид мудрого короля дона Альфонса» или просто «Партиды»). Кроме того что «Партиды» регулировали различные аспекты повседневной жизни испанцев XIII века, не обошли они вниманием и концепцию личной чести. «Честь, — говорится в этом кастильском кодексе, — это репутация, которую человек приобретает согласно занимаемому им месту в обществе благодаря своим подвигам или тем достоинствам, которые он проявляет… Убить человека или запятнать его репутацию — это одно и то же, ибо человек, утративший свою честь, хотя он со своей стороны и не совершал никаких ошибок, мертв с точки зрения достоинств и уважения в этом мире; и для него лучше умереть, чем продолжать жить»
[8].
В своей замечательной работе о Испании золотого века Марселей Дефурно писал, что первый аспект чести был тесно связан с личными качествами, и особенно с героизмом, ведь именно в атмосфере героизма жили испанцы в течение многих веков. Вслед за великой Реконкистой невиданные подвиги конкистадоров обеспечили Испании огромную империю за морями, в то время как испанские солдаты маршировали по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, от Португалии до Германии, а испанский флот разгромил турок в сражении при Лепанто. Как же честь принадлежать к такой нации — нации завоевателей — могла не породить гордость?
[9]. Как сказал в апреле 1503 года герой битвы при Чериньоле капитан Диего Гарсиа де Паредес: «Я Гарсиа де Паредес, а также… А хотя… достаточно сказать, что я испанец»
[10].
Поскольку честь ценилась дороже жизни, был только один способ смыть с себя позор — убить виновника. «Никогда испанец не станет спокойно дожидаться смерти того, кто его оскорбил», — заявлял Тирсо де Молина. Месть за поруганную честь стала темой самых прекрасных драматических творений Лопе де Веги и Кальдерона. Смешение слов «honra» — честь и «fama» — репутация, то есть индивидуального и социального аспектов понятия чести, отчетливо проявляется в драмах, где в качестве причины бесчестья возникает либо неверность женщины, либо посягательство на ее добродетель. В этом случае обесчещенной являлась вся семья, и все ее члены — не только муж, но и отец, брат, дядя — имели равные права мстить. Более того, честь, будучи абсолютной ценностью, брала свое начало в мнении других людей, поэтому подозрение, пусть даже не подкрепленное фактами, могло повлечь за собой беспощадную кару, ибо «честь — это кристально чистое стекло, которое может помутнеть даже от легкого дыхания»
[11] Это гипертрофированное чувство собственного достоинства и болезненная реакция на любые, в том числе гипотетические оскорбления чести приводили к многочисленным дуэлям по любому, самому пустяковому поводу.
Первой попыткой остановить эту всенародную дуэльную эпидемию явилось ограничение ношения шпаг исключительно аристократией. Как писал об этом Эгертон Кастл: «Королевские ордонансы, а равно и мода ограничили ношение оружия, которое каждый испанец считал своей привилегией со времени Карла V, исключительно дворянами»
[12]. Но, как известно, голь на выдумки хитра, и лишённые привычной шпаги бретёры из «неблагородных» начали искать доступное альтернативное оружие для решения дел чести. Некоторые авторы полагают, что этот период, датируемый концом XVII и началом XVIII столетия, можно считать датой рождения народных дуэлей в Испании. Также и Кастл не исключал, что именно королевские указы, объявившие шпагу исключительной монополией армии и дворянства, вызвали к жизни традицию дуэлей на ножах и «искусство обращения с навахой»
[13]. Эту версию косвенно подтверждает и тот факт, что продлившаяся до начала XX столетия лавина монарших ордонансов, направленных против всевозможных видов ножей, берёт своё начало именно в первой четверти XVIII века.
XVIII век породил и другой феномен, ставший на несколько столетий символом испанской культуры ножа, хранителем, блюстителем и ревнителем её традиций норм и кодексов, героем народных песен, легенд и баллад, — баратеро. В 1849 году в Мадриде вышло небольшое пособие по самообороне, носящее название «Manual del baratero, о, Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos», что можно перевести как «Пособие для баратеро по искусству владения навахой, ножом и цыганскими ножницами». Кем же был загадочный баратеро, давший имя работе, считающейся кодификацией испанской школы ножевого боя? Впервые этот термин встречается в 1575 году в книге «Cancionero general»
[14], а происхождение своё он ведёт от староиспанского «баратар» — непорядочность. Корни же «баратар» приводят нас к арабскому «бара» — «пожертвование», «добровольный взнос», — вероятно доставшемуся испанцам в качестве мавританского наследия
[15]. Ещё в 1604 году Сервантес в бессмертном «Дон Кихоте» называл «баратерией» бутафорское правительство Санча Пансы, подразумевая, что всё это одна сплошная афера и мошенничество
[16]. По утверждению Форда, от испанского «баратар» произошло и современное английское «бэррэтри», означающее взяточничество и сутяжничество
[17]. Ещё ближе к интересующему нас предмету одна из современных испанских интерпретаций архаичного «барато» — процент со сделки. Но наши баратеро не брали взяток и не заключали сделок. Баратеро родились под шелест тасуемых
карт, сопровождаемый звоном монет.
Кроме любви к дуэлям и боям быков испанцами владела ещё одна роковая страсть — азартные игры. С этим пороком своих подданных ещё в XIII веке пытался бороться король Кастилии Альфонс X. Этот монарх, вошедший в историю под именем Альфонса Мудрого, или Альфонса Астронома, прославился не только изданием законодательного сборника, известного как «Партиды», но также и как автор закона, направленного против игорных заведений «tafujerias» и их завсегдатаев — «tahures», или «grecs», — профессиональных игроков
[18]. Согласно свидетельству барона Давилье, в свою очередь усылавшегося на севильского автора Фахардо, к концу XVII столетия игорные дома, или «гаритос», были почти в каждом андалузском городишке, а к началу XIX века игроков с колодой карт в руке и лихорадочным взором уже можно было встретить практически повсюду. В своих путевых заметках Давилье отмечал: «Сегодняшний испанский игрок больше полагается на ловкость рук, а не на удачу. Garitos не единственные места сборищ игроков — они собираются повсюду: в тени судов на пляжах, под тенистыми деревьями или у древних стен в каком-либо укромном местечке. Взгляните на вытащенную на берег фелюгу, чьи паруса сохнут на солнце. Часть её команды расселась на берегу, остальные разбрелись по пляжу и поглощены игрой в карты. Они играют в ресао или в сапе, на их лицах читается волнение и беспокойство, вызванное то ли игорными страстями, то ли страхом появления полицейского»
[19].

Рис. 2. Игра в карты. Гюстав Доре, 1865 г.
Марселей Дефурно писал, что любовь к азартным играм, имевшая губительные последствия для представителей всех классов общества, была гарантированным заработком для тех, кто умел ею пользоваться. Существовали официальные игорные дома, обычно управляемые бывшими солдатами-инвалидами, которым этот доход заменял пенсию, но гораздо больше было притонов — garitos, где собирались игроки-профессионалы, или tahures, обыгрывавшие слишком доверчивых посетителей. Иногда они объединялись в команды, в которых каждый имел свою специализацию. По словам известного испанского писателя и поэта XVII века Франсиско де Кеведо, были среди них подделыватели — fullero, которые должны были подготовить несколько колод крапленых карт на случай, если одна из них будет обнаружена, жулики, отвечавшие за исчезновение этих колод в конце партии, чтобы профаны не обнаружили трюк, и, наконец, зазывалы, в обязанности которых входило привлечение в притон слишком доверчивых или слишком уверенных в себе игроков
[20]. Но где бы ни проходила игра — в табачном дыму игорного дома, в парке или на пляже, — за игроками внимательно следил немигающий взгляд из-под надвинутой на глаза шляпы. И как только счастливчик, которому улыбнулась удача, не веря своему счастью, сгребал выигрыш со стола, мужчина, доселе бывший пассивным наблюдателем, уверенно направлялся из угла к игорному столу за своим законным заработком — барато, или долей. Эти суровые резиденты игорных заведений, обкладывавшие данью игроков, были миронес, или, как их чаще называли, баратеро.
Как лаконичо сообщает словарь Баретти-Ноймена 1823 года, «баратеро — это тот, кто уловками или силой получает деньги от удачливых игроков»
[21] Иногда эта полученная «уловками», а чаще «силой» доля составляла символическую сумму в пару медяков, а иногда вынырнувший из мрака баратеро мог потребовать и пять процентов от выигрыша
[22]. Вот как описали сцену взымания барато путешествовавшие по Испании в середине XIX века Шарль Давилье и Гюстав Доре: «Внезапно словно из-под земли появляется бледный мужчина со зловещим выражением лица и с вызывающим видом проходит в центр компании. Он крепко сложен, на его широких плечах куртка, а поверх коротких штанов широкий шёлковый пояс. Этот человек, так бесцеремонно появившийся среди игроков и спокойно заявивший, что явился «cabrar elbarato» — за своей долей выигрыша, баратеро. Сумма поборов обычно невелика, около десяти сентимо с игры.
«Ahi va eso!» («Держите!») — восклицал баратеро, бросая в центр компании что-то обёрнутое грязным клочком бумаги, который, вероятно, использовали, чтобы заворачивать жареную рыбу. Это была колода карт — бараха. «Aqui no se juega sino con mis Barajas» («Здесь играют только моими картами!») Если игроки выполняли его требование, то баратеро сгребал четвертаки в карман и спокойно уходил. Но иногда случалось, что в компании попадался «valiente» — крепкий орешек, смельчак или, как его называли, «mozo сгио» (труднопереводимое андалузское выражение, обозначающее мужественного, смелого и гордого парня), который, вернув карты баратеро, бесстрашно отвечал: «Camara, nojotros no necesitamos jeso!» («Приятель, нам они не нужны!»).

Рис. 3. Баратеро. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
«Chiquiyo, venga aqui el barato у sonsoniche!» («Парень, быстро гони мои деньги и не рассуждай!») — следовал ответ баратеро. После этого «mozo сгио» доставал из жилета длинный нож, открывал его, щелкнув пружиной, втыкал рядом с горсткой монет, служивших ставкой в игре, и, вызывающе глядя на соперника, восклицал: «Aquí no se cobra el barato sino con la punta de una navaja» («Здесь тебя не ждёт ничего, кроме острия навахи!») Вызов обычно принимался, и противники произносили ритуальную фразу: «Vámonos!» или «Vamos alli!» («Выйдем!») или «Vamos a echar un viaje!» («Ты отведаешь моего ножа!») Это было их сакральной формулой, их «jacta es alea» — «жребий брошен». Затем они удалялись в уединённое место, где доставали навахи или кинжалы, на мгновение блеснувшие на солнце, и один из дуэлянтов погибал»
[23].
Также и Форд описывал сборище игроков, сидящих на полу с картами, засаленными так, что они стали земляного цвета, и играющих настолько азартно, как будто само их существование было поставлено на карту. Согласно его наблюдениям, среди картёжников обычно находился хорошо известный местный заправила, задира, он же «guapo» — «забияка», который подходил, клал руку на карты и заявлял, что никто не будет играть другими картами, кроме тех, что принёс он: «Aqui no se juega sino con mis Barajas». Если игроки соглашались с этим требованием, то каждый давал ему полпенни. А в случае, если один из них не терял присутствия духа, он отвечал: «Aqui no se cobra el barato» («Тут тебе ничего не светит!»). Если вызов принимался, то в ответ звучало: «Vamos alia!» («Вперёд, за дело!») На этом все бросали карты, так как предстояло кое-что поинтересней карточной игры.

Рис. 4. Схватка баратеро. Los Españoles pintados per sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Бывали случаи, когда ловкач встречал такого же ловкача. Их выставленные вперёд ноги связывали вместе, и четверть часа они фехтовали на ножах, защищаясь плащами, пока чей-то удар не достигал цели
[24]. Сцена получения баратеро своей доли в игре изображена, например, на датированной 1865 годом гравюре Гюстава Доре «Le baratero exigeant le barato», где суровый мужчина в плаще и шляпе, воткнув свой нож в стол с картами, вызывающе смотрит на игроков
[25]. Как отмечал Форд, иногда при дележе выигрыша пересекались интересы двух баратеро, и тогда спорные вопросы решались в поединке на ножах, после которого, как правило, в живых оставался только один.
Но встретить баратеро можно было не только в игорных домах. Так называемые баратеро-солдадо, или де тропо, служили в армии, где они получали всевозможные поблажки, отлынивали от службы, и перед ними заискивали даже грозные сержанты, не желая приобретать в их лице опасного врага. Как правило, у большинства баратеро за плечами были тюремные сроки за различные преступления. И одним из самых одиозных и опасных типажей считался баратеро де ла карсел, или тюремный баратеро, который большую часть своей жизни провёл в «el estarivel» — каталажке, или как её ещё называли на образном воровском жаргоне, «casa de росо trigo», что можно буквально перевести как «дом смирения»
[26]
Каждый раз, когда новоприбывший арестант проходил через ворота «el estarivel», тюремный баратеро вымогал у него «diesmo» — вступительный взнос. Это приветственное требование сопровождалось демонстрацией навахи в руке, и стоило только новичку отказаться пожертвовать немного деньжат — «las moneas», или «los metales», как всё решалось «navajazos» — ударами ножа. Когда за расследование убийства бралось правосудие, навахи практически никогда не находили, поскольку в тюрьмах существовало множество способов спрятать оружие, один хитроумней другого
[27]. Прекрасным образчиком баратеро де ла карсел был, например, Игнасио Аргуманьо, убивший в 1836 году на проходившей в тюрьме дуэли на ножах другого баратеро, Грегорио Кане
[28].

Рис. 5. Баратеро требует свою долю выигрыша. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 6. Тюремный баратеро. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Изображение тюремного баратеро мы также можем увидеть на одной из иллюстраций к пособию по владению навахой. Это были суровые и безжалостные люди, без раздумий пускавшие в ход нож. Самые опасными в Андалусии считались баратеро Севильи и Малаги. Шарль Давилье писал, что так как наваха, кинжал и нож использовались в Испании повсеместно, то в некоторых городах заботливо сохраняются «полезные традиции». Хотя и Кордова, и Севилья могли похвастаться широко известными мастерами фехтования, но нигде искусство владения навахой не было развито так, как в Малаге. Немногие испанские города демонстрировали такую тягу к убийствам. «Delitos del sangre» — кровавые преступления случались там регулярно. Почему происходили эти уже ставшие привычными убийства? Было ли это от безделья, от любви к игре или же из-за халатности полиции? Как пелось в популярной малагской песне тех лет, «Еп Malaga los serenos Dicen que no beben vino; Y con el vino que beben Puede moler un molino!» («Малагские полицейские говорят, что они не пьют вина. Но и того, что они выпивают, достаточно, чтобы завертелись мельничные жернова»).
А может быть, это было влияние знойного солано — обжигающего африканского ветра, пронизывающего, как неаполитанский сирокко, приносящий жар песков Сахары
[29]. Подобную картину увидел в Малаге и Василий Боткин: «Жители Малаги вообще веселый, удалой народ, мало имеют потребностей и в неделю работают только несколько дней, чтоб на выработанные деньги погулять в воскресенье. Огненное вино, дешевизна жизненных припасов, мягкость климата и в особенности удивительная красота и грация здешних женщин сильно развивают страсти, и здесь беспрестанно слышишь о punaladas (ударах ножа) и убийствах, но причиною их не воровство, а ссора, мщение или ревность»
[30].
Где бы картёжник ни находился — в Севилье, Малаге или Толедо, — и за какой высокой стеной ни прятался, он нигде не мог чувствовать себя в безопасности и постоянно ощущал всевидящий взгляд. Баратеро были вездесущи — они собирали дань в квартале Макарена в самом центре Севильи, и занимались своим мрачным ремеслом в отдалённых пригородах. Как писал в стихотворении «Баратеро» известный испанский поэт XIX века Мануэль Бретон де лос Эррерос:

Рис. 7. Баратеро. Мадрид 1843 г.
«Al que me grunaa le mato,
Que yo compre la baraja. Esta oste?
Ya desnude mi navaja:
Largue el coscon y el novate
Su parne, Porque yo cobro el barato.
En las chapas y en el cane.
Eico trujan y buen trago -
Tengo una vida de obispo! Esta oste?
Mi voluntad satisfago
Y a costa ajena machispo,
Y porque?
Porque yo cobro y no pago
En las chapas y en el cane».
«Тот, кто ропщет, гибнет от удара, ведь я купил колоду карт —
вы не знали этого?
Я уже раскрыл наваху — смывайтесь, хитрецы и новички!
Я именно тот, кто забирает выигрыш — и купюры, и монеты!
Крепкий табак и старое вино — я живу как епископ! Вы этого не знали?
Все выполняют мои прихоти, и мне это ничего не стоит. А всё почему?!
Да потому, что я всегда всё записываю на счёт и никогда не плачу —
ни купюрами, ни монетами!»
[31], (перевод авт.).
Иногда за настоящих баратеро принимали типов, известных как «та-ton» — задира, «matachín» — забияка, «valentón» — хулиган или «perdonavidas» — бахвал, смелых только с робкими, иногда пытавшихся ввести компанию игроков в заблуждение искусно созданным образом баратеро. Но встретив даже минимальный отпор, они теряли уверенность и бросались наутёк. Нередко баратеро путали и с так называемыми «чарранес», городскими маргиналами, которых сейчас назвали бы шпаной. Как сказал о них Давилье в «Путешествии по Испании»: «Это не парижский жамен, не «пале вою», не неаполитанский лаццароне и не даже смесь из всех трёх. Они, можно сказать, трудятся, торгуя на улицах сардинами или анчоусами или предлагая услуги носильщиков домохозяйкам, нуждающимся в помощи при доставке купленных продуктов домой»
[32].
Ещё одной категорией городских маргиналов, не расстававшихся с верной навахой, были легендарные махо — щеголеватые жители мадридских трущоб, увековеченные Гойей и столь любимые за их красочный антураж костумбристами. Так как они оставили наиболее заметный след в испанской истории, и в том числе в культуре ножевых дуэлей, остановимся на них подробней. Движение, известное как махизм, зародилось в 1770-х годах как стихийный протест испанских рабочих и ремесленников в ответ на непопулярные профранцузские реформы правительства, а сторонники этого движения стали именоваться махо, и махами. Махо образовали костяк оппозиции традиционалистов, выступавших против приверженцев и поклонников французской культуры, так называемых «afrancesados».

Рис. 8. Драка за игрой в шары в Валенсии. Гюстав Доре, 1865 г.
Как ортодоксальные традиционалисты, махо ревниво соблюдали архаичный испанский дресс-код, упорно не желая отказываться от старинных вышитых камзолов, длинных плащей и, конечно же, ножей, которыми они резали табак, а иногда и лица наглецов. Вместо французских треуголок они демонстративно носили старинные шляпы, а вместо французских напудренных париков предпочитали отращивать длинные волосы, которые носили под специальной сеточкой
[33]. Именно такими мы можем видеть их на работах Гойи 1776–1778 годов.
Но подобная декларация патриотизма раздражала некоторых профранцузски настроенных государственных деятелей, таких как Педро Родригес де Кампоманес, министр финансов в царствование Карлоса III, или друг Марата, премьер-министр Испании, Хосе Маньино-и-Редондо, граф Флоридабланка. В 1766 году госсекретарь по военным и финансовым делам неаполитанец Эскилаче, опираясь на прецеденты с беспорядками в правление Карлоса III, предпринял попытку запретить в Мадриде ношение длинных плащей и широкополых шляп под тем предлогом, что подобная одежда помогает скрываться преступникам. Но время для издания этого декрета было выбрано крайне неудачно, так как именно в эти дни повышение цен на зерно и рост налогов, обусловленный необходимостью ремонта мадридских дорог и уличных фонарей, вызвали раздражение и недовольство рабочих. 23 марта 1776 года разъярённая толпа разграбила дом госсекретаря и уничтожила уличные фонари. На следующий день король Карлос был вынужден принять требования жителей Мадрида, сместив с должности госсекретаря-неаполитанца, снизив цены на продукты и оставив нетронутым внешний вид мадридских махо
[34].
Следующую атаку на привилегии махо предпринял в 1775 году уже упомянутый Кампоманес. В своих публикациях он обвинял махо в неряшливости и том, что они выглядят как нищие или бродяги. Особым его нападкам подверглись традиционные сеточки для волос — «redecilla», которые он заклеймил как антисанитарные и способствующие праздности. Он заявил, что из-за подобных сеточек махо и махи не расчёсывают волосы и не ухаживают за ними, вследствие чего те превратились в рассадники вшей. Также он требовал, чтобы ремесленники проводили меньше времени в тавернах и на корридах, а больше внимания уделяли игре в мяч, в кегли или занятиям фехтованием.
Но несмотря на официальную позицию властей, патриотические идеи субкультуры махо — с боями быков, пением фламенко и танцами болеро и сеги-дийя — разделяла и поддерживала значительная часть аристократии, недовольная политикой и реформами Карлоса
[35]. Так, например, дерзостью махо восхищалась будущая королева Мария Луиза, а многие аристократы из её окружения копировали их стиль одежды. Со временем махо превратились в особый класс, который, как считалось, единственный в Испании являлся блюстителем и хранителем духа старой Кастилии и ревнителем испанских традиций. Как сказал о них Василий Петрович Боткин: «Настоящий majo здесь особенный народный тип. Это удальцы и сорвиголовы, охотники до разного рода приключений, волокиты и большею частью контрабандисты; они отлично играют на гитаре, мастерски танцуют, поют, дерутся на ножах, одеваются в бархат и атлас. Эти-то majos задают тон севильским щеголям, даже высшего общества, которые стараются подражать в модах и манерах их андалузскому шику»
[36].
Теофиль Готье писал, что ни один хоть немного уважающий себя махо никогда не осмелится появиться в общественном месте без «вара» — трости. Два платка, свешивающихся из карманов куртки, длинная наваха, заткнутая за широкий пояс, но не спереди, а сзади посередине, считались у них вершиной элегантности
[37]. Любимыми местами свиданий этих типов со своим махами, музами Гойи, стали севильский район Макарена и малагский квартал Эль Перчель, где рыбаки развешивали сети для просушки. Давилье вспоминал, что почти на каждом углу можно было увидеть закутанного в плащ махо, нарезающего навахой табак для самокрутки, или маху в короткой юбочке, танцующую поло или халео
[38].
Возвращаясь к баратеро, хочу предложить вниманию читателей версию, рассматривающую их не как вымогателей-одиночек, занимающихся преступным ремеслом на свой страх и риск, а как членов организованного преступного сообщества, известного в Испании XV века как «Ла Гардунья». Итальянские авторы Граттери и Никасо в своём исследовании истории калабрийской мафии, ндрангеты, «Fratelli di sangue», утверждают, что эта преступная организация появилась в Толедо около 1417 года. Название её — «гардунья», что на испанском обозначает куницу, было метафорично, так как это животное славится своей хитростью и дерзостью. Однако, в 2006 году вышла работа испанцев Леона Арсенала и Иполита Санчиса «Una Historia de las Sociedades Secretas Españolas», авторы которой в свою очередь убеждены, что история о существовании «Ла Гардуньи», это не более чем миф. Тем не менее, существует слишком много свидетельств, опровергающих их точку зрения, которые невозможно проигнорировать.
В вышедшем в 1605 году романе Мигеля Сервантеса де Сааведра «El Ingenioso Hidalgo Don Quiote de la Mancha», описывающем знакомые нам с детства похождения взбалмошного ламанчского идальго и его верного слуги, есть крайне любопытный эпизод. Как известно, в этих странствиях с ними происходят всевозможные метаморфозы, среди которых назначение Санчо Пансы губернатором некоего острова под названием Баратария, то есть, афёра. Впрочем, нас интересует не этимология этого слова, а небольшой эпизод, произошедший с новоявленным губернатором, инспектировавшим свои владения вскоре после вступления в должность. Совершая обход в сопровождении свиты, он услышал звон клинков и, поспешив на шум, обнаружил двух сражавшихся мужчин. На вопрос Санчо Пансы, что послужило причиной этого поединка, один из дуэлянтов рассказал, что его соперник, только что выигравший в гаррито больше тысячи реалов, отказался раскошелиться и выплатить причитавшуюся ему законную долю выигрыша. Также он заявил, что является в игорном доме важной особой, в чьи обязанности входит присматривать за игроками, пресекать творящиеся беззакония и предотвращать ссоры. И за это, как заведено в игорных домах, он обычно и берёт с игроков процент с игры. Так как выигравший отказался заплатить, то он решил «вырвать свою долю из его горла». Выслушав его, Санчо пообещал закрыть игорные дома — как «приносящие несомненный вред»
[39].
Как мы видим, Санчо Панса стал очевидцем поединка баратеро с одним из игроков, отказавшимся добровольно заплатить причитавшуюся ему долю. Таким образом, совершенно очевидно, что более чем за три столетия до баратеро XIX века, описанных Давилье и Фордом, их коллеги и предшественники занимались всё тем же нелёгким ремеслом в гарритос Испании XVI-XVII веков. И в ту далёкую эпоху, как и несколько столетий спустя, они всё так же присваивали себе право забирать часть выигрыша у удачливых игроков, защищая это право клинком.
Через несколько лет, в 1615 году, Сервантес издаёт вторую часть похождений своего хитроумного идальго, а в 1613-м, за два года до появления второго тома одной из самых популярных книг всех времён и народов, выходит сегодня почти забытая и знакомая лишь знатокам творчества Сервантеса повесть «Ринконете и Кортадильо». В ней Сервантес описывает существовавшую в Севилье XVI века преступную организацию, оказывающую услуги определённого характера властям и духовенству и пользующуюся их покровительством. Братство это занималось всеми мыслимыми видами преступного ремесла — от заурядных краж до выполнения довольно необычных заказов. Вот как выглядел их перечень:
«Запись ран, подлежащих выполнению на этой неделе.
Во-первых, купцу, живущему на перекрестке. Цена — пятьдесят эскудо.
Тридцать получены сполна. Исполнитель — Чикизнаке».
— Мне кажется, сыне, что ран больше нет, — сказал Мониподьо. — Читай дальше и ищи место, где написано: «Запись палочных ударов».
Ринконете перелистал книгу и увидел, что на следующей странице значилось: «Запись палочных ударов». А несколько ниже стояло: «Трактирщику с площади Альфальфы двенадцать основательных ударов, по эскудо за каждый. Восемь оплачены сполна. Срок исполнения — шесть дней. Исполнитель — Маниферро».
— Этот пункт можно свободно вычеркнуть, — сказал Маниферро, — потому что сегодня ночью я с ним покончу.
— Есть еще что-нибудь, сыне? — спросил Мониподьо.
— Да, — ответил Ринконете, — есть еще запись, гласящая: «Горбатому портному по имени Сильгеро шесть основательных ударов согласно просьбе дамы, оставившей в залог ожерелье. Исполнитель — Десмочадо»[40].
Как известно из биографии автора Дон Кихота, перед тем как обратиться к писательскому труду, Сервантес долгое время был солдатом. В 1571 году он принимал участие в битве с турками при Лепанто, когда объединённые силы Священной лиги наголову разгромили флот Османской империи, был ранен и несколько лет провёл в плену. Но был в его биографии ещё один, менее известный и не столь героический период. В своей работе об истории организованной преступности в Средиземноморье профессор и вице-ректор Женевского университета Марк Монье писал, что Сервантес, проживший в Севилье 15 лет, с 1588 по 1603 год, прекрасно знал все реалии теневой стороны севильской жизни и рассуждал о предмете со знанием дела
[41]. Этому способствовал тот факт, что автор похождений Дон Кихота три раза попадал в тюрьму, где неоднократно имел прекрасную возможность близко познакомиться с лучшими представителями преступного ремесла.
В 1597 году обвинённый в растрате Сервантес был приговорён к заключению в мадридской тюрьме. Но так как дорога в Мадрид должна была быть оплачена из его собственного кармана, а таких денег у писателя не водилось, то он был заключён в тюрьму Севильи. Это мрачное учреждение, возведённое в 1569 году, было переполнено и управлялось коррумпированной администрацией. Считается, что Сервантес начал писать первую часть «Дон Кихота» именно в стенах этого заведения. Во всяком случае, он и сам упоминает севильскую тюрьму в прологе к первому изданию своей книги
[42]. Таким образом, богатый тюремный опыт Сервантеса придаёт особый вес его описанию преступного мира Севильи начала XVI столетия. Получение доли с игры — барато мы также встречаем в 1638 году в комедии Хуана Переса де Монтальвана «La Monja Alférez», когда один из героев пьесы произносит фразу: «Senor soldado: diga рог su vida Рог аса los que ganan son ingratos Suelen vender muy caros los baratos»
[43] Более подробно мы рассмотрим эту версию в главе, посвящённой культуре народных дуэлей Италии и наследнице традиций Ла Гардуньи, Каморре — прославленной преступной организации Неаполя.
В Испании, как и в любой другой стране с развитой ножевой культурой, эти поединки были ритуализованы не менее формальных дуэлей, а иногда по сложности своих норм и кодексов даже превосходили их. Так, например, Пераль Фортон отмечал, что в провинции Альмерия среди рудокопов существовала специфическая традиция. Когда сыну исполнялось восемнадцать лет, его отец на торжественной церемонии, проходившей с большой помпой и напоминавшей средневековое посвящение в рыцари, вручал ему факу — большой складной нож
[44]. Кстати, говоря о рудокопах, хочу заметить, что испанские горняки славились своим крутым нравом и склонностью к поединкам. Так, шахтёров испанского происхождения, трудившихся в середине XIX столетия в серебряных копях калифорнийского Нью-Альмадена, что в округе Санта-Клара, называли баратерос. Возможно, это было обусловлено их любовью к дуэлям на ножах и строгим соблюдением старинных испанских кодексов чести
[45]

Рис. 9. Цыганская драка. Леонардо Аленса Ньето, 1825 г.
В испанском десафио был кодифицирован каждый элемент. Как и в формальных дуэлях, сатисфакция в народном поединке могла быть достигнута «первой кровью», то есть символической царапиной, но иногда кровожадный кодекс чести требовал смерти оскорбителя. Так, например, социальные и этнические табу вынуждали вести поединки на ножах лишь до первой крови андалузских цыган — хитанос. Профессор Вальтер Отто Вайраух, исследовавший цыганскую культуру, писал, что испанские цыгане часто решали дела чести семьи в ритуальных поединках на ножах, и обычно первого пореза, нанесённого противнику, было достаточно, чтобы считать дело улаженным
[46]. Первой кровью, как правило, заканчивались и поединки уже упомянутой городской шпаны — чарранес, или матонов. Вот как выглядела типичная встреча двух подобных смельчаков, описанная Давилье: «Еа! Никак тут встретились храбрецы?! — выкрикивал один из них, открывая свою наваху. «Tiro oste! Доставай нож, дружище Хуан!» — восклицал другой, двигаясь вокруг соперника. «Vente a mi, Curriyo! Не прячься, Франсиско!» — «Это ты, zeno Хуан, скачешь тут, как щенок?» — «Еа, Dios mio! Крепись, уже скоро твоя душа предстанет перед богом!» — «Не ранил ли я тебя?» — «Что ты, это пустяк!» — «Я собираюсь убить тебя одним ударом. Тебе нужно последнее помазание!» — «Escape, рог Dios, Curriyo! Ради бога, спасайся Франсиско! Ты же видишь, ты полностью в моей власти, и я собираюсь проделать в тебе дыру, больше чем арка вон того моста!».
Согласно Давилье, подобные диалоги могли тянуться более часа, пока поединщиков не растаскивали друзья. После этого успокоившиеся соперники складывали ножи и перемещались в какую-нибудь таверну, где и топили свой гнев в хересе
[47].
Хочу заметить, что подобный ритуал примирения, имевший целью «утопить» конфликт в вине, встречается во многих культурах. Так, например, среди народных дуэлянтов Нидерландов XVII–XVIII веков существовал обычай, известный как «афдринкен», когда стороны пытались забыть о своих разногласиях, сидя за одним столом в таверне за бутылочкой винца.
Очевидцем дуэли до первой крови как-то раз довелось стать и Василию Петровичу Боткину, путешествовавшему по Испании в августе-октябре 1845 года. Вот как он описывал этот бой: «На днях случилось мне видеть поединок двух majos на ножах. Нож — народное орудие испанцев: он очень широк и складной; сталь его имеет форму рыбы, вершка четыре длиною; его обыкновенно всякий носит в кармане. Им не колют, а режут, и самым ловким ударом считается разрезать живот до внутренностей. В такого рода поединке каждый обёртывает левую руку плащом, а за неимением его — курткой и отражает ею удары противника. Противники стали шагах в восьми друг от друга, круто нагнувшись вперед; ножи держали они не за ручку, а за сталь в ладони: как только один бросался, другой уклонялся в сторону, они быстро кружились, каждый норовил нанести удар разрезом противнику сбоку, но все дело кончилось легкими ранами, их разняли»
[48].

Рис. 10. Дуэль воров. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Нередко целью подобных дуэлей «до первой крови» было порезать лицо противника и нанести ему позорящее ранение, известное как «хабек», или «чирло», которое, по замечанию Давилье, являлось важным техническим элементом народной дуэли
[49]. Так как это тип ранения детально рассматривается в главе о ритуальном шрамировании в дуэльных культурах, подробно останавливаться на нём мы не будем.
В испанских навахадах, как и в формальном поединке, свято соблюдались все дуэльные нормы и ритуалы, включая такие канонические правила, как наличие равного оружия и исключение вмешательства третьих лиц. Эти кодексы рыцарства соблюдались беспрекословно вне зависимости от сословной принадлежности. Так, например, прекрасной иллюстрацией к подобному рыцарскому поведению может служить одно любопытное свидетельство. Мэри Никсон-Руле, побывавшая в Испании в начале XX века, описывает поединок двух горняков, поссорившихся в шахте и решивших покончить с разногласиями в поединке на ножах. Один из них пожаловался своему сопернику, что слишком ослабел, и попросил поднять его наверх в корзине, что тот и выполнил с величайшей заботой и осторожностью. Как только горняк выбрался из корзины, то вежливо сообщил противнику, что теперь он в его распоряжении и готов сражаться. Они достали ножи и ринулись в бой. Один из соперников был вооружён большим толедским ножом с гравировкой «Не доставай меня без причины, не прячь без чести», а у другого был короткий, широкий и острый как бритва нож с девизом «Чем больше нож, тем трусливей его хозяин». Зеваки образовали круг, и начался бой до смерти. Как заметила Никсон-Руле, «испанцы презирают современный дуэльный код, где первой же капли крови достаточно для сатисфакции». Шахтёр, только что поднявший своего противника, так ловко ударил его ножом между рёбер, что тот, смертельно раненный, рухнул на месте
[50].

Рис. 11. Перед атакой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Популярным ритуалом, известным и в других дуэльных культурах и служащим для демонстрации мужества, а иногда и как доказательство готовности идти до конца, являлось связывание вместе щиколоток или запястий дуэлянтов. Так, подобный ритуал, свидетелем которому он стал в детстве, описал один из очевидцев в статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» в 1899 году: «Количество кровавых ножевых дуэлей в городах Южной Испании ужасает иностранцев. Каждый мужчина, принадлежащий к низшему классу, носит смертоносный нож, лезвие которого часто достигает тридцати или сорока сантиметров в длину и остро как бритва. Он называется фака. Местные мужчины и парни носят свистки — пито де каретийа. Это свистки используются для подачи сигнала о начале уличного поединка на ножах. Каждый, услышав этот свисток, бросает все свои дела, чтобы увидеть, как калечат или убивают дуэлянта. Статистика говорит, что в день в результате ножевых дуэлей происходит одно убийство на каждые сто тысяч жителей. Мне было около девяти лет, когда я впервые увидел пелеа, или поединок на фака. Я был в лавке отца, когда до меня донеслись звуки пито де каретийа — потом ещё и ещё. Я увидел мужчин и мальчишек, спешащих по направлению к перекрёстку между двумя улицами. Меня разбирало любопытство, и я присоединился к толпе. До этого я никогда не видел уличных дуэлей, но прекрасно понимал значение этого свистка и также знал, что двое сойдутся в смертельном поединке. Я был среди первых, прибывших на место. И вот что я увидел: два мужчины примерно одного возраста и роста связывали свои левые ноги шейными платками в области лодыжек. Оба были с непокрытыми головами. Я помню даже сейчас, с какой ненавистью они смотрели друг на друга. Каждый взял куртку и тщательно обернул ей левую руку. Потом наступила пауза — это был величайший момент, а затем оба мужчины вытащили свои смертоносные ножи из ножен и начали колоть, резать и кромсать друг друга, и при этом каждый из них отражал удары, насколько это было возможно, левой рукой, защищённой курткой. Так как бойцы были связаны вместе, поединок не мог продолжаться долго, и уже через несколько мгновений дуэлянты рухнули на землю. На одном насчитали семнадцать ран, а на другом четырнадцать, но оба были живы. Соперников на носилках доставили в госпиталь «Нобль», находившийся неподалёку, где им была оказана помощь. Последующие события этой «пелеа» особенно необычны тем, что в больнице их койки стояли рядом, и как только они набрались сил, то продолжили дуэль и на этот раз убили друг друга»
[51]
Многие авторы XIX столетия, побывавшие в Испании, отмечали, что умению владеть ножом испанцы начинали обучаться с раннего детства. Так, например, в 1847 году Уильям Эдвардс писал, что «испанские простолюдины с детства совершенствуются во владении смертоносной навахой, являющейся их неразлучным спутником, и которой они пользуются с невероятной сноровкой». Эдвардс вспоминал, что ему часто приходилось видеть в андалузских городах и деревнях малышей, изображавших ножевой поединок на коротких деревяшках и демонстрировавших невероятное мастерство во владении этим импровизированным оружием
[52].
Говоря о тренировках, нельзя не вспомнить популярное среди современных поклонников навахи упражнение, известное под множеством названий, одно экзотичнее другого. Одним из самых известных среди них является так называемая «баскская роза». Рождением своим эта «роза» обязана вышедшему в 1991 году фильму «Exposure» с Питером Койотом в главной роли. Герой Койота брал уроки ножевого боя у таинственного учителя, которого сыграл Чеки Карийо, и одно из упражнений заключалось в том, что на зеркало наклеивались полоски бумаги в форме восьмиконечной звезды, и по этим траекториям герой фильма отрабатывал удары ножом. На самом деле эта мифическая «роза» является не чем иным, как мулине — самым заурядным фехтовальным упражнением для укрепления и развития гибкости запястий, известным как минимум с 1570 года. На стене закреплялась круглая или овальная мишень диаметром около 14 дюймов, на которой рисовали траектории ударов. Мулине состоял из шести ударов: первый — нисходящий диагональный удар справа налево, второй — диагональный нисходящий удар слева направо, третий — диагональный восходящий удар справа налево, четвёртый — диагональный восходящий удар слева направо, пятый — горизонтальный справа налево и, наконец, шестой — горизонтальный удар слева направо
[53].
Надо заметить, что далеко не всегда в руках у детишек были лишь безобидные деревянные макеты. Так, Немирович-Данченко в своих воспоминаниях о посещении Испании отметил, что наваха неразлучна с испанцем, как носовой платок или шапка, не только у взрослых, но и у мальчуганов. Он с ужасом вспоминал, как дети двенадцати-тринадцати лет вопросы чести решали не потасовкой, а ударами навахи. «…Самое гнуснейшее зрелище, какое когда-либо приходилось кому наблюдать, как тринадцатилетние дети бросаются с ножами друг на друга», — писал Немирович-Данченко
[54].
А Эдмондо де Амичис описал популярную в Испании детскую игру в корриду. В этой игре часть детей изображала быков, другие коней и третьи — матадоров с пиками в руках, сидевших на спинах этих «коней». Иногда для реалистичности к пике матадора привязывали настоящую наваху, а две такие же навахи поменьше изображали рога быка. Амичис как-то раз стал невольным очевидцем подобного развлечения, когда в Валенсии компания детишек решила использовать в игре «бой быков» навахи. Он с ужасом вспоминал, как в ход пошли ножи,
лилось море крови, несколько человек было убито, некоторые тяжело ранены, а игра превратилась в бой, лишённый всяких правил, в который никто не вмешался, чтобы прекратить эту бойню
[55].

Рис. 12. Мулине, 1798 г.

Рис. 13. Дети в школе играют в корриду. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
Судя по свидетельствам из многочисленных источников, совершенствоваться в мастерстве владения ножом испанцы не прекращали и в зрелом возрасте. Дэвид Уркварт, описывая эти тренировки, вспоминал, что предплечья бойцов были покрыты шрамами, полученными в дружеских поединках. При этом лезвия ножей притупляли, или сверху на них надевали чехол, как на пики для корридь
[56]. Самого же Уркварта обучали этому искусству, используя деревянный кинжал, а Шарля Давилье и Гюстава Доре, бравших уроки навахи во время их пребывания в Малаге, старый навахеро обучал наносить удары с помощью тростинок.
Испанцы, выраставшие с ножами в руках, не мыслили без них жизни. Как писал один из русских офицеров, воевавших рядом с испанцами против Наполеона: «Каждый испанец с малолетства привыкает действовать ножом как орудием, для него необходимым, какой бы образ жизни они ни избрали, в какой бы угол Испании судьба ни забросила его. Ножом он защищает свою жизнь от враждебной ему политической партии, ножом он доставляет себе правосудие, в котором отказали ему законы или судьи. Застигнутый ночью на дороге, вынимает свой нож, когда при лунном свете ему привидится мавр, вышедший из могилы отдохнуть на развалинах своего замка»
[57]
Как следует из многочисленных описаний техник владения навахой, оставленных Урквартом, Давилье и сотнями других очевидцев и участников этих поединков, можно заключить, что левая рука при этом всегда обматывалась плащом или курткой для защиты от ударов. Иногда бойцы держали в руке шляпу или какой-либо другой предмет, использовавшийся в качестве импровизированного щита и служивший для отражения атак противника. Но чаще всего основным средством защиты служил традиционный плащ. Этот плащ — капа, занимал в испанской культуре особое место, поэтому мы остановимся на нём подробней. Плащ для испанцев был не только элементом верхней одежды, но и декларацией независимости, а также символом свободы и древних привилегий. Неоднократные попытки отнять у них плащи всегда вызывали бурю негодования и даже приводили к бунтам. Боткин отмечал, что плащ в Испании и зимой, и летом являлся необходимой частью одежды — только высшее гражданство и чиновники носили обыкновенный европейский костюм. Как говорили кастильцы: «La сара, abriga en invierno у preserva en verano del ardor del sol» («Плащ укрывает зимой и предохраняет летом от жара солнца»). Поэтому они закутывались в него и в июле, и в декабре. Так как плащ скрывал под собой всю остальную одежду, то кастильцы не слишком заботились о ней. Без плаща в Кастилье считалось неприличным войти в Ayuntamiento — здание магистрата, участвовать в процессии, присутствовать на свадьбе или наносить визиты важному лицу. Плащ был своего рода народным мундиром
[58].
А вот как использовался этот «народный мундир» в поединке между испанцем и английским офицером, описанном в 1837 году подполковником британской гренадёрской гвардии Кроуфордом: «Кристобаль в сердцах бросил свою шляпу на землю, скинул плащ, который обмотал вокруг левой руки, и через мгновение уже стоял, изготовившись к бою с ножом в руке. Вскоре необычная схватка началась. Офицер был знаком с ужасным оружием своего противника и спокойно стоял, отведя саблю в сторону и приготовившись нанести удар. Он знал, что если ему не удастся уложить противника с первого удара, он пропал и надежды на спасение нет, поэтому напряжённо следил за каждым его движением. Тем временем Кристобаль наклонился вперёд, спрятавшись за плащом, намотанным на выставленную левую руку. В правой руке он держал длинный нож с клинком шириной в два пальца, плавно сужающимся к острию, с выемкой на обухе для лучшего проникновения. Так он скользил вокруг своего противника, постепенно сужая круги, горящим взглядом следя за каждым его движением»
[59].
В 1874 году, технику использования верхней одежды для защиты от ножа, описал в воспоминаниях некий путешественник. Беседуя со знакомым испанцем, искушённым в тонкостях боя на ножах, он спросил его, есть ли у безоружного шанс защититься от человека с ножом. «О да, — сказал испанец. — Я покажу вам как». Мгновенно сбросив с себя куртку, он крепко сжал один рукав левой рукой, остальное обмотал вокруг предплечья, зажав в левой руке и другой рукав, что в результате стянуло всю конструкцию, образовав достаточную защиту от ударов ножа. Автор также отметил, что характерной меткой жителей мадридского района Пуэрта дель Соль, пользующемуся дурной репутацией подобно нью-йоркскому Боуэри, был изрезанный плащ
[60].
Манера использования плаща в комбинации со шпагой породила целый фехтовальный стиль, известный как «эспада и капа», или, в случае замены шпаги кинжалом, «капа и дага». Описание подобной манеры боя мы находим во многих европейских трактатах по фехтованию XV–XVII веков. Так, например, главы посвящённые шпаге и плащу присутствуют в работах таких мастеров прошлого, как Капо Ферро, Альфьери, Мароццо, Карранса и многих других.

Рис. 14. Дуэль. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
Плащ в качестве импровизированного щита использовался ещё в античности, в том числе римлянами. Известный русский историк Мария Ефимовна Сергеенко описывала сагум, плащ римского солдата, как четырехугольный кусок толстой грубой шерстяной ткани, который накидывали на спину и застегивали фибулой на правом плече или спереди под горлом. В
него можно было завернуться целиком, и можно было забросить обе полы за спину — движений он не стеснял. В солдатском быту такой плащ был незаменим при длительных переходах и при стоянии на часах. Не мешал он и во время сражения: как и в XIX веке, его закидывали на левую руку или отбрасывали назад за спину — в таком виде изображены сражающиеся солдаты на колонне Траяна
[61]. Ещё одной иллюстрацией использования плаща в бою служит небольшой отрывок из Тита Ливия с описанием сражения Гракха. Так как римляне не взяли с собой щиты, он сражался, обмотав левую руку плащом
[62].
Манера использования плаща в комбинации во шпагой и кинжалом несколько отличалась. При фехтовании шпагой плащ наматывали на руку, оставляя свисать довольно длинные концы. Плащ старались накинуть на оружие противника, чтобы запутать в его складках клинок, или взмахнуть свободным концом материи перед лицом врага, чтобы заставить его моргнуть и этим на мгновение отвлечь его внимание. При этом maître d’armes рекомендовали занимать стойку с правой ногой впереди, чтобы подальше убрать сердце из зоны досягаемости противника. Этим советом не стоило пренебрегать, так как длина шпажного клинка в среднем достигала 85–95 см, а шпаги испанцев часто превышали метр в длину. Многие мастера ренессансного фехтования советовали своим ученикам занимать правостороннюю стойку так же и в комбинации плаща с кинжалом. Но, судя по дошедшим до нас изображениям поединков и, исходя из многочисленных свидетельств очевидцев, навахерос всё-таки предпочитали левостороннюю стойку, защищая грудь и живот обмотанной плащём левой рукой, и выдвинув вперёд левую ногу.
Существовало два основных способа использования верхней одежды в качестве защиты. В первом варианте куртку, камзол или плащ, накидывали на левое плечо, позволив им свободно ниспадать вдоль тела, а во втором плотно, в несколько слоёв, наматывали на левое предплечье. Как показывает практика поединков, такая импровизированная защита надёжно предохраняла руку не только от ножа, но иногда и от сабельных ударов. Автор «Пособия для баратеро», рекомендовал сбрасывать плащ перед поединком, чтобы одежда не сковывала движение бойца. Для этого он предлагал просто стряхнуть его с плеч за спину, отметив, что благодаря этому дуэлянт избегает риска запутаться в плаще ногами или потерять противника из вида
[63].

Рис. 15. Плащ и шпага. La Scherma, Франческо Алфиери, 1640 г.
Пособие для баратеро, название которого полностью звучит как «Пособие для баратеро по искусству владения навахой, ножом и цыганскими ножницами», — это небольшая иллюстрированная 54-страничная брошюрка, состоящая из четырёх частей, разделённых на тридцать глав. Пособие детально описывает все нюансы нелёгкого дуэльного ремесла, включая технические элементы, шаги, уловки и финты, а завершает книгу небольшая заметка о героях этой работы, баратеро. На этой крайне любопытной и неоднозначной работе, содержащей уникальные данные о фундаментальных основах, технике, тактике и стратегии «золотой эры» испанской навахи, пришедшейся на более чем столетний период с середины XVIII столетия, и до начала двадцатого, я хотел бы остановиться подробней.

Рис. 16. Атака навахеро. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
Для начала мы попытаемся пролить свет на происхождение, и, разумеется, на авторство этой работы. Несколько лет назад эта книга вызвала ожесточённые дебаты, и в полемике было сломано немало копий. Резюмируя, приходится констатировать, что большая часть всего что писалось и говорилось об этой работе, не более чем спекуляции, предположения и домыслы. Основная интрига заключалась в анонимном авторстве этого пособия. Книга была издана в 1849 году, в Мадриде издателем, неким доктором Альберто Гойя, и вышла под аббревиатурой «M.d.R.» Более ста пятидесяти лет это пособие считалось анонимным. Таковым его считали многие именитые и авторитетные историки-оружиеведы. Среди них можно назвать всемирно известного испанского историка и одного из крупнейших коллекционеров испанских навах, Рафаэля Мартинеса дель Пераль Фортона, цитировавшего пассажи из «Пособия для бара-теро» в своей работе «Las Navajas. Un Estudio у una Colección»
[64], и Гарольда Петерсона, упомянувшего «Пособие» в книге «Daggers and Fighting Knives of the Western World»
[65]. Также и современные «Пособию для баратеро» работы XIX века, такие, например, как вышедший в Мадриде в том же 1849 году, библиографический справочник упоминают «Пособие» как анонимный труд
[66]. Крайне сомнительно, что специалисты по истории холодного оружия такого уровня как Петерсон или Пераль Фортон, не указали бы имя автора, будь хоть малейший довод, позволяющий с достоверностью утверждать, кто же на самом деле скрывался за этой аббревиатурой.

Рис. 17. Обложка первого издания. Manual del Baratero, 1849 г.
Усилиями энтузиастов эта книга неоднократно переиздавалась небольшими тиражами у себя на родине в Испании, а также в соседней Италии и долгие годы оставалась известна лишь узкому кругу специалистов и букинистов. Всё изменилось в 2005 году, когда «Пособие для баратеро» было впервые полностью переведено на английский язык, и вышло в известном издательстве «Паладин Пресс», обеспечившем этой работе обширный резонанс и паблисити. Именно 2005 год — год выхода этой книги на английском языке породил волну спекуляций о её авторстве. Под давлением нескольких доморощенных историков главным претендентом на пост автора было решено «назначить» известного журналиста первой половины XIX столетия, некоего Мариано де Рементериа и Фика. Выбор этот был обусловлен лишь тем, что его инициалы частично подходили для аббревиатуры M.d.R., да и жил Фика приблизительно в ту же эпоху. Что с точки зрения недобросовестных исследователей было более чем достаточно, чтобы считать его тем самым таинственным автором. Первоначально это предлагалось исключительно на правах гипотезы, а затем, как это частенько бывает, незаметно было принято за аксиому. Многие из уверовавших в эту версию, упрекали Рементериа и Фика в некомпетентности, а, следовательно, подвергли острой критике И «Пособие для баратеро». Так, например, среди прочих нелецеприятных эпитетов, «Пособие» называли сборником нелепых фантазий книжного червя, который никогда не вылезал из-за письменного стола, и, разумеется, не мог ничего знать ни о ножах, ни о технике владения ими. Вряд ли кому-либо из его критиков было известно, что достопочтимый сеньор Мариано принимал участие в боевых действиях против французов в Бильбао
[67], и прекрасно знал с какой стороны браться за нож. Но дело тут даже не в боевом опыте и компетентности Фики, как знатока боевых искусств, а в установлении истинного авторства этой работы.

Рис. 18. Укол в пах. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Надо признать, что Мариано де Рементериа и Фика, известный как неплохой поэт и редактор популярной Мадридской газеты «Литературный и Торговый вестник», чтобы прокормить семью, был вынужден браться за различные подработки, нередко достаточно сомнительные. Так, например, из-под пера Фики выходили как рекомендации по хорошим манерам, так и справочники по хранению сыров, каковые прегрешения и вменялись ему в вину негодующими читателями нового издания «Пособия баратеро». И действительно, далеко не лучший претендент на лавры автора столь специфической работы. Однако, ближе ознакомившись с биографией журналиста, опубликованной его приятелем, испанским писателем, историком и фольклористом, Хуаном Антонио де Иса Самакола в журнале «Revista de Teatros», я утвердился во мнении, что авторство Мариано де Рементериа более чем сомнительно, и тому был целый ряд причин.
Во-первых, как я уже отмечал, ни один серьёзный академический источник за более чем полтора столетия, никогда и нигде не упоминал Фику в качестве автора этой книги. Более того, его биограф, Хосе Эскобар Арронис писал, что подобные инциденты с приписыванием ему чужих работ, встречались и при жизни Мариано де Рементериа. Так, например, упоминался случай, имевший место в 1828 году, когда Фике приписывали авторство работ, к которым в действительности он не имел ни малейшего отношения
[68]. Ещё одним доводом, хоть и косвенно, но свидетельствующим против авторства Фики, служит тот факт, что все свои работы он всегда гордо подписывал исключительно полным именем: дон Мариано де Рементериа и Фика. Но даже и эти три аргумента не главное. Для нашего небольшого расследования важно другое свидетельство. А именно то, что 5 декабря 1841 года, у предполагаемого автора этой работы, дона Мариано, преподававшего к тому времени в Escuela Normal, на углу улиц де Ла Круз и Эспоз и Мина, случилось кровоизлияние в мозг, или, как это тогда называли, апоплексический удар, от чего он на месте и скончался. А приписываемое его перу произведение появилось лишь в 1849 году, через долгих восемь лет после смерти журналиста
[69]. Хотя и после гибели Рементериа и Фика многие его работы неоднократно переиздавались, однако все первые издания вышли не позже 1841 года, то есть, ещё при жизни автора. Ну, а вероятность того, что рукопись «Пособия» все эти годы пылилась в ящике стола, чтобы явиться свету почти через десятилетие, крайне мала — не хочется умалять значения этой работы для поклонников боевых искусств, но всё-таки, это не «Война и мир».
И в завершение этого краткого лирического отступления я позволю себе небольшую ремарку. Многолетнее изучение свидетельств очевидцев и участников дуэлей на ножах в Испании, даёт мне основание утверждать, что все технические элементы, тактические уловки и ритуалы, встречающиеся в этой работе, абсолютно аутентичны, описаны со знанием всех реалий поединков на ножах на Пиренеях и демонстрируют глубокое знание предмета.
Кем бы ни был автор этой уникальной работы, скрывавшийся за таинственными инициалами — действительно ли «книжным червём», с благообразной бородкой «эспаньолкой», или одним из многочисленных учителей навахи, с лицом обезображенным шрамами, но, в отличие от бесчисленной армии современных интерпретаторов и толкователей его работы, предмет свой он знал досконально.
Но одними лишь спекуляциями об авторстве «Пособия» всё не ограничилось. В 2004 году в статье о навахах, опубликованной в одном из уважаемых оружейных журналов, утверждалось, что основная целевая аудитория этого пособия — «молодые люди из богатых семей». Подобное утверждение основывалось, как это нередко бывает, на неверной трактовке автором статьи испанских идиоматических оборотов.
В его интерпретации обращение автора «Пособия» к читателям, звучало следующим образом: «Прочтя мое руководство, и немного попрактиковавшись, любой избалованный молодой человек будет способен защитить себя от атаки баратеро»
[70]. Но чтобы не множить заблуждения, позволю себе внести некоторые коррективы. Использованная в оригинальном испанском тексте идиома «almibarado señorito»
[71], переводится не как «избалованный молодой человек», а как «маменькин сынок». То есть речь в приведённой цитате шла вовсе не о целевой группе покупателей этого пособия, а лишь о том, что овладеть описанными в нём техниками настолько просто, что это даже под силу любому маменькину сынку. Что, переложив эту витиеватую метафору на более понятный язык, можно сформулировать, как: «проще, чем пареная репа». Автор статьи также утверждал, что «Пособие» было адресовано дворянству, аргументируя это тем, что все низшие классы Испании вплоть до двадцатого столетия, были безграмотны, а, следовательно, прочесть эту книгу не могли. Но и этот тезис ещё в 1853 году был опровергнут Теофилем Готье, который отметил, что «почти все испанские крестьяне грамотны»
[72] Кстати, надо сказать, что именно недобросовестный перевод породил один из самых живучих и популярных среди поклонников ножевого боя мифов — наваху с двумя клинками. На самом деле, это жуткое порождение тьмы являлось ничем иным, как вольной интерпретацией испанского термина «doble filo» — обоюдоострый клинок.
Но вернёмся к дуэлям. В 1885 году основную концепцию поединков на ножах в Испании лаконично охарактеризовал известный фехтовальщик викторианской эпохи Эгертон Кастл. Он считал, что если дрались навахой в паре с плащом, то техника основывалась на принципах старинного фехтования с мечом и плащом, а если только навахой — то на принципах фехтования на рапирах в трактовке Каррансы. В первом случае для защиты использовали дважды обёрнутую плащом левую руку, стойку занимали, выставив вперёд левую ногу, а наваху держали в правой руке плашмя, уперев большой палец в пяту клинка. Во втором случае, где вариантов защиты было мало, кроме возможности схватить противника за запястье, истинное мастерство состояло в том, чтобы заставить противника сделать какое-то движение, которое дало бы шанс нанести останавливающий удар в оппозиции. В обоих случаях удары наносили на шагах
[73]. Конечно же, Кастл имел в виду великого испанского мастера XVI столетия Херонимо Каррансу. «Отца боевой науки», как его называли современники. Карранса, по мнению Кастла, «собрал самые проверенные приёмы фехтования, популярные у разных учителей его времени — либо у членов фехтовальных корпораций, либо среди простых фехтовальщиков и видавших виды искателей приключений — и свёл их в одну систему»
[74]. Именно Каррансе, его последователю Нарваэсу, а также маэстро Жерару Тибо, автору фундаментального труда по фехтованию, испанские задиры должны были быть благодарны за основные принципы владения навахой.
Мы уже рассмотрели варианты защиты с использованием плаща или камзола. Ещё одним, не менее популярным импровизированным щитом были традиционные испанские шляпы. Головные уборы использовались в поединках во многих ножевых культурах — шляпы всегда были под рукой, а материал, из которого они были изготовлены, — как правило, толстый войлок — предоставлял достаточную защиту и позволял безопасно парировать удары, надёжно предохраняя кисть от порезов. Так, например, с помощью шляпы защищался Кривой в поединке с Хосе, описанном Проспером Мериме в бессмертной «Кармен»
[75]. Шляпы, используемые в качестве щитов, можно увидеть и на иллюстрациях к первому изданию «Пособия для баратеро» 1849 года
[76].
Хью Роуз, описывая в 1875 году испанские обычаи и традиции, не забыл также упомянуть и использовавшиеся в поединках шляпы. Он отметил, что когда испанцы дерутся в поединках на ножах, то дуэлянты парируют уколы и порезы противника своими сомбреро, или войлочными шляпами. Также Роуз писал, что некоторые мужчины преуспели в этом искусстве и известны тем, что на их счету два-три убитых на дуэлях противника
[77]. Не исключено, что манеру прятать в поединках нож за головным убором навахеро позаимствовали у тореадоров. Перед тем как добить раненого быка ударом эстока или пунтии, матадор традиционно прикрывал животному глаза шляпой.


Рис. 19. Защита с помощью шляпы. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin, Мануэль Антонио де Бреа, Мадрид, 1805 г.

Рис. 20. Бойцы прячут ножи за шляпами. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

Рис. 21. Стойка. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

Рис. 22. Известный матадор XVIII века Хосе Кандидо Экспозито перед тем как нанести смертельный удар прикрывает глаза быку.
Покончив с описанием основных защит, мы можем перейти к техническим элементам поединка на навахах, лаконично описанным в тридцати лекциях этого руководства для головорезов. Итак, согласно канонам испанской школы, наваха плашмя удерживалась в районе замка, режущей кромкой внутрь. Большой палец при этом упирался в пяту клинка в первой его трети. При наличии защиты в виде плаща или камзола согнутая в локте левая рука выставлялась вперёд на уровне живота или груди, согнутая в колене левая нога также выдвигалась вперёд, и на неё переносилась большая часть веса фехтовальщика. Рука с навахой держалась у бедра, или была опущена вдоль тела и отведена назад, а клинок при этом смотрел вперёд или вниз.
Таким образом, положение тела навахеро напоминало классическую стойку с мечом и кулачным щитом
[78]. При отсутствии защиты для левой руки корпус бойца был развёрнут фронтально к противнику, левая рука защищала левую сторону груди, живот и пах. Стопы находились на одной линии, колени были немного согнуты, живот втянут, а тело наклонено вперёд, чтобы максимально убрать живот и пах из зоны поражения. Но наклоняться вперёд слишком сильно не рекомендовалось, чтобы не подставлять под нож лицо. Эти варианты стоек и способы удержания навахи, потверждаются многочисленными иконографическими источниками, и свидетельствам очевидцев.
В 1847 году стойку навахеро описал путешествовавший по Латинской Америке Уильям Эдвардс, который стал свидетелем подобного поединка: «Пепе и Маноло кидали друг на друга злобные взгляды, оба были напряжены, как пружина, и собраны, как леопард перед броском. Они крепко сжимали ножи в правой руке, на уровне колена, большой палец упирался в клинок.
[79].
А вот свидетельство Джозефа Таунсенда, датированное 1786 годом: «Получив нож, он несколько раз взмахнул им. Потом сделал вид, что подвергся внезапному нападению гипотетического врага, вооружённого оружием, подобным его собственному. Он наклонился вперёд, согнул колени, шляпу в левой руке выставил перед собой как щит, а его правая опущенная вниз рука крепко сжимала нож, острие которого смотрело вверх на противника. Изготовившись таким образом и бросая на предполагаемого противника яростные взгляды, он бросился вперёд, сделал вид, что отбил шляпой удар соперника, и нанёс тому смертоносный удар, направленный в нижнюю часть живота, чтобы мгновенно, одним движением, вспороть брюхо жалкому мерзавцу»
[80].
Однако, следует заметить, что честь изобретения подобной манеры боя не принадлежит испанцам Нового времени. Эту технику мы встречаем в сотнях описаний поединков в различных странах и в разные эпохи. Так одно из самых ранних изображений хрестоматийной стойки навахеро, мне удалось найти в датированном IV веком до нашей эры фракийском могильнике, расположенном на территории Болгарии в местечке Александрово. На внутренней части купола могильника прекрасно сохранилась большая фреска. Среди сцен охоты, мчащихся быков, кабанов и преследующих их всадников отчётливо видно изображение пешего воина, одетого в некое подобие хитона. Вес его тела перенесён на выставленную вперёд и согнутую в колене левую ногу, опирающуюся на всю стопу, правая же нога выпрямлена, отставлена назад и опирается на носок. На левом предплечье, которым воин прикрывает грудь, намотан плащ, а в опущенной ниже бедра и немного отведённой назад правой руке, он, уперев большой палец в клинок, держит фракийскую сику длиной около тридцати сантиметров.
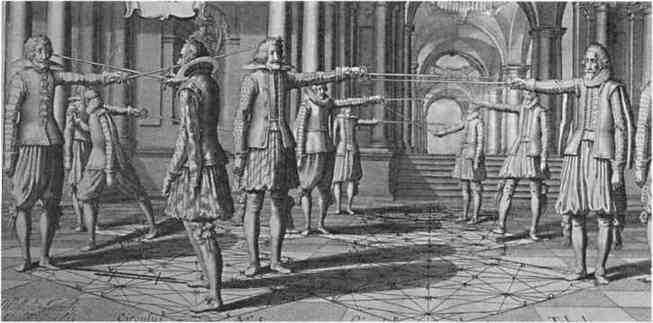
Рис. 23. Вердадера дестреза. Academie de l'Espee, Жирар Тибо, 1628 г.
Но вернёмся к «Пособию». Заняв боевую стойку, соперники не спешили атаковать друг друга. Каждый из них ждал, когда у его противника не выдержат нервы и он нанесёт удар первым, чтобы определить, насколько искусный боец ему противостоит. Как уже говорилось, концепция поединка строилась на старинной испанской манере боя Тибо и Каррансы, так называемой «ла вердадера дестреза», что можно перевести как «истинное искусство». Навахеро несколько упростили крайне мудрёную и излишне отягощённую сложными геометрическими выкладками испанскую школу шпаги XVI века. В их трактовке в основе лежали два круга, служащие для определения дистанции, — так называемые терренос, или «территории», которые представляли собой сферы, образуемые вытянутой рукой тирадора с зажатой в ней навахой. Круг бойца назывался «террено пропио», а сфера его противника — «террено контрарио». Границами террено, как уже было сказано, являлась максимальная дистанция нанесения удара вытянутой рукой с зажатым в ней ножом
[81].
Тело навахеро делилось на две зоны поражения: «парте альта» — то есть верхнюю часть, от макушки до пояса, и «парте баха» — от пояса и до пят. Когда кинжалом, или как его называли цыгане, «моха» — пыряльник, наносили удар в живот, на жаргоне это называлось «накормить». Популярным ударом в «парте баха» — в живот или пах, был так называемый, «виахе». Термин «виахе» вышел из корриды, и обозначал восходящий распарывающий удар рога быка. Часто «виахе» служил синонимом «пуньялады» — удара ножом, поэтому, когда баратеро перед схваткой произносили: «vamos á echar un viaje», это значило «Ты отведаешь моего ножа!»
[82].

Рис. 24. Флоретазо. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Против противника, который бросался в неподготовленные прямолинейные атаки, часто применялись «флоретазо» — удары, наносимые преимущественно в «парте альта», когда навстречу атакующему просто вытягивалась рука с навахой
[83]. Для унижения противника и демонстрации технического превосходства над ним служили порезы лица, известные как хабек или чирло, о которых мы поговорим в главе о ритуальном шрамировании. Наводящим ужас ударом был легендарный десхарретазо, или подрезатель. Удар этот наносился на шагах или в клинче за линию плеч, в спину. Часто этот удар оставлял зияющую рану, через которую был виден эспиназо — хребет. Известны прецеденты когда при этом ударе перерубался позвоночник. Но при всей своей смертоносности десхарретазо требовал от навахеро высокого мастерства, так как при нанесении этого удара боец раскрывал защиту, и поэтому был высок риск получения ранения
[84]. Удар или порез, наносимый по параболе справа налево, назывался плумада. Этот же удар, но уже нанесённый слева направо, носил название ревес. Надо сказать, что большей частью поединки на навахах состояли именно из размашистых секущих плумад и ревесов, в основном направленных в лицо противника.
Иногда в бою опытные соперники использовали технику «мулине» (не путать с тренировочным упражнением], в основе которой лежал резкий разворот вокруг оси
[85]. Шарль Давилье, бравший уроки владения навахой, описывал «мулине» следующим образом. Один из дуэлянтов, приблизившись к противнику, внезапно поворачивался на правой ноге и при этом вытягивал правую руку, чтобы нанести ему ранение в плечо. Такой удар мог быть отражён только левой рукой, так как правая была поднята для удара. Давилье также отметил, что эта техника использовалась преимущественно в ближнем бою и обычно заканчивалась смертельным исходом
[86].
Но технический арсенал навахерос не ограничивался лишь перечисленными видами ударов. В поединках всегда присутствовала немалая доля экспромта и импровизации. Кроме этого, как и в фехтовании на шпагах, у многих навахеро были свои фирменные «придумки». Теофиль Готье писал, что у каждого навахеро существовали свои секретные удары и техники и что адепты этого искусства по характеру ранения способны были определить нанесшего его мастера, как мы узнаём руку художник
[87]. Возможно, это не было лишь красочной метафорой, так как о подобных «подписях мастера» упоминали и другие авторы. Так, например, Роуз в своей работе «Неисхоженная Испания» вспоминал, как однажды в больницу привезли мужчину с тяжёлым ранением от удара ножом. Один из городских стражников взглянул на рану, глубокомысленно кивнул головой и заметил, что ему прекрасно известно, чья рука нанесла этот удар. Когда его спросили, как он это определил, стражник ответил, что узнал владельца ножа по характеру и расположению ранения
[88]. По ранениям узнавали не только навахеро, но и мастеров-оружейников, а также их изделия, которыми эти ранения наносились. Так, например, в «Дон Кихоте» Сервантеса в оружии, которым Монтесинос вырезал сердце своего приятеля Дюрандарте, Санча Панса узнал кинжал работы известного севильского мастера дона Рамона де Хосеса
[89]. Также и Форд писал о том, что «любой, как правило, знает всех лучших оружейных мастеров».

Рис. 25. Десхарретазо. Гюстав Доре, 1865 г.

Рис. 26. Мулине. Гюстав Доре, 1865 г.
Передвижения в бою совершались шагами, прыжками и отскоками. Опытный боец, прекрасно чувствующий дистанцию, всегда видел, когда ножу противника не хватает дюйма или даже полдюйма, чтобы достать его. Поэтому, когда оружие соперника ненамного проникало в его террено, достаточно было просто убрать находившуюся в опасности часть тела. Но если действия противника были непредсказуемы, то автор «Пособия» рекомендовал отскочить в сторону или назад, при необходимости совершив несколько прыжков. При этом, чтобы не споткнуться, передвигаться следовало на носках. Популярным способом атаки являлись так называемые хирос, или развороты. Так, при атаке с разворотом левая нога из фронтальной стойки зашагивала вперёд за правую, а правая сразу вслед за этим совершала аналогичное движение, но уже зашагивая вперёд за левую. В результате корпус атакующего разворачивался к противнику правым боком. Если во время выполнения «хирос» отсутствовала защита для левой руки, то, чтобы избежать ранения, использовались различные технические элементы, такие например, как «контрахирос». В этом случае защищающийся резко разворачивался на носке правой ноги, отшагивая левой ногой назад, и при этом резко выпрямляя перед собой правую руку с ножом
[90].

Рис. 27. Защиты. Manual del Baratero, Мадрид, 1849 г.
Подобная техника контрахиро, или, как её называли итальянцы, «инквартата», прекрасно описана Проспером Мериме в «Кармен»: «Гарсия уже согнулся пополам, как кошка, готовая броситься на мышь. В левую руку он взял шляпу, чтобы отражать удары, нож выставил вперед. Это их андалузский прием. Я стал по-наваррски, лицом к нему, левую руку кверху, левую ногу вперед, нож у правого бедра. Я чувствовал себя сильнее великана. Он кинулся на меня стрелой; я повернулся на левой ноге, и перед ним оказалось пустое место; а я попал ему в горло, и нож вошел так глубоко, что моя рука уперлась ему в подбородок. Я с такой силой повернул клинок, что он сломался. Все было кончено. Клинок вышиб из раны струю крови в руку толщиной. Гарсия упал ничком на бревно»
[91]
Позволю себе небольшую ремарку: прототипом для Хосе послужил реальный исторический персонаж — легендарный андалузский бандолеро Хосе Мария Хиньохоса и Кобачо, известный как «Эль Темпранийо», или «Король Сьерра-Морена». Эль Темпранийо, уроженец Малаги, бесчинстовал в горах Сьерра-Морена в первой четверти XIX века и был убит в 1833 году в возрасте 28 лет
[92] Надо отметить, что Мериме, прекрасно знакомый с испанскими традициями и культурой Андалусии, очень точно описал стойки участников этого поединка, полностью соответствующие их отображению в «Пособии для баратеро» — и Кривого со шляпой в руке, и фронтальную стойку Хосе. Кстати, ещё задолго до выхода «Пособия для баратеро» стойка с высоко поднятой рукой для защиты от кинжала и использование в поединке шляпы для парирования ударов рекомендовались в изданном в 1805 году пособии Мануэля Антонио де Бреа «Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadín»
[93].
Ещё одной фундаментальной основой искусства владения навахой были так называемые корриды, или пробежки, представлявшие собой атаку, проводимую по полукругу или своеобразной параболе с нанесением удара в высшей точке. При этом боец соблюдал дистанцию и сохранял фронтальное положение тела по отношение к противнику. Войдя с помощью корриды в террено соперника, он наносил любой из известных ему ударов. Защищались от коррид разворотом вокруг своей оси, прыжком в сторону или отскоком назад
[94]. Такая же техника существует во многих сохранившихся традиционных школах фехтования на ножах в Италии. Там подобная манера атаки носит название «меццалуна» — полумесяц.

Рис. 29. Фронтальная стойка. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 30. Отбив ножа левой рукой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Кроме уже описанных вариантов защиты использовалось сбивание вооружённой руки с последующим нанесением флоретазо, захваты за запястье, опять же с контратакой, и удары шляпой по руке с оружием. Ещё одним особо рискованным трюком был пинок по пальцам вооружённой руки. Автор «Пособия» предостерегал читателей, что промах тут крайне опасен и единственный вариант, позволяющий избежать в этой ситуации ранения, это броситься на землю, сопровождая падение ударом в пах противника. Среди излюбленных хитростей навахерос было, например, спрятать за спиной обе руки, чтобы противник не знал, в какой из них нож и откуда будет нанесён удар. При этом локтями боец совершал обманные движения, имитирующие начало атаки. Кстати, надо отметить, что среди дуэлянтов высоко ценилось умение свободно владеть навахой в любой руке. Эта манера прятать в поединке нож за спиной была стара как мир и использовалась бретёрами ещё в XV-XVI веках. Альфред Хаттон в своей книге «Меч сквозь столетия» писал, что когда использовался одиночный кинжал, то есть без какого-либо вспомогательного оружия и защитного снаряжения типа плаща или щита, то было принято перекладывать оружие из руки в руку. Нередко поединок часто начинался в стойке с оружием, спрятанным за спиной, чтобы противник не знал, какой рукой будет нанесён удар
[95].


Рис. 31. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin. Мануель Антонио де Бреа, Мадрид, 1805 г.

Рис. 32. Уловка с падением. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Другой популярной уловкой было преднамеренное падение на колени, но выглядевшее так естественно, как будто боец случайно поскользнулся. Он тут же вскакивал и при этом молниеносно наносил удар ножом в пах, «что, — как заметил автор «Пособия», — «разумеется, требовало большой ловкости». Важным техническим элементом было заставить противника моргнуть, чтобы он на мгновение потерял соперника из вида. Автор «Пособия» для этого рекомендовал произвести отвлекающий манёвр, махнув перед лицом противника левой рукой или шляпой, и мгновенно нанести удар в парте баха. Один из путешественников, беседуя в 1874 году с неким молодым испанцем, спросил его, каковы местные особенности владения ножом. «Ну, — ответил тот с улыбкой, — главное — чтобы я мог вас убить, а вы бы меня не сумели». — «Хорошо, и в чём же разница между нами? С чего бы ты начал?» — «Ну, я бы заставил вас моргнуть и в этот момент нанёс бы вам удар» — «И как же ты заставил бы меня моргнуть?» «А вот так», — произнёс он, махнув левой рукой перед глазами автора. «Да, но ведь я мог бы сделать то же самое». «А вы попробуйте», — ответил испанец. Автор попытался заставить его моргнуть, но убедился, что это невозможно, хотя он несколько раз махнул рукой вверх и вниз, почти касаясь ресниц парня. Его чёрные глаза неотрывно следили за каждым движением. «Было ясно, что его глаза в отличии от моих были к этому привычны», — с досадой заключил автор
[96]. Хочу отметить сходство этого тактического приёма с аналогичной уловкой в боксе. В этом спорте, чтобы ни на мгновение не терять противника из вида, также крайне важно умение не мигать и не реагировать на отвлекающие движения левой руки противника перед глазами.
Все удары у тирадоров делились на истинные — вердадеро и финты, или финихидо. Если вердадеро наносили для того, чтобы ранить противника, то финихидо лишь для отвлечения внимания. На практике это значило, что, показав удар в парте альте, на самом деле его наносили в парте баха и, соответственно, наоборот. Использовались и такие хитрости, как развязанный широкий пояс фаха, конец которого бросали под ноги противнику с тем, чтобы, когда тот наступит на него, дёрнуть пояс на себя и вывести его из равновесия. Этот совет из «Пособия» неоднократно подвергался резкой критике «знатоков» и высмеивался как абсурдная фантазия автора, и поэтому для его реабилитации позволю себе небольшой комментарий. Возникшее недоразумение связано с недостаточным знанием реалий и ритуальной доставляющей этих народных поединков. Разумеется, просто бросить конец пояса на землю и ждать, когда противник поспешит наступить на него, и в самом деле было бы абсурдом. Соперник должен быть слепым, патологически доверчивым или клиническим идиотом, чтобы попасться на такой примитивный трюк. Всё это верно. Однако, подобный элемент мы встречаем и в других ножевых культурах, например, в Аргентине, где потомки испанских переселенцев — гаучо в поединках спускали на землю край накидки-пончо.
Неужели и там у всех был атрофирован инстинкт самосохранения, иначе как аргентинским пастухам удавалось заманивать соперников на эту скользкую дорожку? На самом деле всё значительно проще — речь идёт об одном из многочисленных дуэльных ритуалов. В испанской традиции народных дуэлей намеренно опустить на землю конец пояса или пончо означало бросить вызов на поединок, а наступить на пояс — принять вызов. Ну а когда противник одной или двумя ногами уже стоял на поясе или пончо, дальше уже всё было делом техники. Мы ещё вернёмся к этому ритуалу в главе, посвящённой культуре народных дуэлей Аргентины.
Другим популярным трюком было утяжелить один конец пояса за счёт вшитых монет или камней и, улучив момент, попытаться захлестнуть и спутать им ноги противника на манер аргентинского болас, используемого гаучо. Кроме этого, можно было бросить в лицо противника шляпу, щепоть табака или горсть земли, наступить ему на ногу, пнуть в живот или сделать подножку, с помощью которой легендарный боец на ножах Монтес убил в поединках одиннадцать человек
[97]. Можно было испуганно заглянуть противнику за спину, сделав вид, что там кто-то стоит, и тут же атаковать. Или просто отвлечь внимание, ткнув ему пальцем под ноги с криком: «Осторожно, не споткнись!»
Полковник Кроуфорд, ставший очевидцем поединка испанца с английским офицером, вооружённым саблей, описал одну из подобных уловок навахерос. Он вспоминал, что англичанин начал терять терпение и его отчаянная храбрость побуждала его положить конец схватке. Один из зрителей, старый тореадор, стоявший в толпе и внимательно следивший за поединком, заметил его нетерпение и сообщил другим зрителям, что офицер уже обречён. В этот момент всем показалось, что плащ соскользнул с руки испанца, и пока он неуклюже пытался его поднять, то на какой-то миг отвернулся от противника. Англичанин решил, что настал нужный момент, и бросился в атаку, намереваясь нанести сабельный удар в голову соперника, но вдруг вскрикнул и рухнул на землю. Оказалось, что падение плаща всего лишь служило уловкой, которая должна была ввести соперника в заблуждение, спровоцировать неосторожное движение и заставить его открыться. Приняв удар на плащ, навахеро одновременно с быстротой молнии рванулся вперёд на противника и нанёс ему распарывающий удар ножом снизу под рёбра с левой стороны. Сила удара, дополненная энергией прыжка, была такова, что наваха почти перерубила тело офицера поперёк живота так, что верхнюю и нижнюю половину туловища соединял только позвоночник, в то время как самого навахеро надёжно защитил сложенный в несколько слоёв шерстяной плащ
[98].

Рис. 33. Дуэль на навахах. Франсиско Гойя, 1812–1820 гг.

Рис. 34. Метание навахона. Гюстав Доре, 1865 г.
Не обошло «Пособие для баратеро» вниманием и метание навахи, хотя автор уточнил, что этот обычай более распространён среди моряков. «Наваха, — писал он, — привязана к поясу длинным шнуром. Бойцы кидают ножи с поразительной точностью, безошибочно попадая в выбранную точку на груди или животе». Однако сам автор «Пособия» не рекомендует метать нож, мотивируя это тем, что «эти люди упражняются в метании ножей с детства, а у новичка высока вероятность промаха, что несёт для него высокий риск»
[99]. Также и сэр Ричард Бёртон отмечал, что искусству метания ножа испанцы начинали учиться с детства
[100]. Лучшими метателями ножей считались баратеро. Ричард Форд утверждал, что истинный баратеро может метнуть наваху в дверь через всё помещение так же быстро и точно, как выпущенную из ружья пулю
[101] Ему вторит Давилье, восхищавшийся точностью, с которой испанцы бросали ножи и «пронзали ими тела неудачливых бойцов». Также барон был поражён и удивительной ловкостью, позволявшей андалусцам уворачиваться от летящих клинков
[102]. Не оставил незамеченным метание навах и Василий Петрович Боткин. В «Письмах об Испании» он отмечал, что гранадские цыгане были известны ловким метанием ножей, которыми попадали в цель с дистанции, превышающей двадцать шагов
[103]. Известный испанский теолог, Хосе Мария Бланко Креспо, более известный как, Джозеф Бланко Уайт, вспоминал, как однажды матадор Пепе Ийя, мгновенно убил быка, метнув ему в шею специальный обоюдоострый нож «пунтийа», или как его ещё называют «cuchillo de remate», обычно используемый в корриде или на охоте при добивании раненого животного
[104]. Пунтийю зрители могли увидеть в экранизации цикла романов Артуро Переса-Реверте «Капитан Алатристе», где этим ножом орудовал сумрачный персонаж Вигго Мортенсена.
Одна глава «Пособия для баратеро» посвящена и такому экзотическому виду оружия, как ножницы — тихерас, или, как их называли цыгане, качас. Ножницы являлись преимущественно цыганским оружием, так как в Андалусии, как и повсюду в Европе, именно цыгане занимались торговлей лошадьми и работали стригалями, поэтому вполне естественно, что при необходимости они пускали в ход свой рабочий инструмент, всегда находившийся под рукой. Ну и, кроме этого, ножницы представляли собой прекрасный образчик легитимного оружия, что, учитывая суровые испанские законы, было немаловажным фактором. Закрытыми их использовали в поединках так же как и нож, или же удары наносились открытыми ножницами, оставлявшими две раны
[105]. Также и Шарль Давилье упоминал о «tijeras» — огромных ножницах, около 60 сантиметров в длину, которыми стригали — «esquiladores» стригли своих коней и мулов и использовали в качестве оружия самозащиты. Барон также отметил, что оружие это в ходу преимущественно у цыган, хотя добавил ремарку, что «используют они его достаточно редко, так как цыгане в основном миролюбивы»
[106].
Упоминание об использовании ножниц в поединке мы встречаем и в вышедшем в 1881 году сборнике текстов фламенко: «В одной руке у меня ножницы, в другой руке шляпа. Если ты Хуан Урбанеха, то я Мартин Фаранданго»
[107]. Из этого отрывка мы видим, что и здесь ножницы использовались в комбинации со шляпой, как нож. Длинные и массивные ножницы XVI–XVIII веков, хранящиеся в музеях холодного орудия в Альбасете и Золингене, в сложенном виде напоминают скорее боевые кинжалы, чем безобидный хозяйственный инструмент, и, возможно, в своё время являлись грозным оружием в умелых руках. Прекрасные образцы этих испанских ножниц-кинжалов можно увидеть и на иллюстрациях к фундаментальному труду об истории ножевого производства, принадлежащего перу Камилла Пажа
[108]

Рис. 35. Матадор добивает быка (фрагмент) («Тавромахия», офорт 9). Франсиско Гойя, около 1815–1816 гг.

Рис. 36. Цыган-эскиладор (стригаль). На поясе видны ножницы. Хуан Каррафа, 1825 г.
Немаловажным элементом испанских народных дуэлей являлось ношение дуэлянтами широкого пояса, или фаха. Без этого длинного красного шёлкового пояса, невозможно представить традиционный каталонский костюм. В «фаха» кроме ножа, испанские мужчины носили различные необходимые мелочи, такие как кошелёк, и трубочный табак. Но у каталонского пояса была и другая, более важная функция — предохранять бойца-диестро от ударов ножа. Одна из лекций «Пособия для баратеро» гласила, что «архиважное значение для диестро имеет ношение пояса вокруг талии, для того чтобы частично прикрыть живот и бока, и хоть в какой-то степени защититься от атак противника, особенно от таких опасных ударов, как десхарретазо и виахе»
[109].
Навахерос прекрасно разбирались в человеческой анатомии и отлично знали, какие удары убивали, а какие только ранили, какие были более болезненны, а какие менее. Ричард Форд писал, что если в ту эпоху даже хирурги могли быть неопытными, не знать анатомии и не уметь пользоваться скальпелем, то простые люди в основной массе своей точно знали, как использовать нож и куда наносить удары. В том случае, если рана была не слишком глубокой и не широкой, «как церковная дверь», обычно говорилось: «Этот ещё послужит»
[110].

Рис. 37. Ножницы в качестве оружия. Дуэль скорняка и портного, Йост Амман, 1588 г.

Рис. 38. Навахеро. El Siglo pintoresco, 1845 г.
А вот как испанскую манеру боя на ножах описал известный шотландский политик и дипломат Дэвид Уркварт, посетивший Испанию в 1848 году:
«Житель Севильи, которому я задал вопрос о частых убийствах, поразил меня, отрицая, что они случаются. «То, что вы слышали», сказал он, «это не убийства, а дуэли».
«А как же ножи», возразил я: — он ответил, «Да, нож — это наше оружие; но мы не закалываем, мы фехтуем. У дуэли свои законы, и оружие, это наука». Я подумал, что возможно это фигуральное выражение для грубоватого определения кодекса чести, и попросил его продемонстрировать мне, в чём там заключается наука. «Я не специалист», ответил он, «но если вам интересно, я возьму вас к своему приятелю, которого вы могли бы нанять, так как он лучший боец в Севилье, а со смерти Монтеса, и во всей Андалусии». Я умолял немедленно отвести меня к yuecador, и был проведён во внутреннее помещение, наполненное тюками с контрабандным табаком. Чем мастер и зарабатывал себе на жизнь. Он отказался взять меня в ученики, хотя был не против дать мне пару уроков. При наличии у меня природных данных и при благоприятных условиях, обучению «фехтованию» заняло бы три месяца. Я предложил начать не откладывая, и на следующее утро на рассвете он пришёл ко мне в гостиницу, так как нам была нужна большая комната. В качестве «рапиры» использовался деревянный кинжал, длиной примерно в двадцать сантиметров, напоминавший древний нож для жертвоприношений. Нож удерживался плотно сжатыми пальцами, большой палец располагался вдоль клинка, а лезвие было повёрнуто внутрь.
Вокруг левой руки наматывалась куртка, используемая в качества щита. Мой учитель, принявший стойку, сразу напомнил мне сражающегося гладиатора. Начал он так: «Нож ты должен держать у бедра в правой руке, и никогда не поднимать, пока не будешь готов нанести удар. Финты должны начинаться глазами — глаза, рука и нога должны двигаться одновременно. Смотришь в одну точку, а удар наносишь в другую, и двигайся молниеносно, чтобы нанести порез: corta у huya — ударить и отскочить. Левая рука должна находиться высоко, правая, внизу, колени согнуты, ноги расставлены, ступни направлены вперёд, надо быть готовым отскочить назад или вперёд. Существует три пореза, три защиты и один укол — в нижний уровень, в живот, называемый «St. George au bas ventre». Порез должен идти поперёк плечевой или грудной мышцы, или достаточно низко, на уровне паха, так, чтобы выпустить кишки». Он ничего не знал о нашем фехтовании, был очень удивлён, когда я использовал его, и отметил, какие выгоды приносит обучение этому искусству. В результате, весь курс я прошёл за неделю. В последний день моего пребывания в Севилье он привёл двух мастеров, и мы устроили настоящее сражение, на котором в качестве зрителей присутствовали постояльцы гостиницы. Он похвалил меня, сказав, что опасался меня больше, чем своих двух товарищей, потому что я был подвижней одного, и наносил удары лучше другого.
Стойки, это предмет достойный изучения художника. Это совсем не застывшие позы и острые углы нашего фехтования, но собранные мышцы, сбалансированный корпус, — вместо того, чтобы следить за клинком, тут следят за глазами. Оружие спрятано за рукой и направлено вниз, так, что ни один луч света не упадёт на него. Тут нет боксёрских кулаков и кастетов, нет шлемов и кольчуг крестоносцев, нет римских мечей и щитов. Это выглядит так, как если бы руки человека приравняли к тигриным когтям или кабаньим клыкам. Скорее, это напоминало звериную схватку, чем бой людей. Там были танцующие шаги и сутулая поступь пантеры или льва, хотя, скорее, это была помесь змеи и лягушки, скользящая как первая, и прыгающая как другая.
После промаха правой, ловкий боец может перекинуть нож в левую руку, но когда этот трюк не удаётся, всё неминуемо заканчивается смертью. Метание ножа в противника запрещено правилами. После промаха соперника, можно внезапно бросившись вперёд, пригвоздить его стопу. Самой смертоносной из уловок считается сделать противнику подножку, и бросить его на землю. Плащ или куртка оборачиваются вокруг левой руки, и используются не столько для парирования ударов, как для сбивания предплечья вооружённой руки противника, чтобы его атаки не достигали цели. Защищающая рука оберегается от ранений, так как её повреждение оставило бы левую сторону открытой, а безопасность заключается в контроле вашего противника»
[111].
Испанцы не зря придавали такое важное значение поясу фаха. Давилье предостерегал, что если бы пояс вдруг сполз или ослабел, то «тирадор мог оказаться в большой опасности, так как противник не преминул бы воспользоваться его тяжёлым положением»
[112]. Популярность ударов в живот — виахес отмечали многие авторы. Например, Василий Боткин писал, что в народных дуэлях самым ловким ударом считалось разрезать живот до внутренностей
[113]. Лицо и живот в качестве приоритетных целей указывали в своих фехтовальных трактатах и мастера XV-XVI столетий. Так, Эгертон Кастл, вспоминая известного фехтовального мастера XVI столетия Винченцо Савиоло, отмечал, что в своей работе Савиоло редко говорил об ударах в грудь и гораздо чаще — об ударах в живот и лицо. Лицо было желанной целью, так как оно наименее защищено, а также потому, что боль, залитые кровью глаза и кровавый привкус во рту вызывают страх
[114]. Живот и пах всегда считались среди дуэлянтов «лакомым кусочком», и это тоже легко объяснимо. В брюшине, также как и в грудной полости, расположены внутренние органы, и её пронизывает множество крупных кровеносных сосудов. Но в отличие от грудной клетки, живот не защищён корсетом из рёбер, часто останавливавших и отклонявших клинок или менявших траекторию удара. Кроме этого, в истории дуэлей нередки были случаи, когда клинок застревал между рёбрами, оставляя дуэлянта безоружным.
Практически любое колотое ранение живота повреждало крупную артерию или паренхиматозный внутренний орган, что в обоих случаях вызывало массивное кровотечение в брюшную полость. Кроме этого, клинок вносил в брюшину инфекцию, что в условиях развития медицины той эпохи, учитывая отсутствие антисептиков и царившую антисанитарию, в большинстве случаев приводило к перитониту и практически не оставляло жертве шансов на выздоровление. Ведь не зря в 1799 году при составлении инструкции по штыковому бою для австрийских войск Александр Васильевич Суворов настойчиво рекомендовал колоть неприятеля «прямо в живот»
[115]. А уж легендарный генералиссимус знал в этом толк. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский писал, что при обороне Севастополя русских солдат учили бить штыком только в живот и сверху вниз, а ударив, опускать приклад, так чтобы штык поднимался вверх, выворачивая внутренности. По свидетельству автора, таких раненых было бесполезно относить в госпиталь
[116]. Поэтому не случайно после принятия первой Женевской конвенции 1864 года и создания в 1867 году Российского общества Красного Креста мировая общественность потребовала запретить применявшиеся преимущественно русскими штыковые удары в живот, порекомендовав заменить их ударами в грудь. Как прекрасно известно, брюшина эластична, и вследствие этого удар, нанесённый в живот даже ножом с небольшим клинком, мог оставить раневой канал, превышающий длину оружия в полтора, а то и в# два раза. Также стенка брюшины пронизана множеством нервных окончаний, благодаря чему любое ранение в живот очень болезненно.
Всё это было прекрасно известно ещё в античности. Не зря именно удары в живот предпочитали вооружённые короткими колющими мечами греки, спартанцы и римляне. Как правило, удар наносился снизу вверх, под нижний край щита. Подобная техника описана ещё в «Финикиянках» Еврипида, в поединке между Этеоклом и Полиником:
«Осев на ногу левую, свой щит приподнял он и правой сделал выпас..
А так как враг при этом не успел, подвинув щит, закрыться от удара,
Ему в живот уходит лезвие…Тот падает на землю, кровь ручьями
Из раны хлынула, а победитель-царь, считая бой оконченным, бросает
Кровавый меч и голою рукой доспех снимать с поверженного брата
Нагнулся, щит оставив на земле…»[117].
Аналогичную манеру нанесения ударов упоминает и Тит Ливий в описании легендарного единоборства между потомком древнего патрицианского рода Титом Манлием и галлом. Манлия, который был среднего роста, совершенно не смутил гигант-галл. Согласно Ливию, он взял большой пехотный щит и вооружился испанским мечом. Возможно, речь шла о принятом на вооружение римлянами коротком испанском, вернее, иберийском прямом мече «гладиус хиспаниенсис», более известном просто как «гладиус». Хотя, учитывая, сколько образцов вооружения Рим перенял у испанцев, не исключено, что под мечом Тит Ливий имел в виду другой, не менее популярный образчик иберийского оружия — использовавшийся в римской армии широкий кинжал, пугио
[118] Но вернёмся к Титу Ливию. Далее произошло вот что:
«Когда бойцы стали друг против друга между рядами противников и столько народу взирало на них со страхом и надеждою, галл, возвышаясь, как гора, над соперником, выставил против его нападения левую руку со щитом и обрушил свой меч с оглушительным звоном, но безуспешно; тогда римлянин, держа клинок острием вверх, с силою поддел снизу вражий щит своим щитом и, обезопасив так всего себя от удара, протиснулся между телом врага и его щитом; двумя ударами подряд он поразил его в живот и пах и поверг врага, рухнувшего во весь свой огромный рост»[119].
Тит Манлий не стал глумиться над поверженным врагом, и только сорвал с его шеи трофей — ожерелье-гривну, торквес, за что и получил прозвище Торкват — Ожерельный. Под щит, в живот предпочитали бить своими кривыми сиками и фракийские гладиаторы. Благодаря дошедшим до нас многочисленным иконографическим источникам мы и сегодня можем увидеть большую часть технического арсенала гладиаторов. Так как искривлённая форма сики значительно ограничивала возможности нанесения ударов, то альфой и омегой техники траексов были нисходящие уколы через верхний край щита в шею или за ключицу, в подключичную артерию, и восходящие удары под нижний край щита, снизу вверх, в пах и живот. В первом варианте «клюв» клинка сики смотрел вниз, во втором — вверх.
Прекрасно видна подобная техника на датированном І-ІІ веками нашей эры терракотовом римском барельефе из Британского музея. На нём изображён поединок двух гладиаторов, фракийца и гопломаха, и фракиец запечатлён в момент нанесения гопломаху нисходящего удара сикой через верхний край щита. Фракиец, также готовящийся нанести подобный удар, изображён и на другом барельефе, найденном в Помпее, на месте, где находилась известная гладиаторская школа. Однако абсолютно те же технические элементы мы видим и на скульптурах и барельефах, изображающих солдат Рима. Так, на одном из подобных барельефов, украшающих колонну Траяна, мы видим римского солдата, который через верхний край щита по рукоятку вонзил кинжал за ключицу фракийскому воину. На другом изображении с этой колонны мы снова видим римского солдата, на этот раз бьющего фракийского воина, вооружённого боевым серпом-фальксом, под щит в живот, снизу вверх. Трудно сказать, привнесли ли эту манеру боя коротким клинком в Рим фракийцы или же сами переняли её у искушённых в воинском ремесле римлян. Хотя, скорее всего, подобная техника и тактика универсальны и всего лишь были продиктованы типом выбранного оружия и размером или формой щита.
На этом мы можем закончить исторические изыскания и вернуться с арен Рима в Испанию золотого века навахи и задаться вопросом, какое оружие держали в руках дуэлянты во двориках Севильи, Мадрида или Малаги. Итак, наваха. Легендарное оружие народных дуэлей. Этот нож многолик. Как следует из второго урока «Пособия для баратеро», называющегося «Имена навахи», среди людей, использующих этот нож, она была известна под разными прозвищами. Я перечислю только часть из них, так как в каждой испанской провинции существовали свои региональные названия. Так, в Андалусии её называли мохоса, чайра и теа, в Севилье те, что подлиннее, — лас дел Сантолио, а в гарнизонах, тюрьмах и среди мадридских баратеро она была известна как корте, херрамиенто, пинчо, хиерро, абанико, алфилер и под многими другими именами
[120].

Рис. 39. Испанские ножи XVIII-XIX в. La Coutellerie depuis l’origine jusqu'a nos jours, Камилл Паж, 1896–1904 гг.
Ричард Форд в своём «Путеводителе по Испании» также упоминал и цыганские названия навахи — гланди, чуло, чурри, ла сердани, качас
[121]. Словарь сленга андалузских цыган, «кало», приводит такие прозвища, как атакаор, балдео, серда, филосо, бачури, де тахамар
[122]. у каталонцев она была известна как эль ганивет или каниф. Пераль Фортон приводит такие названия, как кабритера, чарраска, мачетона, перика. Существовали и игривые метафоры, такие как «корта плума» — «пёрышко» или «мондадиентес» — «зубочистка»
[123]. В стихах испанских поэтов наваха являлась в различных метафорах то как «блесна»
[124], то как «зарница смерти», или «смертоносная птица», которая, «вьёт гнёзда под левой грудью»
[125].
Но, несмотря на обилие названий навахи, некоторые из них появились совсем недавно и являют собой продукт современной коммерческой мысли. Так, например, в работе «Севильская сталь» Джеймс Лорьега приводит такие названия навах, как каррака и севильяна
[126]. Но в действительности о том, что термин «каррака» для обозначения навах существовал в XVIII-XІX веках, нет ни малейшего упоминания. Не существовало и какого-то особого эндемичного типа навахи, специфического именно для Севильи. В испанских музеях можно увидеть огромное разнообразие севильских навах различных форм, типов и размеров, которые невозможно систематизировать по каким-либо особым, характерным именно для Севильи признакам. Каррака же в переводе с испанского всего лишь означает трещотку. Видимо, Лорьега имел в виду, что навахи, замок которых имел особый храповый механизм, при открывании издавали специфический трещащий звук. И действительно, иногда эти ножи упоминались как «наваха с трещоткой». Французы, выпускавшие складные ножи с храповым механизмом, также называли их трещоткой, или «кра-кра». Но ни в одной специализированной работе по навахам это выражение в качестве общеупотребительного, специального или сленгового названия не встречается.
Все подобные навахи классифицировались в Испании как «navaja de muelle», или пружинная наваха, что обычно трактовалось как «складной нож с фиксатором». В испанских источниках каррака, кроме как в значении «трещотки», встречается только в трактовке небольших грузовых и торговых судов исламского происхождения, также известных как харрака
[127]. В современном латиноамериканском сленге, особенно в мексиканской Тихуане, карракой, очевидно, за её скрипучесть, ещё называют тюремную кровать, так называемую шконку
[128]. И тем не менее после выхода книги Лорьеги эти названия прижились и ныне широко используются негоциантами для придания своему товару романтического флёра и экзотического колорита, а бесконечные «карраки», «севильяны» и «малагеньи», бандитским «форсом» своих имён помогают поднимать продажи. Как и другой не менее популярный торговый артикль «бандолера». Хотя, любой посетитель Музея истории бандитизма в андалузском городе Ронда может удостовериться, что испанские бандолерос использовали огромное количество навах всевозможных типов и размеров, которые невозможно объединить в группу по какому-то конкретному характерному признаку.
Существует любопытная легенда, хотя и не связанная с ножами, которая гласит, что трещотки-карраки играли важную ррль в религиозных обрядах средневековой Испании, находившейся в тот период под мавританским владычеством. Согласно этой легенде, деревянные трещотки в виде ящичков на ручке с зубчатым колесом внутри выполняли функцию церковных колоколов, разбитых маврами. Но не исключено, что эта легенда имеет под собой реальную основу. Ахмед ибн Мохаммед аль-Маккари в своей работе об истории мавританских династий в Испании упоминает, что по приказу Мусы и на самом деле разрушали церкви и разбивали колокола
[129] и, более того, в одной известной мечети бронзовые лампы были изготовлены из переплавленных колоколов
[130].
Известный коллекционер и специалист по навахам, автор нескольких фундаментальных работ по испанским ножам маркиз Пераль Фортон утверждает, что первые упоминания о навахах встречаются в работах XIII–XIV веков. Так, например, среди основных источников он отмечает вышедшую в 1330 году книгу «Libro de buen amor», и изданную в этот же период «Conde Lucanor» Хуана Мануэля. Также он ссылается на цитату из датированной 1537 годом работы «Venesis Tribunal», которая звучит как «жестокой навахой вскрыл нежную грудь», якобы доказывающую бытование навах как боевых ножей
[131] Но я считаю, что всё это лишь свидетельствует о существовании термина, но не о бытовании навахи в привычном для нас виде и трактовке. Хотя Фортон и утверждал, что слово «наваха» в значении «нож» использовалось уже в XII–XIII веках, однако я полагаю, что, вероятней всего, речь шла о бритве или скальпеле, так как вплоть до середины XVII столетия термин «наваха» применялся исключительно в этой интерпретации. В пользу моего предположения косвенно свидетельствует и приведённая фраза из «Venesis Tribunal» — возможно речь шла именно о хирургической операции.

Рис. 40. Каррака
Конкистадор Берналь Диас дель Кастильо в 1632 году писал, что индейцы в бою использовали двуручные мечи со вставленными остриями, которые он называл «эспадас де навахас» — бритвенные мечи. И в самом деле, самое популярное оружие Месоамерики, легендарная индейская палица — макуауитль, по обеим сторонам была усажена острыми как бритва прямоугольными осколками обсидиана
[132]. А вышедшее в 1644 году пособие по псовой охоте и охоте с луком трактовало «навахас» как «кабаньи клыки
[133] Но вскоре интерпретация этого термина начала меняться, и через шестнадцать лет испано-французский словарь, изданный в 1660 году, уже переводит «наваху» как «бритву»
[134]. Хотя этот словарь всё ещё упоминает термин «навахас де хавали» в значении кабаньих клыков, но «навахаду» уже трактует в двух вариантах: и как ранение кабаньими клыками, и как удар бритвой. Впервые появляется слово «навахон», которое в этом словаре толкуется как «острый как бритва кинжал», или «штык»
[135]. Как правило, в XVII–XIX вв. под этим термином понимали нескладную наваху. Или, точнее, большой кинжал или нож в форме традиционной для навахи.
Многие уважаемые и авторитетные исследователи, включая Пераль Фортона, ведут родословную народного ножа Испании именно от опасной бритвы. Так, Фортон считает, что трансформация латинского «новакула» («бритва») в «наваху» началась в XIII веке, перейдя в форму «навакула», затем «навалия» и только после этого окончательно приняв свой современный вид
[136] Мне эта версия представляется достаточно стройной и неплохо аргументированной. В Средние века подобные бритвы являлись главным инструментом городских цирюльников, в чьи обязанности входили не только стрижка и бритьё клиентов, но и пускание крови, услуги дантиста, а также небольшие хирургические операции. Изображения этих архаичных навах можно встретить во многих европейских манускриптах XIII–XIV столетий. Так, например, лежащая на столе бритва-наваха изображена на иллюстрации к датированному 1382 годом труду по хирургии Роландуса Парменсиса. Такой же инструмент используется в качестве скальпеля на гравюрах к вышедшей в 1363 году работе знаменитого Авиньонского хирурга, Ги де Шолиака, «La Grande Chirurgie». Проведение хирургического вмешательства с помощью складной бритвы мы встречам и в более поздних источниках — например, на картине Яна Сандерса ван Хемессена 1555 года. В руках хирурга отчётливо видна предтеча и прототип грозного дуэльного ножа — складная бритва, описанная в медицинских трудах той эпохи, как «navaja de barba», или в просторечье «бритва цирюльника».
Рукоять бритвы на картине Хемессена идентична тем, что ставились на навахи в последующие три столетия — изогнутая, утончающаяся к хвостовику. И клинок, и рукоять типичны для опасных бритв и хирургических инструментов позднего Средневековья, которые можно увидеть в музеях Европы и справочниках-определителях — формой они напоминают нож с клинком «овечье копытце», известный ныне как нож моряка. Подобные складные бритвы-скальпели, датированные началом XIV столетия, также можно увидеть и в монографии Саймона Мура об истории производства складных ножей
[137]. Складные бритвы, идентичные хирургическому инструменту изображённому на картине Хемессена, были подняты археологами и с затонувших в 1622 году испанских галеонов «Nuestra Señora de Atocha» и «Santa Margarita». Возможно, они использовались судовыми цирюльниками в качестве врачебных инструментов для оказания помощи морякам во время тяжёлых многомесячных переходов
[138].
На иллюстрации к вышедшей в Париже в 1542 году работе известного итальянского юриста XVI столетия Джованни Андреа Алчиато «Emblematum И-bellus» — «Книга эмблем» аллегорическая фигура девушки, символизирующая «In Occasionem» — «Возможность», держит в руке наваху, именуемую в подписи к гравюре «novacula» — бритва. Художник изобразил инструмент цирюльника в знакомой нам канонической ипостаси — с так называемым «скимитарным» клинком, или выемкой на обухе в виде «щучки»
[139]. Многие авторы, пишущие о навахах, крайне любят ссылаться на эту иллюстрацию в качестве иконографического источника, якобы свидетельствующего о бытовании подобных ножей в XVI веке. Такая же скимитарная наваха появляется и в издании 1634 года. Но, например, на иллюстрации к этому же изданию, вышедшему несколько ранее, в 1531 году, бритва в руке девушки имеет клинок трапециевидной формы
[140]. В изданиях 1548 и 1614 годов «In Occasionem» уже сжимает в руке нечто напоминающее складной серповидный нож, известный как «садовый», а на изображении из «Emblematum libellus» 1618 года, мы снова видим бритву трапециевидной формы. Поэтому могу предположить, что форма ножа на иллюстрациях совершенно не связана с какими-либо реальными образцами и менялась произвольно, в зависимости от фантазии иллюстратора. Полагаю, что знакомый нам хрестоматийный облик традиционной навахи начал формироваться лишь в конце XVII столетия. Складные ножи той эпохи уже несли на себе большую часть элементов декора, который мы видим на испанских навахах и по сей день. Эти ранние навахи не редкость в коллекциях и часто появляются на торгах известных оружейных аукционов, таких, например, как Hermann Historica.

Рис. 41. Бритва цирюльника. Голландия, XV в.
Рис. 42. Наваха поднятая с испанского галеона Nuestra Senora de Atochа, затонувшего в 1622 г.

Рис. 43. Emblematum libellus (Книга эмблем), 1542 г.

Рис. 44. Emblematum libellus (Книга эмблем), 1618 г.
Говоря о родословной навахи, я не могу согласиться с версией Пераль Форто-на о её эндемичном испанском происхождении. Думаю, в большей степени миф об испанской исключительности этого типа ножей обязан своим появлением испанским морякам эпохи Siglo de Ого — Золотого века Испании, устраивавших поножовщины во всех портовых тавернах Старого и Нового Света, а также стараниям художников и писателей костумбристов XIX столетия. Существенный вклад в формирование образа навахи как традиционно испанского ножа внесли и такие романисты, как Сальгари со своим «Чёрным корсаром» и Проспер Мериме, а затем и Бизе с бессмертными героями «Кармен». Хотя на самом деле складные ножи подобной формы и конструкции встречались уже и в имперском Риме I–II веков нашей эры и на драккарах викингов в VIII–IX веках. Как мы видим из манускриптов XIII–XV веков, не редкостью были эти «навахи» также и в Германии, Голландии, Италии и других странах Западной Европы.
Надо заметить, что считающийся каноническим клинок с выемкой на обухе, встречался на «боевых» дуэльных навахах значительно реже, чем это принято считать. Я думаю, что фиксация этого типа клинка в массовом сознании скорее обусловлена его популярностью не у дуэлянтов, а у иллюстраторов, театральных реквизиторов, а в последние десятилетия и у кинорежиссёров. Могу предположить, что далеко не последнюю роль в этом сыграли его хищный профиль и зловещий антураж. Подобные метаморфозы в своё время произошли и с легендарным ножом боуи, когда производители решили, что в маркетинговых целях следует изменить форму клинка незамысловатого прототипа, выглядевшего как заурядный кухонный нож, и придать ему более «опасный» вид.
Но порой, мирные «скимитарные» навахи резали не только хлеб или табак для самокруток. Некоторые из этих ножей выглядывали из-за пояса известных испанских бандитов, и благодаря своим прославленным владельцам даже вошли в историю. Так, например, в альбасетском «Museo de Lietor» хранится образец классической альбасетской навахи со «щучкой», принадлежавшей известному бандиту Рамону Гарсиа Монтесу, более известному как Рамон Рош, промышлявшему в этих местах в конце XIX столетия. Рош, родившийся в Монтеалегре-дель-Кастильо в 1833 году, славился среди местных жителей как романтический и щедрый герой. Как и большинство персонажей народного эпоса, он пользовался всеобщей любовью и уважением. Погиб Монтес в 1891 году от пуль гражданской гвардии и был похоронен в Лиеторе
[141].
Когда в результате принятия в Испании безжалостных антиоружейных законов, пальму первенства перехватили фабрики Тьера и Шательро, то перед выходом на испанский рынок французские негоцианты, похоже, прекрасно знакомые с испанскими менталитетом и вкусом, сделали акцент на производство навах с клинком более зловещей и хищной «скимитарной» формы. Стараниями тьерских дизайнеров, почти половина клинка превратилась в жуткий шип с углом на обухе, выполнявшим функцию ограничителя. В результате этих метаморфоз, конструкция клинка стала напоминать «чуру» — нож афганцев из племён Хайберского перевала. Французская наваха марки «Валеро Хун» с подобным плотоядным профилем была верной спутницей ещё одного, не менее прославленного бандолеро Франсиско Лопеса Хименеса, известного как Кантильянский лодочник, он же, Андрес-лодочник или просто, Курро Хименес. Он родился в Кантильяне в 1819 году и слыл таким же романтическим героем и народным любимцем, как и Рош. В 1849 году Курро разделил судьбу своего соратника по нелёгкому ремеслу и был застрелен солдатами гражданской гвардии
[142]. Почти через 150 лет после смерти он стал героем невероятно популярного телевизионного сериала, который шёл в Испании в 1976–1979 годах. Все испанские мальчишки играли в благородного и весёлого Курро, а магазины детских игрушек были забиты пластмассовыми копиями неразлучной навахи Андреса-лодочника. И испанское поколение 60-70-х, вспоминая детство, в первую очередь ностальгирует о пластмассовых навахах Курро.
Но предприимчивые и дальновидные оружейники из Тьера и Шательро решили не ограничиваться хищным профилем клинка и продолжили драматизацию антуража своих изделий, экспортировавшихся на рынок Испании и Латинской Америки. Следующим маркетинговым ходом стало придание навахе сходства со змеёй. Для этого достаточно было обыграть популярный девиз, традиционно гравировавшийся испанцами на клинках своих ножей, который гласил: «От укуса этой змеи нет противоядия». И сама вытянутая, изогнутая и сужающаяся к «хвосту» форма навахи просто взывала к подобной трактовке. Некоторые авторы считают, что для придания навахе большего сходства со змеёй её рукоятку французы стилизовали под форму, характерную для одной из самых опасных представительниц вида — гремучей. Так, верхняя часть больстера якобы изображала плоскую голову «гремучки», а хвостовик рукоятки, украшенный шариками, должен был символизировать печально известную трещотку на конце хвоста.
Кроме этого, для довершения образа на храповый замок навах стали добавлять зубья, что не имело рационального объяснения и не несло никакой практической нагрузки. Но зато благодаря этому новшеству теперь при отрывании наваха издавала грозный звук, сходный с тем, что издаёт с помощью трещотки на хвосте рассерженная змея. Этот тип рукояток навах так и называется во французской оружейной традиции — «queue de crotale» — «хвост гремучей змеи». Как писал в 1902 году аделаидский «Advertiser»: «Если наваха снабжена трещоткой, то при открывании она издаёт звук, напоминающий предостережение гремучей змеи. Это добавляет драматизма и демонстрирует любовь к хвастовству и позёрству, что так типично для испанцев»
[143].

Рис. 46. Мавританская лампа. The Industrial Arts in Spain, Хуан Рианьо, 1879 г.
Иногда даже встречаются французские навахи, полностью стилизованные под гремучую змею. Хотя, согласно версии автора «Индустриального искусства Испании» Хуана Рианьо, ряд шариков на конце рукоятки навахи мог быть скопирован с традиционных мавританских масляных ламп, распространённых на Иберийском полуострове в период арабского владычества
[144]. И действительно, судя по изображениям этих бронзовых ламп, не исключено, что именно они и послужили прототипом при декорировании навах, а французы просто воспользовались этим сходством, разыграв беспроигрышную карту столь любимого испанцами «смертоносного» антуража.
Но всё это не более чем предположения и, возможно, на самом деле этот элемент декора рукоятки имел совершенно другое происхождение. В пользу этих сомнений свидетельствуют и находки складных ножей раннего Средневековья в других странах Европы. Так, например, складной железный нож с бронзовой рукояткой, хвостовик которой стилизован в виде шарика, был найден в Оксфордшире (Англия). Возможно, что такая форма хвостовика была обусловлена простым копированием металлического наконечника ножен.
Формированию наводящего ужас смертоносного образа навахи способствовали и торговцы из бесчисленных оружейных лавок Испании. Так, подобную жутковатую презентацию товара описал в своих воспоминаниях российский офицер Николай Не-ведомский: «Альбацете, городок в Мурсии, славится по всей Испании ножами лучшего закала. Притом Альбасет с такими закоулками, что испанцу, купившему нож, не надо далеко идти, чтоб без опасения испытать на прохожем доброту своей покупки. Зайдите к продавцу ножей. Он разложит их перед вами целыми грудами различной длины и ширины и, если хотите, скажет вам, как употреблять нож сообразно его величине. Когда кабальеро дорого ценит свою кровь и не хочет больше видеть глаз своего неприятеля — какого-нибудь еретика, «нового христианина», то лучше не надо этого маленького ножа. Правда, он немножко больше перочинного ножика, но стоит только крепче схватить рукоятку и наровить концом в спину между плеч, он не повернёт головы, чтобы показать свои глаза тому, кто не хочет видеть его глаз. Этот маленький нож точно такой длины, какая нужна для того, чтобы при ударе в спину между плеч конец дошёл до сердца. О, я вижу, что кабальеро — старый христианин, не любит смотреть в спину своему неприятелю. Вот нож для удара спереди: только стоит его концом коснуться груди, повести руку вниз, и желудок у ног кабальеро! Притом эту наваху можно спрятать за пазуху, как сигару, но когда у кабальеро есть красавица со слабыми нервами, которой не нравится пазуха с ножом, тогда кабальеро может опустить его в сапог правой ноги, разумеется, рукояткой вверх, чтобы в случае надобности стоило только протянуть руку по шву и немножко наклониться… Может быть, кабальеро хочет прославиться в глазах католического короля и всех мадридских красавиц: вот наваха, которую можно смело скрестить с рогами андалузского быка… Может быть, кабальеро не любит, чтобы к нему на улице, на дороге, подходили слишком близко добрые и недобрые люди: вот наваха такой величины, что и старый христианин, увидя её рукоятку, торчащую из-за пазухи кабальеро, скорее возьмёт в сторону, нежели решится посмотреть, каков клинок у такой рукоятки»
[145].
Очевидно, схожая практика продаж была достаточно широко распространена в Испании, так как и Ричард Форд писал в 1855 году, что, согласно местной поговорке, основное предназначение испанского ножа — это «резать хлебушек и людей». Когда испанские ножовщики расхваливали свой товар, то говорили: «Es bueno para matar» («Хорош для убийства»)
[146].
Путешествовавший по Испании Эдмондо Де Амичис описал встреченных им как-то раз на вокзале продавцов ножей и кинжалов, которые предлагали туристам свой товар, так же как в Италии мальчишки предлагали газеты и прохладительные напитки. И сам Амичис и другие путешественники не удержались и приобрели себе ножи, и жандармы даже похвалили одного из них за хороший выбор при покупке. Он вспоминал, как мальчики толклись перед продавцами ножей и кричали: «Купи и мне такой!», а мамы им отвечали: «Я куплю тебе самый большой, но потом». «О, счастливая Испания!» — воскликнул я и с сожалением подумал о наших варварских законах, запрещающих невинное развлечение с небольшим холодным оружием», — с горечью писал Амичис
[147].
Нередко наваха ассоциировалась у испанцев с пистолетом, и её не открывали, а «взводили». Так, по замечанию Форда, щелчок, производимый механизмом фиксатора при открывании ножа, был также приятен уху испанца, как для англичанина звук взводимого пистолетного курка
[148]

Рис. 47. Продавцы ножей. Луис Эскобар, Альбасете, 1927 г.
Учитывая, что в первую очередь наваха была обычным бытовым ножом, использовавшимся для всевозможных хозяйственных нужд, соответственно и размеры её сильно варьировались. Так, например, Василий Петрович Боткин описал типичную наваху как складной нож с лезвием в форме рыбки и клинком длиной четыре вершка, то есть около 18 сантиметров
[149]. Давилье писал, что длинное, остроконечное, как игла, лезвие навахи расширяется в средней части, напоминая по форме рыбу
[150]. Также и согласно Пераль Фортону клинки большинства навах колебались в пределах тех же 18–24 сантиметров
[151]. Что являлось стандартным размером для «navaja de defense», или «navaja de combat» — навах предназначенных для использования в дуэлях. Хотя, дуэльные образцы, которые мне довелось видеть у известного коллекционера холодного оружия месье Жан-Франсуа Лальяра, в закрытом виде достигали и 40–50 сантиметров в длину. Навахи же с клинками, превышавшими в длину 60 см, так называемые «navaja de muestra», или выставочные, несмотря на свой грозный вид практического значения не имели и украшали витрины оружейных лавок
[152]. Для удобства манипуляции такими ножами их вес обычно снижался за счёт сужения клинков и утяжеления рукояток. Таким образом, выставочная наваха скорее выглядела как длинный стилет или как складная шпага. Большие «боевые» навахи получили остроумное прозвище «сантолио», или, вернее, «Санто Олео»
[153]. Антонио Флорес писал в 1848 году, что существует некий вид навах, которые андалусцы называют del Santo Oleo, так как удар её клинка несёт мгновенную смерть и избавляет священника от необходимости совершать соборование умирающего
[154].
Кстати, немало копий было сломано в ожесточённых дебатах по поводу реалистичности длины навах на изображениях из различных иконографических источников. Так, наибольший резонанс в своё время вызвало обсуждение известной гравюры Гюстава Доре, на которой изображён приготовившийся к поединку баратеро. Доре обвиняли в драматизации сценки с помощью навахи гипертрофированных размеров. Праведный гнев критиков был вызван якобы непомерной длиной ножа, который держал в руке навахеро
[155]. Однако, если учесть, что средний рост андалузских мужчин середины XIX века был около 160 сантиметров
[156], и соотнести его с размером ножа на гравюре, то выходит что длина клинка навахи у Доре составляла около 50 см. Хотя это несколько превышало типичные для боевых навах габариты, но и не являлось чрезмерной гиперболизацией.

Рис. 48. Дуэль на навахах «del santolio» (santo oleo). Гюстав Доре, 1865 г.
В 1853 году Теофиль Готье в своих путевых заметках об Испании писал, что длина навах колебалась от десяти сантиметров до метра и что некоторые махо таскали ножи, в открытом виде не уступающие по размерам сабле
[157]. И Давилье, описывая размеры этих ножей, заметил, что некоторые навахи достигали более ярда в длину
[158]. И речь шла явно не о выставочных декоративных образцах. Джозеф Таунсенд, посетивший Испанию в 1786–1787 годах, вспоминал, как его проводник приобрёл в одной из оружейных лавок Гуадикса наваху с сорокасантиметровым клинком, удерживаемым мощной пружиной. «И хотя я первый раз держал в руках подобное оружие, моё воображение тотчас же подсказало мне, в каких целях оно использовалось», — писал Таунсенд
[159].
При обсуждении этой гравюры звучали и обвинения Доре в плагиате. В качестве доказательства приводилась картина испанского художника-костумбриста Антонио Медина Серрано, на которой изображена андалузская бытовая сценка, одним из персонажей которой является тот же самый баратеро, что и на гравюре Доре, но с одной разницей — его наваха значительно меньше. Обвинители художника утверждали, что именно у Серрано Доре и украл этот сюжет, для драматичности увеличив наваху. И действительно, оба баратеро похожи до мельчайших деталей, как однояйцевые близнецы. Но у этой теории есть одно серьёзное «но»: испанский художник Антонио Медина Серрано, известный под псевдонимом Антонио Медина, родился… в 1944 году, через 71 год после смерти Гюстава Доре.

Рис. 49. Бретёр с навахой. Гюстав Доре, 1865 г.

Рис. 50. Жители Кордовы. Гюстав Доре, 1865 г.
Если бы обвинители Доре удосужились взглянуть на биографию автора «первоисточника», то выяснили бы, что наш современник Серрано учился в Школе керамики, а затем в Школе изящных искусств Сан-Фернандо. Увлекался реставрацией живописи костумбристов XIX века, что нашло отражение в его собственных работах. В том числе в качестве образцов для подражания он использовал полюбившиеся хрестоматийные образы, как это и произошло с баратеро Доре. В 1983 году он открыл свою первую индивидуальную выставку, — серию полотен с жанровыми сценками из жизни Мадрида. Серрано работал преимущественно в фольклорном жанре, любовь к которому приобрёл в период реставрации картин Фортуна, Мадрасо, Хименеса Аранда и других мастеров XIX века. Таким образом, приходится констатировать, что не Доре увеличил, а Серрано уменьшил оружие баратеро. Тем не менее, это заблуждение продолжает жить и кочевать по различным изданиям. Так, например, мы можем найти эти два изображения вместе даже в работе Пераля Фортона «La navaja española antigua»
[160].
Зная склонность испанцев к драматическим эффектам и их патетичность, можно было бы предположить, что одним приданием навахе сходства со змеёй всё не ограничится. Следующим на очереди элементом декора, предназначенным для привлечения экзальтированных покупателей, стали продольные бороздки на клинках, заполняемые красной краской, призванной имитировать стекающие по лезвию ручьи крови
[161] Не один путешественник, побывавший в Испании, приобрёл наваху с клинком, украшенным «кровавой» гравировкой, подразумевающей запёкшуюся кровь, и с угрожающим мотто
[162].
Мотто. Конечно же, этим ножам не хватало завершающего аккорда, вишенки на торте. Ими стали выгравированные и вытравленные на клинках высокопарные девизы, доставшиеся навахам в наследство от их грозных предшественниц — боевых шпаг. Некоторые авторы считают подобные гравировки исключительной привилегией «благородного» оружия нобилей, но это не более чем расхожее заблуждение. Даже столь популярный на клинках старинных толедских шпаг высокопарный девиз «No me saques sin razón ni me envaines sin honor», что значит «Не доставай меня без причины, не прячь без чести», перекочевал на навахи. Кстати, саблей с толедским клинком, украшенным подобной гравировкой, был вооружён печально известный генерал Кастер, погибший в сражении с объединёнными силами индейцев в битве при Литл-Бигхорн в июне 1876 года
[163]. Вот лишь небольшая часть подобных девизов на навахах, которые приводит Пераль Фортон:
«Viva mi dueno!» — «Да здравствует мой господин!» («Слава моему господину!»);
«Viva el honor de mi dueno!» — «Да здравствует (славься) честь моего господина!»;
«Viva el valor de mi dueno i senor!» — «Славься доблесть моего господина и хозяина!»;
«Vivan mis duenos valerosos, que quien solo a mirarlos se atreviere sen, mis colmillos venenosos!» — «Да здравствуют мои отважные хозяева! Кто осмелится взглянуть на них, почувствует мои ядовитые клыки!»;
«Viva la libertad!» — «Да здравствует свобода!»;
«Viva Figueras!» — «Да здравствует Фигерас (город в Каталонии)!»;
«Viva el amor!» — «Славься, любовь!»;
«Soy de ипо solo» — «Я принадлежу лишь одному»;
«Soy de mi dueno у senor» — «Я принадлежу моему владельцу и господину»;
«Defensa de mi dueno» — «Защищаю своего господина»;
«Soy defensa de mi dueno» — «Я защищаю своего господина»;
«Soy defensa del honor de mi dueno» — «Я защищаю честь своего господина»;
«Soy defensa de mi dueno i senor» — «Я защищаю своего владельца и господина»;
«Soy de mi dueno, a quien sirvo» — «Я принадлежу моему владельцу и служу ему»;
«Soy defensora de mi dueno solo у viva» — «Я защитница своего хозяина»;
«De mi dueno sola» — «Принадлежу только владельцу»;
«Si esta vibora te pica no vayas por unguento» — «Если эта змея ужалит, припарки не помогут»;
«Si esta vibora te pica no acudas a la botica» — «Еслиэта змея ужалит, аптека уже не понадобится»;
«Si esta vibora te pica no vayas por unguento a la botica» — «Если эта змея ужалит, аптечные припарки не помогут»;
«Al que esta sierpe, рог azar, le pica, que no busque remedio en la botica» — «Если вдруг эта змея ужалит, не найдёшь противоядие в аптеке»;
«Sinо а ипа dama» — «Я служу даме»;
«Prendida еп la liga defiendo a mi senora» — «Затаилась за подвязкой и защищаю свою госпожу»;
«No те abras sin razon ni mi cierres sin honor» — «Не раскрывай меня без повода, не складывай без чести»;
«El que desnuda у еп accion те viere, prevenga testamento у sepultura, que mi hoja siempre mala cuando hiere» — «Когда меня достанут и пустят в ход, готовь завещание и могилу — мой клинок не знает пощады»;
«El hombre propone у Dios dispone» — «Человек предполагает, а Бог располагает»;
«Soy sola para cortar» — «Я только для пореза»[164].
Ричард Форд пишет, что, когда в 1820 году распалась испанская империя, роялисты гравировали на своих ножах девизы: «Peleo a gusto matando negros», а на обороте — «Миего рог mi Rey» («Убийство мерзавцев — это удовольствие!», «Я умру за моего короля!»). Выражения «negros» и «carboneros» использовались в Испании для обозначения бесчестных политиков
[165].
Но навахи славились не только экзотическим видом и патетическими гравировками — нельзя не упомянуть и высокое качество испанских клинков. Пераль Фортон отмечал, что важнее всего был материал, используемый для изготовления клинка, его обработка, качество — например, великолепная сталь из Мондрагона
[166]. Проверка качества клинка навахи, как правило, была очень тщательной, но, конечно же, это зависело от способностей кузнеца. Например, высококвалифицированные кузнецы с хорошей репутацией из Альбасете, чтобы продать нож, должны были пробить монету, не повредив остриё ножа
[167]. Также и Петерсон в своих «Кинжалах и боевых ножах Западного мира» писал, что, несмотря на низкое происхождение и предназначение этих ножей, сталь их была прекрасной и отличалась хорошей закалкой
[168]. Качество стали навах отмечали многие авторы, побывавшие на Пиренеях в XIX веке. Посетивший Испанию русский офицер писал: «Вообще эти ножи худой работы, но драгоценны по своему закалу — трудно притупить конец такого ножа, который прорезывает с одного раза немелкую серебряную монету»
[169].
Несмотря на прекрасную закалку своих ножей, испанцы обращались с ними бережно, старались лишний раз не использовать «всуе» и предпочитали не давать в чужие руки. Воевавший несколько лет против Наполеона бок о бок с испанцами корнет второго волонтёрского казачьего полка барона Боде Николай Неведомский вспоминал: «Испанец не отрежет своим ножом куска мяса, ломтя хлеба — он бережёт свой нож против человека. И в голоде, бывало, испанец сперва несколько раз подумает, а потом уже решится своим ножом отрезать себе хлеба или мяса. Угрюмое non, caballero! Или ругательное carajo! были ответом русскому, попросившему ножа со всей бивачной учтивостью»
[170].
Как я уже упоминал, Пераль Фортон утверждает, что наваха — специфическое и характерное только для Испании оружие, имеющее эндемичное испанское происхождение, и что навахообразные ножи начало шествие по миру именно из Испании. Насчёт эндемичности и уникальности не соглашусь, однако приходится констатировать, что и действительно, до XIX века это оружие не было особо распространено в других уголках Европы или в Азии. Хотя уже в XVIII веке типично испанские навахи производились в Англии, Германии, Франции, Португалии, Италии, Югославии и Греции. Правда, в Северной Африке её не знали. В Латинской Америке, и особенно в Мексике, наваха была широко известна, так как многие испанские оружейники, особенно выходцы из Толедо, когда в Испании кузнечное искусство пришло в упадок, решили попытать счастья в Новом Свете. Производились навахи и на Апеннинах. Хотя навахи выпускались и в некоторых других регионах, но особой славой пользовались ножи, изготовленные в испанских провинциях Альбасете, Альмерия, Куэнка, Мурсиа, Толедо, Барселона и Сарагоса. В Новом Свете наваха появилась в конце XVI века. В Пуэбло-де-Лос-Ангелос в Мексике в этот период процветало производство холодного оружия, основанное оружейниками с Пиренейского полуострова, работавшими согласно традициям и обычаям толедских мастеров прошлого
[171]. Куда только не закидывало испанские навахи, и какие только причудливые формы они не принимали вдали от родины! Так, Камил Паж в своей работе описывает навахи боснийского и турецкого производства
[172]. В Узбекистане местные версии каталонской навахи известны под именем чол гюзар. И большинство дуэльных ножей соседней Италии несёт на себе явные следы испанского влияния.
И в заключение пара слов о нескладных ножах, использовавшихся в поединках, — кучийо, пуньялах и навахонах. Давилье писал, что испанский кинжал крайне напоминал корсиканский стилет, клинок его иногда имел множество отверстий, а лезвие было зазубрено с таким расчётом, чтобы оставить более опасную рваную рану. Кинжал был излюбленным оружием моряков и преступников, и от навахи он в первую очередь отличался тем, что использовался преимущественно для уколов. У испанского кинжала была короткая и толстая рукоять, формой напоминающая яйцо, и обоюдоострый или четырёхгранный клинок
[173]. Согласно «Пособию для баратеро», техника владения кинжалом была практически идентична той, что использовалась при работе навахой, и не имела каких-то особых специфических нюансов, поэтому подробней останавливаться на ней мы не будем
[174].
По мнению некоторых авторов, таких как Пераль Фортон, декор испанских ножей XVIII-XIX веков несёт на себе следы вестготского и мавританского влияния, что особо заметно в украшении рукояток
[175]. О мавританских мотивах в испанском оружии упоминает и Хуан Факундо Рианьо в своей книге «Индустриальное искусство Испании», изданной в 1890 году. Так, например, он писал, что в Альбасете находилось несколько производителей оружия, славящихся своей закалкой ножниц, кинжалов и ножей, форма клинков которых не может скрыть мавританское происхождение. Изгнав морисков, испанцы сохранили их производства, и нередко можно встретить ножи и кинжалы, изготовленные в католической Испании в конце XVIII века, но которые, тем не менее, покрыты арабскими надписями и стихами из Корана. Так, Рианьо как-то попал в руки подобный кинжал, на одной стороне которого была гравировка на арабском: «Я непременно убью своих врагов с помощью Аллаха», а на другой: «Фабрика навах Антонио Гонзалеса, Альбасете, 1705»
[176].
Нельзя сказать, что правителей Испании не беспокоил задиристый и строптивый характер подданных, их страсть к независимости и привычка решать все проблемы ударом ножа. Пока королевские эдикты не лишили простых испанцев права на ношение оружия, у законодательной власти не было и нужды издавать какие-либо особые указы, направленные на борьбу с ножами, а следовательно, и с дуэлями на них. Но вскоре всё изменилось. Можно смело сказать, что вся истории Испании Нового времени — это бесконечная череда попыток испанских монархов обуздать буйный нрав своих несговорчивых и темпераментных подданных, которые в свою очередь старательно избегали монаршей опеки и заботы, ревниво оберегая свои древние привилегии.

Рис. 51. Испанский охотничий нож. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna, Флоренция, 1983 г.
Первым шагом, призванным регулировать производство и оборот холодного оружия, а также работу ремесленных гильдий, изготавливающих это оружие, очевидно, можно считать 38-й, 39-й, 40-й и 41-й законы Устава Саламанки, принятые в правление первого испанского монарха из Бургундской династии, короля Кастилии Альфонсо VII, правившего с 1127 по 1157 год. Среди запрещённых к ношению предметов, таких как мечи и копья, законы уже упоминают и «cochiello con pico», или, в переводе со старокастильского, «остроконечные ножи»
[177].
В последующие годы указы и эдикты, регулирующие оборот различных образчиков холодного оружия, издавались достаточно редко, порой их разделяли десятки лет и даже столетия. Так, подобные монаршие указы появлялись в 1420,1512,1527 и 1591 годах. Но эти ордонансы не столько уделяли внимание дуэльным забавам кабальерос, сколько регулировали и регламентировали работу производств и гильдий оружейников, как, например, изданный Карлосом II указ о Толедской гильдии оружейников от 1689 года
[178].
Началом вяло тянувшейся с переменным успехом, то затухавшей, то разгоравшейся, то либеральной, то предельно жестокой, многовековой кампании по разоружению испанцев, вероятно, можно считать закон, изданный на одном из Канарских островов, Тенерифе, входившем в испанскую юрисдикцию. Этот принятый в 1707 году закон гласил, что «запрещено носить холодное оружие в здании муниципалитета, в мясной и рыбной лавке, в доме терпимости или играя в шары». Маврам же, неграм и рабам позволялось иметь только затупленные ножи не длиннее пяди, то есть восемнадцати сантиметров
[179].
После этого испанских законодателей прорвало. Возможно, причиной стало то, что с 1700 по 1715 год Испания находилась под сильным французским влиянием, а французская исполнительная власть, в отличие от испанской, как мы увидим в следующих главах, прекрасно умела наводить порядок и жёстко контролировать соблюдение законов. Следующий эдикт увидел свет всего через 14 лет. Монарший указ основателя испанской линии Бурбонов, Филиппа V, изданный в Лерме 21 декабря 1721 года, гласил, что на всей территории Испании запрещено использование ножей и кинжалов, а при поимке виновные в нарушении сего указа будут приговорены к 30 дням тюрьмы, 4 годам ссылки и 12 дукатам штрафа
[180]. А меньше чем через год, в 1722 году, Совет Кастилии дополнил этот указ следующей фразой: «Мастерам-оружейникам предписывается не изготавливать ножи и ломать уже готовые»
[181]!
Этот указ ударил по кинжалам, а также нанёс серьёзный урон производству столовых приборов. Джозеф Баретти отметил, что Филипп V под страхом жестоких наказаний запретил каталонцам носить ножи и использовать любые другие виды оружия. Даже на обеденном столе им разрешалось иметь не более одного столового ножа, да и тот должен был быть прикован к столу железной цепочкой
[182]. Также и Джон Адамс писал в своих путевых заметках о каталонцах, что среди прочих ограничений им было запрещено носить традиционные шляпы, белую обувь и большие коричневые накидки. Кроме этого при свете дня они не осмеливались носить какое-либо оружие — в каждой таверне был один-единственный нож, прикованный цепью к столу, так чтобы все могли его использовать
[183]. Могу предположить, что эта драконовская мера являлась следствием подавленного в 1714 году восстания каталонцев, о которых Боткин сказал, что они «tienen mucho valor у gran gusto рог las batallas» («очень храбры и большие охотники до сражений»). Также после этого восстания их лишили всех привилегий
[184].
Не успели оружейники Толедо и Альбасете схватиться за голову, подсчитывая убытки, как законодатели нанесли очередной удар, на этот раз по покупателям их продукции. Королевский указ от 19 марта 1748 года запрещал на всей территории Испании такое оружие, как кинжал, трёхгранный стилет, наваха, дага, ножи с большим и маленьким фиксированным клинком и карманные ножи. Если преступник был благородного происхождения, то его приговаривали к 6 годам тюрьмы, а если низкого — то на тот же срок к каторжным работам в рудниках. Такие же наказания распространялись и на мастеров-оружейников, хозяев магазинов, торговцев и даже старьёвщиков, а уже изготовленные ножи должны были быть затуплены или вывезены из Испании. Эти кары также распространялись и на поваров, слуг, экономов и кучеров в случае их появления с оружием вне службы
[185].
По формулировкам этих законов можно проследить всю эволюцию оружия, использовавшегося в народных дуэлях. Закон от 13 марта 1753 года запрещал как маленькие, так и большие остроконечные навахи, в которых применялась пружина или поворачивающееся кольцо, секретный или другой механизм, обеспечивавший удержание клинка в раскрытом виде. А также остроконечные ножи любого типа и размера, охотничьи ножи и любые другие виды ножей, превышающие в длину четыре пяди, включая рукоятку
[186].
Вышеупомянутый королевский указ также дополняет, что «они бесполезны для защиты, но зато прекрасно подходят для нанесения вероломных ранений»
[187]. Но как показывают дальнейшие события, сей указ особого влияния на падение показателей «вероломных ранений» не оказал, так как следующего долго ждать не пришлось. Уже в 1757 году появляется очередной, ещё более драматичный королевский ордонанс, очевидно, призванный вразумить тех, на кого пассаж о «вероломстве» не произвёл должного впечатления. В дополнение к своему предтече он сообщал, что «запрещённое холодное оружие служит только для предательских убийств и нанесения тяжелейшего вреда общественному спокойствию»
[188].
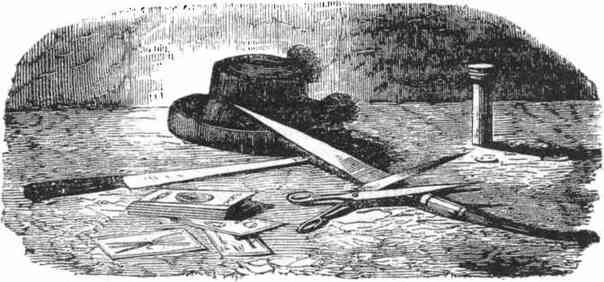
Рис. 52. Наваха, нож и ножницы — оружие вора. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Согласно мнению Рафаэля Мартинеса дель Пераль Фортона, самым полным и важным указом о холодном оружии является королевский ордонанс Карлоса III, продиктованный им в Аранхуэсе 26 апреля 1761 года. По этому указу можно оценить крайнюю заинтересованность королевской власти радикально покончить с кровавыми преступлениями, совершаемыми холодным оружием. Указ гласил, что независимо от того, имеется ли у кого-либо позволение от королевского министерства финансов, позволяющее исключительное использование оружия, на холодное оружие это разрешение не распространяется
[189]. Несколько последующих указов о жёсткой регуляции оборота холодного оружия издаются в период с 1771 по 1780 год
[190].
Как то раз, Франсиско Антонио де Элисондо, прокурор канцелярии Гранады, будучи на аудиенции у короля Карлоса III, выразил удивление «множеством вероломно причинённых смертей и ранений», ежедневно случавшихся в Испании. Тщательно изучив причины этого непотребства, он пришёл к заключению, что это было не чем иным, как «массовым злоупотреблением ножами, кинжалами, навахонами и другим клинковым оружием». Далее Элисондо сетует, что ему «больно видеть это оружие в руках невинных юношей, которые должны являться гордостью нашей религии»
[191]. Очевидно, «гордость религии» не прислушалась к упрёкам обуянного праведным гневом чиновника, так как через пару лет после изысканий сеньора Элисондо выходит очередной королевский эдикт Карлоса III от 2 апреля 1783 года, который скорее напоминает обличительную проповедь пастыря, чем суконный язык и казённые формулировки закона: «Нарушающие общественное спокойствие преступники объединены в многочисленные банды… Они живут кражами и контрабандой, предавая всех насилию и смерти, не жалея даже самого святого, и при сопротивлении, оказанном войскам с использованием холодного оружия, бандиты, контрабандисты и грабители будут приговариваться к пожизненному заключению»
[192].
А через два года монарх неожиданно вспомнил ещё об одном не учтённом эдиктами ноже, которому судьбой было предначертано стать не меньшей легендой, чем наваха — фламенко.
1 июня 1785 года выходит указ, согласно которому на территории Кастильского королевства запрещался ввоз и использование ножей фламенко, давался год на вывоз уже находящихся в обращении и ещё три месяца, чтобы затупить их на испанских фабриках
[193].
А вскоре законодательную власть Испанию начинает лихорадить и бросать из крайности в крайность. 7 мая 1808 года исполняющий обязанности председателя Совета Кастилии Антонио Ариас Мон и Веларде издаёт крайне либеральный указ, определяющий виды оружия, разрешённые к обращению в Испании. Из этого указа следовало, что граждане, принадлежавшие к любому из классов, могли использовать плащи, монтеры, шляпы, любую традиционную одежду, маленькие шпаги, складные ножи для резки табака и хлеба, нескладные ножи, ножницы, бритвы, а также другие инструменты
[194]. Интересно, что наряду с ножами этот указ упоминает и традиционные плащи и шляпы, которые несли определённую символическую нагрузку поскольку являлись частью дуэльной культуры, а следовательно, с точки зрения законодателей представляли не меньшую опасность. Всего через два года в недатированном постановлении правительства (его относят к 1810 году) по всей Испании под страхом четырёхлетнего тюремного наказания запрещалось изготавливать ножи, а также режущие и колющие кинжалы, вместе с лезвием и рукояткой превышающие в длину 21 см
[195].
Очевидно, под давлением лобби производителей происходит постепенная либерализация законодательства, регламентирующего оружейную промышленность. В первой статье подзаконного акта полицейского управления от 12 июля 1812 года, регулирующего производство и продажу ножей, говорилось: «Запрещено производство холодного оружия и торговля им, если на то не имеется специальной лицензии, и только профессиональные мастера-оружейники имеют право разрабатывать, изготавливать холодное оружие и продавать его тем, кому позволяет закон. Разрешено продавать холодное оружие только лицам, имеющим надлежащую лицензию, а также прапорщикам, сержантам и офицерам испанской армии»
[196].
А вскоре опять начинается новый виток репрессивных мер в отношении ножей, и явно прослеживается тенденция ограничить право ношения подобного оружия исключительно служащими силовых ведомств. В акте от 1 декабря 1833 года королевский губернатор настаивает, чтобы ножи находились исключительно во владении служащих полиции, армии и официальных военизированных формирований. Также он требует, чтобы «посредством королевского указа всё оружие было собрано, увезено и хранилось в безопасном месте»
[197].
Но даже применение холодного оружия государственными чиновниками было жёстко регламентировано. Так как сотрудники полиции носили холодное оружие, министр юстиции Изабеллы Второй в указе от 25 января 1845 года разрешил им применять его только в случаях выполнения обязанностей по поддержанию общественного порядка, при преследовании преступников, их конвоировании, а также для охраны государственного имущества
[198].

Рис. 53. Ирис № 142, Барселона, 25 января 1902 г.
Далее наступает фаза очередной оттепели, и королевский указ от 1868 года снова разрешает использование любых ножей владельцам ферм, а также управляющим, кучерам, слугам и пастухам, заслуживающим доверия
[199]. Трудно сказать, какими были критерии для определения категории лиц заслуживающих доверия. Мне видится длинная очередь за навахами в оружейном магазине, состоящая исключительно из андалузских бандитов, одетых в костюмы слуг, кучеров и пастухов, с аккуратно подстриженными баками и добрыми улыбками на открытых, заслуживающих доверия лицах. Но власть снова штормит, происходит очередной оверштаг, и статья 11 королевского указа от 10 августа 1876 года уже гласит, что холодное оружие могут использовать только государственные служащие Испании, муниципальная полиция и пограничники
[200]. И даже внутри подразделений, которым ношение холодного оружия было разрешено законом, существовали дополнительные внутренние нормативы и правила. Так, в пособии для Национальной гвардии запрещалось всё холодное оружие, и особенно навахи, трости-шпаги, стилеты, кинжалы и другие подобные ножи
[201]
Эта бесконечная разрешительно-запретительная свистопляска порядком всем надоела и в министерство внутренних дел поступали многочисленные запросы о том, какие же виды оружия всё-таки запрещены в Испании. Чтобы впредь избегать разночтений, был издан королевский указ от 9 ноября 1907 года, уточняющий, что запрещены шпаги и пики, замаскированные в трости, или другое скрытое холодное оружие. А кинжалы любого типа, навахи длиннее 15 см в раскрытом виде и охотничьи ножи могли продавать только лицам, предоставившим лицензию
[202]. Также этот королевский указ оставлял на усмотрение властей принятие решения, действительно ли человек, носящий нож, нуждается в нём и использует его в своей профессии, работе или ремесле, существует ли необходимость носить его постоянно или только от случая к случаю, в зависимости от обстоятельств. Особо это относилось к тавернам, общественным заведениям, и местам для отдыха и развлечений. Также это касалось лиц, которые уже были осуждены за незаконное использование оружия
[203].
Тяжёлым ударом, практически катастрофой, стал для оружейной промышленности Испании указ, изданный министром внутренних дел Хуаном де ла Сиерва и Пеньяфиель в 1908 году.
Вот как 30 декабря 1908 года описала это событие «Нью-Йорк Таймс»: «Классическая наваха, без которой немыслима романтика испанской жизни и которую традиционно носят все сёстры и братья прекрасной Кармен, обречена на исчезновение. Министр внутренних дел сеньор Ла Сиерва только что издал указ, запрещающий продажу или использование любых остроконечных ножей, кинжалов или стилетов, обладающих клинком длиннее шести дюймов».

Рис. 54. Ирис № 142, Барселона, 25 января 1902 г.
В результате после выхода этого указа сохранились только такие неромантичные предметы, как столовые ножи, ножи для резки бумаги и перочинные ножики. По приказу министра полиция провела конфискацию запрещённого к обороту оружия одновременно во всех городах Испании, и не только на улицах, но и в магазинах, занимавшихся его продажей. В результате этой акции только в течение одного дня полицейские захватили более четырёх тысяч единиц холодного оружия в Мадриде и три тысячи в Барселоне. Количество холодного оружия, конфискованного по всей стране, было огромным. Разумеется, проведение этой операции сопровождалось протестами — как со стороны производителей, так и со стороны торговцев, чей бизнес понёс невозместимые убытки. Прямо на глазах одного из мадридских торговцев было конфисковано всё содержимое его склада на сумму 40 000 песет, что являлось огромной суммой.
Несмотря на риск дипломатического скандала, потери понесли даже иностранные торговцы. Наиболее пострадавшим регионом стал Альбасете, где на тот момент круглогодично работали 52 больших магазина. Что касается Толедо, то фабрика в основном выполняла военные заказы, а производство легендарных клинков было перенесено в Альбасете. Ходили слухи, что для спасения этого старинного производства на министра оказывали огромное давление, но он устоял. Также пострадала и Барселона, так как основной статьёй их дохода был экспорт шпаг, замаскированных в тростях. Несмотря ни на что, сеньор Ла Сиерва не испытывал недостатка в поддержке своего решения. Хотя некоторые критики проводимой министром реформы и считали, что единственным результатом его последнего указа будет замена навах револьверами
[204].
Почтовая служба Испании, занимавшаяся не только почтовыми отправлениями, но и перевозкой ценностей, часто становилась объектом нападений и ограблений по всей стране и являлась излюбленной мишенью бандолерос всех мастей. Поэтому циркуляр от 27 января 1909 года гласил, что «почтовые чиновники должны использовать холодное оружие в рамках возложенных на них служебных обязанностей по обеспечению безопасности почтовых перевозок
[205].

Рис. 55. Кинжал в распятии. Criminal man. Чезаре Ломброзо, 1911 г.
Не обошли вниманием законы и слуг божьих, и в статье 138 канонического кодекса 1917 года говорилось, что «священнослужители должны воздерживаться от использования холодного оружия, если нет серьёзной опасности или если это не происходит на охоте»
[206]. Очевидно, у законодателей были веские основания полагать, что не у одного священника под сутаной была спрятана альбасетская наваха. На подобные греховные мысли наводит и встречающееся в европейских музеях замаскированное оружие в виде кинжалов испанской работы, спрятанных в распятиях
[207].
Отголоски королевских ордонансов трёхсотлетней давности встречаются и после Первой мировой войны. В соответствии с королевским указом от 20 марта 1923 года, холодным оружием, запрещённым на территории Испании, стали национальные испанские кинжалы, шпаги, большие навахи с фиксаторами и охотничьи ножи
[208] Но традиционный театр абсурда на этом не заканчивается, и свету является свод законов, утверждённый королевским указом от 4 ноября 1929 года и регулирующий производство, продажу, использование и хранение холодного оружия на территории Испании. Согласно этому закону, из списка оружия, запрещённого к обороту, были исключены ножи, изготовленные более ста лет назад и чей возраст доказан, или ножи более современные и изготовленные позже, но при условии, что они были использованы или принимали участие в исторических событиях национального масштаба. При этом оговаривалось, что и те и другие хранятся в музеях и частных домах, их не используют и перевозят с места на место не беспричинно, а только при смене адреса. Кроме этого, закон допускал ножи для личного пользования в качестве столовых ножей, для приготовления еды и при выпечке хлеба, а также в качестве ремесленных и профессиональных инструментов. Также разрешались остроконечные навахи и перочинные ножи, лезвие которых не превышает 11 см, будучи измеренным от рукоятки до острия, и ножи, необходимые пастухам и работникам для полевых работ и для пропитания
[209]. Этот закон запрещал производство, продажу, ввоз, использование и владение ножами, функции которых были не определены.
В 1936 году, в канун гражданской войны в Испании, учитывая рост нарушений в университетской жизни, вызванный накалом политических страстей, министерство образования издало указ, согласно которому студенты, незаконно носившие холодное оружие за пределами университета, отчислялись и им запрещался вход на территорию альма-матер. Они могли снова поступить в высшие учебные заведения Испании только по истечении двух лет и лишь при благоприятной рекомендации своего университета
[210]. Очевидно, испанским студиозам из университетов Саламанки, Гранады и Барселоны навахи заменяли мензурные шлегеры задиристых немецких буршей из Гейдельберга или Тюбингена.
Судя по предусмотренным эдиктами жесточайшим карам, грозящим каждому несчастному, посмевшему в недобрый для себя час взять в руку богопротивную наваху, можно предположить, что все эти столетия Испания жила в атмосфере любви и согласия, «волк и ягнёнок паслись вместе», а после удара по левой щеке испанцы смиренно подставляли правую. А между тем всё было далеко не так радужно и безмятежно. И обусловлено это было банальной и старой как мир причиной. Как хорошо известно любому юристу, жёсткость законов и суровость предусмотренных ими наказаний обратно пропорциональна слабости исполнительной власти и невозможности, или же её нежеланию следить за исполнением этих законов. И прекрасной иллюстрацией к этому хрестоматийному правилу являлась Испания.
Эгертон Кастл, характеризуя эту законодательную чехарду, как-то заметил, что в Испании, где всякий независимый гражданин называл себя идальго, частое повторение ордонансов не имело такого подавляющего эффекта, как в других странах
[211]. Боткин с горечью писал, что в Испании постоянно делают и переделывают конституции, в которые никто не верит; составляют законы, которым никто не повинуется, издают прокламации, которые никто не слушает. Как он полагал, это было обусловлено тем, что законы делались, переделывались и уничтожались с такою быстротой, что испанцы потеряли к ним всякое уважение и всякое понятие о законности
[212].
А вот что писал о навахах и соблюдении законов в Испании Джозеф Таунсенд: «Эти ножи строжайше запрещены, но, к сожалению, древние традиции сильней законов, особенно в стране, где страсти так легко вспыхивают, а законы невероятно слабы. Поскольку полицейские в массе своей бедны и часто лишены принципов, они без труда и с удовольствием могут интерпретировать любое происшествие по собственному усмотрению и превращать белое в чёрное. В результате безнаказанности часто совершаются убийства, а так как законы не гарантируют и не обеспечивают личную безопасность, то эта обязанность ложится на плечи самих людей, и они вынуждены вооружаться. Исключительно из-за этого они и приобретают это жуткое оружие. Но когда в них пробуждается гнев, ситуация меняется. Оружие, служащее для личной защиты, превращается в инструмент вероломства, преступных намерений и мести»
[213]
Эти строки Таунсенд писал в 1786 году, когда уже вошёл в силу закон, предусматривающий за участие в поединке пожизненное заключение. Но как мы видим, благодаря неисполнению законов, обусловленному попустительством тех, на ком лежала обязанность это исполнение контролировать, перспектива провести остаток жизни за решёткой была для испанских дуэлянтов угрозой достаточно условной и гипотетической. Согласно точке зрения «Русского вестника» за 1858 год, чувство безнаказанности, распространённое среди испанцев, в больше степени было обусловлено позицией местных жандармов. Все прекрасно знали, что испанская гражданская гвардия — Guardia civil, призванная обеспечивать закон и порядок, на самом деле исповедовала политику невмешательства и не нарушала личной свободы испанцев. Даже на навахадах, когда с обеих сторон сверкали ножи и лилась кровь, эти хранители общественного спокойствия редко выходили из роли пассивных зрителей. А мадридская полиция и совильские сереньос вообще старались держаться от навахад подальше, и сострадательным гражданам стоило большого труда привести их на место поединка. Каждый испанский жандарм был снабжён книгой для записи особых происшествий и ежедневно вносил туда более или менее чётко написанную фразу: «Всё обстоит благополучно»
[214].

Рис. 56. Guardia Civil из Хуэскара. Испания, 1912 г.
Также и Форд, прекрасно знакомый с методами испанской Фемиды, отмечал, что, хотя испанские законы были суровы на бумаге, те, кто отвечает за их выполнение, в 99 случаях из ста старались уклониться от выполнения своих обязанностей всякий раз, когда это отвечало их личным интересам. Возмущённый творившимся беззаконием он писал о производстве навах, что, хотя пружины и фиксаторы на ножах были всегда запрещены законом, они абсолютно открыто производились, продавались и использовались
[215]!
Были не только заведения, улицы или районы, куда полиция предпочитала не соваться, но и целые города с мрачной репутацией. Среди таких «вольниц» барон Давилье указывал, например, Малагу. Безнаказанность местных убийц даже вошла в поговорку: «Mata al геу, у vete a Malaga» («Убей короля и беги в Малагу»
[216]!
Но иногда происходило чудо: одного-двух навахерос всё-таки арестовывали и отправляли в тюрьму, а иногда и на плаху. Поножовщики, естественно, себя виноватыми не признавали, объясняя всё требованиями кодекса чести. В Севилье была популярная песня — стенания арестанта, осуждённого за то, что он в поединке зарезал соперника. Махо восстаёт против несправедливости, оправдываясь необходимостью защитить свою «маху»
[217] Иногда арестовывали не только участников, но даже зрителей, присутствовавших на подобных дуэлях. Александр Маккензи упоминал инцидент, когда некий молодой человек был заключён в тюрьму по одному лишь подозрению в том, что он мог являться свидетелем поединка
[218]. В случае, если ножи были вытащены, но кровь при этом не пролилась и никто не пострадал, а жандарм или скриванос пребывали в благостном расположении духа, то виновный мог отделаться лёгким испугом.
А иногда арестованные избегали наказания благодаря прекрасному знанию всех хитросплетений испанских законов.
Так, мы находим упоминание о планировавшейся дуэли двух девушек, прерванной появлением полицейского патруля. Поскольку намерения их не вызывали сомнений, они были доставлены в жандармерию. «Сеньор, — обратилась одна из несостоявшихся дуэлянток к дежурному офицеру, — эти господа, нарушив все возможные законы, ограничили нашу личную свободу». «Разберёмся, — ответил эмплеадо с важностью представителя власти. — Жандарм, в каком проступке вы обвиняете этих дам?» «Сеньор, — ответил полицейский, — у меня были все основания предполагать, что арестованные имели умысел драться до смерти на дуэли. По этой причине мы и привели их к вашей чести, чтобы их наказали по всей строгости закона». «Если вы позволите, сеньор, — сказала одна из задержанных, — мы не сделали и не собирались делать ничего, за что могли бы понести предусмотренное законом наказание». Вслед за тем девушка указала изумлённому представителю власти, что закон о запрещении дуэлей касается только мужчин, и никого более. Правовая информированность девушки застала эмплеадо врасплох и невероятно удивила. После тщательного изучения уголовного кодекса чиновник пришёл к выводу, что в законе не упоминается рассматриваемый случай, и он, хоть и неохотно, был вынужден освободить задержанных, но только после того, как те пообещали ему отказаться от своих смертоносных замыслов
[219]. Но если облечённый властью представитель закона чувствовал возможность наживы, то несчастному «дуэлянту», перед которым маячила перспектива пожизненного заключения или казни гарротой, приходилось раскошеливаться.
«Отечественные записки» за 1842 год писали: «Правосудие в Испании давно уже сделалось источником всевозможной несправедливости, наживы судей и взяток. Оно большей частью находится в руках особого сословия, которое в Испании называется skrivanos (присяжный писарь). Эти скриваносы исполняют должность протоколистов, нотариусов и могущественно располагают жизнию и смертию, свободой или заключением того, кто имел несчастие попасть в когти испанской юстиции и не знал, как с ней сторговаться. Ни революция, ни восстановление, ни народная война со времени смерти Фердинанда VII не могли истребить на испанской земле этого крапивного семени».
Дипломат Генрих фон Арним, путешествовавший по Испании в 1841 году, описал очень показательный случай. Испанцам было запрещено носить при себе кинжалы и ножи, кроме тех, которые предназначались для нарезания хлеба. Кто-то зарезал своего соперника ножом. Преступника схватили и привели для допроса к присяжному скриваносу, который был обязан внести данное происшествие в протокол. Главный пункт обвинения зависел от того, каким именно ножом было совершено преступление — ножом для хлеба или каким-то другим. В первом случае преступника ожидало недолгое тюремное заключение, а во втором — смертная казнь. Скриванос молча писал протокол, пока не дошёл до слова «cultielle» — «нож». Тут он остановился. Подсудимый понял смысл этой паузы и сунул ему руку несколько пиастров. Вскоре опять раздалось: «Cultielle», и сумма взятки была удвоена. Но, очевидно, скриваноса не удовлетворила и эта сумма. Он опять сделал длинную паузу, пока третья взятка не заставила его написать в протоколе: «cultielle per contra pan» — «хлебный нож»
[220].
В этом случае задержанному улыбнулась удача, ему повезло, и он вырвался из когтей смерти. Но многие его товарищи по несчастью стали жертвами показательных судов и жёстких приговоров, призванных продемонстрировать испанцам всю мощь карающего меча испанского правосудия и служить предостережением остальным.
Так, например, удача отвернулась от 27-летнего баратеро Игнасио Аргу-маньеса, 7 марта 1836 года убившего в проходившем в тюремном дворе поединке на ножах, другого баратеро, Грегорио Кане. Казнь его вызвала широкий резонанс и многочисленные публикации в либеральных изданиях. Известный испанский писатель и журналист первой половины XIX века Мариано Хосе де Ларра, прославившийся своими критическими очерками, посвятил этому событию статью под названием: «Los barateros о el desafío у la репа de muerte» («Баратеро, или Вызов на дуэль и смертная казнь»)
[221]. В этой статье, написанной в форме диалога двух аллегорических образов — испанского общества и баратеро, Ларра поднял различные морально-этические вопросы и в том числе тему права общества принимать решения о жизни и смерти своих граждан. Но Аргуманьес не смог порадоваться окружившему его имя ажиотажу, так как к моменту выхода статьи был казнён традиционным удушением гарротой.

Рис. 57. Дуэль баратеро Игнасио Аргуманьеса и Грегорио Кане, 1836 г.

Рис. 58. «За нож» («Ужасы воины», офорт 34). Франсиско Гойя, 1810 -1815 гг.
Особенно жёстко обходилась с нарушителями законов французская администрация. Изображение подобных несчастных, казнённых за найденный у них нож, можно увидеть на известных офортах Франсиско Гойи из серии «Los Desastres de la Guerra» — «Бедствия войны». На офорте «Рог una navaja» — «За нож» изображен казнённый удушением гарротой, на шее которого висит виновница его смерти — маленькая наваха. А на другом офорте, называющемся «No se puede saber рог que» — «Неизвестно за что», изображена массовая казнь восьми человек, у каждого из которых на шее висит виновник его смерти. Но надо заметить, что с названием последнего офорта Гойя несколько слукавил. Сказать, что и в самом деле совсем уж «не за что», было бы погрешить против истины.
Итак, мы вплотную подошли к событию, сыгравшему немаловажную роль в популяризации образа навахи в Европе и в формировании её зловещей репутации. Речь пойдёт о войне за независимость Испании, или, как за партизанскую тактику испанцев её называли французы, «войне плетней и оврагов»
[222]. Преамбула такова: с 1795 по 1808 год Испания входила в военный альянс с Францией. В 1807 году, прикрываясь предлогом войны с Португалией, Наполеон Бонапарт ввёл в Испанию около 65 000 французских солдат. Когда испанский король Карл IV понял, что ему грозит участь марионетки, то попытался сбежать из страны, но в марте 1808 года многотысячная толпа штурмом взяла королевскую резиденцию. Карл отрёкся от престола, и новым королём был провозглашён сын Карла Фердинанд VII.
Под предлогом решения неких неотложных вопросов французский император пригласил отца и сына в Байонну, где в качестве почётных пленников они и подписали отречение от престола. На пустующий трон Испании Наполеон тут же посадил своего старшего брата Жозефа. Новость о том, что французы увозят законного короля и подсовывают вместо него какого-то «лягушатника», радостного ажиотажа у ортодоксальных традиционалистов-испанцев не вызвала, и 2 мая 1808 года вооружённые преимущественно ножами жители Мадрида под предводительством двух офицеров испанской армии, капитана Педро Веларде и лейтенанта Луиса Даоиса, напали на французский гарнизон.

Рис. 59. «Ни за что» («Ужасы войны», офорт 35). Франсиско Гойя, 1810–1815 гг.
Примерно 400–500 французских солдат, в одиночку или небольшими группами прогуливавшиеся по городским улицам и пребывавшие в полном неведении о надвигающейся буре, пали мёртвыми и изувеченными под испанскими ножами. Даже французы, находящиеся на излечении в госпитале, были атакованы и вырезаны — испанская ярость не знала милосердия. Мюрат ввёл в город войска и артиллерию, и вскоре несколько кавалерийских атак и пара залпов картечи очистили улицы. Испанцев, павших на улицах, было несравненно меньше, чем французов, погибших от их ножей
[223]. Некоторые исследователи считают, что одной из причин восстания стали репрессии Мюрата, направленные против махо. Так как махо обычно носили с собой ножи, Мюрат воспользовался этой традицией как предлогом для арестов. Также в качестве повода для преследований и арестов французская администрация использовала и привычку махо носить длинные плащи. Ну, а поскольку махо оставались верны старинным испанским обычаям, и, как известно, болезненно переносили нападки на свои привилегии, эти пассионарии и возглавили восстание против французских оккупантов
[224].
На батальной сцене, изображённой на известном полотне Гойи «Dos de Mayo 1808» — «Второе мая 1808», мы видим эпизод Мадридского восстания. Вооружённые одними лишь ножами испанцы бесстрашно бросаются на французских кавалеристов — драгун и мамелюков, втыкая ножи в бока лошадей и всадников. Два дня шли ожесточённые бои у Пуэрто дель Сол и Пуэрто Толедо, а также в районе Артиллерийского парка.
«Каждого встречавшегося француза умерщвляли на месте. Французское войско выступило из казарм и заняло важнейшие посты. В толпы народа стреляли беглым огнём из ружей и картечами вдоль улиц, но ожесточённые испанцы бросались с ножами в ряды французов и лезли, как слепые, на пушки!» — писал об этих событиях участвовавший в боевых действиях против французов Фаддей Булгарин
[225]. Бонапартисты, невзирая на пол и возраст, безжалостно казнили каждого задержанного, имевшего при себе хоть что-то, отдалённо напоминающее оружие. Так одной из первых жертв этой антиножевой истерии стала пятнадцатилетняя мадридская швея Мануэла Малазанья Оньоро, оказавшая сопротивление пытавшимся её изнасиловать французским солдатам. Формальным поводом для ареста и казни стал обнаруженный при досмотре её рабочий инструмент — ножницы.
Как заметил в «Письмах об Испании»
Боткин: «Едва ли есть в истории восстание более благородное, более героическое, как восстание всей Испании против Наполеона в 1808 году. Оно показало Европе, что Испания не умерла еще»
[226].
В этот день, 2 мая 1808 года, испанцы и фигурально, и буквально выкопали наваху войны. Символом и хоругвью этой «священной войны» стал светлый образ их законного монарха, Ferdinando Séptimo, он же Фердинанд VII, коварно отнятого у Испании подлыми «gavachos» (от искажённого французского «gavache», или «негодяй»), как называли наполеоновских солдат испанские повстанцы-герильясы. А вскоре кроме символа герилья обрела и идеологию. Произошло это событие в декабре 1808 года, когда французские войска осадили Сарагоссу, гарнизон которой возлавлял ставший вскоре национальным героем Испании герцог Хосе Реболледо де Палафокс и Мельци. Гарнизон отбил все атаки французов и вынес шестидесятидневную осаду. На неоднократные предложения сдаться Палафокс отвечал сакральной фразой, которая и легла в основу концепции сопротивления. Фраза эта звучала как «Guerra a cuchillo!» — «Война на ножах!»
[227].
Герилья — партизанская война в Испании была бесконечно далека от привычного для французов регламента боевых действий регулярной армии. Бонапартистов резали все и при любой возможности — дети, женщины, старики. Мопассановские старухи Соваж с ножами в руках сотнями поджидали наполеоновских гвардейцев за каждым углом. Мы видим, как отчаявшиеся люди на картинах Гойи бросаются на врага с ножами и самодельным оружием. На офорте Desastre 9 — «Они не хотят» мы видим французского солдата, нападающего на девушку, и бросающуюся на него сзади старуху с поднятым ножом. А на Desastre 5 — «Они просто звери!» перед нами предстаёт героический поступок женщины: мать, сжимающая своё дитя под мышкой, свободной рукой втыкает пику в атакующего солдата, а её раненая подруга лежит на земле с ножом наготове
[228].
Как заметил Николай Неведомский: «Два оружия в руках герильясов были наиболее гибельны для французов: карабин и нож наваха
[229] Француз, отнявши такой нож у герильяса, с трудом находил средство заставить эту полосу уйти в рукоятку. Полоса казалась языком тигра, который, высунувшись из пасти, хочет не прежде спрятаться в пасть, как отведавши крови»
[230].

Рис. 60. Женщины Сарагосы сражаются с французскими драгунами. Хуан Гальвес, Фернандо Брамбийя, 1812–1813 гг.

Рис. 61. «Они не хотят» («Ужасы войны», офорт 9). Франсиско Гойя, 1810–1815 гг.
Пераль Фортон отмечал, что наваха, как гражданское и крестьянское оружие, сыграла немаловажную роль на Пиренеях во время наполеоновских войн
[231]. Известный коллекционер и знаток навах Жан-Франсуа Лальяр в частной беседе как-то рассказал мне, что испанские партизаны нередко привязывали раскрытую наваху к длинному древку, получая таким образом копьё или пику. Мне это напомнило вооружение польских косинеров Костюшко, когда обычная коса вертикально монтировалась на древко, и в результате получалась длинная и острая как бритва пика — традиционное импровизированное крестьянское оружие, известное ещё с гуситских войн
[232].
В некоторых заявлениях военного правительства Испании, опубликованных в 1810–1811 годах, ножи особо рекомендовались в качестве оружия для уничтожения французов наряду с другими видами холодного оружия, такими как шпаги или штыки. Нередко успех испанцев во время восстания жителей Мадрида против французских войск в 1808 году ставится в заслугу именно их умению ловко обращаться с ножом
[233]. Но мстительным и злопамятным испанцам не требовались специальные правительственные рекомендации, они и без этого прекрасно знали, что французов-гавачос ждёт одна участь — «guerra a cuchillo». Судя по воспоминаниям английских офицеров, испанцы обращались с захваченными в плен французами с ужасающей жестокостью — если кто-то по дороге отставал, их на месте закалывали штыками. Когда французские пленники переходили под юрисдикцию португальцев, как это, например, произошло при отступлении из Саламанки, радость их не знала предела
[234]. И, естественно, преисполненные негодованием британцы не могли удержаться от заявления, что «война ножей», объявленная испанцами, из того же разряда, что томагавки и ножи для скальпирования у дикарей
[235].

Рис. 62. Мужчина с кинжалом. Франсиско Гойя, около 1820 г.
Рис. 63. Испанец добивает французского солдата. Начало XIX в.
В 1808 году, в Валенсии, каноник мадридской церкви Святого Исидора, Бальтасар Кальво, не только призывал с амвона вырезать французов, но и благословлял ножи своей паствы, предназначенные для этой миссии. Так на литографии известного французского иллюстратора девятнадцатого века, Дени Огюста Мари Раффе, мы видим коленопреклонённых испанских герильясов, протягивающих падре Кальво для благословения свои навахи
[236]. Некоторые исследователи, включая Рене Шартрана, автора «Spanish Guerrillas in the Peninsular War, 1808-14», приводят фамилию легендарного священника как «Cabo» — Кабо, в то время как в большинстве источников — например, в работах известного испанского историка XIX столетия, Висенте Бойкса, она звучит исключительно как «Calvo» — Кальво
[237]. Также и в материалах уголовного дела оа 1808 года, уважаемый каноник фигурирует как «дон Бальтасар Кальво
[238].
Методы «войны ножей» испанской герильи, безжалостность и жестокость по отношению к французским захватчикам напоминают другую «народную» войну, развязанную против Наполеона за тысячи километров от апельсиновых рощ Андалусии — в далёкой и заснеженной России. И тут мы подходим к событию Отечественной войны 1812 года, не вошедшему в школьные учебники, — созданию испанского подразделения, сражавшегося и умиравшего бок о бок с русскими в борьбе против Наполеона. Мы обратимся к истории легендарного Мстительного легиона и его лихого командира, российского полковника Александра Фигнера.

рис. 64. Валтасар Кальво в 1808 году благословляет навахи.
Через четыре года после Мадридского восстания армия Бонапарта вторглась в Россию, что положило начало эпохальному событию, известному нам как Отечественная война 1812 года, или, как её называли сами французы, «Campagne de Russia pendant Гаппее 1812». События этой войны прекрасно известны, описаны в сотнях исторических трудов, мемуаров участников и очевидцев боевых действий и рассмотрены с точки зрения всех сторон, находившихся как с одной, так и с другой стороны «баррикады». Партизанские отряды беспокоили французов налётами и нападениями на обозы с фуражом. Все из школьных учебников помнят героев-партизан Герасима Курина, Василису Кожину и, конечно же, легендарного партизанского командира Дениса Давыдова, особенно в его экранных ипостасях — с неизменно лихо закрученными усами, в небрежно накинутом ментике и с неразлучной гитарой. Но история капризна и субъективна. И прекрасной иллюстрацией к этому является судьба другого прославленного партизанского командира, наводившего ужас на французов, ставшего в своё время легендой, но незаслуженно забытого и обойдённого вниманием драматургов и сценаристов соратника и конкурента Давыдова, любимца генерала Ермолова, баловня судьбы Александра Самойловича Фигнера.
Потомок остзейского рода, Фигнер был человеком уникального сплава ума, отваги, авантюризма и организаторских способностей, которые при этом сочетались в нём с крайней жестокостью, патетичностью, любовью к внешним эффектам и высокопарным фразам. Недолгая, но яркая и насыщенная жизнь Фигнера перекликается с судьбами целой плеяды воинов, дипломатов и авантюристов, таких как Калиостро, Ричард Бёртон, Лоуренс Аравийский или Отто Скорцени. Он появился на исторической сцене в правильный момент и в нужном месте и, кратко вспыхнув, вписал своё имя в скрижали Отечественной войны 1812 года. Романтичный, отважный, бесстрашный, презирающий опасность и смерть, склонный к аффектации, патетичный и слезливый и в то же время жестокий и беспощадный к врагам — ну чем не испанец, — Фигнер идеально подходил для роли, вскоре уготованной ему судьбой и его собственными амбициями.
Среди множества событий, которыми была насыщена Отечественная война 1812 года, нас интересует всего один малоизвестный и забытый эпизод этой кампании, начало которому было положено 24 июня 1813 года. В этот день начальник главного штаба соединенных армий генерал-лейтенант И. В. Сабанеев сообщил генерал-майору Ф. Ф. Довре, что «по высочайшему повелению лейб-гвардии полковнику Фигнеру позволено формировать из пленных итальянцев и гишпанцев войско под названием Мстительный легион, для чего и нужно, чтобы в том не только не было делано ему никакого препятствия, но и оказываемо все нужное содействие со стороны воинских начальников»
[239].
В этот же день документ такого же содержания Сабанеев направил и великому князю Константину Павловичу. Последний наложил резолюцию: «Дать знать начальникам корпусов». А. В. Фигнер добавляет к этому, что легион был сформирован А. С. Фигнером «на счет добыч от неприятеля»
[240]. О дальнейшей судьбе этого легендарного и окружённого мифами подразделения нам становится известно благодаря воспоминаниям очевидца указанных событий — Николая Васильевича Неведомского, корнета второго волонтёрского казачьего полка барона Боде в войне 1812 года, а также участника заграничных походов русской армии 1813–1814 годов. Неведомского, находившегося в период описываемых событий в отряде Фигнера, историки считают крайне компетентным автором, и без ссылок на его мемуары не обходится ни одна серьёзная научная работа посвящённая этому подразделению.
Около пяти тысяч испанцев, не успевших в 1808 году уйти из Дании с маркизом Романо, остались на французской службе. Три тысячи из них в 1812 году перебежали на русскую сторону и на английских кораблях были из Кронштадта отправлены домой в Испанию. Также около двухсот пятидесяти испанцев, в основном артиллеристов, в том числе тридцать португальцев, перебежали к русским в 1813 году во время перемирия. Из них Фигнер в силезском Олау и сформировал две роты, составлявшие пехоту его отряда
[241] Кроме испанцев и итальянцев в отряде Фигнера были гусары, а также украинские и донские казаки. В рукописи, опубликованной Н. Окулич-Казариным, со ссылкой на воспоминания находившегося в отряде Фигнера Лариона Бибикова сообщается, что в состав Мстительного легиона также входили эскадроны «вновь формированного бессмертного казачьего полка»
[242].
Фигнер настаивал на особой форме для своего Мстительного легиона, воспринимавшегося современниками как «чудной». Так, на них были мундиры из зеленого сукна, с черным воротником и обшлагами, обшитыми серебром, а на касках крупными буквами было написано: «Легион мести»
[243]. Как вспоминал Денис Давыдов, Фигнер являлся «иногда в мундире сформированных им двух баталионов, из пленных испанцев и италианцев, кои он наименовал «мстительными легионами», почему на эполетах их были литеры М. Л.»
[244].
Кровожадность и безжалостность сражавшихся в составе Мстительного легиона испанцев поражала их русских товарищей по оружию. Вот что об этом писал Николай Неведомский: «Испанцы в сражении редко просили пощады и никогда её не давали. После сражения прикалывали раненых, чаще прирезывали ножами, крича при каждом ударе: «Muerto gavacho! Muerto perros! Смерть французам! Смерть псам!» Испанскому «muerto» наши солдаты дали русское окончание и говорили: «Мусьи шпанцы муэртуют». Редко удавалось отогнать испанцев от раненого, отнять у него пленного — штыком, ножом готовы были защищать свою добычу, обречённую ими смерти. Часто случалось, что казак, гусар переставал обирать пленного, когда прибегали испанцы со своим вечным muerto. Совершив убийство, оставляли деньги и вещи убитого тому, кому они принадлежали по правам войны»
[245].
Вот как описывал бой с участием испанцев один из офицеров, очевидец этих событий: «В деревне раздавались ружейные выстрелы и крики сражающихся и вдруг сменились радостными восклицаниями испанцев, воплями о пощаде и криками зарезанные это, по выражению наших рядовых, муэртовали мусьи Шпаны»
[246].
Вместе с трепетным отношением к королю-символу Фердинанду VII, гитарами и андалузским табаком испанцы привезли с собой и более мрачные традиции своей далёкой родины: «Испанцы почитали нож почти таким же необходимым в сражениях, как пику или ружьё с примкнутым штыком. В двух испанских ротах только у пяти-шести человек были ножи, принесённые ими из Испании, длинные, острые как бритвы; прочие довольствовались ножами, по большей части отнятыми или украденными у немецких кухарок; многие имели по два: один за пазухой, другой в сапоге. Почти на каждом ночлеге можно было видеть нескольких испанцев, до крупного пота оттачивающих свои ножи; не доставший поварского не жалел ни рук ни времени, ухитряясь с помощью оселка сделать из столового ножа что-то похожее на кинжал»
[247].
Сослуживцы, зная суровый нрав испанцев и их умение владеть ножом, старались с ними не связываться. Как писал Неведомский: «В частых ссорах за съестные припасы, за дрова, за кошельки французов, казак, гусар тотчас уступал испанцу, опускавшему руку за пазуху или за сапог»
[248].
Солдатская фортуна изменчива, капризна и эфемерна, и Вестфальская операция, оказавшаяся последней в жизни Фигнера, наглядно демонстрирует, насколько честолюбивые замыслы заставили его забыть о реальности развивающейся военной кампании. Заманчивая цель — стать освободителем Касселя и вместе с ним всего королевства и победителем Бонапарта толкнула его на авантюрный маневр. Из-за тактического просчёта Фигнера 1 сентября 1813 года его отряд очутился на пути движения основных сил французской армии, был прижат к Эльбе, отказался сдаться и был разбит, а сам Фигнер погиб при попытке переправится через реку
[249].
Участник последнего сражения отряда Фигнера ротмистр Н. Депрейс в письме к матери, уже после освобождения из плена, описывает случившееся с ним. Он, в частности, указывает и состав, и численность отряда Фигнера — 56 гусар, 180 украинских казаков, 90 донских казаков и 270 человек пехоты, состоящей из испанцев и итальянцев
[250]. Любопытно, что ни один из авторов не упоминает об итальянцах, бывших в составе Мстительного легиона. Также и Неведомский, рассказывая о составе отряда и о последнем сражении на Эльбе, упоминает только испанцев, но ни слова не говорит об итальянцах. Поведение итальянской части легиона Фигнера в момент решающего сражения источники либо скрывают во мраке умолчания, либо дают ему нелицеприятную оценку, что позволяет подозревать об отсутствии у итальянцев особого героизма. Описание же отваги испанцев из Мстительного легиона напоминает события Мадридского восстания, запечатлённые на полотнах Гойи и Кастелланоса: «Особую свирепость сражению придавали человек сорок испанцев, добровольно прибежавших из леса. Только не имевшие хороших ружей действовали штыками, прочие, бросивши ружья, ножами распарывали брюха у лошадей, резали ноги всадникам, втыкали ножи в горла и бока упавших»
[251]
И в последние мгновения боя, когда отряд уже был прижат к реке, испанцы продемонстрировали, что они настоящие «того сгио» и в их жилах течёт не вода, а кровь Эль Сида и других матаморос — воинов, закалённых в восьми веках сражений за независимость. Вот как описал последние минуты легиона Николай Неведомский: «Да где его Высокоблагородие? Хоть бы он посмотрел, что мы не отдаёмся живыми. Воля ваша, Ваше Благородие, силы не хватает: позвольте повернуть в реку…» — говорили казаки и гусары; сперва поодиночке, а потом грудой повёртывали в реку; немногие ускользнули в лес; но испанцы ещё отмахивались окровавленными ножами, падали, вставали с восклицанием: «Viva el rey Fernando septimo!»
[252].
Двести лет минуло с того сентябрьского дня, когда ножи испанцев Мстительного Легиона окрашивали воды Эльбы кровью французов. Мир с тех пор изменился. Изменились морально-этические нормы и система ценностей. Этому сопутствовало много факторов, но главное — в средиземноморском обществе изменилась трактовка личной чести, интерпретация социальной роли мужчины и мужской самоидентификации.
Однако отголоски старинного искусства владения навахой мы встречаем и в наши дни. Весной 1954 года во вьетнамском местечке Дьен Бьен Фу — «Долина кувшинов», произошло одно из самых кровопролитных сражений между французской армией и силами Вьетминя. Это битва известная как «Вьетнамский Сталинград» считается решающим сражением Первой Индокитайской войны. Штурмовые группы вьетнамцев шли на прорыв, или доводили свои траншеи до французских, и тогда десятки и сотни бойцов с невероятным ожесточением пускали в ход ножи, штыки, приклады, саперные лопатки, топорики. Тайцы предпочитали какие-то свои особые кинжалы, у нескольких немцев сохранились кинжалы СС. Ветеран 3-й полубригады Иностранного легиона сержант Клод-Ив Соланж, принимавший участие в этих боях вспоминал, что в его отделении служил баск, «который жуть что вытворял складной навахой с лезвием длиной сантиметров в 30»
[253]
В сегодняшней Испании, как во многих других странах, где на протяжении столетий существовала развитая культура народных дуэлей, не любят вспоминать эти страницы своей истории. Хотя, по данным полиции Испании, в 2007 году в стране и было конфисковано 488 000 ножей — количество, вызывающее уважение, но убийств с использованием этого оружия в этом же году было зарегистрировано всего 135. Сегодня за большинство преступлений, совершённых в Испании с применением ножей, как правило, ответственны эмигранты из Марокко, Латинской Америки или из стран Восточной Европы. Но преследуемая законом и осуждаемая общественным мнением культура ножа не исчезла без следа, просто она, как и в соседней Италии, уйдя в подполье, стала невидимым для чужих глаз параллельным миром, уделом закрытых сообществ.
[254]
Глава II
СТИЛЕТЫ И БЕЛЬКАНТО
Дуэли на ножах в Италии


Bella Italia — прекрасная Италия! Неаполитанские песни в исполнении Карузо — кто же из наших бабушек не подпевал его голосу с граммофонной пластинки, с которой лились звуки «Вернись в Сорренто»? Столь любимые русскими писателями бухты и скалы Капри, античные развалины Рима и Сицилии, сотни лет вдохновлявшие многие поколения романтиков. Дворцы дожей и каналы Венеции, фрески виллы Борджиа и флорентийские дворцы.
Возрождения, швейцарские гвардейцы в своих архаичных шапках у ворот Ватикана. Коварные Медичи, мудрый Макиавелли и лукавый Боккаччо. Капелла Святого Петра, шарманщики с обезьянками на улицах Рима и напыщенные мафиози в хрестоматийных полосатых костюмах, сидящие перед тарелкой пасты в уличных кафе Палермо и Катании. Старухи в чёрном, идущие за гробами убитых в бесконечных вендеттах, и беспечные венецианские гондольеры у площади Сан-Марко.
Порой кажется, что мы знаем об Италии всё — историю, традиции, привычки, моду, кухню. Но в этот раз нас не интересуют ни бельканто, ни неореализм итальянского кино 60-х. Мы не будем спорить о пристрастиях Леонардо, и пытаться поднять завесу тайны Джоконды.
В каббалистике существует такой термин, как «ситра ахра», что буквально можно перевести как «другая сторона» — обратная, тёмная сторона реальности, подпитываемая грехами людскими
[255]. Но такая «обратная сторона Луны» существует не только в качестве метафоры или философской категории. Своя «ситра ахра» — назовём её в этом контексте скелетами в шкафу — есть и у каждой культуры. Зазеркалье Италии было двуликим. Если две беды России — это, как известно, дураки и дороги, то двумя проклятиями Италии на многие сотни лет стали каморра и дуэли на ножах.
На протяжении всей истории Апеннинского полуострова на территории его появлялись и исчезали государства, культуры и народы, и все они приносили какие-то свои уникальные традиции. Как неоднороден сам итальянский этнос, так разнородна и его культура. В отличие от других стран, где также существовали культуры поединков на ножах, таких как Испания или Голландия, ножевая традиция Италии не появилась в какой-то определённый исторический период. Она формировалась и развивалась под влиянием множества часто совершенно не связанных между собой факторов в течение многих веков. Особую сложность изучению региональных обычаев и традиций Италии придаёт тот факт, что вплоть до середины XIX столетия страна была раздроблена и представляла собой множество отдельных государств, различающихся по этническому составу и говорящих на различных диалектах.
За минувшие века ножевая культура стала настолько органичной частью жизни итальянцев и неотделимой частью системы ценностей итальянского общества, что даже просвещённые итальянские поэты и писатели прошлого считали использование низшими классами Италии ножей для решения споров естественной частью народной культуры. Описание и изображения подобных поединков мы находим не только в многочисленных пособиях по фехтованию и самообороне, но и в работах прославленных итальянских писателей и художников эпохи Возрождения. Так, сцену, изображающую поединок на кинжалах, мы можем увидеть на картине «Adorazione dei Magi» — «Поклонение волхвов», написанной известным итальянским художником Джентиле да Фабриано в 1423 году.

Рис. 1. Фрагмент полицейского протокола о задержании Караваджо с изображением конфискованного оружия, 1605 г.
Любовью к поножовщине славились и некоторые выдающиеся деятели эпохи Возрождения. Так, например, привычкой хвататься за нож по любому поводу был известен прославленный флорентийский скульптор, ювелир и живописец Бенвенуто Челлини. За любовь к кинжалам и ножам неоднократно задерживался и другой его современник — великий итальянский художник, один из крупнейших мастеров барокко Микеланджело Меризи да Караваджо. Его биограф Варриано писал, что об интересе Караваджо к холодному оружию свидетельствует датированная 1605 годом перепись его имущества, а также полицейские протоколы зафиксировавшие его многочисленные аресты по обвинению в незаконном хранении оружия
[256]. В архивах римского трибунала сохранился черновик одного из протоколов, описывающий шпагу и кинжал, конфискованные у художника при задержании. А из переписи личного имущества Караваджо, составленной в 1605 году мы узнаём, что он владел двумя шпагами, двумя дуэльными кинжалами и большим ножом. Некоторые исследователи творчества художника, считают, что многочисленные изображения шпаг и кинжалов на его картинах, отражали не только тягу Караваджо к насилию, но и то, что холодное оружия являлось для него символом чести
[257].
28 мая 1605 года, ЗЗ-летний Караваджо, к тому времени уже являвшийся известным художником, был задержан на Виа Дель Корсо у церкви Святого Амвросия, офицером полиции, капитаном Пино и обвинён в незаконном ношении оружия без письменного на то разрешения. Но по распоряжению его покровителя, кардинала Франческо дель Монте, Караваджо был освобождён, и более того, ему было даровано право ношения оружия
[258]. Кстати, интерес, который Караваджо проявлял к ножам, не был исключительно академическим. Большую часть жизни обладавшему буйным нравом маэстро приходилось скрываться от закона из-за участия в нескольких поножовщинах, имевших самые фатальные последствия.
Американский негоциант и путешественник Луис Симон в 1828 году писал об итальянцах, что в этих краях первое убийство значило для репутации юноши то же самое, что и первая дуэль в высшем обществе, и что идеалы свободы и мужества заключены, с их точки зрения, в бесконтрольном использовании стилета
[259]. И действительно, поединки на ножах в Италии собирали не менее кровавую жатву, чем навахады в соседней Испании. Лафкадио Хирн как-то заметил, что из всех народов только испанцы и итальянцы знают, как надо использовать нож, и что итальянцы делают это так же естественно, как дикий зверь использует свои клыки и когти или как змея — свои ядовитые зубы
[260].
Известный английский ботаник, основатель Линнеевского общества Джеймс Эдвард Смит, путешествовавший в конце XVIII столетия по Европе, посетил и Геную. Как типичный англичанин той эпохи, он гневно осуждал «варварские» обычаи итальянцев. В 1793 году в своих путевых заметках он вспоминал, как в Генуе ему показали великолепную больницу, одну из лучших и самых больших в Европе, в которую каждый год поступало около 700 женщин и 1200 мужчин с ранениями от ножа или стилета
[261]. Количеством поножовщин был поражён и другой путешествовавший по Италии англичанин, баронет Ричард Джозеф Салливан, чьи воспоминания об этой стране вышли всего через год после работы Смита. В своих мемуарах Салливан упоминает, что в приватной беседе с неким высокопоставленным чиновником он получил заслуживающую доверия конфиденциальную информацию о том, что в Неаполитанском королевстве ежегодно совершается около пяти тысяч убийств
[262]. А Симон, посетивший Италию в 1818 году отмечал, что в его приезд в Риме происходило одно убийство в день, а всего за пару лет до этого, ежедневно совершалось 5–6 убийств. Также в качестве иллюстрации, он упоминал показательный случай, когда в течение только одного большого праздника, в поединках на ножах было убито четырнадцать человек
[263].
Согласно полицейской статистике Папской области, в 1853 году совершалось четыре убийства в день, большинство из которых являлись следствием поединков на ножах. Показательно, что с 1850 по 1852 год, только два убийства в Риме произошли при ограблении. С 1890 по 1896 год в Вечном городе было отправлено 2354 вызова на дуэль, 900 из которых были удовлетворены, согласно кодексу чести. В 1896 году произошло 103 дуэли, из них 97 на саблях, с одним смертельным исходом и 150 ранеными. Что же касается ножа, то с 1890 по 1896 год на 300000 душ населения Рима, была зарегистрирована примерно тысяча ножевых ранений. На шестидесяти попавших в полицейские протоколы народных дуэлях, несколько человек погибло, и более ста получили ранения. Всего в Риме с 1890 по 1940 год, только согласно официальной статистике жертв поединков на ножах было около 600
[264].
Популярность дуэлей на ножах достигла в Италии середины XIX века такого масштаба, что эти кровопролития превратились в привычный антураж повседневной жизни. Так, например, тела погибших в ножевых поединках во время праздничных возлияний, сносили в специальную комнатушку при церкви, называемую «сфреддо». После каждого праздника на квартал обычно набиралось 7–8 покойников. Джиджи Дзанаццо упоминал типичный детский вопрос тех лет, задаваемый родителям: «А мы пойдём смотреть на тех, кого сегодня зарезали?»
[265].
Ножи проникли абсолютно во все сферы жизни итальянцев и вторглись даже в такую чувствительную область, как их отношения с Богом. Профессор Сьюзан Никассио в своей работе о Риме XIX столетия писала, что отношение римлян к Богу и святым было сугубо рациональным и потребительским. Этот мир с их точки зрения походил на повседневную жизнь, с той же системой отношений шефа и его служащего. Поэтому им казалось совершенно логичным и разумным обращаться со своими проблемами к тому святому покровителю, которому они доверяли больше всего. Эта система отношений часто ввергала в изумление приезжих, особенно протестантов. Для того, чтобы просьбы были лучше услышаны, на алтарь и святыни вешали и раскладывали всевозможные подарки. Часто среди подношений было оружие — особенно ножи. Также в дар приносились длинные острые шпильки для волос, которые так любили носить римские женщины из всех слоёв общества. Часть оружия подносилась в знак раскаяния преступниками, а другая часть ими же, но уже в качестве благодарности за успешное совершение преступления
[266]. Об отсутствии у римлян особого пиетета к святым писали многие авторы XIX столетия. Так, например, английский журналист Джордж Сала отмечал, что нередко можно было увидеть трастеверца деловито затачивающего нож о каменное изваяние Мадонны
[267].

Рис. 2. Бригант преподносит кинжал в дар деве Марии. Луи-Эсташ Оду, 1836 г.

Рис. 3. Бриганты сражающиеся на ножах. Томас Баркер, 1844 г.
Жители Рима славились своей вспыльчивостью и привычкой внезапно хвататься за оружие. Согласно свидетельствам путешественников, каждый римский мужчина носил за поясом нож, а волосы каждой женщины держала заколка-стилет. Джиджи Дзанаццо писал, что для римлян в те дни нож был всем — целой жизнью. Его хранили в кармане рядом с чётками, время от времени проверяли, на месте ли он, и гладили как сокровище. Для них нож был другом, который всегда рядом — и днём, и ночью: ночью под подушкой, а днём в кармане. Время от времени его доставали, открывали, полировали, натачивали и даже целовали
[268]. В своём исследовании культуры ножевых поединков Италии Даниэле Боски отметил, что местные девушки не спешили выйти замуж за человека, не доказавшего храбрость в дуэли на ножах
[269].
Корни этой кровожадной привычки можно искать и в унаследованной итальянцами безжалостности римских легионеров, и в текущей в их жилах крови этрусков, лангобардов и иллирийцев. Возможно, свою роль в формировании итальянского менталитета сыграли бесконечные войны генуэзцев и венецианцев, а на стереотипы мужской идентичности наложила отпечаток гипертрофированная культура чести соседней Испании. А может быть, нож стал неотъемлемой частью жизни итальянцев в период анархии, царившей в городах-государствах периода раздробленности Италии, когда клинок был единственной преградой между кошельком крестьянина и разбойником.
Нельзя забывать и о том, что Италия, как и соседняя Испания, слыла колыбелью фехтования и в XV–XVII веках, в период золотого века шпаги, она дала Европе таких великих мастеров, как Гвидо Антонио ди Лука, его ученика болоньезца Акилле Мароццо, Агриппу, ди Грасси, Виджани, и многих других. Неофиты из всех уголков Европы съезжались в Италию постигать хитроумные таинства фехтовальной науки. Невозможно отрицать ту огромную роль, которую сыграла в формировании культуры народных поединков высокоразвитая итальянская фехтовальная традиция. И сегодня во многих сохранившихся в Италии традиционных школах ножа мы можем встретить архаичную терминологию и техники, описанные ещё в 1536 году Акилле Мароццо в его легендарной работе «Opera Nova dell'Arte delle Armi». Что косвенно свидетельствует как о древности традиции, так и о корнях этих систем
[270].
Опираясь на обширный фактологический материал, я попытался воссоздать историю возникновения традиции народных дуэлей на Апеннинском полуострове. Тщательное изучение истории итальянской культуры ножа, даёт мне основания предполагать, что на появление этой традиции повлиял синтез нескольких абсолютно несвязанных между собой факторов, которые я постарался рассмотреть максимально объективно и непредвзято. Итак, начнём с самой спекулятивной, но и самой любопытной версии происхождения традиции народных поединков чести.
Как-то в частной беседе мой хороший друг — хранитель старинного апулийского боевого искусства, обронил фразу, что по фытующей в Апулии легенде техники владения ножом впервые появились в окрестностях древнего апулийского приморского города Галиполи, откуда и начали распространяться далее, по всему югу, в Саленто, Манфредонию и Калабрию
[271]. В результате, как это часто бывает, всего лишь одна брошенная вскользь фраза инициировала крайне любопытное исследование.
Для начала, в качестве преамбулы, совершим ключевой для дальнейшего повествования экскурс в историю юга Апеннинского полуострова. Чтобы проследить всю логическую цепочку, начнём с античности.
Галиполи, или Калиполис, что значит «прекрасный город», лежит на западном побережье Салентийского полуострова, в апулийской провинции Лечче. Он разрушался готами и вандалами, а позже принадлежал римским папам и являлся центром борьбы против греческих монастырских орденов. Но нас интересует совершенно другой период истории «прекрасного города».
Началась эта история в VIII веке до рождества Христова, когда приплывшие в Апулию парфении на месте современного Таранто основали спартанскую колонию Тарентум, или Тарент. Парфениями называли детей незамужних спартанок — сословие, появившееся в Спарте во время Первой Мессенской войны. После окончания этой войны они были высланы из страны и отправились осваивать новые земли
[272]. Основание Таранто этими пассионариями являлось частью Великой греческой колонизации, проходившей в УІІІ-УІ вв. до н. э., когда полисы дорийцев росли как грибы на побережьях Южной Италии и Адриатики, на Сицилии и в Причерноморье. Именно дорийцы основали Сиракузы и Византий, нынешний Стамбул. К античным спартанцам мы ещё не раз вернёмся в этом повествовании, а пока перенесёмся на несколько столетий вперёд и обратимся к истории их прямых потомков, о которых и пойдёт речь.
В XVII столетии Венецианская республика вела затяжную и утомительную войну с Османской империей. На стороне Венеции сражались и воинственные выходцы из греческой области Мани, которых за их свирепость и бесстрашие в бою часто сравнивали со скандинавскими берсерками. После окончания венецианско-турецкой войны венецианцы, как это частенько бывает, бросили своих бывших союзников на произвол судьбы. Но это предательство не сломило маниотов, и они продолжали сопротивляться туркам настолько успешно, что султан Мехмет был вынужден послать для их усмирения 2000 человек пехоты и 300 кавалеристов. Когда турки высадились на побережье Мани у лаконийской деревеньки Ойтило, маниоты напали на них и вырезали всю карательную экспедицию. Спаслось всего несколько человек, включая командира отряда
[273].
С 1500 по 1570 год маниотвм удавалось сохранять свою независимость от Османской империи, которая была слишком занята попытками изгнать венецианцев с Пелопоннеса. Война с османами шла с переменным успехом. Туркам удалось захватить Крит, но вскоре объединённые войска Священной лиги наголову разбили их флот в битве при Лепанто, в которой принимал участие и автор бессмертного «Дон Кихота» Сервантес. В 1645 году бесконечное противостояние венецианцев с турками начало новый виток, известный как Критская война. И опять маниоты выступили против общего врага, предложив Венеции свои суда. А в 1667 году они и сами напали на флот османов и даже подожгли несколько кораблей
[274]. Но военная фортуна изменчива, и через два года кульминацией этой войны стало очередное падение Крита.
Эмиграция из Греции в Италию уже случалась в конце XV и начале XVI столетия, но взятие Крита турками превратило её в бурный поток, достигший пика в 1670-х. Особенно большой отток населения приходился на мятежный Мани, не желавший разделить судьбу Крита и попасть под оттоманское владычество. На протяжении всей второй половины XVII столетия маниоты вели переговоры сразу с несколькими итальянскими государствами о позволении беженцам осесть в их доминионах.
Так, нам известно об эмиграции в 1671 году из местечка Ойтилон в Тоскану нескольких сотен членов маниотского клана Иатрани — Медиче. Около шести сотен маниотов в 1673–1674 годах перебрались в Ливорно. В 1679-м члены клана Иатрани-Медиче снова покинули родные горы Мани, направляясь на этот раз в Неаполь. В 1675 году с причалившего на Корсике корабля сошло около 700 членов клана Стефанополи из Витило, основавших там первую маниотскую колонию. А в 1674–1675 годах 340 маниотов из Андроувиста и Прастиоса прибыли в апулийский город Бриндиси
[275]. Путешественники Спон и Велер, посетившие Мани летом 1675 года, отметили, что незадолго до их прибытия множество маниотов перебралось в Апулию
[276].
Таким образом, мы видим, что в конце XVII столетия воинственные выходцы из греческой области Мани поселились в Апулии и других регионах Южной Италии, вскоре прославившихся своей традицией поединков на ножах. Эта на первый взгляд несущественная историческая справка является одним из важнейших свидетельств в нашем дальнейшем исследовании. Наверняка у читателя возникнет закономерный вопрос: а почему, собственно, так важна судьба нескольких тысяч выходцев из Мани переселившихся в Южную Италию почти пять столетий назад, и какое отношение всё это имеет к основавшим Галиполи спартанцам? А вот для этого нам придётся выяснить, кем же были эти суровые и безжалостные воины, жившие кланами в своих домах-башнях на скалистом побережье древней Лаконии.
Мани, давший имя маниотам, или, как его ещё иногда называют, Майна, — это полуостров в Лаконии, в Южной Греции, представляющий одну из трёх оконечностей Пелопоннеса. Мани известен своим горным хребтом Тайгет, глубокими ущельями и прекрасными пляжами. Здесь, рядом с мысом Тенарон, так же известным в древности как Матапан, когда-то находился храм Посейдона. В этом храме, по легенде, эфоры подслушали разговор между правителем Спарты Павсанием и его посланником. Вблизи, в пещере, находилась пропасть, считавшаяся входом в подземное царство. Здесь, по преданию, дельфин высадил на берег поэта Ариона
[277]. Но Мани вошёл в историю вовсе не благодаря открыточным видам и античным мифам, а как колыбель легендарной воинской культуры, земля древнего этноса, прославившегося своим вошедшим в поговорку суровым нравом. Именно здесь, среди хребтов и ущелий, и находилась легендарная Спарта.
Журнал «Вестник Европы» писал в 1808 году: «Майноты населяют ту часть Морей, которая образует мыс Мотапан, и называют себя потомками древних спартанцев». Греки считали, что даже женщины маниотов унаследовали дух и мужество древних лакедемонянок. Во время многочисленных войн с турками маниоты никогда не покидали позиций, и боеприпасы им всегда подносили женщины. Если мужчина-маниот получал смертельное ранение, то жена брала в руки оружие и мстила за его гибель. Во время одной из войн с турками мани-отка, увидев, что её сын убит, взяла его нож и крикнула: «Спи, сын мой, я на твоём месте!» По свидетельствам очевидцев, маниотские женщины отличались твёрдостью духа и презрением к смерти. Так, одна маниотка по имени Ирина, получив тяжёлое пулевое ранение, крикнула туркам: «Теперь я не могу сражаться, но воспитаю детей, которые отмстят за меня!» Другая маниотка, Елена, недавно вышедшая замуж, нашла своего мужа с пулевым ранением левой руки. Елена сама извлекла пулю из раны и, отдавая ее мужу, сказала: «Возьми и пошли ее обратно неприятелю!»
Примеру матерей следовали и дочери. Девушка по имени Стамата принесла своему брату порох и пули в тот момент, когда он дрался на саблях с двумя турками. Она схватила ружье брата и застрелила одного из неприятелей. Второго брат зарубил саблей.
Так как из-за бесконечных войн маниоты постоянно находились «под ружьем», то трусы среди них попадались редко, а если даже они и встречались, то на них доносили женщины из их собственных семей. Убитого в бою маниота оставляли на месте гибели до конца боя. После сражения его хоронили, а одежду возвращали семье. Семья погибшего внимательно изучала следы крови на одежде, чтобы выяснить, куда было нанесено смертельное ранение — спереди или сзади, в спину. В первом случае его оплакивали, а во втором одежда погибшего сжигалась, а имя его подвергалось забвению, и никто не смел даже вспоминать о нём
[278].
Американский консул в Афинах Г. А. Пердикарис писал в 1845 году, что среди всех общин, населяющих полуостров, никто настолько не сохранил свои традиции и идентичность, как те, что обитают в самых недоступных районах горного хребта Тайгетус и известны под общим именем маниотов.
Происхождение маниотов покрыто тайной. Лучшие умы XIX столетия ломали в спорах копья. Так, генерал Гордон придерживался мнения императора Константина Багрянородного и соглашался с этим автором в том, что «люди Мани имеют чисто греческое происхождение, что они долго сохраняли языческие обряды и были обращены в христианство Василием Македонским». Маниоты были не настолько эрудированы, чтобы их волновали сложные теории чужаков об их истории и происхождении. И хотя сами они не предлагали никаких других аргументов в поддержку этой теории, но при этом гордились своим корнями и славной родословной.
Ещё одним свидетельством, потверждающим их спартанское происхождение, являлось то, что легендарные спартанские герои Ликург и Леонидас продолжали жить в их легендах и народных традициях, частично воплотившись в святых и частично в прославленных корсаров. Также в пользу этой версии свидетельствовали их язык, внешность, манеры и обычаи. Хотя, возможно, они и не были так уж похожи на древних жителей Лакона, но совершенно очевидно, что людям, населяющим высокогорные районы Тайгетуса, удалось избежать всех перемен, потрясений и смешения рас, происходивших здесь на всём протяжении Средних веков. Кроме этого, им также посчастливилось сохранить часть своих свобод и большую часть своего языка. Хоть в их языке и встречалось немало иностранных слов, очевидно, попавших в Мани с пиратами, перевозившими контрабанду, но это были неологизмы, а не часть их древнего наречия
[279].
Также и Пердикарис, упоминая
сходство маниотов с их предками-спартанцами, отмечал особое положение их женщин, которые, как и в древней Спарте, пользовались большим уважением и участвовали в боях наравне с мужчинами. Так, например, во время частых распрей между кланами, когда мужчины-маниоты не могли покинуть свои дома-башни, их на своих спинах переносили женщины. Многие из них покрыли себя славой во время войн с турками, и греческий сенат даже наградил двух маниоток за проявленное в бою мужество
[280]. В обращении с оружием женщины Мани были не менее искусны, чем их спартанские предшественницы. Так, Пердикарис приводит рассказ некоего полковника Лика, которому маниотская женщина предложила соревнование в стрельбе из мушкета по шляпе, лежавшей на расстоянии 150 метров. Полковник отклонил это предложение, но вовсе не из джентльменских побуждений, как можно предположить, а так как хорошо знал, что за плечами у этой женщины боевой опыт многочисленных сражений, и два боевых ранения полученных в боях с турками
[281].
Таким образом, из этих свидетельств мы видим, что не только сами маниоты считали себя прямыми потомками спартанцев, но и многие исследователи, знакомые с их бытом и традициями, придерживались той же точки зрения. И такой известный и авторитетный автор, как французский историк Рулье, отмечал, что совет старейшин маниотов при заключении договоров, как и много веков назад, именовал себя сенатом Лакедемона. Когда в 1770 году маниоты восстали, чтобы поддержать неудачную попытку России освободить Грецию, они отправили к Фёдору Орлову, готовившему в Италии военную операцию, делегацию, именуемую «Спартанское посольство». Орлов питал слабость к античности и из имевшихся в его распоряжении войск он создал два подразделения, которые назвал «Спартанскими легионами»
[282]. Как описывал маниотов один из современников: «Сии потомки Лакедемонян не показывают в себе тех признаков порабощения, какие приметны в прочих греках, находящихся под непосредственным господством турков»
[283].
Российский морской офицер Владимир Броневский, участвовавший в Средиземноморской кампании 1805–1810 гг., писал, что в горах Тайгет живут маниоты, сохранившие свою независимость потомки спартанцев. Далее он отмечал, что они суровы, любят вольность, оказывают уважение старцам, поют исключительно военные песни и бесстрашно умирают
[284].
Роусон в работе «The Spartan tradition in European thought» пишет, что свирепые жители мыса Матапан считались и византийскими, и современными учёными остатками древних спартанцев. Их поведение, включая воинственность их женщин, «делало их если не достойными славы спартанцев, то достойными претендовать на неё»
[285]. И полковник Луис Вутье в своих воспоминаниях о войне в Греции называл маниотов настоящими спартанцами и отмечал их усердие в соблюдении древних спартанских законов, изданных ещё легендарным Ликургом
[286].
Безжалостность этих наследников славы Леонидаса поражала даже видавших виды товарищей по оружию, сражавшихся с ну ми в одних рядах. Греческий поэт XVIII века Антониос Кирьязис, известный под псевдонимом Ригас Велестинлис, в своём «Военном гимне» назвал свирепых маниотов «известными львами»
[287].
Некий русский офицер, воевавший вместе с маниотами против турок, вспоминал один из эпизодов этой войны, когда маниотский отряд, получивший название Восточного легиона, был передан под командование капитана по фамилии Барков. С Барковым находился лейтенант Псаро, грек по происхождению, один сержант и 12 русских солдат. Легион напал на турецкий лагерь у города Мизитра, в котором насчитывалось около 3000 турецких солдат. 8 марта после девятидневной осады крепости турки числом 3500 человек сдались, выдав оружие и амуницию. Как только это произошло, маниоты, не соблюдавшие никаких законов войны, набросились на турок и вырезали их, не щадя ни женщин, ни детей. Барков с 12 русскими солдатами пытался защитить турок, сам рискуя при этом жизнью.
Маниоты вырезали около тысячи турок. Остальных Барков спрятал в греческих домах в городском предместье и поставил часовых. Для того чтобы добраться до своих жертв, маниоты в ярости открывали огонь по русским часовым. В результате, чтобы укротить их гнев, Баркову пришлось отдать город на разграбление. Пока маниоты грабили город, он скрытно выводил турок, но, несмотря на все меры предосторожности, некоторые маниоты предпочли добыче месть и кровь. Они преследовали турок и по дороге убивали. Спаслись немногие. Всего турок с женщинами и детьми было около 8000 человек
[288].
Поэтому неудивительно, что, прибыв к берегам Южной Италии, переселенцы из Мани не превратились в мирных виноделов и не занялись изготовлением оливкового масла или высаживанием фруктовых деревьев. Они продолжили заниматься привычным ремеслом, унаследованным от спартанских пращуров, тем единственным, что они умели делать хорошо, — войной. Эти воины из Пелопоннеса и составили основу страдиотов — легендарной лёгкой кавалерии Венецианской республики, покрывшей себя славой в войнах с Османской империей.
Неаполь, находившийся под испанским владычеством, начал набирать на службу страдиотов в конце XV — начале XVI века. Первые страдиоты в службах Испании были зарегистрированы в 1470-х, после восстания в Мани под руководством Кладаса Коркоделиоса. После провала этого восстания большая часть повстанцев продолжила служить испанской короне в Италии.
Вот как описал прибытие страдиотов в Венецию один из очевидцев, известный историк Марино Сануто: «22 апреля 1482 года прибыл первый корабль с кавалерией, перевозивший на борту семьсот страдиотов из Корони. Страдиоты, греки и они носят широкие плащи и высокие шапки, на некоторых надеты доспехи… в Пелопоннесе они привыкли к разбою и частому грабежу. Они прекрасно противостоят туркам, отлично устраивают вылазки, неожиданно налетают на врага и лояльны к своим правителям. Они не берут пленных, а отрезают своим противникам головы, получая по их обычаю дукат за каждую»
[289].
Хотел бы обратить внимание на маниотский обычай отрезания голов, отсылающий нас к древним эллинским традициям и верованиям. Как известно, античные греки практиковали обезглавливание врагов, так как считали, что именно голова является вместилищем «псюхе» — жизни. Даже глагол SeipOTopeiv — «перерезать шею», использовался в античной Греции в значении «убивать
[290].
В 1538 году, после того как венецианцы покинули Корон, испанское правительство Неаполя приняло множество беженцев из городов и регионов Пелопоннеса, часть которых также осталась служить венецианцам в качестве страдиотов.
Наем и содержание этих кондотьеров Неаполь продолжал до начала XVIII столетия. Большую часть войск набирали в Эпире и Южной Албании. Согласно анналам подразделения лёгкой балканской пехоты на службе Королевства Двух Сицилий — Reggimento Real Macedone, создателем и первым командиром этого соединения был граф Стратес Гкикас, который описывается в этих документах как «ветеран страдиотов». Это может являться ещё одним свидетельством того, что в XVIII столетии страдиоты всё ещё состояли на службе Неаполитанского королевстваз
[291].
Кроме бесстрашия в бою, безжалостности к врагам и соблюдения древних законов и кодексов Лакедемона эти воины унаследовали от своих спартанских предков ещё один мрачный обычай, известный как кровная месть. Возможно, именно переселенцы с Мани в XV–XVI веках привезли эту древнюю традицию на Корсику и в Южную Италию, где она и легла в основу легендарной вендетты
[292]. Некоторые авторы ошибочно трактуют происхождение кровной мести, связывая её с отголосками традиции судебных поединков. Но кровная месть является значительно более древним феноменом, порождённым архаичными верованиями и уходящим корнями в мифологию античной Греции и доэллинские религии. Так, одно из первых упоминаний о кровной мести у эллинов мы находим в известном мифе об убившем свою мать Оресте. Как известно, за этот проступок его преследовали безжалостные эриннии, известные также и римлянам под именем фурий — богини мести, со змеями вместо волос, чёрными пёсьими мордами вместо лиц, и с крыльями летучих мышей за спиной
[293].
Специалист по античной религии и фольклору Греции профессор Джон Лоусон писал, что концепция вендетты у маниотов заключалась в следующем. Человек, погибший насильственной смертью, не мог успокоиться в могиле, пока не будет отомщён, и выходил в мир живых как вриколакос — оборотень, обуреваемый жаждой крови своего врага. Чтобы обеспечить покой его телу и душе, на ближайших родственников убитого возлагалась обязанность уничтожить убийцу или, по крайней мере, кого-то из его близких. До свершения мести над сыном довлело проклятие его отца, и если из-за его трусости или по другой причине месть не состоялась, то это проклятие переходило и на него, и после смерти он также превращался во вриколакоса. Вкратце учение маниотов сводилось к тому, что убитый восставал из могилы для свершения мести, которая заключалась в том, что убийцу должна была постигнуть участь его жертвы — насильственная смерть. Но в то же время убитый взывал о помощи к своим близким, угрожая им страданиями. Таким образом, вера в могущественное и мстительное привидение и служила главной движущей силой вендетты
[294].
Маниотский поэт XVIII века Никетас Нифакос рассказывал, что, когда в Мани мужчина не погибал в бою, а умирал от естественных причин, маниоты впадали в отчаяние, так как не было виновника смерти и некому было мстить. Таким образом, с их точки зрения справедливость могла остаться не восстановленной. Поэтому, по свидетельству Нифакоса, смерть от естественных причин могла вызывать у маниотов угрозы мести Харону, и даже самому Богу. Любые похороны предоставляли семье благоприятную возможность демонстрации мощи клана. И чем больше на панихиде присутствовало родственников, тем больше было уважение к могуществу семьи, а следовательно, тем меньше было желающих причинить этой семье вред
[295].
Кровная месть, или, как её называли сами маниоты, дикомэ, или гдикомэ, была таким же проклятием земли Пелопоннеса, как и вендетта в деревнях Корсики и Сицилии несколько столетий спустя. Голосили женщины в чёрном, а братья и сыновья давали суровые клятвы мести над свежими могилами. Решение о начале вендетты принимались на холодную голову на семейном совете. После этого семья, начавшая дикомэ, «официально» объявляла о своём намерении. Тогда в деревне слышался колокольный звон, знаменовавший начало «войны», и маниоты закрывались в своих домах-башнях с узкими бойницами вместо окон. По древнему кодексу чести маниотов, любые враждебные действия в отношении противника, предпринятые после объявления вендетты, считались правомерными, и полем битвы являлась вся деревня вместе с окрестностями.
Иногда дикомэ мог приостанавливаться по обоюдному согласию. Эти перемирия, называемые трева, как правило, предпринимались для проведения сельскохозяйственных работ, таких как сев, молотьба или сбор маслин. Кровники даже могли работать рядом в поле, но в полном молчании, не обмолвясь ни словом. По окончании трева военные действия возобновлялись. Ещё одним основанием для трева могли стать торжественные церемонии, такие как свадьбы или крестины. Окончательно же дикомэ прекращался только после уничтожения всей враждебной семьи или клана. Выжившие из поверженного клана покидали деревню, по традиции оставляя всё своё имущество победителям.
В спорных случаях решения по дикомэ, так же как в древней Спарте, принимались «геронтики», или советом старейшин Мани под управлением «капитана». Война между враждующими семьями мгновенно прекращалась только в одном случае — при нападении турок. Так, самое известное перемирие трева было объявлено национальным героем Мани, сыном легендарного военачальника маниотов Петробея Мавромихалисом в 1821 году, незадолго до начала освободительной войны против турок.
Полковник Вуатье в мемуарах о войне Греции вспоминал, что как-то раз он наткнулся на груду убитых. К нему подбежал проводник и объяснил, что это тела 150 турок, вырезанных маниотами. В одной из вылазок Малвазийского гарнизона турки захватили в плен молодого маниота из уважаемого рода и жестоко казнили на глазах его воинов. В ответ на это разъярённые маниоты, следуя закону вендетты, изрубили всех пленных турок
[296].
Я не могу однозначно утверждать, что обычай кровной мести появился в Южной Италии и на Корсике исключительно благодаря маниотам — подобная традиция была характерна для многих родоплеменных сообществ Европы. Но в пользу этой версии свидетельствует несколько фактов. Правители Неаполитанского королевства не случайно способствовали притоку иммигрантов и поощряли расселение беженцев-маниотов в определённых регионах Апулии. В XI-XVII веках эти земли практически опустели и превратились в заболоченные пустоши. Тому было много причин. Вероятно, основной из них было включение апулийской столицы — Бари в состав Неаполитанского королевства, что несомненно нанесло удар по экономике региона и затормозило его развитие. Кроме этого свою лепту внесла и свирепствовавшая в этих местах малярия, выкосившая немалую часть населения Апулии. Таким образом, маниоты высадились в практически обезлюдевших местах, и, поэтому не только не ассимилировались, но и приняли самое деятельное участие в этногенезе апулийцев. Что позволило им сохранить свою идентичность, традиционную этническую культуру, а также архаичные верования, обычаи и традиции. Также нельзя отрицать и тот факт, что и кровавый обычай вендетты в Средиземноморье получил наибольшее распространение именно в бывших в колониях и местах компактного расселения маниотов.
Так, например, обычай кровной мести, типичный для Сицилии, Калабрии или Апулии, практически неизвестен на севере Италии, и более того, северяне Милана или Пьемонта считают его варварской традицией, характерной исключительно для «диких» южан.
Естественно, возникает закономерный вопрос: а как же хрестоматийная история вендетты семейств Монтекки и Капулетти, кульминацией которой стала смерть Ромео и Джульетты? Ведь все прекрасно помнят, что сценой этой драмы являлась Верона, расположенная на севере Италии. Но этому есть простое объяснение. Самая ранняя из обнаруженных историками литературы версий этой трагедии, «II novellino», была написана около 1450 года. Принадлежала она перу некоего Мазуччо Салернитано, чьё настоящее имя было Том-мазо Гуардати, творившего при дворе арагонских королей Неаполя. «Il novellino» — это сборник рассказов, один из которых описывает историю тайной любви Мариотто и Ганоццы. Сюжет один в один повторяет знакомую всем историю Ромео и Джульетты, за исключением того, что фамилии семей не упоминаются, а Ромео-Мариотто не кончает жизнь самоубийством, а его обезглавливают по приговору суда. Да и происходят все эти трагические события значительно южнее Вероны, в тосканской Сиене.
Но главное не это. В оригинальной версии Мазуччо вендетта вообще не фигурирует, речь идёт о том, что у «одного уважаемого гражданина» по имени Мариотто вышел конфликт с другим, не менее уважаемым жителем города, который перерос в драку, в результате который оппонент Мариотто скончался от удара палкой. То есть с натяжкой это можно рассматривать как самооборону, но уж точно не как вендетту
[297]. Это достаточно распространённый пример. Немало историков грешит тем, что выдаёт за вендетты самые заурядные уличные драки, семейные дрязги и бытовые конфликты.
Если уж и говорить о теме вендетты в работах Шекспира, то в первую очередь следовало бы вспомнить Гамлета. Именно в этом произведении мы находим воплощение древнего дорийского мифа о мстительном привидении, взывающем к отмщению — призрак коварно убитого старого короля является к сыну, своему прямому потомку по мужской цинии, как напоминание о необходимости свершения правосудия
[298].
Существуют и другие, не менее любопытные свидетельства, однозначно доказывающие связь южноитальянских ножевых традиций с греками-маниотами. Факты, которые нам предстоит рассмотреть, продолжают эту цепь необычных совпадений.
В апулийских регионах, куда в шестнадцатом столетии переселились выходцы из Мани, существует любопытная традиция, известная как «данца скерма», «пиццика скерма», или «скерма салентина». «Скерма салентина», или «салентийское фехтование», представляет собой некое подобие символического поединка-танца, исполняемого исключительно мужчинами. Двое соперников входят в круг образованный толпой, и начинают ритуальный поединок на ножах, или, скорее, танец-дуэль, в котором нож заменяют сложенные вместе пальцы. Этот танец известен практически на всём юге страны, но центром его считается апулийский городок Руффано в административном районе Лечче. На протяжении многих столетий в ночь с 15 на 16 августа в исторической части Руффано, называемой Торепадули, проходят празднования в честь одного из покровителей города — святого Рокко, почтить которого приезжают тысячи паломников. Ближе к полуночи толпа зрителей образует круг, и начинается традиционная апулийская «пиццика скерма». Мужчины ритмично двигаются по кругу под аккомпанемент бубна и флейты, время от времени совершая прыжки и угрожающие выпады, имитирующие удары ножом.

Рис. 5. Тарантелла. Phonurgia Nova, Афанасий Кирхер, 1673 г.
Одно из первых свидетельств о существовании этого апулийского танца я обнаружил в датированной 1673 годом работе «Phonurgia Nova», принадлежащей перу известного немецкого учёного-иезуита XVII столетия, автора более чем сорока научных трудов, Афанасия Кирхнера. Посетивший в 1638 году Южную Италию Кирхнер не только изучал сдвиги земной коры в кратере Везувия и проводил геологические изыскания в Мессине, но и, будучи человеком любознательным и обладавшим пытливым умом, интересовался местными нравами и традициями. В том числе его внимание привлёк апулийский танец называемый «тарантелла»
[299]. Но вместо привычного изображения пляшущих девиц, на гравюре из работы Кирхнера мы видим танцующих мужчин, один из которых вооружён двумя кинжалами. Судя по музыкальным инструментам, композиции рисунка и движениям танцоров, изображенная иезуитом тарантелла, скорее напоминает не деревенские танцульки, а воинский танец античности, известный как пиррих
[300] Поэтому, обратимся к истории и происхождению этого легендарного боевого танца.
Среди всевозможных разновидностей гимнастических танцев античности особо важными считались танцы воинов, изобретение которых приписывалось богине Минерве. Самым впечатляющим из них был корибантум. Этот фригийский танец носил смешанный характер: в нем прослеживаются черты боевого, религиозного и мимического танцев. Вооруженные танцоры подпрыгивали, подбрасывая оружие вверх и лязгая им. Так они имитировали корибантов, старавшихся заглушить крики новорожденного Зевса на Крите
[301]. Сохранился терракотовый барельеф, изображающий пиррический танец двух корибантов, или, как их называли на Крите, куретов, вооружённых короткими листовидными греческими мечами-ксифосами
[302].
Пиррих, боевой танец дорийцев, был довольно быстр, исполнялся под двойную дудочку и символизировал действия воинов на бранном поле. Описанный Гомером «Hoplites» — гоплит считается танцем именно этого типа. Дорийцы очень трепетно относились к этому танцу и считали, что их военный успех зависит от быстроты и сноровки его исполнения
[303]. Подобные воинские танцы с оружием существовали и у других народов. Так, например, в Риме военным танцем, введенным Ромулом в память о похищении сабинянок, был «салтатио белликрепа»
[304]. Эти танцы были популярны и в Англии, и их изображения в английских манускриптах дают основания предполагать, что это были всё те же древние пиррические танцы греков, привезённые в Рим Юлием Цезарем, а позже попавшие с его легионами в Британию. В Древней Греции также были очень почитаемы танцы жонглёров и акробатов с ножами и мечами
[305].
Родиной пиррического танца считается Крит. Николай Дамасский в «Стобее» писал, что мальчики у критян получали совместное строгое воспитание: они обучались военному искусству, занимались охотой, бегали в гору босиком и вооруженные усердно упражнялись в пиррихе, который придумал Пиррих Кидониат, родом критянин
[306].
Другие авторы приписывали изобретение пирриха Кастору, Дионису или Афине. Из мифических сказаний можно заключить, что изобретатель этого танца был выходцем с Крита или из Спарты. Платон описывал пиррих как мимическую военную игру, в которой танцоры движениями тела выражали приемы, использовавшиеся в сражении при нападении и обороне от врага. Афеней называл пиррих спартанцев «προγυμναδμα του πολεμου» — «военная тренировка»
[307].
По свидетельству греческого историка Ксенофона, пиррих танцевали под звуки флейты в полном вооружении, ловко подпрыгивая на значительную высоту и обмениваясь ударами меча. Пиррих длился до того момента, пока один из танцоров не изображал нанесение противнику смертельного ранения. Тот падал как убитый, хотя на самом деле не получил ни царапины. После этого победитель снимал с себя доспехи и выходил петь гимн в честь Ситалка, в то время как «убитого» скорбно уносили друзья
[308]. Скорее всего, Ксенофон имел в виду фракийского царя Ситалка, правившего Фракией в пятом веке до нашей эры.
Эти древние пиррические танцы можно было увидеть и в Италии начала XVI века, когда они исполнялись для увеселения герцогини Феррары, Модены и Реджио, печально известной Лукреции Борджиа. Одни танцоры были вооружены большими ножами, другие булавами или двуручными мечами, и кроме этого у всех были кинжалы. Поклонившись, они начинали танцевать под звуки музыки, потом разделялись на две группы, и тут же вступали в бой. Каждый удар наносился в такт с музыкой. Затем те, кто был вооружён булавами, отбрасывали их в сторону, доставали мечи, и начинали наносить друг другу колющие удары — «colpi di punto», не переставая при этом танцевать. По условному сигналу они бросали мечи, и набрасывались друг на друга с кинжалами, По другому сигналу, половина танцоров бросалась на землю, изображая раненых, в то время как их «противники» стояли над ними с кинжалами в руках в роли победителей
[309].
Французский дипломат, историк и путешественник Франсуа Пукевиль, занимавший пост консула в Греции, в 1805 году издал свои путевые заметки, в которых описал танец, очевидцем которого он стал при посещении Мани. Он отметил, что танцы маниотов поразительно напоминали ему танцы греков античности. Как и в древней Спарте они также исполнялись под звуки бубнов, флейт и сопровождались хором или предводителем танца, поющим определённое количество строф. Наблюдал он и пиррический танец двух мужчин, вооружённых кинжалами, для которого были характерны воинственные прыжки. Также и этот танец по мнению Пукевиля несомненно вёл своё происхождение от древнего Лакедемона.
«Когда я наблюдал за исполнением этого танца, мне показалось, что я перенёсся в древнюю Спарту, и в конце я уже был встревожен, ибо таковы были стремительность и ярость исполнителей, что я ожидал кровавой развязки представления», — писал Пукевиль в своих воспоминаниях
[310].
Совершив этот краткий исторический экскурс в историю пиррических танцев, вернёмся к в современную нам Апулию и ближе познакомимся со старинной традицией «скерма салентина» — одной из последних представительниц этой древней воинской традиции.
«15 августа в Торепадули, перед храмом Святого Рокко собралась толпа из десятков тысяч людей. Примерно в 11 часов вечера Джузеппе Мемми и его музыканты с бубнами в руках раздвинули толпу и образовали круг. Затем встали по краям этого круга и начали играть и петь. Вскоре в центр круг вышли две девушки, и стали танцевать пиццику. Вдруг в ронду ворвались два крупных пожилых мужчины, вытеснили девушек и начали танцевать скерма. Я был удивлён, так как раньше не встречал в Саленто такого агрессивного поведения. Через несколько минут Джузеппе, прекратил играть и ушёл, сказав, что пространство круга — «ронды» отравлено их энергетикой и движениями» — вспоминал один из очевидцев
[311].
Сложно с уверенностью сказать, каким образом эта традиция приняла сегодняшнюю форму. Как сказал о возникновении «скерма» исследователь Луиджи Тарантино: «поп esiste un'origine та una lunga genesi» — «она не появилась в один миг, а долго формировалась». В предшественники скермы он записывал и распространённые в Средневековой Италии танцы с мечом, и традиции поединков для решения вопросов чести. Кроме этого, в качестве её предтечи он также рассматривал и дуэльные техники преступного мира, из которых вышли многочисленные школы ножа по всей Южной Италии. Не менее важным фактором, являлось влияние цыганского сообщества Апулии. Трудно сказать, как эти элементы воздействовали друг на друга в течение столетий, но все они несомненно внесли свою лепту в формирование этой апулийской традиций
[312].
В скерма существовали и реальные бои с победителями, и, как и в традиционной формальной дуэли, часто решались дела чести
[313]. Эти поединки, как и формальные дуэли, регулировались определёнными правилами, которые должны были неукоснительно соблюдаться. Один из хранителей традиции скерма, маэстро Рафаелле Донадей рассказывал, что все эти правила являются частью скерма и в наши дни. И сегодня, как и сто лет назад, эти дуэли окружает закон молчания, омерта — «gli schermatori hanno un loro códice d'omerta», что несомненно обусловленно влиянием преступного мира. И маэстро Рафаэле, и его сын Леонардо Донадей убеждены, что скерма была создана на улицах и в тюрьмах, и рождением своим она обязана «malavitosi», то есть, преступному миру
[314].
Эти поединки проводятся и сегодня. Приезжие «люди чести» из соседних с Торрепадули городков, таких например как Тауризано, сражаются против гостей из Галиполи или Таранто, также приехавших на чествование Святого Рокко. Они входят в дуэльный круг чтобы как их деды и прадеды, защитить честь своего города, свою «территорию». Леонардо Донадей рассказывал, что в местечке Парабита было четыре банды, в Матино, пять, и шесть в Казарано. Каждая из этих группировок состояла из пяти бойцов — сакральной цифры для «малавита», преступного мира Италии. Банда, одержавшая верх в поединках на празднике Святого Рокко, главенствовала в своём районе до следующего года.
Знатоки скерма считают, что семьи связанные с преступным миром, являются лучшими представителями этого боевого искусства. Как сказала о них специалист по истории скерма, Памела Магли: «'loro sono il piu bravi tiratori di scherma» — «они самые опытные бойцы». «Malavitosi» всегда были хранителями этой традиции, а также строго соблюдали дуэльный кодекс и закон молчания. Они и сегодня продолжают участвовать в скерма на всех праздниках в честь Святого Рокко
[315].
Как уже говорилось, важным фактором, оказавшим влияние на скерма, стала диаспора кочевых цыган из южной части Саленто. За последние семьсот лет прошло несколько этапов переселения цыган из Восточной Европы в Южную Италию. Многие столетия они занимались здесь своими традиционными промыслами. Даже и сегодня торговля лошадьми играет важную роль в жизни цыганского сообщества Апулии. Некоторые из этих торговцев осели в двух южных городках Апулии — Тауризано и Казарано, где живёт ряд влиятельных цыганских семей, таких как Бевилакуа и Ринальди. Всегда существовали сложности с интеграцией цыган в итальянское общество, да и сегодня эта проблема не исчезла. Но автор книги «Zingari, San Rocco, pizzica scherma» — «Цыгане, Сан-Рокко, пиццика скерма», музыкант Элиде Мелькиони предполагает, что именно объединение двух сообществ и привело к появлению «пиццика скерма» в её сегодняшней форме.

Рис. 6. Румынский кэлушар.
Цыгане приезжают в Руффано в преддверии праздника, и готовятся к торговле лошадьми и скобяными товарами. Они, как и салентинцы, поющие и танцующие «пиццика» в кругу перед храмом Святого Рокко, формируют свои круги, играют, танцуют и поют на свой манер. Кроме «скерма» цыгане практикуют и свои особые танцы с ножами, такие как «кэлуш»
[316]. Это косвенно свидетельствует о том, что часть цыган действительно пришла в Апулию из стран Восточной Европы, так как «кэлуш», это древний славянский ритуальный танец. Он был широко распространён в Северной Болгарии, Сербии, а также в Румынии и исполнялся в Русалочью неделю — Русалии. Интересно, что в Румынии «кэлуш» практиковался исключительно членами тайного братства, так называемыми кэлушарами. Им приписывалось умение общаться с феями, летать по воздуху и исцелять больных. Известный румынский историк и культуролог Мирча Элиаде связывал это сообщество с архаичным культом богини Дианы. И тут мы опять возвращаемся к пирриху, так как некоторые исследователи связывают кэлуш с пиррическими танцами даков и фракийцев.
Мелькиони считает, что в течение ночи две этнические группы в различных кругах начинают раззадоривать и провоцировать друг друга, что приводит к трансформации танца в его боевую форму. Участие цыган в «скерма» является неотъемлемой частью праздника святого Рокко, хотя не прекращаются споры, о степени их влияния на формирование этого танца. И Леонардо Донадей и его коллега, маэстро «скерма» Альфредо Баронти утверждают, что танец, исполняемый цыганами, отличается от его традиционной салентийской разновидности. Они считают, что цыганский вариант ближе к хореографии, чем к поединку, — в частности, к тарантелле, в то время как салентийскую «скерма» следует рассматривать скорее не как танец, а как боевое искусство. Хотя, не исключено, что это связано с желанием продемонстрировать чёткое различие между двумя общинами и сохранить идею «скерма» как чисто салентинское традиционное искусство. Мне приходилось видеть оба варианта исполнения, и надо сказать, что в той форме, в которой «скерма салентина» танцуется сегодня, она очень похожа как на цыганский, так и на салентинский вариант танца. Так что налицо взаимное влияние и проникновение стилей.
Ада Метафуне как-то приводила мнение некоторых салентинцев, утверждавших, что именно они обучали цыган танцевать скерма. Но это звучит малоубедительно, так как у цыган уже и до этого существовали собственные формы танца, и обе эти формы объединились в пространственно-временном континууме праздника святого Рокко. Метафуне танцевала как цыганскую, так и салентинскую «скерма» и считает, что характерные особенности танца выражают идентичность каждой группы и связь с местом проживания. Она также считает, что цыганский вариант «скерма» быстрее, тело держится прямее, там больше прыжков и отскоков, чем у салентинцев, да и двигаются танцоры проворней — «come gazzelle» — «как газели
[317].
С другой стороны, по наблюдениям Метафуне, салентинцы в «скерма» снижают центр тяжести, их осанка ниже и движения направлены к земле. Она объясняет эту разницу тем, что цыгане — кочевой народ и, следовательно, менее привязаны к корням. Именно поэтому, с её точки зрения, они больше прыгают, держатся более прямо и менее приземлены. А салентинцы наоборот говорят: «Noi abbiamo bisogno di radici anche nella danza, il nostro barkentro deve stare molto basso per prendere rorza dalla terra» («Нам в танце нужны корни, а центр тяжести должен находиться низко, чтобы питаться силой от земли»). Таким образом, она отмечает их сильную связь с салентской землёй, проявляющуюся в специфических формах танца
[318].
Хотя в наши дни нож в «скерма» заменили сложенные пальцы, так было не всегда. Когда-то праздник святого Рокко предоставлял место и возможности для решения спорных вопросов. Доставались наточенные ножи, и иногда эти дела чести заканчивались смертью участников. Так Тарантино в качестве иллюстрации приводит судебное дело об убийстве в поединке на ножах, совершённом в ночь Святого Рокко в 1887 году. Он рассказывал, что в прошлом в скерма часто использовались настоящие ножи, но затем они исчезли из-за присутствовавших на празднике карабинеров.
Мелькиони дополняет, что убийства на святого Рокко происходили каждый год, и последнее было зарегистрировано в 1944 году. Также и Альфредо Баронти вспоминал, что в его юности скерма была далеко не такой безопасной. Как он заметил: «Era veramente coi coltelli» — «На самом деле там использовались ножи».
Некоторые местные жители рассказывали, что ещё совсем недавно, рано утром 16 августа, когда полицейские покидали праздник, молодёжь собиралась в домах неподалёку, и устраивала «скерма» с настоящими ножами. Но целью их было не убить противника, а лишь нанести ему метку — оставить шрам как символ урегулирования вопроса чести. Поводом для дуэлей часто являлись семейные неурядицы или сердечные дела. Независимо от того, в какое время года совершался проступок, решение вопроса могло быть отложено до празднования Дня святого Рокко. Для этого даже существовал особый ритуальный диалог на местном диалекте. Один из соперников произносил сакральную фразу: «Ne vitumu a Santu Roccu» («Увидимся на Св. Рокко»), что являлось вызовом на поединок. Если вызов принимался, то в ответ звучало: «А Santu Roccu ne vitimu» («На святого Рокко и увидимся»
[319]. Таким образом, праздник служил местом для решения «отложенных» конфликтов, а, следовательно, отпадала необходимость проливать кровь в пылу ссоры сразу после оскорбления. Парни, участвовавшие в опасной «скерма», особенно если поединок проходил в присутствии зрителей, или в общественном месте, пользовались особым уважением. Хотя лезвие ножа заменили пальцы, но и сегодня, как и сто лет назад, «скерма» используется для разрешения конфликтов и всё также наполняет участников гордостью от выигранных боёв.
Давиде Монако в своём исследовании «скерма» описывал, как дуэлянты осторожно кружат вокруг соперника, внимательно наблюдая за каждым его движением. Внезапно следуют финты и атаки, а время от времени кто-то из бойцов пытается нанести по «ножу» удар ногой, но опытные дуэлянты всегда настороже. После получения «смертельного ранения» один из сражающихся выбывает, и его место занимает другой. Эти «бои», сопровождаемые ритмом бубнов, длятся всю ночь.
Монако упоминал два основных стиля скерма: «zingaro», или цыганская, и «leccese», техника, традиционная для апулийского региона Лечче
[320]. Стиль «леччезе» подразумевает более жёсткую и статичную стойку, а движения рук представляют собой комплекс закодированных жестов. Цыганский стиль более живой и активный, с резкими и даже дерзкими атаками. Вот краткий перечень техник, характерных для обоих стилей:
Entrata — вход. В начале поединка в круг — ронду выходит один из бойцов и вызывает любого, кто готов померяться с ним силами. Двигаясь по кругу, он проходит мимо каждого зрителя, проводя пальцем, изображающим нож, на уровне лица, что считается очень агрессивным и провокационным жестом.
Saluto — приветствие. Когда на площадку выходит новая пара или один из бойцов был только что заменен, новый бой начинается с приветственного снятия шляпы в знак уважения к противнику или с символического жеста: прикоснуться рукой ко лбу, а затем поднять её, что заменяет снятие шляпы.
Stretta di mano — рукопожатие. Два фехтовальщика, прежде чем начать бой, берут друг друга крест-накрест за ладони разноимённых рук и двигаются по кругу. Так они могут сделать несколько кругов в одну сторону, а затем поменять направление, и в этом случае руки тоже меняются. Пожатие рук в начале боя обозначает, что бой будет проходить по правилам и в соответствии с кодексом чести.
Misura — дистанция. Определение правильной дистанции, чтобы атаки противника не застали бойцов врасплох.
Assalto — атака. Нападение на противника. Иногда заранее объявленное и с предупреждением, а иногда быстрое и внезапное.
Affondo — выпад. Нанесение удара с преодолением защиты противника.
Jegamento — связывание. Быстрое сбивание руки противника с изменением траектории удара.
Cavazionе — круговая защита. Спиралеобразное движение вооружённой руки для парирования атаки противника.
Manetta о forbicetta — наручники или ножницы. Вытянутые вперёд предплечья скрещиваются, при этом невооружённая рука, обёрнутая курткой, оказывается внизу, а рука с ножом сверху. Получившаяся «вилка» используется для блокирования ударов противника.
Хочу заметить, что подобный элемент был известен и фехтовальщикам средневековья. Блокирование кинжала противника скрещенными предплечьями, известное как «ножницы», ещё в XV веке описывал в своём пособии по фехтованию Ханс Тальхоффер. И позже, в технике «эспада и дага» — поединке со шпагой и кинжалом, парирование скрещенными руками, или скрещенным оружием, было одной из самых популярных защит.
Toccata — туше. Это преодоление защиты противника с последующим выпадом и ударом.
Tagliata — порез. Движение выпрямленной ладони поперёк тела, имитирующее порез лица, груди и боков.
Chiamata — вызов. Имеет несколько толкований. Это может быть и прямое приглашение к бою, и провокационный жест. Служит для того, чтобы бросить вызов умению и мужеству противника и вызвать у него страх.
Sgarro — ошибка. Это нарушение кодекса чести, предательски нанесённый удар, умышленная провокация. Когда проходили настоящие бои, такие ошибки нередко приводили к серьёзным конфликтам.
Strisciata — царапина. Может иметь значение, сходное с Tagliata.
Pazziata — сумасбродство, или чудачество. Означает находку, выдумку либо какую-то нововведенную технику или тактику, которая впоследствии может использоваться в бою.
Minaccia — угроза ножом. Агрессивный жест, выполняемый рукой, приближенной к лицу для предупреждения противника.
Помимо этого морфологического кода существует множество других правил дуэльного танца, а зрители становятся его суровыми судьями, оценивая и поддерживая противников. Так, они следят, чтобы при выпаде бойцы для равновесия шире расставляли ноги, никогда не били в спину, уважали и принимали замену противника
[321]. Множество правил, регулирующих этот вид поединка, демонстрирует, насколько сложно данное явление и как оно перекликается с благородными правилами и нормами аристократического поединка. В то же время скерма тесно связана с культурой чести, преступным миром и тайными сообществами, что делает этот ритуальный поединок таким привлекательным и загадочным. Эту традицию также можно увидеть в Калабрийской провинции Реджио, где она принимает форму «viddhaneddha» и «tarantella-schermiata» — боевых танцев уходящих корнями в традиции ножевых дуэлей калабрийской мафии — «ндрангеты»
[322].
Маэстро Леонардо Донадей отмечал, что связь Святого Рокко с дуэлями скерма не случайна, так как в Апулии этот святой считается «е un santo delle piaghe, del dolore, della piaga del sangue, e la tradizione di questo paese» — «Святым ран, крови, боли и традиций этой земли», а Торрепадули называют «и paese te Santu Roccu» — землёй Святого Рокко
[323].
В наши дни античный пиррих также сохранился у понтийских греков в Трабзоне и Каппадокии. Эти древние воинские танцы можно встретить тут как в виде знакомых нам по многочисленным античным рисункам и описаниям групповых — «строевых» пиррихов, называемых тут «сера» или «дора страту», так и в форме индивидуальных поединков на кинжалах или ножах, известных под региональными названиями «машер», «ти машер», «хаджарц» или «махерия пичак». Современная форма этих танцев полностью соответствует описаниям пирриха античными авторами и свидетельствам очевидцев XVII–XIX веков. Без «махерия пичак», или, как его ещё называют на турецкий манер, «бичак оюну» и «бичак орону», у понтийцев не обходится ни одно важное событие или праздник. Как и лезгинка на традиционных чеченских состязаниях в ловкости — «ловзарах», пиррих в Трабзоне исполняется на всех народных гуляньях и свадьбах.
Хочу заметить, что эти ритуальные поединки далеко не так уж и условны — бойцы используют элементы и техники, когда то применявшиеся в реальных схватках, входят в клинчи и пускают в ход различные уловки. Более того, нередко «погибшему» в махерия пичак дуэлянту его противник, как и в настоящей дуэли, прикрывает лицо, чтобы скрыть следы агонии, после чего, как и две тысячи лет назад, «труп» уносят товарищи. Некоторые элементы «махерий» Каппадокии поразительно напоминают движения «viddhaneddha» и других боевых танцев Южной Италии, что неудивительно, учитывая общие истоки, уходящие корнями в античные пиррихи Graecia Magna. Так, например, в трабзонских танцах, как, собственно, и в кавказских лезгинках, часто встречается такой типичный и характерный элемент калабрийской «tarantella-schermiata», как "passo 'ill'adorni” — полёт сокола.
Любопытно, что канонический вариант группового пиррического танца можно также увидеть и на кадрах уникальной хроники советской кино-экспедиции 1927 года, где его исполняют жители сванского села на празднике в честь богини охоты Дали. Но древние пиррические танцы — это не единственное, что объединяет сванов, итальянцев юга и маниотов. Эти горцы издавна славятся своей кровной местью, называемой «лицври». Когда какая-нибудь сванская семья или клан объявляли о начале «лицври», мужчины из враждующих родов точно так же, как это происходило в селениях маниотов, запасшись продовольствием, на долгие месяцы запирались вместе с семьями в своих домах. Интересно, что сванские дома представляли собой точно такие же башни-крепости, как и те, в которых пересиживали свои кровавые «дикомэ» спартанцы-маниоты
[324].
На этом мы окончательно простимся с маниотами, равно как и с версией о спартанских корнях боевых традиций южной Италии. Поэтому мы
покидаем античную Спарту, и переходим к следующей моей теории о происхождении итальянской культуры поединков на ножах. Эта версия рассматривает их испанское происхождение и связь с легендарной неаполитанской преступной организацией — каморрой.

Рис. 7. Татуировки каморристов l'uomo delinquente, Чезаре Ломброзо, Турин, 1897 г.

Рис. 8. Игра в дзекинетту. Бартоломео Пинелли, 1815 г.
Позвольте представить вам доктора Эмануэле Мирабеллу, известного итальянского этнолога и антрополога конца XIX века, а также ученика отца физиогномики Чезаре Ломброзо. Семнадцать лет синьор Эманнуэле проработал врачом в колонии на острове Фавиньяна, неподалёку от Сицилии, куда обычно ссылали членов каморры. После окончания врачебной карьеры он остался на Фавиньяне, и более десяти лет выполнял обязанности городского судьи. Но кроме вынесения вердиктов на судебных слушаниях, любознательный доктор Мирабелла также изучал быт, традиции, жаргон и обычаи каморристов. В результате этих изысканий на свет появились работы «Mala vita: gergo camorra e costumi degli affiliati», и «II tatuaggio dei domiciliati coatti in Favignana». Так, например, ему неоднократно приходилось наблюдать любопытный ритуал, проводившийся каждый раз, когда на остров, в крепость святой Екатерины, прибывала свежая партия заключённых. Ритуал этот был облечён в форму некоего закодированного диалога между старожилами и новоприбывшими и служил в качестве импровизированного фильтра для выявления среди заключённых полицейских информаторов и простых#уголовников, не имеющих отношения к каморре. Вот как описывает этот ритуал Мирабелла:
«Вопрос: — Скажи, откуда появилось наше Общество?
Ответ: — Из Испании, Неаполя и с Сицилии.
Вопрос: — Как оно возникло?
Ответ: — Три рыцаря — испанец, неаполитанец и сицилиец — играли в дзекинетто (популярная среди кондотьеров карточная игра) под охраной своих оруженосцев. Испанец всё проиграл, но забрал у победителя 20 процентов от его выигрыша по праву каморриста.
Вопрос: — И чем всё закончилось?
Ответ: — Всё закончилось тем, что три рыцаря заключили сделку и из своих оруженосцев создали общество каморристов»[325].
Известный итальянский журналист, автор 12 книг об истории калабрийской мафии — ндрангеты, Луиджи Малафарина в своей книге «II codice della Ndrangheta» приводит ещё один вариант подобного обряда, распространённый в Калабрии. В калабрийской версии формула ритуала была дополнена ещё одной фразой, и на вопрос «капо», где находится глава общества, следовал ответ: «Nella vecchia isola di Catilonia della Spagna» («На древнем острове Катилония в Испании»)
[326].
Там же Малафарина приводит старинную легенду каморры о трёх испанских рыцарях — братьях Оссо, Мастроссо и Карканьосо. Согласно этой легенде, в 1412 году братьям пришлось покинуть родную Испанию из-за несправедливых притеснений короля. В качестве повода к конфликту с монархом упоминалось, что они защитили честь семьи, смыв кровью оскорбление, нанесённое их сестре. В конце долгого пути братья прибыли на остров Фавиньяна, где их пути разошлись. Оссо остался на Сицилии, где основал мафию, Мастроссо направился в Калабрию и создал ндрангету, а Карканьосо добрался до Кампании, где заложил основы каморры
[327]. Принято считать, что именно этот мотив мести испанских рыцарей за оскорблённую семейную честь и лёг в основу концепции «чести семьи» организованной преступности Италии.
Согласно трактовке Малафарины, Оссо в этом ритуале символизирует Христа, Мастроссо — святого Михаила Архангела, а Карканьосо предстаёт в образе святого Петра, который на белом коне охраняет ворота в «онората сочиета» — «уважаемое сообщество». В другой интерпретации святые просто выполняли роль покровителей. Так, защиту Оссо обеспечивал Св. Георгий, о Карканьосо заботилась Мадонна, а о Мастроссо, Архангел Гавриил. В культуре, мифологии и традициях мафии все эти символы и сегодня играют крайне важную роль. Любопытно, что именно святой Михаил Архангел является покровителем большинства сохранившихся в Южной Италии традиционных «школ» ножа, что косвенно указывает на их почтенный возраст, а также на преступное происхождение и связь с каморрой
[328]. Так, например, архангел Михаил является покровителем городка Невиано, расположенного неподалёку от Лечче, центра ножевой культуры Апулии. Показательно, что установленная в городе статуя святого держит в руке не традиционный меч, как следовало бы ожидать, а нож. О трёх испанских рыцарях и острове Фавиньяна поётся и в старой калабрийской песне «Ndrangheta, Camurra е Mafia», исполняемой в форме диалога, напоминающего уже знакомый нам ритуал:
«Как-то одной ночью, давным-давно, три рыцаря покинули Испанию). Они миновали Кампанию и Сицилию, чтобы осесть в Калабрии. И на 21 год они исчезли, чтобы создать законы Сообщества — законы чести и войны. Важные и обыденные, законы крови и конспирации, передающиеся от отца к сыну. Таковы законы нашего сообщества, законы создавшие историю»[329]. Любопытно, что легенда о испанских рыцарях существует и в устной традиции одной старинной школы ножа из города Манфредония. Эта дуэльная система, чей возраст насчитывает несколько столетий, появилась на севере Апулии в провинции Форджа, и известна она как «I cavalieri d'Onore е D'Umilta” — «Рыцари чести и смирения».
Согласно легенде школы, эти испанские рыцари были тамплиерами, хотя, вероятней всего, судя по кличкам, испанцы, которых называли Граф, Рыжий и Цветочек, были простыми наёмниками-кондотьерами. Первым их учеником стал некий Пеппино де Монталбано. Следующим был приобщён к сакральным тайнам, Северо Сальваторе Бальзамо. Три испанских рыцаря и два неофита и считаются в устной традиции основателями школы Манфредонии. В старинном обряде инициации школы существует кодовая фраза: «Cinque е non тепо di cinque. Cinque е non piu di cinque» («Пятеро, и не меньше пяти. Пятеро, и не больше пяти»).
Хотя, я склоняюсь к мысли, что на самом деле за этой формулой скрывается старинная традиция каморры. Эта традиция и сегодня встречается в ритуалах калабрийской ндрангеты, и используется в качестве условного кода для распознавания членов организации. Цифра пять, символизирует пять уровней в иерархии ндрангеты. Выглядел подобный диалог следующим образом:
— Quanti titoli porta ип picciotto?
— Cinque.
— E quali sono?
— Uomo, Saggiomo, Gentilomo, Cavaliere e Picciotto
— Сколько ступеней ведёт к пиччиотто?
— Пять
— И какие же?
— Уомо, Саджиомо, Джентиломо, Кавалиере и Пиччиотто[330].
Структура, обряды, ритуалы школы Манфредонии — всё напоминает о каморре. «Uomini d'onore» из Форджи, как и каморристы, строго придерживаются архаичных норм рыцарской чести. Для вступления в сообщество — или как они его называют, «fonte d'onore», «источник чести», — как и в каморре, требуется позволение капинтеста, или «commandante di uomini». Во внутренний же круг сообщества неофит попадает лишь после того, как принесёт клятву верности перед лицом товарищей и капинтеста. Четыре шейных платка различного цвета указывают на рангученика. Тайную часть этого искусства символизирует бечёвка с тремя узелками. Только когда ученик достигает ступени «uomo d'onore», ему раскрывают все секреты школы. Также всё ещё существуют старинные ритуалы кровного братства ученика с учителем и с другими «uomini d'onore».
Последним Великим мастером школы и хранителем традиций был маэстро Маттео Берардинетти «Ntrlingh». Почти 100 лет назад в поисках работы он, как и тысячи других итальянцев, эмигрировал в Аргентину. Там маэстро участвовал в боях и чемпионатах по палочному бою и даже стал чемпионом Аргентины, но затем вернулся в родную Манфредонию, где открыл школу боевых искусств.
Интересную версию о происхождении каморры, предложил профессор Монье, искавший её корни в сардинском портовом городке Кальяри. При этом он ссылался на любопытный источник, найденный им в Национальном архиве. В этом документе упоминалось о «сообществе «гамурра», основанном в XIII столетии пизанскими негоциантами из сардинских наёмников, «вооружённых арбалетами и мушкетами и одетых в доспехи». Согласно этому документу, Пиза осуществляла управление вооружёнными отрядами кондотьеров, патрулирующих сардинские деревни и поддерживающих общественный порядок. Эта организация сохранилась и после 1326 года, когда Сардиния перешла под юрисдикцию Арагонской династии. Впоследствии члены этой сардо-испанской ассоциации перебрались из Кальяри в регион Кампании, также находившийся под властью Испании
[331], где, по версии Монье, они могли заложить основы каморры.

Рис. 9. Сардинский кинжал. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna, Флоренция, 1983 г.

Рис. 10. Процесс в Витербо. Каморристов ведут в здание суда, 1911 г.
Сардиния находилась под властью испанцев с 1324 по 1720 год, когда она перешла под юрисдикцию герцога Савойского, принявшего титул короля Сардинии. Еще в конце XIX столетия на Сардинии чувствовалось долгое пребывание под властью испанцев, и сохранились многие испанские обычаи. Так, например, большинство местных мужчин по испанской традиции носили с собой длинные ножи, которые они использовали для защиты от нападений
[332].
Ломбардо в своей монографии о каморре писал, что первоначально членов этой организации нанимали для защиты путешественников и торговцев от разбойников, терроризировавших дороги, связывавшие Неаполь с другими городами. Вскоре организация прославилась как «Благородное сообщество каморры» и стала заметной силой. Но увидев возможность лёгкого заработка, каморра вступила в союз с разбойниками с большой дороги, для защиты от которых их и нанимали. В случае, если сумма, заплаченная за охрану торговцами или путешественниками, их не удовлетворяла, то подопечных отдавали на откуп местным разбойникам. В конце концов каморра забыла о своих благородных целях и деградировала в сообщество вымогателей, шантажистов и воров
[333].
Еще одна версия о возникновении каморры и об её испанских корнях стала достоянием общественности совершенно случайно, во время слушаний на процессе по делу каморриста Куоколо. Эта история началась 6 июня 1906 года, когда в окрестностях Неаполя были найдены тела члена каморры Дженнаро Куоколо и его жены Марии Кутинелли, что положило начало крупномасштабному судебному процессу против каморры. Вести расследование было поручено капитану карабинеров Карло Фабброни. Назначение Фабброни было инициировано самим премьер-министром Италии Джолитти, известным своей жёсткой позицией по отношению к каморре, и поэтому Фабброни мог позволить себе достаточно «неформальные», но эффективные методы получения информации. Так или иначе, но в результате усилий капитана впервые на стороне обвинения в качестве свидетеля оказался высокопоставленный каморрист, некий Дженаро Аббатемаджо. Во время слушаний на проходившем в 1911 году процессе Фабброни сообщил суду о том, что имевший доступ ко всем тайнам каморры Аббатемаджо рассказал ему любопытную версию о происхождении этой организации. По его словам, каморра была основана неким испанцем Раймондо Гамуром, бежавшим в 1654 году от закона из испанской Сарагоссы в Неаполь. Там он был схвачен и заключён в неаполитанскую крепость Капуано, также известную как тюрьма Викариа.
Согласно рассказанной Аббатемаджо истории, в тюрьме Гамур подружился с пятью сокамерниками-неаполитанцами, которым он рассказал о структуре организованной преступности в Испании. В том числе и о том, что там никто не действует на свой страх и риск, а все объединены в сообщество со своими кодексами, законами и ритуалами. Неаполитанцы, вдохновлённые картиной, описанной Гамуром, после освобождения создали в Неаполе преступную организацию по образу и подобию испанской и в честь Гамура назвали её Камурра
[334]. Любопытно, что и здесь мы снова сталкиваемся с цифрой 5 — сакральным числом каморры.

Рис. 11. Каморрист Дженнаро Аббатемаджо. Процесс в Витербо, 1911 г.
О том, что каморра существовала уже в XVI веке, также косвенно свидетельствует целый ряд законодательных актов, направленных на борьбу с организованной преступностью. Эти законы, которые, к слову сказать, не имели абсолютно никакого эффекта, издавались вице-королями Испании, кардиналом Антуаном де Гранвела, графом де Монкада и герцогом де Алкала с 1568 по 1610 год, Но нас не столько интересует эффективность эдиктов, как то, что в одном из этих указов от 26 сентября 1573 года говорилось о поборах в тюрьмах. Поборы эти совершались организованной группой заключённых, а предлогом для принудительного изымания денег у сокамерников являлась оплата масла для лампад перед иконами
[335]. Об организованном вымогательстве в тюрьмах, где также фигурирует масло для лампад, говорится и в отчёте от 1674 года
[336].
Такую же традицию сбора средств преступниками Севильи в 1614 году описывал Сервантес в новелле «Ринконете и Кортадильо»: «..Мониподьо постановил, чтобы часть украденного мы отчисляли на масло для лампады одной высокочтимой в нашем городе иконы. И поистине великие последствия имело для нас это доброе дело…»
[337]
Другой фактор, указывающий на испанское происхождение каморры, — это одна из основных традиционныхгстатей её дохода, «налог», взимаемый с азартных игр, известный в Неаполе как «бараттоло». Несомненно, здесь прослеживается связь с испанским «барато», описанным Сервантесом ещё в 1605 году — аналогичным побором в «гарритос», игорных домах Испании. Как и в испанской «ла Гардунье» XVI века, в основе деятельности каморры лежало вымогательство. Каморра облагала поборами игроков, проституток, фальшивомонетчиков, воров и контрабандистов. А также лакеев, официантов, разносчиков фруктов и мелких торговцев, которым эти выплаты давали защиту от краж и домогательств. А каморра, как и «ла Гардунья», в свою очередь, делилась собранными деньгами с полицией и чиновникам
[338].
И, конечно же, на испанское происхождение, несомненно, указывает этимология слова «каморра». Существует множество версий о происхождении этого названия. Так, профессор Ломбардо в работе, посвящённой истории каморры, среди прочего предполагает, что это слово могло произойти от арабского «кумар», игры в кости, или же от «гамара» — места, где эти игры обычно проходят. Не исключался и вариант, что каморра — это производное от «морра», игры, в которой игроки выкидывают цифры на пальцах. Игрок, правильно угадавший число, которое должны выкрикнуть, становится победителем
[339]. Но трактовок было значительно больше. Например, в кампанийском диалекте существует выражение «ста к'а мора», обозначающее круговую поруку, а другая региональная идиома — «ка мора» является сокращением от «капо дела мура», то есть старшего, присматривающего за игроками в мору и решающего споры между ними
[340].
Также «каморра» трактуется в значении «кулачная драка». В испанском языке camorrear, hacer или buscar Camorra — это «искать неприятности на свою голову» или «нарываться на неприятности»
[341]. В словаре 1809 года «каморра» — это ссора, скандал, а «каморрист» — крикун, скандалист, задира
[342]. Некоторые исследователи сходятся во мнении, что своё название эта мрачная организация получила благодаря испанской верхней одежде «гамурра», столь любимой ворами и бретёрами. Что не исключено, так как испанское влияние в Неаполитанском королевстве чувствовалось во всём — от оружия и моды до испанской высокопарности и аффектации.

Рис. 12. Неаполитанский гуаппо с тростью-вара, 1866 г.
Сеточки для волос, расшитые камзолы, широкие пояса и короткие штаны — сложно было отличить итальянского лаццароне от испанского махо. А между 1820 и 1860 годом у каморристов вошло в моду и ношение традиционного аксессуара испанских махо — массивной трости, известной в Испании как «вара»
[343].
В тосканско-кастильском словаре Кристобаля де лас Касаса 1604 года камарра, каморра или замарра — это куртка, камзол
[344]. Каморру в значении верхней одежды упоминает и неаполитанский писатель Джамбаттиста Базиле в вышедшей в 1634–1636 годах книге «II Pentamerone»
[345] Также и словарь Джованни Венерони, изданный в 1698 году, пишет, что «каморра — вид верхней одежды, куртка»
[346]. Кстати, и вышеупомянутые сардинские наёмники XIII века из сообщества «гамурра» были одеты в короткие холщовые камзолы красного цвета. Подобные камзолы носили торговцы сардинской области Кампидано вплоть до конца XIX века
[347]. Сами члены каморры называли себя «гуапо» — от испанского «guapo», что можно перевести как «смельчак», «щёголь», «задира».
Существовали три испанских рыцаря в действительности, или это всего лишь красивая легенда, но так или иначе, абсолютно всё — этимология, ритуалы, традиции, обычаи, обряды инициации, оружие, кодексы чести и даже мода итальянской каморры — указывает на её испанское происхождение. Фердинандо Руссо писал: «Наши каморристы унаследовали обычаи, инстинкты и проворство преступников и известных задир Бискайи и Андалусию
[348].
Но кроме своего названия, моды и взимания традиционных откупных «бараттоло», или, как их ещё называли в Неаполе, «сбруффо», каморра унаследовала ещё один древний испанский обычай
[349]. Не случайно в основе легенды о рождении каморры лежит история о трёх испанских рыцарях, как не случайны и созданные ею кодексы чести, сложные ритуалы и обряды посвящения. С первых дней своего существования каморра позиционировала себя как наследница древних традиций средневекового рыцарства.
Как известно, важной частью рыцарской культуры и идеологии, являлся символ чести паладина, вместилище его души, его друг и защитник, который посвящал его в рыцари, и ложился рядом с ним в могилу — его меч. Но так как каморра скорее представляла собой тайное общество, а не военизированную организацию, то, соответственно, и выбор оружия на роль рыцарского меча в первую очередь был обусловлен возможностью его скрытого ношения. Поэтому мечами каморры на долгие столетия стали кинжал и нож.

Рис. 13. Зумпата в Неаполе. Открытка начала XX в.
Каморристы переняли не только традиции и моду знатных кавалеров, но и способы разрешения дел чести — дуэли. Одним из первых свидетельств существования подобных поединков может являться эдикт вице-короля Неаполя Педро Альвареса де Толедо, изданный в 1540 году. В этом указе говорилось, что «дуэлянты бросают вызов сами или через посланцев в большинстве случаев в тот же день или же на следующий, сражаются почти всегда без защитного снаряжения и, что ещё хуже, без одежды, подобно диким зверям, и падают бездыханными после первых же ударов»
[350].
Ещё один подобный ордонанс, направленный против поединков, был издан в 1662 году и принадлежал перу Гаспара де Бракамонте и Гузмана, графа де Пеньяранда
[351]. Каморра, консервативная, как и все тайные общества, твёрдо придерживалась своих древних дуэльных традиций XVI века и все последующие столетия. Так, например, в ритуальном поединке на ножах между двумя известными капо каморры середины XIX столетия Сальваторе де Крещенцо и Никола Йосса, оба дуэлянта, согласно старинному обычаю, были раздеты до пояса. Эта дуэль, проходила на Марсовом поле, и закончилась первой кровью — ранением в руку, полученным одним из каморристов
[352].
Благодаря ортодоксальному традиционализму каморры, их древняя «рыцарская» дуэль пережила века, и дожила до наших дней в неизменённом и первозданном виде. У этого ритуального поединка на ножах было много ипостасей. В первую очередь, он выполнял функцию суррогата рыцарского турнира, и, как и его славный предшественник, служил для демонстрации бесстрашия и презрения к боли, а также для развития ловкости и мастерства. Кроме этого, бой на ножах являлся важным элементом обрядов инициации, выполнял роль механизма разрешения споров между членами каморры, и служил инструментом, способствующим иерархическому росту в организации
[353]. Самой известной и прославленной его формой была «зумпата», или «прыгающая» дуэль. Происхождение своё термин «зумпата» ведёт от слова «зомпо» — «скачок» или «прыжок», диалектного варианта итальянского «сальто»
[354]. Хотя некоторые авторы также указывают на возможное происхождение этого термина от слова «зумпа» — «лапа» и глагола «зумпари» или «зампари» — «бить лапой»
[355]. Существовали и другие жаргонные выражения для обозначения поединка на ножах, такие как «тирата», которое можно перевести как «нахлобучка», «трёпка», или эндемичное калабрийское «нкаприата»
[356]. Иногда можно встретить выражение «сфида» — «вызов», являющееся синонимом испанского «десафио»
[357].
Абель де Бласио в своей работе «Usi е costumi dei camorristi» — «Обычаи и традиции каморристов» писал, что в XIX веке обучение владению ножом происходило с помощью палочек, которые почти всегда собирали прямо на месте занятий. Обучением новичков занимались мастера — как правило, «пиччиотти», или старые каморристы, которые объясняли молодым гангстерам, как нужно атаковать и защищаться по всем правилам фехтовальной науки. Рыцарский кодекс каморры запрещал участие в этих дуэлях высшим чинам организации — капосочиета и капинтрити, пока они занимали свои должности, бывшим каморристам и членам каморры старше шестидесяти лет. Этот кодекс также запрещал вызывать на дуэли чести полицейских информаторов, пассивных педерастов и тех каморристов, которые позволяли своим матерям, сёстрам или сыновьям заниматься проституцией. Кроме того, правила также запрещали без одобрения капосочиета вызывать на поединок членов сообщества, стоявших на более низкой ступени иерархии каморры.
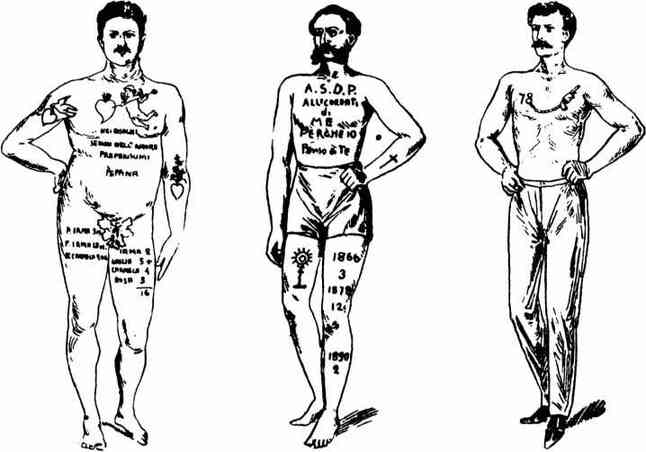
Рис. 14. Каморрист-сутенёр.
Рис. 15. Каморрист-вор.
Рис. 16. Каморрист-бандит.
La Mala Vita a Napoli, Абель де Блазио, 1905 г.

Рис. 17. Зумпата. Начало XX в.
Перед тем как отправить вызов на поединок, следовало огласить его причину. Поводом к дуэли могло являться нечестное распределение добычи, излишне резкие насмешки во время азартной игры, невыплаченная каморре доля, соперничество в любви. Нередко вызов посылался из желания подняться по иерархической лестнице, для чего по традиции претенденту следовало продемонстрировать свою храбрость в поединке на ножах. Одним из самых распространённых поводов для вызова на дуэль было оскорбление подруги каморриста. Часто ею была проститутка, которая пожаловалась на нанесённую обиду своему «ннамурато» — любовнику. Представители оскорблённой стороны являлись к обидчику и передавали ему вызов, который никогда не составлялся в письменной форме, чтобы не попасть в руки полиции. Формальный вызов каморры звучал примерно так:
«— Добрый день, Н. Н.
— Добрый день! Что вам угодно?
— Нас прислал Н. Н, чтобы пригласить вас объясниться по поводу известного вам случая.
— Какая честь! Передайте вашему другу, что я с удовольствием принимаю его предложение.
— В таком случае увидимся в… (называют место).
— Без сомнений… за пять минут до начала я буду там.
— Не забудьте!
— Это долг.
— Всего хорошего.
— Прощайте».
Место проведения дуэли выбирали в зависимости от вида оскорбления. Если речь шла о личном оскорблении или об оскорблении уважаемого сообщества-каморры, то дуэль на ножах — зумпата или на револьверах — спарата проходила за пределами Неаполя
[358].
Руссо описывал зумпату как драматическое зрелище, полное красивых движений, неожиданных трюков, хитростей, требующее твёрдости и мужества в противостоянии противнику. Поединок между двумя каморристами, крепко сжимавшими в руках большие каталонские ножи, представал перед очевидцами как бой их предков-гладиаторов или как жестокая схватка хищных птиц. Прямая спина, высоко поднятая голова, поразительная координация, собранность, позволяющая им стать как можно меньшей мишенью для противника. Быстрые прыжки и внезапные молниеносные атаки, такие же непредсказуемые, «как удар клюва грифа или когтей ястреба»
[359].
Зумпата требовала от противников глубокого знания фехтования, кошачьей ловкости, крайней быстроты движений, лёгкости танцора и быстроты глаза, что достигалось только долгими и трудными тренировками. Она напоминала балет. Два противника, худощавые и невысокие, собранные, чтобы стать как можно меньшей мишенью, кружили, прыгая на носках. Они должны были быть быстрыми, как развёрнутая пружина, как удар кошачьей лапы
[360].
Каморриста обучали владению ножом, пока он не становился мастером клинка и знатоком анатомии. Для различных целей в каморре существовали разные типы ножей. Небольшой складной нож «сеттесольди» применялся для нанесения шрамов на лицо в мелких внутренних конфликтах между членами каморры. Смертоносный каталонец «зумпафуосо», как следует из названия, использовался для официального «прыгающего» дуэльного поединка — зумпаты. Трёхгранный стилет «трианголо» служил для убийств. Как правило, трианголо использовал не сам камморист, а какой-нибудь претендент на членство в организации, получивший таким образом шанс продемонстрировать свои таланты. «Так «уважаемая» молодёжь подбирает правильный нож и поджидает жертву вместе со страхующим его «пало», стоящим на стрёме», — писал в работе «Суды, преступники и каморра» Артур Трэйн
[361].
В 1885 году в «Нью-Йорк таймс» вышла статья, описывающая подготовку каморриста. Среди прочего неофитов обучали всем премудростям использования ножа и сложным фехтовальным техникам, объясняли ему, в какие части тела наносятся смертоносные удары. Также он выполнял различные упражнения для развития силы и ловкости и учился подолгу обходиться без сна. Не пренебрегали учителя и его интеллектуальным образованием. Делалось всё для тренировки его слуха, памяти и внимательности, а также для развития наблюдательности. Кроме этого, он проходил инструктаж в проведении расследований и способов, как избегать слежки и преследования. Когда капо решал, что ученики готовы к обряду инициации, то он созывал новичков из всех районов города. Они собирались в условленное время в условленном месте, где их стравливали между собой. Происходил ряд поединков на ножах, и тому, кто демонстрировал наибольшее умение во владении клинком и стоицизм при получении ранений, присваивали титул «пиччиотто ди сгарро». Наивысшим доказательством мужества испытуемого служил нож, схваченный голой рукой за лезвие и вырванный из рук противника. Этот подвиг пытались совершить многие, но он мало кому удавался. Когда полицейские видели, что ладонь арестованного покрыта глубокими шрамами, они сразу понимали, что перед ними член каморры.
Когда-то подобные поединки, нередко имевшие серьёзные, а иногда и фатальные последствия, представляли собой целые церемонии и, естественно, были окружены покровом тайны. Победители в этих турнирах получали броские шляпы и цепочки, в то время как раненых укладывали в соседних улочках, и товарищи обещали им вернуться за ними позже, чтобы доставить в ближайшую больницу. Автор статьи посетовал, что в 1880-х уже никто, кроме самих участников поединков, не знает, где и как проходят эти бои, но тем не менее высказал уверенность, что они всё ещё проводятся
[362].
Предчувствия не обманули журналиста, и мы снова встречаем описание дуэли инициации через двадцать шесть лет после того как были написаны эти строки. В 1911 году на процессе против каморры этот ритуал описал уже известный нам каморрист Дженнаро Аббатемаджо. С его слов этот обряд выглядел следующим образом. На инициации присутствовал каморрист, называемый «терцо контрарно», в обязанности которого входило выступать в роли обвинителя и искать доводы против кандидатуры неофита. Но даже если всё свидетельствовало в его пользу, соискатель в присутствии членов каморры должен был принять участие в «тирате», т. е. дуэли на ножах, опасность которой варьировалась в зависимости от обстоятельств и состава участников. Как правило, тирата проходила в символической форме. В этом случае она называлась «мускульной», так как дуэлянтам было разрешено наносить ранения только в мышцы рук. Если же претендент раскраивал любую другую часть тела противника, его дисквалифицировали.
В чаше, стоявшей в центре места проведения церемонии — обычно в таверне, раскладывали пять ножей. Два из них были остроконечными, с заточенными обоюдоострыми клинками, у двух других были заточены только острия, а пятый нож выделялся своей длиной. Ножи накрывали белым платком, поверх которого был наброшен красный. Крёстный отец кандидата и второй крёстный, выбранный для его соперника, брали обоюдоострые ножи, глава каморры выбирал самый длинный, а кандидату и его оппоненту доставались оставшиеся два. После этого дуэлянтов ставили спиной с спине, рукава закатывались до локтя, и затем босс выкрикивал: «Именем святых Козьмы и Дамиана — раз, два, три!» Они разворачивались друг к другу лицом, и бой начинался. Схватка продолжалась до тех пор, пока один из бойцов не получал ранение в руку. Тот, кто нанёс ранение, в тот же миг приникал к ране губами, а затем целовал противника в знак дружбы и перевязывал его рану белым платком из чаши. После этого каждый неофит должен был заплатить 15 лир — примерно 3$ в качестве вступительного взноса, половина которого поступала боссу каморры, а вторая шла на организацию торжественного обеда. Но иногда между кандидатом и его соперником существовала настолько глубокая неприязнь, что один из них должен был умереть. В этом случае дуэль называлась «без ограничений», и удары ножа наносились в голову и верхнюю часть тела
[363].
Профессором ножа «коллеги» называли бывшего солдата Мюрата, капо каморры Джузеппе Скола. Ещё одним «профессором» в искусстве обращения с ножом считался известный каморрист Сальваторе де Крещенцо по прозвищу Торе. На «иерархической» зумпате, проходившей в 1857 году в Неапольском районе Каподичино, против Торе Крещенцо за власть и корону сражались два капо каморры — Папеле Д'Руссо и Папеле Д'Манкелло. Оба они были найдены на месте поединка умирающими, с ножевыми ранами на груди и распоротыми животами
[364].

Рис. 18. Каморрист. 1901 г.
Рис. 19. Капинтеста каморры Сальваторе «Торе» де Крещенцо, около 1860 г.
Искусно владел «мечом каморры» и другой легендарный капо 1840-х, Анье-ло Аузьело, который благодаря своему умению ловко обращаться с ножом даже получил негласный титул «II Re della zumpata» — Король зумпаты. Неаполитанец Аузьело носил этот титул не зря. Джиджи ди Фиоро писал, что в первой половине XIX столетия умение искусно владеть ножом было отличительной чертой каморристов, а самые искусные из них пользовались уважением, и имели высокий шанс карьерного роста
[365]. Надо сказать, что уже само участие в подобном поединке требовало изрядного мужества. Законы Бурбонов запрещали дуэли, и за ранения, нанесённые в таких поединках, дуэлянтам грозила суровая кара. Поэтому раненых в зумпатах частенько не доставляли в больницы, и они долгие часы истекая кровью лежали на земле в ожидании смерти.
Капинтеста Аузьело в молодости специализировался на «петрейате» — на неаполитанском диалекте забрасывании камнями. Позже он занимался для каморры закупкой «scarti di reggimento» — армейского неликвида — в основном продаваемых с аукциона лошадей армии Бурбонов. Разумеется, эти аукционы были организованы таким образом, что принимать в них участие могли только члены каморры, в чём им помогал некий швейцарский гвардеец, позже ставший правой рукой Аузьело.
Первая зумпата Аузьело произошла с неким каморристом, посмевшим взвинтить цены во время одного из аукционов. С того дня любой, кто хотел прикупить «scarti di reggimento», вынужден был обращаться только к Аузьело. Также ему удалось мгновенно взлететь по карьерной лестнице и сразу стать капинтеста, миновав ступень капинтрити. Для этого он под надуманным предлогом вызвал на дуэль на ножах четырёх капинтрити и всех их победил.
После этого, когда он выдвинул свою кандидатуру на место капинтеста, уже никто не посмел голосовать против него. Правление «короля зумпаты» продолжалось несколько лет. Но вскоре Лузьело обвинили в нарушении правил каморры: он назначил «contaiuolo» — казначеем организации своего телохранителя, бывшего швейцарского гвардейца. Кроме этого, его также обвинили в продаже оружия бандитам, орудовавшим на просёлочных дорогах, что также было запрещено правилами, и в результате сместили с поста. Тогда Лузьело вызвал на зумпату своего преемника, но, так как по правилам каморры капинтеста не может участвовать в зумпата, вызов был отклонён. Сразу после этого Лузьело исчез из Неаполя, и следы его затерялись.
Жена его объявила себя вдовой и потребовала долю мужа традиционным способом, вызвав на дуэль на «spadella di Genova» — «генуэзских шпажках», сакраментальном оружии женщин каморристов, жену нового капинтеста, но позже от этой затеи отказалась
[366]. Профессор Монье отзывался об Лньело Лузьело как о последнем из великих мастеров зумпата и одном из величайших капинтрити начала XIX века
[367]. Мастерством во владении ножом также прославились каморристы Папеле Кайяццо, наводивший страх на жителей провинции Терра ди Лаворо, Раффаэле Пуццаро, а также Паскуале Лннунциата
[368].
Иногда в традиционный дуэльный код каморры вносились коррективы. Так, например, дуэли на ножах, проводившиеся на Сицилии, были значительно более кровавыми и жестокими, чем те, что случались в Неаполе. Если в Неаполе всё часто ограничивалось символическими поединками до первой крови, то сицилийцы не удовлетворялись царапиной и жаждали смерти противника. Таким образом, репутация местных каморристов-сикулов полностью оправдывала кровожадное имя их острова, которое, согласно одной из версий, произошло от латинского слова «сика» — «кинжал» и его производного «сици-лис» — «режущий, как кинжал»
[369].
Подобный поединок с сицилийским «акцентом» произошёл в августе 1895 года. В один из дней в Палермо некие Кримондо и Палаццоло, известные члены мафии, вызвали друг друга на бой на кинжалах. Дуэль уже началась, когда сын Палаццоло подскочил к Кримондо и ударил его кинжалом в спину. Умирающий Кримондо упал на землю, а Палаццоло презрительно бросил свой нож на его распростёртое тело. В следующий момент сзади на Палаццоло обрушился удар топора, и он замертво рухнул рядом со своей жертвой. Этот удар нанёс племянник Кримондо, решивший отомстить за смерть дяди. «Оба убийцы исчезли, и думается, что теперь они пополнят ряды мародёров, наводнивших отдалённые районы, или начнут разбойничью жизнь», — писали газеты
[370].
Как мы видим, в ходе этого поединка были грубо нарушены все возможные дуэльные нормы и кодексы, категорически исключающие вмешательство третьих лиц. Едва ли нечто подобное могло произойти на неаполитанской зумпате. В большинстве случаев дуэльный ритуал соблюдался неукоснительно, как и приличествует благородным рыцарским традициям, чьи идеалы и принципы ревниво соблюдались членами каморры.

Рис. 20. Каморристы. Кристиан Вильгельм Аллерс, 1890-е.
Как уже говорилось, неотъемлемой частью рыцарской культуры, и одним из её фундаментальных принципов являлось трепетное отношение рыцаря к его мечу. Проекцию этого древнего символа мы находим и среди основных постулатов каморры, исповедовавшей культ клинка не менее рьяно, чем их закованные в железо предтечи. Нож и кинжал стали основным оружием каморриста не только потому, что идеально подходили для скрытого ношения. Был ещё один важный фактор. Каморра, со своим культом мужества исповедовала древний принцип воинов Спарты: «Чем короче оружие, тем отважней его владелец»
[371]. Они не доказывали свою храбрость с помощью огнестрельного оружия, которое часто могло стать причиной ранения невинного, случайного прохожего, женщины или высунувшегося из окна ребёнка. Настоящее мужество, с их точки зрения, заключалось в драматичной и грациозной зумпате, изобилующей техническими элементами, требующей дара предвидения и мастерства. Каморристы считали, что только в поединке на ножах мужчина мог продемонстрировать высочайшую стойкость, бесстрашие, и умение сохранять спокойствие перед лицом настоящей опасности
[372].
Поэтому каморра крайне уважительно относились к людям, предпочитающим в качестве оружия нож, даже если те при этом не являлись членами организации. Так, в изданной в 1864 году работе об итальянской преступности мы находим историю о том, как некий калабриец сорвал куш в игорном доме. На выходе его встретил мужчина с дубинкой, который грозно потребовал долю выигрыша для каморры. Калабриец отказался и достал нож, после чего каморрист тут же оставил его в покое. На следующий день с этим калабрийцем на улице почтительно поздоровался какой-то незнакомый мужчина, также вооружённый дубинкой, который преподнёс ему «короткую шпагу» и попросил принять её за храбрость, проявленную предыдущим вечером. Удивлённый провинциал сначала отказался, но в конце концов принял подарок. А вскоре он заметил, что на улице с ним уважительно здороваются незнакомые крестьяне, принимающие его за каморриста
[373]
Вместе с другими многовековыми традициями каморры, практически не претерпевшими за прошедшие столетия радикальных изменений, дожил до наших дней и старинный ритуал зумпаты. Конечно, времена изменились, и сегодня эти поединки уже не похожи на те, проводившиеся с большой помпой пышные церемонии, окружавшие зумпату двести лет назад. Но это совершенно не свидетельствует об исчезновении традиции — просто эти ритуалы по вполне понятным и объективным причинам всё реже становятся достоянием широкой публики.

Рис. 21. Каморрист Паскуале Барра.
Всего несколько десятилетий назад известный босс неаполитанской камор-ры Рафаэлле Кутоло, известный под кличками Принц, Профессор и Монах, отбывая в тюрьме Поджореале пожизненное заключение за совершённое в 1963 году убийство, вызвал на дуэль на ножах другого босса каморры, Антонио Спавоне. Но Спавоне, более известный как Mallomo — Головорез, от участия в зумпата отказался. Получив вызов на поединок, он, по слухам, ограничился философской сентенцией, что «сегодняшние молодые люди хотят умереть молодыми любым способом»
[374].
Славился своей искусностью в зумпата и другой известный в 80-х каморрист, Паскуале Барра, известный полиции под кличками Зверь и Студент. Его умение обращаться с ножом воспел сам Кутоло. Посвящение на неополитанском диалекте было написано им в 1984 году, и приурочено ко дню рождения Барра:
«Pasquale Barra: int'o paese 'о chiammavano 'о sturiente
Infaccia 'a zumpata nisciuno L'appassa
Si tene 'efaccia pure 'na truppa
Tira a mana efa sempre 'a stessa mossa
Те тепа 'a curtellata 'a scassa-scassa
Sott'o о prummone ca te vena 'a tossa
Те fa sputa ne poche 'e po te lassa».
Что можно приблизительно перевести как:
«Паскуале Барра: в нашей деревне его звали Студентом.
Никто не мог победить его в зумпате.
Он может выйти против целой армии, сражаясь одной рукой.
Одним движением он пронзит ваши лёгкие насквозь и заставит вас кашлять,
Он будет наблюдать, как вы упадёте, и бросит вас там лежать»[375].
(перевод авт.).
Умение искусно обращаться с ножом будущие каморристы впитывали с молоком матери, так как совершенствовались в мастерстве с раннего детства. Начинались эти тренировки на деревянных макетах, а позже продолжались на настоящих ножах и не прекращались даже в тюрьмах. Вернее, можно сказать, что именно тюрьмы, такие как Сан-Витторе, Поджореале, Викариа или Регина Коэли, служили для каморристов настоящими «фехтовальными академиями».
Вот как 11 апреля 1927 года в письме из миланской тюрьмы Сан-Витторе описывал подобные тренировки известный итальянский журналист, философ и политик, основатель компартии Италии Антонио Грамши:

Рис. 22. Сицилийские «campieri» — наёмные рабочие, часто выполнявшие функции охраны. Фото конца XIX в.
Рис. 23. Нанесение татуировки каморристу. Начало XX в.
«Иногда в мою честь устраивают развлечения. Апулийцы, калабрийцы и сицилийцы организовали школу ножевого боя согласно правилам четырёх организаций преступного мира юга Италии (Сицилии, Калабрии, Апулии и Неаполя). Сицилийцы против апулийцев, апулийцы против калабрийцев. Но нельзя устраивать схватки между сицилийцами и калабрийцами, так как ненависть между ними так сильна, что даже тренировочные бои становятся серьёзными и кровавыми. Самые искусные мастера — апулийцы: непобедимые головорезы, со смертоносной техникой, полной секретов, настолько развитой, что она превосходит все остальные школы. Старик апулиец 65 лет, очень уважаемый, но не состоящий в преступной иерархии, громил чемпионов всех четырёх группировок. В довершение он сражался с другим авторитетным апулийцем, которого все слушались, — молодым, удивительно ловким, с великолепным телом, и за полчаса они продемонстрировали все существующие техники ножевого боя. Действительно великолепное и незабываемое зрелище для всех присутствующих — и участников, и
зрителей. Тайный, невероятно сложный мир со своими чувствами, живущий по своим правилам, со своими взглядами на жизнь, своей интерпретацией чести, с могучей и железной иерархией, открылся предо мной»
[376].

Рис. 24. Антонио Грамши (1891–1937).
Занятия в тюрьмах проводились как на условном оружии, таком как щётки, ёршики или щепки, намазанные извёсткой со стен и превращённые в маркеры для учёта попаданий, так и на заточенных деревянных кинжалах, и даже на настоящих ножах. Несмотря на жёсткий контроль со стороны тюремной администрации, существовала тысяча способов пронести оружие в тюрьму. Нередко у каморристов там были целые подпольные склады ножей. Так, известная неаполитанская тюрьма Викариа, расположенная в замке Капуано, на протяжении как минимум трёхсот лет являлась штаб-квартирой каморры. Каждый несчастный, попадавший в Капуано, должен был или заплатить, или сражаться. А платить там приходилось за всё: за возможность есть, пить, курить, за особое право покупать или продавать. Добычей каморристы делились со старшим надзирателем.
Напрасно тюремная охрана находила и отбирала ножи у каморристов — новые появлялись в мгновение ока. Если по какой-либо причине доставка ножей в тюрьму терпела фиаско, каморристы использовали кинжалы из твёрдого дерева или заточенные осколки битого стекла. Их остриё натиралось чесноком и солью, чтобы сделать ранение более опасным и болезненным. По свидетельствам очевидцев, в кабинете директора тюрьмы находился стол, заваленный всеми мыслимыми видами колющих и режущих орудий: кинжалами из твёрдого дерева, заточенными напильниками, всевозможными типами бандитских ножей, бесполезными для какой-либо работы и предназначенными исключительно для нанесения колющих ранений. Среди оружия конфискованного в тюрьме у каморристов также были тщательно заточенные и хранящиеся в кожаных чехлах стилеты, шила, железные вилки с одним отломанным зубцом, оловянные вилки с загнутыми вниз зубцами и ручками, превращёнными в пилу, и бесконечное множество других образцов, на многих из которых были видны следы крови
[377]. Кстати, таким заточенным деревянным кинжалом, изготовленным из щепки от кровати, в 1869 году в неаполитанской тюрьме Сан-Франческо каморрист Раффаэле Марранцино убил известного мастера зумпаты Раффаэле Пуццаро
[378].
Но каморра не обладала исключительной монополией на решение дел чести в поединках на ножах. Существовала в Италии ещё одна любопытная субкультура, исповедовавшая архаичные кодексы чести и также считавшая себя наследницей древних рыцарских традиций. Ей посвящены сотни книг, пьес и кинофильмов. Итальянские болельщики — «тиффози» считают представителей этой субкультуры своей предтечей, культивируют их традиции и стараются во всём на них походить. Несколько сот лет улжцы Вечного города безраздельно принадлежали римским махо — булли.

Рис. 26. Римский булли. Бартоломео Пинелли, нач. XIX в.

Рис. 27. Костюмы римлян конца XIX в.
Первое упоминание булли в литературе восходит к 1583 году и встречается в венецианской комедии дель арте среди описания героических деяний некоего Рагно Булэ. Происходит это слово, видимо от немецкого «bule» — бык, бычок. Иногда булли путают с «pain» — денди, франтом, который был просто щёголем, иногда вооружённым ножом. Но настоящие булли — храбрые, высокомерные и жестокие, были слеплены совсем из другого теста. Любители бахвальства, но при этом бескорыстные защитники бедных и угнетённых. Их плодородной почвой были трущобы Вечного города — районы Тестаччо, Трастевере, Регола, Монти, Парионо, Понте и Сан-Лоренцо. В сонную папскую эпоху булли воплощали душу Рима, его высокомерие, конфликт между стремлением к свободе и любовью к королю и папе римскому. Как описал их один из исследователей: «якобинцы и в то же время преданные гвельфы с гибеллинским нравом».
Самый известный в Риме литературный персонаж, воплотивший образ булли, это Мео Паттака, герой поэмы конца XVII столетия, приписываемой Джузеппе Бернери. Кондотьер Мео, или, как его полностью звали, Бартоломео Паттака, которого так любил изображать на своих гравюрах Пинелли, был идеальным героем — справедливым, честным и великодушным. Другие склонны считать прототипом булли Ругантино — ещё одного популярного персонажа комедии дель арте, чьё имя произошло от итальянского «ruganza» — высокомерие, надменность. А кто-то записывает в предшественники булли и других литературных персонажей, таких как Джакаччо, Спеццафери или Капитан Спавенте — популярный театральный персонаж XVI века, олицетворявший образ типичного испанского солдата — гордого, тщеславного и хвастливого
[379].
Слово «булли» в римском диалекте, как и «гуапо» в неаполитанском, служило для обозначения жестокого, удалого, высокомерного, мужественного, импозантного, великодушного, чванливого типа, крайне заботящегося о своей внешности и одежде. Но при этом человека слова, болезненно чувствительного в вопросах чести и склонного действовать прежде, чем думать. Он был победителем в соревнованиях, лучшим бойцом, танцором, игроком и мог перепить любого. Его авторитет опирался на репутацию, а не на деньги.
Согласно испанской моде булли носили длинные волосы, собранные на затылке в сеточку
[380], белую рубашку с широкими рукавами, шейный платок и короткие брюки, скреплённые застёжкой ниже колен. Верхней одеждой им служил короткий бархатный или шерстяной жакет, который носили небрежно накинутым на плечо, чтобы в случае опасности его можно было быстро намотать на левую руку. Костюм дополняли белые, синие или разноцветные чулки. Хрестоматийные полосатые чулки известные нам по картинам и пьесам, на самом деле не пользовались в Риме популярностью. Дополняли костюм ботинки с квадратными носами, украшенные настолько большими серебряными пряжками, что они звенели на всю улицу
[381]. Ещё одной неотделимой частью образа булли была чёлка, называемая «чуффо». Характерным и узнаваемым жестом булли было тряхнуть головой, чтобы убрать чёлку с глаз. Кроме булли такую чёлку носили бандиты Ломбардии, находившейся под испанским протекторатом. Так как чуффо считалась исключительно бандитской причёской, то в семнадцатом веке ношение чёлки закрывающей брови, каралось в Милане крупным штрафом
[382].
Хотя среди булли можно было встретить выходцев из разных социальных слоёв, но в основном ряды их пополнялись за счёт бедных районов Трастевере и Монти. Трастевере скорее даже был не районом Рима, а отдельным портовым городком. До того как Рим стал республикой, на этом месте находилась этрусская военная застава, а позже тут располагалась еврейская колония. Из этой взрывной смеси кровей и родились жители Трастевере, считавшие себя самыми римскими из римлян и ведущими свою родословную напрямую от древних этрусков. Даже среди жителей Рима, славившихся своим свободолюбивым характером, трастеверцы выделялись тем, что выбирали работу, позволявшую ни от кого не зависеть — извозчиков, швейцаров, продавцов и мелких торговцев
[383].

Рис 28. Дуэль булли. Бартоломео Пинелли, 1823 г.
Булли держались обособленно и редко заключали браки с выходцами из других районов города. Они жестоко соперничали с конкурирующими группировками, особенно с их главными противниками из Монти. Гордые, невежественные, сильные, галантные и набожные, они носили с собой ножи и чётки и мгновенно могли пустить в ход и то, и другое. К моменту оккупации папского государства войсками Наполеона, Трастевере представлял собой запутанный лабиринт безымянных улочек, что совершенно не отвечало планам французов по наведению порядка. Поэтому в числе первых реформ французской администрации был указ, гласящий, что в целях идентификации необходимо дать имена улицам и пронумеровать дома
[384]. Побывавший в Риме в первой четверти XIX века шотландский художник Хью Уильямс писал в воспоминаниях: «Во время ссор, мужчины из низших слоёв общества обычно дерутся на ножах. Перед поединком они оборачивают левую руку плащом, а нож держат так, чтобы выглядывало сантиметров пять. Убивают редко, как правило, обходятся жуткими ранениями. В настоящее время запрещено носить ножи в связи с ужасной традицией ножевых дуэлей. Но они это компенсируют метанием камней и очень умело поражают цели»
[385].
Как «люди чести», булли категорически не признавали пистолеты, презрительно называли их «пукалками» и предпочитали использовать нож — на римском жаргоне «черино» — спичка или фитиль
[386]. Шотландец Джозеф Форсайт, побывавший в Италии в начале XIX столетия, отметил, что в этих местах даже самый кровожадный головорез никогда бы не воспользовался огнестрельным оружием. «Пристрелить соперника они считают варварством, а вот проткнуть его стилетом, — доказательством отваги» — писал он в путевых заметках
[387]. Спорные территориальные вопросы в конфликтах с группировками из конкурирующих районов булли решали в поединках на ножах или метанием камней — «петрейатой»
[388].
Бои конкурирующих группировок булли обычно проходили на так называемом Коровьем поле, он же Форум. Часто в качестве оружия использовалась рогатка, стреляющая камнями или обломками мрамора, а для защиты применялась бархатная куртка или толстый плащ, обёрнутые вокруг руки и плеча. Форум в качестве места битв был выбран не случайно, и для этого было несколько причин. Во-первых, он напоминал о блеске древнего Рима, и булли чувствовали себя наследниками славы римских легионеров. Во-вторых, Форум являлся нейтральной территорией, не относившейся ни к Трастевере, ни к Монти, ни к районам Борго или Понто. Кроме этого, там было полно камней и битого мрамора — огромное количество боеприпасов, а также естественные укрытия позади груд камней, колонн и арок. К тому же, что немаловажно, неподалёку располагалась больница Санта-Мария делла Консолационе.

Рис. 29. Мужчина с плащом и кинжалом Италия, около 1600 г.
Сражения продолжались до рассвета или пока дозорные не выкрикивали: «Аль фуоко!» — «К очагу!», или «Домой!» В этот момент воюющие стороны, собрав своих раненых и мёртвых, вместе с толпой восторженных зрителей покидали поле боя. Папские власти предпринимали слабые попытки остановить эти битвы, или, как их называли, «сассолате», но без особого успеха. Французы, как всегда, действовали жёстче, запретив их законодательно, и даже использовали для прекращения этих побоищ кавалерию
[389].
Кроме сассолате, убийства среди булли происходили во время ссор за карточным столом, из-за женщин или при решении вопросов чести. Соперники обменивались ритуальными фразами, на руку в испанской манере наматывали куртки и доставали ножи. Если нож был только у одного из бойцов, то, согласно кодексу чести, поединок откладывался до тех пор, пока не находили оружие и для второго дуэлянта. С падением одного из противников поединок прекращался, но только при условии, что сам он уже не мог подняться. После этого победитель покидал место дуэли, а проигравшего отвозили в ближайшую больницу для осмотра ранений. Если раненый выживал, то предполагалось, что он простит противника и этим конфликт будет исчерпан. В случае же смерти дуэлянта делом могли заинтересоваться сбирри — жандармы. Хотя интерес этот, как правило, был чисто академическим, так как при расследовании они не могли рассчитывать на сотрудничество и помощь населения.
Более реальную опасность для победителя представляла кровная месть семьи или друзей убитого. В случае возникновения такой угрозы у убийцы было две возможности. Во-первых, до решения проблем он мог скрыться в одном из многочисленных убежищ — их было несложно найти, а во-вторых, уйти в горы и примкнуть к бандитам — бригантам
[390].

Рис. 30. Сражение (сассолате) между районами Трастевере и Монти на Коровьем поле. Бартоломео Пинелли, 1830 г.
Френсис Кроуфорд в 1900 году писал, что, когда в Трастевере между двумя молодыми людьми возникают разногласия, они обычно направляются в какой-нибудь тихий внутренний дворик или сад с изгородью. Там соперники шейными платками привязывают рукоятки ножей к правому запястью, чтобы не выронить оружие, левые руки обматывают куртками в качестве щита и бьются, пока один из них не падёт мёртвым. «Если это и варварский обычай, — заметил Кроуфорд, — то, по крайней мере, он требует большего мужества, чем удар ножом в темноте»
[391]. Кстати, подобная традиция привязывать оружие к руке известна ещё с древности. Так, например, профессор Хьялмар Бойесен в своей «Истории Норвегии» писал, что таким же способом привязывал меч к запястью легендарный норвежский король Харальд
[392].
Бартоломео Росетти упоминал ещё один вид поединков, известный как «alla саргага» — «пастушья дуэль», или «дуэль козопасов». В этих поединках ножи держали в правой руке, а левые запястья обоих бойцов связывали вместе
[393].

Рис. 31.Ссора в Риме. Бартоломео Пинелли.

Рис. 32. Битва обнажённых. Антонио Поллайоло. 1470 г.
Одно из самых ранних изображений этого вида поединка, можно увидеть на гравюре «Битва обнажённых», известного флорентийского художника, скульптора и ювелира пятнадцатого столетия, Антонио дель Поллайоло.
На этой гравюре, датированной примерно 1470 г., изображены пять пар сражающихся мужчин, вооружённых фальчионами. Двое дуэлянтов, расположенных на переднем плане картины, левыми руками держатся за концы короткой цепи. Примерно в тот же период, между 1470 и 1500 годом, на основе сюжета гравюры, был создан терракотовый барельеф. В скульптурной версии, цепью соединены уже две пары бойцов, а фальчионы заменены на кинжалы.
Этот старинный обычай практикуется и в наши дни. В 1993 году один из боссов мафии 38-летний Маурицио Аббатино упомянул в интервью, что «в Риме всё ещё живы древние традиции мужества и чести, когда оскорбление карается не автоматной очередью, а ударом складного ножа «саканьо». Также Аббатино заметил, что результатом позорящего оскорбления становится дуэль «алла капрара», когда «левые руки обоих дуэлянтов связываются вместе, а в правой держат ножи и кто-то умирает первым»
[394].
Булли, как и каморристы, не прекращали тренировки и за решёткой. И для многих из них Новая тюрьма, Сан-Мишель, Регина Козли, или острова-тюрьмы Понца, Вентотене, Пианоза, Липари, Устика, стали университетом владения ножом. В качестве оружия они использовали щётки и ёршики, которые макались в известь или штукатурку, чтобы оставлять видимые отметины, и нередко устраивали соревнования со ставками и букмекерами
[395].
Самая прославленная школа ножа римских булли находилась на небольшой улочке под названием Виа делла Паломбелла, расположенной сразу за Пантеоном, рядом с Пьяцца делла Минерва. На этой улочке, до начала 1900-х, стоял ресторанчик с одноимённым названием — «Паломбелла», на стенах которого осталась кровь не одного поколения булли
[396]. Здесь, в «Паломбелле» и проходили их легендарные «чиччиаты».
Вот как в 1867 году описывал эту кровавую традицию Валадье: «Слово «чиччиата» образовано от «чиччиа» — мясо, и вы не найдёте его ни в одном словаре. Это слово не имеет французского эквивалента и может быть интерпретировано как резня или бойня. Когда приятели собираются в пивной и их мозг разогревается винными парами, то один из них предлагает чиччиату. Те, кто не хочет в этом участвовать, пытаются покинуть помещение, но вход и выход уже заблокированы в качестве предосторожности на случай появления полиции. Как только оговаривается длительность чиччиаты, можно приступать. После достижения соглашения по всем условиям произносится короткая молитва к Мадонне, гасятся лампы, и все бросаются потрошить своих друзей и собеседников. И самое ужасное, что у этих людей нет абсолютно никакого повода для враждебности — всё это совершается только для увеселения и эмоционального подъёма. Всё происходит в страшной тишине — ни жалоб, ни стонов, лишь шумное дыхание, звон столкнувшихся лезвий и летящие от ножей искры, иногда освещающие эту кровавую резню. Однако, эта игра имеет свои правила. Запрещено разговаривать, чтобы раненый не узнал голос друга и у него не возникло обиды или желания отомстить. Если нож вошёл в тело по рукоятку, надо вытащить его, не пытаясь разрезом расширить рану. Нельзя атаковать человека, лежащего на земле, поэтому любой, кто хочет выйти из игры, может лечь на землю. Удары должны наноситься не на уровне лица, а в нижнюю часть живота»
[397].
Любопытное описание этого кровавого ритуала оставил один из очевидцев, которому довелось присутствовать на этом зрелище в 1848 году. Взглянуть на чиччиату его пригласил приятель-итальянец, а проходило всё действо в некой таверне неподалёку от театра Альберто. В небольшом зале, освещавшемся четырьмя лампами, за длинными столами сидело около двадцати крепких парней. Хотя на столах и стояли кувшины с вином, но пьяных среди них не было. Вскоре один из этих людей забрался на скамейку и предложил присутствующим чиччиату, что всей компанией было встречено с одобрением. После этого они быстро расчистили пространство, сдвинув столы к стенам, разделись до пояса и достали ножи, которые каждый положил на стол рядом с собой.
Высокий мужчина, предложивший чиччиату, напомнил всем правила поединка. Так, нельзя было выдавать себя криками боли, чтобы не быть узнанным, и запрещалось атаковать лежащего, поэтому раненый мог броситься на пол, где никто не смел его тронуть. После того, как убрали последнюю скамейку, все участники встали лицом к стене, держа в руках ножи. Высокий распорядитель чиччиаты по очереди погасил все лампы. Свидетель вспоминал, что в первые минуты ничего не происходило и в полной темноте слышалось только дыхание, поэтому зрителям оставалось лишь догадываться, как бойцы осторожно передвигаются по залу на носках. Но вскоре глаза привыкли к темноте, и уже можно было различать действия отдельных фехтовальщиков. Было слышно, как они прыгают от одного конца помещения к другому, пытаясь на ходу нанести удар. До зрителей доносился шум сталкивающихся тел и звуки ударов, сопровождаемые грохотом падений.
Автор вспоминал, что, когда длившаяся около двадцати минут бойня достигла апогея и в помещения стояла какофония придушенных возгласов и сдерживаемых криков, чей-то голос вдруг громко скомандовал всем лечь на пол. Несколько минут стояла мёртвая тишина. Затем высокий мужчина, погасивший лампы, зажёг их одну за другой. Те, кто не был серьёзно ранен, поднялись на ноги, как только зажёгся свет. Семь человек осталось лежать в кровавых лужах, и ими занялись те, кому посчастливилось избежать ранений, а легкораненые с ледяным спокойствием и невозмутимостью осматривали свои колотые и резаные раны. Самые хладнокровные бойцы, не обращая внимания на ранения, вытирали ножи носовыми платками
[398].
То, что, несмотря на обилие ранений и крови, убитых в подобных развлечениях было не так много, обусловлено тем, что, во-первых, удары наносились строго в определённые части тела, а во-вторых, клинки ножей иногда обматывались по всей длине шпагатом. Свободным при этом оставляли приблизительно двухсантиметровый кончик лезвия, которым наносили поверхностные и не столь опасные ранения
[399]. Подобную технику, известную как «пунтатина», можно увидеть в вышедшем в 2009 году документальном фильме Франческо Сбано «Uomini d`onore», посвящённом истории преступной организации Калабрии — ндрангеты. На кадрах из фильма «пунтатину» демонстрирует бывший член ндрангеты, скрывающийся под псевдонимом Мастро Чиччио — Маэстро Франческо, незадолго до того отбывший шестнадцатилетний тюремный срок
[400].
Больницей, в которую после подобных экзерсисов доставляли булли, была Санта-Мария делла Консолационе, располагавшаяся между Форумом и театром Марцелла, на перекрёстке районов Трастевере и Монти, неподалёку от Понте и Рипа. В настоящее время там находится Управление дорожной полиции Рима. Врачи этой больницы несколько десятилетий вели учёт раненых и убитых в поединках. Так как долгое время не утихают споры об эффективности колющих и резаных ранений, я решил привести часть этой статистики, демонстрирующей очень показательный баланс.
Согласно собранным больницей данным, в 1892 году в неё поступило 72 раненых дуэлянта, получивших проникающие ножевые ранения и порезы. В 1893 году — 58 раненых и четверо погибших с колотыми ранениями и 185 человек, получивших резаные раны, с одним смертельным исходом. В 1894 году 43 человека получили проникающие колотые ранения. 1895-й: 8 погибших и 196 раненых. 1896-й: 6 убитых, 37 раненых, 129 проникающих колотых ранений. 1898 год: 112 колотых ранений с 20 трупами и 109 резаных с двумя. 1899-й: 86 колотых ранений с 20 мёртвыми и 79 резаных с одним. 1900-й: 106 колотых ран и 18 мёртвых и 71 резаная рана без трупов. 1902 год: 118 колотых ранений с 16 мёртвыми и ни одного летального исхода на 99 резаных ран. 1904-й: 86 убитых с колотыми ранениями и 258 раненых с резаными, из которых скончалось трое. 1906 год: 140 колотых ранений с 18 погибшими и 183 резаных без единого смертельного исхода
[401]. Таким образом мы видим, что даже в начале XX столетия проникающие колотые ранения в сборе кровавой жатвы оставались вне конкуренции.
Поводов для вызова на поединок у булли хватало с избытком: достаточно было вяло пожать руку, схватиться за нож, пялиться на чужую женщину, расплескать вино или наливать его левой рукой, как наливают предатели
[402].

Рис. 33. Игра в морру. Бартоломео Пинелли, 1809 г.
Естественно, как и везде, немало конфликтов начиналось за игорными столами. Кроме карт, печальной славой пользовались такие «народные» игры, как боцце, морра, и, конечно же, легендарная пассателла.
Морра, известная у нас как «камень-ножницы-бумага», была необычайно популярной в народе «кабацкой игрой» с военными корнями, древними, как римские легионы. Правила её были просты: правая рука, сжатая в кулак держалась на уровне лица, один из игроков быстро выкидывал пальцы, и оба участника выкрикивали предполагаемую сумму между нолём и десятью если использовалась одна рука, и от ноля до двадцати, если обе. Морра требовала железных нервов, молниеносной реакции и быстрого ума. Случалось, что вошедшие в раж игроки, допускали различные нарушения, поэтому неудивительно, что в ходе этой игры начинались ссоры. Хотя, надо сказать, что учитывая темперамент римлян, повод для конфликтов давали практически все игры
[403].
Абу описывал случай, когда некий мужчина средних лет, флегматичный и спокойный, выиграл за игровым столом энную сумму. После чего с карманами, набитыми монетами, он покинул игорный дом и направился домой. Толпа, знавшая о его выигрыше, двинулась вслед за ним, осыпая его насмешками и ударами и пытаясь отнять деньги. Всё это продолжалось до того момента, пока мужчина не взял в руку складной стилет — и тут его беззащитность и флегматичность исчезли без следа. Уже через две минуты трое его обидчиков были мертвы и ещё четырнадцать ранены
[404]. Учитывая привычку римлян носить с собой ножи или стилетообразные шпильки для волос, было редкостью, когда вечер за игрой в таверне не заканчивался одной-двумя смертями
[405].
Ещё одной популярной в народе игрой была боцце, от итальянского «боцца», — деревянный шар. Боцце представляла собой напоминающую французский петанг игру в шары, не менее древнюю, чем морра и также известную ещё в Римской империи
[406].
Но в сборе кровавой жатвы вне конкуренции была другая античная игра — пасателла. Пасателла, или, как её ещё называли, «сопра э сотто», «токка» или «падроне э сотто-падроне» — довольно жестокая старинная питейная игра, цель которой — унижение одного из участников. Игру обычно начинали восемь или десять мужчин, играющих в боцце, морру или карты, чтобы создать общий денежный котёл для оплаты напитков. Падроне и сотто-падроне, то есть ведущий игры и его помощник, выбирались жеребьёвкой, с помощью карт или каким-либо иным способом. Падроне заказывал поднос с напитками. Первый стакан он выпивал залпом сам, а второй предлагал выпить сотто-падроне. Затем падроне предлагал вино и другим выбранным им игрокам, но, прежде чем выпить, каждый из них должен был попросить у него разрешения. Если позволение было получено, то игрок выпивал предложенный стакан. Игра шла до тех пор, пока поднос не опустеет
[407].
У пасателлы было множество вариаций. Если и падроне, и сотто-падроне относились ко всем игрокам одинаково хорошо, то каждый из них получал свою законную долю питья. Но любой из ведущих мог отказать каждому, манипулируя таким образом статусом игроков. Бывало, что сотто-падроне так и поступал, и в результате сверх меры пил падроне. Единственным возможным уравнителем в игре являлся правильный выбор падроне или сотто-падроне. Нередко случалось, что, когда кто-то из игроков был обойдён вниманием ведущих игры, такое неучтивое обращение в конце концов могло быть отмщено ударом ножа
[408].
Случайным свидетелем такой кровавой развязки пасателлы стал французский журналист и публицист Эдмон Абу. Как-то раз, ужиная в любимой таверне, он услышал, как смазливый слесарь, сидевший за соседним столом, предложил своим приятелям сыграть в запрещённую тогда пасателлу. Каждый из участников, согласно старинному римскому изречению «оплати своё питьё», дал по четыре цента, и хозяин поставил пять графинов вина на середину стола. Они бросили жребий, чтобы определить, кто будет рассчитываться за всех и кто из пяти участников станет Хозяином вина. Точно так же древние римляне когда-то бросали кости для определения главенства в трапезе. Патроном вина оказался сосед Абу, смазливый мастеровой. Как уже говорилось, основной привилегией этого титула в первую очередь являлась возможность самому утолить жажду, прежде чем предложить что-то другим. Кроме этого, падроне выбирал заместителя, наполняющего то один, то другой стакан всегда к удовольствию короля и только с его согласия.
Вскоре Абу заметил, что один из игроков, мужчина, похожий на бульдога, не пользовался особым расположением падроне. Дважды он протягивал свой стакан за напитком, дважды заместитель брал бутылку, чтобы налить ему вина, и дважды слесарь с удовольствием произносил: «Он не будет пить — выпью я. Помощник, друг мой, вот стакан, который должен быть наполнен». Всё это вызывало у игроков бурное веселье и хохот. Мужчина с бульдожьей мордой выглядел недовольным. За питьё он заплатил, глотка его пересохла, вино несли мимо его рта, и приятели потешались над ним. Вскоре вино закончилось, и «бульдог» сам предложил вторую пасателлу. На этот раз он решил действовать наверняка и, очевидно, рассчитывая взять реванш, попросил смазливого мастерового сделать его Хозяином вина, на что тот рассмеялся ему в лицо.

Рис. 34. Игра в пасателлу. Бартоломео Пинелли 1831 г.
Фортуна опять улыбнулась мастеровому и распределять вино снова выпало ему. «Бульдожья морда» наполовину в шутку, наполовину всерьёз заметил, что веселье зашло слишком далеко и что, заплатив восемь центов из собственного кармана, он рассчитывал, что ему всё-таки позволят выпить. На что весёлый слесарь отшутился, ответив, что ему, как доброму христианину, следовало бы пестовать в себе добродетель терпения. Так как эти господа разговаривали очень громко, а их соседи по столу смеясь комментировали беседу, вскоре перепалка привлекла внимание всей таверны.
Абу заметил, что за соседним столом началась уже третья пасателла и упрямая фортуна снова предпочла мастерового. «Бульдожья морда», потерявший голову от жажды и злобы, бросил ему пару грубых фраз, не вызвавших у того ничего, кроме смеха. Он отвечал шутками на достаточно серьёзные угрозы «бульдога», пообещавшего мастеровому смерть от «холодного удара». Ударом в Риме XIX века называли апоплексический удар, а холодным ударом — удар ножом. Но это не смутило слесаря, который в свою очередь со смехом предрёк своему оппоненту смерть от жажды. Эта шутка вызвала необычное веселье, и ярость «бульдога» выросла вдвойне. В конце концов «бульдог», уставший быть мишенью для насмешек, недовольно удалился. Вскоре таверну покинули и остальные участники игры, а смазливый мастеровой на прощание пожал Абу руку. Тогда он ещё не подозревал, что жить этому весельчаку оставалось всего несколько минут.
Вскоре после того, как Абу распрощался с весёлой компанией, в таверне появился старик, с повязанной на ноге окровавленной тряпкой. Как ему объяснили, это был отец юноши, убитого совсем недавно ударом ножа в желудок прямо перед таверной. А лоскут, намоченный в крови сына, по древней традиции вендетты, должен был служить отцу напоминанием о мести. Убитым же, как с ужасом выяснил Абу, оказался тот самый весельчак-мастеровой, отказавший в выпивке товарищу по пасателле
[409]. Хрестоматийную пасателлу, также окончившуюся ударами ножа, можно увидеть и в итальянском фильме 1971 года «Ег piu: storia d'amore е di coltello», более известном российскому зрителю, как «История любви и ножей» с Адриано Челентано в амплуа типичного римского булл и и очаровательной Клаудией Мори в роли его верной подруги.
Кроме уже перечисленных игр, Сьюзан Никассио упоминает и другой трас-теверский обычай проведения на праздниках импровизированных рифмованных поэтических поединков в сопровождении мандолины, напоминающий и пайады аргентинских гаучо, и аналогичные рифмованные «дуэли» пастухов Крита
[410]. Очевидно, подобные символические единоборства были характерны для многих культур Средиземноморья и служили в качестве бескровной разновидности народной дуэли. Искусность бойцов здесь доказывалась не хитроумными финтами и ударами, а сложными аккордами, а молниеносные атаки были заменены на скорость импровизации в стихоплётстве и остроумные экспромты.
Власти неоднократно предпринимали отчаянные попытки разоружить булли. Но успеха в этом нелёгком деле добилась только французская администрация. Французы подвергали булли, задержанных с оружием, публичному унижению, и в конце концов им пришлось научиться оставлять свои ножи дома
[411]. Закончилась эпоха булли с приходом фашизма. Правительство Муссолини вело непримиримую борьбу с этой субкультурой, и в лучшем случае булли ждали длительные тюремные сроки, а в худшем — смертная казнь. Поэтому, можно сказать, что ножевая «сага» булли охватывала столетний период от начала XIX века, и до нескольких лет после окончания Первой мировой войны
[412].
И хотя культура булли давно канула в лету, она не забыта и является одной из самых ярких страниц истории Вечного города. Достаточно пустить в ход воображение — и вот они снова тут: Понте, Порчетта, Гринца, Гечетта, Бруньо-лоне, Польпо, Джиджиотто, Зеппа, Миньотелла, Ансельмуччо, Чичориаро, Серафино, Помата, Тото, Аттилио, Мусетта, Стурапиппе, Морбидоне, Спарекка, Маццангроппа, Капо Раббино, Нино, Камерьер, Фрамичитто, Терремото, Кайо де Понте, Паццайя, Кафаббо, Стиволоне, Барбиретто, Грамичетта, Аугусто-фонтанщик, Тото-заточка, Ахилл-задира, Аугусто-питторетто, Сильвестр-кампаниец, Броколетто, Тармато, Эттороне-мясник и многие другие
[413].
Благодаря жанровым сценкам известного итальянского иллюстратора начала XIX века, певца культуры булли Бартоломео Пинелли, мы и сегодня можем увидеть надменных трастеверцев в их расшитых камзолах с переброшенными через плечо плащами, играющих в боцце и морру или собравшихся с ножами в руках за Форумом, чтобы схлестнуться с заклятыми врагами из Монти или Борго
[414].
Некоторые исследователи объединяют все виды неформальных народных дуэлей Италии под общим термином «дуэлло рустикано», или «сельские дуэли», что мне кажется не совсем корректным. Я считаю, что трактовка «сельской дуэли» скорее подразумевает решение внутренних бытовых и семейных конфликтов между членами крестьянских общин, а не сложную систему кодов, обрядов и ритуалов, более характерную для закрытых иерархических сообществ, таких как каморра или булли.
Сам термин «дуэлло рустикано» появился достаточно поздно, и полагаю, что рождением своим он обязан выходцу из сицилийской Катании писателю Джованни Берга, известному своими зарисовками из сельской жизни сицилийцев. В 1880 году увидел свет сборник его новелл, среди которых была история, не только прославившая имя Верга и вписавшая его в историю мировой культуры, но и ставшая одной из фундаментальных основ идеологии сицилийской мафии на следующие сто лет. Новелла эта называлась «Cavalleria rusticana», что можно перевести как «Сельское рыцарство».

Рис. 35. Сицилийская семья. Конец XIX в.

Рис. 36. Джузеппе Питре (1841–1916).
В основе новеллы лежит любовный треугольник — сюжет незамысловатый и древний, как скалы Сицилии. Туридду влюблён в односельчанку, красавицу Лолу. Вскоре его забирают в солдаты, а когда он возвращается, то узнаёт, что Лола уже замужем за другим, неким возчиком Альфио. Чувства вспыхивают с новой силой, и парочка дружно наставляет рога старине Альфио, о чём ему, естественно, доносят доброхоты. Развязка предсказуема, и кульминацией её становится поединок. Обманутый муж и его удачливый соперник вызывают друг друга на бой согласно сицилийской традиции — куснув за ухо. Вскоре после этого они скрещивают ножи на дуэли, где Альфио убивает Туридду тремя ударами ножа.
Сцену этой дуэли сицилиец Верга описал со знанием дела. Оба героя новеллы были искусными фехтовальщиками. Первый удар получил Туридду, но он оказался достаточно быстр, и рана пришлась в руку. А когда он наносил ответный удар, то вернул его так ловко, что ранил соперника в пах. Так как Альфио низко нагнулся, чтобы прикрывать левой рукой причинявшую ему боль рану, он молниеносно зачерпнул горсть земли, и швырнул в глаза своему противнику. «Ах! — воскликнул ослеплённый Туридду. — Я погиб!». Он отчаянно попытался спастись, отпрыгнув назад, но Альфио настиг его и поразил несколькими ударами ножа в желудок и горло. Туридду, пошатываясь, сделал несколько шагов среди колючих грушевых деревьев и рухнул как подкошенный. В его горле булькала кровавая пена, и он даже не смог вскрикнуть
[415].
Любопытным ритуалом являлся описанный Вергой вызов на дуэль — укус за ухо. Известный сицилийский фольклорист, этнограф и политик второй половины XIX — начала XX столетия профессор Джузеппе Питре, чьим именем назван этнографический музей в Палермо, в одной из своих работ упоминал о существовании подобного ритуала на Сицилии. Согласно Питре, этот ритуал служил в качестве традиционного вызова на дуэль на ножах. Для этого uomo d'onore — человек чести обнимал своего противника и легко кусал его за ухо. Перед укусом он целовал соперника «per la vita е per la morte» — «за жизнь и за смерть». Укус же символизировал «е о muoio io о muori tu»: один из нас умрёт.
Если противник отвечал на поцелуй uomo d'onore, то вызов считался принятым. Согласно правилам, если у одного из дуэлянтов не было ножа, он должен был его найти. После этого соперники, как хорошие друзья договаривались о типе предстоящей дуэли: «'n cascia», или «'n musculu», и направлялись в укромное место, где без свидетелей и без риска чьего либо вмешательства приступали к поединку.
В случае, если была выбрана «'n cascia», то удары наносились в корпус, а в «'n musculu» — только в конечности. Не оставляет сомнений, что первая из этих форм дуэлей, «'n cascia», чаще всего заканчивалась смертью одного из участников. Большую часть времени отнимали приготовления, сама же дуэль являлась минутным делом. Противники определяли дистанцию, скрещивали клинки, проводили две-три инквартаты, преодолевали защиту противника, и кто-то из них наносил удар ножом. Более искусный боец склонялся к раненому или убитому противнику, целовал его и удалялся с таким видом, как будто это не его рук дело
[416].
Уже к 1889 году новелла Верги с успехом выдержала несколько театральных инсценировок. Но мировую славу ей принёс не театр. В 1890 году сюжет новеллы позаимствовал для создания либретто своей оперы начинающий итальянский композитор Пьетро Масканьи, участвовавший в конкурсе одноактных опер. Впервые опера Масканьи была представлена широкой публике в римском театре «Констанци» 17 мая 1890 года и имела оглушительный успех. На премьере певцов тридцать раз вызывали на бис, и сама королева Италии аплодировала, не скрывая эмоций. Несколько месяцев спустя в письме к другу двадцатишестилетний Масканьи признался, что эта одноактная опера сделала его богатым на всю жизнь. Правда, Масканьи избавил зрителей от излишней драматизации и кровавых подробностей дуэли, поэтому о поединке и последующей смерти Туридду зрителям становилось известно лишь благодаря знакомой каждому любителю итальянской оперы финальной фразе: «Наппо ammazzato compare Turiddu!» («Убили кума Туридду!»).
Масканьи, уроженец тосканского Ливорно, никогда не был на Сицилии, и поэтому пафосное и патетическое либретто оперы скорее являлось отражением представлений композитора о сицилийских реалиях. Но всё это уже не играло никакой роли. В 1890 году Сицилия была модной темой. Публика в театре «Констанци» ожидала увидеть — и увидела — живописный и экзотический остров солнца и страсти, будто сошедший со страниц иллюстрированных журналов и населенный задумчивыми смуглыми крестьянами. Те, кто пришел на премьеру оперы Масканьи, воспринимали Туридду и в особенности возчика Альфио не только как типичных сицилийцев, но и как типичных мафиози. Слово «мафия» употреблялось в те годы не столько для обозначения криминального синдиката, сколько для сочетания яростной страсти и «восточной» гордости, которые, как считалось, определяют характер жителей Сицилии. Иными словами, быть мафиозо означало иметь представление о чести и следовать древнему рыцарскому коду, принятому среди сицилийских крестьян
[417]. Именно этот «архетип» сельской чести сицилийца и лёг в основу идеологии, культурного кода, традиций, обрядов и ритуалов организованной преступности Сицилии. Таким образом «сельская честь» и её порождение «дуэлло рустикано» — «сельская дуэль» вошли в обиход благодаря усилиям тандема Верга — Масканьи, воплотившись в каноническом поединке деревенских «рыцарей» Туридду и Альфио.
Хотелось бы упомянуть, что Сицилия была одним из немногих регионов Италии, где дуэли на ножах можно назвать истинно «народными», так они использовались при решении дел чести не только каморрой, но и простыми крестьянами. Также и профессор Антонио Мерендони отмечал, что на этом острове поединки на ножах не были лишь прерогативой преступного мира и что там существовали многочисленные народные школы ножевого фехтования. Дуэльная традиция настолько укоренилась на Сицилии, что в период разоружения населения с 1849 по 1860 год в каждом квартале, в стенах домов находились известные всем местным жителям тайники, в которых прятали дуэльные ножи.
Истинной «дуэлло рустикано» также можно считать довольно любопытную пастушью школу владения ножом, распространённую в регионе Офантина, к северу от апулийского города Бари. Одним из последних хранителей секретов офантинской школы, является маэстро Доменико Манчино. Специфическим и узнаваемым элементом этой системы, считается использование ножа в комбинации с отрезком бечёвки, применяемой для захватами запутывания руки или оружия противника. В том, что в основу офтантинских техник лег именно нож, немаловажную роль сыграл рациональный фактор — простой расчёт. Местные крестьяне были небогаты и не могли позволить себе огнестрельное оружие — ружья и пистолеты были здесь в XIX веке слишком дорогим удовольствием, и приходилось полагаться на более доступные методы защиты, к тому же не привлекавшие особого внимания со стороны полиции
[418].
Описание ещё одного образчика народной дуэли содержат уже упомянутые «Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони, увидевшие свет в 1762 году. В одной из сцен комедии во время конфликта между двумя персонажами, рыбаками Беппо и Тоффоло, вооружённый ножом Беппо угрожает своему противнику «sbuso» — в переводе с диалекта «проделать дыру». Далее Тоффоло с ужасом описывает оружие своих противников: «О проклятие! У них ножи! У Беппо Коспеттони рыбацкий нож, падрон Тони вышел с ножом размером с меч, которым можно отрубить голову быку, а Титта-Нане вооружён одним из тех складных ножей, что прячут под рубахой»
[419].
Разумеется, нельзя обойти вниманием ножи, скрещиваемые в этих поединках, или, как называли это оружие сами итальянцы, «spade dei poveri» — «меч бедняков». Знакомство с арсеналом апеннинских дуэлянтов мы начнём с сики — прославленного кинжала гладиаторов Рима. Учитывая, что сика является предтечей многих боевых ножей, а также самым известным и легендарным и в то же время самым загадочным и малоизученным оружием поединков, этот сакральный нож заслуживает особого внимания.

Рис. 37. «Кьоджинские перепалки». Collezione completa delle commedie del signor Carlo Goldoni. Венеция, 1789 г.
С момента своего появления на исторической сцене вместе с фракийскими гладиаторами в правление Суллы в I в. до н. э. сика была окружена невероятным количеством мифов, домыслов, слухов, легенд и заблуждений
[420]. Уже сама этимология этого термина тонет в трясине
академических дискуссий. Так, например, по словам исследователя Каталина Боранджика, в румынской историографии сиками принято называть абсолютно все виды ножей и кинжалов с искривлёнными клинками. Учитывая, что Дакия длительное время являлась римской провинцией, и то, что современный румынский язык испытал в процессе своего формирования значительное влияние так называемой народной, или вульгарной, латыни, а позже и балканского латинского диалекта, я могу предположить, что это отголоски римской терминологической традиции
[421].
Споры о происхождении этого термина ведутся уже не первое столетие и породили множество как вполне реалистичных, так и достаточно сомнительных теорий. Учитывая, что и фракийский язык, и латынь относились к одной и той же индоевропейской группе языков, крайне сложно однозначно говорить об эндемичности фракийского или же римского происхождения термина «сика». Сторонников версии об общих для всех индоевропейских языков корнях «sac», «sic» и «sec», послуживших основой для «сики», являлся Чарльз Даремберг
[422]. Жан Дюмесниль в своём словаре латинских синонимов ведёт происхождение слова «сика» от латинского глагола «secare» — резать
[423]. Эта версия звучит достаточно логично, учитывая что на латыни «sicilis» — это серп, «sicilio» — резать серпом, a «sicilicula» — небольшой серп, от которого, по мнению Бёртона, и произошло английское название серпа — «sickle»
[424]. Плавт использует термин «si-licula» для обозначения серебряного столового ножа с изогнутым клинком
[425], а выражение «sicilis» встречается в римских источниках также и в значении «режущий, как кинжал»
[426]. Тем не менее известный специалист по дакийской культуре, В. Г. Котигорошко со ссылкой на Валерия Максимуса, считает, что термин «сика» является дакийским
[427]. Оппонируя профессору Котигорошко, я хотел бы отметить, что работы Максимуса датируются I веком нашей эры, когда термин «сика» использовался в Риме для обозначения кривых кинжалов уже как минимум два с половиной столетия, и к этому времени «сика» являлась в Риме общеупотребительным словом. Кроме этого, отрывок из работы Валерия Максимуса «Factorum et dictorum memorabilium», на который ссылается Котигорошко, в оригинале выглядит следующим образом:
«Militis hujus in adverso casu tam egregius tamque virilis animus, quam rela-turus sum, imperatoris. P enim Crassus, cum Aristonico bellum in Asia gerens, a Thracibus, quorum is magnum numerum in pnesidio habebat, inter Eleam et Smyrnam exceptus, ne in ditionem ejus perveniret, dedecus, arcessita ratione mortis, effugit. Virgam enim, qua ad regendum equtim ususfuerat, in unius barbari oculum direxit, qui, vi doloris accensus, latus Crassi sica confodit: dumque se ulciscitur, Romanum imperatoreni majestatis amissae turpitudine liberavit»[428].
В этом отрывке, Максимус пишет следующее: «Когда Публиус Крассус сражался против Аристоникуса в Азии, между Элеа и Смирной он был захвачен в плен отрядом фракийцев, коих было множество в армии Аристоникуса. Крассус, не желая попасть в руки Аристоникуса, решил принять смерть, чтобы избежать подобного позора. Он взял прут, которым погонял коня, и воткнул в глаз одного из варваров. Ослеплённый ужасной болью варвар вонзил свой кинжал в Крассуса, но, отомстив за себя, он в то же время избавил римского генерала от бесчестия и потери репутации» (перевод авт.).
Как следует из этой лаконичной цитаты, взятой из работы, появившейся почти через двести пятьдесят лет после описанных событий, какой-то солдат, или же бандит, возможно, фракийского происхождения, ударил Красса мечом, ножом или кинжалом. Но как мы видим, в этом пассаже нет ни описания оружия, ни комментариев о его происхождении, ни о том, кто и какие названия для классификации этого оружия использовал и для какого этноса этот термин характерен. Могу предположить, что эта атрибуция, ошибочно приписываемая Максимусу, скорее всего является растиражированным добросовестным заблуждением, порождённым вольным переводом или же свободной интерпретацией текста. К сожалению, фракийский язык исчез приблизительно в V в. н. э., поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть обе версии о происхождении термина «сика» не представляется возможным.
Согласно одному из мифов, именно сика и дала название острову Сицилия, когда Сатурн, оскопив своего отца Урана серпом-сикой, бросил её у мыса Дрепан на сицилийском побережье. Правда, и само название этого мыса — Дрепан переводится с греческого как «серп», что, возможно, было обусловлено не столько мифом о Сатурне, сколько серпообразной формой побережья Сицилии в районе этого мыса. Другая легенда также связывает происхождение названия острова с сикой, но в этой интерпретации серп был уже утерян не Сатурном, а Церерой, разыскивавшей Прозерпину
[429].

Рис. 38. Римский садовый нож — фалькс виниториа.
Вероятно, в этой путанице с терминами отчасти виновата размытая и условная типология этого оружия. Каталин Боранджик отметил, что основная сложность в типологии сики заключается в том, что под этим термином, как, собственно и под более общим термином «фалькс», понималось множество образцов холодного оружия, отличавшихся и характеристиками, и предназначением. Единственное, что их объединяло, это изогнутая форма клинка с заточенной внутренней кромкой. Когда римский консул Марк Корнелий Фронтон ввёл в оборот выражение «dacorum falcibus» — «серп даков», то он подразумевал под ним не только серпы, косы, кинжалы и садовые ножи, но и любое фракийское оружие с искривлённым клинком, включая двухметровые «rhompeia»
[430].
Также и «falx» являлся в Риме общим термином как для искривлённых мечей даков, так и для серпов, кос или садовых ножей. Самым известным представителем семейства «фальксов» был «фалькс виниториа» — большой садовый нож-секатор, использовавшийся для работы на виноградниках, а выражение «фалькс дентикулата» служило для обозначения косы с зазубренным лезвием
[431]. То, что сиками римляне называли любые кривые кинжалы, имевшие хождение в римской империи, крайне затрудняет классификацию. Не исключено, что в их числе были и популярные в античном Риме садовые ножи с серпообразным клинком, известные в Италии как «ронкола», а во Франции — как «серпетте», к которым мы вернёмся позже. Подобные ножи можно увидеть на барельефе с изображением римской оружейной лавки I в. до н. э. с надгробного камня оружейника Луция Корнелия Атимето, установленного на Вилла Массимо в Риме (Museo della Civilta Romana, Рим, Италия).
С не меньшими сложностями мы сталкиваемся при попытке установить происхождение фракийской сики. Так, например, Бёртон упоминает об однолезвийных мечах германцев с изогнутым ятаганным клинком и предполагает, что они могли быть ранней формой саксов — «breitsachs» или «knife»
[432]. Ник Филдс убеждён, что подобные кривые кинжалы с внутренней заточкой являлись типичным оружием всех народов, населявших территорию между Данубией, Чёрным и Эгейским морями
[433]. Геродот в четвёртой книге своей «Истории» упоминал, что «у фракийцев в походе на головах были лисьи шапки. На теле они носили хитоны, а поверх — пестрые бурнусы. На ногах и коленях у них были обмотки из оленьей шкуры. Вооружены они были дрожками, пращами и маленькими кинжалами»
[434]. Правда, в этом отрывке не уточняется форма фракийских кинжалов, поэтому были ли это сики, неизвестно.
Кривые кинжалы, подобные фракийским, неоднократно находили в погребениях других культур. Так, например, в скифском могильнике в Бирсешты-Фериджеле был найден изогнутый боевой нож иллирийского типа
[435], напоминающий деревянную тренировочную сику, обнаруженную при раскопках в римском лагере Обераден на реке Липпе, в 70 километрах восточнее Рейна
[436]. Сложно сказать, какому этносу принадлежала эта сика, так как, судя по результатам исследований, в этом лагере также находились войска с Балкан и из Азии. А возможно, это сходство обусловлено тем, что, как считает Ион Грумеца, фракийская сика была скопирована именно со скифского серпа
[437]. Хотя, специалист по скифской культуре А. И. Милюкова в своей работе «Вооружение скифов» нигде не упоминает об использовании этим народом кривых кинжалов
[438]. Изогнутые кинжалы с заточенной вогнутой кромкой встречаются также у гуннов и сарматов. Так, подобные «сикообразные» железные кинжалы были найдены в 1959–1960 годах в Туве в гунно-сарматском могильнике Кокэль
[439].

Рис. 39. Надгробие оружейника Луция Корнелия Атимето, вилла Массимо, I в. до н. э.
Чем же была обусловлена фиксация сики в массовом сознании римлян именно как традиционного кинжала фракийцев? Некоторые исследователи считают, что часть ответственности за рост популярности фальксов и сик фракийцев, а также за формирование их зловещего имиджа лежит на императоре Адриане, выпустившем в честь победы над Дакией монеты с изображением этого оружия. В результате, сестерции с сиками и фальксами, растиражировали их хрестоматийный образ по всей территории Римской Империи, а также способствовали его фиксации в массовом сознании и появлении некоего, если можно так сказать «архетипа» кривого фракийского кинжала
[440].
Другим, не менее важным фактором популяризации сики как типичного оружия даков стали многочисленные барельефы, запечатлевшие сцены триумфа римлян в сражениях с этими воинами. Окружённый римлянами царь даков Децебал совершил самоубийство, перерезав себе горло именно сикой, что и было запечатлено на одном из барельефов колонны Траяна. Кстати, конный римлянин, изображённый рядом с Децебалом, это реальная историческая личность — офицер Марк Валерий Максим, который присутствовал при самоубийстве царя и захватил с собой его голову и правую руку в качестве доказательства смерти этого непримиримого противника Рима
[441]. Множество сик и фальксов-ромпеа можно увидеть на батальных сценах, изображённых на так называемой колонне Траяна работы Аполлодора Дамасского, установленной в Риме в честь победы над даками в 113 году н. э. Кроме этого, подобные изображения в изобилии встречаются и на метопах мемориала, известного как трофей Траяна, также установленного в честь победы над даками в местечке Адамклиси в Румынии. Из общего количества в 54 метопа 48 находятся в музее адамклисской деревушки Корбу и один — в Историческом музее Стамбула.

Рис. 40. Царь даков Децебал перерезает себе горло сикой, 113 г. н. э. Колонна Траяна, Рим.
Ну, и третьим, но далеко не последним фактором, стало появление в Риме огромного количества фракийцев, захваченных в плен после победы при Пидне в 168 году до н. э. Пленники выступали на аренах Вечного города в качестве гладиаторов, называемых «траексы» или «трексы», и были вооружены своим традиционным этническим оружием — короткими кривыми сиками. Одним из самых прославленных фракийских гладиаторов, был воспетый Джованьоли легендарный Спартакус, возглавивший в 75–71 гг. до н. э. восстание рабов, вошедшее в историю как «Bellum Spartaci». Филдс считает, что о фракийском происхождении «траексов» уместно говорить лишь применительно к эпохе Спартака, но позже «траекс» стал трактоваться скорее как определённый комплекс вооружения гладиатора
[442]. Эти гладиаторы-траексы были крайне популярны у публики и даже нередко пользовались покровительством императоров. Так, например, Калигула именно фракийцам поручил командование своими германскими телохранителями
[443].
Единственное, что почти не вызывает вопросов, это то, как выглядели фракийские сики. Множество нарративных источников, богатейшая иконография и сотни хорошо сохранившихся образцов этого оружия дают нам полное представление о его внешнем виде, материалах и технологиях, а также о конструктивных особенностях. Современные авторы нередко склонны преувеличивать размеры сики траексов, и на иллюстрациях часто приходится встречать кинжалы гипертрофированных размеров. Но на основании анализа изображений и сохранившихся образцов этого оружия, специалисты по дакийскому оружию пришли к заключению, что «канонической» фракийской сикой следует считать «остроконечный кинжал 25–40 см в длину, с изогнутым клинком треугольного сечения с долами, украшенным геометрическими или зооморфными фигурами»
[444]. В пользу этого утверждения свидетельствуют несколько хорошо сохранившихся сик, найденных при раскопках в Румынии, длина которых колеблется от 134 до 285 мм. Также и сики с барельефов колонны Траяна по размерам не превышают 25–30 см. В Лувре хранится рукоятка фракийского складного ножа в виде гладиатора-фракийца с сикой и щитом, относящаяся ко второй половине I столетия н. э, и там сика не больше 25 см, как и кинжалы гладиаторов-фракийцев с мозаики в Бад Кройцнах
[445] В некоторых античных источниках это оружие фигурирует как «махайра», что может являться как мечом, так и кинжалом или ножом. Иосиф Флавий в «Иудейской войне» предпочитает использовать греческий термин «ксифидио» — то есть, небольшой меч, или, скорее, кинжал
[446]. Небольшими размерами также отличается сика в руке у статуэтки фракийского гладиатора из Британского музея
[447], и сики траексов с римских масляных ламп из Берлинского музея, датированных первым веком н. э.
[448] и кинжал на изображении траекса с сикой с хранящегося в Лувре надгробия гладиатора Антаиоса, установленного его женой
[449].
Согласно классификации Боранджика, фракийские сики делятся на три основных типа, отличающихся скорее не функциональными, а морфологическими особенностями. Первый тип характеризуется массивным клинком со слабо выраженным изгибом, коротким остроконечным «клювом», и небольшой рукояткой треугольной формы и отверстием для заклёпки. Этот тип кинжала предположительно датируется III–I веками до н. э.
Второй тип сики характерен для области Падеа, а наиболее сохранившийся экземпляр был обнаружен в Слатине. Этот тип незначительно отличается от первого, поэтому не заслуживает отдельного описания. Третий тип, являющийся одновременно и самым распространённым, характерен для северо-западной Болгарии, а также юго-западной и центральной Румынии. Для этих кинжалов типичен относительно длинный и изящный клинок с долом, украшенный гравировками в виде кругов, хвостовик, проходящий через всю рукоятку, и защитная муфта. В среднем длина этих сик колеблется в пределах 30–40 см, а ширина — около трёх, но значительное количество образцов имеет те или иные отклонения от этих размеров. Эти сики датируются II-I вв. до н. э
[450].
Но если в руках дакийских воинов с колонны Траяна или мемориала в Адамклиси мы ещё можем увидеть сики, соответствующие этим описаниям, то гладиаторы-«траексы» нередко вооружены уже совершенно другим оружием. Экарт Кон отмечал, что если изначально траексы в бою использовали традиционные фракийские сики с плавным изгибом, то в имперский период стали появляться клинки с «изломом»
[451]. Возможно, что подобные кинжалы с характерным «углом» на обухе, являлись уменьшенной копией легендарного иберского меча — фалькаты, и были заимствованы и адоптированы римлянами вместе с другими образцами кельто-иберского оружия, такими как пугио, паразониум, или меч «гладиус испаниенсис». Эти «горбатые» ножи были широко распространены в имперском Риме, и являются одной из самых частых археологических находок.
Подобный образец оружия можно увидеть на датированном II в. н. э. бронзовом подсвечнике из музея в Штутгарте, изготовленном в виде фигурки гладиатора-фракийца. В руке траекс держит сику с характерным изломом клинка
[452]. На хранящейся в Лувре римской надгробной стеле, датированной III в. н. э., мы видим изображение фракийского гладиатора в полном вооружении — и в этом случае у траекса не хрестоматийная сика, а скорее её кельто-иберский собрат с типичным для этого оружия «изломом»
[453]. О том, что клинки гладиаторских сик «примерно посередине имели излом», упоминал и Людвиг Фридландер
[454]. Тем не менее нельзя исключить и того, что подобный тип сики являлся неким промежуточным образцом или же не имел реального прототипа и был разработан специально для гладиаторских боёв. Как, например, обоюдоострая гладиаторская «сика» с чашеобразной крестовиной из музея в Эфесе, напоминающая искривлённый ронделл. Я полагаю, что многие образцы римского оружия послужили инспирацией для кинжалов Средневековья.

Рис. 41. Римские ножи. Catalogue of the collection of London antiquities in the Guildhall Museum. Лондон, 1903 г.
Именно в имперский период сики превращаются в исключительно колющее оружие, на что несомненно повлияли произошедшие с клинком трансформации. Специфическая форма изогнутого почти под прямым углом клинка, диктовала технику и тактику траексов все последующие столетия.
Судя по дошедшим до нас изображениям, можно сделать вывод, что чаще всего траексы занимали левостороннюю стойку с переносом веса тела на левую ногу, а сика при этом удерживалась в правой руке на уровне бедра прямым хватом и «клювом» вверх. Хотя встречались и отклонения от этого сценария. Так, например, на датированной I в. н. э. глазированной терракотовой статуэтке из Британского музея траекс держит классическую фракийскую сику в левой руке
[455].
Самое раннее изображение фракийца с сикой, которое мне удалось найти, находится в датированной IV в. до н. э. фракийской купольной гробнице, расположенной в болгарской области Хасково, в местечке Александрово. На внутренней части купола могильника есть большая и хорошо сохранившаяся фреска, на которой среди сцен охоты, быков, кабанов и преследующих их конных всадников отчётливо видно изображение мужчины, одетого в некое подобие хитона. Вес его тела перенесён на выставленную вперёд и согнутую в колене левую ногу, стоящую на всей стопе, правая же нога выпрямлена, отставлена назад и опирается на носок. На согнутой и выставленной перед грудью левой руке намотан плащ, а в опущенной ниже бедра и немного отведённой назад правой руке воин держит «клювом» вверх искривлённый кинжал длиной около 30 см
[456].
Говоря о технике траексов, также можно вспомнить Камилла Пажа, который писал, что «сика — это кривой нож, которым гладиаторы-фракийцы наносили удар в нижнюю часть живота, расширяя рану вверх, как это делают современные итальянцы»
[457]. Описание Пажа подтверждается многочисленными сохранившимися изображениями поединков траексов на римских аренах. Как я уже упоминал, специфическая форма клинка сики значительно ограничивала технический арсенал фракийцев, а учитывая защитное снаряжение их противников, возможности для нанесения ударов были сведены к минимуму. Судя по всё тем же иконографическим источникам, превалировали два основных удара: первый из них наносился, как и заметил Паж, под щит противника снизу вверх, в живот или пах, и второй — через верхний край щита соперника, в подключичную артерию, шею или через линию плеч в верхнюю часть спины. Соответственно в первом случае остриё клинка смотрело вверх, а во втором — вниз.
Иллюстрацией к этой технике может служить датированный І-ІІ веками нашей эры, терракотовый римский барельеф из Британского музея, запечатлевший поединок двух гладиаторов, фракийца и гопломаха как раз в тот момент, когда траекс наносит своему противнику удар сикой через верхний край щита
[458]. Фракиец, готовящийся нанести подобный удар, изображён и на другом барельефе, найденном в Помпее, на месте, где находилась известная гладиаторская школа. Также на мозаике из археологического музея в Триполи мы видим сцену боя траекса с мирмиллоном, в которой удар сикой наносится в шею или подключичную артерию через верхний край щита
[459]. И на барельефе из Сепино, датированном I в. н. э., гладиатор-фракиец собирается добить своего противника ударом кривого кинжала сверху вниз. Сика при этом, как и всегда, удерживается прямым хватом
[460].
Хотя вооружение гладиатора-мирмиллона традиционно составлял прямой меч, что также потверждается многочисленной иконографией, однако, например, французский философ и историк начала XVIII столетия Бернар де Монфокон почему то называл его оружие сикой
[461]. Также непонятно, чем руководствовался и Ричард Бёртон, писавший в своей «Книге меча», что мирмиллон был вооружён кривым мечом с односторонней внутренней заточкой — «gladio incurvo et falcato»
[462]. Конечно, нельзя исключить, что оба мэтра пользовались неизвестными нам античными источниками и изображениями, но на сотнях барельефов, мозаик, масляных ламп и статуэток мирмиллоны держат в руках не серпообразную сику, а прямой меч.
Ещё одна достаточно любопытная версия о происхождении и самих сик, и их названия абсолютно не связана с фракийцами и отсылает нас в Иудею I в. н. э., где к тому моменту сформировалось социально-политическое и религиозно-эсхатологическое движение, известное как зелоты — ревнители, или приверженцы, основной целью которого было свержение римского владычества. Принято считать, что именно зелоты заложили основы политического террора. Особенно в терроре преуспели члены радикального крыла организации, вошедшие в историю как кинжальщики, или сикарии. Сикарии жгли архивы с долговыми расписками и убивали римлян, а также сотрудничавших с ними местных коллаборационистов.
Основным оружием сикариев, согласно Флавию, были кривые кинжалы сики, скрытно носившиеся под одеждой. Вот как их описывал сам Флавий: «Когда страна была таким образом очищена, в Иерусалиме образовалась другая шайка разбойников, получивших название сикариев. Они убивали людей среди бела дня и в самом городе, преимущественно в праздничные дни они смешивались с толпой и скрытыми под платьем кинжалами закалывали своих врагов. Как только жертвы падали, убийцы наравне с другими начинали возмущаться происходившим и благодаря такому притворству оставались скрытыми. Первым, кто таким образом был заколот, был первосвященник Ионатан. Вслед за ним многие другие погибали ежедневно; паника, воцарившаяся в городе, была еще ужаснее, чем сами несчастные случаи, ибо всякий, как в сражении, ожидал своей смерти с каждой минутой. Уже издали остерегались врага, не верили даже друзьям, когда те приближались, однако при всей этой подозрительности и осмотрительности убийства по-прежнему продолжали совершаться. Так велики были ловкость и сила притворства тайных убийф
[463].
Судя по описанию Флавия, эти сики были небольшого размера, для удобства скрытого ношения под одеждой: «На восьмой день, в праздник ношения дров, когда каждый должен был доставить дрова к алтарю для поддержания на нем вечного огня, ревнители исключили своих противников из участия в этом акте богослужения. Вместе с невооруженной массой вкралось тогда в храм множество сикариев (разбойников с кинжалами под платьем), с помощью которых они еще более усилили нападения»
[464].
Могу предположить, что сики в Иудее носили в специальных ножнах под мышкой, как их и сейчас носят некоторые арабские и североафриканские племена, или в рукаве, как шотландский скеан ду. Так, Флавий писал, что когда некий юноша из рода Беньямина пришёл на аудиенцию к королю, под мышкой с правой стороны у него был скрытно закреплён кинжал
[465].

Рис. 42. Воин с кинжалом в наплечных ножнах.
К сожалению, история не сохранила для нас изображений оружия сикариев Иудеи, а Флавий ограничился лишь короткой фразой о «ксифидио» — маленьком мече или кинжале, поэтому, о том как выглядели сики зелотов, нам остаётся только гадать.
Возможно, это были вариации на тему небольших египетских кхопешей или кривые ножи, подобные тем, что были найдены при раскопках в Экроне или в Шикмоне. Возвращаясь к этимологии ближневосточной «сики», хотелось бы отметить любопытный факт. К началу Иудейской войны — 66–73 г. н. э., самым распространнёным языком не только в римской провинции Иудее, но и на всём Ближнем Востоке, уже более шестисот лет являлся арамейский, а слово «нож» на этом языке звучало как «сакина» или «сикина». И сегодня в некоторых странах Ближнего Востока, находящихся на территории где был распространён арамейский, таких как Йемен и Саудовская Аравия, небольшой нож или кинжал называется «сикеена», или «сикиина»
[466]. «Сакин» называется нож и на иврите. Таким образом не исключено, что название этого кривого кинжала попало в латынь из арамейского.
Появление на римских аренах траексов и восстание Спартака хронологически совпадают, поэтому сложно сказать, какое из этих событий фатальным образом повлияло на демонизацию сики и произвело неизгладимое впечатление на умы римских законодателей. Но вскоре сика уже считалась типичным ножом римских преступников — «печально известная сика, смертоносный кривой кинжал, прославленный фракийскими гладиаторами на аренах Вечного города». Этот кривой нож в «форме кабаньего клыка», как его описал Плиний, использовался в Риме низшими классами и уже тогда считался оружием бандитов, воров и хулиганов
[467]. Также и Джон Уилкс, изучавший историю иллирийцев, утверждал, что хотя короткие искривлённые мечи использовались многими средиземноморскими народностями, римляне считали сику исключительно оружием иллирийских убийц
[468]. Ещё Цицерон отмечал, что фракийцев нередко нанимали в качестве наёмных убийц, как итальянских браво Нового времени. Вероятно, заказные убийства были для гладиаторов небольшой дополнительной статьёй дохода
[469].

Рис. 43. Железный нож с костяной рукояткой, I в. до н. э… Найден при раскопках в филистимлянском городе Экроне (Израиль).
Можно предположить, что фракийские и иллирийские киллеры были нарасхват, а по ночам римские улицы терроризировали банды маргиналов с сиками в руках, так как в 81 г. до н. э. диктатор Луций Корнелий Сулла издаёт закон «Lex Cornelia de Sicariis et veneficis», известный как «Закон против сикариев». Закон этот гласил: «Согласно закону, смертной казнью караются наёмные убийцы (сикарии), а также те, кто носит любое оружие с целью мести. Также этот закон карает смертью отравителей, которые своими злодейскими поступками свели человека в могилу с помощью яда или колдовства»
[470].
Термин «сикарий» в значении убийцы прижился, и широко использовался в средневековье. Так, например, авторы пятнадцатого века называли Робина Гуда «famosus siccarius” — то есть, прославленный головорез
[471].
Кстати, рассматривая законодательный аспект, я хотел бы отметить, что одним из факторов, способствовавших популярности и распространению сики в Риме, могла стать относительная легитимность этого оружия. Ведь несмотря на зловещую репутацию, сика в первую очередь была модификацией серпа — то есть сельскохозяйственного орудия. Плиний Старший в своей «Естественной истории» писал, что захвативший Рим этрусский царь Порсена запретил римлянам использовать любые железные орудия, кроме сельскохозяйственных, и даже стилусы для письма были не из железа, а из кости. Также Плиний упоминает и о последовавшем указе Помпея Великого, когда в его третье консульство после беспорядков, связанных со смертью Клавдия, он запретил горожанам держать при себе любое оружие
[472]. Учитывая, что в Европе Нового времени изогнутые складные садовые ножи были одним из самых популярных видов оружия плебса именно в силу своей легитимности как сельскохозяйственного инструмента, эта версия вполне имеет право на жизнь.
Сложно сказать, на чём дрались темпераментные жители Апеннин в последующие столетия, но, судя по иллюстрациям к многочисленным фехтовальным пособиям, я могу предположить, что чаще всего использовалось то оружие, которое на тот момент было в моде. Так на иллюстрациях к датируемому 1410 годом пособию по фехтованию «Цветок битвы», принадлежащего перу мастера Болоньской школы, Фиоре дей Либери, мы видим модные в тот период кинжалы, известные как «рондел». Это же оружие держат в руках фехтовальщики из пособия другого итальянского мастера, Филиппо Вади, «Arte Gladiatoria Dimicandi», увидевшего свет между 1482 и 1487 годом.
Одетые в широкие испанские штаны и дублеты синьоры из пособия известного мастера школы Болоньи Акилле Мароццо «Opera Nova», изданного в 1536 г., сжимают в руках массивные и широкие кинжалы «болоньезе». Дуэлянты из работы Камилла Агриппы 1553 г. вооружены типичными для того периода «майнгошами» — кинжалами для левой руки. Как и бойцы в пособиях Джакомо ди Грасси 1570, Гиганти, Фабри 1606 и Капо Ферро 1610 года. В сохранившемся полицейском протоколе 1605 года о нелегальном хранении холодного оружия художником Микеланджело Караваджо вы видим сделанную рукой судебного писца зарисовку одного из его кинжалов, описанных как «дуэльные». Также и на этом рисунке изображён «майнгош».
Разделение короткоклинкового оружия в Италии на военное и гражданское и выделение ножей в отдельный класс, очевидно, произошло во второй половине XVI столетия, когда великий герцог Козимо де Медичи запретил ношение шпаг и кинжалов в городской черте
[473]. Также и первые зарегистрированные упоминания о дуэлях на ножах датируются как раз 1540 годом
[474].
Французский писатель и путешественник Франсуа Максимильен Миссон, трижды посетивший Италию — в 1687, 1688 и 1691 годах, не только нахваливал «славящиеся своим изысканным уколом миланские стилеты, прекрасно выполняющие свою работу», но и упомянул о том, что в Генуе и тосканской Лукке, в черте города было запрещено носить шпаги и штыки
[475].
Профессор университета Перуджи, Джанкарло Баронти, в своей фундаментальной работе «Coltelli d'Italia» — «Ножи Италии», описывает множество образцов ножей, использовавшихся в поединках и преступлениях, начиная с середины XVIII столетия. На большей части приведённых им зарисовок из судебных протоколов, и фотографий образцов, хранящихся в Музеях истории криминалистики Рима и Турина, мы видим всевозможные вариации на тему заурядных бытовых и кухонных ножей. Объединяет их лишь одно: большинству клинков производителями или стараниями владельцев была придана оптимальная для колющего удара остроконечная «стилетная» форма.
В 1769 году в Лондоне проходил получивший широкий резонанс процесс против писателя Джузеппе Баретти, обвинённого в убийстве некоего Эвана Моргана при превышении пределов самообороны. Среди прочих пунктов обвинения Баретти вменялось в вину то, что он преднамеренно сделал из серебряного десертного ножика, смертоносное оружие, переточив его клинок в форме стилета.
Историк Мэттью Руснак в исследовании, посвящённом этому процессу писал, что нож, предъявленный суду в качестве орудия убийства, и который Баретти хранил до конца жизни, был самым обычным столовым ножом, предположительно французской работы, в шагреневых ножнах. Судя по изображению, это и в самом деле когда-то был самый заурядный десертный нож, но его клинок несомненно подвергся изменениям, и был переточен в форме «coltello a stile» — «остроконечного ножа» или стилета. Профессор Баронти обнаружил это оружие среди вещественных доказательств в архивах города Перуджи и описал как «Era un coltello da tavola ma io gli feci fare la punta a fronda di olive» — столовый нож, но с лезвием, переточенным в форме оливкового листа
[476].
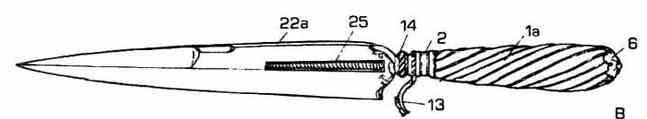
Рис. 44. Генуэзский охотничий нож. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna. Флоренция, 1983 г.
Судя по свидетельствам современников и иконографическим источникам, пальму первенства в качестве оружия для поединков держали ножи Генуэзской республики, так называемые, «coltello Genovese». Эти «генуэзцы», также известные как «корсиканский стилет», представляли собой большие клинообразные ножи, напоминавшие традиционное крестьянское оружие Европы XV–XVII веков, «ругеры», «хаусверы» или «бауэрнверы». Они же испанские «фламенко» и «бельдюк». Как правило, в специальной литературе все эти типы ножей классифицируются под общим названием «средиземноморский» нож. Характерными чертами «генуэзцев» являлись клинки с полуторной заточкой, в среднем длиной около 30 см, отсутствие крестовины и круглая в сечении конусообразная рукоятка, сужающаяся к клинку.
Эти генуэзские ножи, очевидно, за сходство со шпагой получившие прозвище «spadella di Genova», или «генуэзская шпажка», можно увидеть за поясом бандитов-бригантов, и в руках римских булли на многочисленных гравюрах Бартоломео Пинелли. Встречались и довольно необычные модификации «генуэзцев», известные как «а пассакорда», в клинках которых было спрятано длинное шило. У некоторых моделей «а пассакорда» в форме шила была переточена верхняя часть клинка. Своим появлением эти необычные ножи были обязаны строгим «антиножевым» законам Генуэзской республики. Владельцы «а пассакорда» рассчитывали, что при задержании с подобным ножом они смогут сослаться на то, что это их рабочий инструмент и что шило им жизненно необходимо при шитье упряжи или парусов. Законы против ножей и желание их обойти порождали бесконечное множество всевозможных хитроумных образцов замаскированного оружия.
Власти не прекращали попыток запретить ношение ножей или хотя бы снизить их смертоносность, ограничивая максимальную длину клинка и количество режущих кромок лезвия или изменяя форму острия. В определённые периоды времени ношение холодного оружия было разрешено аристократам и запрещалось простолюдинам. Но, как известно, голь на выдумку хитра, и поножовщики из простонародья обосновывали ношение ножей тем, что режущие инструменты им крайне необходимы в работе. Провести грань между разрешённым и запрещённым оружием было головной болью законодателей всех эпох — и дворяне, и плебеи что только не придумывали, чтобы обойти законы. Кто же не помнит такое хрестоматийное закамуфлированное оружие, как сапожные ножи, или ножи шорников, у которых даже было игольное ушко, якобы для шитья. Достаточно взглянуть на любую из этих сверкающих вещиц, изготовленных мастером, чтобы понять, что этот предмет, выполненный в элегантной манере, богато украшенный, инкрустированный серебром и с гравировками на лезвии, явно не был предназначен для использования в хозяйственных работах
[477].
Иногда на гравюрах Пинелли мы встречаем изображения длинных кинжалов с трёхгранными клинками, вероятно, наследниками ренессансных «рон-деллов» или миланских и венецианских стилетов. Интересно, что Артур Трейн в своей работе о каморре, упоминал о некоем кинжале, называемом «трианголо» — «трёхгранник», использовавшемся каморрой в качестве специализированного оружия для убийств
[478]. И в полицейских протоколах из архивов Сицилии также упоминаются некие трёхгранные стилеты — «молеттоне алла сичилиана», бывшие в ходу у сицилийских мафиози, сикулов.

Рис. 45. Coltello a passacorda (нож с шилом), общая длина 32,5 см. Генуя, XVIII в.

Рис. 46. Ножи a passacorda. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna, Флоренция, 1983 г.
К XIX столетию преемником «coltello Genovese» стал другой, не менее прославленный нож каморры — сфарцилья, унаследовавший прозвище своего легендарного предшественника — «spadetta di Genova», или «генуэзская шпажка». Собственно говоря, неаполитанская сфарцилья являлась не чем иным, как складной версией старинного генуэзского ножа. Мастриани описывал сфарцилью как большой складной нож с фиксирующимся лезвием, который носили в специально вшитом продолговатом внутреннем кармане пиджака. Эти ножи достигали значительных размеров — образцы, хранящиеся в туринском Музее криминальной антропологии, достигают в длину от 58 до 73 см, принадлежащие римскому Музею народного искусства и традиций — от 40 до 42 см, а вес их часто доходил до половины килограмма и более. Специфическая черта этих ножей — прямой кинжальный клинок с односторонней или полуторной заточкой, специальный рычаг для облегчения складывания и металлическая рукоятка, состоявшая из двух массивных накладок. Эта конструкция была обусловлена размерами ножа — чем длиннее и тяжелее клинок, тем сложнее сбалансировать оружие Рукоятка из рога или дерева не смогла бы компенсировать массу клинка сфарцильи, поэтому для удобства манипулирования этим увесистым оружием накладки были изготовлены из металла
[479].
Возможно, что кроме этой трактовки сфарцильи существовали и другие, менее известные региональные интерпретации. Так например, известный сицилийский этнолог и фольклорист Джузеппе Питре в 1894 году упоминал бытовавший на Сицилии небольшой карманный нож с узким и остроконечным клинком. Вряд ли речь шла о сфарцилье каморры — сложно назвать 50-сантиметровый нож весом в полкило «небольшим» и «карманным», и можно только предположить, что речь идёт о шутливом прозвище
[480]. А вот Руссо и Серао, авторы изданной в 1907 году работы «La camorra: origini, usi, costumi et riti dell' «annorata soggieta»», описывают сфарцилью как кинжал с лёгким изгибом, использовавшийся в дуэлях «до смертю
[481].

Рис. 47. Ссора римских булли. В руках дуэлянтов отчётливо видны кинжалы «трианголо». Бартоломео Пинелли, XIX в.
Популярным в силу его легальности оружием в XVIII веке также являлись различные типы «coltello da caccia», или охотничьих ножей. В основной массе эти охотничьи кинжалы конструктивно практически не отличались от «генуэзцев» и представляли собой всё те же стилетные клинки с двусторонней или полуторной заточкой и абсолютно такими же, как у «coltello di Genova», конусообразными «напильниковыми» рукоятками. Пожалуй, единственное различие между ними это то, что клинки «охотников» были несколько шире и часто украшались гравировками с флоральными мотивами. Вероятней всего, это оружие в XVIII столетии трансформировалось в кинжалы из охотничьих багинетов, распространённых в Лигурии, находившейся в тот период под управлением Генуэзской республики. Так, например, на это указывают концентрично расположенные, круглые в сечении рукоятки, типичные для многих ранних образцов средиземноморских штыков.
В середине XVIII столетия на зарисовках из полицейских протоколов уже можно встретить складные ножи со стилетными клинками и изогнутыми рукоятками, формой повторяющие типичные каталонские навахи. Эти «каталонцы», также известные под региональным названием «эль ганивет», послужили прототипом для другого легендарного дуэльного ножа каморры — зомпафуоссо.

Рис. 48. Сицилийский охотничий нож. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna, Флоренция, 1983 г.

Рис. 49. Тосканский охотничий нож. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna. Флоренция, 1983 г.
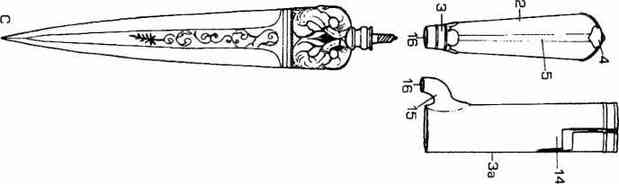
Рис. 50. Комбинированный штык-кинжал. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna, Флоренция, 1983 г.
Как следует из названия, это оружие использовалось в зумпата — «прыгающей» дуэли каморристов.
Как и большинство дуэльных складных ножей Италии, зомпафуоссо имел традиционную испанскую систему фиксации клинка, иногда оборудованную храповым механизмом из нескольких зубьев, и клинок с полуторной заточкой, формой повторяющий стилетообразное лезвие старинного генуэзского ножа. Часто поверхность клинка не шлифовалась, чтобы в поединке противнику было сложнее уследить за оружием, а также чтобы нож не бликовал в темноте во время традиционных чиччиат.
Ближе к середине XIX века даже консервативные булли Трастевере сменили своих «генуэзцев» на всё те же каталонские навахи, называемые здесь «римские ножи» — «coltelli alia romana», или просто «гошапо». Римские дуэльные «каталонцы» не отличались от зомпафуоссо каморры ни формой, ни системой фиксации, ни размерами. Единственными различиями, о которых стоило бы упомянуть, была большая лаконичность и строгость в декоре «римлян», а также зооморфные фигурки, часто вырезаемые на навершиях их деревянных и роговых рукояток. Любопытно, что специфические и характерные элементы украшения хвостовика и навершия трастеверских романо XVIII–XIX вв., использовала в декоре рукояток своих изделий известная шеффилдская фирма Joseph Rodgers & Sons. Могу предположить, что дизайн этот появился не без влияния многочисленных итальянских иммигрантов и их ножей.
Хотя, в Трастевере существовала и другая, «люксусная» категория ножей «алла романа», известная как тахини. Тахини представляли собой всё те же каталонские романо, но украшенные в соответствии со вкусом трастеверцев и их представлениями о роскоши и красоте. Очевидно, в подражание дворянским шпагам рукоятки этих ножей изготавливались из латуни, вероятно, призванной имитировать золото, и были инкрустированы серебряными монетами. Как правило, «тахини» по окончании своей дуэльной службы сдавались «на хранение» в трастеверскую церковь Святой Марии.
Интересно проследить за метаморфозами, происходящими с итальянскими ножами по мере удаления с севера страны на юг. Так, самым распространённым крестьянским оружием северной Ломбардии, являлись ронкетты — складные садовые ножи с серпообразным клинком, лежавшие ещё на прилавках Древнего Рима. Другим ломбардским ножом, был небольшой миролюбивый крестьянский «складник», бергамаско
[482].
Перебравшись на северо-запад полуострова, ближе к Пьемонту, мы обнаруживаем всё те же садовьгё серпообразные ронкетты всевозможных типов и размеров. Кстати, в регионе Пьемонта существует старинная «аграрная» школа
владения массивной мачетообразной ронкеттой. Иногда на аукционах и в коллекциях встречаются большие складные стилеты, которые часто атрибутируют как «пьемонтский боевой нож». Но в приватной беседе, известный французский коллекционер Жан-Франсуа Лальяр, как-то упомянул, что прототипом для этого пьемонтского ножа — «пьемонтезе», послужил старинный французский нож, производившийся в Тьере
[483].
И северо-восточный регион Италии, включающий Венецию и Фриули, не приносит сюрпризов — здесь также преобладают ронкетты и небольшие садовые ножи без фиксатора
[484]. Но как только мы начинаем спускаться южнее, к Тоскане, Умбрии и Лацио, клинки принимают всё более хищную форму и начинают увеличиваться в размерах, а среди безобидных садовых орудий появляются ножи, совершенно не приспособленные для выполнения каких-либо хозяйственных работ и предназначенные исключительно для убийства. Так, к привычным ронкеттам добавляется «curtel cun e'rez» — большой складной стилет с фиксирующимся клинком. Экземпляр этого ножа, хранящийся в Туринском музее судебной криминалистики, в раскрытом виде достигает 47 сантиметров в длину.
Другим печально известным региональным ножом Тосканы является складной мареммано, из региона Маремма. Это всё та же вариация на тему каталонской навахи с широким листовидным остроконечным клинком. Хотя, французы считают, что прототипом для него послужил «капуцин» — один из французских региональных ножей Тьерского производства. Подобным ножом был вооружён известный в XIX веке итальянский бандит по кличке Акула. Длина клинка его мареммано достигала 13 см при общих размерах ножа в 30 см. На лезвии была выгравирована надпись «Nazareno» — «Назаретянин», т. е. Иисус Христос, очевидно, призванная служить в качестве оберега
[485].
Ещё южней стилетов прибывает, и к «curtel cun e'rez» и мареммано присоединяется ещё один популярный дуэльный складной стилет «сфилато ди Фросолоне», производимый в местечке Фросолоне
[486]. Ну и, наконец, добравшись до Калабрии и Сицилии, мы обнаруживаем бесконечное множество ножей, единственным предназначением которых является лишение ближнего своего жизни. Это и сараке, названные так из-за сходства с одноимённой рыбой, и различные нескладные «охотничьи» кинжалы с круглыми рукоятками, и очередная копия навахи — кутеддина. Также мы находим тут большие складные стилеты «ку лу манику ди раму» и «ликкасапуне», специализированные дуэльные ножи салитано, а также калтаджироне, получивший своё название в честь одноимённого местечка. Типичный сицилийский калтаджироне, датированный концом XVIII века, можно увидеть на иллюстрации к работе «Кинжалы и боевые ножи Западного мира» Гарольда Петерсона. Интересно, что формой калтаджироне абсолютно идентичен «gully», складному ножу английских и шотландских моряков XVII–XIX столетий, но кому из них принадлежит пальма первенства, сие есть тайна покрытая мраком.
На Сицилии в дуэлях ухитрялись использовать не только садовые «рон-кетты», но и архаичные инструменты цирюльников — большие нескладные бритвы «бирриттедды», с клинками трапециевидной формы. Правда, надо отметить, что и местные садовые ножи, и эти опасные бритвы достигали пугающих размеров и меньше всего напоминали свои безобидные бытовые прототипы, да и, как правило, обычно они использовались в качестве орудия для нанесения ритуальных шрамов — сфреджо
[487]. Так, например, классическую сицилийскую бирриттедду мы можем увидеть в руке Мео Патакка на гравюре Бартоломео Пинелли. Легендарный кондотьер держит клеветника Багароццо (таракан), распускавшего о нём сплетни, за горло, и, судя по выражению лица, намеревается нанести обидчику позорящий «сфреджо».

Рис. 51. Мео Патакка режет лицо клеветнику.

Рис. 52. Сардинский бригант Джованни Корбедду Салис (1844–1898) с леппой за поясом.
Не отстала от своих кровожадных соседей и Сардиния, чьей визитной карточкой считаются огромные изогнутые ножи «леппа», достигавшие практически сабельных размеров 60–80 см. Что неудивительно, так как это оружие нередко изготавливалось из обломков сабель. Кроме леппы сардинцы пускали в ход навахообразные ножи «а фоджика антика» с широкими листообразными клинками и изогнутыми рукоятями, и складные стилеты «паттады» с клинком в форме оливкового листа
[488].
В качестве небольшого отступления я хотел бы заметить, что подобная дифференциация между культурами севера и юга существовала не только в оружии. Такую же тенденцию мы можем наблюдать, например, и в игральных картах. Самой популярной в Италии является так называемая испанская колода. Она состоит из сорока карт, и вместо привычных нам сердечек и крестов, там используются совершенно другие символы, перенятые у средневековых таро: Spade, Сорре, Denari, Bastoni — мечи, кубки, монеты, жезлы. Мечи — это пики, кубки — черви, монеты — бубны, жезлы — трефы.
Трефовый туз — жезл, «Tasso di bastoni», или «Tasso di mazze», издавна считался на юге Италии символом мужской силы, воли, упорства, приверженности традициям и семейным ценностям. Именно поэтому он традиционно являлся одним из популярных символов каморры и его часто наносили в качестве татуировки.
Интересно, что символы, используемые в испанской колоде, по мере удаления с севера страны на юг трансформируются, и с ними, как и с ножами, происходят различные метаморфозы. Кубки, изображения которых в Болонье, Брешии, Триесте или Бергамо скорее можно назвать условно символическими пиктограммами, на юге обретают вид настоящих кубков и чаш с тщательно выписанными деталями. Кривые декоративные сабли на севере приобретают вид прямых боевых римских мечей на юге. Но самые существенные метаморфозы, несущие важную смысловую нагрузку об изменениях в восприятии мужской идентичности на севере и на юге, происходят с трефами-жезлами. Тонкие и изящные стилизованные жезлы на северных колодах по мере приближения к югу набирают массу, обрастают плотью и приобретают фаллическую мощь. Так, в Романье, на Сицилии, в Неаполе и на Сардинии жезл-бастоне уже язык не поворачивается назвать жезлом — это массивная палица с утолщением на конце, недвусмысленно символизирующая мужское начало
[489].
Но вернёмся к оружию преступного мира. Джанкарло Баронти писал, что все ножи в силу их универсальности могут стать орудием преступления, но есть некоторые образцы о которых можно сказать, что в отличие от ножей, ставших преступниками по случаю, эти преступниками родились. Эти специфические ножи были созданы исключительно для использования в незаконных целях, вследствие чего некоторые из них стали символами преступного мира, а другие приобрели имидж и репутацию «оружия каморры». Некоторые из этих ножей даже получили специальные названия, как правило, связанные с их особенностями или спецификой применения
[490].

Рис. 53. Сардинский боевой нож с металлической рукояткой. Общая длина 475 мм. (© С.С Baronti]

Рис. 54. Неаполитанский охотничий нож восточного типа. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna. Флоренция, 1983 г.
Среди подобных «урождённых» преступников в первую очередь следует назвать славный нож пьемонтских карманников, «сіарull» — небольшой складной нож с двумя параллельно расположенными не фиксирующимися лезвиями. Чиапулом разрезали сумки, карманы брюк и пальто — два параллельных клинка бритвенной остроты позволяли производить два разреза на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Иногда чиапул ещё называют закканьо, хотя это просто региональное название любого ножа
[491].
Другой популярный складной нож преступного мира был известен среди миланских бандитов как «maresciall», или «сержант». Очевидно, это было связано с тем, что серебристые мельхиоровые вставки на чёрной рукоятке ножа напоминали серебряные лычки и нашивки на рукавах карабинеров. «Сержанты» выпускались фабриками Маньяго и Фриули
[492].
Но просто Меккой ножей, созданных исключительно для преступных целей, само собой, оставался юг Италии. фроме уже упомянутых сфарцилий и зомпафуоссо в ходу тут были и пружинные ножи, выбрасывавшие лезвие при нажатии на кнопку. В Риме их называли молетта, в Неаполе — молеттоне а в апулийском Таранто — мулеттоне. В Апулии для них существовало и другое название — «valestra», на жаргоне самострел или арбалет, что подчёркивало скорость выбрасывания лезвия. На Сицилии для кинжалов использовалось специфическое жаргонное название «crucifissu» — «крест», или «распятие». Очевидно, на подобные благочестивые мысли наводило перекрестье кинжала
[493].
Некоторые сленговые названия ножей были связаны с топонимикой, как, например, «saravalla» от неаполитанского города Серравале. Другое жаргонное название — «santamargherita», несомненно, ведёт родословную от сицилийского города Санта Маргерита Величе, известного производством ножей. Другая группа названий состоит из выражений, заимствованных из других языков и диалектов, как например, немецкое «messer», «britola», из венецианского диалекта, «cangiarro» — сленговое южноитальянское название с арабскими корнями, калабрийское словечко «vopa», а также легендарный ««lingher» туринских бандитов — вероятно заимствование французского жаргонного термина «lingra», от названия города Лангр, в котором производили каталонские навахи.
Ещё одна группа включает в себя ироничные или игривые названия, такие как «amico» — дружок, венецианское «Renge» — буквально «селёдка», или неаполитанское ««mmerda», производное от испанского «mierda» — «дерьмо», очевидно, призванное демонстрировать недоверие к испанским соседям, всегда вооружённых ножами
[494].
В отличие от испанских навах с их высокопарными девизами на клинках, итальянские ножи не могут похвастаться разнообразием слоганов. Так, в архивных судебных документах упоминается кинжал, конфискованный полицией у каморры в 1893 году. На одной стороне клинка была гравировка «Non ti fi-dar di me se il cor ti manca» — «Не верь мне, если кишка тонка», и на другой: «“io sono compagno fedele a chi ben m'impugna» — «Я верный друг взявшему меня в руку»
[495]. Чезаре Ломброзо описывал старинный бандитский складной нож, на клинке которого было написано: «Se veramente mi porti amore sei scotella del mio cuore»
[496]. На ножах каморры встречаются такие символы «онората сочиета», как солнце или змея, но в основном преобладают флоральные мотивы. На некоторых сицилийских ножах иногда можно было увидеть гравировку «Si sta vipira ti zicca nun ce lustru chf ti nesci» — «Если эта змея укусит, для вас не наступит завтра», аллюзию на традиционный испанский девиз.
Естественно, говоря о ножах, нельзя не вспомнить и о хитроумных приёмах, с помощью которых многие поколения каморристов, булли, лаццароне и других «людей чести» насаживали своих противников на зомпафуоссо, сфарцильи, мулеттоне или спадине ди Дженова.
Любой читатель, даже поверхностно знакомый с историей европейского и, в частности, средиземноморского фехтования, не может не заметить его слишком явную связь с итальянскими школами и техниками ножа. Эти системы, сохранившиеся до наших дней, не просто представляют собой высокоразвитое боевое искусство, предлагающее эффективный метод защиты и нападения, но и предоставляют нам уникальную возможность увидеть аутентичные фехтовальные техники XV-XVІІ веков практически в неизменённом виде. Так и сегодня среди техник ножевых поединков Сицилии, Неаполя и Апулии мы находим фехтовальные элементы пятивековой давности, использовавшиеся со шпагой в паре с кинжалом, со шпагой и плащом или с плащом и кинжалом. Например, во многих традиционных сицилийских школах дуэлянты с ножами в руках часто принимают стойку для кинжала, описанную в работе Акилле Мароццо «Опера Нова» как «кода лунга э стретта», — заложив левую руку за спину и выставив нож перед собой на уровне бедра остриём вверх.

Рис. 55. Стойка с кинжалом. Opera Nova dell'Arte delle Armi, Акилле Мароццо, 1536 г.

Рис. 56. Стойка с плащом и кинжалом. Opera Nova dell'Arte delle Armi, Акилле Мароццо. 1536 г
Также школы ножа адаптировали и многие другие техники, рекомендованные «отцом итальянской оружейной науки» в далёком 1536 году. Так, в 53 главе «Опера Нова», в разделе, посвящённом кинжалу, можно увидеть и другую популярную у итальянских бойцов на ножах стойку, известную как «порта ди ферро альто», при которой правая нога выдвигалась вперёд, кинжал удерживался на уровне груди, а остриё смотрело на противника
[497]. Мароццо считал, что кинжал, будучи коротким и лёгким, является чрезвычайно опасным оружием, и поэтому рекомендовал внимательно следить за вооружённой рукой, ни на мгновение не упуская её из виду. И сегодня итальянские мастера ножа используют рекомендованные маэстро почти пятьсот лет назад роверсо, мандритто, фенденте, манровещо и многие другие технические элементы.
Широко применялся в бою на ножах и другой старинный технический элемент, известный сегодня как «обратный порез». Эта техника, известная у испанцев как мандобле, и называемая Мароццо трамаццоне, или страмаццоне, представляла собой рубящий удар кончиком шпаги, наносившийся взмахом запястья. Также использовался и трамаццоне роверсо — тот же удар, но наносимый на возвратном движении. Среди техник ножа, уходящих корнями в старинное итальянское фехтование на шпагах, можно упомянуть и такой широко известный, узнаваемый и ставший уже каноническим «бота» — элемент, как останавливающий укол в нижний уровень, или пассата-сотто, изобретателем которого считается итальянский мастер XVII столетия Франческо Антонио Марчелли
[498]. Известный фехтовальщик викторианской эпохи Эгертон Кастл отмечал, что пассата сотто считалась у итальянцев крайне полезным техническим элементом
[499].
Наблюдая за поединками представителей школ Сицилии, Офантины или Манфредонии, невозможно не заметить выпады и защиты, характерные для техник Фабриса, Родольфо Капо Ферро, Виджани и Алфиери.
Так, в апулийской «скерма салентина» явно прослеживается влияние старинных техник «эспада и дага» — поединка со шпагой и кинжалом для левой руки. Столь любимые бойцами этой школы всевозможные крестообразные защиты и блоки двумя руками, называемые «клещи» или «клещи и молот», не могут скрыть своё происхождение — в технике «эспада и дага» самым распространённым способом защиты было именно парирование скрещенными шпагой и кинжалом. Правда, маэстро Джакомо ди Грасси считал, что это далеко не самый удачный способ защиты, так как при таком парировании невозможно было ответить на удар, не потеряв при этом времени и преимуществ контрудара. И хотя «клещи» и «молоты» кому-то могут показаться аллюзией на кузню, а соответственно и на крестьянские корни этой школы, нельзя забывать о присущей преступному миру метафоричности. Кстати, ди Грасси настолько верил в ценность кинжала, что утверждал, будто он в одиночку может выстоять против большинства других видов оружия
[500].
Итальянская школа шпаги XVI века возвела колющий удар в абсолют. Как считал Агриппа, «удар — это более естественное, то есть лёгкое действие; укол же является итогом сложного и тщательно выверенного сочетания движений. Одно это уже объясняет, почему укол относится к более высокой стадии развития фехтовального искусства»
[501]. Ещё английские джентльмены XVI столетия сетовали, что вместо привычной им молодецкой рубки «итальянцы насаживают их на «вертел», как кошку или кролика». Статистика ранений в поединках на ножах в XIX столетии убедительно демонстрирует, что итальянские школы ножа стали достойными последователями старинной догмы, утверждавшей, что «рубящий удар ранит, а колющий убивает», и на рубеже XX столетия, как и триста лет назад, колотые проникающие ранения всё также продолжали собирать мрачную жатву.
Как утверждал Кастл со ссылкой на работу Лебкоммера, в фехтовании XV столетия важным элементом боя были прыжки
[502]. И в наши дни прыжки остаются неотъемлемой частью большинства как криминальных, так и гражданских школ и систем ножа на Апеннинах. Так, именно прыжки являются фундаментальной основой легендарной дуэли инициации каморры — зумпаты, само название которой произошло от диалектного слова «зумпа» — «прыжок». Высокие прыжки широко используются в школе апулийской Манфредонии, и в ряде сицилийских систем ножа. Это ещё один фактор, указывающий как на связь школ ножа с традиционным фехтованием, так и на их многовековую историю.
Уже в XX столетии энтузиасты пытались адаптировать старинные итальянские фехтовальные техники для нужд армии. Так, например, некоторые технические элементы, такие как пассата-сотто и инквартата, при создании системы ближнего боя для корпуса морской пехоты США использовал полковник Энтони Джозеф Дрексел Биддл. Он и сам был офицером морской пехоты, специалистом по рукопашному бою и, как говорят, неплохим боксёром. В течение двух мировых войн он готовил и тренировал морских пехотинцев и агентов ФБР. Биддл рассказывал, что умению владеть ножом он обучался в Португалии, Испании и во французских колониях. Описание этих итальянских техник можно найти в его пособии по рукопашному бою «Do or die», вышедшему в 1944 году
[503]. Другим приверженцем адаптации итальянской школы к системе армейского ножевого боя был ещё один морской пехотинец, служивший в корпусе морской пехоты с 1935 года, инструктор по рукопашному бою, ученик Биддла, Джон Стайере. Как и его учитель, Стайере был приверженцем итальянских техник ножа. В 1952 году вышла его книга: «Cold Steel Technique of Cose Combat» — в главе, посвящённой ножу, автор демонстрирует пассата-сотто, инквартаты и стоккаты, знакомые нам по работам Алфиери, Виджани и Капо Ферро четырёхсотлетней давности
[504].

Рис. 57. Джон Стайерс

Рис. 58. Стайерс проводит пассата сото.

Рис. 59. Д. Стайерс и А.Дж. Прицци.

Рис. 60. Каноническая итальянская техника — пассата сото. Д.Биддл.

Рис. 61. Инквартата. Д. Стайерс.

Рис. 62. Биддл демонстрирует инквартату.
Ещё в эпоху Ренессанса итальянские власти пытались остановить бесконтрольное использование ножей своими темпераментными подданными. Уже упоминались законы Козимо Медичи, пытавшегося ограничить свободный оборот оружия в городах. Кстати, именно Медичи принадлежит честь создания подразделений констеблей, известных как сбирри
[505]. Упоминались и законы вице-королей испанской Арагонской династии, правивших частью Италии. Главной проблемой, осложнявшей работу исполнительной власти, было то, что Италия, как и Германия, являлась одной из двух наиболее раздробленных стран Европы. В XV столетии, к моменту рождения культуры ножевых дуэлей, на Апеннинах теснились следующие государства: Неаполитанское королевство, управляемое Арагоном и занимавшее половину территории Италии, Венецианская республика, Папское государство с центром в Риме, республика Сиена, Флорентийская республика и Генуэзская республика, под юрисдикцией которой находились управлявшиеся Арагонской династией Корсика и Сардиния с Сицилией. Кроме этого, там располагались маркграфство Мон-феррат, республика Сан-Марино, маркграфство Салуццо, Трентское епископство, Мантуанское маркграфство, республика Лукка и герцогство Феррары и Модены.
Совершенно очевидно, что говорить об унификации законов или о каком-либо централизованном контроле не приходилось. Преступники и аферисты всех мастей пользовались лазейками и возможностями избежать наказания, которые предоставляла разница юрисдикций. Как правило, после совершения того или иного преступления достаточно было просто пересечь границу государства. Прекрасной иллюстрацией к подобным перемещениям служит биография известного итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо.

Рис. 65. Указ кардинала Паолуччи от 2 января 1708 года, запрещающий ношение складных ножей без фиксатора длинее 18 см.
Как уже говорилось, маэстро был человеком конфликтным и обладал взрывным темпераментом, что постоянно доставляло ему и окружающим массу проблем. Полицейские архивы Рима конца XVI и начала XVII столетия изобилуют описаниями «художеств» Караваджо. Так, 4 мая 1598 года его задерживают у Пьяцца Навона за незаконное ношение шпаги. 19 ноября 1600 года он предстаёт перед судом за то, что на Виа делла Скрофа избил человека палкой и шпагой распорол его плащ. Второго октября 1601 года некий гражданин обвиняет Караваджо и его друзей в том, что они оскорбили его и атаковали со шпагами в руках у Кампо Марцио. А 24 апреля 1604 года официант Пьетро Антонио де Фосаччио подаёт жалобу, согласно которой Караваджо, которому он принёс артишоки в таверне на Виа Маддалена, напал на него
[506]. 19 октября 1604 года художник был арестован за швыряние камней в полицейского на углу улиц Виа дей Грэки и Виа дель Бабуино. 28 мая 1605 года его снова арестовывают на Виа дель Корсо за незаконное ношение шпаги и кинжала. 29 июля 1605 года некий ватиканский нотариус обвиняет Караваджо в том, что тот ударил его сзади каким-то оружием
[507]. 1605 год вообще был крайне насыщенным для живописца. В июле его арестовали за драку из-за проститутки по имени Лена, в сентябре — за разбивание окон своей квартирной хозяйки, а в октябре в драке он получил ранения уха и шеи
[508].
Ну и кульминацией бесчинств Караваджо стало убийство некого Рануччио Томассони, совершённое маэстро 28 мая 1606 года во время игры в паллакорда, предшественницу современного тенниса. Убийство произошло на Марсовом поле, где жил художник, и, как сейчас сказали бы, «в составе преступной группы», так как Караваджо прибыл на игру в сопровождении трёх вооружённых приятелей, в числе которых был капитан папской армии. Больше всего эта ссора походила на конфликт двух враждующих преступных группировок, так как, судя по свидетельствам очевидцев, встреча явно была организована заранее, а компании художника противостояла другая вооружённая группа, также состоящая из четырёх человек. Основной версией следствия был конфликт, возникший из-за карточного долга. В разгоревшейся стычке один из друзей художника получил тяжёлое ранение, а Томассони погиб от руки Караваджо
[509].
После этого убийства художнику пришлось бежать из Рима, где за его голову была назначена награда, в соседний Неаполь. В августе 1608 года он снова принял участие в драке, на этот раз на Мальте, где успел вступить в Мальтийский орден. В ходе драки он выбил дверь и нанёс тяжёлые увечья рыцарю ордена. Караваджо был арестован братьями-рыцарями, но ему удалось бежать с Мальты на Сицилию. С Сицилии неугомонный задира отправился назад в Неаполь, где в 1609 году ринулся в драку, в которой снова получил несколько ранений
[510]. Летом 1610 года он отправился в Рим в надежде получить прощение, но в дороге умер.
Как мы видим, дамоклов меч, висевший над ним в Риме, не особо мешал задиристому художнику наслаждаться всеми радостями жизни. Суровая рука закона могла только беспомощно обводить своим карающим мечом контуры границ Папского государства.
Внутри своих юрисдикций при желании навести порядок было не так сложно, что прекрасно доказал пришедший в 1537 году к власти во Флоренции Козимо I де Медичи, позже ставший великим герцогом Тосканским. Он запретил ношение оружия в пределах городских стен, а также ввёл лицензии практически на все виды оружия, от арбалетов до ножей, и даже включил в список предметов, подлежащих лицензированию, кольчуги. Именно в Тоскане и в последующие столетия велась самая активная и бескомпромиссная борьба с бесконтрольным ношением и применением ножей. Другой великий герцог Тосканский, Франческо Стефано ди Лорена, в начале 1737 года, почти через двести лет после своего предшественника, издал в Тоскане закон, строго запрещающий ношение любого так называемого «оружия нападения». К нему в первую очередь относилось такое «недостойное и низкое оружие, как ножи с остриём или с остриём и лезвием»
[511].
Занимательно, что закон особо оговаривал маленькие ножи, от рукояти и до острия не превышающие в длину «tre quarti di braccio di misura Fiorentina» — «три четверти флорентийского локтя». Это было связано с тем, что ножи длиной от 14 до 44 сантиметров, считались достаточно длинными для убийства, и в то же время достаточно короткими для скрытого ношения
[512]. Большинство запретов, относилось именно к ножам с короткими клинками, поскольку считалось, что их легче спрятать, и что они более эффективны, когда необходимо застать противника врасплох.

Рис. 68. Рисунок ножа, которым было нанесено ранение в драке в 1749 г. Общая длина 220 мм. (© G. С. Baronti).
Чтобы искоренить любую возможность использования ножей, этих «abomi-nevoli instrument!» — «отвратительных орудий», законом было строжайше запрещено их изготавливать, продавать и даже ими интересоваться. Само собой, закон предусматривал исключения для знати, охотников, пока они не выносят ножи за пределы границ тосканской Мареммы, и военных
[513]. Но даже те, кто имел право на ношение такого оружия, должны были помнить, что при совершении преступления с использованием ножа они не получили бы никакого снисхождения.
30 ноября 1786 года ещё один великий тосканский герцог, Пьетро Леопольдо, также известный как Леопольд Второй или Петер Леопольд Йозеф Антон Иоахим Пиус Готтхард, император Священной Римской империи, а также король Венгрии и Богемии, подписал в Пизе указ о проведении реформы уголовного законодательства. Он первым из европейских правителей отказался от пыток и запретил на территории Тосканы смертную казнь — последний раз она применялась в 1769 году, — а также приказал уничтожить все предназначенные для этого орудия. Кроме этого, своим указом он смягчил и умерил жёсткое антиножевое законодательство своих предшественников. Так как в первую очередь явную экономическую выгоду от этого получил один из крупнейших производителей ножей в Италии — тосканская Скарперия, часто полагают, что это либеральное решение принималось под её давлением
[514].
В конце 1700-х производство ножей резко сократилось. К 1768 году в Скар-перии осталось всего 10 магазинов, торгующих ножами, а годовая продукция составляла 72 000 ножей. Двадцатью годами раньше таких магазинов было сорок, а в год производилось 144 000 ножей, или 370 ножей в день
[515].
Несмотря на все послабления, использование ножа при совершении убийства всё так же оставалось отягчающим обстоятельством, и наказание в этом случае было более суровым, чем при использовании любого другого оружия.
Раздробленность страны, позволявшая, меняя юрисдикцию, легко избегать наказаний, бесконечные войны и локальные конфликты, крайне либеральное законодательство — всё это давало ощущение безнаказанности и привело к тому, что бесконтрольное использование оружия, и в том числе ножей, стало повсеместной нормой. Кроме либеральных законов большинство авторов упоминают и другой фактор, который, как и в соседней Испании, предоставлял широкие возможности для злоупотреблений. Речь идёт о слабости исполнительной власти, которую в данном случае представляли сбирри, и нежелании, а иногда и невозможности этой власти осуществлять контроль за выполнением законов. Крайне осложняли работу полиции круговая порука и закон молчания, омерта, практически полностью исключавшие возможность какого-либо сотрудничество с властями.
Абу писал об омерте, что даже когда преступник был схвачен правосудием, проблемы на этом не заканчивались, так как не находилось ни одного свидетеля, готового дать против него показания. Даже если бы удалось воскресить самого убитого из мёртвых, он не назвал бы имя убийцы. Некий мужчина был найден на улице искромсанным ударами ножа, но всё ещё дышал. Когда его спросили, кто это сделал с ним, он ответил: «Никто. Идите и приведите священника и не ломайте голову с остальными вопросами». В конце концов он уладил свои земные дела и мыслями обратился к встрече с Господом.
В другом инциденте, мужчина ударил соперника кинжалом. Первый из них отправился на каторгу, а второй — в больницу. Когда один освободился, а другого поставили на ноги, они пожали друг другу руки без малейшей злобы. Но если раненый давал показания о причине своих ранений в суде, ни нападавший, ни его же собственные друзья не дали бы ему оправиться от ран. Отказ давать показания в суде был настолько укоренившимся злом, что невозможно было найти очевидцев, готовых свидетельствовать даже против воров
[516].
Ко всему прочему к концу XVIII столетия римские папы выбрали политику невмешательства и обращались с бандитами по принципу «Живи и дай жить другим». К этому можно добавить и ряд других факторов, способствовавших расцвету ножевой культуры. Среди них далеко не последнюю роль сыграл и развитый институт так называемых сантуариев, или прибежищ. Как правило, роль подобных приютов для преступников выполняли монастыри. Например, широко известен монастырь Della Madonna di Polsi в горном массиве Аспромонте в Калабрии, не одно столетие скрывавший в своих стенах от властей сотни разбойников-бригантов, каморристов и прочих беглецов, преследуемых законом.
Подобные убежища, затруднявшие работу правосудия, а иногда делавшие его невозможным, описаны многими авторами. Абу сетовал, что почти все полицейские протоколы, которые ему приходилось держать в руках, заканчиваются фразой: «Преступник скрылся». В Италии люди, вместо того чтобы преследовать преступников, предоставляли им помощь. В их глазах прав был убийца, а не жертва, и поэтому они прикрывали его побег. Город был полон убежищ. Посольства, Французская академия, церкви, монастыри, Тибр и много других мест, куда не доставала рука закона. Если преследуемый человек угрожал самоубийством, полиция была обязана позволить ему уйти. Поэтому река Тибр являлась неприкосновенным убежищем. Власти боялись, что загнанный преступник бросится в воду и умрёт без помазания. Жандармы частенько ходили за монахами, умоляя их: «Дорогие братцы, отдайте его нам, ведь он преступник!» «Мы не можем, — отвечали монахи. — Он останется здесь». В результате поножовщики оставались в монастыре.
Однажды группа французских солдат на мосту Понте Молле наткнулась на преступника, преследуемого полицией, и приняла участие в погоне. Мужчина, пытаясь уйти от преследования, бросился в Тибр и при этом утонул. Это событие вызвало большой резонанс и потребовало дипломатического вмешательства, так как все считали, что солдатам не следовало доводить человека до смерти без последнего помазания
[517]. Но даже если путем неимоверных усилий преступника всё-таки удавалось поставить перед судом, то он сам или его родственники могли задействовать систему помилований, которая определённо стала достойной преемницей папских индульгенций Средневековья.
Говоря о снисходительном отношении общественного мнения к поножовщинам и убийцам, можно вспомнить о таком архаичном наследии ранних юридических обычаев, как «божьи суды». Возможно, именно фатализм судебных поединков, в которых руку сражающихся вёл сам Господь, и определил отношение итальянцев к убийствам. Не исключено, что именно благодаря этому симпатии толпы чаще были на стороне убийцы.
Посетивший Италию Джон Мур писал в 1783 году, что в Германии, Франции или Англии убийств совершается сравнительно немного, и в основном все они тщательно спланированы. В этих странах убийцы заранее продумывали, как покинуть место преступления и скрыться, так как знали, что в противном случае смерть их неизбежна. В Италии же всё было по-другому, и жители страны совершенно не считали, что вслед за преступлением последует неминуемое наказание. Поэтому итальянцы были менее сдержанны в гневе и полностью давали выход ярости. А если противник превосходил их силой, то они не задумываясь пускали в ход нож, так как прекрасно знали, что если рядом нет пары сбирри, то никто их не остановит. Ненависть к этой организации была у итальянцев настолько сильна, что никто бы даже и не подумал о выполнении гражданского долга. Поэтому убийцы были абсолютно уверены, что легко найдут убежище в церкви или монастыре. Там они могли находиться в безопасности до тех пор, пока не уладят все дела с родственниками убитого или пока им не представится возможность укрыться в других государствах Италии. Что также не являлось проблемой.

Рис. 69. Шеф полиции Рима со своими сбирри. Франсуа Николя Боке, 1680–1716 гг.
Более того, если убийце всё-таки не посчастливилось достичь церковных дверей, прежде чем его схватили сбирри и упекли в тюрьму, то его друзьям и родственником не составляло большого труда слезами и просьбами вымолить прощение у кого-либо из кардиналов или принцев. Поэтому-то нет ничего удивительного в том, что убийства были распространены среди итальянцев больше, чем среди простонародья любой другой страны. Мур полагал, что именно подобные убежища для преступников в первую очередь мешали свершению правосудия. Вероятно, он был прав, так как известный указ герцога Тосканского, в котором было сказано, что церкви и монастыри больше не должны служить убежищем для убийц, полностью остановил в Тоскане использование стилетов.
В результате флорентийский народ перешёл с ножей на дубинки, как это было принято в других странах
[518].
Этой системой защиты преступников также был поражён немецкий историк и писатель Иоганн Вильгельм Архенгольц, путешествовавший по Италии вскоре после Мура. В 1791 году он писал, что во время посещения им этой страны поединки на ножах чаще встречались в Генуе, Неаполе и на Сицилии, чем в Тоскане и на территории Папского государства. Вероятно, это можно объяснить тем, что в описываемый период непримиримую борьбу с дуэлями на ножах вёл легендарный римский губернатор Спинелли. Сбирри, патрулировавшие улицы с наступлением темноты, были уполномочены градоначальником проверять карманы любого встреченного жителя города. Если у кого-либо при досмотре обнаруживали нож, то осуждение к галерам было неизбежно вне зависимости от положения задержанного. Но Архенгольц отметил, что даже несмотря на жесточайшие меры, принимаемые Спинелли, церкви, защищённые своими привилегиями, всё так же продолжали покрывать убийц. И поэтому преступники не прекращали обивать пороги церквей, а церкви всё так же становились их обителью на недели, месяцы или годы
[519]. Но и к полицейским, призванным наводить порядок, Архенгольц относился без особого пиетета и отмечал, что сбирри — итальянская городская стража, добровольно появляются с большой неохотой и если уж долг всё-таки заставляет их это сделать, они предпринимают все возможные меры предосторожности
[520].
Самых неудачливых поножовщиков ожидали довольно изобретательные и жестокие наказания. Самым распространённым способом казни было повешение, нередко сопровождаемое перерезанием глотки. Ещё один вариант казни назывался «маццолато э скуартато» — «ударить и разделать». При этом преступника оглушали ударом молотка по голове, а затем по устоявшейся традиции опять же перерезали ему горло. Искусностью в разделывании злоумышленников особо славился легендарный римский палач первой половины XIX в. Джованни Батиста Бугатти, по прозвищу «мастер Титта». Могу предположить, что подобная варварская манера резать глотки являлась заимствованием древнего испанского обычая «дегейо». Тем не менее, несмотря на все эти жутковатые и леденящие кровь подробности, перспектива попасть в руки палача была достаточно гипотетической угрозой, так как все прекрасно знали, насколько коротки руки у местной Фемиды
[521].
Согласно сообщению французского агента в Риме, летом 1797 года, жертвами убийств становились четыре человека в день, трое из которых умирали от ран, нанесённых ножом. На протяжении всего одиннадцатилетнего правления Папы Клемента XIII, в среднем происходила тысяча убийств год, что составляет около двух с половиной убийств в день. Средняя норма убийств в Риме в течение XVIII столетия, очевидно, находилась где-то между двумя-тремя убийствами в день, что ужасно для города с населением менее 150 000 человек.
И одной из основных причин столь высокого уровня убийств был тот общеизвестный факт, что система правосудия в Риме была неэффективна, а служащие её не заслуживали доверия. Сложные многослойные структуры судов представляли собой путаницу и неразбериху, где дела ждали своей очереди десятилетиями, а полицейские — печально известные сбирри — не пользовались уважением, работали за гроши и были продажны. И даже в том случае, когда убийца был арестован, обвинён и осуждён, он, как уже говорилось, в последний момент мог обратиться с просьбой о помиловании к какому-нибудь кардиналу или послу и, как правило, это помилование получал.
С точки зрения простого народа, отправление правосудия являлось частным делом между оскорблённой стороной и стороной, нанесшей оскорбление, и победитель, если это было угодно Богу, вероятно, был прав
[522].
Кроме помилований существовал ещё один фактор, сводивший на «нет» все попытки исполнительной власти покарать преступника — высокое покровительство и заступничество сильных мира сего. В одной из своих работ Альфред Хаттон приводит занятную историю из жизни знаменитого ювелира и художника XVI века Бенвенуто Челлини, как известно, далеко не отличавшегося кротким нравом. Мне эта история показалась забавной, к тому же прекрасно иллюстрирующей нравы и законы Италии той эпохи. Вся эта история приводится со слов и в интерпретации самого Челлини, что и придаёт всему повествованию особый шарм.
Итак, фабула такова. В друзьях у Челлини обретался некий адвокат Бенедетто Тобиа. Судя по всему, деловой партнёр Челлини, ювелир Феличе, задолжал вышеуказанному адвокату некую сумму. Когда же сеньор Бенедетто явился получить долг, он был взашей вытолкан Феличе со товарищи. Некоторое время спустя он снова явился в магазин Челлини, радушно встретившего его фразой «Мой любезный Бенедетто» [со слов Челлини), и неожиданно разразился ругательствами и оскорблениями в адрес «этих двух мошенников» — Челлини и Феличе. На что Челлини кротко и смиренно (опять же со слов самого Челлини) заметил, что он совершенно не понимает причин такого моветона. Тут якобы посетитель распоясался и начал брызгать слюной. Чтобы успокоить его, по словам Бенвенуто, он, расстроившись от обиды и незаслуженных оскорблений, набрал в руку немного грязи, чтобы швырнуть в лицо хаму. Но в комочке грязи, каким-то непонятным для Челлини образом оказался булыжник, раскроивший голову Бенедетто, тут же потерявшего сознание.
Это недоразумение так потрясло Челлини, что, дабы прийти в себя, ему пришлось срочно взять у приятеля коня и скрыться в дальний городок под крыло одного из своих покровителей. Где он и переживал эту драму. Как оказалось, среди трёх десятков безучастных горожан, пришедших поглазеть на кровавое смертоубийство Бенедетто, был и некий Помпео, конкурент Челлини, человек с твёрдой гражданской позицией. Выполняя своей гражданский и общечеловеческий долг ювелира и католика, он поспешил на аудиенцию к Папе Клименту — смиренно сообщить о кровавом злодеянии коллеги. Однако вскоре, к всеобщей (особенно Челлини) радости, всё благополучно разрешилось — ушибленный адвокат выжил, и о деле все скоро забыли.
Но история на этом не закончилась. Какое-то время спустя, как рассказывал Челлини, он, совершенно без задней мысли, решил надеть кольчугу и нацепить шпагу с кинжалом, просто чтобы пойти погулять с друзьями в их любимое местечко. По странному совпадению в том же местечке прогуливался интриган Помпео, также для чего-то прихвативший шпагу и кинжал. Подозревая недоброе и одолеваемый дурными предчувствиями, чтобы избежать встречи с Помпео, Челлини из предосторожности поспешил укрыться в ближайшей лавке. Естественно, вскоре в ту же лавку специально явился Помпео. Как потом рассказывал Челлини, он просто хотел разыграть старого знакомого и только поэтому выскочил из укрытия, шутливо размахивая кинжалом перед его лицом. Но Помпео, видимо от смеха, взмахнул головой, да так неудачно, что кинжал Бенвенуто вошёл ему в череп за ухом.
Обескураженный этой нелепой и несмешной выходкой Помпео, Челлини почувстовал такую горечь, что был вынужден тут же покинуть город и скрыться под крыло очередного покровителя-мецената. Когда о происшедшем доложили Папе Клименту, тот вздохнул и философски заметил, что Помпео сам во всём виноват, а такие уникальные таланты, рождённые землёй итальянской, как Челлини, имеют право на маленькие шалости. В результате всё было спущено на тормозах
[523]. Как мы видим из этой истории, благодаря заступничеству высокопоставленных покровителей, Челлини, в отличие от его не менее задиристого коллеги Караваджо, даже не пришлось покидать родные пенаты.
Судя по путевым заметкам Луи Симона, опубликованным в 1828 году, с момента посещения Италии Муром и Архенгольцем совершенно ничего не изменилось. Симон вспоминал, как 1 января 1818 года на Виа дель Корсо в результате ссоры из-за женщины в поединке был зарезан мужчина, и хотя улица была полна людьми, убийца скрылся и вскоре уже находился в безопасности в одном из многочисленных убежищ, скрывающих преступников. Эти убежища располагались не только в стенах церквей и монастырей или на территории
иностранных посольств, но также и в любом месте, находящемся в пределах видимости из этих зданий. Симон поражался, что убийства совершаются среди бела дня на самых людных улицах Рима, но при этом никто из очевидцев не спешит немедленно схватить убийцу. На это римляне, среди которых были не только выходцы из низших слоёв общества, спокойно отвечали, что это потому, что рядом не было ни одного сбирри. На замечание француза о том, что каждый в такой ситуации должен выполнить свой гражданский долг, итальянцы объясняли, что по здешним меркам это было бы бесчестно.
Как уже говорилось, в Италии люди всегда были на стороне преступника и против правосудия и соблюдения законов в любой форме. Основной причиной такого отношения являлось то, что закон и правосудие воспринимались ими не как средство защиты людей, а скорее как вызывающие недоверие инструменты богатых для манипулирования бедными, верхов против низов. А так как использование этих инструментов, с точки зрения итальянцев, было поручено человеческим отбросам — сбирри, любая поддержка или помощь оказанная им являлась позором. Более того, среди низших классов Италии обращение «сын сбирри» являлось непростительным оскорблением
[524].
Даже сами римляне признавали, что уголовные законы работали только во время французского правления. Тогда власти были достаточно сильны, чтобы заставить свидетелей давать показания и обезопасить их от последствий выступления в суде. Не нужно было проливать реки крови, чтобы окончательно прекратить эти игры с ножами. Папе Льву XII не пришлось уничтожать свой народ, чтобы искоренить чуму бандитизма, а французам не понадобилось опустошать Корсику, чтобы избавиться от местных бандитти. Для этого достаточно было всего нескольких точечных ударов, но нанесённых в нужное время.
А тем временем итальянские власти не могли определиться с наказанием для убийц и отправляли их на галеры. Но побывавшие там гордились своим времяпровождением и рассказывали о нём, как солдат о военной кампании. Так Абу вспоминал, как во Фраскати ему встретился крестьянин, трусивший на своём ослике вдоль просёлочной дороги. Его жена следовала за ним на некотором расстоянии, неся на голове котомку. Абу вступил с крестьянином в беседу, и речь зашла о поножовщине. Старик печально посетовал, что за последние годы деревенские ярмарки стали вдвое менее весёлыми, чем в те старые времена, когда виноградная лоза не засыхала, каждый мог выпить столько вина, сколько желала душа, и не было ярмарки, на которой бы в поединках не зарезали четыре-пять человек. Старик похвастался Абу, что в молодости и сам убил немало людей. Поражённый Абу спросил, понес ли он за это какое-либо наказание, на что крестьянин гордо ответил, что провёл два года на галерах в Чивитавеккья и доверительно сообщил, что это были лучшие и самые счастливые годы его жизни
[525].
В большинстве ситуаций, когда итальянцы наносили удары ножом, француз приложил бы обидчика кулаком или потащил в суд. Но ни драка на кулаках, ни формальные дуэли, ни судебные иски не устраивали граждан Рима. Они считали что удар кулака недостаточно чётко определяет превосходство победителя, формальная дуэль — слишком рисковое дело для правого, а продажность судей и бесконечно тянущиеся тяжбы внушали людям страх перед исками. Поэтому в Риме любой вопрос, включая семейные проблемы, улаживался исключительно с помощью ножа
[526]. Абу писал, что у римлян из простонародья презрения к убийце было не больше, чем у парижан к человеку, законно убившему своего противника на дуэли, и они искренне считали, что убийца всего лишь человек и тоже имеет право на ошибку
[527].
В 1853 году римские суды вынесли приговоры по 609 преступлениям против собственности и по 1344 — против личности. Для сравнения: в том же году выездная сессия суда присяжных во Франции вынесла приговоры по 3719 обвинениям в краже и по 1921 преступлению против личности.
Абу считал, что в Риме семь из восьми убийц не достали бы ножи, если бы знали, что за это их обезглавит палач. «Но они настолько уверены в своей безнаказанности, как если бы карать их должны были Франция или Англия», — возмущённо писал он в своей книге
[528]. Но вернёмся к упомянутым Абу галерам — самому распространённому в Риме наказанию для поножовщиков. В данном случае хотелось бы сослаться на мнение Сьюзан Никассио, предложившей объяснение вопиющего пренебрежения этим наказанием, и опровергающей привычное стереотипное представление о каторжном труде измученных гребцов, прикованных цепями к скамьям.
В действительности это наказание даже далеко не напоминало галеры с гребцами Бен Гура. Хотя в Риме это и считалось достаточно суровым наказанием, но на самом деле таковым не являлось. Никакой греблей там и не пахло по одной простой причине: у Папского государства не было флота. Поэтому термин «галеры» всего-навсего подразумевал отправку осуждённых на весьма необременительные работы. Приговорённых к галерам направляли за восемьдесят километров от Рима в местечко Чивитавеккья, где и питание и условия проживания у них частенько были лучше, чем у охранников. Они могли свободно выходить в город, подрабатывать, продавая безделушки, или красть. Бежали с «галер» редко, потому что пребывание там было необременительным, срок заключения было несложно уменьшить, да и тюремный месяц римской Фемиды состоял всего из двадцати дней. Женщины также не особо подвергались лишениям — свой срок они отбывали в качестве принудительных послушниц монастырей, где к ним относились не хуже, чем к остальным сёстрам
[529].

Рис. 70. Карта Чивитавеккья, XIX в.
Таким образом, клерикальные власти в лице римских пап выбрали политику невмешательства, полиция не пользовалась авторитетом, а наказания были символическимии. Единственной реальной силой, пытавшейся навести в Италии хоть какой-то порядок, оказались французские оккупационные власти, действовавшие быстро, слаженно, жёстко и эффективно. Никассио отмечала, что многие булли были неприятно удивлены манерой французов преследовать по закону решение дел чести, которые до этого не замечались или даже восхвалялись властями
[530].
Как и следовало ожидать, итальянцам, привыкшим к анархии и беззаконию, «новая метла», насаждавшая свои порядки, или, точнее говоря, просто пытавшаяся установить хоть какой-то порядок, пришлась не по вкусу. Даже священники, ещё совсем недавно осуждавшие бандитов с амвона, теперь видели в них союзников в борьбе против французов, посягнувших на власть папы римского. Также и чиновники папской полиции и жандармерии уходили в горы, где присоединялись к бандитам и возглавляли антифранцузское сопротивление. И тем не менее, несмотря на яростное противодействие Бурбонам, кое-где удавалось навести порядок и покончить с хаосом. Форестер в 1861 году отмечал, что именно благодаря их строгим законам и жестоким мерам на Корсике ушли в прошлое бесконечные поножовщины и практически исчезла привычка носить с собой ножи
[531].
В 1880-1890-х годах такие криминалисты, как Луиджи Бодио, Энрико Ферри, Аугусто Боско, тщательно проанализировали статистику убийств по всей Европе. Полученные данные демонстрируют, что уровень убийств в Италии был очень высок. Так, согласно Энрико Ферри, около 1880 года Италия имела самые высокие в Европе показатели по количеству преступников, осуждённых за убийство: 9 на 100 000 жителей в год. В тот же самый период во Франции и Германии нормы убийств были ниже чем 2 на 100 000, а Англия и Шотландия демонстрировали рейтинг ниже 1:100 000. Хотя ситуация несколько улучшилась к концу XIX столетия, разрыв между Италией и более «цивилизованными» странами Центральной и Северной Европы тем не менее сохранился. Статистика также показала, что и по регионам Италии нормы убийств были далеко не одинаковы. Так, например, в 1880-84 годах норма убийств колебалась от минимума в 3,6 на 100 000 жителей в районе Милана, до максимума в 45,1 в регионе Палермо. Все восемь районов Северной Италии демонстрировали нормы ниже, чем 11, центральные районы от 9 до 26, и почти все районы южных и островных областей имели нормы убийств между 16 и 35 на 100 000 человек
[532].
После объединения Италии в 1861 году молодое государство столкнулось с необходимостью пресечь лавину преступлений. Мало кто знает, что в начале XX века в Риме с населением около 300 000 душ водители омнибусов-трамваев из-за напряжённой криминогенной обстановки имели право на ношение пистолета. В целях улучшения имиджа Италии в глазах других государств 6 июля 1871 года был принят закон, запретивший под угрозой тюремного заключения ножи, имевшие клинки длиннее 10 см, а также все виды пружин и механизмов, позволявших фиксировать лезвие ножа в открытом виде
[533].
Эта мера не остановила дуэли, но их начали маскировать под несчастные случаи и самооборону. Даниэле Боски в работе, посвящённой дуэлям на ножах в Риме, писал, что народные дуэли крайне редко фигурируют в судебных протоколах тех лет. Он объяснял это тем, что в делах об убийствах и ранениях, каждая из двух сторон была крайне заинтересована приуменьшить свою степень вины и преувеличить ответственность другой стороны. Вне зависимости от того, как на самом деле проходил поединок, потерпевший, если он остался в живых, утверждал, что не давал ни малейшего повода для нападения, в то время как сам нападавший стремился доказать, что был спровоцирован и действовал исключительно в порядке самообороны. Если к этому добавить, что и свидетели далеко не всегда были беспристрастны, то не удивительно, что в уголовном судопроизводстве подобные прецеденты часто описывались размыто и противоречиво.
Одним из немногих убийств, которое можно чётко классифицировать как дуэль на ножах, являлось убийство Питеро дель Пропосто, совершенное девятнадцатилетним плотником Энрико Федеричи. Надо заметить, что об этой дуэли стало известно благодаря показаниям всего лишь одного свидетеля. Им был некий знакомый Федеричи — парикмахер по имени Паскуалини, с которым тот разговаривал 8 декабря 1888 года, за несколько часов до убийства Пропосто. Хотя Федеричи и признал, что убил своего противника, но он искусно интерпретировал этот инцидент как результат ссоры: якобы в пылу спора дель Пропосто внезапно накинулся на него с ножом, и он, обороняясь, нанёс ему роковое ранение, оказавшееся смертельным.

Рис. 71. Джованни Джолитти (1842–1928).
Но властям удалось установить, что ссора произошла не за несколько минут, а за несколько часов до драки и что оба участника заранее договорились встретиться на площади Сан Пьетро в Монторио, чтобы сражаться на ножах. Прежде чем направиться к месту фатальной встречи, Федеричи сказал Паскуалини, что ещё до заката он окажется или в больнице, или в тюрьме, но все в Риме узнают, чего стоит мужчина из Асколи — его родного города. Дуэль была недолгой, и хотя в результате Федеричи нанёс дель Пропосто смертельный удар в сердце, он и сам был тяжело ранен. Таким образом, можно сделать вывод, что в действительности гораздо большее количество смертей и тяжёлых ранений являлись следствием поединков на ножах, чем это следует из материалов судебных дел
[534].
Агрессивный характер римлян и их склонность к поединкам на ножах иногда рассматривались как психологическая особенность, связанная со специфической атмосферой и традициями Вечного города. Но к концу XIX столетия криминалисты и другие эксперты выяснили, что злоупотребление оружием, особенно ножами, было широко распространено не только в Риме, но и во многих других областях Центральной, Южной и островной Италии. Они также отметили, что именно из-за этого уровень убийств в Италии был значительно выше, чем в более «цивилизованных» странах Центральной и Северной Европы. В результате правительство Италии обратилось в парламент с просьбой о принятии законопроекта, ужесточающего наказание за незаконное ношение оружия и ранения, нанесённые ножом. Во вступительном докладе при рассмотрении этого законопроекта парламентом было отмечено, что «в некоторых областях Италии, «дикари» злоупотребляют смертельным оружием, почти ежедневно обеспечивая темы для газетных сообщений и помещая нашу страну среди наименее цивилизованных государств Европы»
[535].
12 августа 1908 года газета «Мальборо экспресс» писала: «Что может сделать Италия, чтобы избавиться от сомнительного лидерства в кровавых преступлениях, которое она удерживает среди цивилизованных народов? Этот вопрос горячо обсуждался в палате представителей в связи с внесением на рассмотрение законопроекта представленного премьер-министром Италии Джолитти, о «ношении ножей и другого оружия». Хотя этот вопрос уже и раньше неоднократно поднимался в парламенте, но все обсуждения неизменно заканчивались тем, что его передавали различным комиссиям для дополнительного исследования. И несмотря на то, что количество кровавых преступлений тем временем росло, подобные проекты изменений в законодательстве каждый раз вызывали бурное негодование либерального большинства. Законодателям Италии было практически невозможно запретить или ограничить ношение ножей и иного оружия, чтобы не вызвать протесты либералов по поводу нарушения всевозможных свобод
[536].

Рис. 72. Arditi — Отважные. Бойцы ударных отрядов итальянской армии в 1915–1918 гг.
И тем не менее, несмотря на отчаянное сопротивление либералов, оружейного лобби Скарперии и Маньяго и протесты южан, 8 ноября 1908 года, после долгой и продолжительной борьбы, законопроект Джолитти был принят. Всё-таки сказался огромный политический опыт этой лисы — к моменту принятия законопроекта Джолитти был в политике уже 26 лет, из которых 16 — на посту премьер-министра.
В первую очередь новый драконовский закон ударил по производителям ножей — Маньяго в Тоскане и Фриульской Скарперии. Одним из его требований было ограничение максимальной длины клинка ножа четырьмя сантиметрами. Хотя позже под давлением производителей в закон всё-таки внесли поправки, и длина клинка была увеличена до шести, а для ножей без острия и до десяти сантиметров. Закон не затронул только кухонные, столовые и охотничьи ножи. Именно после закона Джолитти в моду вошли опасные бритвы и ножи с остриём, срезанным под прямым углом, такие как моцетта или разолино — «бритвочка»
[537]. Эти детища Джолитти, выпущенные после ноября 1908 года, можно узнать по коротким клинкам без острия и штампам «permesso dalla legge» — «разрешено законом».
А вскоре грянула Первая мировая война, и ножи в ранцах своих хозяев из Неаполя, Апулии и Калабрии, с Сицилии и Сардинии отправились на фронт, в траншеи Изонцо и Трентино. Ещё в 1860 году «Русский вестник», описывая бои гарибальдийцев в ломбардской кампании при Мадженто и Сольферино, писал: «Сицилийские picciotti дрались в этой битве хорошо; они смело бросались в штыки и отбивали кавалерийские атаки. Но особенно отличились калабрийцы. Они дрались со страшным ожесточением и вместе с тем с блистательным хладнокровием. Эти калабрийские пастухи бросали ружья, к которым мало привыкли, и кидались с кинжалами на неприятельские ряды. Так истребили они многочисленный отряд баварцев»
[538].
Если не знать, что эти строки написаны за полстолетия до Первой мировой, можно подумать, что это заметка военного корреспондента, описывающего бои в районе Трентино в 1915 году. «Нью-Йорк таймс» от 12 августа 1915 писала, что итальянские войска, сражавшиеся под Исонзо, включали несколько подразделений, с юга Италии, с Сардинии и с Корсики, которые, когда дело доходило до рукопашной, отбрасывали винтовки и орудовали кинжалами и стилетами. Автор статьи заметил, что, хотя итальянские офицеры постоянно убеждали своих солдат, что штык, прикреплённый к винтовке, значительно эффективней кинжала, те пропускали это мимо ушей и, когда добирались до австрийских траншей, пускали в ход не штыки, а ножи
[539].
На фронтах Первой мировой умением обращаться с ножом особо славились бойцы элитных итальянских штурмовых подразделений, известных как ардити. Название это происходит от итальянского «ардито» — «смельчак» или «храбрец». «Reparti d'assalto» — штурмовые группы, были сформированы летом 1917-го полковником Басси и не относились к пехоте, а представляли собой самостоятельные боевые единицы. Расформированы эти подразделения были в 1920 году.

Рис. 73. Различные типы кинжалов ардити. Armes Militaria Magazine № 29, февраль 1988 г.

Рис. 74. Лейтенант ардити Карло Сабатини [второй слева) с товарищами у Монте Корно в Трентино, 1918 г.
Каждый боец штурмовых бригад независимо от звания носил кинжал, прекрасно вписывавшийся в манеру боя ардити. Кинжал было легче и эргономичней обычного штыка, имел перекрестье для защиты руки и был идеален в качестве бесшумного оружия. Штатные штурмовые кинжалы изготавливались из укороченных штыков от старых итальянских винтовок Веттерли-Витали образца 1870 года. На одном и том же клинке монтировалось множество разнообразных типов рукояток, как, например, круглые рукоятки, известные как «напильниковые». Другие кинжалы были переделаны из стандартных штыков образца 1891 года или из трофейных штыков Штейера-Манлихера. Одним из самых востребованных был хромированный кинжал, выдававшийся частям NCO. Часто солдаты гордо демонстрировали трофейные штурмовые кинжалы Австро-Венгрии, называемые «штурммессер». Нередко ардити носили кинжалы и вне службы
[540]. Образ бесстрашных ардити широко эксплуатировался в итальянских «агитках». На сотнях плакатов и открыток эти бойцы врывались в неприятельские траншеи, вооружённые лишь ножами и гранатами.
Среди австро-венгерских войск ходили слухи, что все ардити — виртуозы кинжала и все они выходцы с Сицилии, известной своими дуэлями и искусством поединков. Среди членов этих подразделений и на самом деле было немало выходцев с юга. Так, ещё Хью Далтон в своей книге «With British Guns in Italy» отметил, что большую часть ардити составляли сицилийцы, демонстрировавшие высокие бойцовские качества
[541].
Как писали газеты в августе 1918 года: «Ардити, или храбрецы — это подразделение, набранное из самых бесстрашных смельчаков со всех концов королевства Италия, но преимущественно из выходцев с Сицилии, Сардинии и из Калабрии. Они никогда не сидят в окопах — их вызывают перед атакой. Они лучшие из лучших и первыми начинают бой. Горе тем австрийцам, которые столкнулись с их штыками и ножами!»
[542].
Паоло Джудичи, описывая тренировки ардити, экзальтированно рассказывал: «Вот набитые соломой чучела, на которых тренируются ардити, втыкая в них клинки кинжалов: волосы дыбом, выпученные глаза, орут во всё горло, лица искажены. Ардити яростно бросаются на условного противника и бьют точно в сердце». Анжело Гатти дополняет: «Каждый бахвалится своим личным ударом ножа и собственным способом ликвидации противника». Мастерство, достигнутое ардити в фехтовании кинжалом, позволяло разрабатывать достаточно опасные элементы. Марио Палиери рассказывает: «Было и метание кинжала: ардити прислонялся к деревянной двери, друзья по очереди бросали в него кинжалы, втыкавшиеся в дверь на уровне головы». Ардити, державший голову неподвижно или наклонивший её ровно настолько, чтобы избежать летящего кинжала, считался самым храбрым
[543].
Многие бойцы, прибывшие в штурмовые подразделения, особенно выходцы из Центральной и Южной Италии, хорошо знали, как использовать нож. Упомянутый в работе Пироки об истории ардити сержант Дельи Эспости рассказывал, что в боях, в которых он принимал участие, сицилийцы, под которыми он, очевидно, подразумевал всех выходцев из Южной Италии, были очень искусны в обращении с ножом, и что не менее эффективная техника была у романьольцев.
Известный итальянский поэт и драматург Габриэль д'Аннунцио, воевавший в Первую мировую в чине майоре в лётной эскадрилье, прозванной «Воздушными ардити», не расставался с символом ардити — кинжалом с рукояткой из слоновой кости
[544]. Корреспондент «Нью-Йорк таймс», бравший в июне 1918 года интервью у одного из офицеров ардити, описал его оружие как «турецкий кинжал с гравировкой на лезвии». Когда журналист задал офицеру вопрос, сколько австрийцев он убил этим кинжалом, тот пожал плечами и задумчиво ответил: «Слишком много, чтобы считать»
[545].
Среди подразделений ардити особым умением обращаться с ножом славились бойцы бригады Сассари. Эта бригада, названная в честь одноимённого сардинского города, была сформирована 1 марта 1915 года на Сардинии, в местечках Темпио Паузания и Синнай, из двух пехотных полков, укомплектованных практически полностью сардинцами. В Первой мировой войне бригада понесла самые большие потери из всех итальянских подразделений, но и количество награждённых в ней было самым высоким.
Первая мировая война и положила конец многовековой итальянской традиции дуэлей на ножах. Именно потому, что она была первой — первой во всём: в массовости убийств, в применении отравляющих газов и танков, в жестокости. 12 миллионов человек было убито и 55 миллионов ранено. Около 20 миллионов человек умерло от голода и эпидемий. В результате этой войны прекратили своё существование четыре империи: Османская, Германская, Российская и Австро-Венгерская.
На фоне ужасов войны все эти архаичные понятия о чести и манера хвататься за нож из-за пустяковых обид теперь казались смешными и нелепыми. Сицилийские, калабрийские, апулийские или сардинские солдаты, пережившие ужасы траншей Первой мировой — голод, болезни, вражеские пулемёты и танковые атаки, вшей и иприт, — возвращаясь в родные деревни, не хотели больше крови, насилия и смертей. Последствия этой войны, затронувшие практически все аспекты жизни европейских народов, по фатальному эффекту можно сравнить с эпидемиями чумы, выкосившими средневековую Европу.
Первая мировая не только поделила жизнь западного мира на «до» и «после», но и кардинально изменила и трансформировала привычную картину мира. Рушились старые идеалы и системы ценностей, раскачивались традиционные общественные устои, и ощутимо теряла свои позиции религия.
Однако с Первой Мировой в прошлое канула только массовая культура народных дуэлей — «дуэлло рустикано». Замкнутого сообщества каморры все эти метаморфозы не коснулись, а новые веяния обошли его стороной. Поэтому и сегодня, как и 300 лет назад, неофиты постигают таинства зумпаты под руководством умудрённых опытом «уомо д'оноре» и, как многие поколения их предшественников, решают дела чести в поединках с ножами в руках.
Глава III
ЖЕСТОКОЕ ТАНГО ПАМПЫ
Дуэли на ножах в Аргентине


В 1515 году три испанских корабля под командованием Хуана Диаса де Солиса пристали к берегам Нового Света в устье реки, называемой туземцами Парана Гуасу — Река-как-море. Де Солис первым исследовал Рио-де-ла-Плата, которой он дал имя Маре Дульче — Сладкое море. Но эта амбициозная экспедиция закончилась провалом — вскоре после высадки на берег Солиса и его людей убили воинственные индейцы, населявшие эти места
[546].
Более удачливым оказался другой мореплаватель, венецианец Себастьян Кабо, в течение нескольких месяцев изучавший дельту Параны и открывший реку Парагвай. В месте слияния рек Парана и Рио-Каркаранья его экспедиция основала небольшой форт — первое испанское поселение на берегах Параны. Многие исследователи именно Кабо приписывают авторство названия Рио-де-ла-Плата, что в переводе означает «Река из серебра». Следующим в эти места в 1536 году прибыл Педро де Мендоза. На юго-западном берегу, в дельте Рио-де-ла-Плата, в устье рек Парана и Уругвай, он основал небольшой сеттльмент, который испанцы рассчитывали использовать как опорный пункт для исследования региона. Поселение это получило имя Сьюдад де Нуэстра Сеньора Санта Мария дель Буэн Айре. В 1570-х испанцы основали в этих местах целый ряд населённых пунктов, а в 1580-м заложенный Мендозой посёлок был расширен, укреплён, и на его месте вырос форт, позже превратившийся в город Буэнос-Айрес
[547].
Именно здесь, в окружавшей Рио-де-ла-Плата пампе, жили и умирали гаучо — герои Гутьереса, Эрнандеса и Борхеса, свободолюбивые, суровые и немногословные пастухи, арканившие диких аргентинских быков, бесконечно воевавшие с индейцами и, как и большинство жителей любого пограничья, с презрением относившиеся к законам и власти.
Происхождение гаучо покрыто туманом колониальной пампы, и все обсуждения этой темы увязли в трясине академической полемики. Историки разделились на два основных лагеря: испанистов и американистов. Первые из них настаивают на испанских или арабских корнях культуры всадников пампы. Так, в 1886 году Федерико Тобаль утверждал, что одежда, обычаи, характер, родовая сплочённость, внешность — абсолютно всё в гаучо является восточным и арабским. Даже их музыка и поэзия, считал он, несут на себе арабский след, ведущий через Андалусию в аргентинскую пампу. Другие же испанисты игнорируют далёкое арабское влияние и рассматривают только пастушескую культуру Андалусии. Так, Эрнесто Кесада, аргентинский писатель националистического толка, в 1902 году утверждал, что «гаучо — это жители Андалусии, перевезённые в пампу в XVІ-XVІІ столетиях». Кесада однозначно и категорично настаивал на том, что это часть испанского наследия, принесённого конкистадорами. Сторонниками теории об испанском происхождении этих пастухов также являлись видный землевладелец и основатель Аграрного общества Аргентины Эдуардо Оливера и известный фольклорист Мартиниано Легисамон
[548].
Американисты же настаивали на автохтонном происхождении гаучо, которых они рассматривали как продукт, «порождённый уникальной атмосферой Нового Света». Но и их ряды не были монолитными, и они нередко расходились во мнениях. Так, например, Висенте Росси, являлся ортодоксальным сторонником теории «индианизма» и искал корни гаучо среди известных своей жестокостью воинов кочевого племени гуарани, или, как их ещё называли, «хаучии». Гуарани, которых с 1826 года относили к уругвайским этносам, жили на «банда ориенталь» — восточном берегу реки. В качестве основного аргумента Росси использовал этимологические ссылки на происхождение термина «гаучо», который, как он предполагал, происходил от гуаранского «хаучо» или «хаучи». Пабло Бланко Асеведо также разделял взгляды индианистов и считал основным фактором, оказавшим влияние на формирование ранних гаучо, индейцев чарруа с восточного берега. Свои утверждения он аргументировал тем, что гаучо, как и индейцы, использовали традиционные индейские «болеа-доры», или «болас», а также имели пристрастие к популярному у индейцев чаю мате
[549].
Многие американисты склоняются к версии расового и культурного смешения индейских и испанских элементов. Хотя они и утверждают, что происхождение гаучо связано с Новым Светом, но мнения о точном месте их появления значительно расходятся. Так, Бланко Асеведо, Росси и франко-аргентинский писатель Поль Груссак считали колыбелью гаучо восточный берег. А Эмилио Р. Кони, яростный федералист и непримиримый противник «портеньос» — жителей Буэнос-Айреса, настаивал на том, что родиной гаучо являлась провинция Санта-Фе
[550].
Первые упоминания о гаучо датируются 1601 годом, когда некий путешественник видел в окрестностях Буэнос-Айреса всадников с лассо и без сёдел. Свидетельства, датированные началом 1730-х, описывают вакерии — охоту с лассо, в которых всадники окружали и убивали крупный рогатый скот из-за шкур. Мануэль Гальвес и Карлос Октавио Бунге делили местных крестьян на тех, кто обычно ездили на мулах, и тех, кто предпочитал коней — то есть гаучо. Возможно, что впервые гаучо появились как охотники на диких быков на аргентинском берегу Рио-де-ла-Плата, а позже, в конце XVI и начале XVII столетия расселились вдоль реки вверх от парагвайского Асунсьона
[551].
Загадкой остаётся не только происхождение гаучо, но и этимология этого названия. Термин «гаучо» впервые встречается в 1743 году в журнале «Noticias secretas de America», издаваемом двумя испанскими учёными и мореплавателями, Антонио де Ульоа и Хорхе Хуаном и Сантасилья. Описывая жителей горного района Чили, находящегося примерно в восьмидесяти лигах — 250 милях — от Консепсьона, в качестве общего термина для обозначения местных крестьян они упоминали выражение «gauchos о gente campestre». В самой Аргентине этот термин впервые встречается в 1774 году в жалобе правительственных чиновников, сетовавших на злодеяния «гаучо, или похитителей скота, действующих на banda oriental — в диком, огромном и большей частью неуправляемом районе пограничья».
Этимология этого слова вызывает оживлённые дебаты среди всех сторонников арабского, андалузского, баскского, французского, цыганского, еврейского, португальского, кечуанского, арауканского и даже английского его происхождения. Так, например, в 1820 году английский художник Эмерик Эссекс Видал предложил маловероятную версию об английских корнях этого термина. «Все соотечественники называют жителей Буэнос-Айреса «гаучо» — словом, которое, без сомнения, имеет общий корень со старым английским «gawk» или «gawkey», используемым для описания неотёсанных манер и внешнего вида этой деревенщины», — безапелляционно утверждал этот англичанин. Большинство сторонников местного происхождения этого термина склонялись к арауканской версии. Наиболее вероятными вариантами им казалось арауканское слово «хаучу» и термин кечуа, «хаук-ча», имеющие одинаковое значение — «сирота»
[552].

Рис. 1. Гаучо, играющий на гитаре, 1915 г.
Рис. 2. Гаучо XVIII в. Акварель Ренара.
Если до 1746 года людей, незаконно убивавших крупный рогатый скот, называли «гаудерио», то с 1774-го в документах уже фигурирует новый термин — «гаучо»
[553]. Генри Мария Брекенридж, посетивший Латинскую Америку в 1817 году по заданию правительства Соединённых Штатов, в путевых заметках назвал гаучо «полуконями, полулюдьми». Английский приисковый чиновник, путешествовавший в 1823 году из Буэнос-Айреса в Перу, также отзывался о жителях аргентинской пампы крайне нелицеприятно. Он описывал гаучо как «дикарей, неотёсанный варварский народ, не мыслящий жизни без азартных игр и поединков на ножах». Также и другой автор в 1826 году саркастично заметил, что «гаучо — жители бесконечных равнин, называемых пампой, внешне выглядят прекрасной расой, но по сравнению с крестьянами Англии или Франции они не намного лучше, чем особый подвид кровожадных бабуинов»
[554].
Не менее нелестный портрет гаучо составил и Томас Хатчинсон, занимавший в 1860-х годах пост британского консула в Росарио. Он отметил, что движущей силой, смыслом существования и источником наслаждения настоящего гаучо являлись азартные игры. Согласно Хатчинсону, гаучо тратил жизнь на курение, потягивание мате, переезды из одной сельской лавки или пульперии в другую, чтобы напиться и поиграть в картишки. Ссоры за карточным столом частенько заканчивались трагично и в основном, как заметил британский консул, из-за того, что «гаучо полосовал кого-нибудь своим ножом по самым ничтожным поводам»
[555].

Рис. 3. Гаучо, 1915 г.
Судя по многочисленным свидетельствам очевидцев, подобные обвинения всё-таки имели под собой основу, а не являлись лишь традиционными морализаторскими сентенциями, типичными для британских пуритан. Так, Ричард А. Сеймур, североамериканский фермер, обосновавшийся в южной части Санта-Фе, лишился своих коней из-за банды индейцев, сопровождаемых переводчиком-гаучо. А в конце 1872 года Франциско Борхес докладывал военному министру Гайнца, что банда из «пятнадцати-двадцати индейцев и христиан, предположительно гаучо, крадёт коней в округе Рохас»
[556].
Кроме краж скота, азартных игр, игнорирования законов и пьянства в местных пивных — пульпериях, у гаучо, была ещё одна всеобъемлющая страсть — поединки на ножах. Учитывая неопределённость их происхождения, сложно с уверенностью проследить корни этой кровавой традиции. Но я бы всё-таки склонился к версии о её андалузском происхождении. И окружавшие эти дуэли ритуалы, и регулировавшие их кодексы чести, и используемое оружие — всё напоминает о старинных традициях Иберийского полуострова. В том, что традицию поединков на ножах жители пампы унаследовали именно от своих испанских предков, не сомневался и заклятый враг гаучо, президент Аргентины Доминго Фаустино Сармиенто, который писал: «Гаучо вооружены ножами, доставшимися им в наследство от испанцев. Это особенность Пиренейского полуострова, и характерный сарагосский клич «Guerra a cuchillo» более актуален здесь, чем в самой Испании»
[557].
Автор нескольких работ о культуре гаучо Хосе Карлос Депетрис считал, что демонстрация отваги в решении дел чести являлась важной частью мужской культуры на Рио-де-ла-Плата. Дуэли на холодном оружии, как культ мужества и как единственное средство для защиты репутации, играли важную роль с момента появления в этих местах первых европейцев. Депетрис также склонялся к версии об испанских корнях этой традиции. «Тогда в нашей культуре появился способ боя итальянцев юга и испанцев Андалусии с навахой в одной руке и накидкой в другой», — писал он
[558].
Первые упоминания о дуэлях гаучо мы встречаем в полицейских и судебных архивах XVIII столетия. Одно из первых свидетельств существования поединков на ножах мы находим в 1759 году в материалах уголовного дела уроженца города Лухана «гаудерио» Хуана Гонсалеса по прозвищу Барранко. Согласно полицейскому протоколу, задиристый Гонсалес, держа саблю в одной руке, нож в другой и обернув руку пончо, пытался вызвать на поединок местного алькальда
[559].
Но Барранко не был одинок. В середине XVIII столетия смертность в результате поединков на ножах была настолько высока, что это вызвало издание многочисленных постановлений, запрещавших ношение оружия. Так, например, указ губернатора Буэнос-Айреса Хосе де Андонаэки от 1753 года только за ношение ножа предусматривал наказание в 200 плетей
[560].
Уголовные архивы Аргентины изобилуют сотнями подобных инцидентов. Согласно данным архива главного управления полиции, конфликты с применением ножей, кинжалов и факонов были в провинции Буэнос-Айрес явлением совершенно заурядным и повседневным. Например, в отчётах полиции только лишь за период с 1831 по 1850 год я обнаружил сведения о 312 поножовщинах, большинство которых являлись дуэлями на ножах
[561]. Учитывая, что информация о подобных дуэлях доходила до властей крайне редко, а уж дела, доведённые до суда, являлись настоящим раритетом, можно только догадываться об истинных масштабах этой кровавой традиции. Пампа занимала огромные территории, и у полицейских отрядов, отправившихся арестовывать очередного бунтаря, дорога часто занимала дни и даже недели. Поэтому жители аргентинской пампы не особенно трепетали перед местной Фемидой и исповедовали принцип «закон тайга, а прокурор медведь». Да и традиционная клановая система гаучо не предполагала сотрудничества с властями.
Известный английский натуралист и путешественник, отец эволюционной теории и автор «Происхождения видов» Чарльз Роберт Дарвин во время своего судьбоносного путешествия на корабле «Бигль» летом 1833 года посетил и Рио-де-ла-Плата, где на протяжении нескольких месяцев имел возможность исследовать кое-какие характерные черты обитателей этих провинций. Так, в результате этих наблюдений Дарвин пришёл к убеждению, что гаучо стоят намного выше тех, кто живёт в городах. Они всегда были в высшей степени любезны, вежливы и приветливы, и ему ни разу не пришлось встретить среди них грубости или негостеприимства. Гаучо были скромны, но в то же время оставались живыми и бойкими. С другой стороны, Дарвин отмечал, что там часто случались грабежи и лилось много крови. Главная причина этого, с его точки зрения, заключалась в обыкновении гаучо постоянно носить с собой ножи.

Рис. 4. Шрамы от ножа на лице.
Рис. 5. Гаучо. 1868 г.
«Прискорбно слышать, — писал отец эволюционной теории, — сколько погибает жизней из-за пустячных ссор». По его свидетельству, в этих драках каждый из противников старался попасть другому в лицо и поранить ему нос или глаза, о чём нередко свидетельствовали глубокие, ужасные на вид шрамы. Дарвин считал, что всё это являлось естественным следствием повсеместных азартных игр, пьянства и непомерной лени. «В Мерседесе я спросил двух человек, почему они не работают. Один серьёзно ответил, что дни слишком длинны, а другой — что он слишком беден», — писал натуралист
[562].
Также он вспоминал, как однажды остановился на ночь в пульперии, т. е. в питейном заведении. Вечером туда пришла толпа гаучо пить водку и курить сигары. Дарвин отметил, что в основном все они были статными и красивыми, но с надменными и разбойничьими лицами, некоторые имели усы, а их чёрные длинные вьющиеся волосы падали на спину. «В своей яркой, красочной одежде, со звенящими на каблуках огромными шпорами, с ножами, заткнутыми за пояс наподобие кинжалов (и часто в таком качестве употребляемыми], они выглядят совсем не так, как можно было бы ожидать, судя по названию «гаучо», т. е. попросту крестьянин. Вежливость их не имеет границ, они никогда не выпьют водки, если вы наперёд не попробуете её, но даже когда они отвешивают свой чрезвычайно изящный поклон, вид их таков, будто они не прочь при первом удобном случае перерезать вам горло», — писал учёный
[563].
Возможно, великий натуралист был не так уж и далёк от истины, так как большинство поединков на ножах начиналось именно в питейных заведениях. В 1856 году некий аргентинский фермер даже предположил, что в пульпериях происходило 99 процентов всех убийств и ранений. Но мне думается, что он значительно преувеличил масштабы кабацких кровопролитий. Согласно данным полицейским протоколов, из упомянутых мной трёхсот двенадцати инцидентов с использованием ножей и кинжалов, только двадцать четыре произошли в пульпериях, что составляет менее десяти процентов. Могу только предположить, что эта низкая статистика обусловлена одним из дуэльных ритуалов гаучо, также доставшимся им в наследство от испанских предков, — не обнажать оружие в помещении и драться только на улице. Поэтому о количестве поединков, проходивших на улице рядом с пульпериями, нам остаётся только догадываться
[564].
Анализ судебных отчётов свидетельствует о том, что поединки на ножах в пограничье чаще всего случались при решении споров в вопросах мужской иерархии. Обычно конфликты разгорались в сельских лавках, где гаучо с разных ферм собирались пропустить стаканчик, поболтать и выяснить, кто из них настоящий мужик. Снова и снова неразборчивый почерк местного комисарио или судьи рассказывает нам простую историю гаучо, сражавшегося за то, что сегодня нам кажется совершенно тривиальным. Иногда эти дуэлянты были старыми врагами, а иногда были совершенно незнакомы и видели друг друга впервые. Обычно всё начиналось с того, что один из гаучо оскорбил другого, толкнул или обвинил в хвастовстве, после чего доставались ножи и начинался поединок. В пульпериях Аргентины, как и в питейных заведениях любой другой страны, алкоголь часто служил катализатором ссор, и страсти подогревались стаканчиком «агуардиенте». Убийства в пульпериях, как правило, происходили благодаря опасному сочетанию алкоголя, азартных игр и готовых к бою ножей. Перед началом игры гаучо по традиции втыкали свои ножи в барную стойку пульперии как знак доброй воли и символ миролюбивых намерений. Но это было достаточно условной мерой безопасности, так как взбешённый посетитель мог мгновенно схватить свой факон, намотать пончо на руку, как щит, и броситься в бой
[565].

Рис. 6. «После перикона» (популярный танец). Франциско Айерса, Эстанция Сан Хуан, 1891 г.
Шотландский бизнесмен и путешественник Александр Колдкли, побывавший в Аргентине в первой четверти XIX столетия, отмечал, что «бесчисленные кресты вокруг дверей пульперий напоминают о трагически закончившихся поединках»
[566]. На гравюре из моей коллекции изображена типичная провинциальная пульперия — покосившийся домишко с соломенной крышей, больше напоминающий украинскую хату-мазанку. Один из гаучо бренчит на гитаре, другие играют в карты на траве перед пульперией, а пара задир сошлась в поединке. В правой руке дуэлянты держат длинные ножи, вокруг левых намотаны пончо. Судя по костюмам, гравюру можно датировать началом-серединой XIX столетия.
Типичная провокация, инициировавшая поединок в пульперии, прекрасно описана в новелле Хорхе Луиса Борхеса «Юг». Главный герой этой новеллы Дальманн зашёл в пульперию перекусить и только сел за стол, как почувствовал, как что-то ударилось о его щеку. Рядом со стаканом на одной из полосок скатерти он заметил шарик из хлебного мякиша, который кто-то бросил на его стол. Соседи Дальманна за другим столом делали вид, что не имеют к этому отношения. Растерянный Дальманн также решил сделать вид, что ничего не случилось, и раскрыл томик «Тысячи и одной ночи», пытаясь отгородиться от действительности. Через несколько минут в него попал другой шарик, и на этот раз сидевшие за соседним столом пеоны расхохотались. Дальманн сказал себе, что не
боится, но было бы глупо дать втянуть себя в сомнительную драку. Он собрался уйти и уже поднялся на ноги, как подошел хозяин и встревоженным голосом принялся успокаивать его, чтобы он не обращал на перебравших парней внимания. Но Дальманн почувствовал, что примирительные слова хозяина только ухудшили дело. Он отстранил хозяина, повернулся к пеонам и спросил, что им нужно. Один из пеонов, пошатываясь, поднялся и, стоя в двух шагах от Дальманна, начал сыпать ругательствами. Дальманн заметил, что парень хотел казаться пьянее, чем на самом деле, и, как ему показалось, в этом крылись жестокость и насмешка. Пеон, не переставая сыпать ругательствами и оскорблениями, подбросил кверху длинный нож, поймал на лету и вызвал Дальманна на поединок. Хозяин дрожащим голосом сообщил ему, что Дальманн не вооружен. Но в этот момент дремавший в углу старый гаучо бросил ему под ноги кинжал. Дальманн счёл это знаком и решил принять вызов. Подняв кинжал, он прекрасно знал, что это обозначает точку невозврата и обязывает его драться. Хотя когда-то давно Дальманн, как и все его приятели, упражнялся с ножом, но его знания не шли дальше того, что удар следует наносить снизу вверх, а нож держать лезвием внутрь. Но, несмотря на это, он взял нож и вышел вслед за вызвавшим его парнем навстречу верной смерти
[567].
Кроме провокационного поведения для вызова на поединок использовались и особые ритуальные оскорбления — так называемые «дуэльные слова». Так, например, конфликт мог начаться с популярной «дуэльной» фразы «venga у permítame una palabra» — «выйдем на пару слов», после чего сразу доставались факоны. 20 февраля 1898 года именно с этой фразы в местечке Негро Муэрто началась креольская дуэль между Педро Вильегасом и бывшим алькальдом Эйсебио Герра. Согласно показаниям свидетелей, Вильегас приехал, спрятав нож под пончо. Находившиеся неподалёку односельчане, увидев, как он спешивается, предупредили Герру. Когда они встретились, Герра молча вышел противнику навстречу, уже зная, что вскоре должно произойти. После этого соперники урегулировали свои разногласия в поединке, и Вильегас был убит. Герре было предъявлено обвинение, но ему удалось доказать, что убийство произошло при самообороне, и дело было прекращено
[568].
Вне зависимости от того, в какую форму был облечён вызов на поединок, в основе большинства дуэлей лежала борьба за место в социальной иерархии, а также демонстрация мужества и бравады. Многие из гаучо воспринимали поединки на ножах как некий кровавый вид спорта, проверку чужой ловкости и умения и демонстрацию собственной удали. Президент Аргентины Доминго Фаустино Сармиенто как-то сказал о гаучо, что «для них бой на ножах такая же забава, как, например, игра в кости»
[569].
Иллюстрацией к подобной проверке искусности соперника служит сцена из рассказа Борхеса «Мужчина из Розового кафе», когда поножовщик по прозвищу Резатель прибыл в пульперию, в которой находился известный боец на ножах Хуарес: «Я — Франсиско Реаль, пришел с Севера. Я — Франсиско Реаль по прозвищу Резатель. Мне не до этих заморышей, задиравших меня, — мне надо найти мужчину. Ходят слухи, что в ваших краях есть отважный боец на ножах, душегуб, и зовут его люди Грешник. Я хочу повстречаться с ним да попросить показать мне, безрукому, что такое смельчак и мастер». Так он сказал, не спуская глаз с Росендо Хуареса. Теперь в его правой руке сверкал большой нож, который он, наверное, хоронил в рукаве. Те, кто гнал его, отступили и стали вокруг, и все мы глядели в полном молчании на них обоих».
Как мы видим из этого отрывка, Реаль и Хуарес до этого момента не были знакомы, никогда не встречались, между ними не существовало вражды, и единственным поводом для вызова на поединок послужил кураж Резателя и его желание убедиться, насколько же хорош Хуарес в бою. В данном случае вызов на бой был отвергнут, что, согласно кодексу чести, оставляло несмываемый след на репутации гаучо. Вся жизнь мужчин пампы была жёстко ритуализована, и безжалостный древний кастильский кодекс чести довлел над жизнью каждого гаудерио как дамоклов меч.
«Луханера зло на него поглядела, тряхнула косами и двинулась сквозь толпу девушек и посетителей; она шла к своему мужчине, она сунула руку ему за пазуху и, вынув нож, подала ему со словами: «Росендо, я верю, ты живо его усмиришь». Под потолком вместо оконца была широкая длинная щель, глядевшая прямо на реку. В обе руки принял Росендо нож и оглядел его, словно не узнал. Вдруг распрямился, подался назад, и нож вылетел в щель наружу и затерялся в реке Мальдонада. Меня точно холодной водой окатили. «Мне противно тебя потрошить», — сказал Резатель и замахнулся, чтобы ударить Росендо. Но Луханера его удержала, закинула руки ему на шею, глянула на него своими колдовскими глазами и с гневом сказала: «Оставь ты его, он не мужчина, он нас всех обманывал»
[570].
Как на самом деле звали ветренную возлюбленную Росендо доподлинно неизвестно, так как Луханера (la Lujanera) это не имя девушки, а обозначение уроженки города Лухан в провинции Буэнос-Айрес.
Ещё одной из форм вызова для демонстрации удали и куража была популярная у бретёров пампы «дуэльная» формула: «Ты считаешь, что можешь убить мужика? Тогда убей меня и докажи, что имеешь право называть себя убийцей!»
[571].
Говоря о ритуалах, нельзя не упомянуть и традиционный напиток пампы, мате — такой же привычный элемент образа гаучо, как пончо, нож-факон, лассо или болас. Тщательно разработанные обряды окружали как сам этот напиток, так и способы его приготовления. Так, например, согласно народной традиции, метафорический язык мате, как и язык цветов в Испании, мог передавать множество сообщений.
Горький мате демонстрировал безразличие, а сладкий — дружбу, мате с мятным бальзамом символизировал недовольство, мате с корицей — «Я думаю о тебе», мате с коричневым сахаром значил родство, мате с апельсиновой цедрой — «Приди и найди меня», мате с монардой означал «Твоя печаль ранит меня», мате с молоком символизировал уважение, мате с кофе — обида забыта
[572].
Дуэль могла быть как спонтанной, так и заранее согласованной, а основными поводами для неё, как уже говорилось, был алкоголь, старая обида, лишнее слово. И естественно, как и везде, немало дуэлей в пампе происходило из-за женщин. Так как мужчины часто отсутствовали дома: на два-три дня для участия в скачках, на несколько недель — отогнать стадо на рынок, на несколько месяцев или даже лет — для участия в войне или революции, то женщины нередко были вынуждены заботиться о себе сами. Если они обращались к другому мужчине за помощью и утешением или просто, как это часто случалось, для того, чтобы выжить, муж считал, что из соображений чести по возвращении он обязан сражаться с соперником
[573].
В поединках гаучо, как и в формальных дуэлях, правила исключали вмешательство третьих лиц. Дуэльный кодекс допускал подобное вмешательство друзей или зрителей лишь в исключительных случаях. Рассказывали, что как-то раз спорный результат скачек вынудил Ангело Мунизе, занимавшего в 1860-1870-х годах должность каудильо местечка Серро Ларго, скрестить ножи с другом. Они искали укромное место, чтобы приготовиться к схватке, избежав внимания зевак и доброхотов. «Снимай шпоры, Ангелито, — заботливо сказал каудильо зачинщик. — Я боюсь, что ты можешь споткнуться». Но в конце концов товарищи обнаружили их местонахождение и растащили, прежде чем пролилась кровь
[574].
Немало дуэлей начиналось и за карточными столами. Самой популярной карточной игрой пампы и главным поводом для конфликтов за зелёным сукном, несомненно, была «truco». В неё играли традиционной испанской колодой из сорока карт, и игра сопровождалась хитроумными условными знаками, застольными беседами и словесными пикировками, что часто приводило к кровавой развязке
[575].

Рис. 7. Гаучо пьющий мате, 1950 г.
Хрестоматийную ссору за карточным столом, послужившую причиной драматического поединка на ножах, описал Борхес в своей «Встрече». За карточным столом сцепились два приятеля, Дункан и Уриарте. Уриарте обвинял Дункана в шулерстве и осыпал оскорблениями. В конце концов Дункану надоело выслушивать нелестные эпитеты, и он ударил Уриарте. Поднявшись с пола, тот заявил, что не спустит ему этого, и вызвал обидчика на дуэль. За оружием далеко ходить не пришлось, так как у хозяина дома в шкафу хранилась целая коллекция ножей. Уриарте взял себе клинок поэффектнее и подлиннее, с полукруглой крестовиной, а Дункан — нож с деревянной ручкой и клеймом в виде кустика на лезвии. Кто-то из присутствующих напомнил им, что дуэльная традиция требует уважения к хозяевам дома, и оба вышли во двор. Сначала они двигались неуклюже, как будто боялись пораниться, и каждый смотрел на клинок другого, а потом уже только в глаза. Вместо пончо, которыми защищаются в таких случаях, они подставляли под удары локти. Вскоре исполрсованные рукава потемнели от крови. Как заметили все присутствующие, оба явно не были новичками в подобном фехтовании. Оружие было слишком неравным, поэтому, чтобы сократить разрыв, Дункан старался подойти ближе. Уриарте отступал, нанося длинные удары снизу. В какой-то момент Уриарте попятился. Дункан атаковал. Тела их почти соприкасались. Нож Уриарте тянулся к лицу Дункана, вдруг, словно укоротившись, вошел ему в грудь, и Дункан был убит
[576].
Существовали и значительно более экзотические и необычные причины для дуэлей. Некоторые исследователи даже полагали, что определённую долю ответственности за кровавые поединки несут и климатические изменения. Английский дипломат, путешественник и учёный Вудбайн Пэриш в своей работе «Buenos Ayres and the provinces of the Rio de la Plata» был склонен обвинять во всём ветер. В 1839 году он писал, что, хотя в Аргентине нет ни малярии, типичной для средиземноморских побережий, не печально известного левантийского сирокко, зато это с лихвой компенсируется «viento norte» — северным ветром Буэнос-Айреса, вызывавшим у некоторых не только раздражительность и недомогания, но и ухудшение их моральных качеств. Совершенно типичным было видеть, как мужчины из высшего общества с приходом этого ветра запирались в своих домах и откладывали в сторону все дела до тех пор, пока всё не закончится. А полиции был прекрасно известен тот факт, что у низших классов во время северного ветра ссоры и кровопролития происходили значительно чаще, чем в любое другое время.
В качестве иллюстрации Пэриш приводит очень показательный пример, о котором ему рассказал один из самых известных врачей в стране, более тридцати лет исследовавший влияние этого ветра на человеческий организм. Этот доктор поведал ему историю, как некий мужчина по имени Гарсиа был казнён за убийство. Он был человеком достаточно образованным, и знавшие Гарсиа люди уважали его за любезность и хорошие манеры. Лицо его было открытым и красивым, а характер — искренним и великодушным. Но когда начинал дуть северный ветер, он полностью терял над собой контроль и становился настолько раздражительным, что в течение всего этого времени он не мог заговорить с кем-либо на улице без того, чтобы не затеять ссору. В беседе с врачом, которая состоялась за несколько часов до его казни, он признался, что это было уже третье убийство, произошедшее по его вине, и что кроме этого, он участвовал в более чем двадцати поединках на ножах, в которых и сам получал ранения, и наносил их другим. Но при этом Гарсиа утверждал, что главным виновником кровопролития был не он, а северный ветер. По его словам, уже поднимаясь утром с постели, он сразу же ощущал его проклятое влияние — сначала тупую головную боль, а затем раздражение от всего, что его окружало, по самым банальным поводам, включая членов его собственной семьи
[577].
Ну и, конечно же, после того как появлялся повод для дуэли, было необходимо отправить противнику выхов. Типичный для аргентинской дуэльной культуры ритуал вызова на поединок был связан со вторым после ножа сакральным для гаучо предметом — его пончо. В 2005 году, после выхода английского издания легендарного испанского пособия по владению навахой 1849 года, известного как «Manual del Baratero», горячие баталии и дебаты среди поклонников боевых искусств вызвала одна из рекомендаций «Мануала». Автор этой работы советовал дуэлянтам спустить на землю край широкого испанского «фаха» с тем, чтобы, когда противник наступит на пояс, рывком вывести его из равновесия. Современные так называемые «эксперты» утверждали, что автор пособия смешон в своих абсурдных рекомендациях, обвиняли его в беспочвенных фантазиях и упрекали в отсутствии знаний о реалиях поединков на ножах
[578].
Но всё далеко не так однозначно. В изданном в 1872 году легендарном стихотворном эпосе аргентинского поэта Хосе Эрнандеса «Гаучо Мартин Фьерро», в описании одной из многочисленных дуэлей героя поэмы, мы встречаем трюк, подобный тому, что был описан в «Manual del Baratero»:
«Mefui reculando enfalsoy el poncho adelante eché,
у en cuanto le puso el pie uno medio chapetón,
de pronto le di un tirony de espaldas lo largue»[579].
В 1972 году Михаил Донской перевёл это так:
«Малость отступив для вида, пончо я с руки сронил,
Только на него ступил новичок в задоре пылком,
Дёрнул я что было сил, он и грохнулся затылком»[580].
Также и в «Толковом словаре региона Рио-де-ла-Плата», изданном в 1890 году, мы находим следующее определение: «Волочить пончо — вызвать на дуэль. Гаучо, собирающийся начать поединок, волочёт по земле пончо, провоцируя противника, чтобы тот наступил на него. Принявший вызов наступает на пончо, после чего оба становятся в стойку, и начинается дуэль на ножах или на кинжалах. Наступить на пончо — принять вызов»
[581].
Таким образом, расстеленный на земле край пояса или пончо являлся не чем иным, как частью традиционного дуэльного ритуала. Как следует из этого описания, иногда бывалые и искусные бойцы пользовались тем, что неопытный противник, приняв вызов, спешил наступить на край пончо, и рывком выводили его из равновесия. Отец Эрнандеса был управляющим нескольких ранчо, и детство автора «Мартина Фьерро» прошло на ферме среди гаучо, поэтому их жизнь, быт и традиции он знал не понаслышке.
Об использовании спущенного на землю края пончо в качестве провокации и вызова на поединок писал и известный аргентинский исследователь культуры гаучо, автор нескольких монографий о традициях Рио-де-ла-Плата Марио Лопес Осорнио. Он упоминал бытовавшее среди гаучо идиоматическое выражение «Tender el poncho para que lo pisen», что дословно переводится как «Свесить пончо, чтобы на него наступили». Однако чаще это выражение использовалось как метафора в значении «заманить в ловушку». Это означало, что если человек, незнакомый с дуэльным ритуалом, по незнанию наступал на пончо, то пути назад у него уже не было — это считалось принятием вызова и точкой невозврата. Если же при этом мужчина отказывался от участия в поединке, то, согласно всё тому же кодексу чести, хотя он и сохранял лицо в буквальном смысле, но «терял» его фигурально, вместе с репутацией
[582]. Другая местная идиома «А mí nadie me pisa el poncho» — «Никто не наступит на моё пончо» также имела два толкования и чаще трактовалась как «Я никого не боюсь, не принимаю вызовы на дуэль и не отвечаю на них
[583].

Рис. 8. Уловка с пончо. Энрике Кастельс Капурро (1913–1987).
Пончо, как и нож, являлось необходимой частью обихода гаучо. Родина этой накидки точно неизвестна, хотя предположительно она имеет индейское происхождение. Надо отметить, что до XIX века в документах и библиографии Южной Америки мы не встречаем о ней никаких упоминаний. Первые свидетельства о бытовании пончо датируются 1810 годом и отмечается, что оно использовалось в драгунских полках национальной армии
[584].
Как известно, пончо представляет собой изделие из шерсти, прямоугольной или квадратной формы, обшитое бахромой с двух или четырех сторон, с отверстием для головы и лежит на плечах, закрывая тело свободно ниспадающими складками. Пончо служило индейцам и гаучо плащом и одеялом, защитой от сильных холодов и проливных дождей пампы. Кроме этого, они использовали его в качестве постельного белья и покрывала во время сна, а также расстилали на земле в виде коврика во время карточных игр в открытом поле. Лошадей гаучо привязывали к кустарнику и с помощью пончо сооружали импровизированный стол прямо на земле. Случалось, что в бою пончо служило в качестве флага или штандарта. Известно, что пончо генерала Росаса было красного, а Хуана Лавайе — небесного цвета
[585].
Существовало несколько видов пончо. Так, стоит упомянуть традиционное для провинции Буэнос-Айрес кожаное пончо, которое изготавливалось из кожи жеребёнка; пончо из овечьей шерсти, принесённое в Буэнос-Айрес индейцами аймара и араукана; пончо из грубой тонкой ткани, преимущественно красного цвета; пончо из толстой ткани голубого цвета, которое носили солдаты национальной гвардии; любимое индейцами пончо из обычной шерсти, чьей родиной являлось Западное Чако, и дорогое пончо из вигоневой шерсти. Среди всего этого разнообразия встречались и некоторые другие типы пончо креольского происхождения, напоминавшие широкий теплый шарф, которые скорее являлись декоративным аксессуаром. Известно, что хотя на примитивных ткацких станках пампы использовалась только шерсть овцы и ламы гуанако, но в ходу были накидки и другого происхождения, как, например, импортированные пончо английского производства из полосатой фланели или пончо из вигоневой шерсти и шерсти альпака, популярные на северо-востоке Аргентины. Особенно популярны были вигоневые, доступные только людям с достатком. Общеизвестна изящность этих пончо — некоторые из них едва весили 280 граммов.
Пончо служили гаучо не только верхней одеждой, но и щитом в бою, и, как ни парадоксально это звучит, это изделие также выполняло и роль оружия, способного изменить ход поединка. Так, например, подобную технику можно увидеть в фильме «Los Gauchos judíos», вышедшем на экраны в 1974 году. В одном из эпизодов этого фильма, во время поединка на ножах, один из дуэлянтов откладывает в сторону факон, и избивает своего вооружённого ножом противника свёрнутым пончо. Перед схваткой гаучо два или три раза оборачивали пончо вокруг левого предплечья и выставляли согнутую в локте руку перед грудью примерно на высоте подбородка. Остальная часть пончо свободно ниспадала вдоль тела, что, во-первых, служило дополнительной защитой от ударов ножа, а во-вторых, позволяло наносить свободным концом пончо хлещущие удары, отвлекающие внимание противника. Кроме этого, с помощью свисающей части пончо отражались удары, направленные в нижнюю часть тела, особенно по ногам, а в складках накидки можно было запутать нож соперника. Ну и, как уже говорилось выше, пончо служило для провоцирования противника на поединок, о чём упоминал Рикардо Гиральдес в «Доне Сегундо Сомбра» и многие другие авторы
[586].

Рис. 9. Креольская дуэль. Около 1912 г.
Осорнио вспоминал, что как-то ему довелось видеть пончо, побывавшее во многих сражениях и носившее на себе следы более восьмидесяти порезов от ножа. И хотя некоторые из этих ударов достигли цели, тем не менее эта накидка несомненно доказала свою эффективность в бою. Занятную историю, доказывающую целесообразность использования пончо в поединке, Осорнио записал со слов дона Бернардино Ледесма, девяностолетнего старика, родившегося и прожившего всю жизнь в округе Часкомус. Ледесма рассказал, что в юности знавал односельчанина по имени Фернандо Луна, человека справедливого и хладнокровного, который был способен противостоять любому профессиональному бойцу на ножах, хотя сам при этом таковым не являлся.
Старик вспоминал, как однажды безоружный Луна на его глазах вступил в неравный бой с двумя вооружёнными противниками и, пока не прибыла полиция и не остановила драку, защищался от их ножей только с помощью пончо. Для этого он взял свёрнутое пончо обеими руками за концы на расстоянии, примерно равном ширине тела, и, держа его перед собой, как натянутый канат, парировал удары противников, поднимая и опуская то одну руку, то другую, то обе одновременно. Эта тактика, сопровождаемая быстрыми отскоками, оказалась успешной и помогла ему избежать ранений
[587].
Пончо было настолько популярно в Аргентине, что даже охота на хищников не обходилась в этой стране без столь дорогой сердцу гаучо накидки. Чарльз Стюарт Кокрэйн, побывавший на Рио-де-ла-Плата, в 1825 году описывал типичный способ охоты на пуму в окрестностях Буэнос-Айреса, когда охотник пускался на поиски зверя в одиночку, вооружённый только ножом и с накидкой, намотанной на левую руку. Специально обученные собаки поднимали пуму, в то время как охотник выжидал броска зверя и встречал его выставленным предплечьем, надёжно защищённым намотанным в несколько слоёв пончо. В тот же момент правой рукой он вспарывал зверю брюхо своим «кучийо» — традиционным местным ножом
[588].

Рис. 10. Дуэль. Постановочная фотография нач. XX в.
Как и все люди, выросшие на фермах и регулярно занимавшиеся забоем скота, гаучо хладнокровно и безучастно относились к виду крови, ранениям и смерти. Джон Частин писал, что в те годы все мужчины фронтира имели дело в прямом смысле с «кровью и кишками», просто как с жизненными реалиями. Плотоядная диета выработала у гаучо пограничья привычку к забою скота, и благодаря этому жестокому обычаю они привыкли к зрелищу крови и стали нечувствительны к страданиям. На эти мысли наводят и обугленные клейма на скоте, которые для лучшей видимости делали огромного размера, и шпоры — особенно розетки из длинных стальных шипов, называемые «nazarenas», которые обильно покрывали лошадиные бока кровью. Если телёнок коровы, предназначенной к откармливанию на убой, не хотел выпускать вымя, гаучо просто отрезали вымя.
Эта жестокость культивировалась у мальчишек пампы с раннего детства. Некий английский путешественник вспоминал, как в Северном Уругвае он как-то раз сделал замечание двум мальчикам, намеревавшимся перерезать глотку псу, а в ответ услышал недружелюбный совет, чтобы не лез не в своё дело, так как это их пёс. Каждые несколько дней и даже чаще, как только в семье появлялись голодные рты, мальчики с фермы шли смотреть, как один из мужчин забивает старую или ослабленную скотину, перерезая ей глотку и подвешивая вверх ногами, чтобы из медленно умирающего животного быстрее вытекала кровь. Разве клерк или грузчик из Монтевидео, каменщик или лавочник из Порто Аллегре могли проливать кровь с такой же невозмутимостью и самообладанием, как человек, привычно делавший это сотни раз
[589]? Спать на земле, положив под голову седло, они привыкли, рукам, запросто валившим быка, не составляло труда уложить человека. Не обладая воображением, гаучо не чувствовали ни жалости, ни страха
[590].
Раз уж речь зашла о перерезании глотки, уместно будет вспомнить отрывок из известной новеллы Борхеса «Другой поединок», где в 1871 году подобным способом казнят двух пленных гаучо из Серро-Ларго — Кардосо и Сильвейру, воевавших на стороне мятежного Апарисио. Капитан Хуан Патрисио Нолан, который захватил их в плен, прослышав, что эти двое не ладили и всю жизнь во всём соперничали, решил напоследок устроить из их смерти шоу. Приказав отыскать пленников, он сообщил, что даст им возможность доказать, кто из них лучший. По задумке капитана несчастным должны были перерезать глотки и пустить бежать наперегонки. Сержант провел саблей черту поперек дороги. Сильвейру и Кардосо развязали, чтобы это не мешало им бежать. Оба встали у черты в пяти шагах друг от друга. Офицеры призывали их не подвести, говоря, что на каждого надеются и поставили кучу денег. Сильвейре выпало иметь дело с цветным по имени Нолан. Видимо, его предки были рабами в поместье капитана и потому носили его фамилию. Кардосо достался профессионал, старик из Коррьентеса, имевший обыкновение подбадривать осужденных, трепля их по плечу и приговаривая: «Ну-ну, парень, женщины и не такое терпят, а рожают». Подавшись вперед, измученные ожиданием гаучо не смотрели друг на друга. Нолан дал знак начинать.

Рис. 11. Клеймение скота.
Цветной, гордясь порученной ролью, с маху развалил горло от уха до уха, а коррьентинец обошелся узким надрезом. Из глоток хлынула кровь. Соперники сделали несколько шагов и рухнули ничком. Падая, Кардосо вытянул вперёд руки. Так, вероятно, и не узнав об этом, он выиграл
[591]. Судя по всему, подобная участь постигла и других пленных, так как между ними происходили следующие диалоги:
«— Скоро и меня прирежут, — с завистью вздохнул один.
— Да еще как, со всем гуртом вместе, — подхватил сосед.
— А то тебя по-другому, — огрызнулся первый»[592].
Я привёл этот отрывок не в качестве демонстрации проявлений жестокости, типичной для всех войн, а как иллюстрацию к одному из распространённых в Аргентине и популярных среди гаучо латиноамериканских обычаев, известному как «дегойо», «дэгэйо» или попросту перерезание глотки. Термин этот произошёл от испанского «Degüello» — обезглавливание или резня. Ещё во времена Реконкисты в войнах против мавров «Дэгейо!» был боевым кличем испанцев, означавшим, что враги будут вырезаны без жалости.
«Поскольку им так часто приходилось перерезать глотки животным, мужчины фронтира с не меньшей сноровкой убивали друг друга с помощью degola — в испанском degüello. Этот одиночный мощный разрез от уха до уха представлял обычный вид казни, применявшийся при недостатке боеприпасов в войнах гаучо», — писал Частив
[593].
Во время осады техасского форта Аламо, при которой погиб Джеймс Боуи, с древним боевым кличем испанцев «Degüello!» шли в атаку регулярные мексиканские войска. А одна из самых массовых и жестоких казней с помощью «degüello» произошла в 1835 году в правление режима генерала Росаса. В тот год федеральные войска, отправившиеся в карательную экспедицию против племени каньюкил, захватили в плен сто десять индейцев — мужчин, женщин и детей. Их привезли в столицу, где заставили дефилировать по улицам с патриотическими лозунгами в руках. После этого ничего не подозревающих людей перевезли из Ретиро на арену для боя быков (сегодня это площадь Святого Мартина), поставили на середину площади, и, прежде чем индейцы поняли, что происходит, эскадрон полковника Маса открыл по ним огонь на поражение. Так как многие несчастные пережили этот залп, солдаты достали ножи и занялись «degüello» — глотки перерезали всем без исключения, включая женщин и детей. Развесив обезглавленные тела на столбах и деревьях, солдаты направились в таверну, захватив с собой части тел убитых в качестве сувениров
[594]. Кстати, генерал Росас собственноручно разработал ножи с изогнутым клинком, похожие на маленькие скимитары и специально предназначенные для обезглавливания. Эти кривые ножи служили отличительным знаком мазоркерос — членов военизированной организации «Мазорка», состоящей из преданных сторонников Росаса
[595].
Так как с помощью «дэгейо» нередко добивали раненых, избавляя их от мучений, то для перерезания глотки существовало и другое жаргонное название, — «hacer la obra santa» («сделать святое дело»). Типично испанская патетическая метафора и аллюзия на традиционный добивающий удар «мизе-рикордии», — кинжала «милосердия».
Маленькие гаучо с раннего детства не только привыкали к виду крови на бойнях и закалялись, перерезая глотки телятам и собакам, но и совершенствовались в искусстве владения ножом. Если в нежном возрасте это помогало им в борьбе за место в мальчишеской иерархии, то позже нередко спасало жизнь. Дети пампы на фермах-эстанциях посвящали немало времени «вистео» — особой игре, развивавшей все необходимые навыки, которые могли пригодиться в поединках на ножах. Слово «вистео» происходит от испанского «вистеар» или «вистеарсе» и означает «тренировочное фехтование». Так называемое «креольское фехтование», которое использовалось в традиционных ножевых дуэлях гаучо, не являлось в общепринятом смысле кодифицированным искусством, как, например, то, что преподавали в европейских фехтовальных школах, а было скорее инстинктивным и развитым игрой «вистео», уникальным умением парировать атаки или избегать ранений, уклоняясь от клинка.
Хотя «вистео» было детской игрой, но практиковалось при каждом удобном случае и в зрелом возрасте. Эта игра готовила к поединкам на ножах — она развивала быстроту глаза, умение предугадывать направление удара противника и учила искусно уклоняться от атак. В «вистео» вместо ножей использовались короткие палочки, пустые ножны, а иногда и палец, измазанный сажей со дна котелка. Главной целью в этой игре, как и в обычном поединке на ножах, было оставить отметину, и желательно на лице противника. Джон Частин вспоминал, что мальчишки фронтира проводили поединки, измазав копотью указательный палец, чтобы отмечать на противнике символические ранения. А в 1880-1890-х годах некий гаучо для обучения своих сыновей ножевому бою, использовал части бочарных клёпок. Частин писал, что иногда в этих тренировочных боях использовались реальные клинки, и тогда игра могла выйти из-под контроля
[596]. Ричард Слатта отмечал, что дети, росшие в пампе в окружении повседневной опасности, копировали поведение взрослых, как и любые другие дети повсюду в мире. А Фрэнсис Хэд наблюдал, как мальчики на эстанциях фехтовали на ножах и набрасывали лассо на птиц и собак
[597].

Рис. 12. Мазоркерос режут горло оппозиционерам. Los martires de Buenos Aires, Manuel M. Nieves, 1857 r.
Хосе Карлос Депетрис использовал для обозначения этих условных символических поединков выражение «puro floreo». В своих воспоминаниях о детстве, проведённом в 60-х годах в местечке Санта-Роза, он описывал, как стал очевидцем дружеской тренировочной «вистеады», проходившей в «canchita de los malandras» — одном из внутренних двориков
[598]. Среди этих «puro floreo», символических бескровных дуэлей, особое место занимает легендарная «payada», или «пайада». На самом деле на диалекте Рио-де-ла-Плата «риоплатенсе», или «портеньо», «пайада» скорее произносится как «пашада», но я буду придерживаться правил традиционного кастильского испанского. «Пайада» происходит от аргентинского «пайа» — музыкально-поэтической импровизации, исполнявшейся под гитару — искусства, широко распространённого в странах Южной Америки и ставшего частью латиноамериканской культуры. В пайаде певец-пайадор импровизирует в рифму в сопровождении гитары
[599]. Когда пайада ведётся дуэтом, то это называется контрапунктом и принимает форму ритуализованного словесного поединка, в котором каждый из пайадоров должен ответить на стихотворные вопросы своего оппонента, сопровождаемые гитарными аккордами, а потом задавать собственные. Пайады длились от нескольких часов до нескольких дней и заканчивались, когда один из исполнителей не мог или не хотел ответить на вопрос соперника
[600].
Основоположником этого направления в регионе Рио-де-ла-Плата и первым поэтом-гаучо считается родившийся в Монтевидео в 1788 году Бартоломе Идальго. Его день рождения, 24 августа, в Уругвае отмечается как День пайадора. Пайада сродни таким поэтическим состязаниям, как версоларизмо басков, андалузская «трово» или игра в «дюжину», популярная среди чёрных подростков в США. Вероятно, именно благодаря старинной традиции пайады рэп и стал так популярен в Аргентине и других странах Латинской Америки.
Но далеко не всегда в «вистео» использовалось лишь такое безобидное оружие, как щепочки, бочарные клёпки или смазанные сажей пальцы. Выросший в провинции Буэнос-Айрес натуралист, орнитолог и писатель Уильям Генри Хадсон в изданной в 1918 году автобиографической книге «Far Away and Long Ago: a history of my early life» вспоминал, как в вистео совершенствовался его старший брат. Кумиром брата был гаучо по имени Джек — прославленный в этих местах бретёр и боец на ножах. Хадсон описывал, как его брат, чтобы научиться искусству самозащиты с ножом, часто отправлялся на плантацию и в течение часа упражнялся на дереве, выбранном в качестве противника, пытаясь овладеть искусством импровизации Джека в кружении вокруг противника и нанесении его смертельных ударов. Но поскольку дерево не двигалось и у него не было ножа, чтобы отвечать на атаки, брата это не удовлетворяло. И в один прекрасный день, он предложил Хадсону и их младшему брату подраться на ножах, чтобы понять, насколько он продвинулся в своих тренировках.
Он отвёл братьев на дальний конец плантации, где бы их никто не увидел, принёс три очень больших мясницких ножа и попросил нападать на него изо всех сил и стараться его ранить. Он же при этом обещал только защищаться.
Сначала ребята отказались, опасаясь, что их просто порежут на куски. Но в конце концов ему удалось убедить братьев. Все сняли куртки и для защиты намотали их в стиле гаучо на левую руку. Хадсон вспоминал, как, волнуясь, они атаковали его этими огромными ножами со всей силы, а он танцевал и прыгал, используя свой нож только для защиты и чтобы выбить оружие из рук братьев. Но во время одной из таких попыток разоружить их он зашёл слишком далеко и ранил Хадсона в правую руку на три сантиметра ниже плеча. Брызнула кровь, и бой на этом закончился
[601].
Подобный тип «вистео» описывал и Осорнио. В своей прославленной работе «Esgrima criolla» — «Креольское фехтование» он приводит историю старика-негра, жившего на ранчо в глубинке, на берегу реки Самборомбон. У него не было имущества, чтобы передать близким друзьям и крестнику, и он решил оставить ему в наследство свое умение драться на ножах. Это было единственное и, без сомнения, лучшее из всего, что было у старика в жизни, а именно — необычайная искусность во владении ножом. Нож являлся орудием высшей справедливости для бедняков, особенно для таких обездоленных, как он. Поэтому старик решил преподать крестнику уроки эсгрима криолла. Начали они с деревянных ножей, как начинали многие прославленные аргентинские поножовщики, такие как Сантос Вега, а закончили отточенными клинками — теми же, которыми они пользовались для работ по хозяйству и с гордостью носили за поясом по воскресеньям.
Для начала они очертили площадку — чёткие линии на земле определили границы места поединка, и, после того как крестник научился правильно держать нож в схватке, старик начал обучать его «ла куэрпеада». Под этим подразумевалось умение уклоняться от клинка противника, не отступая и не отворачиваясь, в результате чего удары рассекали только воздух. В один прекрасный день после нескольких месяцев тренировок старик поставил крестника с ножом в руке спиной к кухонной двери ранчо и набросился на него, нанося удары со всей силы, но единственным результатом были искры, высекаемые клинками. Наконец крестнику удалось нанести старому бойцу плашмя удар клинком ножа. Довольный старик провозгласил ученика настоящим мужчиной, готовым к ожидающим его в мире опасностям и способным защитить себя от любых неприятностей
[602].
Однако, встречались значительно более кровавые и драматичные тренировочные «вистео». Так некий джентльмен, Уильям Морли, посетивший Буэнос Айрес в середине 1820х, вспоминал:
«Этот варварский обычай поединков на ножах, распространённый среди жителей Южной Америки, является поистине ужасным зрелищем для очевидца, не привыкшего наблюдать за подобными смертоносными схватками. Однажды мне довелось увидеть, как двое юношей вели явно шуточный поединок. Неожиданно, один из них сделал неверный шаг, поскользнулся и упал навзничь. Его противник мгновенно бросился на упавшего, и пронзил его ножом. Несчастный скончался на месте. Даже маленькие дети совершенствовались в этом ужасном умении — в одной большой семье, где я провёл немало времени, две маленькие девочки собрались драться на длинных ножах. Неожиданно, младшая из них ударила свою соперницу ножом в правый глаз, вследствие чего, он ослеп. Как-то раз, наблюдая за поединком двух мужчин, я увидел, как в какой-то момент один из них попытался остановить удар ножа своего противника. Однако, удар, пришедшийся в кисть руки, был нанесён с такой силой, что оружие перерубило все сухожилия и полностью вывело руку из строя, лишив раненого всякой надежды»
[603].

Рис. 13. Гаучо Мартин Фьерро и пайадор, 1897 г.

Рис. 14. Доминго Фаустино Сармиенто в сражении при Касерос, провинция Санта Фе, 1852 г.
Упомянутая Осорнио «куэрпеада», что переводится как «увиливание» или «уклонение», являлась основой основ ножевого искусства гаучо и представляла собой умение уворачиваться от ударов ножа, не сходя при этом с места. Учитывая, что по размеру и весу ножи, используемые гаучо в поединках, часто приближались к коротким мечам, или тесакам, этот навык стоял далеко не на последнем месте.
Как уже упоминалось, в поединках гаучо стремились не убить противника, а лишь оставить отметину, заметный шрам на лице, что для этих пастухов являлось некой формой клеймения или личного тавро, которыми они привыкли метить свой скот. Да и судебное преследование в подобных случаях было маловероятно, что также являлось немаловажным фактором. В отличие от итальянцев или немецких студентов-буршей, гордо носивших шрамы на лице как символ личного мужества, в культуре Рио-де-ла-Плата подобные отметины считались лишь демонстрацией неумелости бойца. Сармиенто в своей работе «Facundo: 6, Civilización i barbarie en las pampas arjentinas», посвящённой жизнеописанию известного аргентинского военного и политического деятеля Хуана Факундо Кироги, приводит любопытный случай. В одном из сражений с отрядом дона Мигеля Давилы тот клинком нанёс Кироге ранение в бедро. Кирога, как настоящий гаучо, всю жизнь скрывал этот позорный факт. Сармиенто писал об этом эпизоде: «Солдат с радостью демонстрирует свои шрамы, гаучо же, если они нанесены клинком, прячет и скрывает их, так как они служат свидетельством его неопытности, и Факундо, верный этому кодексу чести, никому не рассказывал о случившемся»
[604].
Так, именно из-за распространённого убеждения, что порез лица является унизительным ранением, легендарный гаучо Мартин Фьерро, чтобы сохранить репутацию, был вынужден заколоть своего противника. Но чаще убийства в поединках случались по совершенно банальным и нелепым причинам: съехала рука или противник споткнулся и сам напоролся на клинок. Порой убийство происходило, когда ситуация выходила из-под контроля под влиянием алкоголя, эмоций или и того и другого. В культуре гаучо Рио-де-ла-Плата, как и в большинстве ножевых культур, смерть в поединке считалась не преступлением, а «десграсиа» — невезением, досадным недоразумением и неудачным стечением обстоятельств. Но всё же иногда убийства совершались не под воздействием паров алкоголя и не под влиянием сиюминутных страстей и эмоций, а холодно, обдуманно и расчётливо.

Рис. 15. Доминго Фаустино Сармиенто (1811–1888).
Именно так и убивал Джек, отписанный Хадсоном в автобиографической повести. Джек не был местным и не был креолом, а гаучо славились своей ксенофобией, особенно когда речь шла о «гринго». Поэтому, несмотря на то что Джек так же твёрдо сидел в седле и ловко управлялся с лассо, как и гаучо-креолы, так же пил в пульперии, одевался как они и говорил на одном с ними языке, он имел несчастье быть англичанином, а следовательно и столь ненавидимым «гринго». А это значило, что он так и не стал для креолов своим, и более того, как чужак подвергался насмешкам и испытаниям на прочность гораздо чаще других. Джек был человеком неглупым и понимал, что его никогда не оставят в покое и издевательства будут продолжаться вечно. Поэтому он выбрал радикальную, но эффективную тактику: Джек дрался в поединках не для того, чтобы оставить противнику традиционные шрамы, как это было принято среди гаучо, — он шёл убивать и, вместо того чтобы полоснуть соперника по лицу, загонял ему нож в сердце
[605].
Хотя это несколько и охладило пыл местных забияк и на время отбило у них желание задирать Джека, но неприязнь к нему только росла, и гаучо неустанно искали способы избавиться от самоуверенного иностранца. И вскоре у них появился прекрасный повод: Джек убил на дуэли молодого гаучо, славящегося искусностью во владении ножом. У парня нашлось немало родственников, желавших отомстить за его смерть и заполучить голову дерзкого гринго. Однажды ночью банда из девяти человек подъехала к ранчо, на котором спал Джек. Двоих поставили в дверях на тот случай, если он попытается бежать, а остальные ворвались в комнату с длинными ножами в руках. Как только дверь открылась, Джек тут же проснулся и мгновенно понял причину этого вторжения. Он схватил нож, лежавший рядом с подушкой, спрыгнул как кошка с кровати, и началась необычная и кровавая драка: совершенно голый человек в полной темноте маленькой комнаты с небольшим ножом в руке против семи мужчин, вооружённых длинными факонами.
Преимуществом Джека являлось знание точного расположения мебели в комнате, а кроме этого, он был бос, и убийцы не слышали его шагов. Также англичанин был ловок как кошка, и темнота только играла ему на руку. Количество незваных гостей сыграло с ними злую шутку — им было тяжело сражаться в ограниченном пространстве маленькой комнаты без того, чтобы не ранить друг друга. Так или иначе, но в результате этой схватки трое из нападавших были убиты, а четверо других получили ранения различной степени тяжести
[606]. После
этого инцидента Джека окончательно оставили в покое, и, более того, он стал полноправным членом местного сообщества. Больше никто и никогда не называл его «гринго» и не пытался выяснить, кто из них «настоящий мужик».
Ещё одним свидетельством подобной ксенофобии стал случай, когда во время одного из набегов гаучо сохранили жизни двух местных — мальчика и пеона, но при этом спокойно убили трёх англичан
[607]. Иммигранты нередко становились мишенью для ненависти гаучо. Как утверждал Дж. Б. МакДональд, управляющий на эстанции «25 мая», не проходило и дня, чтобы один из его соотечественников не становился жертвой ножа гаучо или копья индейца. Самый известный прецедент, связанный с нападениями гаучо на иностранцев, произошёл в 1872 году во время празднования Нового года в Тандиле, небольшом городке, на двести миль южнее Буэнос-Айреса. В конце 1871 года несколько сотен гаучо из окрестностей Тандила сплотились вокруг некоего Джеронимо Е. Солано, самопровозглашённого пророка, которого гаучо называли «Тата Диос», а англоязычная пресса Отец Вседержитель». Девизом Солано было «Смерть иностранцам».
В конце 1871 года Солано провозгласил очередное пророчество. Он заявил, что Тандил провалится под землю, смытый наводнением, а затем добавил, что Судный день можно предотвратить, убив всех иностранцев. В ночь на 31 декабря около 40 последователей пророка собралось за городом, где им были вручены красные пояса и оружие. Они заняли главную площадь Тандила, выкрикивая: «Смерть иностранцам!», «Да здравствует Аргентинская федерация!» В Тандиле он напали на здание муниципалитета, освободили из тюрьмы всех заключённых и захватили большое количество оружия. В течение этой ночи и утра гаучо убили тридцать шесть иностранцев и в том числе большую семью басков. Сообщалось, что один из членов банды гаучо, Кресенцио Монтес, лично убил семь женщин и четверых детей
[608].
Гаучо, совершивший убийство в поединке, даже если тот проходил по всем правилам и с соблюдением кодекса чести, в глазах закона превращался в «матреро» — преступника, или, как его ещё называли, «гаучо мало» — злого гаучо, местную разновидность американского «десперадо» или итальянского «бриганте». Но для местных жителей гаучо, убивший противника на дуэли, становился сельской знаменитостью. Его увековечивали в популярной литературе и о нём слагали баллады, как это произошло с Хуаном Морейрой или Мартином Фьерро.

Рис. 16. Гаучо Мартин Фьерро. Хосе Эрнандес
Рис. 17. Хуан Морейра. 1897 г.
Как писал о «гаучо мало» Доминго Сармиенто: «Злой гаучо есть особенный тип некоторых местностей. Это человек, находящийся вне закона, бродяга, мизантроп особенного рода; это Соколиный Глаз куперовского романа со всем его знанием пустыни, со всей его ненавистью к жилищам белых, только без его нравственности и любви к диким. Его зовут злым гаучо, но это прилагательное принимается здесь не в оскорбительном для него смысле. Правосудие давно уже его преследует; имя его произносится потихоньку и со страхом, но без ненависти и почти с уважением. Это личность таинственная, он живет где-то в пампах, отдыхает в глуши колючих зарослей, питается куропатками и ежами. Если ему захочется полакомиться языком, то он заарканивает первую попавшуюся корову, опрокидывает ее, убивает, вырезывает лакомый кусок, а остальное покидает в добычу хищным птицам. Злой гаучо безнаказанно является в деревню, из которой только что ушли преследующее его солдаты, мирно беседует с добрыми гаучо, которые окружают его и удивляются ему, запасается табаком, йербаматой, сигаретами, и если замечает солдат, то преспокойно садится на лошадь и не спеша уезжает в пустыню, не удостаивая даже оглянуться. Солдаты редко пускаются его преследовать. Они только понапрасну загнали бы своих лошадей, потому что скакун злого гаучо славится в степи не менее своего господина. Иногда является на сельский праздник с девушкой, которую похитил, вмешивается в фигуры чьелито и исчезает так, что никто не знает, куда и когда он скрылся. В другое время он является к порогу дома, откуда увёз соблазненную им жертву, спускает ее с лошади наземь и, презирая проклятия родных, преспокойно удаляется в своё безграничное жилище. Этот человек, живущий в разладе с обществом, преследуемый законом, этот белокожий дикарь в глубине души ничем не хуже других полудиких обитателей пампов. Он смело нападает на целую толпу своих преследователей, но оставляет в покое одинокого путника. Злой гаучо не бандит, не вор больших дорог, нападение на жизнь не входит в ряд его понятий; он вредит, правда, но таково его ремесло, его промысел, его наука»
[609].
«Гаучо мало» покидали родные эстанции и, преследуемые законом и солдатами, кочевали по бесконечным просторам пампы. Они присоединялись к бандам или сколачивали собственные и зарабатывали на жизнь кражами скота и грабежами. Хорошо известен хрестоматийный образ «матреро» Мартина Фьерро из одноимённого эпического повествования Эрнандеса, Борхес во «Встрече» упоминает о «гаучо мало» Хуане Алмада и Хуане Альманса, но самым известным «злым гаучо» в истории Аргентины, без сомнения, стал Хуан Морейра. О нём складывали баллады, ставили пьесы и снимали фильмы. Известный аргентинский писатель Эдуардо Гутьеррес, написал о Морейре одноимённую книгу.
Принято считать, что Морейра родился в округе Ла Матанца в провинции Буэнос-Айрес. Как и другой эпический персонаж — Илья Муромец, первые тридцать лет жизни он себя никак не проявлял и ни в чём героическом замечен не был. Занимался своим ранчо, играл на гитаре, ухаживал за девушками. Всё изменилось, как это часто бывает, в один день. Как-то он одолжил некоему Сардетти, хозяину продуктовой лавки и, судя по фамилии, итальянскому эмигранту 10 000 песо. История умалчивает, откуда у небогатого гаучо взялась такая сумма, ну да это и не важно. Устав от безуспешных попыток вернуть свои деньги, Морейра отправился к заместителю мэра с жалобой на Сардетти и с просьбой помочь вернуть долг. Естественно, никаких документов и расписок при этом у него не было, так как деньги, как это было принято, давались под честное слово. Нам точно неизвестно, что там произошло: то ли этот чиновник, дон Франциско, решил, что Морейра пытается вымогать деньги у Сардетти, то ли он был с ним в сговоре. Фактом остаётся то, что Сардетти всё отрицал, и после этой встречи Морейру арестовали и на 48 часов бросили в тюрьму по обвинению в попытке ограбления. Судя по всему, подобное положение дел порядочно разозлило Морейру, и он поклялся, что Сардетти получит по удару ножом за каждое невозвращённое песо. На фронтире словами не бросались, и вскоре Морейра убил Сардетти перед его лавкой. Правда, справедливости ради следует заметить, что произошло это в честной дуэли на ножах.
Вернувшись домой, он обнаружил, что там его уже поджидает дон Франциско с четырьмя солдатами, что, в общем-то, было достаточно предсказуемо, учитывая убийство Сардетти. Однако Морейра так не считал и решил усложнить им задачу, вступив в бой. В результате сам дон Франциско и двое солдат были убиты. В этот день Морейра переступил черту, отделяющую законопослушного гражданина от «матреро» и стал «злым гаучо»
[610]. Креольские дуэли — поединки между гаучо-креолами и иммигрантами-итальянцами всего через пару десятков лет получили такое распространение, что были увековечены в массовой культуре и текстах танго.
Говорили, что Хуану Морейре не было равных в обращении с ножом, и что он выходил победителем во всех поединках. В результате он приобрёл такую известность как непобедимый боец на ножах, что бретёры всех мастей искали встречи с ним, чтобы покрыть себя неувядаемой славой. Биографы Морейры, в том числе Гутьеррес, утверждали, что на его счету было шестнадцать убитых в поединках. Трое из них скончались от ранений в грудь и шестеро в результате ударов в живот
[611]. Также ходили слухи, что Морейра никогда не рассёдлывал коня, чтобы можно было сбежать в любой момент. Он орудовал во многих городах и деревнях провинции Буэнос-Айрес, в том числе в Наварра, Лас-Эрас, Лобос и Вейнтичинко де Майо. Хуан Морейра прославился не только как бандит — как и многие другие легендарные бретёры, он также подрабатывал в качестве «гуапо электорал» — телохранителя местного политика. Кстати, его босса уже после смерти Морейры 1 мая 1879 года убили в дуэли на ножах
[612].


Рис. 18. Сержант Андрес Чирино.
Рис. 19. Стойка. Esgrima criolla, Марио Лопес Осорнио, 1942 г.
Черёд самого непобедимого Морейры пришёл в 1874 году. В апреле этого года мировой судья городка Лобос Касимиро Вилламайор получил от губернатора провинции Буэнос Айрес Мариано Акосты приказ отправить поисковый отряд под командованием офицера Боша из управления полиции Буэнос Айреса для задержания Морейры. Они окружили пульперию Ла Эстрелла, где находился Морейра. Морейра сражался, как дикий зверь, и в тот момент, когда он перелезал через стену, за которой его ждал конь, один из солдат, сержант Андрес Чирино, сзади нанёс ему штыком ранение в левое лёгкое. Хотя, по другой версии, роковой удар штыком нанёс не Чирино, а капрал Луис Лима
[613]. Морейра перед смертью ещё сумел выстрелить в Чирино, который в результате потерял глаз, после чего отрубил ему своей дагой четыре пальца на руке и ранил ещё одного жандарма. После него остались жена и сын, тоже Хуан Морейра. Похоронен он был на кладбище там же, в Лобос
[614]. Сегодня череп Хуана Морейры хранится в буэнос-айресском музее имени президента Аргентины Хуана Доминго Перона — для истории его сохранил Марио Перон, дед Хуана Доминго, который использовал череп в качестве пресс-папье
[615]. Борхес как-то упоминал, что в детстве ему довелось лично увидеть убившего Морейру сержанта Чирино, который после выхода на пенсию работал швейцаром на Майском проспекте в Буэнос Айресе. Несмотря на свою мрачную репутацию, Морейра, как и положено настоящему гаучо, до самой смерти демонстрировал благородство по отношению к противникам и ревниво соблюдал кодекс чести. Так, например, когда он встретился в поединке с одним из своих соперников, тот был безоружен, поэтому Морейра забрал нож у кого-то из зрителей и бросил противнику, после чего убил его в честном бою
[616].
Как уже говорилось, основой дуэльной техники гаучо была «куерпеада», или уклонение от ударов ножа телом. Но кроме уклонов корпусом у гаучо существовало и несколько других способов защиты — например, парирование ножа противника собственным клинком — так называемые «quitas», а также уходы прыжком, называемые на жаргоне «para mezquinar el bulto», или «убрать тело»
[617]. В арсенале креольских поножовщиков было три базовых удара. Первый, и основной, наносился в верхнюю часть тела, как правило, в лицо и назывался «barbijo»
[618]. Второй удар, носивший название «bajaba las tripas», или «выпустить кишки», соответственно, наносился в нижнюю часть тела, или «parte baja». Как правило, это был распарывающий удар — колотые ранения редко встречались в поединках
[619]. И третий удар, который наносили сверху вниз, вертикально, подобно удару топора, носил название «Dios te guarde», или «Храни тебя Бог». Когда гаучо хотел унизить противника и продемонстрировать своё превосходство или неопытность врага, «Dios te guarde» наносился не режущей кромкой, а плоскостью клинка, плашмя. Этот позорящий удар, называвшийся «planazo», достался гаучо в наследство от старой испанской школы фехтования на шпагах и упоминается ещё в испанской литературе XVI столетия
[620].

Рис. 20. Креольская дуэль. Хорхе Даниель Кампос.
Верхняя часть тела, или «punta alta», в свою очередь подразделялась на две области. Первой из них была зона между плавающими рёбрами и шеей, то есть грудная клетка. Эта часть тела была наиболее защищена, и поэтому её атаковали реже всего. По свидетельствам биографов Хуана Морейры, из шестнадцати противников, убитых им на дуэлях, только трое погибли от ударов в грудь. Поэтому угрозы «пронзить грудь» среди гаучо, как правило, считались пустым бахвальством
[621]. Хотя, надо заметить, что кардинально противоположного мнения придерживался шотландский путешественник Александр Колдклю, который в воспоминаниях отметил, что если гаучо и убивал в поединках, то удар всегда наносился точно в сердце
[622]. Второй мишенью для атаки являлась область между лбом и подбородком — излюбленная цель для ножей креольских фехтовальщиков, так как подобным ударом можно было оставить сопернику «rumbo» — «пробоину в черепе», или нанести унизительный порез лица, «barbijo».
Удары в «punta alta» гаучо парировал круговой защитой, отбивая нож противника в сторону снизу вверх и слева направо. Самым опасным считался удар в «parte baja» — ниже плавающих рёбер. Этот удар обычно наносил гаучо, потерявший голову от ярости, обуянный ревностью или твёрдо вознамерившийся убить соперника, выпустив ему кишки — «bajarle las tripas». От ударов в нижний уровень бойцы также оборонялись круговой защитой, с той лишь разницей, что на этот раз круг описывался уже справа налево и сверху вниз
[623].
От рубящих ударов в голову, таких как «Guarde te Dios» и «planazo», гаучо защищались, держа нож горизонтально или по диагонали, на уровне головы. В европейском фехтовании на длинноклинковом оружии эти типы защит были известны как «защита святого Георга» и «подвешенная защита». Под выражением «встать в стойку» гаучо понимали занятие позиции, пригодной одновременно как для нападения, так и для защиты. Если у бойца в руках не было ничего, кроме ножа, он разворачивался к противнику правым боком. При этом правая нога находилась впереди, а ступня левой для сохранения равновесия ставилась перпендикулярно к правой. Гаучо наклонялся вперёд, немного сгибал колени, не нарушая при этом баланса и центра тяжести, а равновесие сохранял с помощью постановки ног. Упёртая в бедро левая рука и наклоненный вперёд корпус завершали положение тела в «стойке».
Атака производилась прыжком с перемещением «передней» ноги на 2025 см и мгновенным приставлением «задней», чтобы не споткнуться. Если гаучо хотел стать недосягаемым для противника, то он отпрыгивал назад, начиная движение с левой ноги и закачивая правой. Когда же он намеревался нанести удар в выпаде, то сначала бил ногой по корпусу противника, после чего молниеносно бросался вперёд к заветной цели с оружием наперевес
[624]. При парировании ударов гаучо старались принимать их на нижнюю треть своего клинка, у перекрестья, или, по крайней мере, максимально ближе к нему, что выматывало противника и давало фехтовальщику большую свободу в манипуляциях с оружием.
Во время тренировок гаучо старались использовать и развивать обе руки. Особое значение дуэлянты придавали умению сражаться левой рукой. Аргументировали они это тем, что «по свету бродит много левшей», и приводили свою народную поговорку, гласящую, что «нет опасней человека, чем левша с топором». Поэтому креолы считали, что людей, владеющих ножом в левой руке, нужно остерегаться. Объясняли они это с помощью следующих доводов:
1) правше сложнее координировать атаку, когда цель смещена;
2) большинство парирований ударов при защите происходит в противоположном направлении;
3) левше проще атаковать с внутренней стороны и резать тыльную часть предплечья противника;
4) небольшая разница в линии атаки левши вызывает нарушение координации у правшей и сбивает их с толку, вследствие чего эти атаки сложнее парируются.


Рис. 21. Обезоруживание. Esgrima criolla, Марио Лопес Осорнио, 1942 г.
Кто-то может сказать, что правше также сложно и некомфортно сражаться с левшой, как и левше с правшой, но если для левши это привычка и стандартная манера боя, то для правши — неприятная неожиданность и непредвиденная трудность, которая может стоить ему жизни
[625]. Но порой встречалась ещё более необычная манера боя, вводившая противников в ступор. Так Марио Лопес Осорнио писал, что в 1880-х в Часкомусе жил человек по прозвищу Чёрный Эмилио, который был ужасом и ночным кошмаром поножовщиков из-за своей необычной манеры вести бой. Этот незаурядный человек был высоким и сильным мужчиной. Он необычайно ловко действовал своими длинными руками и двигался с поразительным проворством, что часто демонстрировал, выбивая чечётку и исполняя темпераментные народные танцы тех лет. Он никогда не использовал в поединках нож, сражался исключительно голыми руками и полагался только на свою феноменальную ловкость, позволявшую ему с необычайной быстротой уворачиваться от ударов. Он читал намерения своих противников в их глазах, и это присущая ему способность предвидения позволяла Эмилио молниеносно схватить соперника за запястье вооружённой руки и резким рывком вывести его из строя. Для обезоруживания противника Чёрный Эмилио использовал обе руки, но предпочтение отдавал левой
[626]. Гутьеррес как-то рассказывал, что однажды и Морейра обезоружил полицейского подобным способом.
Как мы видим, гаучо придавали немаловажное значение различным способам обезоруживания противника. Ещё одним свидетельством существования подобных техник является публикация в аргентинском журнале «Библиотека унтер-офицера» за 1939 год, доказывающая, что местные жители, несмотря на отсутствие знакомства с техниками защиты от ножа, применяли их в моменты опасности интуитивно
[627].
Гаучо держали нож в руке таким способом, чтобы можно было наносить любые удары под любым углом и в любом направлении. Главную роль при этом играл большой палец, упиравшийся в пяту клинка, что помогало осуществлять контроль над управлением оружием. Остальные пальцы плотно удерживали рукоятку. Этот способ удержания ножа практичные и смекалистые гаучо считали лучшим из всех возможных. Хотя, другое свидетельство мы встречаем в путевых заметках известного шотландского политика, писателя и журналиста Роберта Бонтина Каннингем Грэма. Грэм отмечал, что во время поединков в пульпериях, очевидцем которых ему довелось стать, ножи удерживались таким способом, чтобы выглядывало от 1–2 дюймов, до половины клинка
[628]. Разумеется, речь не могла идти о дагах, каронеро или факонах, достигавших 70 см. в длину, и веса более чем в килограмм. Учитывая, что скетчи Роберта Грэма издавались с 1897 по 1914 год, когда в пампе уже произошло ужесточение законодательства и контроля за оборотом оружия, могу предположить, что речь шла о небольших «перочинных» верихеро или же о складных ножах. Во всяком случае, сам Грэм в своих работах неоднократно упоминает о «jack-knife».
По свидетельству старожилов и исследователей местных традиций, чтобы преодолеть сопротивление противника, гаучо использовали различные уловки. Одной из подобных хитростей считалось «trabar la espuela» — «зацепить шпорой». Хотя у меня вызывает сомнение, что этот хитроумный трюк в действительности являлся распространённым элементом поединка, по той простой причине, что местные уроженцы, чтобы чувствовать себя в бою более вольготно, предпочитали драться без шпор. Скорее из-за шпор повышался риск падения для самого гаучо. Например, можно вспомнить уже упомянутую дуэль Анхело Мунизе, когда его приятель выразил опасение, что во время схватки он может зацепиться шпорой и упасть, или воспоминания Роберта Грэма, как перед поединками шпоры сдавались на хранение хозяину пульперии. Более распространённым и эффективным приёмом был следующий трюк: наступить противнику на ногу и толкнуть его при этом назад, чтобы он упал на спину. Другой, не менее популярный манёвр: улучив момент, швырнуть кончиком ножа горсть земли в глаза противнику, что позволяло отвлечь его внимание на пару секунд, необходимых для смены позиции или нанесения удара
[629]. Подобный трюк упоминает Эрнандес в «Мартине Фьеро»:
«Дал ему я локтем в грудь, и, припавши на коленки,
Я успел ему швырнуть ком земли с замаху в зенки».
(Перевод Мих. Донского).
Существовали и другие хитрости, такие, например, как нанести лёгкое, но кровоточащее ранение — «пустить кровь», чтобы признать противника не способным продолжать бой. Что нередко наделал в поединках Морейра, когда не хотел убивать соперника.

Рис. 22. Мартин Фьерро. Карлос Алонсо, 1960 г.
Так как Морейра в бою использовал не факон, а длинную дагу, или, как её ещё называли, каронеро, остановимся на способе фехтования этим оружием подробней. Каронеро, как и леппы Сардинии или хевсурские дашны, обычно изготавливались из обломков сабель и шпаг. Это было достаточно длинное и массивное оружие, идеально подходившее для самообороны. Традиционно дагу и каронеро подвешивали в ножнах у седла, откуда их можно было легко извлечь. Перекрестья у этого ножа не было. В фехтовании на каронеро могла использоваться как традиционная техника фехтования на ножах, так и классическая сабельная, которой гаучо также были обучены, так как нередко участвовали в локальных военных конфликтах в качестве добровольцев
[630]. В Аргентине любой чиновник самого низкого ранга, имевший какое-либо отношение к полиции или любому другому государственному учреждению, таскал с собой ржавую драгунскую саблю.
В тех случаях, когда каронеро использовали как нож, он применялся так, как описано выше, если же как саблю, что логично, учитывая его форму и размеры, то и стойка напоминала сабельную. При этом правая кисть с оружием располагалась на высоте плеча, рука была немного согнута в локте, а каронеро удерживался по диагонали справа налево и сверху вниз. Из этой позиции гаучо был готов нанести рубящий удар или же отразить атаку противника. Существовало три самых распространённых удара каронеро: в голову, грудь и в руку противника. Защиты от этих ударов были аналогичны тем, что применялись в бою на ножах. Рубящий удар в голову наносили слева направо с максимальной силой. При ударе в грудь оружие поднимали над головой и удар наносили в левую часть груди под углом 65 градусов. Рубящий удар в руку наносили так же, как и в голову, но, естественно, уровнем ниже.
Кроме рубящих ударов использовались и уколы. При этом кисть вооружённой руки располагалось у подмышечной ямки, откуда и наносились колющие удары в брюшную полость или грудь противника. Если удар был направлен в живот, то бить нужно было или выше, или ниже традиционного пояса, тирадора, расшитого металическими бляшкам
[631]. Известно, что Хуан Морейра в одном из своих боёв колющим ударом каронеро в живот перерубил позвоночник противника.
Описывая поединки гаучо, Хадсон отмечал, что они оборачивали левую руку пончо, чтобы использовать её в качестве щита, а в правой держали факоны — «ножи, с клинком и перекрестьем, как у меча». Он вспоминал, что эти пассы ножом были настоящим искусством и смотрелось просто завораживающе, когда два искусных бойца становились напротив друг друга. Ножи выглядели на солнце как сверкающие колёса или крутящиеся зеркала, а основной задачей каждого из соперников было улучить момент, когда противник откроется, и нанести ему решающий удар в лицо. Вот как Хадсон описывал манеру боя легендарного гринго Джека: «…Это было от природы, инстинктивно, внутри него. Когда наступал опасный момент и в воздухе сверкали ножи, он мгновенно преображался. Он весь был из пружин, он не стоял на месте ни секунды, даже долю секунды; он был как кошка, как каучуковый, как сталь — как что угодно, но это «что-то» порхало вокруг и рядом с противником, в одну секунду на дистанции удара, а в следующую уже в нескольких ярдах, и когда ожидали атаку, она всегда производилась не там, где этого ждал противник, а с другой стороны; и когда уже через пару минут противник был сбит с толку и бездумно атаковал, наступал его час»
[632].
Осорнио писал, что у гаучо, желавшего научиться основам фехтования на ножах, не было других учителей, кроме собственных товарищей, и помогали ему в этом только навыки и врождённая ловкость. Он считал, что именно хватка гаучо, их храбрость, удаль и вера в божественный дар сделали из этих жителей пампы непревзойденных бойцов на ножах
[633].
Прекрасное описание дуэли на ножах нам оставил Марио Варгас Льоса. Приведу отрывок из его раннего рассказа «Еl desafio» — «Поединок»:
«Почти одновременно, как будто повинуясь чьему-то властному приказу, оба пришли в движение. Хусто, возможно, был первым: на секунду раньше его тело от коленей до плеч начало легонько покачиваться; Хромой тоже начал подрагивать, повторяя движения Хусто, не сходя с места. Они стояли в одинаковых позах: правая рука вытянута, чуть согнута в локте, острие ножа нацелено точно на противника, левая рука, обернутая плащом, бесформенная, громадная, поднята, как щит, к самому лицу. Вначале двигались только их торсы; головы, руки и ноги оставались неподвижными. Потом их тела почти неощутимо начали изгибаться, спины удлинились, ноги согнулись в коленях — как перед прыжком в воду. Хитрые, внимательные, злые, оба с молниеносной быстротой переходили от обороны к нападению, но никому из двоих не удавалось застать противника врасплох: когда один резко выбрасывал вперед правую руку, как будто швыряя камень, — не для того, чтобы достать врага, а чтобы обмануть его, на мгновение вывести из равновесия, найти брешь в его защите, — другой неизменно отвечал автоматическим движением левой руки»
[634].
Гаучо, как и их андалузские предки, совершенствовались также и в метании ножей. Осорнио вспоминал виденную в детстве сцену, которая произвела на него сильное впечатление. Он наблюдал за несколькими крестьянами, собравшимися поупражняться с ножом, который они метали с ребяческим задором, стараясь во что-нибудь попасть. Тот, кому это удавалось, получал «пропуск», то есть местную монету — песо, которую затем отдавал за возможность принять участие в турнире. После этого он уже бросал нож в «цель». Нож гаучо удерживали за клинок, повернув кисть ладонью вниз и прижимая лезвие большим пальцем. Если нож держали клинком вперед, то он совершал в воздухе только полоборота, что было более чем достаточно для поражения цели с расстояния трех, четырех или пяти метров. Если же нож удерживали острием назад и лезвием внутрь, то для поражения цели ему было необходимо совершить полтора оборота. Любая цель, например, отметина на дереве, была для гаучо достаточным поводом продемонстрировать умение обращаться с ножом.
Метание ножей было не только распространённым развлечением, но и спортом, а заодно могло развить и навыки самообороны. Сохранились свидетельства, подтверждающие существование подобной традиции. Газета Ла-Платы «День» от 20 октября 1939 года писала, как во время ссоры между двумя мужчинами один из них издали метнул нож, попавший противнику в нижнюю часть живота с левой стороны. Немало подобных примеров можно найти и в аргентинской литературе. Так, в книге Педро Инчауспе «Там, на юге», встречается история, как некий мужчина проверял прочность ножа, бросая его с молниеносной скоростью в мешок с вермишелью с расстояния не менее пяти метров: «оружие блестит на солнце… и клинок вонзается с глухим хрустом раздробленных косточек…».

Рис. 23. Растры.

Рис. 24. Серебряная рукоять европейского кинжала. Любек 1510 г.
Далее этот же автор описывал, как герой повествования бросил нож в задержавшего его полицейского. Он терпеливо выждал момент, когда тот отвлечется, садясь на лошадь, «и, как и раньше, во время игры, оружие разрезает воздух с фатальной точностью и вонзается по рукоятку в почку несчастного полицейского, тем самым возвращая потерянную свободу»
[635].

Рис. 25. Не исключено, что именно этот тип кинжалов послужил образцом при декорировании ножей гаучо. Германия (Kunstgewerbemuseum, Дрезден], XVI в.
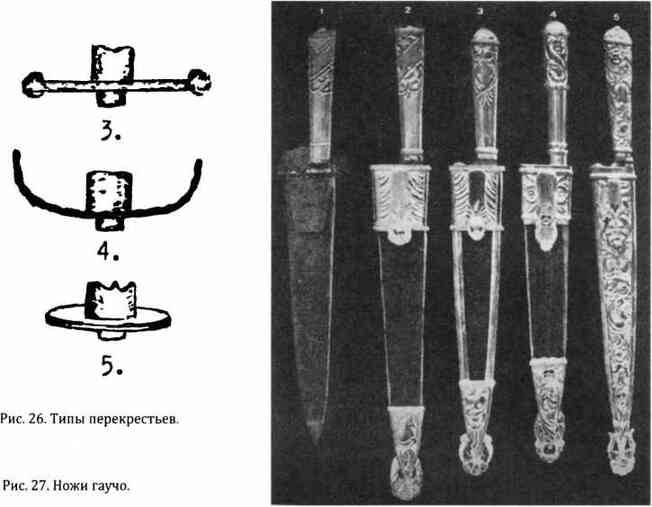
Кроме фехтовального искусства, зорких глаз и быстрых ног каждого гаучо в бою защищал широкий кожаный пояс — тирадор, щедро расшитый металлическими украшениями — «растрами», или серебряными монетами. Как и испанский пояс фаха, тирадор защищал живот, бока и область почек своего владельца от ударов ножа. Кроме того, что он играл роль своеобразной кольчуги, тирадор также выполнял и более прозаические функции и поддерживал спину и почки пастухов в качестве корсета во время длительной работы в седле
[636]. Гаучо, как и испанцы, носили за тирадором ножи, табак и массу других необходимых мелочей, а также документы и деньги. Существовало множество типов, форм и размеров тирадоров, варьировавшихся в зависимости от вида работ, выполняемых их хозяином, а также от его достатка. Но общим для всех поясов элементом декора служили украшавшее их в изобилии монеты или просто медные, бронзовые или серебряные бляшки, нашитые на кожаную основу. Так, в 1859 году, некий Джордж Пибоди из Массачусетса во время охотничьей экспедиции встретил трактирщика, у которого «на пояс было нашито двадцать или тридцать серебряных долларов, а за поясом торчал огромный нож с ножнами и рукояткой, богато отделанными серебром»
[637]. Сохранились тирадоры, настолько плотно расшитые сотнями монет, что скорее напоминают не пояс, а некое подобие «бригантины» — популярного средневекового доспеха в виде пластин, нашитых или наклёпанных на суконную основу. Хочу заметить, что аргентинский тирадор поразительно напоминает обильно расшитый монетами широкий кожаный мужской пояс, типичный для Марокко.
Говоря о ножах, надо отметить, что оружейный арсенал гаучо отличался большим разнообразием. Во-первых, нельзя не вспомнить вездесущих фламандцев, они же, фламенко и бельдюк — большие европейские кухонные ножи, но оправленные в серебро и украшенные в соответствии со вкусом и представлениями о красоте своих креольских владельцев. Даже президент Аргентины Доминго Сармиенто как-то упомянул в одной из своих работ, что у гаучо были «ножи бельдюк из Голландию
[638].
Осорнио описал следующие типы креольских ножей, бывших в ходу у гаучо:
тонгори, что в переводе значит ливер или потроха;
фаринера — большой нож с широким клинком. Этимология этого названия, скорее всего, ведёт происхождение от слова «фаринья», она же маниока, или кукурузная каша. Обычно эту застывшую кашу нарезали ножом;
мангорреро — грубый, неаккуратно сделанный нож. Изготавливался из остатков и обломков ножей;
фихинго — небольшой нож. Возможно, от старокастильского «фихо», сын. Также это может быть связано с манерой носить нож за спиной, как традиционно носят детей в Латинской Америке;
фламенко — ножи производства Фландрии;
факон — большой нож с односторонней заточкой. Первоначально факоны изготавливались из обломков длинных клинков. Перекрестья факонов были прямые, 5-образные, и-образные или круглые. Форма ограничивалась только фантазией владельца. Как правило, у факонов была прекрасная сталь, и дуэлянты перед поединком часто проверяли клинки на изгиб или щёлкали по ним ногтём, чтобы извлечь чистый звук, как владельцы револьверов наслаждаются щелчками крутящегося барабана
[639];
дага — длинный кинжал. Даги могли быть как с перекрестьем, так и без него. Изготавливались даги из сломанных сабель, палашей или переделывались из плоских штыков. Так, легендарная дага Хуана Морейры, подаренная ему доном Адольфо Альсина, достигала в длину 84 см, включая рукоятку. Клинок этого ножа имел 73 сантиметра в длину и четыре в ширину, а весило это оружие 720 граммов. Первоначально перекрестье ножа было изготовлено в форме латинской буквы 5, но владелец переделал его на и, чтобы предотвратить соскальзывание ударов на руку и грудь. В результате дага стала напоминать легендарный меч Эль Сида. Сталь была такого качества, что, по словам Эдуардо Гутьерреса, при отражении удара этого ножа у капитана Варела сломалась сабля
[640]. Интересно, что подобный нож упомянул Борхес в рассказе «Встреча» — этим ножом был вооружён один из дуэлянтов, Манеко Уриарте, и им он и убил своего противника Дункана. Как сказал главному герою другой персонаж рассказа, отставной полицейский комиссар дон Хосе Олаве: «Нож с полукруглой крестовиной… Прославились два таких ножа: Морейры и Хуана Альмады из Тапалькена»
[641].
Кстати, простой нож с деревянной рукояткой, которым был вооружён второй дуэлянт, Дункан, имел на лезвии клеймо в виде кустика. Из этого можно сделать вывод, что Дункан сражался крайне ценившимся у гаучо ножом, изготовленным прославленной золингеновской фирмой «Бокер», поставлявшей свои ножи на латиноамериканский рынок с 1860-х годов. Ножи с «кустиком» «Бокер» поставляет в Аргентину и сегодня, но уже под брендом «Арбо-лито». Европейские производители, набившие руку на колониальной торговле и завалившие своей продукцией полмира, не обошли вниманием и эту латиноамериканскую страну. В результате подавляющее большинство ножей, которые гаучо гордо носили за своими тирадорами, несли на себе клейма фирм Золингена, Шеффилда и Бирмингема. Не сильно отличалась ситуация с экспортом ножей из Европы и в других странах Латинской Америки, например, в соседней Бразилии.

Рис. 28. Нож генерала Хуана Лавайе.

Рис. 29. Ножи английского и французского производства для латиноамериканского рынка. La coutellerie. Камилл Паж, Шательро, 1904 г.
Так, Джеймс Хендерсон, побывавший в этой стране в первой четверти XIX века, вспоминал, как некий британский офицер, чьё судно встало на ремонт в Рио де Жанейро, проходя через Дворцовую площадь по направлению к шлюпке, которая должна была забрать его на борт корабля, неожиданно получил смертельную «факаду» — удар ножом. Хендерсон связывал это с тем, что многие бразильцы носили спрятанные под плащами ножи, которыми орудовали с большим мастерством. «Я застыл от ужаса, когда увидел в Рио ножи, импортированные из Англии и созданные специально для этих целей. Они обычно используются в поединках, а плащ «capote» наматывается на левую руку и служит в качестве щита», — писал Хендерсон
[642].
Существовало два основных типа даг — фачинера и каронеро. Фачинера получила название от «fachinal» — заливных или заболоченных лугов, где обычно рубили тростник, из которого плели циновки и маты. Каронеро же был назван в честь «сагопа» — чепрака, или нижней части вьючного седла, где его обычно и приторачивали. Ну и, как уже говорилось, ни у фачинеры, ни у каронеро не было перекрестья
[643]. Кроме перечисленного оружия в ходу у гаучо были и эстоки — обломки клинков шпаг шириной около половины дюйма. У них также не было перекрестья, а клинки в сечении были круглыми, треугольными или прямоугольными. Носили эстоки, как и остальные типы ножей, сзади за поясом
[644].

Ножи гаучо носили заткнутыми за пояс за спиной, рукояткой вправо и лезвием вверх. Эта манеру ношения оружия можно, например, увидеть на многочисленных работах художника Эмерика Эссекса Видала периода 1820-х. Хотя мне также встречались гравюры и дагерротипы, на которых рукоятки ножей были повёрнуты влево. Возможно, это обусловлено тем, что владельцы ножа были левшами, хотя Осорнио предлагает другое объяснение. Он описывает ножи, уже изначально предназначенные для ношения рукояткой влево, и считает, что это было ошибкой производителя, не удосужившегося ознакомиться с местными традициями. Скорее всего, такая манера ношения ножа в первую очередь была продиктована соображениями безопасности. В октябре 1842 года пеон Лоренцо Понсе получил смертельное ранение в пах собственным ножом, перелетев на скаку через голову коня. Это несчастный случай произошёл из-за того, что нож у него находился не сзади за поясом по диагонали, как это принято у гаучо, а спереди
[645]. Напрашивается интересная параллель с популярными в Европе Нового времени длинными кинжалами, известными как анеласы или бракемары. Клинки анеласов достигали 1820 дюймов в длину, что сравнимо по размерам с оружием гаучо, но главное — анеласы, они же, «pistos», «anelacio» и «epee de passot», носили точно так же, как факоны и даги гаучо — сзади за поясом, рукояткой вправо
[646].
На картине испанского художника Мануэля Кабрала Бехарано «Escena еп una venta», написанной в 1855 году, у одного из персонажей жанровой сценки, сидящего спиной к зрителю, за поясом фаха торчит небольшой кинжал в типичной для гаучо манере — рукояткой вправо. Теофиль Готье в своих путевых заметках об Испании отмечал, что мадридские махо носили свои навахи сзади за поясом посередине
[647]. Возможно, это является ещё одним, хоть и косвенным, доводом в пользу версии о европейских корнях гаучо.

Рис. 32. Гаучо в национальных костюмах.

Рис. 33. Компадритос, Буэнос Айрес, 1900-е.
Дарвин в воспоминаниях о посещении Рио-де-ла-Плата писал, что свой большой складной нож он носил по морской традиции на шее, подвесив за продетый сквозь рукоять шнурок, и что подобный способ ношения оружия вызывал у гаучо удивление
[648]. Хочу также заметить, что клипсы на ножнах, подобные тем, что удерживали за поясом ножи гаучо, нередко встречаются на больших крестьянских ножах Западной Европы XIV-XVI веков, хаусверах и ругерах. Небольшие ножи, такие как верихеро, выполнявшие в пампе функцию перочинных, также носили за поясом, но спереди, ближе к середине, и лезвием вниз. Так называемые «городские гаучо», как их называл Ричард Сенет, или жители предместий, которые не стремились информировать окружающих о наличии у них оружия, носили ножи в пройме жилета, как правило, с левой стороны, лезвием вперёд. Длинные ножи, такие как фачинера и каронеро, нередко достигавшие длины сабли, приторачивали к седлу с левой стороны. Женщины гаучо и подруги жителей городских предместий, чтобы защитить себя в этом жестоком мире, носили небольшие ножи, как и их испанские товарки, за подвязкой чулка: лезвием назад на правой ноге и лезвием вперёд — на левой
[649].

Рис. 34. Калабрийские эмигранты в Буэнос Айресе, нач. XX в.
Ричард Слатта писал о факоне, что этот мечеподобный нож гаучо часто оказывался вне закона из-за множества убийств, и поэтому к концу столетия он уменьшился до более скромных размеров. И хотя в последней четверти XIX столетия в пампе уже было широко распространено огнестрельное оружие, факон благодаря своей универсальности не стал менее популярен
[650]. Для работников ферм лишиться факона было так же немыслимо, как лишиться коня, и этот нож продолжал оставаться их любимым оружием даже после появления в пампе ружей Ремингтона и Винчестера. Как гласила поговорка гаучо, «тот, у кого нет ножа, не ест», поэтому неудивительно, что в XIX веке именно нож играл главную роль в большинстве убийств
[651]. И в XX столетии, когда огнестрельное оружие стало играть достаточно заметную роль в сельской преступности, ножи не уступили своих позиций. Из 3735 ранений, полученных в округе Буэнос-Айрес в 1909 году, 40 % приходились на долю ножа, и только 18 % — на огнестрельное оружие. Из 443 убийств 48 % являлись результатом огнестрельных ранений и 44 % — следствием дуэлей на ножах. А это значит, что клинок и в самом деле не утратил своей популярности
[652].
В 1880 году Буэнос-Айрес стал столицей Федеративной Республики Аргентина. Тысячи гаучо, гонимых мечтами о богатстве, потянулись из сельских районов в город. В Буэнос-Айресе они селились в самых бедных районах — разросшихся пригородах, называемых «барриос» или «арраблес», где единственным источником дохода была работа на городской скотобойне. Главными героями барриос стали компадрес, или кумовья, перегонявшие скот из пампы на скотобойни. Компадрес — городская разновидность гаучо, унаследовали от своих легендарных предшественников страстную тягу к независимости, гипертрофированную мужскую гордость и манеру решать вопросы чести с помощью ножа. А вскоре привычки и жаргон своих старших товарищей, компадрес, переняла задиристая молодёжь из бедных кварталов, называемая «компадритос»
[653]. В традиционный дресс-код компадритос входили надвинутая на глаза шляпа, небрежно повязанный шейный платок, туфли на высоком каблуке и нож за поясом.

Рис. 35. Компадритос, нач. XX в. (Национальный архив Аргентины).

Рис. 36. Дуэль.
Эти беспутные юнцы сыграли немаловажную роль и в рождении танго. 22 сентября 1913 года в первой буэнос-айресской многотиражке «Критика» вышла заметка за подписью Viejo Tanguero, в которой утверждалось, что танго было создано молодыми компадритос как пародийный танец. По мнению автора, компадритос часто захаживали на афроаргентинские танцы, где однажды они увидели танец, похожий на кандомбе, который чёрные называли танго. В результате молодые головорезы принесли этот танец домой, в Corrales Viejos — район дешёвых борделей в южном пригороде Буэнос-Айреса, где в низкопошибных притонах и домах терпимости начали использовать его элементы в милонге. Новый тип милонги вскоре стали плясать и в других районах города
[654]. Информацию «Старого Тангеро» подтверждает и Вентура Линч, который писал в 1883 году, что милонгу танцуют исключительно городские компадритос как
пародию на танцы чёрных
[655]. Танцы компадритос традиционно были атлетичными, жёсткими и мужественными, а танцы аргентинских чёрных — сексуально вызывающими, с элементами насилия. Они использовали резкие движения, прерываемые паузами, во время которых танцоры принимали вызывающие позы и кидали на окружающих грозные взгляды. В переполненных городских трущобах перемешивались разнообразные культуры, в конце концов создав синтез разных стилей.
В одном из интервью Борхес высказал свою точку зрения на происхождение танго. Он рассказал, что беседовал о начальной эпохе танго со многими людьми и все говорили одно и то же — что танго не народного происхождения и появилось около 1880 года в борделях. С точки зрения Борхеса, это доказывается тем, что, будь у танго народные истоки, его инструментом была бы гитара, как в милонге. Но танго исполняют на фортепиано, на флейте и на скрипке — всё это инструменты, характерные для более высокого экономического уровня. Откуда могли люди, жившие в доходных домах, взять деньги на покупку фортепиано? Это подтверждается свидетельствами современников, а также стихотворением Марсело дель Масо, описывающим танец начала века
[656].
Во второй половине XIX века танго было широко распространено на сценах Буэнос-Айреса, особенно в виде бурлеска, называемого sainete porteño. Эти представления были типичными одноактными пьесками с большим количеством исполнителей и использованием любительских актёров, а все сюжеты основывались на историях из жизни компадритос и обыгрывали наплыв иммигрантов. Одним из самых популярных сюжетов этих пьесок была креольская дуэль — duelo criollo, или поединок на ножах между иммигрантом и портеньо, — местным креолом, рождённым в Буэнос-Айресе
[657]. Тема эта была достаточно актуальной, так как Буэнос-Айресе этого периода уличные поединки были распространённой формой всплесков социальной напряжённости между иммигрантами, и особенно между итальянцами, и креолами-компадритос. В лице итальянских экспатриантов креолы, гордившиеся своей культурой чести и искусностью во владении ножом, получили достойную конкуренцию.
С 1861 по 1914 год на берегах Рио-де-ла-Плата высадились почти 2 300 000 итальянцев, что составило 50 % всей эмиграции в Аргентину. Как известно, после объединения Италии© Аргентину бежало немало бывших солдат армии Бурбонов, повстанцев, участников разгромленного Неаполитанского восстания, а также преследуемых властями и тысячами покидавшими родину бриганти и мафиози всех мастей
[658]. Подавляющее большинство итальянских иммигрантов составляли выходцы с юга страны — уроженцы Сицилии, Калабрии, Апулии, Неаполя и Сардинии, то есть регионов с культурой чести и развитой традицией ножевых дуэлей. Один из самых бедных кварталов Буэнос Айреса, населённый преимущественно итальянскими иммигрантами, не зря получил название Палермо. Большинство гаучо, прибывавших в город в поисках работы, как и итальянские иммигранты, были одинокими мужчинами, поэтому одним из основных поводов для поединков на ножах было соперничество за благосклонность малочисленных женщин.
Выходят двое мужчин,
два соперника;
на креольской дуэли
они решат,
сама рука подскажет —
у кого больше прав
наслаждаться поцелуями
роковой женщины[659].
Подобные инциденты нередко обыгрывались в театральных постановках и использовались в качестве сюжетов для песен, как, например, в прославленном танго Лито Байярдо «Duelo Criollo», или «Креольская дуэль», посвящённом дуэли на ножах за сердце женщины. Атмосферу этих лет прекрасно описал Борхес в своём «Эль Танго»: «За каждой настороженной оградой — засада из гитары и кинжала»
[660].

Рис. 37. Мужчины танцуют танго. Буэнос-Айрес, 1900-е.
Пока бурно разраставшиеся бордели не компенсировали в городе дефицит женщин, в танцзалах Буэнос-Айреса часто можно было увидеть компадритос, танцующих не с партнёршами, а друг с другом. Хотя это трудно было назвать танцем — скорее некий театрализованный поединок. Со временем «боевые» дуэльные элементы исчезли из танго, но их отголоски мы и сегодня находим и в лирике этого танца, и в сложности его шагов. Глубокие выпады, рваный темп, отскоки и резкие развороты — всё это танго унаследовало от традиций дуэльных поединков компадритос
[661].
В стихотворении «Танго» Борхес назвал культуру компадритос «союзом отчаянности и ножа»
[662], а в беседе с аргентинской писательницей и издателем Викторией Окампо — «сектой ножа и удали»
[663]. Он вспоминал, как еще застал эту отчаянность среди куманьков с побережья, чью веру можно было выразить одной фразой: или ты мужчина, или слабак, и что в отличии от гангстеров, которыми двигала жадность или политические резоны, отвага у них была совершенно бескорыстной. В интервью Борхес приводит притчу из скандинавской саги. В этой истории викинги встретили незнакомцев и спросили, в кого они верят — в Одина или белолицего Христа, а те им ответили, что исключительно в собственную отвагу, что, с точки зрения Борхеса, полностью соответствовало кодексу поножовщиков Буэнос-Айреса. Как и любой аргентинец, он считал клинок символом отваги, в отличие от огнестрельного оружия, требующего не храбрости, а всего лишь меткости, и полагал, что Мильтон в «Потерянном рае» не случайно приписывал изобретение пушки дьяволу
[664].
Говорили куманьки, или, как ещё называли жителей Буэнос-Айреса, портеньос, на особом местном жаргоне, называвшемся лунфардо и представлявшем собой жуткую мешанину из испанского, английского, идиш, итальянского и других языков. Кроме этого, в лунфардо было немало слов с цыганскими корнями, Так, например, в глаголе «ачурар» — убить, зарезать — прослеживаются корни цыганского названия ножа — чури, чори или чхори, оставившего след во многих романских языках
[665], а слово «найфе» — нож не может скрыть своего английского происхождения
[666].

Рис. 36. Итальянские эмигранты на празднике в Рио Терсеро, Аргентина, 1914 г.
Поскольку именно на лунфардо были написаны тексты многих танго, иногда случались забавные метаморфозы. Так, название известного танго Анхеля Вийольдо «Эль Чокло» появившегося в 1903 году традиционно трактуется в литературе о танго как «маисовый початок», как, собственно, оно дословно и переводится с испанского. Но это танго было написано не на кастильском испанском, а на лунфардо портеньос, в котором «чокло» обозначает не маис, а мужской половой орган
[667]. О подобных коннотациях упоминал и Борхес
[668]. Таким образом, хулиганский кабацкий шлягер, написанный для увеселения клиентов в борделях, неожиданно приобрёл новую трактовку и превратился в романтическую пасторальную песнь о кукурузе.
Очевидно, Борхес был прав, утверждая, что то танго, которое вернулось в Буэнос-Айрес из Парижа, уже не имело никакого отношения к Аргентине. К гитаре добавились нехарактерные и нетрадиционные инструменты, появились пафос, надрыв и сентиментальные тексты. Андрей Фёдорович Кофман также отмечал, что первоначально танго бытовало исключительно в среде городских низов. Как писал в 1914 году аргентинский посол в Париже — «танец, характерный для публичных домов и трактиров низшего пошиба». Из предместий Буэнос Айреса в центр города танго дошло через Париж, где благодаря аргентинцам-эмигрантам оно стало известно в 1910 году и как «экзотический» танец сразу вошло в моду
[669]. И сам танец подвергся стилизации: светский салон, а затем и эстрада вылущили из него все народное, национальное. «Европа вернула нам танго без танго», — писал аргентинский литературовед Т. Карелья
[670]. Эти трансформации прекрасно видны на примере того же «Эль Чокло» Анхеля Вийольдо. На сохранившейся записи оригинального танго 1903 года в сопровождении гитары звучит простенькая песенка, напоминающая частушки. Но в 1930–1946 годах изменился ритм, и мелодия превратилась в «жестокое танго».

Рис. 38. Пульперия, 1919 г.
То, что считается «классическим» танго сегодня, является позднейшим продуктом симбиоза маркетинга и мещанской городской традиции, а также прекрасным образчиком «городского», или, как его ещё называют, «мещанского» романса. Его отличительными чертами являются непритязательные тексты, патетичность, слезливость и обязательный надрыв. Не зря Борхес назвал танго-песню однодневкой
[671].
Всего до нас дошло около двух тысяч текстов танго и известно более двухсот имен сочинителей. Авторами танго были и неграмотные выходцы из деревни, и полуграмотные самоучки из городских низов, и даже любители стихоплётства из интеллигентной среды. Общее, что всех их роднит, — дилетантизм в поэзии
[672]. Тексты аргентинского танго рассчитаны на нетребовательный вкус и совершенно идентичны своим северным братьям — русским городским романсам. Там плачут над своей несчастной судьбой бесконечные проститутки — «милонгиты», блудные сыновья рыдают у ног старушек-матерей, а разбитые сердца, растоптанная любовь, луна, кровь, измены и ножи являются частью обязательного антуража каждого танго. Любой аргентинец был бы свято уверен, что любимая кабацкая песня российских рабочих окраин начала XX столетия «Маруся отравилась» — это калька с текста типичного аргентинского танго. Уже и не говоря о том, что хит всех времён и народов и символ городского романса на всём постсоветском пространстве «Мурка» в оригинале и был самым настоящим танго, музыку к которому по одной из версий в 1923 году написал «король танго», рижанин Оскар Строк. Как жестокое танго её исполнял популярный в 30-40-х годах другой известный рижанин, шансонье Константин Сокольский. Танго, которое мы знаем и видим сегодня, не имеет абсолютно никакого отношения к тому аутентичному танго пампы конца XIX столетия и бесконечно далеко от культуры гаучо в частности и от аргентинской культуры в целом. Его постигла судьба многих других этнических танцев, подвергшихся не менее безжалостной трансформации и коммерциализации.
Закончив это небольшое лирическое отступление, мы перейдём к истории борьбы аргентинских властей с дуэлями на ножах. Как я уже упоминал, жители пампы не отличались законопослушностью и славились суровым нравом и взрывным темпераментом, а вероятность того, что жандармы найдут в пампе беглого убийцу, можно лишь сравнить с шансами жандармов царской России арестовать преступника, сбежавшего на Дон или за Урал. Но, тем не менее, власти Аргентины не оставлял и попыток обуздать своих буйных и кровожадных соотечественников. При этом исполнительная власть сталкивалась с непреодолимыми трудностями в виде полного нежелания местных жителей, исповедовавших принцип «из пампы выдачи нет», сотрудничать с полицией, с огромными расстояниями, коррупцией и недостатком средств. И, тем не менее, борьба с дуэлями на ножах и бесконтрольным ношением оружия всё-таки велась, некоторые дела чудом доходили до суда, а иногда по ним даже выносили обвинительные приговоры.
Одной из первых попыток обезоружить своенравных гаудерио был уже упомянутый указ губернатора Буэнос-Айреса от 1753 года, предусматривавший за ношение ножа наказание в 200 плетей. Но как следует из статистических данных о росте насильственных преступлений в провинции Буэнос-Айрес, особого эффекта эта гипотетическая кара не возымела — ножи не только не прекратили носить, но, более того, количество ранений и смертей, причинённых этим оружием, только возросло. Следующий законодательный акт, направленный на борьбу с ножами, мы находим в датированном 1774–1776 годами сборнике постановлений муниципального совета Буэнос-Айреса. Указ это гласит: «Этим днём муниципальный совет постановил ввести строжайший запрет на продажу больших ножей известных как «дага», использование которых распространилось в наше время, и ножи эти длиной в полметра причинили большой вред»
[673].
Но очевидно, и это пожелание законодателей осталось незамеченным, и поединки на ножах проводились и далее, так как в 1809 году вице-король Рио-де-ла-Плата — Бальтасар Идальго де Сиснерос де ла Торре специальным указом вновь запретил ношение ножей и огнестрельного оружия. А в целях превенции поножовщин указ также предписывал установить надзор за игорными домами и пульпериями
[674]. Но и эта суровая мера не возымела должного действия. Вероятно, это можно объяснить тем, что отец этого проекта всего через пару лет после выхода указа лишился какой-либо возможности осуществлять надзор за выполнением своего решения, так как 10 мая 1810 года он был смещён в результате Майской революции.

Рис. 39. Карикатура на Росаса, 1841–1842 гг.
Порой какие-то более или менее успешные шаги в этом направлении предпринимали различные временщики и предводители военных хунт. Один из подобных запретов на ношение ножей был установлен дважды занимавшим пост губернатора Буэнос-Айреса, печально известным генералом Хуаном Мануэлем де Росасом, которого недоброжелатели иногда называли «аргентинским Калигулой». Некоторые представители власти издавали указы, позволявшие проводить в случае убийства короткие разбирательства, в результате которых всегда назначалось одно наказание: расстрел или повешение. Подобные радикальные меры применялись и режимом Росаса. В декрете от 1840 года Росас, которого также называли «реставратором законов», постановил, что для вынесения наказания достаточно простого свидетельства о совершении преступления. Грабёж и нанесение даже лёгких телесных повреждений, согласно его указу, карались смертной казнью
[675].
Чарльз Дарвин, встречавшийся с Росасом во время своего путешествия по Аргентине, вспоминал, что, согласно одному из его законов, никто под страхом заключения в колодки не должен был носить с собой ножа по воскресеньям. Это было связано с тем, что именно в этот день происходило большинство игр и пьянок, приводивших к ссорам, которые из-за распространённой здесь привычки драться на ножах часто заканчивались фатальным исходом. В связи с этим Дарвин привёл один показательный случай. Как-то в воскресенье в экстансию с визитом приехал губернатор, и генерал Росас поспешил к нему навстречу, как обычно, с ножом за поясом. Управляющий экстансии тронул его за руку и напомнил о законе. После этого Росас, обратившись к губернатору, сказал, что он очень сожалеет, но должен быть закован в колодки, и до тех пор, пока его не выпустят, он не хозяин даже в собственном доме. Спустя некоторое время управляющего уговорили Отомкнуть колодки и выпустить генерала, но как только это было исполнено, тот обратился к нему со словами: «Теперь ты нарушил законы, поэтому должен занять моё место в колодках». По свидетельству Дарвина, гаучо, у которых было сильно развито чувство собственного достоинства и равенства с людьми других классов, подобные поступки Росаса приводили в восторг
[676].
Вероятно, нежелание соблюдать закон и сотрудничать с органами правопорядка было обусловлено не только стихийным и свободолюбивым нравом жителей пампы, но ещё и тотальным недоверием к исполнительной власти в лице полиции. В первую очередь это было вызвано её необъективностью, продажностью и коррумпированностью, а также тем, что законы воспринимались большинством гаучо исключительно как инструмент, используемый богатыми для контроля бедных. Дарвин отмечал, что полиция и правосудие в Аргентине совершенно бездействуют. Если убийство совершал человек бедный, то его арестовывали и сажали в тюрьму, а может быть, даже расстреливали. Но если человек был богат и имел влиятельных друзей, он мог быть уверен, что никаких слишком тяжёлых последствий для него не будет. Даже самые почтенные граждане помогали убийце бежать, искренне считая, что человек, убивая, согрешил против правительства, а не против народа. Почти каждого аргентинского чиновника можно было подкупить. Начальник почтовой конторы продавал почтовые марки. Губернатор и первый министр открыто общими усилиями грабили подвластную им провинцию. Как только в дело оказывалось замешанным золото, о правосудии можно было забыть.
Дарвин упоминал некоего англичанина, который пришёл к верховному судье и предложил ему 200 долларов, если тот в определённый срок арестует человека, который его надул. Верховный судья благосклонно улыбнулся, поблагодарил его, и ещё не наступила ночь, а обидчик уже был в тюрьме. Англичанин признался Дарвину, что поступил так по совету своего адвоката. В качестве резюме отец эволюционной теории саркастично заметил, что при такой полной беспринципности многих руководителей страны и при огромном количестве плохо оплачиваемых продажных чиновников народ всё-таки надеется, что демократическая форма правления будет иметь успех
[677].
Царившее в Буэнос-Айресе беззаконие поразило и англичанина Джорджа Томаса Лава, жившего в Аргентине с 1820 по 1825 год. Лав считал, что главной бедой Аргентины было то, что при малейших ссорах среди низшего сословия спорщики доставали ножи, и стычка, которая в Англии закончилась бы кровоподтёком под глазом разбитым носом, в этих местах приводила к убийству. Он полагал, что пока за этими преступлениями не будет следовать неотвратимое и быстрое наказание, они никогда не прекратятся, и в связи с этим крайне рассчитывал на новый закон, недавно принятый президентом Аргентины, Бернардино Ривадавиа. Лав также отмечал, что правосудие в Аргентине вершилось невероятно медленно, а вероятность, что преступник вновь окажется на свободе, сопровождаемая страхом перед возможной местью, удерживала людей от судебных исков. Как типичный англичанин, он сетовал, что в отличие от старой доброй Англии, где законы сильны и все оказывают помощь в задержании преступника, в Аргентине к выполнению гражданского долга относятся с полным равнодушием.
В своей книге Лав также обращался к противникам бокса в Англии и призывал их остановиться и задуматься, прежде чем осуждать это спорт, так как, с его точки зрения, запрещение бокса могло бы привести к более фатальным последствиям ссор. В качестве прискорбного и показательного примера возможного развития событий Лав приводил ситуацию в Аргентине. Он вспоминал, как ещё долго после его прибытия в эту страну было совершенно заурядным делом выставлять тела людей, погибших от удара ножа в поединках, на площади, где их могли опознать родные или друзья. Рядом с телами ставили блюдце для сбора средств, необходимых для похорон. «Эти поножовщины привлекали так мало внимания в Буэнос-Айресе, что никто даже не задумывался о поимке убийцы. Если каким-то чудом его и арестовывали, то заключение было недолгим, и вскоре он освобождался, чтобы совершить ещё больше преступлений. Мне было известно о шести или семи убийствах, совершённым человеком, оставшимся безнаказанным, и подобное положение дел поражает всех кто сюда приезжает». — писал Лав
[678].
Надо заметить, что упомянутый Джорджем Лавом закон о запрете ношения ножей, принятый правительством Родригеса Бернардино Ривадавиа 27 ноября 1821 года, отличался крайним либерализмом и никаких драконовских мер, призванных обуздать традицию поединков на ножах, не предусматривал. Вот как он звучал:
«Об использовании холодного оружия и произнесении непристойных слов в пульпериях и других общественных местах.
На сессии, имевшей место вчера, 26 ноября, был принят законопроект, запрещающий использование холодного оружия и устанавливающий следующие санкции:
1) Строжайше запрещено ношение ножей, кинжалов, даг в городе, его пригородах и в деревенских приходах.
2) Предыдущая статья не включает мясников, рыбаков, зеленщиков, чья деятельность требует использования этого оружия в рамках предписаний, установленных правительством.
3) Лицо, носящее какой-либо из перечисленных видов оружия, будет приговорено к общественным работам сроком на один месяц.
4) Лицо, доставшее вышеперечисленное оружие в драке или с целью нападения, приговаривается к общественным работам сроком на один год).
5) Лицо, ранившее кого-либо указанным оружием, приговаривается к общественным работам сроком на два года.
6) Лицо, использовавшее в драке любой другой вид оружия или предмет, даже палку, приговаривается к общественным работам сроком на шесть месяцев.
7) Лицо, нанесшее в драке даже лёгкое ранение с помощью других видов оружия и предметов, описанных в предыдущей статье, приговаривается к году общественных работ.
8) Непристойные слова, произнесённые в пульпериях и других общественных местах, а также оскорбление прохожих на улице наказывается общественными работами сроком на восемь дней.
9) Контроль за выполнением требований предыдущей статьи является обязанностью начальника и комиссаров полиции.
10) Осуществление надзора за выполнением норм статей 3, 4, 5 и 6 возлагается на суды первой инстанции и местных алькальдов.
11) Следствие будет кратким и простым, и принятые решения будут окончательными и обжалованию не подлежат.
Закон вступит в силу через десять дней после того, как будет обнародован в каждом судебном округе»[679].
Как мы видим, максимум, что грозило гаучо, изрезавшему противника ножом на лоскуты, — это два года работ. Но даже для отбывания и этого мизерного срока сначала было необходимо найти преступника в бесконечных просторах пампы и попытаться получить свидетельские показания у его нелюдимых и неразговорчивых соседей и приятелей, связанных круговой порукой и совершенно не стремившихся оказать подобную услугу правосудию. Если к этому добавить продажность местных властей, готовых за разумную мзду закрыть глаза на любую бойню, то шансов вспотеть на общественных работах у гаучо было немного.
Я думаю, что приоритет, который нож держал в совершении преступлений даже после распространения в пампе огнестрельного оружия, был связан не столько с консерватизмом гаучо и их приверженностью кодексу чести, и даже не с относительной дешевизной, а следовательно, и большей доступностью этого оружия. Скорее предпочтение, отдаваемое ножам перед огнестрельным оружием, в первую очередь было определено позицией, занимаемой законодателями. Законы, вышедшие после 1810 года, уже регулировали правовые аспекты ношения оружия, и определяли разницу в ответственности за ношение ножей и огнестрельного оружия. Если ношение холодного оружия всё ещё рассматривалось законом как проступок, то ношение огнестрельного уже классифицировалось как тяжкое уголовное преступление. Конечно же, владельцы огнестрельного оружия могли апеллировать к тому, что ружьё или пистолет необходимы им для самообороны, но находившиеся у власти политические фракции всегда рассматривали владельцев огнестрельного оружия как потенциальных врагов, особенно если те состояли в оппозиции
[680].
Трудно сказать, какой из факторов сыграл решающую роль в исчезновении культуры дуэлей гаучо — их массовый исход в города и превращение в маргинальную прослойку, суровые законы или наступление новой буржуазной морали, в которой не было места архаичным представлениям о чести. А может, виноваты метаморфозы, произошедшие с социальной ролью мужчины, и изменения в позиции общественного мнения, осуждавшего традиционную трактовку мужественности с её моделями поведения, иерархичностью, ножами и жестокостью. Так или иначе, но эта трёхсотлетняя часть культуры Аргентины ушла навсегда. Как ностальгически писал Борхес в элегии, посвящённой ушедшим в небытие последним романтикам пампы:
«Уходит мифология кинжалов. Забвенье затуманивает лица.
Песнь о деяньях жухнет и пылится, став достоянием сыскных анналов.
Но есть другой костер, другая роза, чьи угли обжигают и поныне
Тех черт неутоленною гордыней и тех ножей безмолвною угрозой.
Ножом врага или другою сталью годами вы подвержены бесстрастно,
Но ни годам, ни смерти не подвластны, пребудут в танго те, кто прахом стали»[681].
Но справедливости ради надо отметить, что поединки на ножах не стали исключительно «достоянием сыскных анналов» и пожелтевших дагерротипов XIX века, а благополучно дожили до середины минувшего столетия. Рене Барри, известный фотограф швейцарского происхождения, прославившийся портретами Че Гевары и Пабло Пикассо, в 1958 году посетил Аргентину. Итогом этой поездки стал прекрасный альбом «Gauchos» с несколькими десятками великолепных жанровых сценок и бытовых зарисовок
[682]. Среди изображений гаучо, арканящих коней на эстанциях, отплясывающих милонгу на деревенских танцах или готовящих мате в котелке на костре, затесалось и несколько фотографий со сценами «эсгрима криолла» — креольского фехтования на ножах. На этих снимках пеоны с эстанции Ринкон де Лопес так же, как их далёкие предки сто лет назад, держа ножи в правой руке и обернув левую пончо, внимательно следят за каждым движением противника. Единственное отличие этих изображений от старых фотографий середины XIX столетия и как небольшая уступка наступающему прогрессу и изменившемуся миру это то, что в руках у дуэлянтов не полуметровые каронеро или даги, а небольшие верихеро.

Рис. 40. Вистео.
Но на этих фотографиях мы видим лишь старинную игру вистео, и было бы ошибкой воспринимать несколько сражающихся гаучо как возрождение массовой традиции поединков, хотя сам Барри и утверждал, что в его посещение Рио-де-ла-Плата подобные дуэли всё ещё случались. Нет никаких серьёзных документированных свидетельств о том, что аутентичная традиция поединков на ножах продолжает существовать и сегодня. Хотя в последние годы в Аргентине на волне возрождения интереса к культуре, фольклору и традициям гаучо как части национальной самоидентификации аргентинцев и в самом деле проводятся всевозможные попытки реконструкции архаичных дуэльных традиций креолов. Так, например, огромный интерес у жителей страны вызывают различные этнографические шоу с демонстрацией метания болас и лассо, и переживает ренессанс старинное искусство «пайады».
Автор предисловия к альбому Барри, Хосе Луис Лануза, писал, что в большей части Аргентины полностью исчезли те особые условия, благодаря которым и существовала культура гаучо. Многие поля огородили проволочными изгородями, лишившими всадника прежней возможности свободного передвижения. Изменились и методы ведения животноводства, и сегодня можно увидеть, как многие землевладельцы прибывают на родео или объезжают стада на автомобиле, вместо того чтобы ехать верхом. Даже этнический состав аргентинской нации значительно изменился после массового притока эмиграции 80-х.
Но даже сегодня повседневная жизнь на многих эстанциях и фермах может напомнить нам о прошлом. Искусные наездники всё ещё перегоняют огромные стада крупного рогатого скота, а умение использовать лассо всё так же считается одним из мужских достоинств. Не менее благородным занятием всё ещё считается и объездка лошадей. Всё так же популярны старинные народные мелодии, и, став частью масс-культуры, они могут достичь невероятной и беспрецедентной популярности. Сегодня существует общенациональная тенденция — спасти от исчезновения культуру гаучо. Несмотря на то, что аргентинцы из всех этнических групп Латинской Америки самые европеизированные, в глубине души они хотели бы чувствовать себя настоящими потомственными гаучо, так как в наши дни гаучо олицетворяет собой сплав всех лучших качеств аргентинца
[683].
Глава IV
ХОЛОДНЫЙ БЛЕСК СНИКЕРСА
Дуэли на ножах в Голландии


В ноябре 1697 года царь всея Руси Пётр Алексеевич, находясь с Великим посольством в Голландии, посетил Амстердам, где, как писал автор его биографии Казимир Валишевский, «ожидал его друг, почти сотрудник, городской бургомистр Николай Витсен». Витсен переписывался с Лефортом, бывал в России в царствование Алексея Михайловича и даже написал знаменитую книгу о восточной и южной «Татарии». Кроме этого, он служил посредником для царского двора при заказах кораблей и других покупках, производимых в Голландии, и не мог не принять венценосного путешественника с распростертыми объятиями
[684]. А в 1700 году, через три года после этой встречи, вернувшийся к тому времени в Россию великий государь неожиданно издаёт следующий суровый указ:
«На Москве и в городах всяких чинов людям ножей остроконечных никому с собою в день и в ночь и ни в какое время не носить для того, что многие люди в дорогах на съездах, и на сходах, и в домах, в ссорах, и драках, и в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти, а воры и нарочно с такими ножами ходят по ночам и людей режут и грабят, и со времени этого указа в ножевом ряду таких остроконечных ножей не делать, и не держать, и никому не продавать, а которые нож: и ныне у них в рядах есть, и те ножи им переделать и сделать тупоконечными, Марта к 31 числу нынешнего 700 году. А буде они тех ножей к вышеписанному числу не переделают иучнут их продавать, а купцы, покупая у них, учнут их носить: и тех купцов и продавцов с теми ножами приводить в Приказ и учинить им купцам и продавцам наказанье, бить кнутом и ссылать в ссылку. И сей Великого Государя указ в Китае, в ножевом и во всех рядах и в Белом, и в Земляном городах, по большим улицам и переулкам прокликать бирючем и в Стрелецком приказе записать в книгу; а по воротам Кремля и Китая и Белаго и Земляного городов и по крестцам с сего Великого Государя указу списать списки приклеить; а каким образцом те ножи делать, положить с теми же списками с указу Великого Государя»[685].
Через два года, в январе 1702-го, Посольскому приказу объявляется ещё более жестокий царский эдикт, на этот раз направленный против дуэлей и грозящий за участие в поединках суровыми карами — от отсечения конечностей и до смертной казни
[686]. Что же подтолкнуло просвещённого государя Петра Алексеевича неожиданно предпринять в родных пенатах такие беспрецедентные меры против ножей и поножовщин?
Автор фундаментальной работы об истории дуэлей Ричард Хоптон склоняется к мысли, что Пётр насмотрелся на дуэли во время своего знаменитого путешествия по странам Запада в девяностые годы XVII столетия и счёл нужным нанести превентивный удар и на родине, уничтожив этот обычай в зародыше
[687]. Хоптону оппонирует переводчик русского издания его работы — в русской редакции «Дуэль. Всемирная история». С его точки зрения причина кроется в том, что, поскольку на дуэлях гибли немногие ценные кадры, прежде всего из иностранцев, Пётр Первый просто не мог позволить себе терять дефицитных специалистов, которых у него было намного меньше, чем у коллег-государей в Центральной и Западной Европе. Вот он и надеялся, что страх перед казнью остудит горячие головы
[688].
Кто же из них прав? И для чего же Петру понадобилось запрещать не значительно более грозное оружие, такое как алебарды, бердыши или чеканы, а самые заурядные бытовые ножи, висевшие у пояса каждого крестьянина и горожанина? Что же так повлияло на формирование взглядов Петра в период с 1697 по 1702 год? Действительно ли всё упиралось исключительно в дефицит специалистов или же во время своего голландского турне великий государь увидел нечто такое, что заставило его немедля принять экстраординарные меры по разоружению простонародья государства Российского? По странному стечению обстоятельств в эти годы ещё одна страна сражалась с поножовщинами, и именно оттуда вернулся Пётр незадолго до написания своих указов против ножей и дуэлей. Этой страной каналов, мельниц, кораблей, плотин и тюльпанов была Голландия. Но какая связь между этой далёкой европейской страной и петровскими указами? Чтобы разобраться в этом, нам придётся «плясать от печки» и совершить ретроспективный экскурс.
В уже далёком 1998 году в Москве в самый разгар дефолта креативщики рекламной группы «ВВDО», работавшие над имиджем шоколадного батончика «Сникерс», создали один из самых удачных и популярных слоганов за последние двадцать лет: «Не грусти, сникерсни!» В том же году на мой рабочий стол курьер «Федекса» положил пакет, в котором находился только что увидевший свет сборник работ по истории криминалистики под редакцией профессора Пиетера Спиеренбурга. Перу самого Спиеренбурга в этом альманахе принадлежала монография, не только перевернувшая мои представления о народной культуре Европы, но также послужившая инспирацией и ставшая краеугольным камнем и отправной точкой этой книги. Эта судьбоносная работа называлась «Дуэли на ножах и кодексы чести в Амстердаме Нового времени» и рассматривала такой уникальный и малоизученный аспект европейской культуры, как многовековая традиция низших классов Голландии решать вопросы чести в поединках на ножах
[689]. Передо мной открылся целый новый мир, в котором на фоне пейзажей Брейгеля, ландшафтов Вильденса и ван Юдена персонажи бытовых сценок ван Остаде, Рейкарта и Тильборха кружили вокруг соперников в смертельном танце, сжимая в руке легендарные фламандские ножи.
Я не случайно вспомнил этот знаковый и уже ставший частью русской кухни шоколадный батончик. Дело в том, что более четырёхсот лет эти фламандские народные дуэли известны миру под «кондитерским» именем… сникерсни. Этимология этого названия достаточно ясна и легко прослеживается. В основе её лежит голландский термин «стекен оф снийден» — «колоть и резать», использовавшийся во Фландрии XVI столетия для обозначения дуэлей на ножах. В англоязычной литературе это выражение в интерпретации поединка на ножах впервые встречается в вышедшей в 1611 году книге английского поэта Сэмюеля Роулендса, где в описании батальной сцены фигурируют «фламандские ножи для стикорснай»
[690]. А в сатирическом стихотворении «Голландский характер», написанном в 1653 году, во время англо-голландской войны, английский поэт и парламентарий Эндрю Марвел не только выставляет голландцев пьянчугами и грубиянами, но и упоминает об их любимом развлечении, название которого к тому времени претерпело начительные трансформации и приобрело своё современное звучание — «сникерснии»
[691]. Также мы видим, что именно эта форма произношения вошла в обиход и стала традиционной, когда один из героев вышедшей в 1673 году пьесы английского драматурга и писательницы Афры Бен «Голландский любовник», заявляет: «Я покажу вам, как я хорош в сникерсни!» Чтобы у читателей не оставалось сомнений, что речь идёт именно о дуэли на ножах, автор добавляет ремарку: «Достаёт большой голландский нож»
[692].
К XVIII столетию большинство словарей, как, например, словарь Бойера 1729 года, уже привычно толкуют сникерсни как традиционную фламандскую дуэль на ножах
[693]. К XIX веку это выражение настолько вошло в обиход, что в некоторых языках и диалектах потерялся его изначальный смысл. В Средней Англии сникерсни было более известно как сникерсниз. Так, в вышедшей в 1881 году работе о диалекте Линкольншира — графства на восточном побережье Англии, Стритфилд приводит линкольнширское выражение «Тебя ждёт сникерснииз», которым жители местных городков и деревень пугали непослушных детей
[694]. Учитывая, что в этом регионе старой доброй Англии словом «сникерсни» называли большой нож, детишки Линкольншира должны были славиться своим безукоризненным поведением и послушанием. Возможно, именно обещание «пустить под нож» в качестве воспитательной меры и породило вошедшие в поговорку вежливость и прекрасные манеры английских леди и джентльменов викторианской эпохи.
Не оставили эти дуэли без внимания и российские языковеды, и словарь 1816 года скупо упоминает, что «сникерсни есть резание ножами, поединок на ножах, употребительный в Голландии между простым народом»
[695]. К середине XIX века сникерсни разошлось по различным диалектам и странам во всевозможных ипостасях. Так, в 1831 году под этим именем фигурируют семидесятисантиметровые ножи, которыми казнили бельгийских повстанцев. Документы 1858 года трактуют сникерсни и как любимые кинжалы жителей Фрисланда, и как жаргонное название складных ножей Норфолка
[696], а герой комической оперы «Микадо», увидевшей свет в 1885 году, угрожает «выхватить свой сникерсни» уже в интерпретации самурайского меча
[697].
Хотя первые официальные свидетельства о существовании сникерсни в Амстердаме датируются 1650 годом, однако нет оснований полагать, что именно эта дата является отправной точкой отсчёта зарождения народных поединков чести. Вполне вероятно, что голландская культура дуэлей на ножах имеет значительно более долгую историю. Так, например, некоторые свидетельства, датированные более ранним периодом, мы можем встретить в работах профессора Хермана Рооденбурга о церковных взысканиях, проводившихся реформатской консисторией Амстердама начиная с 1578 года. Эти дисциплинарные дела кроме иных проступков включали и описания различных насильственных деяний, совершённых членами церковной общины. В том числе консисторией был рассмотрен ряд серьёзных ранений с использованием ножей и даже несколько убийств. К сожалению, Рооденбург не упоминает деталей и подробностей этих инцидентов и лишь сообщает о количестве членов общины, совершивших преступления
[698].

Рис. 1. Бойцы на ножах. Deliciae Batavicae. Маркус Якобус, 1618 г.
Одно из самых ранних упоминаний о голландских народных дуэлях на ножах которое мне удалось найти датируется концом XVI столетия и встречается в путевых заметках известного английского путешественника Файнса Морисона. В 1591–1595 годах Морисон посетил несколько европейских государств, в том числе Голландию, где среди прочего изучал местные нравы и традиции. Вот как он это описал в своих воспоминаниях: «Говоря о нравах Брабанта и Фландрии, хочу отметить, что люди там свободны и от французского легкомыслия, и от немецкой важности и угрюмости, и по нраву своему находятся посередине между ними. Их женщины в беседе могут показаться вам распущенными, однако, это не так. Для доказательства храбрости у них существуют часто возникающие между ними кабацкие ссоры, когда они достают свои ножи и обговаривают друг с другом правила поединка — будут ли это Stecken или Schneiden, что обозначает колющие или же режущие удары, после чего сражаются согласно этим правилам. В поединках они используют длинные, узкие и острые ножи, входящие в тело лучше любого кинжала или стилета, и, как показывает мой опыт, наказания за такие поединки с ножами меньше, чем если бы они сражались с кинжалами или мечами. Чтобы вызвать эти ссоры, они произносят оскорбительные речи и отвратительные ругательства»
[699].
Примерно в этот же период появляется и известная голландская поговорка, содержащая аллюзию на народные поединки: «Сто голландцев — сто ножей»
[700]. В 1611 году о фламандских поединках на ножах упоминает в своей поэме Роуленде. А через несколько лет, в 1618 году, выходит работа Маркуса Якобуса «Deliciae Batavicae», на иллюстрациях к которой среди различных жанровых сценок и бытовых зарисовок из крестьянской жизни мы находим одно из самых ранних иконографических свидетельств существования в Голландии культуры народных поединков. На этой гравюре изображены двое крестьян с ножами в правой руке и войлочными шляпами в качестве импровизированных щитов в левой. Дуэль происходит на площадке перед таверной, и за поединком с интересом наблюдает толпа зевак
[701].
Голландская культура народных дуэлей чести не формировалась в течение нескольких веков, как, например, это происходило в Италии, а внезапно материализовалась из небытия не раньше второй четверти XVI столетия. Это неожиданное появление совершенно не характерной для Голландии традиции опровергает теорию местной и эндемичной природы этого культурного феномена и наводит на закономерные предположения о том, что к появлению этих поединков на голландской земле приложила руку прародительница большинства европейских ножевых культур — Испания. В пользу этой версии свидетельствует множество как прямых, так и косвенных доказательств. Так, например, ещё Эгертон Кастл в своей книге «Школы и мастера фехтования» упоминал о том, что во фламандском Брюсселе «была академия, обязанная своим происхождением процветающей школе фехтования, учреждённой испанцами во времена их господства в Нидерландах»
[702].
Появление этой кровавой субкультуры в Голландии было обусловлено целым рядом причин. Среди основных факторов я бы назвал длившуюся с 1568 по 1648 год Восьмидесятилетнюю войну, которую вели семнадцать протестантских провинций против владычества католической Испании. Одна из моих версий, предлагающих объяснение, как эта испанская традиция попала в Голландию, связана с небольшим городком Дюнкерк, расположенным на побережье Фландрии. Этот портовый городок прославился в основном благодаря Дюнкеркской операции, также известной как «операция Динамо». Во время этой кампании, с 26 мая по 4 июня 1940 года, отсюда были эвакуированы части британского экспедиционного корпуса под командованием лорда Горта, французские подразделения и соединения, входившие в 16-й корпус, и остатки бельгийских войск, блокированные немецкими частями. Но нас интересует не «Динамо», а не менее драматические события, ареной которых стал Дюнкерк за 350
лет до этой эвакуации, в разгар Восьмидесятилетней войны.

Рис. 2. Дюнкерк, 1613 г.
Итак, вернёмся в 1568 год, который можно считать датой рождения легендарных дюнкеркцев, сыгравших далеко не последнюю роль в появлении и популяризации народных дуэлей во Фландрии. Дюнкеркцы, также известные как голландские каперы, были торговыми рейдерами в службах испанской короны. Морское рейдерство, или «guerre de course», в ту эпоху являлось важной частью военно-морской стратегии, подразумевавшей нападения на торговые суда противника, с целью нарушить снабжение его флота. Корабли дюнкеркцев входили в так называемую Фландрскую армаду испанского флота и оперировали преимущественно на побережье Фландрии, в портах Ньюпорт, Остенд и Дюнкерк. В течение всей Восьмидесятилетней войны флот Голландской республики неоднократно пытался уничтожить досаждавших им дюн-керкских рейдеров.
С 1577 по 1583 год Дюнкерк находился в руках голландских повстанцев, пока Александр Фарнесе, герцог Пармский, не восстановил во Фландрии суверенитет своего дяди, короля Испании Филиппа Второго. В ту эпоху Дюнкерк был стратегически важным портом, окружённым коварными песчаными мелями. Из военных судов Парма собрал небольшую эскадру, предназначенную для нападения на торговые и рыболовные корабли голландцев. А вскоре Габсбурги в Нидерландах стали выдавать каперские свидетельства всем желающим, и ряды дюнкеркцев пополнились частными судами. Эти военные суда были известны в Голландии как «particulieren» — частные, гражданские, чтобы отличать их от королевских кораблей, также являвшихся частью этого флота. На пике их славы в распоряжении дюнкеркцев находилось около ста кораблей. Экипажи этих судов состояли из фламандских рыбаков, выходцев из Северных Нидерландов и некоторых других европейских стран. Кроме нападений на торговые и рыболовецкие суда дюнкеркцев также использовали в качестве морского конвоя, для сопровождения войск между Испанией и Испанскими Нидерландами. В 1587 году Голландской республикой был издан указ, в котором говорилось, что любой захваченный в плен дюнкеркский моряк должен быть выброшен за борт. Праведный гнев законодателей был понятен — к концу войны на долю дюнкеркцев приходилось около 200 захваченных голландских судов в год
[703].
Даже среди славившихся дурным нравом и пристрастием к пьянству голландских моряков дюнкеркцы пользовались печальной славой благодаря своей манере выяснять отношения в поединках на ножах. В 1653 году, во время англо-голландской войны, эту их жестокую традицию высмеял в своей поэме «Голландский характер» английский поэт Эндрю Марвел. Он выставил голландских моряков пьяницами и грубиянами, «режущими ножами лица в своих сникэнсниир так, как будто они ваяют скульптуру». Очевидцем подобных поединков довелось стать и Ричарду Вайсмену, придворному хирургу английского короля Карла Второго, начинавшему свою карьеру в качестве судового врача у дюнкеркцев. Ему неоднократно приходилось штопать на них дырки от ножей, на что он однажды саркастично заметил что «эта категория людей носит шрамы на лице с большой гордостью, как символ личной храбрости
[704].
На голландских судах с XVII века действовали жёсткие нормы морского права, разработанного ещё английским королём Ричардом Первым, согласно которым за ранение, нанесённое ножом товарищу по команде, руку нарушителя прибивали этим же ножом к мачте до тех пор, пока ему не удавалось вырвать нож
[705]. Так, 26 февраля 1654 года моряк Хендрик Юрианс угрожал ножом капралу. Он был приговорён к ста ударам плетью и к прибиванию руки к мачте ножом до тех пор, пока ему не удастся вытащить нож
[706]. 10 октября 1654 года моряки Вилем. Герритсен и Геррит Хармане устроили поединок на ножах. Оба дуэлянта были приговорены к 50 ударам плетью и прибиванию руки ножом к мачте
[707]. 17 марта 1667 года к такому же наказанию за участие в поножовщине был приговорён моряк Ян Якобс
[708]. 1 августа 1673 года за поножовщину к прибиванию руки был приговорён моряк Дирк Янсен
[709]. А 2 марта 1675 года приговор, вынесенный судовому канониру Юсту Верне за драку на ножах, предусматривал не только прибивание руки к мачте, но и шесть лет каторжных работ
[710].
Любопытно, что такое же наказание за поножовщину ввёл и Пётр Первый в Воинском уставе от 1716 года. Артикул 143 этого устава гласил, что «ежели кто с кем ножами порежется, онаго надлежит, взяв под виселицу, пробить ему руку гвоздём или тем ножом на единый час, а потом гонять шпицрутены»
[711]. Косвенно это подтверждает версию голландского следа во взглядах Петра Алексеевича. В случае же смертельного исхода матроса, совершившего убийство, привязывали к телу жертвы лицом к лицу и хоронили вместе с ней заживо. Причём в голландском военно-морском уставе эти наказания всё ещё встречаются даже в самом конце XVIII столетия — в 1795 году
[712]. Но как показывает практика, все эти суровые кары не особо впечатляли голландских любителей сникерсни.

Рис. 3. Два портных на дуэли, Йост Амман, 1588 г.
Таким образом, одна из версий, которые я хочу предложить вниманию читателей, связывает появление народных дуэлей с адаптированной голландскими флибустьерами испанской традицией поединков. Согласно другой версии, народные дуэли в Нидерландах возникли как подражание дуэлям формальным. В качестве основных доводов можно упомянуть и то, что эти поединки, как и формальные дуэли аристократии, подразумевали одинаковое количество участников, поставленных в одинаковые условия и вооружённых равноценным оружием. Например, в инциденте, произошедшем в 1545 году, упоминания о котором мы находим в прошении о помиловании, рассматривавшемся голландским судом, потерпевший сначала дал нож своему невооружённому противнику и только потом вызвал его на дуэль, на которой по иронии судьбы и был убит
[713]. Существенной разницей между этими двумя дуэльными традициями было то, что народные дуэлянты узнавали о дуэльных нормах и ритуалах от товарищей, тогда как их коллеги из высшего общества могли черпать информацию из множества специализированных книг.
Любопытно, что упоминания об официальных дуэлях, то есть заранее организованных, «договорных» поединках, в которых бы сражались на «благородном» оружии — шпагах, практически отсутствуют в судебных анналах Амстердама. А дуэли на пистолетах и так достаточно редкие на тот период в Европе, в официальных отчётах вообще не упоминаются. Было зарегистрировано всего несколько поединков на шпагах, и те в основном с участием бывших солдат. Но даже в этих нечастых инцидентах предварительная подготовка дуэли была редкостью. В 1712 году ночной дозор остановил поединок на рапирах и задержал участника этой дуэли — флотского офицера. Защищаясь, офицер заколол одного из патрульных, но был задержан и осуждён за убийство.
Лишь один инцидент, произошедший в 1682 году, можно с полным основанием считать официальной дуэлью. Дуэлянтами являлись двое бывших французских солдат, и в глазах их соотечественников из Третьей республики предмет спора вряд ли бы был достойным. У французов возникли разногласия, связанные с дележом добычи, после того, как они украли у фермера кошелёк на городской ярмарке. В результате было принято решение уладить спор в поединке на шпагах. Двое других солдат пообещали снабдить их оружием, что обошлось дуэлянтам в двадцать стиверов. Они договорились встретиться в таверне на следующий день. В конце концов, собрались все четверо. Из таверны вся компания направилась во двор дровяного склада в еврейском квартале. Там в присутствии владельцев шпаг, выступавших в качестве свидетелей, и проходила дуэль. Один из дуэлянтов был убит, а другой скрылся, но несколько месяцев спустя он был арестован за убийство своей подружки
[714].
Культура ножевых бойцов Амстердама существовала в особой социальной среде и имела ярко выраженную гендерную направленность — то есть, проще говоря, была исключительно мужской. Единственной ролью, которую играли в этих дуэлях женщины, было создание поводов и провокаций для поединков. Также культура ножа Голландии преимущественно являлась молодёжной — большинству ответчиков в делах по убийствам в поединках было около 20 лет. Доля возрастной группы 20–29 лет среди осуждённых за ранения или нападения в Амстердаме в период с 1650 по 1750 год составляла от 40 до 60 процентов. А известный амстердамский преступник тех лет Якоб Мануэле, известный под кличкой Шерстяной Тюк, начал свою карьеру бойца на ножах в пятнадцатилетием возрасте
[715].
Ещё одним важным фактором после пола и возраста была социальная принадлежность дуэлянтов. Вряд ли будет неожиданностью, что в основной своей массе амстердамские бойцы на ножах были выходцами из низших классов. Кроме этого многие из них принадлежали к преступному миру или, по крайней мере, к той части низших слоёв общества, которая пользовалась наиболее дурной репутацией. Когда же мы рассматриваем профессиональные занятия ножевых бойцов Амстердама, то в первую очередь, естественно, обратим внимание на матросов, так как Амстердам являлся крупным портом. Не менее важное положение моряки занимали в субкультуре насилия и других европейских городов, таких, например, как Севилья в Испании. Независимо от рода занятий основным источником дохода многих бойцов на ножах служили кражи и грабежи
[716].
Может возникнуть закономерный вопрос: как в протестантской Голландии, восемьдесят лет отчаянно сражавшейся против католического гнёта, могла появиться отрицаемая и осуждаемая протестантской моралью средиземноморская рефлекторная культура личной чести? Явление специфическое именно для стран с католическим вероисповеданием, так как, согласно протестантским канонам, настоящая честь происходит только от бога. Для этого нам придётся вспомнить удалых любителей поединков на ножах, дюнкеркцев, многие из которых были выходцами из одного и того же региона — Северного Брабанта. И печально известные своими лихими поножовщиками города Осс, Гронинген и Хертогенбос также находятся именно в этом регионе Нидерландов. Итак, совершим краткий исторический обзор этого эпицентра ножевой культуры Фландрии. До XVII столетия большая часть территорий, принадлежащих сегодня провинции Северный Брабант, входила в Брабант-ское герцогство, южной частью которого является сегодняшняя Бельгия. В XIV–XV веках этот регион переживал золотой век, и особенно процветали такие торговые города, как Левен, Антверпен, Бреда и Хертогенбос. После подписания в 1579 году Утрехтского мира Брабант превратился в поле битвы между протестантской Голландской республикой и католической Испанией, оккупировавшей соседние Нидерланды. В результате Вестфальского мира северная часть Брабанта отошла к Нидерландам в качестве Стаатс Брабант — государства Брабант, находившегося под федеральной властью, что отличало его от самоуправления провинций Голландской республики.

Рис. 4. Уличные бои между жителями Хертогенбоса и членами Гильдии фехтовальщиков в июле 1579 г. Карел Якоб де Хёйсер, около 1774–1778 гг.
Попытки ввести в регионе протестантство закончились провалом. Северный Брабант оставался ярым приверженцем католической церкви и на протяжении более ста лет служил военной буферной зоной. В 1796 году, когда Нидерланды стали Батавской республикой, Стаатс Брабант трансформировался в Батаафс Брабант — Батавский Брабант. Действие этого статуса окончила реорганизация, проведённая французами. После этого область была разделена на несколько районов.
В 1815 году Бельгия и Нидерланды объединились под властью Объединённого Королевства Нидерландов, и была образована провинция Северный Брабант, чтобы отличать её от Южного Брабанта, ныне находящегося в современной Бельгии, отделившейся от королевства в 1830 году. Граница между Нидерландами и Бельгией специфична тем, что не образует непрерывную линию, и существует несколько небольших анклавов по обе стороны границы, таких как Барле-Хертог. После образования провинции её территория была расширена — частично за счёт провинции Голландии, а частично за счёт бывшей территории Равенштейна, ранее принадлежавшей княжеству Клеве, а также нескольких небольших автономных образований. И даже сегодня население Северного Брабанта большей частью католическое, и доминируют тут политические партии католиков, которых поддерживает 75 % населения. Если учесть всё вышесказанное, становится понятно, почему именно этот католический анклав стал эпицентром сникерсниз
[717].
К сожалению, по объективным причинам, история народных дуэлей, в отличие от поединков аристократии, не балует нас ни роскошными изданиями дуэльных кодексов, ни богатой историографией, ни детальными описаниями дуэлей в светской хронике. За сохранившиеся и дошедшие до нас отрывочные сведения об этих поединках в первую очередь мы должны поблагодарить служителей Фемиды раннего Нового времени. Именно эти люди, заполнявшие страницы уголовных дел и полицейских протоколов, и донесли до нас сагу культуры сникерсни.
О самих бойцах на ножах, а также об их кодексах чести и представлениях о мужественности мы можем узнать благодаря материалам ста сорока трёх судебных дел об убийствах, совершённых в период между 1650 и 1810 годами. Это исследование дополнено предварительным анализом судебных дел Амстердама, связанных со случаями насилия без смертельного исхода. И в том и в другом случаях протоколы допросов отлично документированы, что прекрасно иллюстрирует следующая выдержка из оригинального уголовного дела.
Ночью 19 декабря 1690 года мужчина по имени Йенс Смит скончался от ножевых ранений нанесённых человеком, которого он до этого дня никогда не встречал. Произошла эта трагедия из-за невестки Смита по прозвищу Мооленард Джет, дамы с сомнительной репутацией. Этим вечером Джет находилась в подвальной пивной у канала Верверс — в Амстердаме недорогие пивные часто открывали в подвалах. По неустановленной причине она ввязалась в ссору с неким Клаасом Абрамсом, который намеренно бросил ей в лицо три куска трубочного табака. Джет обозвала его «gauwdief» — мошенником, после чего покинула заведение. Когда Клаас поднялся, чтобы последовать за ней, один из посетителей остановил его в дверях. Он и другие клиенты пивной задержали его на четверть часа и отпустили, лишь взяв с него слово не причинять Джет вреда. Но Клаас тут же забыл об обещании, нагнал Джет на улице Русланд и следовал за ней по пятам, хотя и не предпринимал никаких враждебных действий. На мосту Ломмерс напуганной Джет посчастливилось встретить своего шурина Абрахама, которого сопровождал Фриик Спаньярт, прославленный в городе боец на ножах. Показательно, что, несмотря на свою репутацию, в последовавшем инциденте, в котором погиб его друг, Фриик оставался пассивным наблюдателем. Джет, как и следовало ожидать, пожаловалась шурину на домогательства Клааса. Повернувшись к Клаасу, Абрахам достал нож. Но потом заявил, что не собирается драться, и продолжил путь. Однако Клаас счёл недопустимым не отреагировать на подобную угрозу и направился вслед за Абрахамом с ножом в руке. Тогда Абрахам дважды задал ему вопрос, собирается ли он причинять зло Джет. Так как ответа он не дождался, последовал поединок на ножах. Фриик Спаньярт и Джет в ход дуэли не вмешивались и только наблюдали за боем. В разгар поединка сломался нож Абрахама. Он попросил нож у Фриика, и тот дал ему свой. Очевидно, противник предоставил ему перерыв для замены ножа. Правда, это не помогло Абрахаму. Он получил тяжёлое ранение и был доставлен в перевязочную, а Клаас скрылся с места драки. Позже этим же вечером Джет по его просьбе навестила жертву в больнице, в то время как сам Клаас прятался в подвале. Вернувшись после полуночи, Джет сообщила, что Абрахам умер. И Клаас тут же покинул город. Но потом вернулся, через пару недель после возвращения был схвачен и обезглавлен в январе следующего года
[718].
Нет никаких сомнений, что этот детально описанный инцидент включает все хрестоматийные признаки дуэли и является типичным сникерсни, а его участники — Йенс Смит, Фриик Спаньярт и Клаас Абрамс представляют собой так называемых ээрлийк фуурфехтерс. В голландской культуре народных дуэлей термин «voorvechter» — «боец» обозначал человека, искусно владеющего ножом. А выражение «eerlijkman», или «eerlijk voorvechter», — «честный боец» использовалось в среде дуэлянтов для обозначения человека, соблюдающего правила честного боя, дуэльные ритуалы и кодексы — то есть некий аналог итальянского «уомо д'оноре» — «человека чести»
[719].
Типичный фуурфехтер всегда носил нож в кармане и был готов пустить его в ход, когда бы его ни вызвали на бой. Обычно вызов на поединок происходил в результате ссоры, вспыхнувшей в мужской компании в таверне или на улице. Самым распространённым поводом для дуэли являлись словесные оскорбления, что сближало ножевые поединки с формальными дуэлями на шпагах или пистолетах. Но объединяло их не только это. По крайней мере, одна из сторон должна была почувствовать, что задета её честь. Как и в формальной дуэли, перед началом поединка оскорблённый должен был вызвать своего соперника. В соответствии с правилом, запрещающим поединки внутри помещения, вызов часто представлял собой предложение выйти на улицу в форме ритуальной фразы «ста васт» — «будь мужиком», или «докажи, что ты мужик», что в данном контексте можно интерпретировать как «встань и дерись». Во время драки в таверне подобные слова не могли быть истолкованы неверно
[720].
Совершенно необязательно, чтобы поединок начинался сразу же после выхода на улицу. Сначала ссора переходила в фазу словесной перепалки, и только потом дуэлянты могли отправиться в какое-либо укромное местечко — как правило, закоулок или внутренний дворик. Но что бы они ни делали до этого, клич «sta vast» становился точкой невозврата. Когда один из участников произносил эту сакральную фразу, оба противника должны были достать свои ножи, и с этого момента каждый из них был обязан атаковать или защищаться
[721].
Ранее историки не придавали значения кабацким ссорам, рассматривая их лишь как свидетельство горячих страстей минувших столетий, и видели в этих конфликтах только бессмысленное насилие. Но известный голландский учёный, профессор культурной антропологии Антон Блок утверждал, что когда мы начинаем анализировать происходящее, всё, что казалось нам лишь бессмысленным насилием, приобретает символизм. Но это совершенно не означает, что мы это насилие одобряем. Просто мы начинаем лучше понимать его природу
[722].
О том, что Фриик Спаньярт был «ээрлийк фуурфехтер» — искусным бойцом, соблюдающим кодекс чести, мы узнаём не из прецедента с Клаасом Абрамсом, а из фрагмента протокола судебного процесса, проходившего через несколько месяцев после этого события. Интересно, что ответчик в этом процессе — некий Херманус де Брюйн был знаменит не менее, чем Спаньярт. Подруга де Брюйна как-то вспоминала разговор, произошедший в его отсутствие в таверне, которую они часто посещали вместе. По мнению владельца этого заведения по прозвищу Бабуин, Херманус был непобедимым «voorvechter». Бабуин даже считал, что он лучше таких прославленных бойцов, как Хармен Хёдемекер и Фриик Спаньярт. Скорее всего, имя Фриика до этого момента не было знакомо писавшим этот протокол следователям или судебным секретарям, и суд учёл эту беседу в качестве повода для дополнительного обвинения. Кстати, прозвище Фриика — Спаньярт, или Испанец, также может служить свидетельством испанского происхождения этих дуэлей.
Таким образом, из подобных документов мы узнаём, что и сами поединки на ножах, и их участники обсуждались в тавернах, а опытные бойцы вызывали восхищение и пользовались популярностью. Как уже говорилось, немало дуэлянтов считалось мастерами ножа — в некоторых протоколах осмотра тел судебные писцы отмечали, что у жертв была репутация искусных бойцов
[723].
Хотя люди с ножами и относились не к самой респектабельной части общества, зато они уважали правила игры. Эти схватки один на один не были простыми беспорядочными стычками — ход поединка на ножах диктовался ритуалами и культурным кодом. Это были самые настоящие народные дуэли.
Уважение к правилам в них сочеталось с импульсивным поведением и кипением страстей. Предшествовавшие поединкам ссоры были самыми настоящими и гнев — искренним. Сочетание в этих поединках следования дуэльному ритуалу и в то же время подверженности эмоциям и сегодня интригует современные западные умы
[724].
Истинные бойцы твёрдо соблюдали основные правила, главным из которых, как уже говорилось, было обеспечить честный бой. В приготовлениях к поединку мог принять участие любой, но когда двое мужчин начинали схватку, остальные обычно отходили в сторону.

Рис. 5. Ссора за игрой в карты. Давид Рийкарт (1612–1661).
Учитывая, что среди зрителей, особенно когда ссоры возникали в компании, часто присутствовали друзья обоих дуэлянтов, эта предосторожность не была лишней.
В первую очередь эти поединки были проверкой мастерства, и бой обычно прекращался или после первого ранения, или в связи с явным преимуществом одного из бойцов. Но случалось, что дуэли заканчивались смертью участников. За редким исключением гибель бойца в народной дуэли являлась следствием несчастного случая и, как и во всех культурах дуэлей на ножах, считалась в среде ээйрлийк фуурфехтерс не более чем досадным недоразумением
[725].
Согласно традиционному кодексу голландских поножовщиков, честь мужчины была важнее его жизни. Следовательно, невмешательство в ход поединка было тем лучшим, что друзья могли сделать для дуэлянтов. Худшим же вариантом развития событий являлось нападение двух на одного, превращавшее бой в бесславное побоище. И 8 этом случае концепции народной и аристократической дуэлей также совпадали. Объединяла их и тенденция сражаться на открытом воздухе. Предложение выйти на улицу и в том, и в другом случае всегда рассматривалось как вызов на поединок. Инциденты, когда посетители заведения, грубо нарушив дуэльный ритуал, доставали ножи прямо в таверне, представляли собой обычные драки и дуэлями не являлись. Принципиальная же разница между двумя формами дуэлей заключалась в спонтанности народных поединков. Хотя ритуал присутствовал и в народной дуэли, но он скорее был рассчитан на мгновенное урегулирование возникшего конфликта. Кроме этого, народные дуэлянты, в отличие от участников формальных поединков, никогда не отправляли письменные вызовы — во-первых, чтобы не привлекать внимание властей, а во-вторых, многие из них попросту были неграмотными. Как и в формальной дуэли, так и в её народном варианте получить ранение или даже погибнуть могли оба участника. Так, например, протоколы осмотра тел Амстердамского суда описывают три инцидента, в которых погибли оба дуэлянта. Многие дуэлянты, представшие перед судом на обвинительных процессах, имели серьёзные ранения, а один из них, приговорённый к смертной казни, настолько ослабел от полученных в поединке ран, что сидел, когда палач отрубал ему голову
[726].

Рис. 6. Поножовщина. Йонас Сейдерхуф, около 1650–1680 гг.
Если на дуэли и присутствовали третьи стороны, то они выступали исключительно в качестве свидетелей. Их роль можно сравнить с функцией секундантов в официальной дуэли, но, в отличие от формального поединка, их присутствие не оговаривалось заранее. В этих случаях в качестве третьей стороны мог выступать только третейский судья, пытавшийся уговорить дуэлянтов остановить бой. Но вмешательство третьей стороны в ход поединка не всегда являлось табу. Чтобы не нарушить дуэльный код и ритуал, такое вторжение могло осуществляться в двух случаях. Так, например, третья сторона могла принять участие в поединке вместо товарища, который по каким-либо причинам не мог продолжать бой. В 1698 году двое братьев, Коенраат и Антоний, сидели в таверне, когда там появился некий тип — давний враг Антония. Вскоре после этого Антоний с соперником вышли сражаться на улицу. В тот момент, когда Антоний споткнулся и упал, в поединок вмешался Коенраат, вероятно, полагая, что он вправе занять место брата. В результате этой замены их противник получил ножевое ранение в живот и скончался на следующий день
[727].
Приведу ещё одно любопытное свидетельство о подобной замене с фатальным исходом. 24 января 1662 года члены Верховной коллегии городка Туйл, судьи Роу и Дорт, начали расследование инцидента, произошедшего днём раньше в таверне деревеньки Хеллау, расположенной в провинции Гелдерланд, на северном берегу реки Ваал. Власти Тилерваарда — прихода, в котором находилась деревня, уполномочили их провести опрос свидетелей, являвшихся местными жителями. Первыми на допрос прибыли местные хирурги — Хермен Тийсен из Хаафтена и Дирк Антониссен из Хервийнена. Оба врача подробно описали, как осматривали ножевые ранения пострадавшего, лежавшего на охапке соломы на полу таверны. Жертва, молодой человек, получила удар ножом, распоровший правую руку с внутренней стороны. Нож рассёк артерию и вену, что вызвало обильную кровопотерю и в течение пары часов привело к смерти раненого.
Следующими явились очевидцы, присутствовавшие при этой трагедии. Это были трактирщик Эверт Корнелис, его жена Тойнтхен Янс, его 24-летний сын Ян Эверс и два завсегдатая таверны — Петтер Янс Кеппел 42 лет и Виллем Герритц Кром 33 лет. С их слов инцидент выглядел следующим образом: 23 января 1662 года, ближе к вечеру, в таверну заглянули шестеро мужчин из деревни Гамерен, которые искали деревенского писаря по фамилии Де Рау. Услышав, что скорее всего он дома, они ушли, но через два часа вернулись. Их звали Арьен Шпрукл, Якоб Янс по кличке Хенс, Ян Петерс, Ваутер Мертенс, Хиирлоф ван Туйл и Ян Офтен ван Туйл. Вскоре между Шпруклом и Хенсом вспыхнула ссора. Трактирщик попытался замять конфликт, однако Ян Офтен ван Туйл крикнул: «Да оставь ты их в покое, у них для поединка кишка тонка! Оба они пустозвоны и лишь языком молоть умеют!» После этих слов Ян Офтен ван Туйл достал нож и вызвал Хенса на поединок. В качестве вызова он провёл ножом по твёрдой поверхности — этот звук, согласно кодексу чести, уведомлял присутствующих о наличии оружия и традиционно символизировал вызов на бой. Хенс от поединка уклонился, сказав, что у него нет ножа. Тут Ваутер Мертенс заорал: «Зато у меня есть!» — и выхватил нож.
Виллем Кром, размахивая стулом, пытался растащить противников, в чём ему помогали жена и сын трактирщика. Сын обхватил Яна Офтена, а кто-то схватил левую руку Ваутера Мертенса. Но Ваутер изловчился и ударил Яна Офтена свободной правой рукой. Офтен заорал на сына трактирщика: «Ян Эверс, немедленно отпусти меня, пока я не загнал тебе нож между рёбер!» Как только Эверс отпустил Офтена, тот мгновенно нанёс Ваутеру несколько ударов в правое предплечье. Первым удар был секущим, а второй — колющий, он распорол предплечье по всей длине и сопровождался целым потоком крови. Ваутер упал на пол, причитая: «Я умру! Я последую за моим братом, также погибшим в поединке». Вскоре прибыли хирурги и перевязали рану. Но Ваутер потерял слишком много крови, и все их усилия оказались тщетными. Через несколько часов он скончался
[728].

Рис. 7. Драка на ножах (фрагмент). Вацлав Холлар, (1607–1677).
Но более распространён был второй вариант вмешательства, допускавшийся дуэльным кодексом. Во множестве описаний дуэлей на ножах фигурирует некое третье лицо, вставшее между дуэлянтами с целью уговорить их прекратить бой. В судебных документах это обычно классифицировалось как «разделение бойцов». Иногда это «разделение» достигало успеха, и тогда в судебных записях отмечалось как «удачное». В других случаях вскоре после попытки примирения ссора разгоралась с новой силой и вновь перерастала в поединок. В большинстве инцидентов, закончившихся убийством, всё происходило именно по этому сценарию. Кроме прочего, такое вмешательство в ход боя для разделения дуэлянтов несло и определённый риск. Многие фехтовальщики были настолько заняты своими противниками, что не замечали ничего вокруг. В результате иногда «миротворцы» по неосторожности получали случайные ранения, и порой достаточно серьёзные. Так, в протоколе осмотра тела мужчины, убитого в 1721 году, стоит пометка, что смерть наступила в результате ранения, полученного при попытке растащить двух вооружённых ножами соперников. Сами дуэлянты при этом избежали ареста
[729].
Иногда присутствовавшие на поединках наблюдатели, являвшиеся знакомыми лишь одной из сторон, вели себя достаточно пассивно. Так, например, Клаес Хендрикс Крэмер по прозвищу Шмидье на ярмарке в Ден Бош в 1665 году повстречал своего старого врага Йонкера Бексе в сопровождении двоюродного брата и двух женщин. Противники успели договориться о поединке и только собрались отойти в укромное местечко, чтобы урегулировать конфликт, как их растащили. Неожиданно Клаес услышал голос Бексе: «Шмидье, где ты?» Он подошёл ближе и увидел Бексе в компании его кузена. «Васже двое!» — возмутился Клаес, но кузен Бексе успокоил его: «Начинайте, я не стану вмешиваться». За этот ответ он удостоился похвалы от Клаеса, назвавшего его человеком чести. Начался поединок. Бексе скончался от полученных ран на следующий день, когда Клаеса уже не было в городе — он уехал в Амстердам и нашёл там работу. Но через два года он всё-таки был арестован и осуждён за убийство Бексе
[730].
Другой пример подобного невмешательства в ход поединка мы находим в датированном 1704 годом протоколе, описывающем драку в трактире. Ход событий не совсем ясен из судебных записей, но понятно, что ответчиком был некий Ян.
«В какой-то момент он (Ян) вышел на улицу в сопровождении Стиинтье и Чёрного Мартина, достававших по дороге свои ножи. Потом и Яну дал нож какой-то незнакомец. Стиинтье сказал Яну условную фразу «Ста васт», послужившую началом поединка. При этом Чёрный Мартин в ход дуэли не вмешивался»
[731].
Ещё основное правило народной дуэли — не доставлять проблемы и неудобства хозяину или хозяйке заведения. Если конфликт начинался в таверне и всё явно шло к драке, то участники ссоры выходили на улицу — поединок всегда происходил снаружи. Даже просто достать нож в помещении уже считалось бесчестным поступком. Эта традиция была настолько общепринята и обыденна, что даже не было необходимости специально документировать такие примеры. С неприкосновенностью жилища был связан и другой ритуал, известный как «Herausfordern aus dem Haus», или выманивание противника из дома. Если это удавалось, то покинувший помещение человек терял защиту этого дома, так как жилище по закону было неприкосновенно. Если же выманить его не получалось, то нападавший мог поносить и оскорблять его как труса, разбивать в доме окна, ломать забор или в качестве формального вызова воткнуть нож во входную дверь
[732].
Нередко в разгаре конфликта мужчина шёл до конца только потому, что знал — у него нет другого выхода и он просто обязан сражаться, чтобы не потерять лицо и не нарушить кодекс чести. Именно так был вынужден поступить и Клаас Абрамс, так как он не мог не отреагировать, когда Абрахам Йенс Смит угрожал ему ножом. Кодекс чести также обязал и другого, не менее известного дуэлянта — Фриика Спаньярта, воздержаться от помощи другу.

Рис. 9. Драка на постоялом дворе. Франс Гринвуд, 1733 г.
Рис. 8. Аллегория Брабантского восстания(фрагмент), 1791 г.
Стоило ему вмешаться, и дуэль превратилась бы в заурядную драку или даже в неравный, а значит, и бесчестный бой двоих против одного. Как уже говорилось, подобное вмешательство в ход поединка не нарушало кодекс чести только в том случае, если необходимо было разнять бойцов. При раскладе двое на одного пострадала бы репутация не только Фриика, но и самого Абрамса. А вот передать свой нож другу было в порядке вещей, так как это делало поединок равным
[733].
То, что такой поединок мог закончиться смертью одного из участников, было неотъемлемым, хотя и не всегда неизбежным риском. В данном случае Фриик оценил честь Абрамса дороже жизни собственного друга. Всё в этом мире ножевых бойцов было подчинено диктату чести. И в этой истории убийца в конце концов расстался с жизнью также согласно требованиям кодекса чести. Он мог бы избежать смертной казни, так как первым вытащил нож его противник, а значит, он действовал в самообороне. Но этот довод был отклонён судом, так как амстердамские судьи сочли, что, когда у его противника сломался нож, Абрамс обязан был воспользоваться представившейся ему возможностью и убежать
[734].
Следующий пример поединка один на один доказывает, что ритуальная обязанность вести честную игру не всегда соблюдалась в полной мере. Четырьмя действующими лицами этой истории были некие Ян, Йоханнес, Дирк и Франс. Днём Ян присутствовал на чьих-то похоронах, а вечером все четверо сидели в таверне на Харлеммердийк, когда Йоханнес и Франс начали переругиваться с Дирком. Все трое вышли на улицу, доставая ножи, и Ян последовал за ними, чтобы урегулировать конфликт. Особенно он старался успокоить Йоханнеса, который был страшно зол на Дирка. Вскоре Дирк покинул компанию. По настоянию Франса все трое направились в таверну на Линденграхт, чтобы пропустить ещё по кружке пива. По дороге в таверну Йоханнес, который всё ещё злился, что Ян растащил их с Дирком, дважды угрожал Яну ножом. Тот в ответ на угрозы заметил, что ему придётся подождать, пока они дойдут до места, где он сможет снять свою чёрную куртку, что, видимо, должно было означать, что он не мог драться, пока она была на нём.
От куртки Ян наконец избавился в таверне на Линденграхт, но и после этого драки не произошло. Чуть позже Йоханнес пнул ногой собаку Яна, опрокинувшую только что заказанную им кружку пива. После этого он бросил Яну ритуальную фразу «Sta vast» и в его сопровождении направился на улицу. Это было в четыре часа утра. Франс в этой истории больше не упоминается, поэтому присутствовал он на поединке или нет, неизвестно. Вскоре после начала схватки Ян взял верх и нанёс Йоханнесу удар ножом в живот. Йоханнес упал, но, несмотря на это, сумел порезать Яну большой палец руки, после чего нож застрял в правом предплечье Яна. Ян вытащил нож, отбросил в сторону, а затем ударил Йоханнеса своим ножом в правое плечо. Но и нож Яна тоже застрял. Он сумел вытащить его только после того, как прибыла ночная стража. Ударить ножом безоружного противника, безусловно, являлось тяжким нарушением кодекса честного поединка. Похоже, в этом случае эмоции пересилили уважение к ритуалу
[735].
Как уже говорилось, наиболее распространённым поводом для вызова на дуэль являлись словесные оскорбления. Среди них были такие популярные эпитеты, как «schelm» — «мошенник», «негодяй», а также «вор» или «шлюха».
Так, инцидент, произошедший в 1682 году, начался с того, что прохожий принял убийцу за еврея и назвал его «smous». А иногда молодые задиры оскорблялись, когда к ним обращались «мальчуган» или «братишка»
[736]. Хотя в большинстве поединков между дуэлянтами не было ни старых конфликтов, ни неприязни, но в нескольких инцидентах судебные документы зафиксировали существование долгой и застарелой вражды. Некий фуурфехтер по прозвищу Чёрный Туун проделал на баркасе долгий путь от Гарлема до Фексельской верфи только для того, чтобы встретиться со своим врагом. Увидев его, он воскликнул: «Ну вот и я!». Для начала Туун ударил его по лицу, затем произнёс «Ста васт!», и оба достали ножи
[737].
Складывая все эти фрагменты воедино, можно заключить, что народная дуэль в первую очередь была проверкой бойцовского мастерства и проверка эта заканчивалась в тот момент, когда один из дуэлянтов пускал другому кровь или слишком явно превосходил его в бойцовском умении. Похоже, что в большинстве случаев искусному бойцу достаточно было порезать противнику лицо, после чего он мог спокойно отправиться домой. У менее опытных фехтовальщиков был высок риск случайно убить своего противника. Как правило, это происходило в тот момент, когда из-за недостатка опыта вместо того, чтобы порезать лицо, нож втыкали в живот или грудь. Это могло бы объяснить, почему в судебных протоколах фигурирует немало колющих ударов
[738].

Рис. 10. Дуэль на ножах. Третьего ссорщика секундант удерживает от вмешательства. Дирк Босбом, 1681 г.
Некоторые из ножевых бойцов проверяли своё мастерство, не выискивая особых поводов для провокаций и не прибегая к прямым оскорблениям. Подобных свидетельств немного, но они показательны. Так, некий юноша, как-то прогуливавшийся в компании двух приятелей, бросил свой нож на землю, воскликнув: «Пусть поднимет его тот, кто хочет сразиться со мной». Нож незамедлительно поднял один из его товарищей, после чего начался поединок. Этот случай попал в судебные протоколы только потому, что их третий приятель, шляпных дел мастер 21 года, наблюдавший за поединком с ножом в руке, зарезал прохожего, пытавшегося разнять дуэлянтов
[739].
Другие были осуждены за то, что царапали ножом мостовую или камни здания, что также расценивалось как вызов на бой, адресованный любому желающему его принять. Некий мужчина, обвиняемый в ранении прохожего на улице, попивал в баре, совершенно не скрывая при этом намерения спровоцировать поединок. Он демонстративно вонзил нож в стол, угрожающе заявив при этом: «И кто тут осмелится его вытащить?!»
[740].
Роберт Уолш, описывая голландские поединки на ножах, упоминает ещё об одной форме подобного вызова: «Среди мужчин, гордившихся своей ловкостью в бою на ножах, было обычным воткнуть нож в дверь таверны как вызов всем присутствующим, и вытащить этот нож из двери означало принять этот вызов»
[741].

Рис. 11. Кермис в деревне. Гиллис ван Брин, 1593 г.

Рис. 12. Крестьянская драка. Хорошо видны различные типы крестьянских ножей. Корнелис ван Кауеркен, 1640 г.
Во время популярных в народе церковных праздников, известных как «кермис», или «кермесе», проводившихся в честь различных святых покровителей, местные хирурги не жаловались на недостаток работы. Разогретые алкоголем голландцы завязывали драки по любому поводу. Несмотря на суровые штрафы, так и не удавалось искоренить поединки между солдатами, а любые пустяковые высказывания интерпретировались крестьянами и бюргерами как смертельное оскорбление, и ножи выхватывали при малейшей провокации. Как-то раз, в 1612 году в Лейдейе, двое восемнадцатилетних юношей — Франц Юстен Парментир и Ян Боувенц повздорили на площадке для игры в шары. Видимо, повод для ссоры не был слишком серьёзным, так как незадолго до поединка оба пребывали в отличном расположении духа. Тем не менее, конфликт закончился дуэлью на ножах. В итоге Ян получил колотое ранение желудка, а Франц остался лежать на поле битвы бездыханным
[742].
Во многих деревнях были хулиганы, развлекавшиеся тем, что вызывали на поединок всех присутствующих. Так, некий Ян Михельц Энгельсман из Бриля воткнул в землю рядом со своим домом палку, и каждый, кто вытаскивал её, должен был сразиться с ним в поединке на ножах. Геррит Коойман, приехавший в 1608 году на празднование кермис в Ноорделоос, на постоялом дворе намеренно искал ссоры с местными жителями, выкрикивая: «Пусть любой из этой толпы выйдет и сражается со мной!» Каждая деревня могла похвастаться подобными смутьянами, чей конец был достаточно предсказуем. Одним из них, например, был Хендрик Клаэс Адриаэнц, известный во всех тавернах этого небольшого городка как Харри-Дьявол. Другой задира, Геррит Янсен из Ноорделооса, погиб в 1616 году в таверне в поножовщине, которую сам же и спровоцировал. Таким же возмутителем спокойствия всю жизнь был и Хейнрик Герритц из Хайзена, и, так же, как и большинство подобных задир, он окончил свои дни на дуэли. Ещё одним прославленным бретёром был Угрюмый Арент, который всегда был готов схватиться за нож на любом деревенском празднике, что частенько приводило к кровавой развязке. Славились своим крутым нравом и любовью к поножовщине и крестьяне области Ватерлэндс
[743].
О деталях этих поединков нам также становится известно благодаря материалам судебных дел. Если власти обнаруживали труп, то прилагали все усилия для ареста преступника, что иногда им удавалось. Когда же двое мужчин, сражаясь в поединке, только ранили друг друга и разошлись в разные стороны, подобная информация редко становилось достоянием властей. Сами участники дуэлей на ножах свои поединки не афишировали, и об этих схватках не писали газеты. О подобных инцидентах без смертельных исходов становилось известно совершенно случайно, например, во время судебных процессов, рассматривающих другие преступления. Тогда прокурор добавлял к главному обвинению ещё и нанесение ранений. А если обвиняемый сообщал, что ранение было получено во время поединка, и что его противник тоже достал нож, суд добавлял формулировку: «В поединке»
[744].
Форма поединка тем или иным способом могла отличаться от хрестоматийной модели. Иногда случайные детали проливают дополнительный свет на изменения в каноническом кодексе. Одной декабрьской ночью двое мужчин, переругиваясь, выходили на улицу из бара в подвальчике и, только достав ножи, заметили, что на улице
уже стемнело. «Иди сюда, под фонарь!» — обратился один из дуэлянтов к другому, следовавшему за ним. Эта маленькая деталь свидетельствует о том, что дуэль начиналась только по взаимному соглашению
[745]. В другом случае искусный боец Ламберт уже порезал своему противнику Фредрику левую щёку, когда тот случайно выронил нож. Ламберт великодушно позволил ему поднять оружие, после чего продолжил поединок и нанёс сопернику смертельный удар в живот
[746].
Дуэльные ритуалы были дополнены так называемыми ритуалами примирения. Хотелось бы особо выделить один из таких ритуалов, называемый «afdrinken», когда соперники вместе «пропивали» конфликт. Обычно это выглядело следующим образом: двое мужчин повздорили, приподнялись со стульев, обменялись угрозами, и, может быть, один из них дал другому пощёчину. Уже заходил разговор о том, что пора бы уладить вопрос в поединке, но некий человек из их компании вмешивался, чтобы замять ссору, и страсти утихали. Тут же заказывали бутылку вина или пару кружек пива, и вся компания, потягивая винцо, пыталась забыть об инциденте
[747]. Но забыть о нём полностью не удавалось никогда. Нередко страсти закипали с новой силой, и конфликт мог разгореться снова. Если в конце концов всё-таки происходило убийство, значит, примирение так и не состоялось. Однако можно предположить, что сотни серьёзных конфликтов и незначительных ссор были «пропиты» подобным способом, не оставив и следа в судебных протоколах.
Упоминания о ритуале «afdrinken» столь же многочисленны, насколько бедны в описании деталей. Так, например, известно, что упомянутый выше боец Ламберт, позволивший противнику поднять нож, незадолго до этого с ним помирился. Это произошло после того, как Фредрик — его будущая жертва, неожиданно ударил Лабмерта ножом в левое предплечье. В сопровождении хозяина таверны Ламберт посетил хирурга и вернулся, чтобы «пропить» ссору с Фредриком. Но к часу дня страсти разгорелись с новой силой, и Фредрик предложил Ламберту выйти на улицу. Во время поединка на ножах Ламберт распорол Фредрику левую щёку, позволил своему сопернику поднять нож, который тот выронил, а затем нанёс ему колотое ранение в живот. На следующий день Фредрик умер
[748]. Из чего можно сделать вывод, что заключённое ранее перемирие оказалось хрупким и долго не продержалось.

Рис. 13. Крестьяне перед дракой. Йонас Сейдерхуф, около 1660 г.
Большинство историй о примирениях мы находим именно в делах об убийствах, когда один из дуэлянтов погибал. Мы не знаем, как часто этот «пивной» ритуал был успешным, хотя известно, что ритуальное примирение во время совместных застолий было широко распространено по всей Европе. Известно оно было и в Германии, где после обмена Оскорблениями, мужчины часто пили вместе
[749].
Некоторые историки отмечают, что нападавшие, определяя, в какую часть тела противника нанести удар, следовали некоему культурному коду. Так, изучая историю французского региона Артуа XV-XVI веков, профессор современной истории Парижского университета Робер Мюшембле обнаружил, что во многих случаях ножевые ранения наносили в лицо и голову жертвы, хотя в целях убийства было бы логичней бить в грудь или в живот. На основании этого факта он заключил, что обезображивание лица являлось ритуалом и в первую очередь служило для унижения противника
[750]. Авторы работы «Ежедневная жизнь в Италии периода Возрождения» Элизабет и Томас Коэны пришли к аналогичному выводу, изучая Рим XVI столетия
[751]. И действительно, практически никогда за всю историю сникерсни жертвы нападений не умирали от ранений лица или головы. Большая часть смертельных ранений наносилась в грудь и живот. В качестве возможного объяснения можно предположить, что народные дуэлянты 1700-х не стремились убить друг друга. Как я уже говорил, эти поединки на ножах представляли лишь пробу сил. Перед началом схватки некоторые дуэлянты недвусмысленно заявляли, что противник «нуждается в шраме» или «кое-кто что-то получит»
[752].
Анализ подобных инцидентов демонстрирует нам несколько специфических ритуалов унижения. Например, намерение порезать кому-либо лицо означало демонстрацию превосходства над потенциальной жертвой. Некоторые типы ранений явно служили исключительно для унижения противника. Одним из таких характерных актов унижения был удар ножом в ягодицу
[753]. В 1696 году два матроса увидели, как по улице прогуливался с женой их бывший рулевой, который когда-то на судне подверг их наказанию, и решили взять реванш. Они направились следом за ним по узкой улочке, и один из моряков, улучив момент, воткнул рулевому нож в правую ягодицу. Подобный унижающий удар в ягодицу был древним и широко распространённым в Европе обычаем. Упоминания об этой традиции мы находим и в документах относящихся к итальянской Болонье XV века, и в судебных архивах голландской провинции Зииланд в XVI столетий
[754].
Хочу заметить, что вопреки распространённому мнению подобные ранения были далеко не так безобидны, как принято считать, и иногда не только заканчивались болезненным и унизительным порезом, но и имели самые фатальные последствия. Так, известный американский врач начала XX века Джордж Гулд описывал прецедент, в котором от полученного в драке ранения в ягодицу скончался 23-летний моряк. На вскрытии было установлено, что большой матросский нож, которым был нанесён удар, прошёл через малое седалищное отверстие и пробил мочевой пузырь в районе мочепузырного треугольника. Также была перерублена крестцово-седалищная связка, перебиты половая артерия, вена и нерв. В результате развился перитонит, ставший основной причиной смерти моряка
[755].
Другой унизительный ритуал, применявшийся только по отношению к мужчинам, представлял собой нападение во время мочеиспускания. В декабре 1718 года, когда двое моряков пили в амстердамском здании Ост-Индской компании, один из них преднамеренно разлил выпивку другого. Пострадавший отомстил ему несколькими днями позже, когда ранним вечером заметил своего обидчика мочившимся у дерева недалеко от места, где обычно садились на корабли моряки Ост-Индской компании. Вероятно, жертва обернулась, так как получила ножевое ранение в грудь. Когда моряк упал, то получил ещё один удар ножом, на этот раз в спину
[756].
Некоторые хулиганы, преследовали и унижали людей на улицах, сбивая с них шляпы. Символическое значение мужского головного убора было доказано ещё в Средние века. И в Европе Нового времени с тех пор ничего не изменилось, за исключением того, что средневековые остроконечные шляпы вышли из моды. В Голландии, как повсюду в Европе, голова и лицо являлись символами личной чести мужчины, и поэтому все прекрасно знали, что нанести ущерб мужскому головному убору означало бросить вызов чести его владельца. Как-то ранним утром некий моряк угрожал ножом шкиперу, пытавшемуся получить назад свою шляпу, но был обезоружен горожанами. Об интересе к мужским шляпам — от шутливых розыгрышей до серьёзных нападений — упоминают многие исследования насилия в Европе раннего Нового времени. Эти исследования также демонстрируют, что плотная заселённость таких крупных городов, как Амстердам, Лондон и Париж, порождала специфические виды насилия, которые не встречались в маленьких городках и деревнях
[757].
Кроме кодекса чести и дуэльных ритуалов поединки, происходившие на городских площадях Амстердама и Хертогенбоса или перед сельскими тавернами округа Осс, объединял ещё один общий фактор — ножи. История сохранила для нас сведения о том, что ещё фламандские пикинеры, нанятые на службу императором Максимилианом в конце XV века, носили на поясе «длинные фламандские ножи»
[758]. А летопись от 18 мая 1498 года сообщает, что известный португальский путешественник Васко да Гама преподнёс «заморину» — правителю Кожихода, государства в Индии, находившегося на территории нынешнего штата Керала, «50 фламандских ножей с рукоятками из слоновой кости
[759].
Источники XVII и XVIII веков изобилуют упоминаниями о голландских или фламандских ножах. Хотя и считается, что ножи эти были произведены в Амерсфорте, но, как полагают некоторые исследователи, слово «голландские» скорее всего являлось ссылкой на судоходные гавани, откуда их развозили по всему миру. В действительности же большая часть импортируемых ножей была изготовлена в Золингене или во фламандской области Льеж-Намюр. Эти голландские, или скорее фламандские, ножи уже в XVI столетии были зарегистрированы в реестрах и ведомостях компаний Транссахарской торговли на побережье Гвинеи, а также в Северной Африке — например, в Феццане и Северной Нигерии. В этих торговых книгах есть упоминания о голландских ножах «буутсман» — боцманских, или матросских, ножах. Ещё один тип фламандских ножей, использовавшихся в колониальной торговле, назывался «большие фламандцы», они же «остроконечные голландцы», они же «тяжёлые голландские «докмессен». Британские торговцы в Гвинее получали эти ножи из Голландии до конца XVII столетия, но позже заменили их оружием, изготовленным в английском Бирмингеме
[760].

Рис. 14. Нож со стилетным клинком, возможно складной. Портрет Жака де Булье, Питер ван ден Берге, 1699 г.

Рис. 15. Женщина с ножом для забоя скота. Возможно с такими ножами возвращались домой из Фландрии испанские солдаты. Ханс Бальдунг Грин, 1500 г.
Трудно с уверенностью сказать, о каких именно ножах шла речь в этих документах. Нередко, в подобных случаях несомненным подспорьем служит библейская иконография, представляющая неиссякаемый источник изображений всевозможных типов ножей, использовавшихся человечеством с момента возникновения христианства. Особый интерес для историков и оружиеведов, представляет тандем из праотца Авраама, и одного из апостолов Христа, св. Варфоломея. Так как согласно канонам библейской иконографической традиции оба они держат в руках ножи, мы можем проследить все трансформации и метаморфозы, происходившие с этими инструментами на протяжении многих столетий. Разумеется, бессмысленно пытаться искать какие-то параллели между ножами, изображёнными на картинах, скажем, XVI столетия, и оружием древней Иудеи. Однако, учитывая, что, как правило, художники изображали современные им и наиболее распространённые на тот момент в обществе ножи, мы с определённой долей уверенности можем предположить, какой именно тип ножей использовался в тот или иной период. Не менее дорога оружиеведам и святая Луция Сиракузская, традиционно изображаемая с кинжалом в руке. Тем не менее, чтобы не вводить неискушённого читателя в заблуждение, в этой работе я отказался от использования ветхозаветной иконографии. Но благодаря изображениям ножей на бытовых сценках кисти Остаде, Босха, Брейгеля и других старых фламандских мастеров, а также сохранившимся в голландских музеях и коллекциях экземплярам ножей XV–XVII веков можно предположить, что этими «большими голландцами» могли быть традиционные крестьянские ножи Западной Европы. Эти ножи, известные как «ругеры», «бауэрнверы» или «хаусверы», формой больше всего напоминали большие современные «кухонники» и достигали 60 и более сантиметров в длину. Ларс Сандстрём в работе о европейском экспорте в XVII–XVIII веках также описывал это голландское оружие как «остроконечные ножи 46–60 сантиметров в длину более всего напоминавшие мясницкие»
[761]. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что большие мясницкие ножи массово экспортировались голландцами в Новый Свет, где были широко известны под именем «бельдюк», что являлось искажённым «Болдюк» — испанским названием нидерландского города Хертогенбос, столицы Северного Брабанта.

Рис. 18. Большой европейский нож, вторая половина XV в. Общая длина 43,5 см.

Рис. 19. Бельдкж. Fur Trade Cutlery Sketchbook, Джеймс А. Хенсон, 1994 г.
Как уже говорилось, Северный Брабант традиционно считался одним из основных центров народных дуэлей на ножах, а кроме того, Хертогенбос наравне с Льежем славился производством ножей. Одно из первых упоминаний о ножах бельдюк встречается в перечне товаров, импортированных из-за границы Испании в Бильбао, от 16 апреля 1563 года, где упоминается о закупке 280 штук «Cuchillos de Flandes, de Belduque у Malinas» — «фламандских ножей из Хертогенбоса и Мехелена». Любопытно, что ножи закупали именно в городах, находившихся в испанской части Нидерландов, а Мехелен в первой половине XVI столетия даже какое-то время являлся столицей Испанских Нидерландов
[762].
Как известно, художник Ерун ван Акен, более известный как великий и ужасный Иероним Босх, так любивший использовать в своих работах изображения ножей, родился именно в Хертогенбосе. В своё время немало копий было сломано в дебатах о происхождение клейма в виде буквы «М», стоящего на изображённых Босхом ножах. Выдвигалось множество предположений — от версий о самых заурядных торговых марках до закодированных апокалиптических символов. Я полагаю, что не надо умножать сущности без необходимости. Несмотря на присущую живописи той эпохи метафоричность, наиболее разумной и аргументированной в данном контексте является версия личного клейма одного из многочисленных оружейных мастеров Хертогенбоса или же стилизации под клеймо мастера.

Рис. 20. Куза с монограммой М.М., 1566 г., Ингольштадт.

Рис. 21. Разграбление Мехелена в 1572 г. Франс Хогенберг, 1572 г.
Но вернёмся к большим голландским ножам. Существует немало свидетельств о том, что ножи бельдюк широко использовались в обменной торговле с индейцами. Согласно архивным документам, по принятому обменному курсу, испанские торговцы за один фламандский бельдюк получали от команчей одного бизона
[763]. Самое раннее иконографическое свидетельство экспорта бельдюк в Новый Свет мне удалось найти на рисунке, датированном 1711 годом. На нём изображены индейцы племени тускарора, относящегося к ирокезской группе племён. Один из воинов на переднем плане в высоко поднятой руке держит бельдюк — большой мясницкий нож. На одной из иллюстраций к известной работе Бринкерхофа и Чемберлена об испанском колониальном оружии в Америке изображён нож, также атрибутированный авторами как бельдюк, — и вновь мы видим типичный для Европы XIV–XVII веков клиновидный крестьянский руггер
[764]. Два прекрасных образчика бельдюк мы можем увидеть на фотографиях из работы «Southwestern Colonial Ironwork». Длина клинка одного из этих ножей, найденного на месте заброшенной миссии в техасском графстве Голиад, 20 см, а клинок второго образца из Нью-Мексико, украшенный флоральными мотивами, достигает 26 см в длину при общих размерах 35 см
[765].
Точные такие же традиционные руггеры и хаусверы лежат под табличкой «бельдюк» и в небольшом частном музее Джима Гордона в Санта-Фе, в Нью-Мексико. К XIX веку потомки андалузских переселенцев создали бельдюк такую печальную славу, что в Калифорнии, в которой немалую долю населения составляли испанцы, 1 января 1804 года был принят закон, строжайше запрещавший ношение ножей бельдюк за поясом и в сапоге
[766]. Почему закон отдельно оговаривал ношение этого ножа именно в сапоге, становится ясно при взгляде на калифорнийских вакерос, лихо арканящих быков на полотнах американского художника XIX века Джеймса Уокера — у многих из этих всадников в расшитых андалузских куртках за голенищем высокого сапога торчит рукоятка верного бельдюк. Могу предположить, что именно эта манера ношения ножей в сапоге обусловила характерную форму зооморфного навершия рукояток бельдюк как правило, стилизованного в виде птичьей головы с ярко выраженным «клювом», облегчающим быстрое извлечение оружия.

Рис. 22. Индеец из племени Тускарора с ножом бельдюк в руке. 1711 г.

Рис. 23. Оружейник за работой. Клиенты разглядывают приобретённый нож. Каспар Лийкен, 1694 г.
Но название «бельдюк» известно лишь немногим историкам и специалистам по оружиеведению, а прославило этот большой фламандский нож другое его имя, позже унаследованное легендарным андалузским стилем пения и танца, известным как «фламандец», или… «фламенко». Существует множество версий, связанных с происхождением этого термина. Джеймс Лорьега в своей работе «Севильская сталь», анализируя испанскую традицию поединков на ножах, высказывает предположение, что этот нож получил имя от легендарного цыганского танца Андалусии
[767]. Однако в своём фундаментальном исследовании культуры фламенко ему оппонирует известный специалист по истории этого танца Луис Суарес Авила. Опираясь на обширный фактологический материал, он однозначно доказывает первичность термина «фламенко» именно в интерпретации ножа.

Рис. 24. Клинок от ножа бельдюк. Длина 20 см. Найден в графстве Голиад в Техасе.

Рис. 25. Нож бельдюк из Нью-Мексико. Общая длина 35 см.

Рис. 26. Большой нож мясника — бельдюк. Портрет ван Бренаерта. Антоний ван дер Дус, 1650 г.

Рис. 27. Мужчина с деревянной ногой. В его руке большой нож, напоминающий испанские навахоны XVI-XIХ в. Саломон Савери, 1638 г.
С точки зрения Луиса Авилы, эти большие голландские ножи попали из Фландрии в Испанию в XVІ-XVІІ веках во время Восьмидесятилетней войны вместе с вернувшимися домой испанскими солдатам
[768]. Вскоре это грозное оружие вошло в моду среди цыган, контрабандистов и бандитов всех мастей. Уже через несколько десятков лет после появления на испанской земле фламенко заслужили такую печальную репутацию, что название этих ножей начали экстраполировать и на их владельцев, среди которых было немало хитанос, или цыган. Не пришлось долго ждать, и испанские словари начали толковать выражение «фламенко де Андалус» исключительно в значении «андалузский цыган»
[769]. Не могу не согласиться с сеньором Авилой, так как в испанских источниках вплоть до первой половины XIX столетия термин «фламенко» мне встречался исключительно в значении слова «нож».
Очевидно, благодаря мрачной репутации фламенко уже с середины XVIII века в испанских законодательных сборниках и королевских эдиктах встречаются запреты на ношение этих ножей. Так, например, королевский указ от 1 сентября 1760 года хотя и разрешал испанским морякам использовать ножи фламенко на борту для такелажных работ, но под угрозой наказания обязывал оставлять их на судне, сходя на берег
[770]. Оснований для появления этого ордонанса было предостаточно. Так на судебном слушании, проходившем в 1807 году, рассматривалось дело испанского моряка по имени Франциско.
Согласно показаниям некоего Винсенте, его товарища по команде, Франциско вернулся на судно в окровавленной рубашке и сообщил ему, что только что зарезал на берегу человека. После этого он выбросил в воду покрытый кровью нож фламенко
[771].
Судя по многочисленным свидетельствам, остроконечные голландские ножи нередко использовались в качестве рабочих судовых ножей
[772]. А закон от 1 июня 1785 года даже выделил фламандские ножи в отдельный класс: «На территории Кастильского королевства запрещаются ввоз и использование ножей фламенко, и предоставляется год для уничтожения уже существующих и ещё три месяца для заказанных с тем, чтобы была оказана необходимая помощь в притуплении их острия на фабриках Испании»
[773].
Хулиан де Зугасти в своей работе о бандитизме в Испании последней трети XIX столетия упоминал определённую категорию бандитов — «певцы фламенко». С его точки зрения, это было связано с тем, что поклонники этой специфической манеры пения, которыми нередко являлись цыгане, обычно носили ножи фламенко
[774]. Судя по судебным документам, «певцы фламенко» частенько хватались за свои фламандские ножи. Так, в 1774 году в местечке Санлукар де Баррамеда орудие преступления, описанное как «нож фламенко», пустил в ход некий монах по имени Пабло де Сан Бенито
[775]. Хотя в данном случае изображение конфискованного фламенко, сделанное секретарём суда Бальтазаром Ризо на полях протокола, является не большим клиновидным «кухонником», как этого следовало ожидать, а фламандским ножом для хлеба с клинком, известным как «полумесяц», или «овечье копытце». Но это был не единичный прецедент. Профессор Хуан Хосе Иглесиас стряхнул пыль с судебных дел Муниципального исторического архива Пуэрто де Санта Мария, охватывающих период с 1766 по 1790-й и с 1790 по 1801 год. В результате этих изысканий сеньор Иглесиас обнаружил, что большинство убийств в эти годы было совершено лицами из цыганской общины и основным оружием, использованным в убийствах, являлись уже знакомые нам ножи фламенко. Хотя в одном случае фигурировал не классический фламенко, а фламенкон. Как описал его сам автор, «ещё более длинное и ужасное оружие»
[776].

Рис. 28. Крестьянин из окрестностей Кордовы. Гюстав Доре, 1865 г.

Рис. 29. Навахоны (фламенконы) за поясом завсегдатаев испанской таверны, Гюстав Доре, 1865 г.
На испанских каравеллах и каракках фламандские ножи доплыли до Юго-Восточной Азии и оставили свой след на Филиппинах. Первые европейские ножи начали массово прибывать к берегам Филиппинского архипелага ещё в середине XVI века. Так, например, в перечне товаров для обменной торговли экспедиции Фернана Магеллана фигурируют «400 дюжин (т. е. 4800] дешёвых ножей производства Германии»
[777]. И сегодня в филиппинской провинции Илоило под «фламенко» подразумеваются мясницкие ножи длиной около 25 сантиметров. В Суригао это кинжал, в провинции Восточный Негрос — большие ножи боло. В провинции Себу фламенго называются небольшие боло, а под термином «фламинго» могут скрываться любые остроконечные ножи
[778].
Недорогие модели фламенко поставлялись и в Малайзию
[779]. Сохранились сведения о том, что еще в XVI веке жители островов Малайского архипелага высоко ценили ножи и кинжалы производства Фландрии, продаваемые и обмениваемые негоциантами Нидерландской Ост-Индской компаний
[780]. Также и китайские авторы XVII столетия среди прочих наименований импортированных европейских товаров упоминают голландские ножи
[781]. Несмотря на возможное негодование сторонников версии эндемичного развития холодного оружия Юго-Восточной Азии, все-таки хочу отметить несомненное влияние, оказанное на его генезис европейской оружейной традицией. Слишком уж много видов современного короткоклинкового холодного оружия этого региона демонстрируют характерные элементы присущие европейским образцам раннего Нового времени. Зная масштабы торговых операций проводимых в этих краях фабриками Льежа, Золингена. Амерсфорта, Шеффилда и Тьера, отрицать и игнорировать влияние европейского оружия по крайней мере антинаучно.
Привезённые в Аргентину испанцами фламандские бел ьдюк-фламенко послужили прототипом легендарных дуэльных ножей аргентинской пампы — факонов гаучо, воспетых десятками авторов — от Эрнандеса до Дарвина и Борхеса. Свидетельства о бытовании этого оружия мы находим во многих источниках той эпохи. Так, «ножи бельдюк из Голландии» упоминал в своей книге легендарный президент Аргентины Доминго Сармиенто
[782]. Да и сегодня практически любой словарь испанского языка трактует фламенко, как, собственно, и бельдюк, в качестве синонима для ножа гаучо — факона или просто в значении большого ножа
[783].
Трудно судить об объективности иконографии, но на большинстве изображений поединков, датированных XVI–XVIII веками, голландские дуэлянты держат в руках отнюдь не огромные руггеры, как следовало ожидать, а оружие более чем скромных размеров, более всего напоминающее заурядные хлебные ножи. Как небольшие бытовые ножи выглядит и оружие в руках дуэлянтов на гравюре с изображением поединка, датированной 1618 годом. Сложно сказать, насколько реалистично изобразил эти ножи художник, но подобные образцы дуэльного оружия бытового происхождения встречаются и на многих других изображениях поединков. Такие же обычные бытовые ножи мы можем увидеть и в изданном в 1674 году пособии по самообороне, принадлежащем перу Николаса Петтера
[784].
Могу предположить, что сходство этого оружия с ножами для хлеба было не случайным, так как в Нидерландах, как и во многих других странах Европы — например, в Испании, ношение подобных ножей долгое время не было запрещено законом. А позже, когда всё-таки и они попали под запрет, наказание за ношение этих ножей, а также за причинённые ими ранения было значительно менее суровым. В Северной Америке эти фламандские ножи сбывались торговыми факториями трапперам и индейцам вместе с другими «trade knives» — ножами для обменной торговли. Прекрасно сохранившийся экземпляр такого голландского ножа, поставляемого торговым факториям Америки в 16001680 годах, мы можем увидеть в работе Джеймса Хэнсона «Fur Trade Cutlery Sketchbook»
[785].
Но далеко не все фламандские дуэлянты маскировали свои намерения и ограничивались аксессуарами для хлеба. Например, на датированной 1633 годом гравюре Ван дер Велде голландский дуэлянт сжимает в руке узкий нож, скорее напоминающий стилет. А на изображении крестьянской дуэли образца 1680 года из книги Якоба Кунраетса Мэйфогла в руках у дуэлянтов длинные крестьянские ножи, известные как кортеласы.

Рис. 30. Дуэль на ножах. Бойцы пляшут под дудку чёрта. Сиісіе-Бріедеі. Якоб Кунраетс Мэйфогл, 1699 г.

Рис. 31. Хирургический нож, Голландия, 1651 г.
Некоторые исследователи утверждают, что складные ножи с клинков, фиксируемым специальной пружиной, появились в первой половине XVII столетия именно во Фландрии
[786]. Так, упоминание о фламандском происхождении этих ножей мы находим в работе Сэмьюэла Смайлза «Industrial Biography». Смайлз со ссылкой на Хариссона также утверждает, что первое производство пружинных ножей с фиксатором было открыто в Шеффилде неким фламандским мастером. Эти большие фламандские складные ножи были известны в Англии под шотландским жаргонным названием «джоктелег»
[787]. Многие авторы, в том числе Джон Фармер, считали что джоктелег — это не что иное, как искажённое шотландским диалектом «Jacques de Liege» — имя известного мастера-оружейника Жака цз Льежа, не менее популярного в XVII столетии, чем шеффилдские мастера Роджерс или Маппин в XIX веке
[788]. Этот термин мы находим и в написанном около 1789 года стихотворении Роберта Бёрнса, где есть такие строки:
«The knife that nicket Abel's craig Hell prove you fully,
It was afaulding jocteleg, Or lang-kail gullie»[789].
«Faulding jocteleg» является не чем иным, как искажённым «складной нож», или «складной джоктелег». Некоторые авторы даже вели от Жака из Льежа, а соответственно и от джоктелега, родословную английского слова «jackknife», и сегодня служащего для обозначения большого складного ножа. Но с этой версией полемизирует автор известного справочника «Blade's Guide to Knives & Their Values» Стив Шэклфорд, который считает, что попытки искать корни этого слова у оружейника Жака в Льеже XVII столетия напоминают брендовую легенду, подобную тем, что окружают, например, ножи боуи.

Рис. 32. Игроки в карты и смерть. Ян Ливенс, 1638 г.

Рис. 33. Сражающиеся крестьяне. Пиетер Нолпе, 1623 г.
«Происхождение этого термина теряется в глубине веков. Оно могло произойти и от слова «джек» в значении «моряк», и от слова «рабочий», и от «джек» в трактовке «небольшой», и как сокращение от слова «джекет» — «жакет», — пишет Шэклфорд
[790].
Но мы немного отвлеклись от темы и возвращаемся от этимологических изысканий к поединкам. Описания дуэльных техник голландских поножовщиков, как и оружия, с которым они дрались, встречаются крайне редко, поэтому основную помощь в этом опять оказывает иконография. Судя по многочисленным изображениям поединков, участники народных дуэлей всегда держали нож так называемым прямым, или фехтовальным, хватом — клинком от себя, режущей кромкой внутрь и уперев большой палец в рикассо. Среди голландских дуэлянтов это удержание считалось необходимым условием в поединке «нож на нож», однако, с другой стороны, несло и определённый риск, так как оружие могли выбить из руки
[791].
Так, на гравюрах изданного в 1674 году и иллюстрированного Ромейном де Хооге пособия по самообороне Николаса Петтера «Klare onderrichtinge der voor-treffelijcke worstel-konst» мы видим, что человек, вооружённый ножом, держит своё оружие исключительно фехтовальным хватом, даже когда имеет дело с безоружным противником. В правой руке нападающего мужчины отчётливо виден типичный для Голландии той эпохи небольшой бытовой нож с 10-12 сантиметровым клинком, имеющим скошенное остриё. В его левой руке зажаты ножны, которые в народных дуэлях нередко использовались для защиты и парирования ударов противника
[792].

Рис. 34. 35. Самооборона от ножа. Klare Onderrichtinge der Voortreffelijcke Worstel-konst., Николаес Петтер, 1674 г.
Стойки и защиты, которые мы видим на изображениях голландских народных дуэлей, поразительно напоминают испанскую манеру боя на ножах. Говорить о сходстве техник нам позволяет тот факт, что технические элементы испанской школы прекрасно известны по многочисленным описаниям очевидцев и участников подобных поединков, а также по десяткам аутентичных зарисовок. На гравюре 1618 года из работы «Deliciae Batavicae» левые руки голландских дуэлянтов согнуты в локте под прямым углом и выставлены перед грудью для парирования ударов. Для дополнительной защиты в качестве импровизированного щита они держат шляпы из плотной шерсти. На этом изображении бойцы наносят друг другу типичные для народных дуэлей секущие удары в лицо: один из подобных ударов парирует поднятым предплечьем левой руки боец слева. Атакующий же мужчина свободной левой рукой в этот момент прикрывает живот и пах от встречного удара
[793].
Шляпы для защиты также используют бойцы на картине Бенджамина Герритца Кейпа начала XVII века, и дуэлянты с гравюры Мэйфогла 1680 года и антагонисты на датированной 1653 годом гравюре «Бойцы на ножах» ван Остаде. Перед собой выставил шляпу как щит и персонаж офорта 1633 года «Разгневанный крестьянин с ножом» Яна ван дер Велде. Изданная в 1701 году работа «А new description of Holland, and the rest of the United Provinces in General» среди прочих традиций и обычаев голландцев описывает и распространённые в этих местах поединки на ножах: «Голландские крестьяне, поссорившись друг с другом, решают свои споры способом некой ужасной разновидности спорта, называемой здесь «сник ор снии», и эта манера поединка была у них в ходу долгие годы. Возможно, вам приходилось видеть, как на ярмарках самые отважные из этих людей вызывают друг друга на поединки.

Рис. 36. Ссора за игрой в карты. Адриаен ван Остаде, 1653 г.
Они вешают свои ножи на дерево или на столб, и считается что тот, кто прикоснётся к этому ножу кончиком пальца, принимает вызов на бой. В левой руке они держат шляпу, которой отражают удары, а ножом в правой руке на обратном движении руки изо всех сил стараются порезать своему противнику нос или лицо. Они никогда не наносят колющих ударов остриём ножа, и поэтому вы можете увидеть, что лица их покрыты многочисленными шрамами»
[794].

Рис. 37. Разъярённый крестьянин. Ян Ван дер Вельде, 1633 г.
В этой же работе мы обнаруживаем крайне любопытное свидетельство. Констатируя, что большинство этих ссор и поединков были вызваны неумеренным употреблением «бренди и сильного пива», автор упоминает о весьма необычном стимулирующем средстве, использовавшемся дуэлянтами. Вот что он пишет: «Они одурманивали себя неким пивом, которое изготавливали, смешивая его с мочой и выдерживая в течение трёх-четырёх недель, в результате чего на несколько часов становились безумными и впадали в бешенство»
[795].
О том, что в слабенькое пиво, варившееся в Средние века и раннее Новое время, для усиления эффекта добавляли всевозможные растительные наркотики, особенно паслёновые, такие как белена и дурман, писали многие исследователи европейской культуры. Это упоминание о смешивании пива с мочой отсылает нас к традициям культа мухомора и других галлюциногенных грибов. Подобные «рецепты» описывали многие специалисты по растительным галлюциногенам, среди которых можно назвать Диксона и Марлен Добкин. Олард Диксон в монографии «Мистерии мухомора» писал, что одним из самых интересных способов употребления мухоморов является питье мочи человека, съевшего эти грибы. Такой вариант приема не встречается больше ни у одного из наркотических веществ, несмотря на то, что лизергиновая кислота и некоторые другие галлюциногены также сохраняют свои свойства, пройдя через организм их употребившего. К числу ранних упоминаний об этом можно отнести строки С. П. Крашенинникова из книги «Описание земли Камчатки» (1755 г.): «Впрочем, у сидячих коряк мухомор в такой чести, что пьяному не дают мочиться на пол, но подставляют посуду и мочу его выпивают, от чего так же бесятся, как и те, кои гриб ели: ибо они мухомор получают у камчадалов, а в их сторонах не родится»
[796].
Многие этнографы приходят к предположению, что чукчи и коряки нашли в древности неожиданный способ употребления мухоморов, подсмотрев его у оленей: олень пил мочу человека, поевшего мухомор, и сам впадал в состояние наркотического опьянения (помимо действия самой мочи). Известный российский врач и натуралист Карл Генрих Мерк пишет, ссылаясь на коряков, что моча одурманенного сухими мухоморами действует значительно лучше самих мухоморов, продолжает Диксон. Последние исследования показали справедливость этого утверждения. При поедании мухоморов в моче накапливается метаболит иботеновой кислоты — основное галлюциногенное вещество мусцимол. Как заметил автор фундаментального руководства по лекарственным веществам Герхард Мадаус, «мухоморная» моча продолжает оставаться эффективной даже если бывает последовательно пропущена через почки 4–5 человек. Следует особо подчеркнуть, что при приеме иботеновой кислоты в чистом виде в моче мусцимол не обнаруживается, следовательно, на ее образование влияют различные алкалоиды, содержащиеся в самом грибе. Иной раз человек, не удовлетворившись оказанным действием от принятия мухоморов обычным способом или испытывая уменьшение интоксикации, пьет собственную мочу. Но, как правило, существует особая иерархия. Плодовые тела поедают вожди, шаманы и другие уважаемые люди, а все остальные пьют их мочу, что, возможно, способствует управлению над низшим классом.
«Те, кто не имеет материальной возможности запастись такими грибами, обычно околачиваются по праздничным дням у домов богачей, выслеживая гостей. Когда они выходят, чтобы помочиться, они живо подставляют под их струю деревянную посудину, чтобы собрать их мочу, которую тут же жадно выпивают, так как в ней еще сохранились основные наркотические свойства гриба. Я. И. Линденау пишет: «Мухомор у коряков — угощение богачей, бедные же довольствуются мочой последних; когда такой опьяневший от мухомора мочится, то к нему сбегаются многие и, выпив его мочи, пьянеют еще больше, чем сам наевшийся мухоморов»
[797].
В этом исследовании Диксон отмечает, что подобная интоксикация может привести к исступлению и агрессивному поведению и что у нервного, вспыльчивого человека весьма вероятна агрессивность. Так что совершенно не исключено, что страсти на дуэльных площадках голландских деревень подогревались не только алкоголем
[798]
Власти Амстердама не признавали существования плебейской культуры чести. Магистраты отказывались рассматривать версии самообороны, объясняя народным дуэлянтам, что они могли бы удрать с поля боя, воспользовавшись любым шансом, например, тем, что противник выронил нож. В то же время, несмотря на криминализацию убийств, многие простые граждане продолжали считать смерть в дуэли на ножах обычным несчастным случаем. Они были готовы помочь неудачливому преступнику в бегстве из города советом, помощью, а иногда и деньгами. Примечательно, что общественное мнение, как правило, было склонно оправдывать бойцов на ножах и их поединки, за исключением случаев нападения на добропорядочных или невооружённых граждан
[799].
Большие сообщества, к которым принадлежали эти бойцы, относились к поединкам на ножах достаточно беспечно. Если бой заканчивался смертью одного из дуэлянтов, то, как уже говорилось, многие считали это несчастным случаем, а смертную казнь — слишком суровым наказанием. Поэтому они отказывались выдавать убийц «во имя чести», а некоторые даже были готовы помочь «несчастным» бежать. Конечно, в первую очередь помощь приходила со стороны семьи и друзей, но принимать участие в судьбе убийц могли и совершенно незнакомые люди
[800]. Как-то раз несколько горожан задержали пойманного с поличным магазинного вора, но отпустили после того, как он признался им в совершённом когда-то убийстве. Они бы спокойно выдали его властям за совершение кражи, но сочли неприемлемым, что этот бедолага мог быть приговорён к смертной казни из-за какого-то давнишнего «несчастного случая». Некоторые трактирщики, заметив предполагаемого убийцу в своей таверне, могли спросить его: «Почему ты всё ещё в городе?»
[801]
Иллюстрации к главе II. Дуэли на ножах в Италии

В руках у соперников навахоны. «Дуэль», Жозеф Сен-Жерми, 1888 г.

Махо с ножами атакуют мамелюков. «2 мая 1808». Франсиско Гойя, 1814 г.

«Ссора» (фрагмент). Мануэль Кабрал Агуадо Бехарано, 1850 г.

Малагская наваха. Общая длина 55 см, длина клинка, 29 см. (© I-F Lalliard).

«Схватка цыган». Рафаэль Ромеро Баррос, 1871 г.

«Гибель Даоиса и оборона парка Монтелеон», (фрагмент). Мануэль Кастеллано, 1862 г.

Боевая альбасетская наваха, 1887 г. Общая длина 59,2 см.

Боевая альбасетская наваха, XIX в. Общая длина 55 см.


Испанский кинжал, тип А, середина XIX века.
Общая длина 28,2 см.
Испанские дуэльные ножи (© J-F. Lalliard).

Французская наваха Тьерского производства, конец XIX в. Общая длина 42 см.

Боевая наваха производства Santa Cruz de Múdela, конец XIX в. Общая длина 46 см.
Малагская наваха начала XIX в. Общая длина 37 см.

Испанский кинжал, тип 'Б', конец XVIII века. Общая длина 28 см.

Испанские дуэльные ножи (© J-F. Lalliard).

Аллегория Испании. «Канте хондо». Хулио Ромеро де Торрес, 1930 г.

Поединок на кинжалах. Alte Armatur und Ringkunst. Ханс Тальхоффер. Байерн, 1459 г.
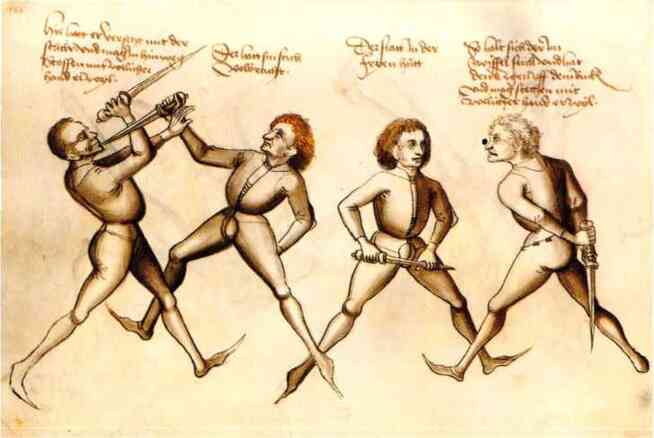
Боец справа прячет кинжал за спиной Fechtbuch, Ханс Тальхоффер, 1467 г.

«В Римской таверне». Карл Генрих Блох, 1866 г.

Игра в морру. Бартоломео Пинелли, 1828 г.

Дуэль на Пьяцца дель Попполо. Шарль Гриньон, 1796 г.

Ссора каморристов. Неаполь, 1853 г.

Римский дуэльный нож. Общая длина 49,4 см.

Сицилийский дуэльный нож салитано. Общая длина 45,4 см.

Генуэзский нож. Общая длина 34,7 см.

Неаполитанский дуэльный нож. Общая длина 37,5 см.

Калабрийский нож тре пианелле. Обшая длина 36,4 см.

Зомпафуоссо — нож для зумпаты, дуэли каморры. Общая длина 32 см.

Римский дуэльный нож. Общая длина 47,3 см.
Реплики дуэльных ножей XVIII–XIX в. (© С.С.Раgani)

Генуэзский нож, Италия, XVIII в. Общая длина 33,5 см.

Кинжал, Лигурия, конец XVIII в. Общая длина 28 см. (© Hermann Historical
 loading='lazy' border=0 style='spacing 9px;' src="/i/25/434925/img6b0d.jpg">
Сфарцилья. XIX век. Общая длина 51 см. (© Von Morenberg).
loading='lazy' border=0 style='spacing 9px;' src="/i/25/434925/img6b0d.jpg">
Сфарцилья. XIX век. Общая длина 51 см. (© Von Morenberg).
 Ронкола производства Маньяго. Начало XX в. Обшая длина 26 см. (© J-F. Lalliard).
Ронкола производства Маньяго. Начало XX в. Обшая длина 26 см. (© J-F. Lalliard).

Ломбардская ронкола из Преманы. Начало XIX в. Общая длина 19 см. (© J-F. Lalliard).

Иллюстрации к главе III. Дуэли на ножах в Аргентине

 Гаучо с эстанции «Ринкон де Лопес» развлекаются поединками на ножах. Аргентина, 1958 год. (© Rene Burri / Magnum Photos).
Гаучо с эстанции «Ринкон де Лопес» развлекаются поединками на ножах. Аргентина, 1958 год. (© Rene Burri / Magnum Photos).
 Дуэль после перикона (популярный танец). Франциско Айерса, эстанция Сан Хуан, 1891 г.
Дуэль после перикона (популярный танец). Франциско Айерса, эстанция Сан Хуан, 1891 г.
 Гаучо-чарруа. Жан Батист Дебре, 1834 г.
Гаучо-чарруа. Жан Батист Дебре, 1834 г.
 Гаучо-гуарани. Жан Батист Дебре, 1834 г.
Гаучо-гуарани. Жан Батист Дебре, 1834 г.


Дага. Общая длина 63,5 см. 1880 г.

Факон. Длина клинка 22,2 см, общая длина 33,9 см.

Факон. Длина клинка 23 см, общая длина 37 см.

Факон. Длина клинка 19 см, общая длина 29 см.

Факон. Длина клинка 30 см, общая длина 44 см.
Иллюстрации к главе IV. Дуэли на ножах в Голландии
 Поединок на ножах. Керамическая плитка, 1740–1866 гг.
Поединок на ножах. Керамическая плитка, 1740–1866 гг.
 Дуэль на ножах. Керамическая плитка, 1625–1675 гг.
Дуэль на ножах. Керамическая плитка, 1625–1675 гг.
 Спор за игрой в карты (фрагмент). Ян Стиин, вторая половина XVII в.
Спор за игрой в карты (фрагмент). Ян Стиин, вторая половина XVII в.

Испанский бельдюк. Музей Джима Гордона, Санта Фе.

Испанский бельдюк. Музей Джима Гордона, Санта Фе.

Бельдюк. Эль Пасо, Техас.

Бельдюк.
 Складной нож. Нидерланды, 1600–1650 гг.
Складной нож. Нидерланды, 1600–1650 гг.
 Складной нож. Нидерланды, около 1700 г.
Складной нож. Нидерланды, около 1700 г.
Был зарегистрирован случай, когда в нескольких тавернах, расположенных на улице, где произошло убийство, собирали деньги, чтобы помочь убийце бежать из города. Но после 1720-х судебные записи уже не содержат сведений об этой традиции. Возможно, она исчезла вместе с культурой поединков на ножах. Следующий инцидент прекрасно демонстрирует изменения, произошедшие за эти годы в системе ценностей кабацкой публики и в позиции общественного мнения в контексте дуэлей. В 1795 году двое мужчин поспорили в винной лавке из-за денежного долга, и вышли для урегулирования конфликта на улицу. Чуть позже один из них вернулся в лавку, держа в руке окровавленный нож, которым перед ссорой чистил лимон, и воскликнул: «Куда мне идти?» Но никто из присутствующих не отозвался на этот отчаянный призыв[802].
Позиция властей по отношению к дуэлям была значительно менее лояльной, чем у голландских бюргеров. Так, ещё в указе от 1589 года муниципалитет города Зирикзее выразил недовольство количеством убийств, совершаемых в тавернах. А в городе Хардервейк был принят закон, обязывающий владельцев таверн предупреждать своих посетителей, что внутрь им разрешено вносить ножи, не превышающие по размеру образец, выставленный перед зданием суда. Кроме того, ножи, использующиеся в таверне на кухне, должны были иметь затупленные острия. Также муниципальные власти требовали от трактирщиков разнимать дуэлянтов. В 1616 году во Фландрии был даже принят специальный закон, обязывающий трактирщиков растаскивать поножовщиков. В случае невыполнения этого постановления трактирщик моалишиться лицензии на три года. Об имевших место подобных поединках хозяин таверны был обязан сообщить полиции в течение 24 часов[803].
В том же 1616 году из-за участившихся поединков между простолюдинами власти Гааги были вынуждены принять закон, запрещающий дворянским слугам и лакеям носить с собой шпаги, кинжалы, мушкеты, пистолеты, палки и другое оружие. Предпринимались и другие многочисленные законодательные меры, призванные отбить у дуэлянтов всякое желание драться в поединках. Так, указ от 1589 года под угрозой штрафа в три гульдена требовал от каждого посетителя, решившего пропустить стаканчик в таверне, оставлять нож дома или сдавать его на хранение хозяину таверны.
Если же хозяин таверны, тем не менее, обслуживал клиентов, отказавшихся сдать ему свои ножи, и наливал им спиртное, то его приговаривали к штрафу в 6 гульденов, Любого человека, выхватившего в запале нож, даже если он при этом никого не ранил, приговаривали к штрафу в 20 гульденов. Ранение ножом, причинённое в любой ситуации, за исключением необходимой самообороны, обошлось бы агрессору в тридцать гульденов плюс телесное наказание[804].
А иногда, хоть и крайне редко, случалось, что и сами дуэлянты обращались за помощью к закону, как это произошло в 1749 году, когда Антонис ван Тэйл ввязался в дуэль на ножах в таверне в Ньюваале. Его противником был другой местный житель, Кристиаен Тиммер. И Тиммер, и Тэйл получили лёгкие ранения и были быстро поставлены на ноги местным хирургом. Но вскоре после этого разгневанный Антонис ван Тэйл неожиданно почувствовал себя пострадавшей стороной и подал к Тиммеру судебный иск на 1000 талеров. Верховный суд скептически отнёсся к этому делу и отклонил его претензии, решив, что обе стороны виноваты в равной степени[805].
Эффект от всех этих многочисленных запретов был незначительным. Ещё король Испании Филипп Второй указом от 1589 года тщетно пытался запретить голландцам носить остроконечные ножи. Так же провалилась и попытка монарха заставить их сдавать шпаги, ножи, кинжалы и другое оружие перед свадьбами, танцами и прочими праздниками[806].
Но один из самых ощутимых ударов по культуре народных поединков был нанесён не законодательной властью. В первой четверти XVIII столетия в Голландии произошёл раскол общества, отделивший социальные слои исповедовавшие культуру насилия, от респектабельной части городского населения и разбивший общество на две антагонистические субкультуры, известные как «культура ножей» и «культура палок». Уважаемые члены общества отказывались принимать участие в поединках на ножах, а в ситуации, когда им угрожали или вызывали на поединок, они старались решить конфликт другими способами. Их типичным оружием самообороны стала трость. С её помощью они пытались обезоружить или ударить агрессора. В качестве примера можно привести схватку, произошедшую в 1731 году, начало которой положила драка между бойцовскими псами двух соседей, Виллема ван Бушервельда и Хендрика Вестермана. Когда Хендрик достал нож, угрожая убить Виллема вместе с его псом, тот по настоянию жены вернулся в дом. Но Хендрик на этом не успокоился и вызвал его на поединок. После этого Виллем вышел с палкой от швабры в руках, подошёл к Хендрику и попытался выбить у него нож[807].
Некоторые горожане постоянно носили с собой палки, вероятно, для использования в качестве прогулочной трости в более мирных ситуациях. В июле 1706 года Серваас ван дер Таас, посетив несколько баров, привязался к троим мужчинам на улице, но они отказались составить ему компанию. После этого Серваас выхватил нож и напал на одного из них, а тот в свою очередь защищался палкой. Во многих приличных домах той эпохи палка стояла за входной дверью, как в наши дни у владельцев магазинчиков наготове припрятана бейсбольная бита[808].
Но в 1711 году это не спасло Петера Фронтийна, ставшего случайной жертвой. Некий Амбросиус Кёртц попивал в баре, находившемся в доме Петера. Когда в 22.30 он потребовал ещё выпивки, хозяин ответил, что так поздно он клиентов уже не обслуживает. Началась ссора, но в результате владельцу заведения удалось вытолкать Амбросиуса на улицу. Когда между двумя и тремя часами ночи тот снова вернулся, то по ошибке постучал не в ту дверь. Ему открыл Петер и спросил, кого он ищет. «Тебя!» — ответил Кёртц и тут же набросился на Фронтийна. Оттолкнув нападавшего, Петер забежал в дом, вернулся с палкой и замахнулся на Амбросия, который в ответ достал нож. В последовавшей драке Петер получил два ножевых ранения в грудь[809].
 Рис. 38. Мальчики колотят товарища палками. Йоханнес Александр Рудольф Бест (1807–1855).
Рис. 38. Мальчики колотят товарища палками. Йоханнес Александр Рудольф Бест (1807–1855).
 Рис. 39. Мужчина с тростью. Дирк Эверсен Лонс, 1622 г.
Рис. 39. Мужчина с тростью. Дирк Эверсен Лонс, 1622 г.
Но, вероятно, самым известным случаем столкновения культуры палки и культуры ножа стал инцидент произошедший в 1704 году, в котором принял участвие садовник бургомистра Амстердама Николаэса Витсена — Варнаар Варнаарсе. В этом конфликте садовник, вызванный на поединок на ножах неким Хендриком Блоком, в качестве оружия также использовал палку. Более подробно мы рассмотрим этот случай в главе, посвящённой ритуальному шрамированию[810].
Многочисленные свидетельства о существовании подобных инцидентов демонстрируют, насколько часто жителям Амстердама приходилось полагаться исключительно на собственные силы, чтобы защитить себя и своё имущество. Поскольку защита с помощью палки часто фигурирует в судебных документах, можно предположить, что это было обычным делом, а как следует из описания деталей, зачастую и успешным. Когда человек отражал нападение агрессора, вооружённого палкой, и при этом обходилось без тяжких ранений, то вряд ли подобные случаи попадали в судебные протоколы. В делах об убийствах инциденты с применением палки против ножа, как правило, являлись неудавшейся самообороной. А ситуации, в которых в убийстве обвинялся бы владелец палки, в судебных анналах Амстердама зафиксированы не были[811].
Конфликт между «людьми палки» и «людьми ножа» служит для историков критерием разделения двух классов и их культур. Члены этих групп даже могли быть соседями, но при этом иметь социальные отличия. Люди, использовавшие ножи, относились к самому дну низших классов, а те, кто предпочитал палки, были или выходцами из высших слоёв плебса, или же относились к нижней части среднего класса. Конечно, нельзя отрицать, что и у этих людей были ножи. Они даже могли носить их с собой в кармане, например, для того, чтобы почистить яблоко. Но при этом они никогда не использовали ножи в качестве оружия при решении конфликтов.
Маловероятно, что у Петера Фронтийна дома вообще не было ножей — хотя бы наточенного ножа на кухне. Просто он не хотел быть втянутым в поединок. Кроме того, вполне возможно, что «люди с палками» были настолько слабыми бойцами, что нож в качестве оружия был для них просто бесполезен. Но при изучении свидетельских показаний складывается впечатление, что отвечать на подобный вызов они просто считали ниже своего достоинства. «Люди с палками» предпочитали держаться от «людей с ножами» как можно дальше[812]. Как мы вскоре убедимся, антагонизм между этими двумя культурами сохранился и в последующие столетия. И в XVIII, и в XIX в., палка и прогулочная трость служили неким «водоразделом», символом, отделяющим мещанина или респектабельного буржуа от маргинала.
Возможно, изменения в культурном значении насилия могли быть связаны с общими фундаментальными изменениями в голландском обществе. Сегодня мы можем делать лишь осторожные предположения, была маргинализация культуры ножевых поединков связана с процессом становления государственности или же на это повлияло развитие голландской экономики.
Очевидно, нужно начинать с исследования деятельности церкви и магистратов. О дисциплинарных мерах реформатских консисторий уже говорилось выше. Хотя в других протестантских церквях исследования не проводились, тем не менее, известно, что и они следили за моральной дисциплиной своей паствы. Так, из записей нескольких священников, ссылавшихся на шестую заповедь, нам становится известно, что клирики считали насилие грехом. В их проповедях говорилось не только об убийствах, но и о насилии в целом и даже о малейшей ссоре, которая может к нему привести. Священники постоянно предавали с амвона все виды насилия анафеме, разве что за исключением наказания преступников или священной войны с католической Испанией. Имея достаточно смутное представление о народном кодексе чести, протестантские священники тем не менее бескомпромиссно осуждали его, так как истинная честь, как они утверждали, исходит только от бога[813].
Дополнительные свидетельства подобного осуждения предоставляют нам решения, принятые местными синодами реформатской церкви. Хотя такие вопросы, как регулирование брачных отношений или борьба с суевериями, интересовали синод значительно больше, но всё же в церковных документах мы встречаем и нескончаемый поток решений, касающихся убийств и поединков на ножах. Так, на Утрехтском соборе 1606 года рассматривалась жалоба некоего приходского священника из Веенендаала. За время его работы в деревне в поединках на ножах было убито не менее тридцати человек. К сожалению, не сохранилось записей о том, когда он прибыл в эту деревню, чтобы определить, в течение какого времени произошли все эти убийства. А в восточных провинциях между 1590 и 1610 годами некоторые проповедники даже сами подозревались в совершении убийств.
В 1630-х годах синод Южной Голландии несколько раз выступал против поединков на ножах, а с 1650-х годов все усилия синодов сконцентрировались на борьбе с дуэлями. Это «наступление цивилизации» в лице лидеров религиозных общин, вероятно, и явилось основным фактором в первой фазе маргинализации ножевой культуры и потери к ней уважения в обществе. В ранний период Республики соперничество между несколькими протестантскими конфессиями простиралось от канонов веры до вопросов добродетельности членов общины в глазах сообщества. Отказ от насилия являлся одним из средств демонстрации этой добродетели, а конкуренция между конфессиями стимулировала стремление изменить поведение членов церковной общины. Для них поединки на норках были недопустимы, и, следовательно, с их подачи они превратились в «порочную привычку дна общества»[814].
 Рис. 40. Обезьянья дуэль на ножах. Карикатура. Михель Карри, 1667 г.
Рис. 40. Обезьянья дуэль на ножах. Карикатура. Михель Карри, 1667 г.
Но с конца XVII столетия консистории, решив, что их паства уже достаточно смирна и добродетельна, стали проявлять меньше активности в контролировании порядка. Да и сами маргинальные «люди с ножами» едва ли интересовались первоочередными заботами консисторий. Таким образом, исчезновение дуэлей на ножах после 1720-х годов вряд ли было обусловлено церковной пропагандой. Скорее определённую роль всё-таки сыграли репрессии со стороны государства. Так как церковь и государство в некоторой степени были взаимосвязаны, то помимо заботы о наставлении своей паствы на путь истинный церковь оказывала давление и на судей. В большинстве резолюций церковных соборов, касающихся насилия, были и обращения к судам с призывами занять более жёсткую позицию[815].
В конце XVI столетия голландские суды в делах об убийствах по-прежнему позволяли сторонам личное урегулирование между убийцей и родственниками жертвы. Если убийца достигал соглашения с семьёй убитого, то вся роль судов заключалась в требовании выплаты финансовой компенсации. Убийц, скрывающихся от правосудия, заочно приговаривали к изгнанию из юрисдикции, часто состоящей из пары деревень. Синоды жаловались, что приговорённые, широко улыбаясь, прогуливались вдоль межевой черты.
 Рис. 41. Голландские мужчины из Маркена. Джон Хигинбосэм, 1908 г.
Рис. 41. Голландские мужчины из Маркена. Джон Хигинбосэм, 1908 г.
Совершенно очевидно, что церковь требовала от государства осуществить его монополию на насилие через ужесточение наказаний. Клирики требовали у светской власти не прощать виновных в убийстве и запрещали своей пастве препятствовать властям в уголовном преследовании. Поединки представляли определённую опасность для власти, так как посягали на государственную монополию применения насилия. Влияние этих церковных увещеваний на исчезновение дуэлей на ножах сложно определить, но маловероятно, что именно давление со стороны церкви вынудило судей отказаться от практики частных соглашений в делах об убийствах[816].
С другой стороны, нет никаких сомнений, что судьи Амстердама, по крайней мере, с 1650 года сконцентрировались на искоренении поединков на ножах. В документах того периода нет ни позитивной, ни даже нейтральной точки зрения судов на народные дуэли — поединок чести однозначно считался незаконным. Единственным легитимным оправданием для удара ножом являлась самооборона. Но даже в этом случае существовали строгие ограничения и требования, такие, например, как обязанность отказаться от боя. Подобная ситуация фигурирует в знакомом нам деле Клааса Абрамса: даже несмотря на то, что потенциальная жертва достала нож первой, амстердамские судебные чиновники — ««schepenen» признали, что убийца заслуживает смертной казни. По их мнению, когда нож противника сломался, Клаас был обязан воспользоваться этой возможностью для бегства. Ответчикам, ссылавшимся на самооборону, суд обычно сообщал, что они спокойно могли бы отступить в чей-нибудь дом. Излишне говорить, что такое бегство покрыло бы благородного «фуурфехтера» позором[817].
Существуют свидетельства, доказывающие, что ножевая культура не исчезла в 1700-х и в некоторых сельских районах Нидерландов благополучно дожила до середины XIX столетия. Винсент Слиибе в своём исследовании преступности в аграрной области Гронинген отмечает, что в начале XIX столетия, как и за две сотни лет до этого, поединки в деревнях начинались с формального вызова. Зачинщик вызывал противника на улицу, и последний принимал вызов — снимал куртку. Слиибе приводит свидетельство очевидца тех событий, по словам которого дуэль выглядела так же, как и в начале XVIII века: «Искусные бойцы старались нанести длинные порезы на лица своих противников, и при этом сами они гордились своими шрамами»[818].
Такой же обычай был распространён в XIX веке в Дренте и Брабанте. По словам Слиибе, хотя в середине 1800-х ножи всё ещё преобладали в Гронингене как орудие преступления, однако к концу столетия они всё реже фигурируют в судебных делах[819]. Вот что в 1862 году писал о поединках в Дренте Альберт Вильд в работе «Die Niederlande»: «Целью этих поединков было не заколоть противника, а лишь порезать ему лицо. Такие порезы на лице парней служили символами доблести в глазах других парней и девушек. Ни один праздник в деревне не проходил без того, чтобы не появились новые шрамы на лицах. Иногда, если порез был слишком обширным или глубоким, поединок на ножах заканчивался гибелью одного из дуэлянтов. Несмотря на суровость законов, поединки на ножах до сих пор не вышли из моды. В качестве вызова на поединок в стол таверны втыкали нож, и каждый вытащивший его или хотя бы дотронувшийся до ножа пальцем считался принявшим вызов и подвергал себя риску уйти с порезанным лицом»[820].
Но если верить утверждениям газет, то было бы ошибкой полагать, что в 1800-х ножевая культура незаметно угасала в медвежьих углах Нидерландов. Вот что мы читаем в журнале за 1805 год: «В Голландии широко распространён вид поединка между моряками и прочими людьми, известный как сникер-снии. В этом поединке используются острые ножи, и участники калечат, а иногда и убивают друг друга. Правительство считает нужным мириться с этой дикой практикой. Если ранения нанесены в опасные участки тела, накладываются штрафы, но ничтожные, и при условии соблюдений основных правил поединка редко применяется какое-либо наказание»[821].
Некий англичанин воскресным утром 1825 года невольно стал очевидцем поединка двух голландских моряков, повздоривших в борделе из-за женщины. Кроме сетований на жестокость и дикость местных нравов и дифирамбов английской традиции решать вопросы чести в джентльменских боксёрских поединках автор сообщил нам, что, повздорив, они пришли к взаимному соглашению решить это дело на дуэли с помощью больших ножей. Этот вид поединка вследствие того, что в нём избегали колющих ранений, именовался у них «разделка». На роль секундантов моряки выбрали своих товарищей. По словам очевидца, «в этом жестоком бою противники демонстрировали высочайшее присутствие духа, и необыкновенно хладнокровно кромсали друг другу лица и руки». В итоге этой схватки лицо зачинщика дуэли было изрезано до костей, а его соперник хоть и был признан победителем, но настолько ослабел от потери крови, что был перенесён на борт корабля, к которому был приписан[822].
А в 1843 году, через двадцать лет после описываемых событий, эту традицию упомянул известный российский журнал «Отечественные записки»: «В Голландии, между простым народом и более всего между матросами существует варварский обычай, подобный английскому boxen, именно дуэль на ножах, по-голландски snyden. Если два матроса поссорятся, то распря их должна окончиться ножами. Зрители тотчас становятся в кружок, и соперники выходят на арену с острым садовым ножом в правой руке, а левая обвивается несколько раз толстым сукном для отпарирования ударов противника. Каждый из них старается нанести сопернику рану ножом, т. е. разрезать рот до ушей, ногу, руку и проч. В таком поединке, однако ж, позволяются только разрезы, но ни под каким видом нельзя сделать удар ножом как кинжалом. Нарушивший такое правило подвергается нападениям целой толпы зрителей, вооружённой также ножами. Эти поединки нередко бывают в голландских тавернах, винных погребах, где матросы после долгих морских путешествий пируют на сухом пути»[823].
Современная Голландия ассоциируются у своих соседей с чем угодно: с цветами, плотинами, мельницами, повальным использованием велосипедов, легальной продажей лёгких наркотиков, свободой нравов — но только не с поножовщинами. Более того, сегодня об этих страницах голландской истории помнят лишь специалисты по истории криминалистики, да ещё, может быть, пара историков и социологов. Как-то мне довелось присутствовать на дегустации в одном сигарном клубе, и рядом со мной за столом аппетитно попыхивал сигаркой колоритный консул Голландии, напоминавший бюргера с картин фламандских мастеров. Я не мог не воспользоваться этим соседством и спросил, что он думает о голландской культуре дуэлей на ножах и что, с его точки зрения, могло способствовать её появлению. Консул недоумённо посмотрел на меня, вытащил сигару изо рта и звонко расхохотался. «Дуэли на ножах? — весело переспросил он. — В Голландии? — И громко и уверенно добавил: — Че-пу-ха!
Глава V
ЮЖНЫЕ ДЕСПЕРАДО
Дуэли на ножах в США

 Первые свидетельства о дуэлях на ножах, проходивших на территории, где сегодня располагаются Соединённые Штаты Америки, датируются XVI веком. В 1500-х на берегах Гудзона в поединках у таверн сходились разгорячённые возлияниями голландские переселенцы. Но вскоре стараниями легендарного губернатора Нового Амстердама Петера Стайвесанта, который вёл непримиримую борьбу с этой пагубной традицией, был принят ряд жёстких законов как против поединков на ножах, так и против питейных заведений, служивших рассадником этих дуэлей. В результате суровых мер, предпринятых местными властями, традиция далёкой родины вскоре канула в Лету, не оставив какого-либо значимого следа в истории голландских поселений в Новом Свете[824].
Поэтому отсчёт дуэлей на ножах я бы начал вести с поединка, состоявшегося в городе Плимут в штате Массачусетс 18 июня 1621 года. В этот день двое слуг, Эдвард Доти и Эдвард Лейчестер, встретились на дуэльной площадке с кинжалами в руках. До смертоубийства не дошло, хотя оба они были ранены — один в шею, а другой в ногу. Так как симпатии жителей городка были на их стороне, оба отделались символическим наказанием — соперников связали вместе и оставили лежать в таком виде на двадцать четыре часа. Но благодаря заступничеству их хозяев и мольбам самих незадачливых дуэлянтов даже и этот мягкий приговор был отменён уже через час. Их развязали, и они пообещали больше никогда не совершать столь пагубных поступков[825].
За исключением поселившиеся на Манхэттене голландцев, переселенцы из Европы — особенно приплывшие на «Мэйфлауэре» английские пуритане — за ножи хвататься не стремились и в приверженности дуэльным традициям замечены не были. Таким образом, ранний период истории Соединённых Штатов особого интереса для изучения культуры чести и традиции поединков не представляет. Поэтому мы спокойно уожем перенестись на несколько веков вперёд, в начало XIX столетия, на старый добрый американский Юг, знакомый нам по книгам Майн Рида, Марка Твена и Маргарет Митчелл. Именно здесь, на берегах Миссисипи, на холмах Озарка и у заболоченных байу Луизианы, более столетия процветала традиция решать столь волнующие гордых южан вопросы чести в поединках на ножах. Большинство исследователей сходится во мнении, что ножевая культура, как и культура чести, попали в Новый Свет на кораблях европейских переселенцев и что корни этой традиции надо искать на родине многих дуэльных культур — в Средиземноморье. Но принадлежала ли пальма первенства испанским мастерам навахи, мрачным сицилийским бригантам или куртуазным французским фехтовальщикам, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Слишком много культур и народов смешалось в этом огромном котле.
В начале XVI столетия в местах, где позже был возведён Новый Орлеан, высадились испанские мореплаватели. Принято считать, что первым появившимся на Миссисипи европейцем стал в 1540 году испанец Эрнандо де Сото. Но ещё задолго до него здесь побывали и другие его соотечественники. В числе предшественников де Сото можно назвать экспедицию Альвареса де Пинеда 1519 года, Панфило де Нарваэса и Альваро Нуньеса Кабеса де Вака, появившихся в этих местах в 1528 году, и, наконец, Луиса де Москосо, высадившегося на Миссисипи в 1640-х. Но всего через сорок лет после Москосо, в 1680 году, на этой территории уже безраздельно хозяйничали французы, проводившие колонизацию долины Миссисипи и объявившие эти земли собственностью французской короны[826].
7 мая 1718 года французская Миссисипская компания основала поселение, получившее название Да Нувель Орлеан, или Новый Орлеан. Об этих временах напоминает Французский квартал, расположенный в историческом центре Орлеана. В 1763 году, вскоре после окончания колониальной войны, известной как Семилетняя, которую Уинстон Черчилль как-то назвал «первой мировой», Новый Орлеан, согласно Парижскому договору, перешёл под юрисдикцию испанской короны[827].
Во время войны за независимость 1775–1783 годов испанский Новый Орлеан представлял собой стратегически важный порт, через который по Миссисипи шли тайные поставки помощи и вооружения повстанцам. В 1779 году граф Бернардо де Гальвес и Мадрид организовал в городе антианглийскую кампанию[828]. Под испанским контролем город оставался до 1801 года, когда он снова стал французским. В 1803 году Наполеон провернул сделку, вошедшую в историю как «Vente de la Louisiane» — «Луизианская покупка», и продал территории Луизианы вместе с Новым Орлеаном Соединённым Штатам[829].
В быстро растущий портовый город в поисках лучшей жизни устремились эмигранты со всего мира, среди которых было и немало испанцев. Кроме переселенцев из континентальной Иберии сюда прибывали пилигримы и из более отдалённых владений испанской короны. Так, например, в конце 1778 года у пристани Нового Орлеана пришвартовалось испанское судно «Santis-simo Sacramento» с переселенцами с Канар. Всего с этих принадлежавших Испании островов в Луизиану перебралось около двух тысяч человек[830]. Кроме Канар экспатриантов поставляли и другие испанские территории, такие как Балеарские острова. Именно с Балеар на одном из судов тогда ещё совсем зелёным юнгой приплыл в Новый Орлеан будущий легендарный фехтовальщик и бретёр дон Хосе, или, как его ещё называли друзья, Пепе, Юуйя, уроженец Порт Махон — столицы Менорки, одного из Балеарских островов[831].
Говорили, что никто в Новом Орлеане не владел палашом и саблей лучше, чем он. Со шпагой и рапирой он был неуязвим, а с винтовкой прослыл виртуозом. Из пистолета он мог выбивать монетки у друзей из пальцев или сбивать яйца с головы своего сына на дистанции в тридцать шагов. Этот самый выдающийся дуэлянт в городе мог сражаться с кем угодно и на любых условиях. Сохранились свидетельства о том, что он дрался на ножах боуи, когда соперники держались за противоположные концы шейного платка и не отпускали, пока один из них не падал мёртвым. При этом лучшей тактикой было позволить противнику вогнать нож в ваше левое плечо и затем потрошить его[832].
Так как в жилах Пепе текла испанская кровь, он, как и многие из его земляков, обладал врождённой способностью к владению ножом. Он мог сражаться на кинжалах в тёмной комнате или стоя рядом с соперником на большой бочке. Однажды дон Хосе заявил, что может убить своего противника, проткнув его на выбор в любую пуговицу жилета. Что он и сделал первым же ударом. Хотя те, кого Юуйя вызывал на бой, часто демонстрировали крайнюю предусмотрительность, мгновенно предлагая ему любые извинения на выбор, но, тем не менее, список его жертв был достаточно длинным[833].
Первые свидетельства о дуэлях на ножах, проходивших на территории, где сегодня располагаются Соединённые Штаты Америки, датируются XVI веком. В 1500-х на берегах Гудзона в поединках у таверн сходились разгорячённые возлияниями голландские переселенцы. Но вскоре стараниями легендарного губернатора Нового Амстердама Петера Стайвесанта, который вёл непримиримую борьбу с этой пагубной традицией, был принят ряд жёстких законов как против поединков на ножах, так и против питейных заведений, служивших рассадником этих дуэлей. В результате суровых мер, предпринятых местными властями, традиция далёкой родины вскоре канула в Лету, не оставив какого-либо значимого следа в истории голландских поселений в Новом Свете[824].
Поэтому отсчёт дуэлей на ножах я бы начал вести с поединка, состоявшегося в городе Плимут в штате Массачусетс 18 июня 1621 года. В этот день двое слуг, Эдвард Доти и Эдвард Лейчестер, встретились на дуэльной площадке с кинжалами в руках. До смертоубийства не дошло, хотя оба они были ранены — один в шею, а другой в ногу. Так как симпатии жителей городка были на их стороне, оба отделались символическим наказанием — соперников связали вместе и оставили лежать в таком виде на двадцать четыре часа. Но благодаря заступничеству их хозяев и мольбам самих незадачливых дуэлянтов даже и этот мягкий приговор был отменён уже через час. Их развязали, и они пообещали больше никогда не совершать столь пагубных поступков[825].
За исключением поселившиеся на Манхэттене голландцев, переселенцы из Европы — особенно приплывшие на «Мэйфлауэре» английские пуритане — за ножи хвататься не стремились и в приверженности дуэльным традициям замечены не были. Таким образом, ранний период истории Соединённых Штатов особого интереса для изучения культуры чести и традиции поединков не представляет. Поэтому мы спокойно уожем перенестись на несколько веков вперёд, в начало XIX столетия, на старый добрый американский Юг, знакомый нам по книгам Майн Рида, Марка Твена и Маргарет Митчелл. Именно здесь, на берегах Миссисипи, на холмах Озарка и у заболоченных байу Луизианы, более столетия процветала традиция решать столь волнующие гордых южан вопросы чести в поединках на ножах. Большинство исследователей сходится во мнении, что ножевая культура, как и культура чести, попали в Новый Свет на кораблях европейских переселенцев и что корни этой традиции надо искать на родине многих дуэльных культур — в Средиземноморье. Но принадлежала ли пальма первенства испанским мастерам навахи, мрачным сицилийским бригантам или куртуазным французским фехтовальщикам, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Слишком много культур и народов смешалось в этом огромном котле.
В начале XVI столетия в местах, где позже был возведён Новый Орлеан, высадились испанские мореплаватели. Принято считать, что первым появившимся на Миссисипи европейцем стал в 1540 году испанец Эрнандо де Сото. Но ещё задолго до него здесь побывали и другие его соотечественники. В числе предшественников де Сото можно назвать экспедицию Альвареса де Пинеда 1519 года, Панфило де Нарваэса и Альваро Нуньеса Кабеса де Вака, появившихся в этих местах в 1528 году, и, наконец, Луиса де Москосо, высадившегося на Миссисипи в 1640-х. Но всего через сорок лет после Москосо, в 1680 году, на этой территории уже безраздельно хозяйничали французы, проводившие колонизацию долины Миссисипи и объявившие эти земли собственностью французской короны[826].
7 мая 1718 года французская Миссисипская компания основала поселение, получившее название Да Нувель Орлеан, или Новый Орлеан. Об этих временах напоминает Французский квартал, расположенный в историческом центре Орлеана. В 1763 году, вскоре после окончания колониальной войны, известной как Семилетняя, которую Уинстон Черчилль как-то назвал «первой мировой», Новый Орлеан, согласно Парижскому договору, перешёл под юрисдикцию испанской короны[827].
Во время войны за независимость 1775–1783 годов испанский Новый Орлеан представлял собой стратегически важный порт, через который по Миссисипи шли тайные поставки помощи и вооружения повстанцам. В 1779 году граф Бернардо де Гальвес и Мадрид организовал в городе антианглийскую кампанию[828]. Под испанским контролем город оставался до 1801 года, когда он снова стал французским. В 1803 году Наполеон провернул сделку, вошедшую в историю как «Vente de la Louisiane» — «Луизианская покупка», и продал территории Луизианы вместе с Новым Орлеаном Соединённым Штатам[829].
В быстро растущий портовый город в поисках лучшей жизни устремились эмигранты со всего мира, среди которых было и немало испанцев. Кроме переселенцев из континентальной Иберии сюда прибывали пилигримы и из более отдалённых владений испанской короны. Так, например, в конце 1778 года у пристани Нового Орлеана пришвартовалось испанское судно «Santis-simo Sacramento» с переселенцами с Канар. Всего с этих принадлежавших Испании островов в Луизиану перебралось около двух тысяч человек[830]. Кроме Канар экспатриантов поставляли и другие испанские территории, такие как Балеарские острова. Именно с Балеар на одном из судов тогда ещё совсем зелёным юнгой приплыл в Новый Орлеан будущий легендарный фехтовальщик и бретёр дон Хосе, или, как его ещё называли друзья, Пепе, Юуйя, уроженец Порт Махон — столицы Менорки, одного из Балеарских островов[831].
Говорили, что никто в Новом Орлеане не владел палашом и саблей лучше, чем он. Со шпагой и рапирой он был неуязвим, а с винтовкой прослыл виртуозом. Из пистолета он мог выбивать монетки у друзей из пальцев или сбивать яйца с головы своего сына на дистанции в тридцать шагов. Этот самый выдающийся дуэлянт в городе мог сражаться с кем угодно и на любых условиях. Сохранились свидетельства о том, что он дрался на ножах боуи, когда соперники держались за противоположные концы шейного платка и не отпускали, пока один из них не падал мёртвым. При этом лучшей тактикой было позволить противнику вогнать нож в ваше левое плечо и затем потрошить его[832].
Так как в жилах Пепе текла испанская кровь, он, как и многие из его земляков, обладал врождённой способностью к владению ножом. Он мог сражаться на кинжалах в тёмной комнате или стоя рядом с соперником на большой бочке. Однажды дон Хосе заявил, что может убить своего противника, проткнув его на выбор в любую пуговицу жилета. Что он и сделал первым же ударом. Хотя те, кого Юуйя вызывал на бой, часто демонстрировали крайнюю предусмотрительность, мгновенно предлагая ему любые извинения на выбор, но, тем не менее, список его жертв был достаточно длинным[833].

Рис. 1. Хосе Юуйя.
Рис. 2. Дуэльные дубы в Новом Орлеане. Именно здесь проходила большая часть дуэлей, 1910 г.
Надо сказать, что упомянутые выше поединки на ножах в тёмной комнате, определённо пользовались на Юге популярностью. Одна из самых известных дуэлей произошла 13 ноября 1888 года в Алабаме в местечке Монтевайо. Конфликт возник между двумя молодыми, но, тем не менее, успешными и известными в городе джентльменами — доктором Робертом Нейборсом и адвокатом В.В. Шортриджем. Драться было решено в тёмной комнате, а в качестве оружия они выбрали ножи боуи. Дуэлянты сняли пальто, обувь и заперли за собой дверь. Схватка продолжалась около десяти минут. Этот поединок стал одним из самых драматичных и кровавых за всю историю Алабамы. Соперники кромсали друг друга ножами как мясники скот на бойне. Вся комната была забрызгана кровью. Вскоре шум схватки привлёк внимание находившихся в здании людей. Когда им наконец удалось выломать дверь, из комнаты выскочил Нейборс, весь покрытый кровью из многочисленных ран на лице и груди. Не произнеся ни слова, он бросился вниз по лестнице, продолжая сжимать в руке окровавленный нож. В комнате на полу лежало бездыханное тело Шортриджа. У адвоката была жутко изрублена голова, перебиты шейные артерии, выколот глаз, а руки были так изрезаны, что пальцы держались только на сухожилиях.
Согласно свидетельствам очевидцев, обезумевший от боли Нейборс выскочил из здания и в неистовстве помчался по улице. По дороге он забежал в какой-то магазинчик, где набросился с ножом на его чернокожего владельца. Защищаясь, хозяин лавки убил доктора. Резюмируя, газета с целью повышения безопасности третьих лиц предлагала ужесточить правила проведения дуэлей в тёмных помещениях. Что свидетельствует о том, что эта разновидность поединков не являлась ничем необычным[834].
Также и сэр Эдвард Салливэн в 1852 году вспоминал, как в Сент-Луисе некий бретёр и задира оскорбил одного молодого человека и вызвал его на поединок. Новичок принял вызов, но только с условием, что бой будет проходить в совершенно тёмном помещении, на что его противник дал согласие. Вооружившись ножами боуи и револьверами, они вошли в тёмную комнату. Секундантам было запрещено открывать двери в течение получаса. По истечении этого времени они вошли внутрь и в одном конце комнаты обнаружили молодого человека сидящим на полу и невозмутимо покуривающим трубку. В противоположном углу лежало тело его противника с головой, полностью отделённой от туловища и поставленной так, чтобы лицо смотрело на дверь. Юноша рассказал поражённым этим зрелищем секундантам, что после начала схватки некоторое время они неотступно следовали в темноте друг за другом. Затем он спрятался в углу, прижался к стене и, когда по шуму дыхания понял, что противник приближается, нанёс удар ножом и убил его на месте. Правда, для чего этот милый юноша отрезал своему недругу голову и совершил с ней такие странные манипуляции, Салливэн не уточняет[835].
 Рис. 3. Братья Читвуд из 23 пехотного полка Джорджии с ножами боуи и револьверами Кольта,31 августа 1861 г.
Рис. 3. Братья Читвуд из 23 пехотного полка Джорджии с ножами боуи и револьверами Кольта,31 августа 1861 г.
Бен Томпсон, известный на Диком Западе середины XIX столетия бретёр и игрок, любил вспоминать историю о том, как он в Новом Орлеане сцепился с неким французом, оскорбившим девушку. Кульминацией их ссоры стал вызов на дуэль. Томпсон предложил французу стреляться из пистолетов с десяти шагов до тех пор, пока один из них не будет убит или не сможет продолжать бой. Но этот вид дуэли был отклонён как «варварский». Бен, в свою очередь, отверг предложение француза драться на шпагах. В результате они пришли к компромиссу, что это будет бой на смерть на кинжалах в тёмной комнате. На том и остановились. Хотя Бен убил француза в честном поединке, но когда он вышел из комнаты один, родственники убитого подняли крик, называя его убийцей. В результате ему пришлось укрыться в сицилийском квартале и, переодевшись сицилийцем, покинуть город. После чего Томпсон направился в техасский Хьюстон, а затем и домой, в Остин[836].
Могу предположить, что моду на поединки в тёмной комнате ввели в Новом Орлеане и других городах американского Юга итальянские иммигранты — возможно, эти дуэли являлись аллюзией на традиционные римские «чиччиаты». Хотя в первые годы своего существования Новый Орлеан заселялся французами, а позже испанцами, к середине XIX столетия он стал настоящей Меккой для итальянских иммигрантов. Согласно данным Бюро переписи населения США, в период с 1850 по 1870 год выходцев с юга Италии, особенно сицилийцев, в Новом Орлеане было больше, чем в любом другом американском городе. Так, например, 80 % жителей легендарного Французского квартала составляли не французы, как это можно было бы предположить, а итальянцы.
 Рис. 4. Лафкадио Хирн (1850–1904).
Рис. 4. Лафкадио Хирн (1850–1904).
И сегодня итальянская диаспора Нового Орлеана составляет около 250 000 человек и является самой большой и влиятельной этнической группой в городе[837].
В те годы в городе как грибы появлялись фехтовальные школы, преподававшие всем желающим основы владения клинком. Гремели имена эльзасца Монтиаса, ветерана наполеоновских войн бордосца Газереса, братьев Росье из Марселя. Славились такие мастера, как свободный негр Чёрный Остин, обучавший флерету, мулат Роберт Северин, позже убитый в Мексике, и Базиль Кроке, также мулат, один из лучших фехтовальщиков города. Но лучшим из лучших несомненно считался маэстро Л'Алуэт. Занятия в фехтовальной школе маэстро посещал и будущий неистовый дуэлянт Пепе Юуйя. Л'Алуэт заметил талантливого юношу, и Юуйя стал его правой рукой[838].
Журналист и писатель Лафкадио Хирн, живший в Новом Орлеане с 1877 по 1887 год и лично знавший дона Хосе, писал, что вскоре Л'Алуэт и его ученик стали близкими друзьями. Только один раз их дружба подверглась испытанию, и произошло это в результате несчастного случая. В то время, когда нож боуи ещё был в Новом Орлеане в новинку, Л'Алуэт настоял на проведении публичного поединка с Пепе. В качестве оружие использовались ножи, вырезанные из древесины гикори, американской разновидности орешника. Так как в обращении с любым ножом Пепе не было равных, Л'Алуэт, получив несколько попаданий, перестал владеть собой и отчаянно атаковал молодого испанца. Юуйя, отражая нападение маэстро, защищался так яростно, что мастер фехтования рухнул на пол без сознания с двумя сломанными рёбрами. Но вскоре дружба их возобновилась и длилась ещё несколько лет, вплоть до смерти Л'Алуэта[839].
 Рис. 5. Надгробная плита Хосе Юуйя на кладбище Сайт Винсен де Поль.
Рис. 5. Надгробная плита Хосе Юуйя на кладбище Сайт Винсен де Поль.
Вопреки расхожему мнению, Юуйя не обучал владению ножом, хотя часто демонстрировал своё мастерство в обращении с боуи. Однажды некоему джентльмену, хорошо владевшему оружием, удалось уговорить Пепе провести с ним тренировочный поединок на деревянных ножах. Практически первым же движением Пепе нанёс своему противнику укол прямо в яремную ямку, после чего ударил его в это же место ещё пять или шесть раз подряд. Ни один из серьёзных поединков Юуйя не длился больше пары минут — в большинстве случаев он выводил противника из строя в самом начале боя[840]. Историк дуэлей Пол Кирхнер отвёл дону Хосе целую главу в своей работе «The Deadliest Men: The World's Deadliest Combatants Throughout the Ages», посвящённой самым опасным бойцам всех времён и народов, а его восковая фигура стоит в городском музее Нового Орлеана[841]. Ещё при жизни Юуйи ходили слухи, что убитых в поединках противников у него накопилось на персональное кладбище. Очевидно, в данном случае это не являлось фигурой речи, так как в 1857 году Хосе Юуйя и в самом деле приобрёл основанное в 1832 году орлеанское кладбище Сант Винсен де Поль[842]. На этом кладбище был похоронен и сам грозный Пепе, скончавшийся 6 марта 1888 года в возрасте семидесяти трёх лет[843]. Всю жизнь дон Хосе оставался патриотом Испании и даже как-то раз, чтобы защитить честь далёкой родины, вызвал на бой до смерти всех кубинцев в Новом Орлеане. Власти Испании высоко оценили заслуги Пепе, наградив его орденом Карлоса III[844].
 Рис. 6. Свидетельство о смерти Хосе Юуйя (фрагмент). Новый Орлеан, 7 марта 1888 г.
Рис. 6. Свидетельство о смерти Хосе Юуйя (фрагмент). Новый Орлеан, 7 марта 1888 г.
Но дрались на ножах не только в Новом Орлеане. Раймонд Торп писал, что, когда на Юге мужчины хотели научиться искусству владения ножом, они шли в фехтовальные школы, предлагавшие свои услуги во всех крупных городах Юго-Запада, от Нового Орлеана до Сент-Луиса[845]. Так, некий Амос, бравший уроки владения ножом в одной из фехтовальных школ Сент-Луиса, как-то раз стал свидетелем получасового поединка двух французов на ножах боуи. Бой закончился, когда у одного из дуэлянтов был начисто отрублен мизинец, а у другого откушен большой палец — очевидно, в отместку за мизине[846].
«Нью-Йорк таймс» рассказала о дуэли, проходившей в техасском городке Александрия в октябре 1870 года. Как-то вечером, перед закатом, двое молодых людей решили уладить возникшее между ними недоразумение традиционным способом. Они вооружились ножами, скинули куртки и начали сражаться согласно правилам, принятым в Западном Техасе. После длительной схватки, в течение которой оба были изрезаны и изрублены до удовлетворившего их состояния, друзья растащили соперников и отнесли к хирургам для обработки ран. Ни один из противников при этом не был ранен смертельно. Нередко дуэлянты были настолько искусны во владении ножом, что могли сражаться часами, безуспешно стараясь поразить жизненно важные части тела противни[847].
Говоря об известных дуэлянтах и бойцах Юга, конечно же, нельзя не вспомнить ещё одного прославленного уроженца Луизианы, героя американского фронтира, легенду Дикого Запада и отца самого известного ножа Америки Джима Боуи. Авантюрист, политик и бизнесмен, полковник Джеймс Боуи пал в бою вместе с другими героями американского приграничья, Дэвидом Крокеттом и Вильямом Барретом Тревисом, в марте 1836 года, защищая техасский форт Аламо от войск регулярной армии под командованием мексиканского президента Антонио Лопеса де Санта Анны[848]. О жизни Джима Боуи написаны сотни, если не тысячи монографий. Он превратился в такую же культовую фигуру-бренд эпохи Дикого Запада, как и известный стрелок и шоумен Буффало Билл, или бандит Билли Кид. Без ножей боуи, ставших таким же романтическим символом фронтира, как ружья Кентукки или трапперские меховые шапки с лисьим хвостом, не обходится ни один приличный голливудский вестерн.
Джеймс Боуи родился в Кентукки, в округе Логан, весной 1796 года[849]. В 1803 году его семья перебралась в Луизиану, тогда ещё находившуюся под властью испанской короны, благодаря чему и сам Джеймс, и его брат Резин свободно изъяснялись на французском и испанском. Большую часть жизни Джеймс провёл в Луизиане, занимаясь торговлей рабами и спекулируя землёй, как и большинство людей его круга и положения. Но прославился Боуи отнюдь не благодаря своей предпринимательской деятельности и окружавшим его имя скандалам, связанным с земельными аферами. Всё изменилось в один судьбоносный день, 19 сентября 1827 года, когда Джеймс Боуи случайно оказался втянутым в дуэль, в которой участвовал один из его приятелей. Именно тогда Джеймс из никому не известного земельного спекулянта и предпринимателя средней руки, коих на Юге было великое множество, превратился в человека-легенду[850]. Молодое американское государство катастрофически нуждалось в культовых героях, и мифотворчество началось.
 Рис. 7. Нож конфедератов найденный на месте битвы приПерривиле (Кентукки, 8 окт. 1862 г).
Рис. 7. Нож конфедератов найденный на месте битвы приПерривиле (Кентукки, 8 окт. 1862 г).
Так что же послужило причиной этой повальной моды на ножи боуи, более напоминавшей массовый психоз? Для этого необходимо выяснить, что же в действительности произошло тем далёким сентябрьским днём в Луизиане, на косе у местечка Видалиа, напротив Натчеса.
На самом деле легендарная дуэль, или, точнее сказать, драка с участием Боуи была не сиюминутной вспышкой страстей, а кульминацией долгой вражды, тянувшейся на протяжении нескольких лет между двумя группировками из местечка Ред Ривер, что в приходе Рэпидс в Луизиане. Главными действующими лицами этого конфликта были доктор Томас Харрис Мэддокс, шериф Репидс, майор Норрис Райт, братья Кэри и Альфред Бланшары с одной стороны и генерал Сэмюэль Кани, Уэлш и Боуи — с другой. Формальным поводом для дуэли стало оскорбление доктором Томасом Мэддоксом сестры Сэмюэля Леви Уэлша — Мэри Сибли[851].
Доктор Мэддокс и Сэмюэль Уэлш обменялись вызовами, и местом для проведения дуэли был выбран участок берега напротив Натчеса. 19 сентября 1827 года состоялась дуэль. Дуэльная площадка находилась на большой отмели, а друзья обоих соперников стояли на её противоположной стороне. Смертельная вражда также существовала и между секундантом Мэддокса полковником Крэйном, Джеймсом Боуи и генералом Кани — за несколько месяцев до этой дуэли генерал Кани подстрелил полковника Крэйна у байу Рэпидс, повредив ему руку. Пожалуй, в этом поединке между друзьями дуэлянтов существовала большая непрязнь, чем между самими Мэддоксом и Уэлшем[852].
Вот вкратце преамбула инцидента, который вознёс Боуи на исторический Олимп. Далее с помощью свидетельств очевидцев и самих участников дуэли мы попытаемся восстановить события того рокового дня. Одно из аутентичных описаний этой драмы было опубликовано в ноябре 1827 года в новоорлеанской газете «Аргус», а затем под заголовком «Ужасная дуэль» перепечатано в известном и популярном национальном еженедельнике «Nile's Register». К судьбоносной роли этого еженедельника в создании и тиражировании мифа «Боуи» мы ещё вернёмся.
Со слов одного из очевидцев, доктор Мэддокс предложил Сэмюэлю Уэлшу встретиться за границами штата Луизиана, и 17-го числа Уэлш прибыл в Натчес. 18 сентября Мэддокс отправил Уэлшу вызов на дуэль. Согласно достигнутой договорённости, поединок был назначен на 19-е число, и в качестве места дуэли был выбран песчаный пляж на берегу Миссисипи, повыше Натчеса. Они сошлись, обменялись двумя безрезультатными выстрелами и помирились. После того, как дуэлянты и секунданты обеих сторон покинули место поединка, Уэлш пригласил Мэддокса, его приятелей — полковника Крэйна и хирурга, доктора Дэнни, прогуляться в лес, где друзья Уэлша, не принимавшие участия в вышеописанных событиях, остановились на пикник.
Крэйн отказался от приглашения, обосновав это тем, что не желал бы встречаться с неким человеком, присутствовавшим на пикнике. После этого Уэлш согласился проследовать к друзьям доктора Меддокса, также остановившимся в лесу и не принимавшим участия в дуэли. На половине пути они встретили друзей Уэлша — майора Джеймса Боуи, генерала Кани и Т. Дж. Уэлша. При встрече генерал Кани, обратившись к полковнику Крэйну, заметил, что наступил удачный момент покончить с их разногласиями. Крэйн в каждой руке нёс по пистолету. Увидев, что Боуи вытаскивает свой пистолет, он моментально встал в защитную позицию и выстрелил в него первым, потом повернулся кругом и выстрелил в Кани. Боуи остался стоять, а Кани рухнул на землю и примерно через пятнадцать минут скончался. «Крэйн, ты подстрелил меня! — воскликнул Боуи. — И если я смогу, то убью тебя». Они выстрелили одновременно, и Боуи промахнулся. После этого он достал большой мясницкий нож и попытался выполнить свою угрозу, но противник остановил его ударом рукоятки пистолета по голове. Оглушенный Боуи рухнул на колени, и, прежде чем он пришёл в себя, Крэйн был уже вне его досягаемости. Тут взгляд Боуи упал на майора Норриса Райта, вышедшего из леса в сопровождении братьев Бланшаров. «Стреляй, негодяй!» — крикнул Боуи Райту. На что Райт ответил, что не боится его, и вскинул пистолет — выстрелы прогремели одновременно. Пуля Боуи попала Райту в правую часть корпуса и прошла навылет. Райт промахнулся и задел корягу за спиной Боуи. Выстрелив, они бросились друг на друга: Райт с тростью-шпагой, а Боуи — с большим мясницким ножом. Боуи проткнул Райту руку в двух местах, потом бросил его и направился с Альфреду Бланшару, которому нанёс три удара ножом, один из которых пришёлся в левую часть груди. Затем он оставил Бланшара, вернулся к Райту и также ударил его ножом в грудь — удар попал в сердце, и Райт умер мгновенно.
В этой схватке Боуи получил два огнестрельных ранения — одно от Кэри Бланшара, когда дрался с Райтом, второе — в перестрелке с Альфредом. Блан-шаром. Одна из пуль попала ему в бедро и опрокинула на землю недалеко от Райта. Единственными последствиями драки с Райтом были одна-две неглубокие раны от трости-шпаги. Автор этой истории, представившийся очевидцем драмы, заявил, что взяться за перо его побудили лживые спекуляции вокруг дуэли, и уверял, что подтвердить каждое его слово могут несколько уважаемых граждан Натчеса[853].
Хотя существует и другая интерпретация событий, описанная Робертом Бэлдиком. По версии второго свидетеля этой драмы, все действующие лица приближались к месту, выбранному для поединка, с разных сторон. После того, как были оговорены необходимые детали, дуэлянты заняли свои места и обменялись двумя выстрелами. Боуи в это время находился на краю леса вместе с Уэлшем и Кани, вооружёнными пистолетами. Сам же Боуи был вооружён огромным ножом. Когда участники поединка начали покидать место дуэли, Боуи со своей компанией вышел им навстречу. Увидев это, друзья Мэддокса и Крэйна, находившиеся достаточно далеко, на другой стороне отмели, перешли на бег, чтобы застать уходящих дуэлянтов. Первым дуэльной площадки достиг генерал Кани, сразу следом за ним — Боуи. Кани тут же направился к полковнику Крэйну и, доставая пистолет, заметил: «Полковник Крэйн, мне кажется, что это подходящий момент для решения наших противоречий». Пистолет достал и Боуи. Крэйн был вооружён парой дуэльных пистолетов и был готов к нападению Кани.
В этот момент вмешался брат Кани и уговорил его не лезть в ссору. Боуи и Крэйн выстрелили друг в друга, но безрезультатно. Но кое-кто утверждал, что Боуи был ранен. Это вполне вероятно, так как Боуи остановился, ощупал своё бедро, а затем, достав нож, прихрамывая направился к Крейну, наблюдавшему за генералом Кани. Кани приближался, освободившись из объятий брата. В этот момент Крэйн перепрыгнул через небольшой овраг, прорезанный в песке дождевой водой, стекавшей вниз по склону, и, оперев пистолет на раненую руку, выстрелил в Кани. Ранение оказалось смертельным, и он упал. Крэйн после выстрела остался стоять с разряженным пистолетом в руке, и Боуи атаковал его, но тот увернулся от ножа, Лерехватил пистолет за ствол и, ударив Боуи по голове, свалил его на землю. Потом отступил на шаг, а его приятель, майор Райт, бросился на Боуи с длинной тонкой шпагой, которую достал из прогулочной трости. Боуи попытался парировать удар ножом, но неуспешно. Спасло его то, что шпага была изготовлена из незакалённой стали и, ударившись о грудину, согнулась и прошла вдоль ребра. В этот момент Боуи схватил Райта, упал на землю и потянул его с собой. При этом он оказался сверху, крепко удерживая своего противника. Райт был человеком худощавым и далеко не атлетического сложения, поэтому он оказался совершенно беспомощным в руках Боуи. Джеймс хладнокровно сказал ему: «А вот теперь, майор, вы умрёте», — и воткнул нож в сердце Райта, от чего тот мгновенно скончался.
Очевидец утверждал, что этот нож был изготовлен братом Джеймса, Рези-ном Боуи, из кузнечного рашпиля или большого напильника и являлся тем самым оружием, которое вскоре легло в основу легенды о «знаменитом ноже боуи». Когда Джеймс Боуи получил его от брата, тот сказал ему: «Это крепкий нож и хорошей закалки. В руках сильного мужчины он надёжнее пистолета, так как не даст осечки. Крэйн и Райт твои враги; оба они из Мериленда, земли наших предков, и они так же храбры, как и ты, но не так хладнокровны. Они оба уступают тебе в силе, а следовательно, не могут сравниться с тобой в рукопашном бою. Оба они опасны, особенно Райт. Всегда носи этот нож с собой. Он будет тебе другом и последним шансом и может спасти твою жизнь».
Между Боуи и Крэйном так и не произошло примирения, хотя Крэйн и помогал Боуи подняться с земли. Боуи поблагодарил его и произнёс: «Полковник Крэйн, я считаю, что в сложившихся обстоятельствах вам не следовало стрелять в меня». Сразу же после нападения Кани на Крэйна драка между их друзьями переросла в массовое сражение, после которого осталось пятнадцать раненых и шесть убитых, среди которых были Кани и Райт. Как следовало из свидетельства очевидца, все участники этого ужасного происшествия были людьми богатыми и занимали высокое общественное положение[854].
Какую бы версию этого эпохального события мы ни рассматривали и как бы внимательно ни изучали все подробности этой стычки, тем не менее одно остаётся загадкой. Что же необычного было в этом заурядном конфликте, которые в южных штатах, где горячие плантаторы хватались за оружие по каждому поводу, исчислялись сотнями? Как мы видим из описания этого инцидента, какого-то экстраординарного мастерства во владении ножом, достойного занесения во всемирную галерею славы боевых искусств, Джим Боуи не продемонстрировал, ну а хладнокровие и железные нервы были типичной чертой большинства мужчин фронтира той эпохи. Так где же зарыта собака?
А вот теперь мы вернёмся к уже упомянутому еженедельнику «Nil's Register». В «Niles' National Register», крайне популярной национальной еженедельной газете тех лет, в 1836–1838 годах был опубликован ряд статей, которые быстро сформировали в общественном сознании американцев образ или даже скорее архетип ножа боуи как смертоносного оружия, от которого нет спасения, и предназначенного исключительно для убийства. Именно этому популярному еженедельнику и принадлежит честь создания мифа о лихом и непобедимом поножовщике Боуи и его уникальном смертоносном ноже[855].
Таким образом, в основу этого мифа легли вовсе не искусность Джима в фехтовании на ножах и не уникальность его оружия, а журналистский талант и богатая фантазия сотрудников «Nil's Register», а также большие тиражи, популярность и репутация этого издания. Этот журнал в лучших традициях жёлтой прессы создал шумиху вокруг имени Боуи и его ножа и поддерживал общенациональный ажиотаж, периодически подкармливая публику очередными кровавыми историями и легендами из жизни Джима. Вскоре колоритную сказку об ухаре Боуи перепечатали и другие издания, и, в конце концов, как это частенько бывает, легенда зажила своей собственной параллельной жизнью, совершенно не связанной с реальной биографией Боуи.
Возможно, даже сами журналисты «Nil's Register» не подозревали, какой успех ожидает созданный ими бренд. Страну охватил настоящий Боуи-бум. В июне 1836 года газета «Рэд Ривер Геральд» города Начиточес в штате Луизиана с сарказмом писала: «Казалось, что вся сталь в стране мгновенно превратилась в ножи боуи»[856]. Оружием, которое больше всего внушало страх в 1830-х, уже были не ружья и не пистолеты, а «ужасные ножи боуи»[857]. Этим именем стали называть все большие ножи, имевшие хождение на американском рынке, независимо от их размеров, конструкции и дизайна. Некоторым образом это напоминает советскую оружейную классификацию, когда определение финского ножа, или финки, в УК СССР было не менее условным и размытым. Кстати, как и в СССР, когда ножи, классифицированные как финка, автоматически приобретали статус некоего особого сакрального оружия, априори предназначенного для использования исключительно в преступных целях, так и в США ножи, получившие статус «боуи», рассматривались американскими судами как специфическое оружие убийц со всеми вытекающими последствиями.
Прекрасной иллюстрацией, демонстрирующей отношение судов к ножам боуи и страха, который они внушали, является следующий отрывок из решения Высшего суда Техаса по делу «Кокрум против штата» от 1859 года: «Это чрезвычайно смертоносное оружие. Сложно защититься от него, несмотря на храбрость и умение. Пистолет и ружьё могут допустить промах, а когда они разряжены, то лишаются своей смертоносности, или, по крайней мере, она уменьшается. Шпагу можно парировать. Нож боуи отличается от них и конструкцией, и способом применения. Это почти всегда орудие гарантированной смерти. Тот, кто носит подобное оружие для законной самообороны, угрожает этим правам других лиц в большей степени, чем если бы он носил менее опасное оружие»[858].
Спишем эмоциональность и красочность этих метафор на литературный талант и повышенную впечатлительность техасских законодателей, но нельзя не признать, что жертвы ножей боуи и в самом деле нередко выглядели пропущенными через мясорубку[859]. Достаточно взглянуть на последствия этнических межплеменных конфликтов на Чёрном континенте, с отрубленными ударом мачете конечностями и изувеченными телами, чтобы понять, чем руководствовались суды Техаса при вынесении подобных резюме 150 лет назад. Ведь повреждения, нанесённые ножами боуи, часто достигавшими 50 сантиметров в длину и веса более чем в килограмм, напоминали последствия от удара мачете, тесака или короткого меча, подобного, скажем, античным гладиусу или ксифосу.
Так, например, Торп приводит отрывок статьи из нью-орлеанской газеты, описывающий жуткую бойню, в которой использовался нож боуи 58 сантиметров в длину и весом более двух килограммов. Конфликт начался с того, что некий человек по имени Браун отпустил колкость в адрес стоявших неподалёку дам, а присутствовавшие при этом мужчины, возмущённые дерзостью наглеца, набросились на него. Защищаясь, Браун выхватил свой огромный боуи и ударил первого нападавшего, второму разрубил плечо почти до лопатки, а третьему так распорол руку, что её пришлось ампутироват[860].
Миф об этом чудесном оружии — вундерваффе оказался на удивление живуч и неудержимо продолжал своё победоносное шествие. Так, на состоявшемся в 1849 году конституционном собрании штата Кентукки во время обсуждения антидуэльной статьи один из противников этого проекта заметил: «Позвольте поинтересоваться, джентльмены, что принесло больше горя и несчастий в Кентукки — дуэли или нож боуи? И где, позвольте также спросить, пролилось больше крови — в честном и справедливом поединке или под ножом убийцы?»[861].
Дополнительный романтический флёр окружил фигуру Боуи в связи с его участием в Техасской революции. Революция началась 2 октября 1835 года сражением при Гонсалесе, а уже 22 октября в армию повстанцев добровольцем вступил Джеймс Боуи, которому было присвоено звание полковника. Менее чем через полгода, 6 марта 1836 года, Боуи вместе со своими, не менее легендарными товарищами, Крокеттом и Тревисом, погиб во время штурма обороняемого ими форта Аламо мексиканской армией. Командующий мексиканскими войсками генерал Санта-Анна отдал специальное распоряжение об идентификации их тел, с тем, чтобы за храбрость они были похоронены с воинскими почестями. Но по закону жанра, версий о смерти Боуи существует не меньше, чем мифов о его жизни и деяниях. По свидетельству одного из мексиканских солдат, когда они ворвались в форт, Джим был ещё жив и осыпал мексиканского офицера ругательствами на прекрасном испанском. Взбешённый офицер приказал вырезать язык у ещё живого Боуи, а самого его бросить на погребальный костёр. Согласно легенде, мать Боуи, получив известие о гибели сына, хладнокровно заметила: «Могу поспорить, что он не получил ни одного ранения в спину»[862]. Хотя, учитывая характер и нрав этих джентльменов, а также их суровое воспитание, я могу предположить, что как раз эта часть биографии Боуи не является ни мифом, ни лубочной агиткой.
 Рис. 8. Мальчики с ножами. Истпорт, Мэйн. фот. Льюис Уикс Хайн, 1911 г.
Рис. 8. Мальчики с ножами. Истпорт, Мэйн. фот. Льюис Уикс Хайн, 1911 г.
О том, как росли дети в штатах Юго-Запада, можно узнать из путевых заметок Генри Роу Скулкрафта. В 1819 году, в приграничном Озарке его занесло в небольшой посёлок, в котором проживали всего два семейства. Позже Скулкрафт вспоминал «достойный сожаления» уровень нравственности местных жителей и описывал, как в детских спорах мальчики нередко наносили друг другу ранения ножами. Только за те две недели, что он провёл в посёлке, произошло два подобных инцидента. Скулкрафт с негодованием отмечал, что участников этих поножовщин не только не постигло наказание, но более того — в посёлке подобные акты насилия среди мальчиков одобрялись и поощрялись[863].
В 1820-х Арканзас просто тонул в дуэлях, на которых дела чести решали суровые местные кабальеро. Скорая на ярлыки пресса поспешила дать этим бретёрам имя, окружённое романтическим флёром рыцарских девизов, — «дес-перадо», «отчаянный». В 1850 году в формирование романтического образа этих поножовщиков свою лепту внёс и популярный журнал «The American Whig Review». Согласно журналистской риторике, десперадо представляли собой «совершенно новый человеческий типаж, характерный для американского фронтира, подобного которому было не найти среди самых необузданных форм дикой жизни, ни в одном из варварских мест Старого Света». В их трактовке десперадо не являлись заурядными убийцами, поскольку «они были слишком отчаянны, слишком смелы и полны слепой отваги». Хотя надо признать, что определённая доля истины в этом была. Десперадо никогда не нападали из засады, никогда не закалывали врага тайком в темноте, никогда не набрасывались на безоружного противника и не пытались застать его врасплох. А также никогда не прибегали к хитрости, чтобы получить преимущество в бою.
Даже в том случае, когда такой джентльмен сталкивался со своим заклятым врагом — человеком, убившим его отца, надругавшимся над сестрой или унизившим его самого, прежде чем взвести курок пистолета или достать нож боуи, он всегда задавал традиционный формальный вопрос: «Ты готов?» Если в ответ он слышал: «Нет, я безоружен», то говорил противнику: «Так иди и хорошенько вооружись, ибо один из нас должен умереть».
Также десперадо никогда не выступал в роли наёмного убийцы. Человек, предложивший ему взяться за подобную работу, скорее всего сам стал бы жертвой его ножа. Более того, десперадо настолько ненавидели все виды мошенничества, что нередко брали справедливость в собственные руки и совершали самосуд без всяких формальностей. Десперадо считали бесчестным обижать слабых и заискивать перед власть имущими. Всех окружающих людей они делили на два вида — на «бойцов» и «гражданских» и никогда не нападали на представителей второй категории, так как считали, что те по определению не могут ни оскорбить их, ни унизить. Им, с другой стороны, достаточно было лишь одного насмешливого слова или надменного взгляда «бойца» — и десперадо впадали в ярость. Как и все «народные» дуэлянты, десперадо не соблюдали отсрочек, характерных для формальных дуэлей, и дрались сразу после оскорбления, на горячую голову. Аристократы обычно выбирали пистолеты, джентльменскую шпагу или в крайнем случае — особенно если присутствовал врач с инструментами — ружьё. Но только не десперадо! Как писали газеты: «Он будет сражаться на ножах, топорах, карабинах, или пушках — нет, он даже может сжимать в руке раскалённый докрасна метеорит, командуя артиллерией бурь, и когда он заканчивает, доктору там делать нечего, это работа для могильщика».
 Рис. 9. Дуэль. Ножи привязаны к рукам платками, 1865 г.
Рис. 9. Дуэль. Ножи привязаны к рукам платками, 1865 г.
Кроме этого, в кодексе чести десперадо существовало чёткое разделение оскорблений на простительные и непростительные. Количество обид заслуживающих снисхождения являлось довольно большим и не было чётко определено. А вот плевок в лицо, удар хлыстом, обвинение во лжи, сомнение в мужественности, убийство члена семьи и соблазнение подруги десперадо являлись в этой системе ценностей каноническими, непростительными грехами, которые смывались только кровью. В других же аспектах жизни десперадо совершенно необязательно должен был быть опасным или недружелюбным членом общества. Он мог быть любящим отцом, хорошим сыном и любезным соседом. Как правило, десперадо был вежлив, часто добр и редко негостеприимен. Короче говоря, два, и только два, ключевых фактора служили основными чертами его характера: полное бесстрашие и непоколебимая решимость наказать за любое оскорбление[864].
Иллюстрацией к этой оде южному благородству может служить газетная заметка о дуэли на ножах, произошедшей в Ричмонде, штат Вирджиния, так и озаглавленная — «Благородные дуэлянты на ножах боуи»: «Доктор Дэвид Флорни, который в 1854 году участвовал в известной дуэли на ножах боуи с Эдгаром Гартом в Вирджинском университете, скончался этим вечером. Стычка, в которой оба участника были ранены, являлась результатом разногласий между доктором Томасом Карингтоном, родственником Флорни, и Гартом, фермером из Албемарла».
Согласно свидетельствам очевидцев, дуэлянты заранее оговорили все условия поединка и, хотя у них не было секундантов, строго соблюдали все правила честного боя и требования кодекса чести. Оба они были мужественными и опытными бойцами, и поединок закончился только после того, как Гарт упал, ослабев от потери крови. Отец Гарта, несмотря на тяжёлое ранение сына и его безнадёжное состояние, стал поручителем Флорни, чем спас его от тюрьмы. Через 24 часа после этой кровавой схватки умирающий Гарт послал за Флорни и у своего смертного ложа представил его своей матери и семье. Этот случай получил широкий резонанс и стал одним из самых известных на всём Юге[865].
Дуэлянты на ножах не только демонстрировали благородство и верность рыцарским идеалам, но и соблюдали все ритуалы формальных дуэлей. Так, когда 22 апреля 1860 года в Ричмонде, штат Вирджиния, двое мужчин, Джордж Блумер и Джосай Трампор, решили встретиться на дуэли с ножами в руке, они предварительно отправили друг другу формальные письменные вызовы. В поединке, состоявшемся у старой костемольной фабрики, оба дуэлянта получили по нескольку ранений. Легко раненному Блумеру пришлось предстать перед мэром, чтобы ответить за «вооружённое нападение», а прикованный к постели Трампор избежал ареста в связи с тяжёлым состоянием[866].
Всё вышесказанное прекрасно дополняет портрет ещё одного легендарного южанина. 19 октября 1810 года у богатого владельца плантации Клермон в округе Мэдисон, расположенном в штате Кентукки, родился мальчик, которому предстояло повлиять на многие события мировой истории. Этот типичный аристократ-южанин прославился как яростный сторонник освобождения чёрных рабов, хитрый и жёсткий политик и неистовый дуэлянт. Он носил прозвище Лев Уайтхолла, и в его честь был назван один из самых известных чёрных боксёров XX столетия. Этим неординарным человеком был не кто иной, как Кассиус Марселлус Клэй.
Как и боксёр, позже носивший его имя, Кассиус с детства был драчуном и лез в драку с любым, кто задел его честь или встал у него на пути. За свою долгую жизнь он прославился в разных ипостасях — как аболиционист, политик, издатель, боец на ножах, посол, дуэлянт и ценитель женщин. Некоторые мужчины созданы быть любовниками, но не бойцами, но Клэй был огненной смесью обоих. Всю свою жизнь он отчаянно увлекался женщинами, что вызывало множество сплетен и спекуляций. Добавьте к этому расчётливый ум, вспыльчивость, стальные нервы в бою — и вы получите полное представление о личности Клэя. Даже будучи стариком, он, к большому возмущению общественности, жил с молодыми девицами. Как-то раз с помощью настоящей пушки он держал на расстоянии полицию, пытавшуюся забрать одну такую девицу из его дома[867].
И в своей первой дуэли Клэй, естественно, участвовал из-за дамы — его возлюбленной по колледжу Мэри Джейн Уорфилд. Пока эта парочка планировала свадьбу, другой претендент на руку Мэри Джейн по имени Джон. П. Дэклери послал матери Джейн письмо, в котором раскритиковал Клэя как совершенно неподходящего зятя. Узнав о письме, Клэй вместе с лучшим другом отправился искать Дэклери. Обнаружив доктора, он выволок его на улицу и избил палкой так, что тот не мог встать. Приятель Клэя в это время держал разных «добрых самаритян» на расстоянии с помощью пистолета. Затем Клэй сообщил своему избитому сопернику, где тот его может найти, и ушёл, ожидая от него формального вызова на дуэль. Вызов последовал, но в день дуэли произошла сумятица. Из-за целого ряда событий и происшествий дуэли, запланированной на день свадьбы Клэя, не произошло.
Не получив сатисфакции за оскорбление, нанесённое его чести избиением, доктор Дэклери написал несколько открытых писем, в которых называл Клэя за отказ сражаться с ним трусом. Клэй старался игнорировать эти письма, но наконец не выдержал публичного унижения и отправился на встречу с доктором, чтобы договориться о повторной дуэли. Однако, увидев Клэя, доктор Дэклери побледнел и вернулся в свой отель. Клэй пытался найти своего противника в течение нескольких дней, ожидая вызова, но никто так и не появился. Как выяснилось позже, доктор вернулся в комнату и покончил с собой, вскрыв вены.
Хотя семья Клэя владела рабами, сам он полагал, что рабство изначально порочно. Хотя по его работам особо не заметно, чтобы он считал негров равными белым, но при этом Кассиус, несомненно, испытывал к ним сострадание. Клэй полагал, что они должны получать образование, и считал рабство безнравственным, поэтому после смерти отца освободил всех рабов, принадлежавших его семье, хотя они и стоили целое состояние. В период подъёма аболиционистского движения, в 1840-х, он стал его ярым приверженцем и готов быть дискутировать на эту тему в любом общественном месте. В 1840 году Клэй дрался на дуэли с неким Робертом Уиклифом из-за комментариев отца Уиклифа по поводу идей аболиционизма.
Клэй был хорошим стрелком и постоянно практиковался в дни, предшествовавшие дуэли. Один из его друзей даже засвидетельствовал, что Клэй метким выстрелом из пистолета перерубил свисавшую верёвку. Однако на дуэли никто не погиб, хотя оба дуэлянта, пока секунданты не остановили поединок, произвели по три выстрела. И после этой дуэли Клэй продолжал испытывать к противнику такую же враждебность. «Мы покинули место дуэли такими же врагами, какими и пришли туда», — сказал он. Когда позже друзья спросили его, почему он был так меток во время тренировок и промахнулся с десяти шагов на дуэли, Клэй спокойно ответил: «У этой чёртовой верёвки в руке не было пистолета»[868].
 Рис. 10. Кассиус М. Клэй [1810–1903).
Рис. 10. Кассиус М. Клэй [1810–1903).
В том же году во время выборов он был вовлечён в конфликт, спровоцированный политическим вышибалой по имени Сэмюэль Браун, которого специально привели, чтобы разобраться с выскочкой Клэем. Во время политического митинга в местечке Рассел Кейв Браун орал, чтобы Клэй убирался, называл его проклятым лжецом и даже ударил тростью. Клэй, ожидавший этой драки, вытащил свой нож боуи, но толпа, симпатизировавшая Брауну, удержала его и растащила противников в разные стороны. В этот момент Клэй заметил, как один из приятелей Брауна сунул тому пистолет. «Расступитесь и дайте мне убить этого проклятого негодяя!» — кричал Браун, пытаясь прицелиться в Клэя. Клэй вырвался из рук державших его мужчин и бросился к Брауну. При этом он поднял левую руку, чтобы схватить Брауна и хоть как-то закрыться от выстрела. Браун прицелился и, когда Клэй выл уже почти рядом, выстрелил. Пуля попала в Клэя, но он успел ударить Брауна по голове своим ножом боуи.
По словам самого Клэя «это был сокрушительный удар, который мог бы расколоть обычный череп, но череп Брауна был массивным, как у африканца». Удар ножа оставил на его черепе 8-сантиметровую вмятину, но не повредил при этом мозг. Не успел Клэй добить своего контуженного противника, как несколько человек из окружения Брауна снова схватили его за руки. Клэй отчаянно сопротивлялся, но двигать мог только предплечьями. В этот момент к нему направился пришедший в себя Браун, и Клэй попытался дотянуться до него ножом, который так и не выпустил из руки. Нож был длинным и массивным, поэтому даже несильные удары наносили впечатляющие ранения, и в течение нескольких секунд сверкающее лезвие выбило Брауну правый глаз, отрезало левое ухо и рассекло пополам нос. Браун рухнул на землю, потеряв сознание. Клэй высоко поднял окровавленный нож и вызвал любого, кто назовёт его лжецом, на бой. Но никто не вышел. По крайней мере, так звучала эта история из уст самого Клэя. Некоторые очевидцы утверждали, что после победы Клэй поднял полумёртвое тело и перекинул через невысокую стену вниз с холма.
Клэй был доставлен в ближайший дом, где осмотрели его пулевое ранение в живот. Такое ранение, учитывая уровень развития медицины тех лет, считалось смертельным и скорее всего убило бы Клэя, но, ко всеобщему удивлению, выяснилось, что пуля попала в ножны его боуи и в них застряла. У Клэя на память об этой схватке остался лишь кровоподтёк, доказывающий, что стреляли в упор. Хотя Клэй и чувствовал, что Господь спас его не просто так, тем не менее, не передоверяя всё только Богу, с этого момента он всегда стал носить с собой свой нож боуи. Как показала жизнь, судьба ещё неоднократно предоставляла Кассиусу возможность пустить его в ход[869].
В 1849 году на одном из митингов произносивший речь Клэй снова был атакован бандой головорезов. Шестеро членов семейства Тёрнер, присутствовавшие на митинге, стали громко обзывать его «проклятым лжецом». Когда Клэй спрыгнул со сцены с ножом в руке, чтобы встретиться с обидчиками лицом к лицу, один из них неожиданно вырвал у него оружие и ударил им Кассиуса в левую часть груди. Другой член семейства Тёрнеров достал пистолет и в упор выстрелил Клэю в лицо. Но, как и в случае с инцидентом в Рассел Кейв, удача снова не оставила Клэя, и пистолет четыре раза щёлкнул вхолостую. Пока все пребывали в смятении, Клэй схватил свой нож за лезвие и выкрутил его из рук нападавшего. Хотя сам он при этом серьёзно порезался, это не помешало ему убить одного из нападавших — Сайруса Тёрнера и разогнать остальных головорезов[870].
Клэй стал настолько популярен, что, хотя и не баллотировался в вицепрезиденты, тем не менее, он был одним из самых вероятных кандидатов на выборах в 1860 году. В 1861–1862 и в 1863–1869 годах это неординарный политик выполнял обязанности посла США в России. Некоторые книги по истории упоминают Клэя только как человека, ответственного за получение США Аляски в 1867 году, хотя в действительности не это было главной причиной его назначения. Президент Линкольн послал его в Россию для переговоров о заключении тайного соглашения с Александром Вторым, которое, как он надеялся, смогло бы предотвратить участие Англии и Франции в гражданской войне на стороне Конфедерации. Клэй понимал всю важность своей миссии, так как в случае провала задания Федерация получила бы сокрушительный удар, от которого она никогда не смогла бы оправиться. С помощью проамериканских сил в России Клэю удалось убедить царя в необходимости союза с Америкой. Несмотря на угрозы Англии и Франции, поддержка Россией Федерации и лояльность к ней остались неизменны. Когда англичане прямо спросили Александра, присоединится ли Россия к их планам признания Конфедерации, в ответ царь отправил русскую эскадру в гавани Нью-Йорка и Сан-Франциско как символ братства между двумя великими нациями… и как последнее предупреждение Англии — не вмешиваться во внутренние дела американцев[871].

Рис. 11. Ножи Кассиуса Клэя из коллекции У. Таунсенда. Складной нож и парадный боуи.
В течение семи месяцев русская эскадра под командованием контр-адмирала Степана Степановича Лесовского находилась в этих городах в качестве почётных гостей. В русской эскадре было пять кораблей: два фрегата — 51-пушечный «Александр Невский» и 51-пушечный «Пересвет», два корвета — 17-пушечный «Варяг» и 9-пушечный «Витязь», а также 6-пушечный клипер «Алмаз» Позднее к эскадре должен был присоединиться пришедший из Средиземного моря 51-пушечный фрегат «Ослябя»[872]. В один из моментов девятилетней службы Клэя в России, ходили слухи, что он дрался в лесу на дуэли с неким «принцем Орлофф», что, возможно, было всего лишь сплетней[873]. Точно известно одно: во время пребывания там ему подарили изготовленный на заказ нож боуи. У ножа были перламутровая рукоятка, оправленная в серебро, и острый, крепкий клинок. Клэй называл его «мой парадный боуи» и повсюду носил с собой[874].
Некоторые исследователи утверждают, что по возвращении в Америку в 1869 году Клэй приступил к работе над небольшой книжкой под названием «Техники боя на ножах боуи». Но неизвестно, закончил ли он этот труд и существовала ли книга на самом деле. Хотелось бы отметить, что в своей автобиографии Клэй нигде не упоминает о работе над «Техниками боя на ножах боуи» хотя все остальные события своей жизни он описывал достаточно подробно, не уклоняясь от обсуждения многочисленных поединков, в которых принимал участие. За все годы исследований материалов о ножах боуи была обнаружена всего лишь одна ссылка на эту таинственную книгу, в которой имеется прямое цитирование и упоминается не только название. Во «Льве Уайтхолла» — краткой стенограмме лекции, прочитанной Уильямом X. Таунсендом в 1952 году, есть следующий пассаж, приписываемый Клэю: «Первое, что вы должны сделать, это взять голову вашего противника левой рукой в замок, а затем нанести ему сильный удар ножом за левую ключицу и таким образом перебить яремную вену. Но часто вам придётся встретить сообразительного противника, который помешает этому маневру. Ни в коем случае вы не должны атаковать грудную клетку, как это делал я, пока не набрался опыта. Слишком велик риск наткнуться на ребро. Что вы должны сделать, если вам помешали выполнить прекрасный тактический маневр, описанный ранее, так это нанести ножом мощный удар на уровне пупка. По моему опыту, это вызывает сильный шок и почти всегда заканчивает бой»[875].
Было ли всё это в самом деле написано Клэем и сохранилось ли ещё что-то, к сожалению, неизвестно. Эти советы выглядят толковыми, и хотелось бы верить, что они и в самом деле принадлежат его перу, но без дополнительных свидетельств из надёжных источников это так и останется тайной. Возможно, эти черновики и сегодня лежат где-нибудь в музее, в коробке с его бумагами, где их и обнаружил Таунсенд. А может быть, Таунсенд услышал эти рекомендации от кого-то другого и сочинил небылицу. Без дополнительных доказательств мы не можем сказать наверняка. Скорее всего, если Клэй и работал над трактатом такого рода, то он не закончил его, иначе обязательно упомянул бы об этом в своей автобиографии. Если эта работа всё же существует, то по крайней мере она не каталогизирована, и её нет в списках его книг и архивных материалов, которые до сих пор удалось обнаружить. Но опять же, это могло произойти потому, что было всего лишь несколько страниц текста, или наброски в блокноте, затерявшиеся среди других записей[876].
Уже в возрасте девяноста двух лет Клэй вступил в схватку с тремя злоумышленниками, ворвавшимися ночью к нему в дом. Он встретил их в гостиной, вооружённый ножом боуи и револьвером. Одного из налётчиков он подстрелил, другого распотрошил описанным выше способом, а третьего, которому удалось сбежать, ранил. И хотя в этом поединке сам Клэй был только легко ранен, тем не менее это подорвало его здоровье. Он умер летом 1903 года в ночь, когда над городом пронёсся торнадо, уничтожавший дома на много миль вокруг, срывавший крыши с амбаров и ломавший шпили церквей. До последнего вздоха Клэя его знаменитый боуи с перламутровой ручкой был рядом и лежал под подушкой, готовый защищать своего владельца[877].
Надо отметить, что Клэй был далеко не единственным политиком, имевшим привычку хвататься за нож. Многие его южные коллеги были темпераментны, вспыльчивы, драчливы и горды, и практически у каждого во внутреннем кармане жилета лежал смертоносный боуи. Так, декабрьским вечером 1861 года некие Стюарт и Уайт встретились перед отелем «Сент-Чарльз», и Уайт потребовал от Стюарта объяснений по поводу его выпадов в адрес аболиционизма. Ответ Стюарта не удовлетворил Уайта, и они взялись за оружие: Уайт вытащил револьвер системы «Дин-Адамс», а Стюарт — сицилийский нож. В результате этой схватки Стюарт получил два пулевых ранения: одно чуть ниже левого глаза, а второе в плечо. У Уайта были жутко изрезаны голова и руки. При этом удары ножом наносились с такой силой, что лезвие сломалось о челюсть. Оба были перевезены в госпиталь. Стюарт прожил после дуэли всего несколько часов, но и Уайту врачи не оставляли много шансов[878].
Одна из самых известных и нашумевших дуэлей политиков на ножах боуи произошла в штате Арканзас, в печально известном городке Литтл-Рок, 4 декабря 1837 года, во время одной из первых законодательных сессий палаты представителей штата. Спикером был избран Джон Уилсон, богатый плантатор и президент скандально известного в городе Банка недвижимости. Предметом обсуждения являлись премии, выплачиваемые за волчьи скальпы. Десять долларов за штуку были приличной суммой, и не так давно некий аферист, которого описывали как «недавно прибывшего янки», был пойман на коммерческом разведении волков. Чтобы избежать мошенничества в будущем, конгрессмен Браун С. Робертс предложил, «чтобы каждое свидетельство о подлинности волчьего скальпа удостоверяли не менее четырёх судей и один окружной судья». Майор Джозеф Дж. Энтони, представитель графства Рэндольф, встал и выкрикнул: «А также президент Банка недвижимости!».
Это ироничное замечание, относившееся к чрезмерной сложности законопроекта, вызвало общий смех, и Уилсон воспринял это как намёк на запятнанную репутацию банка. Он приказал Энтони сесть, но тот отказался. «Садитесь!» — повторил Уилсон. «Я имею право высказаться и не откажусь от него», — ответил Энтони. «Я заставлю вас сесть», — сказал Уилсон, вынул 23-сантиметровый нож боуи и направился к Энтони. Тот тоже достал из жилета свой нож длиной 30 сантиметров. Около шестидесяти представителей и более сотни зрителей сидели, скованные ужасом при виде этого зрелища.
 Рис. 12. Дуэль Джозефа Энтони и Джона Уилсона, 4 декабря Рис. 13. Грендисон Д. Ройстон.1837 г., рис. Джон Стиринг.
Рис. 12. Дуэль Джозефа Энтони и Джона Уилсона, 4 декабря Рис. 13. Грендисон Д. Ройстон.1837 г., рис. Джон Стиринг.
Энтони был несколько выше Уилсона с его 170 см и имел преимущество в длине рук. Он ударил дважды. Второй удар попал Уилсону в предплечье и нанёс серьёзное рассечение. Уилсон перекинул нож в левую руку и сделал несколько шагов назад, как будто прекратив бой. И тут Энтони совершил роковую ошибку — он бросил нож в противника. Уилсон присел, и оружие загремело по полу. После этого Уилсон молниеносно бросился вперёд. Энтони швырнул в Уилсона стулом и схватил другой, которым собирался парировать удары. Конгрессмен Грэндисон Ройстон попытался растащить дуэлянтов, но его попытка не увенчалась успехом. Уилсон нырнул под стул, которым защищался его соперник, и ударом ножа распорол Энтони от таза до грудины. «Я убит», — произнес Энтони, подобрал руками выпавшие внутренности, и рухнул на пол. Один из очевидцев вспоминал, что, перед тем как вернуться к месту спикера, Уилсон, стоя над телом поверженного противника, спокойно заметил: «Это не первый случай, когда он меня оскорбил». Другой очевидец отметил, что Уилсон, даже ослабев от потери крови, тем не менее сохранил достаточное присутствие духа, чтобы вытереть свой окровавленный нож об одежду жертвы. Весь поединок длился не более двадцати секунд. Уилсон был арестован и исключён из палаты представителей. Новым спикером был избран Ройстон, пытавшийся остановить эту драку. В мае 1838 года Уилсон предстал перед судом, но был оправдан с формулировкой «убийство при самообороне». Услышав приговор, Уилсон встал и пригласил всех выпить. Вскоре он снова был избран в палату представителей, но уже от другого региона[879].
 Рис. 14. Нож, подаренный Резином Боуи Джессу Перкинсу в 1831 году.
Рис. 14. Нож, подаренный Резином Боуи Джессу Перкинсу в 1831 году.
Собственное мнение о «западном десперадо», несколько отличное от растиражированного газетами идеализированного образа, составила англичанка Матильда Шарлотта Хьюстон, путешествовавшая по Миссисипи в 1850-х. В своих путевых заметках мисс Хьюстон, как и приличествовало настоящей викторианской даме, для начала заклеймила Арканзас, или, как его называли на местный манер, Аркансо, как «прибежище и штаб-квартиру бездельников и преступников всех мастей». Самих же местных десперадо гостья с Альбиона описала как «бестолковых, немытых мужчин с лицами цвета глины», чьим главным талантом являлась искусность во владении ножом. Поскольку сия дама путешествовало на речном пароходике в непосредственной близости от этих «немытых мужчин», она не преминула добавить к их портрету ещё несколько штрихов. Так, пышущая негодованием леди сообщила, что десперадо избегали респектабельной части общества и постоянно сидели в носовой части судна в окружении «атмосферы порока, отбросов и вырождения», жуя сигару или кусок жевательного табака и ковыряя в зубах ножом боуи[880].
Но ковырялись ножами эти колоритные арканзасские джентльмены не только в зубах, но и в бренных телах несчастных земляков, чем-то вызвавших их праведный гнев. Газеты изобиловали жуткими подробностями подобных инцидентов. В штатах Юга, как и в Испании, каждый мужчина, независимо от возраста, достатка и социального положения, считал себя аристократом духа и в любой момент был готов заставить любого обидчика заплатить за оскорбление, частогипотетическое, кровью. Среди этих отчаянных дуэлянтов можно было встретить и богатых плантаторов, и высокопоставленных политиков, и трапперов, и пеонов с плантаций. Перефразируя хрестоматийную поговорку, можно сказать, что на Юге всех уровнял не «кольт», а нож боуи.
Однажды, всё в том же Литтл-Роке, двое местных лудильщиков — «Уилл» Бёрнс и «Том» Рэй, влюблённые в одну и ту же девушку, решили внести ясность в этот треугольник согласно кодексу чести, то есть в поединке на ножах. Один из них вооружился кинжалом, а другой — мясницким ножом. Уже через пять минут после начала схватки они воткнули ножи друг другу в животы и рванули их вверх. Оба, естественно, не выжил[881]. А в октябре 1885-го «Нью-Йорк таймс» сообщила об очередной дуэли в Литтл-Рок: «Подробности дуэли на ножах дошли до нас из графства Кларк. Похоже, двое юношей, Чарльз Райт и Джозеф Оуэнс, поссорились во время работы на хлопковом поле. Молодые люди вытащили ножи, сделали пару выпадов в сторону друг друга, и началась жуткая резня. Оба получили по нескольку ранений. Дуэль закончилась в тот момент, когда Райт воткнул свой нож в бок противника по рукоятку, и тот рухнул, смертельно раненный. Райт добровольно сдался, утверждая, что действовал в самообороне. У него тут хорошие связи, так как он является сыном Альфреда Райта, уважаемого гражданина графства Кларк»[882].
12 сентября 1888 года всё в том же Арканзасе, и, естественно, снова в Литтл-Рок, из-за дела чести сошлись учитель и подросток. Преамбула была такова. Учитель школы, расположенной неподалёку от Перривиля, некий Уильям Клинтон, за какую-то провинность отстегал маленьким прутиком одну из учениц, четырнадцатилетнюю девочку. Брат девочки счёл, что этим учитель оскорбил честь его сестры, а следовательно, и семьи, и передал учителю, что поймает его на школьном дворе и отхлещет так же, как тот отхлестал сестру. Утром 11 сентября этот юноша вошёл в класс, чтобы осуществить свою угрозу. Увидев его, Клинтон достал нож, то же самое сделал и молодой человек. Они сражались как дьяволы, кромсая друг друга ножами. В поединок вмешались старшие ученики, которым удалось растащить дуэлянтов. Но к этому моменту оба противника уже успели получить смертельные ранения[883].
Достаточно нетипичный поединок на ножах был зарегистрирован в июне 1887 года. В один летний денёк Пит Хэйнли и Джон О'Брайен, заключённые тюрьмы Сан-Квентин, поспорили по какому-то чепуховому поводу и решили драться на дуэли, выбрав в качестве оружия ножи. Каждый из них раздобыл нож, и, выбрав безлюдное местечко между новыми зданиями, они взялись за дело. О'Брайен целился в лицо Хейнли, в то время как последний старался дотянуться до тела О'Брайена. Кто-то из заключённых поднял тревогу, и когда подоспела охрана, то обнаружила дуэлянтов израненными и покрытыми кровью. Врачебный осмотр показал, что О'Брайен получил ранение живота, а кроме этого, его правая ладонь была искалечена порезом от большого пальца к запястью, как если бы он пытался вырвать нож за лезвие. Также нож пронзил его левую руку пониже локтя и был повёрнут в ране, оставив жуткое отверстие. Ранения Хэйнли были относительно лёгкими и располагались исключительно на лице. Хэйнли был тут же связан и получил двадцать пять плетей, после чего его посадили в карцер. О'Брайена перевезли в тюремную больницу, и его раны были зашиты дежурным врачом[884].
Не менее курьёзный случай приводит историк Чарльз Леланд Зонихсен, когда 19 июля 1893 года на Конгресс-стрит в Тасконе около девяти часов вечера состоялась дуэль на ножах между двумя полицейским[885].
В сентябре 1880 года «Santa Fe New Mexican» опубликовала отчёт о поединке между индейцами юта и навахо. На дуэли присутствовали приятели индейцев. Юта был убит, а навахо серьёзно ранен. В качестве оружия использовались ножи, а причиной дуэли стала девушка, на которой хотели жениться оба индейца[886].
Поединки на ножах между белыми и индейцами были достаточно редким явлением. Судя по свидетельствам некоторых исследователей, индейцы, вопреки распространённому мнению, не отличались особым мастерством во владении ножом. Видимо, это было обусловлено тем, что их основным оружием ближнего боя традиционно являлись палицы и боевые топоры. Дуглас Мид в своём исследовании истории команчей писал, что универсальный нож этих индейцев имел широкое массивное лезвие длиной от 15 до 30 см с односторонней заточкой и скорее был предназначен для свежевания бизонов, чем для поединка. Он также отметил, что в ближнем бою команчи, как и большинство индейцев, предпочитали томагавк или тяжёлую боевую палицу. Мид писал, что команчи никогда не изучали сложное искусство ножевого боя — они предпочитали держать нож обратным хватом и из этой позиции наносить неуклюжие удары. В редких случаях, когда воин команчей участвовал в поединке на ножах с техасцем, владеющим ножом боуи, то согласно точке зрения Мида, жил он недолго и мучительно[887].
Хотя, существуют и другие свидетельства, опровергающие это утверждение. Так, Эмерсон Хаф в работе «The story of outlaw» приводит историю из биографии героя Дикого Запада, стрелка и игрока Джеймса Батлера Хикока, более известного как Дикий Билл. Согласно Хафу, Биллу как-то пришлось драться на ножах с легендарным воином сиу по кличке Мато Ваюхи — Побеждающий Медведь. В результате этого честного и отчаянного поединка Билл был настолько изрезан, что находился между жизнью и смертью. Одно из самых тяжёлых ранений было нанесено в руку, распоротую ударом ножа от локтя и до плеча. А уж такого известного бретёра, как Хикок, вряд ли можно обвинить в неумении обращаться с ножом[888].
Кроме озабоченных вопросами чести южных обывателей, гордых плантаторов и описанных мисс Хьюстон десперадо существовала ещё одна социальная группа, традиционно решавшая спорные вопросы с оружием в руках. Военные. Нередко, в газетных заметках, описывающих поединки на ножах, перед именами погибших или выживших дуэлянтов, мы встречаем воинские звания. Так, например, в 1852 году во Флориде в дуэли на ножах сошлись майор Джоунс и полковник Гронард. Этот поединок закончился смертью Джоунса[889]. А о другом инциденте с участием офицеров сообщила «Нью-Йорк таймс». Согласно заметке, 28 февраля 1866 года личные разногласия привели к дуэли на ножах бывших офицеров армии Конфедерации, майора Неда Бернса и полковника Тваймена. Местом для дуэли они избрали Пойнт Чико, укромное местечко на берегу Миссисипи. В качестве оружия были выбраны ножи боуи, а сама дуэль, по словам автора заметки, была «не чем иным, как варварской резнёй». В ходе поединка майор Бернс получил ранение в руку, а полковник Тваймен — три ранения в корпус. Кроме этого, у него был полностью отрублен нос и тяжело пострадал один глаз. Секундант полковника, очевидно, вмешавшийся в ход поединка или пытавшийся разнять дуэлянтов, был легко ранен ножом майора Бернса[890].
Особо прославились привычкой решать дела чести в поединках на ножах подчинённые легендарного генерала армии Конфедерации Джозефа Орвила Шелби. Джозеф, или, как его чаще называли, Джо Шелби, покрыл себя славой на полях сражений Гражданской войны и сделал блестящую военную карьеру, пройдя путь от капитана до бригадного генерала. 9 апреля 1865 года у Аппоматтокса в Вирджинии остатки разбитой армии Конфедерации под командованием генерала Роберта Ли сдались войскам генерала Гранта. 10 мая Конфедерация прекратила своё существование. Но несмотря на это, генерал Шелби, известный своими архаичными представлениями о чести, капитулировать отказался. В июне 1865 года так и не сдавшийся генерал продолжил свою личную войну и с тысячей оставшихся верными ему людей ушёл в Мексику. Благодаря этому поступку подразделение Шелби осталось в народной памяти как «непобеждённые». Согласно свидетельствам очевидцев событий, по дороге Шелби приказал утопить боевое знамя в реке Рио-Гранде, у техасского местечка Игл Пасс, чтобы оно не попало в руки войск Федерации[891].
В 1865 году люди Шелби с его согласия и благословения ввели в Миссури моду на поединки на ножах, известные как «миссурские дуэли». Условия поединка были просты. Оба соперника раздевались до пояса, вооружались девятидюймовыми ножами боуи, и каждый из них зажимал в зубах конец красного платка — банданы. Тот, кто отпустил платок первым, считался проигравшим. Согласно газете «Канзас-Сити таймс», официально не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы кто-то из бойцов выпустил бандану. Платки эти, как правило, вытаскивали из судорожно сжатых зубов мёртвых противников. Также газета отметила, что генерал Шелби одобрял дуэли на ножах, «так как это отвечало его представлениям о чести[892].
Несмотря на то, что в армии Техасской республики дуэли были строжайше запрещены, её главнокомандующий Альберт Сидни Джонстон однажды сам показал дурной пример, когда в виде выполнения «общественного долга» принял вызов от вспыльчивого, но популярного генерала Феликса Хьюстона. Хьюстон пришёл в ярость, когда узнал, что Джонстон назначен его командиром. 5 февраля 1837 года они дрались на дуэли, в результате которой Джонстон, будущий генерал Конфедерации, получил пулю в бедро и несколько дней балансировал на краю смерти. Неорганизованная армия Техаса объединилась в надежде на его выздоровление, и, как писал техасский историк Уильям Рэнсон Хоган, «возможно, в данных обстоятельствах это был наилучший результат»[893].
 Рис. 15. Легендарный бой Билла Хикока против банды братьев МакКэндлас 16 декабря 1861 г, в котором он один расправился с восемью противниками.
Рис. 15. Легендарный бой Билла Хикока против банды братьев МакКэндлас 16 декабря 1861 г, в котором он один расправился с восемью противниками.
Немало миролюбивых людей под предлогом соблюдения кодекса чести было вовлечено в дуэли на ножах бретёрами и профессиональными убийцами. Некоторые техасцы презирали поединки. Так, президент Сэм Хьюстон как-то раз вернул вызов на дуэль, заметив: «Это номер двадцать четыре. Разгневанному господину придётся подождать, пока до него дойдёт очередь». Когда бывший президент Дэвид Д. Барнет вызвал старого Сэма, Хьюстон отклонил вызов, заметив: «Никогда не сражался в преклонном возрасте и не собираюсь начинать[894].
Некоторые южные штаты, особенно Техас, славились не только дуэлями, но и кровавыми многолетними вендеттами. Следствием одной из подобных вендетт стала дуэль, произошедшая в 1842 году. Некий Генри Стрикленд, известный как Тенахский Задира, дрался на дуэли на ножах боуи с Джимом Форсайтом по прозвищу Распарыватель. Вот как описывал этот поединок один из очевидцев из Форт Уорс по имени Эф Эггет: «Форсайт был очень твёрдым человеком. Он вышел на площадку с Генри Стриклендом, и у обоих были ножи. Их спросили, готовы ли они, и оба ответили: «Готовы». «Тогда за дело», — прозвучала команда, и никто не отступил. Форсайт угодил Стрикленду в правую руку, чуть выше костяшек, до кости срезав мясо с четырёх пальцев. Стрикленд выронил нож и полностью оказался во власти Форсайта, который рубил предплечья Стрикленда, рассекая плоть до локтей на обеих руках. Он бил его по рукам сверху вниз, называя это «мраморной отделкой». Стрикленд повернулся и побежал, но Форсайт догнал его и разрубил пополам лопатку. После этого он отпустил несчастного, заявив, что Генри в достаточно приличном состоянии, чтобы раскаяться в своих неблаговидных делах. Я думаю, это был крайне великодушный поступок со стороны Форсайта… Форсайт сказал мне, что мог бы убить его, но решил ограничиться увечьями, чтобы из негодяя, паразита, конокрада и нарушителя спокойствия сделать благочестивого человека»[895].
Когда я впервые столкнулся с описанием этой дуэли, то был совершенно уверен, что это один из сотен подобных заурядных поединков, являвшихся следствием не менее банальных ссор за карточным столом или конфликтов из-за женщин. Но, как оказалось, это лишь внешняя часть айсберга, и дуэль стала кульминацией многолетней вендетты, вошедшей в историю Техаса как Война регуляторов и модераторов, а оба фигуранта дуэли, как и их семьи, принимали в этом конфликте самое активное участие. Открылось всё совершенно случайно. Изучая свидетельства о вендеттах, бушевавших в Техасе в первой половине XIX столетия, я наткнулся на фамилию Стрикленд, относящуюся к местечку Тенаха, что сразу напомнило мне об одном из участников той злополучной дуэли. И вот что удалось выяснить.
В начале 1840-х годов в техасском графстве Шелби началась война между двумя группировками, или скорее между семейными кланами, и легенды об этой войне живы до сих пор. Война регуляторов с модераторами велась в этом округе с 1841 по 1844 год. За этот период произошло несколько стычек между враждующими семьями, в которых гибли люди и уничтожалось имущество. В конце концов по поручению президента Сэма Хьюстона войска Техасской республики под командованием генерала Джеймса Смита навели порядок. И хотя мир был постепенно восстановлен, но вражда ещё долго не затихала. Потомки людей, принимавших участие в конфликте, даже сегодня помнят, на чьей стороне сражались их предки. Хотя в основном эта война велась на территории округа Шелби, в неё также оказались втянуты и соседние округа — Панола, Сан Августин, Харрисон и Сабин[896].
Чарльз Леланд Зонихсен упоминал четырёх братьев Стрикленд из Тенахи: Джима, Амоса, Дейва и Генри, отметив, что худшим из них был Джим Стрикленд по кличке Тигр. Зонихсен также писал, что Генри Стрикленд был изрезан в каком-то поединке, после чего перебрался в округ Хант[897]. Это подтверждает моё предположение, что речь идёт именно о том самом Стрикленде, участнике дуэли с Форсайтом. Вскоре после переезда он был убит. Согласно утверждению Клода Дугласа, автора работы «Прославленные Техасские вендетты», неизвестный, называвший себя полковником Шумейкером, выбил Генри Стрикленду мозги в бакалейной лавке, где тот запугивал хозяина и «со звериным рёвом повсюду разбрасывал виски»[898].
Я предположил, что, возможно, и второй участник дуэли, Джим Распары-ватель Форсайт, был каким-то образом замешан в конфликте модераторов с регуляторами. И в самом деле, в работе Фрэнка Джонсона по истории Техаса я обнаружил, что некий Джеймс Форсайт, уроженец Кентукки 1789 года рождения, в 1819 году поселился в местечке, позже получившем название Шелби[899]. Любопытно, что в дуэли на ножах с Тенахским Задирой он участвовал в возрасте пятидесяти трёх лет, что совершенно не помешало ему с лёгкостью одержать верх над Стриклендом, который, по свидетельствам знавших его людей, был известным в Шелби головорезом, участвовавшим во множестве поножовщин. Вот как некий врач, уроженец Восточного Техаса, описывал свою встречу со Стриклендом после одного из подобных поединков: «Я получил возможность проверить на этом человеке свои хирургические навыки. Хэнс-форд Хикс вогнал Стрикленду в правую часть груди старый ржавый кинжал, и когда я добрался до него, он был в горячке и откашливал кровавые сгустки. Я достал из своего медицинского чемоданчика ревень и квасцы, завернул в бинт, затолкал всё это в раневой канал, обернул его тело компрессом из листьев вяза и привёл в порядок его кишечник, установив режим питания. Я готовил ему еду, ухаживал за ним десять дней и в результате поставил на ноги. Более благодарного человека я никогда не встречал»[900].
Кстати, родившийся в 1840 году, за два года до памятной дуэли, сын Джима Распарывателя, также названный Джеймсом в честь отца, участвовал в Гражданской войне на стороне Конфедерации. После войны он в течение восемнадцати лет занимал пост шерифа и стал самым известным гражданином округа Панола[901].
Впрочем, манера выяснять отношения на ножах не была, как это может показаться, монополией белых гринго. Гордые мексиканские потомки конкистадоров ревниво хранили традиции далёкой Испании и свято придерживались архаичных кодексов чести древних кастильских «Партид». Так, весной 1855 года мужчина по имени Фостер был убит мексиканцем. За несколько дней до этого они поругались, и хотя Форестер выстрелил в мексиканца из пистолета, тот мгновенно ринулся на стрелка и убил его ударом ножа. После поединка мексиканец исчез, но ходили слухи, что он был пойман и убит друзьями Фостера[902].
А в 1883 году в техасском Сан-Антонио двое мексиканцев, свояки Видал и Канти, поругались из-за семейных дел и подрались в субботу, когда отмечали День независимости. Чтобы не нарушать торжество, они решили вооружиться ножами и встретиться в уединённом месте для сведения счётов. План удался, и они сошлись в поединке. Видал действовал энергичней и вывел Канти из строя, ударив его стилетом повыше глаза и порезав спину. Раненого Канти в тяжёлом состоянии перевезли в семейную резиденцию, а Видал был заключён в тюрьму[903].
Вот что о мексиканской традиции поединков писал в 1828 году Джеймс Мойес: «В Сент-Луисе пульке продают на каждом углу, и это сразу видно по местным жителям. Изобилие этого и других алкогольных напитков служит частой причиной ссор в городе и множества убийств, как правило, совершаемых выходцами из низших классов, каждый из которых носит нож, спрятанный под серапе, несмотря на то, что официально это запрещено законом. Для того, чтобы один мужчина зарезал другого, достаточно малейшего повода, и лишь в течение одного дня моего пребывания в Сент-Луисе произошло два таких убийства. Убийцу обычно задерживают всего лишь на пару дней, а затем выпускают на свободу для совершения очередных гнусностей. Изредка его приговаривают к паре лет в Веракрусе»[904].
Так как в описываемый период всё ещё происходило перекраивание территории, понятие границы между Мексикой и США было довольно размытым, условным и эфемерным. Таким образом, сложно провести чёткий водораздел между дуэлями, происходившими в Мексике, и теми, что случались в приграничных с ней районах США. Поэтому я решил не выделять Мексику в отдельную главу, тем более что независимо от того, по какую сторону границы происходили эти поединки, ни этнический состав участников дуэлей, ни используемое оружие, ни манера боя не имели кардинальных отличий, которые бы заслуживали отдельного упоминания.
Так, например, по обе стороны границы в зависимости от причин драки или степени вины оскорбившей стороны различные типы ранений имели разную символику и несли разную смысловую нагрузку. Например, размашистые секущие удары обычно использовались в ситуации, когда противники столкнулись на равных и убедились, что могут проверить друг друга на мужество. В этом случае часто применялся так называемый метод «apunada» — то есть порезы, наносимые лезвием, зажатым между пальцами как продолжение кисти. Для этого нередко использовались сапожные ножи. Мексиканцы, как и испанцы, старались избегать колющих ударов и предпочитали порезы — «de rasgoncito». Если распарывающий удар был направлен в область желудка, он назывался «sacar el redaño», или «dar un vacio» — «выпустить кишки». Эффект от такого ранения производил шокирующее впечатление. Мексиканская газета «El Emparcial» описывала настенную роспись в одной из пулькерий, на которой был изображён «бандит… с поднятым ножом, шляпой, служащей ему щитом, которой он прикрывает лицо… следящий за своим противником, только что рухнувшим на пол с выпущенными кишками[905].
 Рис. 16. Владелец ранчо в Мексике, 1854 г.
Рис. 16. Владелец ранчо в Мексике, 1854 г.
Колотые ранения — «picar» наносились в ситуации, когда эмоции, разогретые яростью или алкоголем, брали верх над разумом. Очевидцы вспоминали, что когда в драке перед пулькерией некий Лино Калдерон получил фатальное колотое ранение, он кричал вслед убегавшему противнику: «Ты не должен был так бить!»[906].
«Charrasquear» обозначало «порезать лицо» — многие уличные поединки часто заканчивались ранами на лице. В Мексике, как и во многих других культурах, голова являлась символом личной чести, а шрамы на лице воспринимались как признак склонности к насилию. Так как априори предполагалось, что шрамы на лице мужчины могли быть оставлены только ножом, они служили неоспоримым свидетельством агрессивного поведения их владельца и всегда регистрировались в полицейских и тюремных документах. Но это правило относилось только к мужчинам. Подобные шрамы на лице женщины служили не символом храбрости, а лишь демонстрацией доминирования её мужчины[907].
В Мексике, как и во всех странах с развитой культурой личной чести, дуэльные правила исключали участие женщин в дуэ лях. Когда некий Карлос Моралес дрался в поединке на ножах, его жена, Магдалена Гевара, влезла между бойцами и получила случайное ранение. По возвращении домой, когда Гевара обвинила в своих ранениях мужа, разъярённый Моралес спросил её, какого чёрта она полезла не в своё дело[908].
Женщины частенько становились яблоком раздора и основным поводом для дуэлей мексиканских кабальерос. В январе 1892 года в мексиканской Кордове на дуэли на ножах за сердце девушки сошлись некий Антонио Гомес и его приятель. Дуэль проходила на площади перед собором Святой Девы Гваделупской, где в это время шла служба. Площадь была ярко освещена разноцветными лампами, и в богослужении участвовало более тысячи людей. Хотя за этим поединком наблюдало около двухсот зрителей, никто из них не вмешался, чтобы разнять дуэлянтов. В результате дуэли оба молодых человека получили тяжёлые ранения. Один из них протянул ещё пару дней и умер в жуткой агоний[909].
Вскоре после трагедии в Кордове другая «ла фемме фатал» снова стала причиной кровавой драмы, произошедшей в мае 1893 года в местечке Фреснильо. «Нью-Йорк таймс» донесла до нас подробности этого поединка. На этот раз на дуэли встретились граф Джакобо Вальдес, известный и состоятельный молодой торговец, и Плутархо Маргро, подающий надежды адвокат. Оба молодых человека в течение нескольких месяцев были претендентами на руку одной дамы из этого городка. Несмотря на то, что юношей объединяла долгая дружба, любовная драма перевесила чашу весов.
Было решено разобраться традиционным мексиканским способом. Маргро предложил дуэль до смерти, и его вызов был немедленно принят. В качестве оружия они предпочли ножи с 10-сантиметровыми клинками. Парни выбрали секундантов и, как стемнело, направились в уединённое место за городом. Была отмерена трёхметровая площадка, и дуэлянты кинулись друг на друга. Они отчаянно сражались в темноте около двадцати минут. В ходе схватки Вальдес убил Маргро ударом в сердце, но и сам при этом был изрезан и настолько ослабел от потери крови, что был привезён с поля боя без сознания. Позже выяснилось, что полученные им раны оказались смертельными. Секунданты этого поединка были арестованы[910].
Одна из самых отчаянных дуэлей произошла 7 августа 1883 года в лагере на реке Пекос, в Нью-Мехико, между мексиканским ковбоем по имени Хезус Гарсиа и молодым филадельфийцем Гасом Дэвисом. Их шеи надёжно соединили цепью длиной около 80 сантиметров, на концы которой повесили замок. Каждый из дуэлянтов получил мексиканский кинжал — обоюдоострый нож с 16-сантиметровым клинком. Затем товарищи спустили их в ущелье глубиной 75 футов, где они должны были сражаться до тех пор, пока один из них не умрёт. Оба получили ключи от замка, и никто не имел права вмешиваться в ход схватки. После чего ковбои вернулись к работе, как будто ничего и не случилось. В течение нескольких дней о судьбе дуэлянтов ничего не было известно. Наконец вернулся Дэвис, ослабевший и изнурённый, волоча на себе безжизненное тело Хезуса Гарсиа.
Дэвис рассказал товарищам следующую историю. Схватка началась, как только соперники достигли дна ущелья. Так как они были скованы вместе, каждый находился в пределах досягаемости ножа другого. За те несколько мгновений, что они спускались вниз, Дэвис решил, что, если первый же полученный им удар не окажется смертельным, это даст ему шанс выжить. Поэтому он позволил мексиканцу ударить первым, и тот вогнал ему нож в бок. Как только Дэвис увидел, что противник вытянул вперёд руку, он мгновенно перерезал мышцы на его правой руке у плеча. Мексиканец тут же выронил нож. Пока он нагибался, чтобы поднять оружие, Дэвис ударил его в спину. Но до того, как он успел нанести ещё один удар, Гарсиа поднял нож и перерезал ему связки на руках, лишив возможности держать оружие. Несколько мгновений они стояли неподвижно, пока Дэвис не увидел, что его удар поразил мексиканца точно в сердце. Вскоре тело Гарсиа рухнуло на землю в предсмертных судорогах. Цепь была так коротка, что он потянул Дэвиса с собой на землю. Через несколько минут мексиканец был уже мёртв, а Дэвис так ослабел от потери крови, что не мог подняться и лежал на земле рядом с ним. Так они лежали бок о бок пять дней и ночей, пока голод не заставил Дэвиса сделать последнюю попытку выбраться. Несмотря на ранение, ему удалось вскарабкался по стенам ущелья и добраться до лагеря, таща мёртвого Гарсиа на спине[911].
В 1857 году, в игорном доме в Хорнитос, в Калифорнии, мексиканец и чилиец поссорились за картами, обменялись оскорблениями, и вышли на улицу. Там они встали друг напротив друга, на левую руку каждый из них намотал рубашку, а в правую взял длинный и острый нож. Один из очевидцев описал эту схватку следующим образом:
«Каждый из бойцов сделал несколько обманных движений, и нанёс пару ударов, целясь в горло противника. Клинок соперника распорол лицо чилийца по диагонали через щёку и нос, от подбородка до брови. Раненый отчаянно взмахнул ножом, погрузив клинок в плечо мексиканца. Оба гладиатора, страдавшие от сильной боли, яростно бросились вперёд, кромсая друг друга. Наконец, израненные и ослабевшие от потери крови, они сошлись в смертельных объятиях, и каждый из них пытался удержать руку противника, в которой был зажат нож. Вдруг чилиец ослабил хватку и отскочил назад, а его противник, поскользнувшись на покрытом кровью дёрне, упал вперёд на остриё клинка, пробившее его грудь. Чилиец издал торжествующий богохульный выкрик, и, пошатываясь, направился в бар, где он выпил полный стакан бренди, и весь покрытый ранами и кровью снова сел за игорный стол, чтобы продолжить игру. Однако его ранения, на которые он не обратил внимания, как вскоре выяснилось, оказались смертельными, и двух гладиаторов похоронили бок о бок в Ущелье Мертвеца»[912].
У мексиканцев, как и у их далёких предков с Иберийского полуострова, ножи являлись органичной частью мужской культуры и символом самоидентификации. Мексиканские омбрес, как и испанцы, соблюдали все канонические нормы и требования дуэльного кодекса, включая использование дуэлянтами равноценного оружия. Хотя в уличных драках мексиканцы также использовали камни и палки, но всё же наиболее распространённым оружием, которое уже само по себе обеспечивало равенство противников, был нож.
 Рис. 17. Мексиканские кабальеро, 1850 г.
Рис. 17. Мексиканские кабальеро, 1850 г.
Независимо от размера или назначения, ножи в первую очередь были не оружием, а хозяйственно-бытовыми инструментами, а следовательно легитимными и легкодоступными. Ножи были настолько популярны, что использовались даже для самоубийств. Пока в Мехико-Сити не ворвалась мексиканская революция, использование в конфликтах пистолетов было крайне редким явлением. В 1903 году некий Фаустино Гарсиа напал с ножом на полицейского Карлоса Риваса. И несмотря на то, что Ривас получил несколько порезов лица, он использовал свой служебный пистолет лишь для того, чтобы колотить им Гарсиа как дубинкой, а стрелял исключительно в воздух, для вызова подмоги[913].
Ношение и использование ножей являлось в Мексике неотъемлемым элементом личной репутации. Некоторые забияки даже носили по два ножа. Франциско Герреро, прославленный насильник и убийца, известный как El Chalequero — «Швец», в момент ареста в 1881 году имел при себе нож и ножницы. Одной из своих жертв он сообщил, что никогда не выходит без оружия. Проститутка Мария Вилла показала на суде, что она всегда носила с собой складной нож, хотя и не умела им пользоваться. Некая Элпидия Н. делала из мужа посмешище, публично заявляя, что он «росо hombre» — «не мужик», так как «даже не носит нож»[914]. Ножи в мексиканской культуре являлись ключевыми объектами, символизирующими насилие. Например, осуждённая за убийство Мария Вилла, известная как La Chiquita — «Малышка», верила, что, если нож упал на пол, наверняка предстоит драка[915].
В Мексике использование ножа в драке ни для кого не являлось неожиданностью или подлостью. Не считалось это и какой-то уникальной традицией преступного мира — нож был традиционным и совершенно легитимным способом защиты личной чести и репутации внутри сообщества. В августе 1898 года именно таким «законным» способом решили защитить честь и достоинство «компадрес» из местечка Кампо Флорида. Согласно «Mexican Herald», двое старых друзей — Франциско Айспурос и Энрике Арана — вследствие интриг их приятелей серьёзно поссорились. Конфликт тянулся месяц. В конце концов они встретились и после взаимных оскорблений решили покончить с разногласиями в поединке на ножах. Условия этой дуэли были крайне просты: никто из участников не имел права покинуть «поле чести», пока один из них не будет убит.
В условленное время оба дуэлянта прибыли на место поединка. Уже вскоре после начала схватки Арана получил удар ножом в левую часть груди и упал в предсмертной агонии. Айспурос попытался скрыться, но был схвачен жандармом номер 1180 по имени Рейес Трухильо, узнавшим о случившемся от одного из очевидцев дуэли. Айспурос был взят под стражу, доставлен в полицейский участок, а Арану перевезли на носилках в больницу Хуарес. Осмотрев его, врачи пришли к выводу, что полученные ранения несовместимы с жизнью[916].
Далеко не всегда поводы для вызова на дуэль были такими романтическими, как соперничество в любви или задетая честь семьи. Нередко причиной конфликта служили самые заурядные оскорбления или ругательства, обычно классифицируемые исследователями культуры народных поединков как «дуэльные слова». Под этим термином понимался определённый набор слов и выражений, являвшийся частью дуэльного ритуала и элементом провокационного поведения, предшествовавшего вызову на поединок. Как правило, брошенные в ссоре «дуэльные слова» становились точкой невозврата. Самыми распространёнными оскорблениями были «puta», «cornudo», «alcahuete», «са-bron» — «шлюха», «рогоносец», «сводник», «козёл». У мексиканцев неиндейского происхождения встречались такие традиционные испанские оскорбления, как «регго» — «пёс» и «borracho» — «пьяница». Популярной была также фраза, и сегодня считающаяся культовой у гопников всего постсоветского пространства: «Рог que venis a mi barrio?» — «Ты чего припёрся в мой район?».
Использовались оскорбления с гомосексуальным подтекстом, например, «joto» — «женоподобный». В ходу были «pendejo» — «придурок», «hijo de puta» — «сын шлюхи», «carajo» — «член». Типично испанское оскорбление «hijo de puta» широко использовалось крестьянами Центральной Мексики. А вот популярное в сегодняшней Мексике ругательство «hijo de la chingada» — «сукин сын» не встречается в источниках колониального периода. Тридцать пять из восьмидесяти существовавших оскорблений несли сильную мачистскую окраску: «Если ты мужик, выходи и сражайся», «Остановись, если ты мужик», «Ты не мужик», «Здесь собрались одни овцы, и я собираюсь их всех отлупить», «Вы — стадо придурков», «Здесь только я мужик» или наиболее частое: «Теперь мы увидим, кто здесь настоящий мужик». Один индеец как-то заявил: «Soy mucho hombre» («Я настоящий мужик»). В Центральной Мексике использовали традиционные испанские оскорбления «регго», «hijo de puta», «borracho», «pu-егсо» — «боров», «mierda» — «дерьмо», а также выпады в отношении цвета кожи: «negro», «mulato». В ходу были такие оскорбления, как «сплетник», «вор», «насильник», и богохульства, например, «Ave Maria Diablos»[917].
А иногда причиной дуэли становились уж совершенно ничтожные и абсурдные поводы, как, например в инциденте, свидетелем которому в 1849 году стал офицер флота США Генри Вайс. Некий леперо — мексиканский собрат римских лаццароне — случайно уронил на землю только что купленную плитку шоколада. Другой леперо, оказавшийся рядом, видимо, счёл шоколад своей законной добычей, поднял его и откусил большой кусок. Законный владелец лакомства тут же взмахнул тяжёлыми стальными шпорами, которые держал в руке, целясь в голову наглеца. В следующее мгновение оба выхватили ножи и намотали на левые руки накидки-серапе. Вайс заметил, что клинки их ножей были неодинаковы — у одного около 20 сантиметров в длину, у другого короче 10. Оба леперо производили впечатление искусных бойцов. Минуту или две они следили друг за другом, как готовые к броску дикие кошки, осторожно двигаясь то в одну, то в другую сторону, отвлекая внимание ложными выпадами защищённой руки или топнув ногой. Неожиданно оба сделали несколько молниеносных выпадов. На шее владельца шоколада появилась длинная рана, а его противник, получив удар коротким ножом, рухнул на землю. Когда всё закончилось, Вайс подошёл к убитому взглянуть на причину его смерти и обнаружил две раны от ножа в области сердца. Никто из присутствующих даже не попытался задержать убийцу, и вскоре он спокойно покинул место драмь[918].
Арсенал мексиканских бретёров отличался большим разнообразием. Так, например, нередко в руках дуэлянтов можно было увидеть популярные в Мексике ножи, известные как «хвост скорпиона», которые иногда ещё называют «мексиканские боуи». Это оружие имело слегка изогнутый клинок типа «lengua de vaca» — коровий язык, со «щучкой» на обухе, иногда начинавшейся от середины клинка, развитое перекрестье и конические так называемые «напильниковые» рукоятки. Лезвия часто украшались патриотическими девизами в стиле «Да здравствует Мексика» или стилизованными изображениями мексиканского гербового орла. Кроме «хвостов скорпиона» у мексиканских задир пользовались успехом большие складные садовые ножи с серпообразным клинком и традиционным для навах храповым фиксатором, называемые в Мексике «сака трипас», что можно перевести как «кишкодёр» или «потрошитель».
 Рис. 20. На этой карикатуре кандидат в президенты от демократической партии Джеймс Полк держит в руке классический бельдюк. Нью Йорк, 1884 г.
Рис. 20. На этой карикатуре кандидат в президенты от демократической партии Джеймс Полк держит в руке классический бельдюк. Нью Йорк, 1884 г.
Не менее популярны были классические испанские навахи и кинжалы производства Толедо, Альбасете и местных фабрик, или большие собратья аргентинских факонов, ножи бельдюк. По обе стороны границы также были в ходу наводящие ужас «арканзасские зубочистки», представлявшие собой большие обоюдоострые кинжалы с массивным перекрестьем, и, разумеется, самое массовое холодное оружие обеих Америк, легендарный нож боуи. Как я уже упоминал, боуи не являлся каким-либо определённым типом оружия, отличающегося характерными, специфическими и только ему присущими конструктивными особенностями или уникальным дизайном. Это был общий термин, использовавшийся с момента дуэли Джима Боуи для классификации практически всех больших ножей, имевших хождение на рынке США.
Хотя в европейском оружиеведении принято считать, что каноническим для боуи дизайном являются «скимитарный» клинок с выемкой на обухе, большое перекрестье и рукоятка, стилизованная в форме «гробика», но у брендинга и мифотворчества свои суровые законы. В музее Нового Орлеана хранится аутентичный нож боуи, который в феврале 1829 года Джеймс Боуи подарил своему близкому другу, известному актёру Эдвину Форесту. Это простой и лаконичный, типично европейский нож длиной 43 сантиметра, с деревянной рукояткой на заклёпках, ровным обухом без выемки, в оправленных в серебро ножнах. Больше всего он напоминает самый заурядный большой «кухонник» и не имеет абсолютно ничего общего с канонической «американской легендой»[919]. Многие исследователи ножей боуи и биографы Джеймса сходятся во мнении, что именно такой нож полковник Боуи использовал в конфликте у Миссисипи, который лёг в основу этого мифа. Об этом пишет и известный коллекционер ножей боуи Эдмондсон: «Оригинальный нож боуи выглядел как мясницкий нож, без каких-либо серебряных украшений. И участники драки, и свидетели в письмах и интервью описывали «большой мясницкий нож», что и положило начало легенде»[920].
В 1828 году, через пару месяцев после судьбоносной дуэли на песчаной отмели, Джеймс Боуи совершил поездку на восток. В Филадельфии он поручил свой нож заботам оружейного мастера Генри Шифли, основателя известного в городе семейного предприятия, производившего хирургические инструменты[921]. Брат Джима Резин также заказал себе нож, повторявший форму прототипа и оправленный в серебро. Резин носил этот нож несколько лет, и его инициалы Р. П. Б. были выгравированы на поммеле. В 1831 году он отдал этот нож своему приятелю Джесси Перкинсу из Джексона, штат Миссисипи[922]. Резин Боуи купался в лучах славы, окружавших его брата Джеймса и его нож. Он постоянно носил с собой несколько оправленных в серебро ножей, которые время от времени преподносил в качестве подарка влиятельным друзьям. Среди этих ножей было несколько экземпляров, изготовленных в 1830-х оружейником Даниэлем Сёлсом из Батон-Руж, штат Луизиана. Так, например, нож работы Сёлса Резин преподнёс некоему Генри Уокеру Фаулеру, драгунскому офицеру армии США, чьё имя было выгравировано на ножнах. Копию этого ножа сегодня можно увидеть в экспозиции мемориального музея Аламо[923].


Рис. 21. Нож боуи, 1830-е.

 Рис. 22. Оправленный в серебро нож работы Дэниэла Сёлса, подаренный Резином Боуи драгунскому офицеру Г. У Фаулеру.
Рис. 22. Оправленный в серебро нож работы Дэниэла Сёлса, подаренный Резином Боуи драгунскому офицеру Г. У Фаулеру.
Как уже говорилось, ранние ножи боуи совершенно не походили на канонический образ этого оружия со «скимитарным» клинком — так называемым «клип-пойнт» — и большим перекрестьем для защиты руки. Первые образцы имели массивный клинок, формой повторяющий классический мясницкий нож — с прямым обухом и без крестовины. Длина клинка с односторонней заточкой колебалась от 8 до 12 дюймов, а деревянные накладки на рукояти были закреплены серебряными штифтами и шайбами. Ножи Сёлса, произведённые им в 1830-х, имели накладки из массивного эбонита и были украшены маленькими серебряными гвоздиками[924]. В таком стиле украшалось большинство кустарных ножей боуи, и, кроме этого, кузнецы начали добавлять своим изделиям крестовины, предохранявшие руку от соскальзывания на лезвие. Со временем эти крестовины стали увеличивать, но хозяева ножей часто находили их топорными и обрезали. Особо популярной стала форма клинка со «щучкой» на обухе, известная в американской оружейной традиции как «клип-пойнт». Скошенный обух часто затачивали, чтобы им также можно было нанести серьёзные ранения. Вторым самым распространённым типом клинка боуи был «спеар-пойнт» — кинжалообразный нож с двусторонней заточкой. Боуи кустарной работы, как правило, были простыми, грубыми, с железными или латунными украшениями и рукояткой из твёрдого дерева, рога или кости.
Этот нож для жителей приграничья был и охотничьим оружием, и инструментом. С его помощью можно было Срубить деревце, выкопать яму и разделать крупную дичь. При осаде Бексара в 1835 году техасцы использовали свои ножи боуи и в качестве шанцевого инструмента для подкопов под стены, и как смертоносное оружие ближнего боя в рукопашных схватках с мексиканцами[925]. Хотя этот большой нож не был предназначен и сбалансирован для метания, но на журнальной иллюстрации от 31 августа 1861 года мы можем увидеть солдат Конфедерации, тренирующихся в метании ножей боуи[926].
С приходом моды на боуи южане заменили этими ножами свои традиционные шпаги-трости и занялись поисками искусных оружейников, способных изготавливать качественные клинки. Большинство оружейников в крупных городах, как, например, тот же Шифли, специализировались на изготовлении хирургического и стоматологического инструмента. Многие из них клеймили свои работы. Питер Роус и Джон Д. Шевалье были известны в Нью-Йорке, Инглиш и Хубер, Кларенбах и Хердер — в Филадельфии, Рейнхарт — в Балтиморе, Томас Лэмб — в Вашингтоне, Дюфильо — в Новом Орлеане, Альфред Хантер — в Ньюарке, Маркс и Рииз — в Цинциннати, Даниел Сёлс — в Батон-Руж и Рииз Фитцпатрик — в Натчесе[927].
Английские оружейники из Шеффилда и Бирмингема, доминировавшие на американском ножевом рынке с колониальных времён, чутко реагировали на любые рыночные изменения и мгновенно воспользовались повальной модой на ножи боуи. В своих маркетинговых кампаниях англичане обыгрывали красочные газетные репортажи об убийствах и увечьях с использованием этого оружия. Хотя ручеёк ножей боуи начала 1830-х перед Гражданской войной превратился в поток, коллекционеры отмечают, что только один из десяти этих ножей был произведён в Америке. Английские оружейники находчиво использовали сюжеты гравировок на клинках, отвечавшие вкусу американцев и их патриотическому духу. Популярны были такие мотто, как «Американский нож боуи», «Нож техасского рейнджера», «Арканзасская зубочистка», «Защитник патриота», «Смерть аболиции», «Смерть предателям», «Американцы никогда не сдаются», «Бивачный нож Рио-Гранде», «Я настоящий потрошитель». Рукоятка и крестовина также несли на себе символику и слоганы с патриотическими мотивами.
 Рис. 23. Солдаты Конфедерации тренируются в метании ножей боуи. Harper’s Weekly от 31 августа 1861 г.
Рис. 23. Солдаты Конфедерации тренируются в метании ножей боуи. Harper’s Weekly от 31 августа 1861 г.
Оружейники использовали в материале рукояток слоновую кость, перламутр,черепаховую кость, рог серого буйвола и индийского оленя, а также ценные породы дерева. Помели изготавливали из нейзильбера и придавали им форму конской головы, раковины или геометрических фигур. Большинство клинков несли клейма производителя. К началу войны с Мексикой в 1846 году нож боуи уже был самым популярным оружием в Техасе. Техасские рейнджеры под командованием Джека Хайеса и Бена Маккалока шли в бой с ножами боуи и драгунскими револьверами Кольта. Появились ножи со штампованной, травленной и гравированной символикой на тему Мексиканской войны. Любимым сюжетом стало изображение генерала Захарии Тейлора. Гравировки с его портретом подписывали: «Старый Зак», «Генерал Тейлор никогда не сдаётся», «Пало Альто» и «Буэна Виста». Поммель изготавливался в виде бюста Тейлора с патриотическим слоганом[928].

Рис. 24. Рядовой Томас Ф. Бэйтс из 6 Техасского пехотного полка с ножом боуи. Между 1861 и 1865 гг.
Рис. 25. Рядовой Дэйвид Колберт из 46 Вирджинского пехотного полка с ножом боуи. Между 1861 и 1865 гг.
Уже в 1830-х встревоженная общественность нескольких южных штатов потребовала законодательно ограничить неконтролируемое использование ножей — «закон ножа боуи»[929]. В январе 1838 года законодательное собрание Теннеси приняло «Закон о пресечении продажи и использования ножа боуи и «арканзасской зубочистки» в этом штате». Но несмотря на это, продажи ножей продолжали расти, достигнув пика после Гражданской войны. Во время войны топорные ремесленные версии боуи были популярны у солдат Конфедерации. Ножи конфедератов имели длинные и широкие клинки, напоминавшие артиллерийские тесаки, и на них редко ставились клейма. В первые месяцы войны конфедераты рассматривали боуи как необходимую часть снаряжения, но позже его заменили штыком. На эти солдатские ножи монтировались рукоятки из ореха или лиственницы, ставился кованый железный декор, и их носили в тяжёлых кожаных ножнах с устьем и оковкой из олова, железа или латуни. На клинках были процарапаны или вытравлены кислотой слоганы: «Солнечный Юг», «Защитник штата Конфедератов», «Смерть янки». В основном эти боуи конфедератов были грубыми и топорными, хотя некоторые кустарные изделия были изготовлены опытными оружейниками и демонстрируют высокий уровень мастерства[930].
 Рис. 26. Солдат армии Конфедерации И. Ф. Пауэлл, с ножом боуи. Между 1861 и 1865 гг.
Рис. 27. Лейтенант Хайрам Л. Хендли из девятого кавалерийского батальона Теннесси. Между 1861 и 1865 гг.
Рис. 26. Солдат армии Конфедерации И. Ф. Пауэлл, с ножом боуи. Между 1861 и 1865 гг.
Рис. 27. Лейтенант Хайрам Л. Хендли из девятого кавалерийского батальона Теннесси. Между 1861 и 1865 гг.
Одним из самых популярных элементов украшения ножей боуи, несомненно, являлось изображение мифического персонажа американского Запада — полуконя, полукрокодила. Столкнувшись с этим символом впервые, я решил, что изображения крокодила на боуи связано с тем, что иногда большие ножи использовались в охоте на этих рептилий. Так, например, Бенедикт Ревойл писал в 1865 году, что подобное оружие применялся для охоты на аллигаторов у техасского озера Сабине. Некий охотник по имени Аллен, живший на реке Анголина, приезжал туда для ловли этих хищников каждый год с ноября по апрель. Охотника всегда сопровождал компаньон из племени болаксис по имени Джим. Джим был более удачливым охотником, чем его хозяин, так как для того, чтобы поймать лучшего аллигатора, ему было достаточно лассо и ножа боуи. Увидев аллигатора, он осторожно подползал, накидывал на него лассо, после чего добивал большим ножом[931].
Но, как оказалось, происхождение этого образа связано не с конями и не с крокодилами, а с Миссисипи и жившими на ней людьми. Ещё в 1808 году Кристиан Шульц, Томас Боллинг Робертсон и другие путешественники использовали это выражение как метафору для описания характера жителей низовьев Миссисипи. В вышедших около 1820 года «Кентуккийских охотниках» песенник Сэмюэль Вудворт описал западного ополченца Андрю Джексона, участвовавшего в битве при Новом Орлеане, фразой: «Каждый из них был полуконём, полуаллигатором». Вскоре газетные юмористы перенесли образ Коня-Аллигатора в фольклорные байки о Дэвиде Крокете и в другие эпические сказания о Диком Западе, известные как «Кентуккийские истории». Эти персонажи были пьяницами, стрелками, грубиянами, свирепыми бойцами и плевали на законы, но при всём этом каким-то загадочным способом оставались неотразимыми и романтичными[932].
Правда, плевать на законы им удавалось лишь до определённого момента, так как длинная рука Фемиды дотянулась и до этих диких мест с их вендеттами, дуэлями и круговой порукой. Хотя у калифорнийских пастухов — вакерос с картин Джеймса Уокера за голенищем сапога всё ещё торчат рукоятки верных ножей бельдюк, но уже 1 января 1804 года в Калифорнии был принят закон, запрещавший ношение этих ножей в подручных местах — то есть в сапоге и за поясом[933]. Пример Калифорнии, очевидно, вдохновил законодателей других штатов, и запретительные законы посыпались как из рога изобилия.

Рис. 28. Нож боуи конфедератов. Из коллекции Джона Д. Хаммера (© Harold L. Peterson).
 Рис. 29. Охота на крокодила с ножом.
Рис. 29. Охота на крокодила с ножом.
Следующим на очереди оказался штат Кентукки, который 3 февраля 1813 года утвердил «Постановление о предотвращении ношения скрытого оружия гражданами этого штата, за исключением некоторых случаев», гласившее, что любое лицо в этом штате, которое в дальнейшем будет носить карманный пистолет, кинжал, большой нож или шпагу-трость в качестве скрытого оружия, при этом не путешествуя и не находясь в поездке, будет оштрафовано на любую сумму, но не более 100 долларов. Сумма эта могла быть взыскана любым судом, обладавшим юрисдикцией на взыскание такой суммы, иском о взыскании долга или по заключениию коллегии присяжных — и прокурор в таком заявлении не требовался. Одна половина этого штрафа поступала осведомителю, а вторая шла на нужды штата[934].
Следующей обуздать своих воинственных сограждан решила Индиана. 14 января 1820 года этот штат издал «Постановление о запрете ношения скрытого оружия», из которого следовало, что любое лицо, носящее кинжал, пистолет, трость-шпагу или другое незаконное скрытое оружие, считалось виновным в совершении правонарушения и, будучи признано таковым, наказывалось штрафом на любую сумму, но не превышающую 100 долларов. Штраф поступал на нужды школ графства. Очевидно, законники Индианы сочли, что этого недостаточно, так как в 1831 году добавили к вышесказанному, что каждое лицо, не являющееся путешественником, которое будет носить или перевозить любой кинжал, пистолет, трость-шпагу или любое другое опасное оружие скрытого ношения, освобождается после признания вины и штрафуется на сумму, не превышающую 100 долларов[935].
В 1837 году драконовским законом против ножей боуи разродилась Алабама, постановившая, что если любое лицо, носящее нож или оружие, известное как нож боуи, «арканзасская зубочистка», или любой другой нож или оружие, своим внешним видом, формой или размером подобные ножу боуи или «арканзасской зубочистке», во внезапной стычке порежет или ударит кого-либо таким ножом, в результате чего кто-либо умрёт, то это будет признано убийством, и преступник понесёт такое же наказание, как за умышленное убийство.
 Рис. 30. Текст песни «Кентукийские охотники, или Полуконь, Полуаллигатор». Написана в 1821 г.
Рис. 30. Текст песни «Кентукийские охотники, или Полуконь, Полуаллигатор». Написана в 1821 г.
В том же 1837 году решила навести порядок и соседняя Джорджия, выпустившая «Постановление о защите и охране граждан этого штата от недопустимого и слишком распространённого применения смертоносного оружия». Постановление гласило, что за ношение ножей боуи, кинжалов и «арканзасских зубочисток» нарушитель закона может быть наказан штрафом в размере не менее 200 долларов, но не более 500, или же назначается наказание в виде тюремного заключения на срок не менее 3 месяцев, но не более 6. Того, кто выхватил или пытался выхватить нож боуи, «арканзасскую зубочистку» с целью ударить или порезать другое лицо, признавали виновным в тяжком преступлении и приговаривали к заключению в тюрьме или исправительном заведении штата на срок не менее 3 лет, но не более 5. Лицо, носившее нож боуи, «арканзасскую зубочистку» или любой другой нож или оружие подобного вида, формы и размера, которое в драке порезало или ударило ножом другое лицо, признавали виновным в совершении тяжкого преступления и приговаривали к заключению в тюрьме или исправительном заведении штата на срок не менее 3 и не более 15 лет.
Через год, в 1838 году, даже дикий Арканзас попытался приструнить своих десперадо, сообщив, что любое лицо, не находящееся в поездке и носящее такое скрытое оружие, как пистолет, кинжал, мясницкий или любой другой большой нож, признаётся виновным в совершении правонарушения и подвергается штрафу на любую сумму, но не менее 25 и не более 100 долларов. Одна половина этой суммы поступала в казну графства, вторую получал осведомитель. Также виновный мог быть приговорён к лишению свободы на срок не менее 1, но не более 6 месяцев. В этом же году к «Аркансо» присоединилась и Вирджиния со своим «Постановлением о предотвращении ношения скрытого оружия» от 2 февраля 1838 года, гласившим, что любое лицо, хранящее или носящее с собой любой пистолет, нож боуи, кинжал или другой вид скрытого оружия, использование которого может привести к смерти другого лица, будет осуждено и приговорено к штрафу на сумму не менее 50, но не более 500 долларов, или к заключению в общей тюрьме на срок не менее 1, но не более 6 месяцев.

Рис. 31. Нож в сапоге (фрагмент). Жан Батист Дебре (1768–1848).
 Рис. 32. Нож в сапоге (фрагмент). Жан Батист Дебре, 1834–1839 гг.
Рис. 32. Нож в сапоге (фрагмент). Жан Батист Дебре, 1834–1839 гг.
Но вскоре алабамские законодатели выяснили, что меры, предпринятые ими против боуи в 1837 году, недостаточны, и в 1839 году внесли поправку в этот закон. Из расширенной редакции «Постановления о пресечении порочной практики скрытого ношения оружия» следовало, что если какое-либо лицо будет скрытно носить любые виды огнестрельного оружия, ножи боуи, «арканзасские зубочистки», любые другие ножи, кинжалы и другое смертоносное оружие, то оно будет признано виновным в правонарушении, и любой суд, имеющий достаточную юрисдикцию, наложит на него штраф в размере не менее 50 и не более 500 долларов, что будет решаться присяжными при рассмотрении дела. А также виновного приговаривали к тюремному заключению на срок, не превышающий 3 месяца, что оставляли на усмотрение суда[936].
И тем не менее, несмотря на кары небесные в виде высоких штрафов и тюремных сроков, эффективность этих законов оставалась удручающе низкой. И, как и во многих других странах, объяснялось это крайне банальной и старой как мир причиной — нежеланием или неспособностью исполнительной власти обеспечить соблюдение законов. Ричард Хоптон писал, что к середине столетия многие, если не большинство американских штатов, провели через законодательные органы юридические постановления, приравнивающие дуэльную практику к криминальным деяниям. Сложность же заключалась в отсутствии достаточных для достижения результата усилий в проведении теории в жизнь. Проблема эта отравляла существование королям и правительствам по всей Европе начиная с XVI века. «В данном случае» — писал Хоптон — «мы имеем дело с прецедентом, когда о неё же споткнулась республиканская Америка, тоже бессильная до поры до времени в своих попытках искоренить дуэли»[937].
Некоторые авторы отмечали, что судьи в большинстве своём демонстрировали нежелание поддерживать законы, которые, как они считали, могли серьёзным образом нарушить личную свободу джентльмена. Вероятно, первым прецедентом, когда участник дуэли на ножах предстал перед судом и был приговорён к реальному тюремному сроку, можно считать нашумевший поединок Хуана Пагеса и Педро Тастра, проходивший в Новом Орлеане в 1852 году. Историк дуэлей Лоренцо Сабин писал об этой схватке: «Это был поединок, или скорее гладиаторский бой, в самой варварской форме. На дуэли присутствовало несколько человек, которые не предприняли ни малейшей попытки остановить этот кошмар»[938].
Согласно судебным материалам, участники драки, являвшиеся поставщиками одного из рыбных рынков Сан-Франциско, поссорились при решении каких-то торговых вопросов. Ближе к вечеру, обменявшись формальными вызовами, они отправились на берег озера Пончартрейн, чтобы покончить со всеми разногласиями в дуэли на ножах. Ещё перед началом боя Тастра заявил, что нож его противника лучше, и Пагес немедленно согласился поменяться с ним оружием. В результате обмена Пагесу достался складной нож с длинным клинком, а Тастре — тяжёлый боуи с фальшлезвием, В ходе боя оба дуэлянта получили множество ранений. После удара, пробившего ему лёгкое, Тастра схватился за пистолет, но был уже слишком обессилен, чтобы выстрелить, и вскоре, весь покрытый ранами и с перебитой сонной артерией, он упал и больше уже не поднялся. Пагес был арестован и обвинён в непредумышленном убийстве, но присяжные рекомендовали применить к нему губернаторское помилование[939].
«New Orleans Delta», комментируя дуэль, заметила, что это был первый случай за всю историю штата, когда в подобном деле было предъявлено обвинение. В течение долгого времени общественное мнение оправдывало дуэли как способ решения личных проблем. Несколько раз предпринимались попытки призвать к ответственности участников дуэлей — и самих главных виновников, и их секундантов, но они ни к чему не приводили. Дуэль, в которой участвовал Пагес, была охарактеризована как беспрецедентный случай благородства и порядочности. Бой проходил на ножах, оба участника были одинаково развиты физически, а когда одного из дуэлянтов не устроил нож другого, тот не колеблясь согласился обменяться ножами и убил своего противника его же оружием. Но несмотря на все эти факты и доводы защиты, Пагес был признан виновным.
«Это обвинение, отражающее высокое доверие генеральному прокурору Морсу и районному прокурору Таппану, открывает новую эру в настроениях и обычаях нашего народа. Отныне в дополнение к поражению в гражданских правах лица, которые собираются решать личные проблемы на дуэли, будут подвергаться судебному преследованию и приговариваться к тюремным срокам», — триумфально заметила «New Orleans Delta»[940].
2 февраля 1855 года и в «Нью-Йорк таймс» вышла статья, посвящённая этой дуэли и выражающая удовлетворение созданием подобного прецедента: «Это первый случай в истории Луизианы, когда имело место обвинение за участие в дуэли. Мы приветствуем этот вердикт как важный юридический прецедент, а также как свидетельство здорового государства и здорового общественного мнения»[941].
Странно только, что газета в качестве пострадавшего вместо Педро Тастры упоминает некоего Хуана Пастера. Конечно, можно предположить, что это была новая жертва благополучно амнистированного губернатором Пагеса, но, учитывая, что больше нигде, кроме этой заметки, каких-либо упоминаний о Пастере мне найти не удалось, скорее всего в материал «Нью-Йорк таймс» вкралась опечатка.
Но не всегда в этих поединках лилась кровь и оставались лежать бездыханные тела. Так, мне посчастливилось найти репортаж со спортивного чемпионата по бою на ножах, состоявшегося в Нью-Йорке зимой 1885 года, доказывающий, что всё новое — это хорошо забытое старое. Полагаю, что описание деталей чемпионата почти полуторавековой давности могло бы быть интересно поклонникам этого вида спорта, поэтому приведу эту любопытную заметку полностью.
Итак, в феврале 1885-го до сведения спортивного сообщества Нью-Йорка была доведена новость о том, что в Кларендон-Холл, на Восточной Тринадцатой улице, было решено провести соревнования по ножевым спаррингам. Были заявлены два участника: чемпион Европы капитан Карл Энгельбрехт из Дании и чемпион Сицилии Марк Сан-Антониус. Оба мужчины были широко известны как эксперты в этом виде фехтования. Энгельбрехт выиграл 14 поединков с чемпионами Европы, а его оппонент считался почти непобедимым, выиграв все поединки в многочисленных соревнованиях на Сицилии и на Сардинии, где спарринги на ножах были крайне популярны.
В зале, где организаторы установили помост, собралось около 300–400 зрителей. Энгельбрехт был сухощав, поджар и производил впечатление тренированного спортсмена. Его противник был тяжелее и явно сильнее. Лицо Сан-Антониуса украшала пышная тёмная борода, а блестящие глаза выдавали в нём типичного итальянца. Энгельбрехт был блондином и старшим из двоих. Оба были одеты в стандартные фехтовальные костюмы с той лишь разницей, что у сицилийца была синяя куртка, а у датчанина белая. Их нагрудники были массивней, чем обычно используемые фехтовальщиками, и кроме этого, для отражения ударов бойцы держали в руках небольшие кулачные щиты типа баклера размером с тарелку. На левой стороне груди у каждого был прикреплён маленький эластичный мешочек, наполненный краской индиго. По договорённости бой длился пять раундов. Схватка проходила по сицилийским правилам, которые выглядели следующим образом:
— нож использовался только для уколов, а не для порезов;
— целью являлся мешочек, расположенный на груди участников у сердца, и каждый его прокол давал одно очко;
— раунд шёл 5 минут или заканчивался с заработанным очком;
— победителем становился боец, набравший больше очков;
— укол не засчитывался, если кто-то из участников дотронулся до земли коленом, рукой или же уронил нож;
— очко, полученное во время клинча и борьбы, считалось фолом и приносило победу противнику.
Ножи участников напоминали мясницкие, только с кинжальными рукоятками. Острия ножей были закрыты замшей, туго сшитой в шар, размером со стеклянный шарик для детской игры в марбл. Рефери «Нед» Маллахен подал сигнал к началу соревнований около 9 часов. Противники обменивались диагональными, восходящими и нисходящими ударами, но никому не удалось задеть мешочек с синим наполнителем. Оба работали с огоньком. Шум лезвий, ударявшихся о латунные щиты, был слышен по всему залу, и зрители, затаив дыхание, ожидали появления струи «крови» из маленьких мешочков у сердца спортсменов, но их ожидания не сбывались. Дуэлянты совершали опасные выпады в область сердца, но их искусное владение щитами защищал о желанную цель от сверкающих лезвий.
Пару раз датчанин коснулся нагрудника чернобородого сицилийца в нескольких сантиметрах от мешочка. Поскольку схватка затянулась, они утомились. Пот стекал по лицам, а их дыхание было слышно даже вдалеке от помоста. По сигналу рефери Маллахена они остановились. «Пять минут истекли, — сказал он, — а цель не повреждена». После пятиминутного отдыха участники надели маски и рукавицы и снова затанцевали по сцене. Энгельбрехт работал в обороне, сериями нанося уколы в левую часть груди Сан-Антониуса. Время от времени последний отвечал своему более лёгкому противнику прекрасными атаками. Однако капитан был ловок, как кошка. Он мягко отшагнул в сторону, и два удара итальянца миновали цель. После двух минут спарринга они стали осторожней. Оба экономили силы и, казалось, выжидали. Каждый раз, когда Энгельбрехт пытался провести финт, Сан-Антониус отвечал. Сам он при этом не открывался, и к концу второго раунда оба мешочка всё ещё были не тронуты. Рефери подошёл к краю помоста и сообщил об этом факте. «Время вышло, — отметил он с сожалением, — а мешочки целы».
Третий раунд был копией первых двух, только на этот раз противники решили побороться. Начал датчанин, но когда он обнаружил, что оппонент физически сильнее его, то изменил тактику и отскочил от противника. Затем в пылу схватки Сан-Антониус уронил свой нож на середине ринга, и его соперник ждал, пока он снова вооружится, чтобы продолжить бой. Энгельбрехт также был один раз разоружён, и в этом случае благородство продемонстрировал итальянец. «Время снова вышло, — мрачно сообщил рефери после окончания третьего раунда, — и мешочки пока целы». В четвёртом раунде Энгельбрехт пытался «раздёргать» своего оппонента. Он танцевал вокруг него, совершая обманные движения. Через три минуты спарринга гибкий датчанин заставил сицилийца открыться и энергичным нисходящим уколом в левую часть груди наконец пробил мешочек у сердца Сан-Антониуса. Синяя краска вытекла, и грудь была измазана индиго. Капитан явно был доволен и ликующе повторял: «Вот так, вот так». «Наконец он пробил мешочек», — радостно сообщил рефери, и толпа одобрительно завопила. Капитан подошёл к краю сцены и отсалютовал зрителям ножом на военный манер.
Пятый раунд был очень интересен. Первое время капитан работал в обороне, пока итальянец использовал все свои возможности. Он резал, колол и рубил своего соперника. Тем не менее это не дало результата, и когда по истечении пяти минут мешочек Энгельбрехта оставался нетронутым, датчанин был объявлен победителем состязания[942].
12 апреля 1861 года с обстрела форта Самтере началась самая кровопролитная война в истории США. Гражданская война, также известная как Война Севера и Юга, бушевала с 1861 по 1865 год. В двух тысячах сражений погибло больше американцев, чем в любой из войн, в которых когда-либо принимали участие Соединённые Штаты Америки. Потери северян — войск Федерации — составили около 360 тысяч убитыми и умершими от ран и более 275 тысяч человек ранеными. Конфедераты же потеряли убитыми 258 тысяч, и около 137 тысяч человек ранеными. Учитывая, что на тот период население США составляло всего около 30 миллионов, потери были просто огромными[943].
Известный американский историк Эдвард Линн Айерс предположил, что Гражданская война произвела в Соединённых Штатах тот же эффект, что и Первая мировая в Европе, то есть вызвала антипатию к насилию и положила конец дуэлям на Юге. Другим решающим фактором в исчезновении дуэлей, с его точки зрения, стало распространение и утверждение евангелистской церкви и духа буржуазного предпринимательства с Севера на Юг, что привело к упадку значения чести среди аристократии[944]. Ведь как раз эти тринадцать штатов, составлявших разбитую Конфедерацию: Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, Вирджиния, Арканзас, Северная Каролина, Теннеси, Миссури, Кентукки — и являлись последним оплотом вошедшей в легенду «южной гордости» и хранителями архаичного испанского кодекса чести. Так это или нет, но после Гражданской войны дуэли и в самом деле пошли на убыль — в пуританском обществе победившего Севера с его рационализмом, протестантской этикой и новой капиталистической моралью не было места южным архаичным представлениям о чести, а следовательно, отпала необходимость защищать её с оружием в руках.
Глава VI
ЭТО ХЯРМЯ!
Дуэли на ножах в Финляндии и Скандинавии

 В 1939–1940 годах в советском журнале «Знамя» были опубликованы мемуары известного российского и советского военного деятеля, дипломата и писателя Алексея Алексеевича Игнатьева. В воспоминаниях, вышедших под названием «50 лет в строю», комбриг Игнатьев, как и подобает идеологически выдержанному советскому офицеру, клеймил кровавый царский режим, безжалостно обошедшийся с братским народом Финляндии. Среди основных злодейств, приписываемых им русскому самодержавию, были следующие бесчеловечные деяния: «Расформировать финляндские войска — им доверять нельзя, — лишить финнов права служить в русской армии и даже запретить мирному населению носить традиционные финские ножи — вот была политика «мудрых» царских правителей, оскорбивших национальное чувство этого трудового народа, если не навсегда, то надолго», — гневно писал Игнатьев[945].
Расформирование финских войск и запрет на службу в российской армии оставим на совести самодержца всея Руси. Но для чего понадобилось отнимать у миролюбивых и дружелюбных финских крестьян ножи? Воображение услужливо рисует нам картину, как усатые царские жандармы, глумливо щерясь, отбирали у растерянных жителей Суоми ножи-пуукко, чтобы им неповадно было откраивать детям хлебушек и вырезать немудрёные поделки из дерева. Итак, проникшись праведным гневом комбрига Игнатьева, обратимся к истории финнов и их ножей.
Финляндия. Страна озёр, лесов, снега, заводной финской полечки, ещё недавно гремевшей со всех экранов, и забавных персонажей фильмов «За спичками» и Особенности национальной рыбалки». Но ещё не так давно эти идиллические пасторальные места являлись ареной кровавых событий, вошедших в историю страны как «Hajyjen kausi» — «Время плохих людей», или, как чаще называют эту мрачную эпоху, «Puukkojunkkarikausi» — «Эра ножевых бойцов».
Эпицентром этого явления стала область Похьянмаа, или Южная Остроготния. Запад её омывают волны Ботнического залива, на востоке Похьянмаа граничит с Карелией, а на севере с Лапландией. Начиная с XII столетия Южная Остроботния входила в состав Шведского королевства. Её воинственные жители регулярно совершали набеги на соседних карелов, которые проводили ответные вылазки. Эти кровавые конфликты, уносившие сотни жизней с обеих сторон, были прекращены в 1595 году Тявзинским мирным договором, по которому вся Остроботния переходила под шведскую юрисдикцию. В 1809 году, после победы России в русско-шведской войне, Остроботния как часть Великого княжества Финляндского вошла в состав Российской империи.
В настоящее время Финляндия занимает одно из первых мест в Европе по количеству тяжких преступлений на душу населения и демонстрирует крайне высокий уровень убийств[946]. Похоже, что начало этой мрачной тенденции было заложено ещё двести лет назад, когда в одном из округов страны — в Южной Остроботнии, количество убийств неожиданно начало расти с головокружительной скоростью. Эта эпоха и прославилась в истории Финляндии как — Puukkojunkkarikausi) — Эра поножовщиков.
Эра поножовщиков продлилась более ста лет, с конца XVIII и до конца XIX столетия. За это время более двух тысяч жителей Южной Остроботнии пало под ножами земляков. Это немало, учитывая, что на переломе XVIII и XIX столетий население региона составляло всего восемьдесят тысяч человек[947]. Этот период чем-то напоминает эпоху Дикого Запада в Америке. Эпические подвиги поножовщиков Похьянмаа были запечатлены в устной традиции, и народные легенды пересказывали и воспевали подвиги самых известных бойцов на ножах. В конце XIX века эти сюжеты перекочевали в литературные произведения, а затем в пьесы и фильмы. Научные же работы практически не уделяли внимания эпохе пууккоюнкари. В результате это привело к тому, что история Эры поножовщиков долгие годы была покрыта туманом фольклора и мифов.
Большинство исследователей, изучавших этот феномен, сходятся во мнении, что на появление культуры ножевых бойцов оказали влияние три основных фактора: высокий уровень потребления алкоголя, суровый нрав местных жителей и недостаточное внимание, уделяемое воспитанию детей. Губернатор провинции Вааса Херман Варнхьелм в своём отчёте о состоянии провинции на 1824 год писал: «Характер здешних людей достаточно вспыльчив и независим, и поэтому с простыми людьми должно обращаться весьма справедливо, но не забывая при этом о строгой дисциплине»[948].
В этом же отчёт? губернатор упоминает о росте пьянства среди мужчин провинции и о низкой дисциплине у молодёжи. В 1802 году Хенрик Вегелиус. пастор из Вёро, описывал свою паству следующим образом: «В большинстве своём люди тут благонравны, хотя и несколько высокомерны и грубоваты и не позволяют оскорблять себя. Хотя в основном они простодушны, честны и искренни в речах своих, надёжны и верны в дружбе, но по сути, они всё же остаются дикими, грубыми и предаются пьянству и дракам»[949].
В 1800 году полицмейстер местечка Илмайоки Саломон Хандлес, характеризуя жителей Похьянмаа, отметил, что они горды, склонны к пьянству и любят пускать пыль в глаза[950]. Все позднейшие свидетельства выглядят подобным образом. В 1851 году некий Бекман описывал подчинённый ему приход Яласъярви. В своём отчёте он упомянул, что жителей Остроботнии от их более спокойных и смиренных соседей из Хяме отличают мужество и неукротимый дух. Также он отметил, что эти качества вкупе с их высокой практической смёткой, трудолюбием и усердием придают им некую особую, внутреннюю гордость, характерную именно для жителей этого региона. Далее Бекман упомянул, что природная вспыльчивость остроботнийцев часто подогревается крепкими спиртными напитками, в результате чего они становятся агрессивными и затевают драки, которые редко обходятся без кровопролития[951]. Губернатор провинции Херман Варнхьелм в своём отчёте подчеркивал разницу между жителями восточных провинций и их братьями из Остроботнии. Он утверждал, что, поскольку первые из них беднее, а почва их менее плодородна, то и люди там по своей природе медлительней, а также менее трудолюбивы и прилежны.
В 1939–1940 годах в советском журнале «Знамя» были опубликованы мемуары известного российского и советского военного деятеля, дипломата и писателя Алексея Алексеевича Игнатьева. В воспоминаниях, вышедших под названием «50 лет в строю», комбриг Игнатьев, как и подобает идеологически выдержанному советскому офицеру, клеймил кровавый царский режим, безжалостно обошедшийся с братским народом Финляндии. Среди основных злодейств, приписываемых им русскому самодержавию, были следующие бесчеловечные деяния: «Расформировать финляндские войска — им доверять нельзя, — лишить финнов права служить в русской армии и даже запретить мирному населению носить традиционные финские ножи — вот была политика «мудрых» царских правителей, оскорбивших национальное чувство этого трудового народа, если не навсегда, то надолго», — гневно писал Игнатьев[945].
Расформирование финских войск и запрет на службу в российской армии оставим на совести самодержца всея Руси. Но для чего понадобилось отнимать у миролюбивых и дружелюбных финских крестьян ножи? Воображение услужливо рисует нам картину, как усатые царские жандармы, глумливо щерясь, отбирали у растерянных жителей Суоми ножи-пуукко, чтобы им неповадно было откраивать детям хлебушек и вырезать немудрёные поделки из дерева. Итак, проникшись праведным гневом комбрига Игнатьева, обратимся к истории финнов и их ножей.
Финляндия. Страна озёр, лесов, снега, заводной финской полечки, ещё недавно гремевшей со всех экранов, и забавных персонажей фильмов «За спичками» и Особенности национальной рыбалки». Но ещё не так давно эти идиллические пасторальные места являлись ареной кровавых событий, вошедших в историю страны как «Hajyjen kausi» — «Время плохих людей», или, как чаще называют эту мрачную эпоху, «Puukkojunkkarikausi» — «Эра ножевых бойцов».
Эпицентром этого явления стала область Похьянмаа, или Южная Остроготния. Запад её омывают волны Ботнического залива, на востоке Похьянмаа граничит с Карелией, а на севере с Лапландией. Начиная с XII столетия Южная Остроботния входила в состав Шведского королевства. Её воинственные жители регулярно совершали набеги на соседних карелов, которые проводили ответные вылазки. Эти кровавые конфликты, уносившие сотни жизней с обеих сторон, были прекращены в 1595 году Тявзинским мирным договором, по которому вся Остроботния переходила под шведскую юрисдикцию. В 1809 году, после победы России в русско-шведской войне, Остроботния как часть Великого княжества Финляндского вошла в состав Российской империи.
В настоящее время Финляндия занимает одно из первых мест в Европе по количеству тяжких преступлений на душу населения и демонстрирует крайне высокий уровень убийств[946]. Похоже, что начало этой мрачной тенденции было заложено ещё двести лет назад, когда в одном из округов страны — в Южной Остроботнии, количество убийств неожиданно начало расти с головокружительной скоростью. Эта эпоха и прославилась в истории Финляндии как — Puukkojunkkarikausi) — Эра поножовщиков.
Эра поножовщиков продлилась более ста лет, с конца XVIII и до конца XIX столетия. За это время более двух тысяч жителей Южной Остроботнии пало под ножами земляков. Это немало, учитывая, что на переломе XVIII и XIX столетий население региона составляло всего восемьдесят тысяч человек[947]. Этот период чем-то напоминает эпоху Дикого Запада в Америке. Эпические подвиги поножовщиков Похьянмаа были запечатлены в устной традиции, и народные легенды пересказывали и воспевали подвиги самых известных бойцов на ножах. В конце XIX века эти сюжеты перекочевали в литературные произведения, а затем в пьесы и фильмы. Научные же работы практически не уделяли внимания эпохе пууккоюнкари. В результате это привело к тому, что история Эры поножовщиков долгие годы была покрыта туманом фольклора и мифов.
Большинство исследователей, изучавших этот феномен, сходятся во мнении, что на появление культуры ножевых бойцов оказали влияние три основных фактора: высокий уровень потребления алкоголя, суровый нрав местных жителей и недостаточное внимание, уделяемое воспитанию детей. Губернатор провинции Вааса Херман Варнхьелм в своём отчёте о состоянии провинции на 1824 год писал: «Характер здешних людей достаточно вспыльчив и независим, и поэтому с простыми людьми должно обращаться весьма справедливо, но не забывая при этом о строгой дисциплине»[948].
В этом же отчёт? губернатор упоминает о росте пьянства среди мужчин провинции и о низкой дисциплине у молодёжи. В 1802 году Хенрик Вегелиус. пастор из Вёро, описывал свою паству следующим образом: «В большинстве своём люди тут благонравны, хотя и несколько высокомерны и грубоваты и не позволяют оскорблять себя. Хотя в основном они простодушны, честны и искренни в речах своих, надёжны и верны в дружбе, но по сути, они всё же остаются дикими, грубыми и предаются пьянству и дракам»[949].
В 1800 году полицмейстер местечка Илмайоки Саломон Хандлес, характеризуя жителей Похьянмаа, отметил, что они горды, склонны к пьянству и любят пускать пыль в глаза[950]. Все позднейшие свидетельства выглядят подобным образом. В 1851 году некий Бекман описывал подчинённый ему приход Яласъярви. В своём отчёте он упомянул, что жителей Остроботнии от их более спокойных и смиренных соседей из Хяме отличают мужество и неукротимый дух. Также он отметил, что эти качества вкупе с их высокой практической смёткой, трудолюбием и усердием придают им некую особую, внутреннюю гордость, характерную именно для жителей этого региона. Далее Бекман упомянул, что природная вспыльчивость остроботнийцев часто подогревается крепкими спиртными напитками, в результате чего они становятся агрессивными и затевают драки, которые редко обходятся без кровопролития[951]. Губернатор провинции Херман Варнхьелм в своём отчёте подчеркивал разницу между жителями восточных провинций и их братьями из Остроботнии. Он утверждал, что, поскольку первые из них беднее, а почва их менее плодородна, то и люди там по своей природе медлительней, а также менее трудолюбивы и прилежны.
 Рис. 1. Мальчики Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 1. Мальчики Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
В 1815 году Карл Кристиан Бёкер, глава сельского консультативного общества Финляндии, описывая нрав остроботнийцев, отмечал, что они предприимчивы и «твёрдо стоят на земле». Он считал, что отличие остроботнийцев от других финнов было обусловлено не столько более развитой промышленностью, сколько их энергичностью и гордостью. Точность этого наблюдения мог засвидетельствовать любой человек, побывавший в этом регионе. И сам Бёкер, и многие другие исследователи считали, что эти качества жителей Похьянмаа связаны не с генетикой и не какими-либо присущими лишь им уникальными этническими характеристиками, а были приобретены в процессе исторического развития. Одним из главных факторов, повлиявших на формирование характера остроботнийцев, несомненно, являлось смолокурение. Бёкер писал, что первая, и основная, предпосылка к предприимчивости и трудолюбию жителей Похьянмаа заключается в том, что в течение почти двух столетий основным источником существования остроботнийцев являлись смолокурни. Другим, не менее важным фактором, по мнению Бёкера стала война, «которая со времён крестьянского восстания 1596–1597 годов, известного как Дубинная война, и до «Великого гнева» во время Северной войны в начале XVIII века подвергла эту землю жестоким испытаниям и закалила людей». Также он считал, что «флегматичный нрав» народов Центральной Финляндии — результат того, что их основным источником дохода являлась обработка земли подсечно-огневым способом, что позволяло им бездельничать всю зиму[952].
Но в один прекрасный день смолокуры Похьянмаа столкнулись с непреодолимой даже для их несгибаемого характера проблемой — истощением природных ресурсов. Как следствие, это вызвало жёсткую конкуренцию и борьбу за обладание жалкими остатками источников существования. Бёкер писал, что за обладание делянками в общем лесу шла самая настоящая война, в которой лучшие участки захватывали самые дерзкие. Часто появлялись сообщения о кровавых стычках между смолокурами. В этот период насилие приобрело реальную товарную стоимость не только для участников этих стычек, но и для работодателей, а искусные бойцы стали пользоваться всеобщим уважением[953].
Не менее весомый вклад в появление культуры ножевых бойцов внёс и алкоголь. Я уже упоминал, что губернатор Вархьелм, пастор Вегелиус и многие другие авторы отмечали склонность жителей Похьянмаа к пьянству. Если учитывать тот факт, что причиной агрессии у финнов нередко являлась психосоциальная напряжённость, нам будет проще понять и второй после поножовщины приписываемый финнам порок — пьянство. Финская манера питья, как и у многих других северных народов, и сегодня в первую очередь характеризуется желанием выпить как можно больше и напиться максимально быстро. Отношение к пьянству в финском обществе, как и в России, традиционно снисходительное. «Даже сегодня в Финляндии смертельно пьяный человек не осуждается общественным мнением, — писала Мерия Силанпаа в «Helsingin Sanomat» от 17 февраля 1996 года — Большая часть людей в нашей культуре и сейчас считает беспробудное пьянство приемлемой формой поведения». Пьянство помогало финнам в формировании социальных связей, а физическая агрессия давала выход накопившемуся чувству тревоги и ощущению неполноценности[954].
Государственный инспектор Карл Фредрик Стирвалд в своём описании Лай-хиа отмечал: «Винные лавки преимущественно содержат девицы, поскольку, согласно порочной традиции, распространённой в этих местах, юноши и молодые мужчины субботними вечерами обходят деревни для знакомства с ними. Подобные визиты называются «рииустелу» — ухаживание, и обычай сей всё ещё в силе, несмотря на строжайший запрет, наложенный губернатором. В подобных случаях девицы (девушки с ферм) обеспечивают алкоголем юношей, которые во время прогулок от деревни к деревне напиваются и буянят. Таким образом, пристрастившись к пьянству, юноши становятся ещё более распущенными, чем старые пьянчуги. И нет никакого способа избежать этого, ибо родители их закрывают на пьянство глаза»[955].
Другой причиной распространения пьянства, с точки зрения Стирвалда, стало то, что городские жители принимали селян в так называемых «фермерских» постоялых дворах, где те пили при каждом посещении города. Горожане, чтобы поддерживать с крестьянами, снабжавшими их смолой, хорошие отношения и чтобы те постоянно пребывали в благостном состоянии духа, наливали им столько спиртного, сколько душа пожелает. В результате крестьяне напивались до бесчувствия.
Разумеется, свой вклад в развитие деревенского насилия, как и повсюду в Европе, сыграли танцы. Молодёжные банды запасались алкоголем и направлялись на поиски танцев, где обычно начинались драки, в конечном счёте приводившие к поножовщинам. В конце концов это инициировало кампанию, направленную на бескомпромиссную борьбу с танцами. Тем, кто посещал танцы или разрешал проводить их в своём доме, так же как аккомпанировавшим на танцах музыкантам, грозили штрафы, часть которых шла доносчику. Но несмотря на запреты, популярность танцев только росла. В XVIII столетии среди народных инструментов появилась скрипка, из-за границы были привезены менуэт, полька, мазурка и шотландский танец. Гарантия роста популярности танцев и в будущем была обусловлена тем, что это был прекрасный повод для торговли алкоголем, и, как следствие, вскоре алкоголь стал неотъемлемой частью танцев. Из запретов, направленных на борьбу с танцами, мы можем заключить, что хулиганство на танцевальных вечерах стало обычным явлением в 1780-90х годах.
О борьбе с танцами также свидетельствует постановление, принятое по рекомендации Окружного суда Умайоки и утверждённое губернатором провинции Карлом Фредриком Краббе 24 мая 1799 года. Постановление инициировал полицмейстер Фредрик Йохан Бергстром, который пожаловался в окружной суд, что молодёжь Илмайоки «всё более поддаётся искушению участвовать в сборищах по воскресеньям, чтобы пить, плясать и предаваться другим пагубным и греховным порокам». Окружной суд рассмотрел эту жалобу и выдал следующий вердикт: «Каждый, кто позволяет устраивать танцы в его доме и кто играет музыку на танцах, должен быть оштрафован на двадцать пять риксталеров, если это произойдёт после десяти часов вечера в день, предшествующий празднику, или до четырёх часов в день, наступивший после праздника. Любой человек, кем бы он ни был, участвующий в подобных сборищах без оправдательной причины, приговаривается к штрафу в два риксталера»[956]. Половина этого штрафа поступала осведомителю, а другая половина шла в пользу бедняков прихода.
Некоторые исследователи считают, что корни культуры пууккоюнкари надо искать в семейных традициях, передающихся из поколения в поколение. Они убеждены, что это было обусловлено совокупностью факторов, включающих не только алкоголь, но и полное пренебрежение семьёй и воспитанием детей. Нехватка работы вызвала безразличное отношение к детям даже в тех семьях, для которых ранее подобное поведение было нехарактерно. Только этим можно объяснить тот странный факт, что с середины XVIII столетия крестьяне всё меньше и меньше интересовались образованием своих детей. В записках современников мы часто встречаем упоминания о том, что конфликты между детьми и родителями были наиболее распространены именно в Южной Остроботнии.
Выражение «puukkojunkkari» — «бойцы на ножах» впервые упоминается в датированной 1780 годом «Хронике» пастора Захариса Сигнауса из прихода Мянтюхарью, расположенного на юго-востоке Финляндии. В этой работе Сигнаус отмечал, что жителей Мянтюхарью называли «puuckojunckarit», так как они имели обыкновение грабить и убивать путешественников, проезжавших через их приход. Скорее всего речь шла о мародёрах и бандитах из бывших вояк, грабивших и убивавших во время Северной войны русских солдат, а впоследствии и любого первого встречного, оказавшегося у них на пути. Несмотря на установившийся мир, некоторые из них, как это часто бывает в подобных случаях, не смогли или не захотели вернуться к нормальной жизни и, чтобы заработать на кусок хлеба, решили заняться разбоем. Таким образом, изначально термин «ножевые бойцы» использовался для обозначения грабителей с большой дороги из бывших солдат, убивавших своих жертв с помощью ножей[957].
Надо отметить, что финское слово «рииккощпккап» вряд ли могло появиться в простонародной среде, так как оно не относится к местному диалекту — сами местные крестьяне использовали выражение «Hajyjen kausi» — «время плохих людей». Также существуют убедительные свидетельства из Юлихярмя и Алахярмя — двух приходов, наиболее пострадавших от поножовщин, что предводители ножевых бойцов были не бедными крестьянами, как это можно было предположить, а богатыми владельцами ферм. Вероятно, фермеры были склонны отождествлять себя с дворянами, с которыми они в некотором смысле конкурировали и с чьих усадеб копировали образцы для своих домов.
Таким образом, впервые выражение «puukkojunkari», вероятней всего, начало использоваться высшими сословиями региона[958].
Существует немало источников начала 1790-х годов, рассказывающих о разгуле разбойничьих ватаг на глухих трактах между Остроботнией и Сатакунта. В самом начале периода русского владычества и особенно вскоре после войны 1808–1809 годов ситуация заметно ухудшилась. 30 июля 1815 года бывший солдат, а ныне ученик кузнеца по имени Йохан Лундгрен путешествовал в поисках работы из Лапфьярда в Кристинестад в компании старого нищего из Лапуа по кличке Пелле-Марти. Лундгрен родился в Швеции, но остался жить в Финляндии после того, как в 1811 году был освобождён из русского лагеря для военнопленных. В приходе Иярпес из леса к ним навстречу вышел мужчина с подвешенным к поясу ножом в ножнах. Некоторое время он болтал с ними, затем набросился на Лундгрена, повалил его на землю и, выхватив нож, потребовал отдать ему все деньги. Но Лундгрену удалось вырвать оружие у разбойника, после чего он зашвырнул нож в лес, подобрал валявшийся на земле кол и избил им нападавшего до смерти[959].
В результате подобных инцидентов нож в распространённых представлениях в первую очередь связывали с лесными разбойниками. Изначально термин «ножевой боец», вероятно, использовался для обозначения лесных бандитов из Лапфьярда, считавшегося разбойничьим гнездом, а позже распространился и на всех остальных вооружённых ножами головорезов. В те годы словосочетание «ножевой боец» несло уничижительную окраску. Люди с ножами были заклеймены тем же позорным эпитетом, что и кровожадные разбойники, бродившие по лесам. Из чего следует, что отношение общества к людям, дравшимся на ножах, было крайне враждебным.
Так почему же «puukkojunkari» предпочитали носить с собой именно ножи? Прежде чем начать рассуждать о глобальных факторах, способствовавших распространению этого оружия, необходимо иметь чёткое представление о том кто, когда, где и для чего его использовал. Вероятней всего, поединки на ножах начали распространяться из прибрежных районов, возможно, из крупных городов, и изначально встречались преимущественно в шведскоговорящих областях. В период с 1789 по 1807 год только два из десяти случаев применения ножа имели место за пределами шведскоговорящих областей — в Алавусе и Каухаве. Но даже в прецеденте, имевшем место в Алавусе, преступник носил шведское имя Иигрен, а так как дело происходило на постоялом дворе, не исключено, что он был приезжим. К сожалению, оригинал этого судебного дела отсутствует, поэтому остаются только догадки и предположения.
С течением времени случаи применения ножа продолжают распространяться с запада на восток, и увеличивается территория, где использование ножей в драках уже стало обыденностью. Хотя из 38 убийств совершённых с помощью ножа 20 были совершены в шведскоговорящих областях и только 18 — в финскоговорящих районах Южной Остроботнии, этот баланс быстро менялся. В конце рассматриваемого периода уровень насилия в финскоговорящих областях был уже значительно выше, чем в шведскоговорящих частях страны, даже в пропорциональном отношении к количеству населения[960].
 Рис. 2. Молодые люди из Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 2. Молодые люди из Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Чтобы понять, почему поножовщины превалировали именно в шведскоговорящих областях Похьянмаа, нам придётся рассмотреть ситуацию не только в районах Финляндии с преобладанием шведского населения, но и в самой Швеции. Известный финский историк, профессор Петри Каронен писал, что щепетильность шведов в вопросах чести отчётливо прослеживается в конфликтах, которые можноклассифицировать как «простонародные дуэли». Типичным для таких случаев являлся вызов на бой путём апеллирования к чести противника. Примером подобной дуэли чести можно назвать поединок, состоявшийся в 1556 году в Стокгольме и закончившийся смертью одного из участников. По словам многочисленных очевидцев этого инцидента, парикмахер по имени Якоб ворвался в дом, где находилась большая компания солдат. Войдя в помещение, он выхватил кинжал и вызвал троих солдат выйти и драться с ним. Предложение парикмахера не вызвало у вояк особого энтузиазма, и они предложили ему перенести дуэль на следующий день. В конце концов парикмахер начал задирать некоего Якоба Сканинга, который пытался его успокоить. «Никто не хочет со мной сразиться, и поэтому это придётся сделать тебе», — заявил Якоб. Так как солдаты сочли поединок с парикмахером ниже своего достоинства, ему пришлось искусственно спровоцировать конфликт со случайным человеком, чтобы сохранить лицо[961].
К середине XIX столетия народные дуэли на ножах достигли в Швеции такой популярности, что в 1860 году перед театром в Гётеборге была установлена скульптурная композиция работы Йохана Петера Молина под названием «Baltesspannarna», изображающая поединок на ножах двух мужчин, связанных поясами. Сидя по сюжетам бронзовых барельефов и цитатам из Эдды на постаменте памятника, причиной поединка послужило соперничество из-за женщины. Тела двух бойцов переплелись в смертельной схватке, на их лицах написана свирепость и решительность гладиаторов, для которых отступление невозможно, а их напряжённые мускулы выглядят столь естественно, что каждый, кто смотрит на эту скульптурную композицию, ожидает, что эти бронзовые бойцы вот-вот оживут[962].
Англичанин Гораций Уилрайт писал в 1865 году: «К чести шведов хочу заметить, что нож быстро выходит из моды благодаря суровым законам против поножовщин. Но ситуация стала меняться лишь в последние годы. Когда же я впервые приехал в Швецию, то в Гётеборге увидел человека с лицом, распоротым от уголка рта до уха, и друзья сказали мне, что трудно найти тут приличного джентльмена без трёх-четырёх шрамов от ножа на лице. Ножи, используемые для подобных недостойных деяний, имеют короткий клинок, и ими не наносят колющих ударов, а лишь полосуют лицо. Однако в старые времена «Balt spannare» двоих дуэлянтов, раздетых до пояса и вооружённых ножами, связывали вместе ремнём, чтобы лишить их возможности уклоняться от оружия, и подобные бои редко заканчивались без того, чтобы один или оба не падали мёртвыми от полученных ран»[963].
Мальте-Брюн в 1831 году писал, что также и в некоторых горных районах Норвегии, типа Валдерса, хотя мужчины всё ещё носят старинные скандинавские костюмы, но уже отказались от древнего обычая поединков на ножах, когда бойцов связывали вместе поясом[964]. А в 1861 году о подобных поединках упоминал Генри Чешир. Он также отмечал, что в некоторых частях страны, особенно всё в том же пресловутом Валдерсе и прилегающих к нему районах, женщины всегда носили с собой лоскуты и бинты для перевязки раненых. Когда между двумя мужчинами происходила ссора, оба доставали ножи — «taellekniv» и втыкали в ближайший стол или дверь. Насколько остриё ножа входило в дерево, настолько и позволялось всаживать его в тело соперника[965]. Также и на барельефе с постамента Baltesspannarna один из соперников, держа нож в руке, пальцем указывает противнику, на какую глубину можно вгонять клинок в тело.
После этого оба дуэлянта тщательно заматывали клинки своих «kniv's», оставляя открытой часть острия, которую было разрешено использовать в бою, затем их связывали вместе поясами, и начиналась кровавая резня. Подобные поединки могли продолжаться довольно долго, и нередко для обоих дуэлянтов всё заканчивалось жуткими увечьями. Когда у бойцов не оставалось сил продолжать бой, их разнимали, а жёны и возлюбленные перевязывали им раны. Нередко эти варварские дуэли заканчивались смертью. Но вскоре правительство установило тяжёлое наказание в виде каторжных работ для тех, кто был замечен за участием в подобных развлечениях, и дуэли пошли на убыль. Несколько старинных дуэльных поясов в качестве курьёза хранятся в Музее скандинавских древностей в Осло — бывшей Христиании[966]. Свидетельство о «Balt spannare» нам оставил и Сэмюэль Прайм. Он описал пояса и ножи для дуэлей из музея Христиании и обычай втыкать оружие в дерево, а затем обматывать клинки ножей полосками кожи. Прайм также отметил, что в результате у одних ножей остриё было длиннее, у других короче, — в зависимости от того, насколько глубоко входил клинок[967].
Любопытную разновидность «поясных» дуэлей описал в 1835 году французский писатель Жан-Жак Ампер, сын знаменитого физика, в своей работе «Очерки Севера», являющейся путевыми заметками из поездки по Северной Пруссии, Норвегии и Швеции: «Но временами норвежские мужики внезапно извлекаются из обыкновенного своего спокойствия взрывами дикого веселья, гневом или пьянством. Часто от этого происходят кровопролитные битвы. Оружие их составляет нож, который всегда в ножнах висит у их пояса. Но если верить тому, что мне рассказывали, они даже в бешенстве поединка сохраняют врождённое своё хладнокровие. Говорят, что перед началом битвы они бросают ножи свои в стол и что честь и законы поединка запрещают им вонзать оружие в тело противника далее того, как оно вонзилось в дерево. У этих мужиков есть ещё другой род дуэли. Каждый из сражающихся держит в правой руке один из этих страшных ножей, а левой схватывает изо всей силы за правый кулак своего противника и, таким образом отклоняя удары своего неприятеля, старается сам поразить его. Этот род поединка, походящий несколько на борьбу, приличен горцам, у которых главные качества суть сила и проворство»[968].
В 1855 году некий евангелистский миссионер сетовал, что шведские крестьяне, вместо того чтобы проводить время в молитвах, пьют и дерутся на ножах. Также он упомянул некоего крестьянина по имени Эрик Нарин, которого двадцать два раза штрафовали за участие в поединках на ножах[969].
Полагаю, что традиция подобных поединков могла быть отголоском древнего обычая «божьего суда» у викингов. В сагах неоднократно встречаются упоминания о том, как двое соперников для решения спорного вопроса удалялись на остров, где вместе связывались ремнём и бились до тех пор, пока один из них не падал мёртвым.
Но вернёмся в Похьянмаа. Популярность ножа в этом региона росла пропорционально количеству совершённых убийств. В первую очередь это было обусловлено тем, что нож идеально подходил на роль смертоносного орудия. Кроме этого, он служил в качестве эффективного инструмента для реванша, позволяя стороне, проигрывающей бой на других видах оружия, достойно выйти из положения, а возможно, даже выиграть поединок, поскольку, как показывает практика, ножевое ранение мгновенно выводило противника из строя. Вскоре благодаря распространению ножей физические данные стали играть в сельской преступности все менее важную роль и уступили место психологическим факторам. Теперь благодаря наличию ножа даже мужчина хрупкого телосложения мог легко построить бойцовскую карьеру, что до этого было под силу только людям крупным и физически развитым. Нож был незаменим там, где использование крупногабаритного и громоздкого оружия было затруднено или невозможно — например, в ограниченном пространстве или в гуще толпы. В стеснённых условиях это небольшое, но эффективное оружие однозначно доказало своё превосходство[970].
Одна из версий среди факторов, способствовавших росту популярности ножей, рассматривает самооборону и растущую необходимость защищаться в опасных ситуациях. Определённый вес этой гипотезе придают свидетельства очевидцев. Так, Йонас Фред, крестьянин из Корсхольма, банда которого потерпела поражение в драке на дрынах, вспоминал в 1803 году: «У меня в кармане не было ничего, чем можно было бы защититься». При этом Фред имел в виду, что у него с собой не было ножа. После того как Якоб Гьерс, фермер из Эвиярви, и Йохан Нордлинг, батрак из Вёро, подверглись нападению, они попросили у приятелей ножи, чтобы защищаться в конфликтной ситуации. В 1814 году после драки в деревне Рекипелдо некий Маттс Муркайс, заявил, что когда снова соберётся в Рекипелдо, то захватит с собой нож. Анти Кескинен, фермер из Юлихярма, грозился в 1821 году: «Отныне я буду сражаться ножом и проткну им спины, как жареным селёдкам»[971].
 Рис. 3. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
Рис. 3. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
Хотя надо сказать, что доказательная сила этих свидетельств снижена тем фактом, что трое из тех, кто давал показания — Фред, Гьерс и Муркайс, в описываемых конфликтах фактически являлись нападавшей стороной. Да и двое других — Нордлинг и Кескинен, скорее провоцировали конфликт, чем защищались. В этом случае ножи одновременно являлись как оружием нападения, так и средством защиты.
Но существуют веские аргументы, свидетельствующие против версии самообороны. Так, например, если бы и в самом деле речь шла только о сдерживающем психологическом эффекте такого опасного оружия, как нож, то можно было бы предположить, что его должны были носить на поясе открыто, чтобы он сразу был заметен. Но этого не происходило — в ранний период Эры ножевых бойцов владельцы ножей прятали своё оружие в карманах.
В 1793 году во время кабацкой ссоры в Алавусе батрак Эркки Нигрен выхватил нож из кармана. В карманах прятали ножи солдат Рудольф Далстрем в 1799 году и Мате Фагерхолм, батрак из Ларсмо, в 1801-м. Ни один из свидетелей ни до, ни после драки не заметил ножа у моряка из Якобштата Андерса Бйорка, который в 1797 году зарезал батрака Даниела Стена. И Абрахам Хага, арендатор из Вёро, упоминался в связи с тем, что в 1803 году прятал орудие убийства — нож под одеждой. В 1811 году в драке на танцах в Лайхиа сын фермера Яакко Силланпаа спрятал нож в рукаве. В 1817 году фермерский сын Антти Варсавиита гулял со складным ножом в кармане. В 1824 году Матти Низула, арендатор из Куортане, отправился на танцы с ножом, спрятанным в жилетном кармане. В прецеденте, имевшем место в 1820 году, печально известный фермерский сын Матти Сааренпаа, к которому мы ещё вернёмся, достал орудие убийства из нагрудного кармана. Яаако Рахцкка, батрак из Каухайоки, и другой батрак, уроженец Мунсалы, живущий в Вааса, — Мате Винстром также носили свои ножи в карманах жилета. В 1819 году Андерс Хеллман, моряк из Солфа, отправляясь на свадьбу, положил нож в карман со словами: «Может, понадобится». Как следует из материалов уголовного дела, нож ему таки понадобился[972].
 Рис. 4. Пууккоюнкари Юсси Канкаханпяйн. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 4. Пууккоюнкари Юсси Канкаханпяйн. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
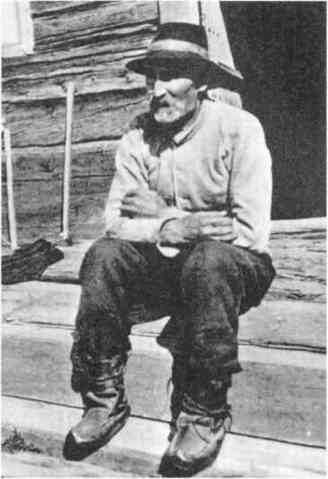 Рис. 5. Пууккоюнкари Юха Туомисиллан. один из людей Хирви-Кёсти. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 5. Пууккоюнкари Юха Туомисиллан. один из людей Хирви-Кёсти. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Ношение оружие в карманах было в Похьянмаа настолько обычным делом, что некий Якоб Старк, портной из Корсхольма, упоминался исключительно в связи с тем, что «носил нож не в обычном месте — в кармане, а спрятанным за поясом брюк». Нож Старка был подвешен на шнурке, привязанном одним концом к просверленному в рукоятке отверстию, а другим — к талии. Йохан Сандблом, портной из Корсхольма, убивший 28 декабря 1822 года батрака по имени Йонас Лервик, носил свой нож точно таким же способом. Во время суда над уже упомянутым Андерсом Хеллманом выяснилось, что подобная манера ношения ножей была перенята у моряков, которые, поднимаясь на мачты, для удобства подвешивали их на шнурке на шею. Именно поэтому рукоятки матросских ножей всегда имели отверстие[973].
Логично было бы прийти к выводу, что оружие носилось скрытно, так как его не планировали использовать для самообороны. Но с другой стороны, можно предположить, что нож нельзя было носить открыто в связи с осуждением этого оружия общественным мнением. Как я уже упоминал, большая часть общества относилась к ножам крайне отрицательно. Согласно многочисленным свидетельствам, в 1790-х годах люди решительно осуждали и сами ножи, и поединки на ножах. В 1798 году старик по имени Хенрик Ост упрекал батрака по имени Хуммелхьюл за то, что тот на танцах пустил в ход нож. В 1798 году фермер Михель Вейкарс точно так же отчитывал солдата Рудольфа Дальстрёма, заколовшего своего товарища по оружию. Когда Вейкарс спросил его, почему он использовал нож, а не какое-либо менее смертоносное оружие, то всё, что ему смог ответить Дальстрём: «А нечего было ко мне цепляться»[974].
Другим доводом, говорящим не в пользу версии самообороны, являлось то, что владельцы ножей пытались скрыть не только наличие у них оружия, но и факт его применения. Как правило, владелец выбрасывал нож сразу после использования и всегда отрицал, что окровавленный клинок, обнаруженный в одном из углов комнаты или в другом укромном месте, принадлежал ему. Именно так поступили такие убийцы, как Эркки Нигрен, Рудольф Дальстрём, Симо Марьянярви, Андерс Хеллман, Юха Каупи и Мате Муркайс. 27 октября 1804 года на свадьбе в Квевлакс арендатор Израэль Хьорт и его зять Симон сделали своё чёрное дело следующим образом. Израэль толкнул Симона на своего давнишнего врага, арендатора по имени Густав Бранбэк, с такой силой, что оба упали на пол, а когда они поднимались, Бранбэк получил смертельный удар ножом. Но при этом никто из присутствующих не заметил ни того, кто нанёс удар, ни само оружие. Сам же Симон категорически отрицал причастность к этому ранению. Именно поэтому нередко жертвы громко выкрикивали имя своего убийцы, чтобы услышали все вокруг и чтобы преступник мог быть должным образом осуждён и наказан.
5 декабря 1819 года в толчее на танцах моряк Андерс Хеллман незаметно для всех ударил ножом в живот фермера Йохана Боргэра. Раненый Боргэр крикнул на весь зал, чтобы слышали все вокруг: «О, Господи Иисусе! Андерс пырнул меня ножом!» И чтобы удостовериться, что все это заметили, продолжил: «Посмотрите, у него в руке нож! А сейчас он бросил его на пол!»[975].
Но иногда убийце удавалось нанести удар настолько скрытно, что даже сама жертва не знала, кто нанёс ей ранение. Единственным мотивом нападавшего было желание избежать судебного преследования за свои деяния. Сложно найти даже один-единственный случай поножовщины в контексте самообороны — за редким исключением речь шла только о нападениях. И даже в тех нечастых случаях, когда нож действительно использовался для отражения нападения, как правило, его владелец или сам являлся инициатором конфликта, или же был известен своей плохой репутацией. Губернатор провинции Маркус Ванберг, судя по его отчёту за 1805 год, также считал ножи исключительно орудием нападения.
Короче говоря, ножи использовались и в качестве оружия нападения, и как средство защиты самих нападавших. Бойцы брали с собой ножи, чтобы быть уверенными, что затеянные ссоры не обернутся их поражением и в ситуации, когда счастье в бою начнёт им изменять, под рукой будет козырь. Именно тогда этих задир и стали называть «baijyt» — злодеями, или «поножовщиками». Так как все эти свидетельства тем или иным способом опровергают версию о самообороне, скорее всего её можно исключить. Поэтому мы перейдём ещё к одному фактору, повлиявшему на распространение ножей и, вероятно, сыгравшему фатальную роль в формировании культуры «рииккощпкап». Речь пойдёт об обычае, известном как «гуляние вокруг деревень».
 Рис. 6. Пууккоюнкари Хирви-Кёсти приговорённый за убийство к Сибирской каторге, 1865 г. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 6. Пууккоюнкари Хирви-Кёсти приговорённый за убийство к Сибирской каторге, 1865 г. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 7. Жених и невеста из Войри, Похьянмаа, 1870-е.
Согласно судебным материалам, в перечне событий, послуживших поводом к убийствам, первое место в рейтинге занимает так называемое «гуляние вокруг деревень». Этот местный обычай заключался в прогулках от деревни к деревне и от фермы к ферме. Почти всегда подобные прогулки совершались целыми бандами, и все эти посещения чужих ферм происходили без приглашения и одобрения хозяев. Любимым временем для «гуляния вокруг деревень» были выходные дни, особенно воскресенье, а также праздники. «Гуляние вокруг деревень» не являлось спонтанным и бесцельным шатанием — молодёжные банды целенаправленно бродили по приходу в поисках усадеб, где на тот момент происходили какие-либо массовые мероприятия, такие как свадьбы, аукционы, сбор налогов, танцы или похороны. Эрик Порнулл, сын фермера из Вёро, вспоминал, как 14 января 1821 года банда, членом которой он являлся, после танцев не разошлась по домам, а отправилась прошвырнуться, «как это было принято у фермерских сыновей, когда они собираются вместе». В 1817 году Матти Иссо-Ампуйя, батрак из Сойни, объяснял, что сборище после похорон, которое закончилось убийством, было следствием народного обычая гулять субботним вечером вокруг соседних ферм, особенно после посещения какого-либо заведения, где продают алкоголь[976].
Рис. 7. Жених и невеста из Войри, Похьянмаа, 1870-е.
Согласно судебным материалам, в перечне событий, послуживших поводом к убийствам, первое место в рейтинге занимает так называемое «гуляние вокруг деревень». Этот местный обычай заключался в прогулках от деревни к деревне и от фермы к ферме. Почти всегда подобные прогулки совершались целыми бандами, и все эти посещения чужих ферм происходили без приглашения и одобрения хозяев. Любимым временем для «гуляния вокруг деревень» были выходные дни, особенно воскресенье, а также праздники. «Гуляние вокруг деревень» не являлось спонтанным и бесцельным шатанием — молодёжные банды целенаправленно бродили по приходу в поисках усадеб, где на тот момент происходили какие-либо массовые мероприятия, такие как свадьбы, аукционы, сбор налогов, танцы или похороны. Эрик Порнулл, сын фермера из Вёро, вспоминал, как 14 января 1821 года банда, членом которой он являлся, после танцев не разошлась по домам, а отправилась прошвырнуться, «как это было принято у фермерских сыновей, когда они собираются вместе». В 1817 году Матти Иссо-Ампуйя, батрак из Сойни, объяснял, что сборище после похорон, которое закончилось убийством, было следствием народного обычая гулять субботним вечером вокруг соседних ферм, особенно после посещения какого-либо заведения, где продают алкоголь[976].
 Рис. 8. Известный пууккоюнкари Юха Хухтамяйн Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 8. Известный пууккоюнкари Юха Хухтамяйн Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Надо заметить, что традиция свадебных поножовщин существовала и в соседней Норвегии. Теодор Мюгге писал в 1854 году, что из-за поединков на ножах свадебные торжества и крестины в этой стране слишком часто превращались в кровопролития, после которых женщинам приходилось одновременно шить своим юным мужьям и свадебные костюмы, и саваны. Мюгге сетовал, что не существовало достаточно могущественного закона, чтобы остановить эти поединки на ножах, многим стоившие жизни[977].
Количество убийств, связанных с традицией «гуляния вокруг деревень», начало расти уже в первые годы после русско-шведской войны 1808–1809 годов, когда Финляндия перешла под российский протекторат. Из 13 убийств, приписываемых этому обычаю в тот период, лишь 1 было совершено, когда Финляндия ещё находилась под управлением Швеции[978].
Судебные материалы не упоминают количественный состав банд, занимавшихся «гулянием вокруг деревень», но по приблизительной оценке, банда обычно состояла из пяти-шести участников, в основном из фермерских сыновей и батраков. Как правило, это была молодёжь из одной деревни, хотя иногда ватаги сколачивалась и из жителей разных сёл.
 Рис. 9. Пууккоюнкари старик Йюлинен, из парней Анска, бывший владелец Кескикюля. Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 9. Пууккоюнкари старик Йюлинен, из парней Анска, бывший владелец Кескикюля. Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
В ранний период «гуляния вокруг деревень», когда ношение ножей членами молодёжных банд ещё не стало нормой, в поисках оружия им приходилось прибегать к различным ухищрениям. Так, члены одной из банд Антти Лахандер и Мате Муркайс из Вёро тайком взяли ножи со стола в таверне и спрятали в рукавах. 8 ноября 1818 года на ферме Ойяла Юлья Порренмакки — фермер из Алахярмя, славящийся своим скверным нравом, также стащил нож и спрятал в рукаве. Нож понадобился ему, чтобы при первом удобном случае отомстить Эсайа Саксу, портному из Лапуа, вмешавшемуся в спор о наследстве между Порренмаки и его братом. Нанеся Саксу смертельное ранение, Порренмаки выбросил этот нож во двор. Вскоре интерес банд, обходящих фермы, к ножам стал настолько очевиден, что в 1822 году фермер Йохан Мартин из Корсхольма решил для собственного спокойствия убрать с видных мест и спрятать все ножи в доме, чтобы их не нашли и не забрали пууккоюнкари. Таким образом, распространение традиции «гуляния вокруг деревень» фатальным образом повлияло и на рост популярности ножей[979].
Ирьо Алланен, тщательно изучавший традицию поединков на ножах, относит её появление к достаточно позднему периоду. Согласно его предположению, в Похьянмаа ножи стали применять в драках только с 1840-х годов. До этого в конфликтах, как правило, использовались деревянные дубинки и реже топоры. А самым распространённым региональным оружием, несомненно, был «moskuli». Москули являл собой некий вид дубинки, или скорее кистеня, представлявшего собой обтянутый кожей металлический набалдашник, прикреплявшийся к руке намотанным на кулак ремешком. Алланен считает, что в качестве оружия нож начал использоваться благодаря цыганам, которые во время случавшихся на ярмарке ссор имели обыкновение резать лица своих противников большими перстнями-печатками, оставлявшими уродливые шрамы. По его версии, жители Остроботнии начали использовать ножи именно для того, чтобы защитить себя в столкновениях с цыганам[980].
Однако с утверждением Алланена не согласен известный финский историк, профессор университета в Турку Пентти Вирранкоски, предложивший другое объяснение этого феномена. Он ссылается на заявление декана Лаппаярви, Яакко Феллмана, сделанное им в 1836 году. Феллман проводил следующую параллель между ножами и убийствами: «Особенно хочется отметить рост количества убийств, и основная причина этого — традиция носить подвешенный к поясу нож, который с лёгкостью может быть использован для нанесения ранений другому человеку»[981].
Вирранкоски отмечает, что в XVIII столетии нож и пояс из металлических бляшек, были в Похьянмаа самыми распространёнными предметами, передававшимися в семье по наследству, и что ношение ножа на поясе являлось старинным и устоявшимся обычаем. В связи с этим он предположил, что до того, как превратиться в популярное орудие убийства, нож был элементом праздничного крестьянского костюма.
 Рис. 10. Оружие пууккоюнкари. Национальный музей Финляндии.
Рис. 10. Оружие пууккоюнкари. Национальный музей Финляндии.
Хотя первоначально Вирранкоски разделял мнение Алланена о том, что традиция поединков на ножах была принесена цыганами, но позже он решил тщательно проанализировать саму возможность адаптации цыганских обычаев местными жителями. В результате этого исследования он пришёл к выводу, что вследствие крайне недоброжелательного отношения жителей Похьянмаа к цыганам это маловероятно и что скорее всего нож перешёл в категорию оружия из бытового инструмента и аксессуара народного костюма. Благодаря распространённому обычаю носить с праздничным костюмом нож у пьяных гостей, затевавших ссоры на торжествах, под рукой всегда было смертоносное оружие[982].
Принято считать, что первые упоминания о ношении традиционного «пояса с ножом» относятся к Каухаве и встречаются не ранее 1824 года. Но в описании прихода Малакс, относящемся к 1772 году, мы находим следующую фразу, опровергающую это расхожее мнение: «Куртка опоясывается ремнём, к которому подвешены нож в ножнах и небольшой кошелёк. На поясе несколько пряжек и латунных колец, прикреплённых к ремешку ножен, вероятно, в качестве украшения» [983].
Можно провести определённые параллели с норвежским национальным костюмом, частью которого также являлся нож. Вот как в 1836 году описывал норвежцев Penny magazine: «Все они (норвежские мужчины) носят кожаный пояс, на котором, как правило, висит большой нож, называемый dolkknif. Этот dolkknif они используют для различных хозяйственных работ. По словам Понтоппидана, норвежского священника, описавшего историю своей страны в начале прошлого столетия, крестьяне были весьма задиристы и часто пускали dolkknif в ход во время ссор. Из-за роста ранений, причинённых ножами, ношение dolkknif было запрещено»[984].
Кроме ножей и москули популярными видами традиционного оружия из арсенала «puukkojunkari» также являлись «lederpiska», или кожаный кнут, и «tillbugg». В своём отчёте о положении дел в провинции Вааса за 1805 год губернатор Магнус Ванберг сделал следующую ремарку: «Жители Южной Остроботнии кровожадны и дурного нрава, особенно когда пьяны или обуяны страстями. Свои ножи, которые носятся в ножнах, висящих спереди на поясе, они используют в качестве орудия убийства, но также есть у них и другое оружие, называемое «tillbugg». Изготавливается оно из какого-то твёрдого дерева, окованного железом или наполненного свинцом, и настолько коротко, что легко прячется в руке. Им они часто причиняют своим противникам неизлечимые ранения или даже смерть»[985].
Первое свидетельство об использовании кожаного кнута в кабацкой драке датируется 25 ноября 1795 года и относится к местечку Солф. Капрал Йонас Охман утверждал, что сын фермера по имени Карл Скиннарс ударил его кожаным кнутом, состоявшим из деревянной рукоятки, покрытой кожей, и кожаного бича. Капрал полагал, что в кончик хлыста был вплетён кусочек железа или свинца и вес металла увеличивал силу удара и его эффективность.

27 декабря 1797 года в драке на свадьбе это же оружие использовал фермер из Каухавы Матти Илипуккила, чтобы избить им другого фермера, Юху Эскола. 27 декабря 1811 года в Сейняйоки батрак Яякко Илимарттила использовал кожаный хлыст с вшитым в кончик латунным утяжелителем в драке, начавшейся вскоре после танцев. 15 ноября 1821 года на проезжем тракте в приходе Илистаро сын церковного служки Матти Хьерппе напал на некоего Кустаа Илихарсила с кнутом, который, как утверждали очевидцы, имел «металлический набалдашник». Вероятно, это оружие использовалось и на танцах в Корсхольме в декабре 1822 года, хоня в этом случае название его звучало как «langsate», что на шведском означает «длинная верёвка». Этот предмет, несомненно, являлся орудием, предназначенным для драки, потому что, когда батрак Ионас Лервик продемонстрировал его своим приятелям, они поинтересовались, кого он собрался им избить. Некоторые исследователи считают кнут и «ШІЬидд» одним и тем же видом оружия. Однако, из описания, сделанного губернатором Ванбергом, следует, что это ударное оружие, «настолько короткое, что легко пряталось в руке», скорее представляло собой некий вид кистеня[986].
Все исследователи сходятся во мнении, что в определённый момент ножевые бойцы достали свои ножи из карманов и гордо повесили их на пояс. Но для пууккоюнкари нож уже не был простым аксессуаром или украшением — он превратился в смертоносное оружие, а также в эффективный инструмент террора, Именно террор стал ещё одним, не менее важным фактором, способствовавшим распространению ножа как инструмента для внушения страха. Человек, дравшийся на ножах, приобретал леденящую кровь репутацию, свидетельствующую о его кровожадности и безжалостности. Соответственно, поножовщики с помощью угроз и бахвальства делали всё возможное, чтобы растиражировать свой «инфернальный» образ по всей округе. Так, Яакко Рахикка, батрак из Каухайоки, подкреплял свою репутацию безжалостного поножовщика, рассказывая восхищённым слушателям: «Когда я иду прошвырнуться вокруг деревень, то беру с собой мой нож, и когда кто-то лезет со мной в ссору, то получает удар этим ножом». Йохан Лалл, фермер из Солфа, размахивал ножом в толпе на свадьбе и бахвалился перед гостями: «Когда я бью ножом, то для того, чтобы убить!». Йохан Лервик из Корсхольма отправлялся в деревню каждую субботу и брал с собой наточенный нож. Говорили, что он пьянствовал, вёл безнравственную жизнь и всегда искал любую возможность ввязаться в драку, особенно с теми, кого, как ему казалось, он мог отлупить[987].
 Рис. 14. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
Рис. 14. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
Прототипом для канонического образа ножевого бойца стал печально известный головорез Йохан Инго, фермерский сынок из Корсхольма. Какое-то время он зарабатывал себе на жизнь в качестве арендатора, а позже перебивался случайными заработками. 26 января 1792 года на танцах в Миекабби он ударил ножом солевара Андерса Марандера. Ранение оказалось настолько тяжёлым, что были видны лёгкие жертвы, и Марандер целый год балансировал между жизнью и смертью. Всё это время власти выжидали, так как не могли принять решение, следует ли судить Инго за непредумышленное убийство или только за причинение ранения. Но Марандер выжил. Во время судебного процесса было отмечено, что ранение было «нанесено ножом с необычайно длинным и узким клинком в форме сабли». Деревянные ножны от этого ножа были обнаружены в коридоре танцзала, в котором произошло преступление, но ни один из очевидцев ножа у него не видел. Это свидетельствует о том, что Инго пронёс оружие, скрыв его под одеждой.
В судебном приговоре Инго характеризовался как жестокий, склонный к насилию и высокомерный человек, а его деяние описывалось как «вызвавшее ужас в окрестностях». Одна рука у Инго усохла в результате полученных когда-то ожогов. Возможно, это увечье и послужило основной причиной его предпочтений в выборе оружия, так как нож, как уже говорилось, уравнивал разли-чия в телосложении и позволял человеку физически слабому взять верх. Кстати, не исключено, что и этот фактор также сыграл определённую роль в распространения ножа и росте его популярности в качестве оружия[988].
Но, возможно, на рост популярности ножа в качестве компенсатора физических недостатков повлиял и другой, не менее важный фактор. Назовём его нарушением вербального общения. Так, с позиции психологии, насилие можно трактовать как язык тела. Те, кто не в состоянии защитить себя вербально, или словесно, как правило, прибегают к насилию. Подобный эффект можно наблюдать на примере детей с задержками речи. Они злятся, когда взрослые их не понимают, разбивают игрушки и пускают в ход кулаки. Матти Хаапойя, один из самых известных ножевых бойцов в Финляндии, говорил о себе как о «человеке, не наделённом красноречием». То же самое можно сказать и о другом, не менее прославленном поножовщике, Анти Исотало. Подобным образом в своём классическом романе «Seitseman veljesta» — Семь братьев», изданном в 1873 году, описывал поведение финских мужчин известный финский писатель Алексис Стенвалл, писавший под псевдонимом Алексис Киви. В одном из эпизодов романа братья Юкола, живущие на ферме в лесной глуши, сначала сносят насмешки деревенских мальчишек, молча стиснув зубы, а затем набрасываются на них. Не умея выражать мысли словами, они действуют кулакам[989].
Несколькими годами позже, 29 сентября 1799 года, всё тот же пресловутый Инго задушил некоего батрака, в шутку выбившего из-под него стул в таверне. Сообщив шутнику, что собирается его убить, он силком притащил бедолагу в дом, где задушил на собственной кровати. Вся деревенская дорога была усыпана сломанным штакетником от изгороди, за которую хватался упирающийся батрак. Смертоносные намерения Инго не оставляли никаких сомнений, так как всю дорогу он распевал финский похоронный марш. Но в деревне он пользовался такой жуткой репутацией, что никто не осмелился прийти на помощь несчастному батраку ни по дороге, ни на хуторе, куда Инго приволок свою упирающуюся жертву, хотя батрак и умолял хозяев хутора ему помочь. На следующий день, когда власти явились арестовывать Инго в дом его брата Якоба, у которого он тогда жил, убийца вышел с двумя ножами в руках, цинично заявив: «Мои ножи всё ещё при мне, хотя одним из них я и пырнул этого солевара». После этого он продолжил вести хвастливые речи, столь типичные для ножевых бойцов: «Я уже убил двух мужиков, но не могу сказать точно, убил ли я и свою жёнушку, хотя мамаша меня частенько за это отчитывала». В конце концов он был арестован, осуждён и приговорён к тюремному заключению. В характеристике, предоставленной для Высшего суда, апелляционный суд описал его как необузданного, порочного и жестокого человека[990].
Другими «коллегами» Инго, соперничавшими с ним в кровожадности, были Юха Порренмаки, фермер из Алахярмя, и Якко Греггила, глава прославленной банды из Вахакиро. Ну и, конечно же, фермерский сынок, позже и сам ставший фермером, Матти Сааренпаа из Лапуа, погибший в поединке на ножах 28 декабря 1825 года. О биографии Сааренпаа нам известно следущее. В воскресенье, 2 апреля 1824 года, когда двадцатидвухлетний Матти Сааренпаа возвращался из Вааса, в таверне в Исокиро из-за платы за проезд он ввязался в драку с человеком, подрядившимся довезти его из Лайхиа. Спор закончился тем, что Сааренпаа выхватил из куртки нож и заколол своего возничего. Согласно личной характеристике, он уже и тогда был печально известен своей безнравственностью и имел склонность к всевозможным противозаконным деяниям, таким как драки, нарушение общественного порядка по ночам и кражи.
В ноябре 1824 года он вместе со своей бандой так раскурочил дом Антила в центре Лапуа, что утром там всё выглядело как после сражения: окна были выбиты, телеги во дворе разломаны, а мебель внутри дома разбита брошенными в оконные проёмы камнями. Жители дома подстрелили одного из нападавших, но и после этого банда не разбежалась, и их даже не смутило появление члена местного управления, прибывшего на место событий. Сааренпаа был широко известен и в соседних приходах. Юха Коркиакоски, ремесленник из Исокиро, как-то процитировал циничную фразу Сааренпаа, брошенную им после совершения убийства: «Странные вещи творятся — они хотят посадить человека, который помог ближнему своему попасть в царствие небесное». Таким образом, Сааренпаа, как и Инго, по всем критериям являлся «чистокровным» ножевым бойцом[991].
И финское правительство, и местные власти, и жители Похьянмаа вели отчаянную борьбу с «рииккїципкагі» и с культурой ножевых бойцов в целом. Пастор Габриэль Лагус составил характеристику на Сааренпаа, в которой указал, что уже в 1816 году деревенское собрание Лапуа подавало прошение на имя губернатора провинции с тем, чтобы отправить Сааренпаа в исправительное заведение, так как он уже тогда представлял угрозу общественной безопасности. Однако в канцелярии губернатора провинции Сааренпаа поклялся встать на путь исправления, и, поскольку ему также удалось заставить нескольких людей поручиться за него, он был отпущен на свободу. Вскоре после этого его обвинили в преступлении против собственности, но дело было прекращено из-за недостатка доказательств, и он снова избежал наказания. А через некоторое время после описанных событий произошло вышеупомянутое убийство, наказания за которое он избежал, заплатив семье убитого виру, что в результате закончилась для него сорока плетьми. После совершения убийства Сааренпаа сбежал, и для его поимки был отправлен отряд, состоявший вначале из пятидесяти, а затем и из семидесяти мужчин из Лапуа во главе с полицмейстером округа.
В конце концов на зимней сессии окружного суда за драки, угрозы ножом, нарушение общественного порядка на деревенских трактах и другие правонарушения он в общей сложности был приговорён к такому «суровому» наказанию, как 28 дней тюрьмы на хлебе и воде. После данного случая губернатор провинции всё-таки согласился снова вернуться к рассмотрению ходатайства жителей Лапуа, требовавших, чтобы «этот жестокий и преступный человек, представляющий угрозу общественной безопасности, был выслан из прихода и отправлен в исправительное заведение строгого режима».
На этот раз Сааренпаа обратился с прошением о помиловании к царю, и судебное решение было отменено. Осенью 1823 года он был приговорён к штрафу в 38 рублей за нанесение тяжёлого ранения, нарушение общественного порядка на центральной улице и применение холодного оружия. В 1824 году апелляционный суд Ваасы снова вынес ему приговор — 28 дней тюрьмы за клевету, регулярные пьянки и нарушение субботнего дня. За год до этого суд Ваасы низшей инстанции наложил на него дисциплинарное взыскание за пьянство, вопли и богохульство в публичном месте. Когда он погиб, на нём висело множество обвинений в нападениях и нарушении общественного порядка[992].
Борьба с преступностью велась не только представителями государственных органов — окружными полицмейстерами и судами, но и местными властями в лице приходских и церковных собраний, возглавляемых священниками, а также силами деревенских собраний, которыми руководили избранные народом старосты. В ранних источниках не встречаются упоминания о мерах, предпринятых властями против беспорядков. Скорее мы видим жалобы и сетования частных лиц на прискорбное поведение молодёжи. Больше всего подобных жалоб было зарегистрировано во второй четверти — середине XVIII столетия в шведскоговорящих прибрежных приходах и городах и некоторых наиболее населённых финских приходах.
В своей книге «История Якобсштадта» Алма Содерхьелм отмечает, что первые записи о вандализме и нарушении общественного порядка начали появляться в документах муниципального совета в 1720-1730-х годах. Незваные гости провоцировали драки на свадьбах и танцах, получили распространение азартные игры, выросло количество преступлений против собственности и повсеместный ночной вандализм по отношению к частным домам[993].
В день перед Великим постом молодёжные банды крали лошадей из конюшен и гоняли по округе, разбивая окна придорожных домов, а угнанные повозки бросали разломанными. Ещё одной характерной чертой этих развлечений стали нарушения общественного порядка и исполнение скабрезных песен. В 1750 году в Лапуа поступила жалоба, что в праздничные и воскресные ночи молодёжь начала «прогулки вокруг деревень», совершая при этом разные непотребности. В 1746 году член одной из таких банд утонул в реке Лапуа.
Таким образом, беспорядки начались с формирования молодёжных банд, что постепенно привело к пьянству, азартным играм, «прогулкам вокруг деревень» и вандализму. Соответствие этой картины действительности подтверждается заявлением священника из Солфа Томаса Арениуса, составленным в 1749 году для осенней сессии Окружного суда Малакса. Хотя такое непотребство и не выходило за рамки обычного «бунтарства», но, судя по скепсису Арениуса, ситуация повсюду быстро ухудшалась. Первыми реальными превентивными мерами, предпринятыми местными властями, стали запреты на хулиганское поведение под угрозой штрафа. В 1751 году приходское собрание Лапуа приняло решение оштрафовать нескольких лиц, которые явились незваными на свадьбу, а когда хозяева по их требованию не выдали им еду и питьё, устроили там скандал и разгром[994].
В Вёро в 1749 году были предприняты меры против молодёжи и бродяг, без приглашения являвшихся на свадьбы, «и тех, кто, особенно по воскресеньям и в праздничные дни обходят деревни, буяня и творя беззакония, и на пути своём прорываются на сеновалы, где спят служанки и хозяйские дочери». Для наказания подобных смутьянов окружной суд Вёро утвердил штраф в десять серебряных талеров. В 1769 году Филип Томасон, фермер из местечка Воитби Корсхольмского прихода, жаловался, что хотя танцы и незаконные сборища молодёжи по выходным дням были запрещены постановлением деревенского совета от ноября того же года, но «всё же они продолжают беспрепятственно проводиться». В том же 1769 году в Педерсьоре на приходском собрании обсуждалось, каким образом можно призвать молодёжь к порядку. На этом собрании прозвучало: «С огромным неудовольствием мы вынуждены отметить, что молодёжь, особенно юноши, собираются вместе по субботним и воскресным вечерам, чтобы творить всевозможные неблаговидные поступки и насилие»[995].
 Рис. 15. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
Рис. 15. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
Ночное нарушение спокойствия было запрещено под угрозой штрафа в три медных талера, а также штраф в один талер налагался на родителей, позволивших детям, находившимся под их опекой, покидать дом в неразрешённое время. Доноситель, сообщивший духовенству о допущенных молодыми людьми нарушениях, получал вознаграждение в размере одной трети от суммы штрафа, поэтому найти доносчика не составляло труда.
Люди считали, что проблема коренится в появлении банд и употреблении алкоголя, что, с их точки зрения, и являлось источником всего зла, поэтому все их усилия были направлены на борьбу с незаконными сборищами и ограничением доступности алкоголя. Вскоре это привело к тому, что для обеспечения правопорядка в деревнях стали нанимать сторожей. Первое упоминание о подобной охране встречается в 1805 году в судебных материалах прихода Корсхольм. Но основной функцией сторожей стала не борьба с хулиганством, как это можно было бы предположить, а предотвращение краж.
Страх перед грабителями, и особенно перед взломщиками, явился причиной найма сторожей в Каухаве в 1810 году. Фермер Иисакки Исосомппи попросил другого фермера, Еркки Пелкола, и арендатора Каапо Карьянлахти присмотреть за лошадьми гостей, приехавших на танцы, которые проходили у него в доме. Вскоре оба сторожа подверглись нападению хулиганов. В приходе Лайхиа в Исокуло двое мужчин — солдат Томас Руу и фермерский сын Микко Вари — были наняты для охраны от грабителей в ночь на понедельник 17 февраля 1823 года. Они, как это вскоре вошло в норму, были вооружены ружьём, которое нёс Вари. Необходимость найма сторожей для защиты от грабителей доказывает, что ситуация ухудшалась с каждым днём[996].
Ситуация в городах, особенно в Вааса, была спокойней, так как и власти, и частные лица в случае необходимости могли обратиться за помощью к русскому гарнизону. Но вскоре уже и в сельских районах начали задумываться о получении помощи от русской армии. По крайней мере, в Лапуа, вероятно, по инициативе местного полицейского пристава, эта идея была частично осуществлена, и в приход прислали пятьдесят казаков. Согласно архивным материалам, армейские подразделения впервые были использованы для наведения порядка и законности 9 декабря 1825 года.
Инцидент выглядел следующим образом. В центре прихода в доме Филппула проходил осмотр жителей прихода Лапуа с целью выявления венерических заболеваний. Это осмотр губернатор провинции поручил провести районному врачу Свену Петеру Бергу. Так как осмотр продвигался медленно, появились продавцы алкоголя, и мужчины, ожидающие своей очереди, сильно опьянели. Вскоре вся компания стала шумной, крикливой и беспокойной, начались ссоры. Приходской врач решил, что ситуация стала критичной, отменил осмотр и уехал. Полицмейстер Йоханн ХенрикТиллман, чтобы пресечь продажу алкоголя фермерам, а также арестовать зачинщиков беспорядков и главных смутьянов, вызвал охрану из русских солдат в количестве пятидесяти человек. Солдаты вскоре прибыли, и полицмейстер арестовал троих фермеров — Юлиа Леписто, Яакко Юлисела и Яакко Марттала. Они были доставлены в Лассилу, где Тиллман записал их имена для предъявления обвинения. После этого все они были освобождены и отправлены по домам. Перед тем как уйти, один из смутьянов — Юлиа Леписто ударил русского капрала по фамилии Вальков по голове с такой силой, что того пришлось везти в больницу в Вааса. Командир русских солдат, капитан Бокин, доложил о произошедшем нападении полицмейстеру. По дороге домой Леписто забрёл на ферму Юхи Марттала, где он буянил в гостиной, прыгая на столе и оскорбляя членов семьи. Когда же его вывели во двор, он крикнул Яакко Марттала, сыну хозяина, чтобы тот вышел и они могли уладить свои дела. Когда Марттала вышел, Леписто убил его ударом полена[997].
Этот инцидент демонстрирует, что даже присутствие пяти десятков солдат не смогло помешать совершению преступления. Но в распоряжении приходских и деревенских собраний были и другие средства — нарушителей закона начали высылать из приходов. Злостных возмутителей спокойствия арестовывали по требованию местных властей и как представляющих угрозу для общества отправляли в контору губернатора провинции с просьбой поместить их в какие-либо исправительные учреждения.
В 1816 году в такую ситуацию попал сын арендатора Исайя Сакс. Жители Лапуа послали пьянчугу и хулигана Сакса к губернатору провинции с просьбой отправить его в крепость Виапори на каторжные работы. Но губернатор, как и в случае с Сааренпаа, отклонил прошение и позволил Саксу вернуться домой с условием, что тот останется под наблюдением. Согласно утверждению пастора Габриеля Лагуса, это наказание послужило хорошим уроком для Сакса. Однако встать на путь исправления Сакс не успел, так как вскоре после этого, 12 апреля 1819 года, в Алахярмя он ввязался в спор о наследстве между двумя фермерами — Юха Порренмаки и Туомасом Хейккила и был убит ударом ножа[998].
Если была возможность доказать, что человек является бродягой, то это значительно облегчало его высылку. Поэтому те, кто выглядел как бродяги, старались убедить всех вокруг, что они работники ферм. Очевидно, этот эффект достигался с помощью некоторых сумм и тайных соглашений с хозяевами ферм. Но некоторым из них, особенно цыганам, было непросто использовать эту уловку. Например, цыган Адольф Линдберг, уроженец Юрва, убитый другим цыганом в местечке Перасейнайоки 29 ноября 1823 года, проходил подобную регистрацию почти каждый год. Хотя, согласно утверждению Юха Антила, старосты Перасейнайоки, в действительности Линдберг был выслан из этого прихода ещё в 1822 году.
Запись из Илмайоки, датированная 1822 годом, даёт нам представление о том, как проходила процедура подобного изгнания. В деле фигурирует некий Анти Оллила, обвиняемый в ограблении и убийстве. Авторы обращения в канцелярию губернатора провинции ссылались на решение сельского собрания о его изгнании и апеллировали к губернатору с просьбой отправить его в исправительное учреждение. Оллила описывался как закоренелый преступник, а его пребывание в приходе — как угроза жизни и имуществу местных жителей. Обращение было подписано священником Г. Йоханном Фростерусом и старостой Эллиасом Ханнула[999].
Местные власти также пытались вести борьбу с преступностью, но их старания потерпели крах из-за недостаточного количества и некомпетентности районных полицмейстеров и других служителей закона и правопорядка. Поразительно низкий профессиональный уровень правительственных чиновников в этом округе был отмечен ещё перед исследованиями Вирранкоски. Согласно Ирио Алланену, местные стражи закона были не только малочисленны, но также непорядочны и трусливы.
Так что же положило конец культуре «рииккощпкап» и способствовало закату эры бойцов на ножах? Традиционно считается, что фатальную роль сыграли три основных фактора: движения религиозного возрождения, молодёжные организации и влияние органов закона и правопорядка. Эта точка зрения стала главенствующей в общественном сознании благодаря романам о жизни поножовщиков Похьянмаа, «Puukkojunkkarit» и «Murtavia voimia», писателя и политика конца XIX — начала XX века Сантери Алкио, юность которого пришлась на последние десятилетия существования этой культуры.
Итак, фактор первый: влияние религиозных движений. Евангелистское движение, известное как пиетизм, распространилось в Похьянмаа в 18301840-х годах, и первым плацдармом для него стала шведскоговорящая часть побережья Южной Остроботнии. Другим, не менее важным евангелистским центром, стали такие финскоговорящие области Южной Остроботнии, как Лапуа и окружавшие его приходы — Юлихярма, Илистаро и Нурмо. До появления пиетизма этот район относился к областям, наиболее пострадавшим от поножовщин, и остался таковым и после его распространения. Евангелист-ское движение не оказало существенного влияния на снижение количества убийств, хотя ходили слухи, что многие бойцы на ножах окончили свои дни благочестивыми послушниками в монастырях.
В Вёро и Нюкарлебю между 1838 и 1841 годами обвинение в участии в незаконных собраниях организаций, ратующих за религиозное возрождение, в общей сложности было предъявлено 331 человеку. На каждого из обвиняемых местный священник составлял характеристику для подачи в суд, содержавшую информацию о его предыдущих судимостях. Из этих характеристик можно увидеть, являлся ли тот или иной человек бойцом на ножах или нет. Около десяти процентов обвиняемых имели на своём счету лишь лёгкие правонарушения. Но встречались и более серьёзные преступления, характерные для ножевых бойцов. Благодаря тому, что пиетисты являлись типичными представителями местного населения тех лет, нам хорошо известен социальный состав каждой группы. Бойцы на ножах, как правило, принадлежали к низшим классам, а большая часть пиетистов — к среднему. Более половины пиетистов были женщинами, в то время как среди убийц женщин было всего 5,4 %. Исходя из этих данных, мы с полной уверенностью можем утверждать, что количество ножевых бойцов среди пиетистов было минимальным. Таким образом, теория о влиянии пиетистского религиозного движения на снижение поножовщин в регионе не подтверждается фактами[1000].
Со снижением уровня насилия хронологически совпал ещё один фактор, который, как принято считать, также способствовал исчезновению пууккоюн-кари, — зарождение молодёжных организаций. Эти движения, руководствовавшиеся культурными и образовательными целями, пытались приобщить молодёжь к чтению и пробудить у нее интерес к любительским спектаклям. Они делали акцент на самообразование и строго осуждали стиль жизни, характерный для бойцов на ножах. Первый молодёжный союз было основан в Каухаве в 1881 году, а уже в следующем году было создано Молодёжное объединение Южной Остроботнии с филиалами по всему региону. Основателем каухавской организации, получившей название «Nuoriso-Yhtio» — «Молодёжное общество», стал гравёр Матти Сипола, подрабатывавший дворником в финской гимназии города Вааса. Вот что он рассказывал о целях организации: «Молодые люди объединились вместе в организацию, чтобы противостоять этой чудовищной жестокости. Это не секретное сообщество и не банда нигилистов, плетущая закулисные заговоры. Это молодёжное объединение, основанное в день летнего солнцестояния, чьим девизом является: «Свет для людей»[1001].
Фраза о «чудовищной жестокости» относилась к волне преступности, которая неотвратимо захлёстывала Остроботнию, и основной целью ассоциации было противостояние этому злу. Движение привлекало молодёжь для образовательной деятельности и подводило к необходимости изменений в системе традиционных ценностей. Но несмотря на все усилия, вплоть до 1890-х годов молодёжным движениям не удалось добиться сколь-либо существенных результатов. Да и трудно поверить, что они в одиночку могли бы разрушить устоявшуюся традиционную культуру насилия.
 Рис. 16. Алавиеский союз молодёжи. Похьянмаа, 1917 г.
Рис. 16. Алавиеский союз молодёжи. Похьянмаа, 1917 г.
Прекрасной иллюстрацией к противостоянию защитников старинных устоев и апологетов нового порядка, насаждаемого молодёжными союзами Финляндии, являются многочисленные заметки из финских газет начала XX столетия. В 1911 году газета «Wiipuri» сообщала о целой волне молодёжных поножовщин. В том числе об инциденте, произошедшем на собрании местного союза молодёжи в Хиетамиехенкюле, в результате которого было ранено несколько человек. Конфликт разгорелся в тот момент, когда активисты союза попытались вывести из зала парней и девушек, по старой традиции «гуляния вокруг деревень» явившихся на собрание без приглашения. В том же 1911 году поножовщиной закончился и танцевальный вечер Кеккальского рабочего союза. В результате один человек был убит и несколько гостей получили ранения[1002].
О подобном прецеденте в местечке Хаусярви сообщила и газета «Socialisti». В зал, где проходило собрание местного молодёжного союза, ворвались хулиганы с ножами в руках. Разбив лампы, они в темноте накинулись на сидящих в зале людей. Несмотря на крики о пощаде, нападавшие безжалостно резали ножами всех, кто попадал под руку. По сообщению газеты «Karjala», такой же резнёй закончился и вечер Копралаского союза молодежи[1003]. А в старофинской газете «Uusi Suometar» № 281 за 1909 год, мы читаем: «Не проходит дня, чтобы в газетах не было сообщений о ножевой расправе, драках и убийствах. Зашли так далеко, что в газетах завелся на определенном месте особый отдел «ножевщины» наряду с отделом «спорт»». И младофинская газета «Helsingin Sanomat» № 59 за 1910 год, также писала, что не проходит и дня без того, чтобы не случилось «чего-либо ужасного», и что ножевые расправы и убийства прямо таки относились к «порядку дня». Финская газета «Pohjanmaa» № 94 за 1911 год, отмечала, что ежедневно в стране режут людей ножами самым зверским образом, иногда по самым пустяковым причинам, причём убийцы оправдываются тем, что они были настолько пьяны, что ничего не помнят. Газета «Raja Karjala» № 82 за 1911 год, отмечая несколько происшедших почти одновременно убийств, писала, что «нож, этот пресловутый «пуукко», сделался своего рода «национальным оружием». Эти проявления грубости, по словам газеты, беспощадно клеймили уровень образованности среди низших классов населения Финляндии именем настоящей «ножевой культуры»[1004].
Поэтому вряд ли можно говорить о каких-то глобальных успехах в борьбе молодёжных организаций с культурой пууккоюнкари и кардинальных изменениях в воззрениях сельской молодёжи.
Но существовал ещё один фактор, по времени и месту совпавший со снижением уровня преступности, — эмиграция в Северную Америку. Уже в 1870-х шла эмиграция из нескольких прибрежных исторических регионов Остроботнии, являвшихся центром традиционной добычи смолы, но массовым явлением это стало только в 1880-е, после того как в 1883 году в Вааса, а в 1886-м и в Оулу появилась железная дорога. В среднем из Южной Остроботнии эмигрировало две тысячи человек в год. К 1930 году Атлантику пересекло около ста двадцати тысяч жителей страны. Примерно треть из них позже вернулась, но две трети так и остались в Америке. К 1900 году приходы, наиболее пострадавшие во время бума эмиграции, потеряли тридцать процентов прихожан. Бедняки сначала отправляли за границу родственников или друзей. Те из них, кому удалось заработать, покупали билеты тем, кто в своё время помог им самим оплатить дорогу в Америку. На следующем этапе эмигрировали уже дети фермеров или даже сами фермеры. Видимо, именно этот фактор оказал решающее влияние на падение уровня преступности. «Надо признать, — писал в 1891 году 0. Клеве, священник из Юлихярма, — что эмиграция в Америку явилась благом, так как эта земля обетованная забрала самых отъявленных злодеев»[1005].
 Рис. 17. Молодёжь из Исокюро, Похьянмаа, 1900 г.
Рис. 17. Молодёжь из Исокюро, Похьянмаа, 1900 г.
 Рис. 18. Финские иммигранты на острове Эллис в Нью-Йорке. Начало XX в.
Рис. 18. Финские иммигранты на острове Эллис в Нью-Йорке. Начало XX в.
Существуют свидетельства, подтверждающие слова священника о первом поколении эмигрантов. Финские пилигримы были консервативны в своих привычках и привезли на новую землю обетованную традиции и обычаи далёкой родины, включая ножевую культуру. Так же, как в любой эмиграции, первыми на новые земли прибыли пассионарии-маргиналы. Согласно данным Комиссии США по иммиграции за тот период, в пятнадцати городах Миннесоты больше всего пили финны и славяне. Один пастор вспоминал, что в Пенсильвании финны проводили свободное время в пьянках, драках и за картами. Благодаря дракам и своим ножам-пуукко финские иммигранты стали в Новом Свете притчей во языцех. Корреспондент из Виналхейвена в Мэне упоминал о пьяных финнах, арестованных за появление с ножами в публичных местах. Из Ньюберри в Мичигане также писали об аресте пьяного финна за драку и использование нелегального холодного оружия[1006].
Таким образом, отъезд поножовщиков в Америку значительно улучшил криминогенную ситуацию в Южной Остроботнии. В Америке была возможность построить успешную карьеру, а по возвращении домой — откупить землю у своих братьев и сестёр или же на накопления приобрести ферму в другом месте. Также улучшилось и положение бедняков. «Так как каждый желающий может уехать в Америку, в результате значительно выросла заработная плата рабочих», — утверждал в 1890 году один источник в Юлихярма, приходе, наиболее пострадавшем от эмиграции. Как мы видим, Америка помогла Южной Остроботнии найти выход из экономического и социального тупика, в котором та оказалась. Она предлагала людям новое будущее, путь к успеху и лучшей жизни. Всё эти факторы, а также образовательные программы и новые идеалы, популяризируемые и пропагандируемые молодёжными организациями, снизили привлекательность бойцов на ножах. Тот образ жизни, который они представляли, был присущ людям из низших, а значит, из менее образованных классов, и в конце концов он совсем исчез.
 Рис. 19. Финские иммигранты в Клинтоне, Индиана, 1910–1912 гг.
Рис. 19. Финские иммигранты в Клинтоне, Индиана, 1910–1912 гг.
Но несмотря на то, что эра бойцов на ножах канула в лету в конце XIX столетия, отдельные элементы культуры «рииккоипккагі» остались жить в народной традиции. Как это часто бывает, со временем образы душегубов и головорезов в народном сознании идеализировались и наделялись чертами, характерными для мифов и героического эпоса. Если в России народ воспевал подвиги лихих разбойничков атамана Кудеяра или Стеньки Разина, то в финских тавернах начала XX столетия горячие финские парни, стуча кружками по столам, пели песню «Isontalon Antti Ja Rannanjarv» — «Антти Исонталон и Раннанярви» об эпических деяниях двух легендарных «puukkojunkari» — Антти Исотало по прозвищу Исоо-Антти, или Антти Исонталон, и его приятеля Антти Раннанярви.
Эта парочка прославилась тем, что возглавляла большую банду ((isoo joukко), орудовавшую в Юлихярма с 1856 по 1867 год. Несмотря на то, что Исотало неоднократно обвинялся в совершении различных преступлений, длительное время ему удавалось избегать наказания. Но у любого бандитского фарта есть предел, и в 1869 году он был приговорён к смертной казни за убийство. Однако в итоге приговор был изменен на двенадцать лет каторжных работ в крепости городка Хямеэнлинна. На одной из самых известных «канонических» фотографий, растиражированных литературой, посвящённой «puukkojunkarit», закованные в кандалы Исотало и Раннанярви позируют в каторжанской одежде. Неоднократно фортуна изменяла и другому легендарному бойцу на ножах, Матти Хааппойя, прославившемуся своими дерзкими побегами из местной тюрьмы и даже с сибирской каторги[1007].
С финскими поножовщиками столкнулся и Александр Иванович Куприн, живший в Финляндии в начале 20-х годов. Он писал в воспоминаниях: «Уголовный суд знал за финнами только один вид преступления — убийство в драке. Надо сказать, что эти «угрюмые пасынки природы» вспыльчивы куда больше испанцев и иногда способны в кабачке разрешать обиду ударом пукка (ножа). Но и эти домашние расправы редко доходили до суда: товарищи, друзья, собутыльники и видавшие виды кабатчики умели быстро и самоотверженно прекратить и замять поножовщину»[1008].
 Рис. 20. Антти Раннанярви и Антти Исотало. 1868-69 гг.
Рис. 20. Антти Раннанярви и Антти Исотало. 1868-69 гг.
 Рис. 21. Легендрнный Антии Истаало, Алахярмя, 1910 г. Самули Паулахарью.
Рис. 21. Легендрнный Антии Истаало, Алахярмя, 1910 г. Самули Паулахарью.
Столкнулись с лихими поножовщиками из Похьянмаа и части Красной армии в первую финскую войну 1918–1920 гг. Элеонора Иоффг в «Линиях Маннергейма» писала, что финские банкиры взялись финансировать белую армию и перед началом военных действий перевели 15 миллионов марок в Николайстан (ныне Вааса), куда 19 января 1918 года с частью штаба прибыл Маннергейм. Туда же перебрался и военный комитет, преобразованный в штаб командования, а 28 января в Вааса прибыли четыре сенатора — вполне достаточно, чтобы законное правительство продолжало функционировать и принимать решения.
Этот город в Остроботнии для штаб-квартиры белых был выбран не случайно, так как было известно, что население этого края издавна славится своим упрямым, воинственным и решительным нравом. Теперь народная ненависть была обращена на русские войска, невольно превратившиеся с момента объявления независимости в оккупационные. Финские охранные отряды, формировавшиеся из добровольцев — «шюцкор», в Остроботнии были организованы лучше, чем в других областях, а руководил ими генерал-майор фон Герих, в недавнем прошлом — командующий бригадой в русской армии[1009].
Популярный советский журнал «Знамя», клеймя в 1940 году «палача Маннер-гейма», не забыл упомянуть и его «наймитов и подручных» в войне 1918 года — остроботнийцев, назвав их «мастерами поножовщины» [1010].
В январе 1940 года, в разгар советско-финской войны, прошёл слух о секретном приказе не брать финнов в плен и расстреливать, невзирая на пол и возраст. Объяснялось это тем, что финны, даже будучи ранеными, яростно дрались ножами[1011]. Бывший артиллерист Михаил Иванович Лукинов в воспоминаниях о зимней войне писал: «Было много случаев зверств, когда финны убивали ножами наших раненых, которых не успевали убрать с поля боя» [1012]. Офицер разведотдела штаба 19-й армии Даниил Федорович Златкин рассказал, что, когда его часть попала в окружение, финны поголовно вырезали весь госпиталь. «Там было свыше 150 человек, и всех перерезали… Раненым лежачим, врачам, медсестрам — спокойно перерезали горло!» — вспоминал Златки[1013].
Не обошла поножовщиков вниманием и массовая культура. В 1914 году вышел посвящённый пууккоюнкари фильм «Похьялайсия», снятый по пьесе Арттури Ярвилуома. В 1923 году на основе фильма композитором Лееви Мадетойя была создана опера, известная слушателям как «The Ostrobothnians», а вскоре вышло и два римейка этого фильма — в 1925 году фильм режиссёра Лахденсуо, а в 1936 году — фильм Тойво Саркка. Совсем недавно, в 1998 году, на экраны вышел фильм режиссёра Алекси Мякеля «Hajyt» — «Братки», описывающий историю двух освободившихся из тюрьмы «puukkojunkari» — приятелей Антти и Юсси.
Интересно, что в финской традиции — очевидно, под влиянием культуры ножевых бойцов, а также песен и легенд об удалом поножовщике Антти и его товарищах, — имена Антти и Юсси символизируют мужское начало и считаются именами для настоящих мужиков. Более того, типичные для Южной Похьянмаа серо-бордовые свитера, считающиеся традиционной одеждой «puukkojunkari», называются не иначе как «jussi-paita», или «antti-paita». То есть «рубашка Юсси» или «рубашка Антти». «Юссипайта» упоминается и в песнях — например, в «Pieni Hiace» в исполнении Йопе Руонансуу. Но так как подобных свитеров не увидеть на старых финских дагерротипах второй половины XIX века, я полагаю, что все эти «юсси-пайты» не более чем часть народной лубочной культуры и служат для придания образу ножевых бойцов колорита и романтического флёра.
 Рис. 22. Мужчины из Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 22. Мужчины из Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 23. Антти Исотало. Кадр из фильма «Десять парней из Хярмя», 1950 г.
Рис. 23. Антти Исотало. Кадр из фильма «Десять парней из Хярмя», 1950 г.
В финских источниках фигурируют две основные версии о происхождении этой «униформы». По одной из них, впервые эти свитера появились в спектакле «Остроботнийцы», поставленном Национальным театром в 1914 году. Согласно второй версии, «юсси-пайты» в качестве антуража пууккоюнкари впервые встречаются только в 1925 году в фильме «Похьялайсия».
Специфическими и характерными для Остроботнии ножами, считаются пуук-ко Хярмян (Хярмянмаа объединяет Каухаву, Алахярму, Юлихярму и Кортесярви), они же Юссипуукко. Эти ножи изготавливались в четырёх вариантах: самый маленький — пиккупуукко, женский — найстенпуукко, средний — нормаалипуукко, и большой — Анссин Юкка, в честь прославленного ножевого бойца XIX столетия. Рукоятки Хярмян-пуукко традиционно окрашиваются в тёмно-красный цвет. Иногда поверх красного добавляются три чёрные поперечные полоски. Могу предположить, что это аллюзия на Юсси-пайты — бордово-серые полосатые свитера пууккоюнкари Похьянмаа. Хотя, зная любовь остроботнийских ножевых бойцов к бахвальству, нельзя исключить, что красная краска на рукоятках, как и на клинках испанских навах, была призвана символизировать запёкшуюся кровь. Семейство Раннанярви изготавливает эти ножи с середины XIX века. Основателем династии и первым производителем хярмовских ножей считается родившийся в 1838 году Эркки Раннанярви. Представители семьи утверждают, что он приходился двоюродным братом легендарному пууккоюнкари Антти Раннанярви, герою эпических баллад и одному из главарей банды, державшей в страхе Юлихярму во второй половине XIX века.
Любопытно, что в костюм типичного поножовщика Похьянмаа — шляпу и красно-серый полосатый свитер — одет герой культового фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредерик Чарльз Крюгер, более известный как Фредди Крюгер. Хрестоматийный образ пууккоюнкари дополняют ножи в его руке. Учитывая масштабы эмиграции из Похьянмаа в Соединённые Штаты, тот факт, что немалую часть этих эмигрантов составляли бежавшие от правосудия «puuk-kojunkari», а также «европейскую» фамилию Фредди, это сходство становится особо интригующим.

Рис. 24. Спарка хярмских пуукко работы Юха Раннанярви. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Впрочем, ножевая культура Похьянмаа импортировалась не только в Новый Свет, но и в соседнюю Россию. 21 июля 1726 года вышел известный указ Екатерины, регламентирующий проведение в Петербурге кулачных боёв. Среди прочих высочайших комментариев к этой народной забаве царица высказывает недовольство следующим прискорбным фактом: «Понеже Ея Императорскому Величеству учинилось известно, что въ кулачныхъ бояхъ, которые бываютъ на Адмиралтейской стороне на лугу, позади двора графа господина Апраксина и на Аптекарскомъ острову и въ протчихъ местахъ во многолюдстве, отъ которыъ боевъ случается иногда, что многия, ножи вынувъ за другими бойцами гоняются…»[1014].
В. Лебедев, автор исследования, посвящённого традиции кулачных боёв в России, считает, что в этом отрывке речь шла именно о финнах, так как, с его точки зрения, для русских кулачных бойцов подобная практика была не характерна.
 Рис. 25. Ножедел из Хярмя, один из основателей известной династии, Юха (Йоханнес) Раннанярви (1873–1931). Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 25. Ножедел из Хярмя, один из основателей известной династии, Юха (Йоханнес) Раннанярви (1873–1931). Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
В 1913 году Лебедев писал в своей работе: «Кулачные бои происходили почти исключительно зимою, и преимущественно на Масляной, Великим постом и по воскресеньям; в Москве собирались на реке под Симоновым монастырем, под Девичьим, у гор Воробьевских и в окрестностях фабрик. В Петербурге на Неве, на Фонтанке, где бились охтяне с фабричными и где злобные чухонцы обращали забаву чисто русскую и незлобливую в бойню — они пускали в ход ножи и наносили кровавыя раны»[1015]. Любопытно, что первая часть этой статьи, опубликованной в альманахе «Русская старина» № 155 за 1913 год, подписана «В. Лебедев», а вторая половина, «А.А. Лебедев».
Как известно, чухонцами, или чухной, называли финские племена карельского происхождения — эйремейсет и савакот, жившие в окрестностях Петербурга, в Царскосельском, Шлиссельбургском и Петергофском уездах. К началу XX столетия насчитывалось около ста тысяч «чухонцев». Говорили они на местном диалекте финского языка и исповедовали лютеранство[1016].
Не исключено, что и указ Петра Алексеевича о запрете остроконечных ножей от 1700 года в первую очередь также относился именно к «чухонцам», однако из-за недостатка свидетельств это предположение можно рассматривать исключительно на правах версии.
В 1890-х годах среди петербуржцев вошло в моду жить в Финляндии, по большей части в пределах Курортного района. Эти места облюбовала интеллигенция: врачи, адвокаты, писатели, художники. Многие строили там собственные дачи. Туда привлекала красивая, здоровая местность, близость моря, отсутствие скученности. Целый ряд заграничных товаров: табак, сигары, кожа, эмалированная посуда, ткани — там стоил дешевле, чем в Петербурге. Это объясняется тем, что хотя Финляндия и принадлежала России, но сохраняла некоторую самостоятельность, в том числе и свои таможенные законы. Ввоз целого ряда заграничных товаров в Финляндию облагался более низкой пошлиной, чем в Российской империи. Как бы в отместку за то, что русские раскупали товары в Финляндии, финны в воскресный день целыми поездами приезжали в Белоостров истреблять русскую водку — в Финляндии ввоз ее был воспрещен. Русские тоже не прочь были выпить в праздник. Поэтому в кабаках часто вспыхивали ссоры, драки и даже поножовщина — у каждого финна был с собой национальный финский нож-пуукко[1017].
Надо отметить, что финские ножевые бойцы не только совершали туры в Белоостров, но бесчинствовали и в самой Финляндии. В ноябре 1907 года почтовый поезд, шедший из остроботнийского местечка Коккола, расположенного неподалёку от Вааса, подвергся нападению пууккоюнкари в количестве около ста человек. Хулиганы забрались в вагоны и ограбили пассажиров, ранив при этом несколько человек ножами. Перед станцией налётчики покинули поезд, не забыв перерезать телефонную линию. Вагоны оказались буквально залитыми кровью[1018].
Не отставали от своих соплеменников и карелы. Любопытное свидетельство оставила русская актриса, жена известного актёра и режиссёра Александра Таирова, Алиса Георгиевна Коонен, которой в детстве пришлось стать невольным очевидцем поножовщин. Происходило это на рубеже XIX и XX столетий в расположенном в Тверской области селе Микшино, населённом карелами. Коонен писала в своих воспоминаниях: «В большом торговом селе Микшино в престольный праздник на площади перед трактиром устраивалась «поножовщина», устраивалась не как драка, а скорее как азартная игра. Но, попав с теткой в толпу, из которой невозможно было выбраться, я кричала, умирая от страха, и в то же время не могла оторваться от этого дикого зрелища, когда мужики, сверкая ножами, с ловкими прыжками и азартными выкриками кидались друг на друга. Конец «поножовщины» бывал еще более диким. Бабы уносили мужиков в избы, засыпали распоротые животы солью и заливали мочой. И вот что удивительно, лечение это помогало»[1019].
 Рис. 26. Парни из Хярмя на отдыхе. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 26. Парни из Хярмя на отдыхе. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Конечно, абсурдно даже сравнивать пууккоюнкари с махо, баратеро, гаучо, булли или фуурфехтерами Амстердама. Эни были обычными сельскими хулиганами и мало интересовались сложными хитросплетениями дуэльных ритуалов и кодексов чести, а их «поединки» представляли собой самые заурядные поножовщины, не регулирующиеся никакими правилами или нормами. А как известно, именно соблюдение ритуалов, норм и правил является пограничной межой, отделяющей дуэль от банальной драки с поножовщиной. Хотя, с другой стороны, эти поножовщины нельзя назвать и спонтанными всплесками насилия. Скорее можно провести некую параллель между культурой пууккоюнкари с их «гулянием вокруг деревень» и традицией междеревенского насилия в России, принимавшего форму как индивидуальных, так и групповых кулачных боёв.
Многие исследователи считают распространение хулиганства и поножовщин в сельских районах некоторых европейских стран в конце XIX века общей тенденцией. Особенно это явление коснулось таких преимущественно аграрных государств с преобладанием сельского населения и превалированием сельского хозяйства, как Финляндия и Россия. В работах специалистов по социальной истории, изучавших крестьянскую культуру России, описание сельского хулиганства полностью соответствует основным характеристикам культуры пуук-коюнкари и поразительно напоминает все пороки и выходки, типичные для финских поножовщиков. Немало внимания феномену сельского хулиганства в российских деревнях в период 1856–1914 гг. уделил в своей фундаментальной работе о русской деревне профессор истории Калифорнийского университета, специалист по крестьянской социальной истории Европы и особенно по социальной истории России Стивен Франк.
Он писал, что перед Первой мировой войной местные власти больше всего были обеспокоены, казалось бы, спонтанными и бесцельными актами насилия со стороны сельских хулиганов. Так, во время одного из инцидентов они порвали учебники школьников, возвращавшихся домой с уроков, в другом случае прервали экзамены в школе, а затем бесчинствовали на улице перед школьным зданием, разбивая окна и двери. Рязанские областные власти, пытаясь объяснить появление этой чумы хулиганства, были единодушны в том, что среди основных причин был низкий уровень культуры. Всё больше и больше жителей российских деревень становились одержимыми искусственными потребностями, спуская деньги на яркие тряпки и другие вещи, не относящиеся к предметам первой необходимости. В качестве дополнительных причин приводились и такие факторы, как недостаток образования и слабое влияние школы, плохое воспитание, недостаток контроля за детьми, особенно за теми, кто рано бросил школу, слабые моральные устои, пьянство, незаконная торговля спиртным, чрезмерное количество праздников и отсутствие нормальных развлечений.
Конечно же, среди основных причин появления хулиганства был и распад традиционного крестьянского общинного уклада жизни с его патриархальными нормами. Определённую роль сыграла и выдача внутренних паспортов членам семьи без разрешения главы семейства. Среди всех этих факторов особо были выделены рост потребления спиртного и незаконная торговля алкоголем, распространившаяся после введения в 1894 году государственной монополии на спиртные напитки. Этот скачок в массовом употреблении спиртного развращающе подействовал на сельскую молодёжь и стал основным источником хулиганства.
Средний возраст деревенских хулиганов колебался между 12 и 20 годами, хотя были среди них и люди средних лет — в основном бывшие уголовники или алкоголики, у которых не было своего хозяйства. Хулиганы сбивались в банды для совместных пьянок и развлечений, а также для совершения краж и актов мести, среди которых в основном были поджоги. Так как хулиганы не столкнулись с эффективным противодействием, это явление продолжало распространяться. Деревенские власти были напуганы и дистанцировались от этой проблемы. Полиция из-за своей малочисленности, также оказалась неэффективна. Суды часто были бессильны, так как в делах о хулиганстве обвиняемые нередко запугивали свидетелей, и те отказывались давать показания. Но даже в том случае, когда хулиганам всё-таки выносили обвинительные приговоры, они были поразительно мягкими. Так, за срыв церковной службы или демонстрацию вопиющего неуважения к святыням — например, прикуривание от лампад перед иконами или аплодисменты дьяку, читающему Евангелие, виновника приговаривали всего к семи дням ареста.
Местные власти жаловались, что церковь не могла повлиять на борьбу с хулиганством, а школы не уделяли никакого внимания надлежащему воспитанию детей. Убедившись, что можно с лёгкостью нарушать закон, избегая при этом наказания, хулиганы становились всё более смелыми и дерзкими, превращая жизнь односельчан в ад. Подростки неуклонно продолжали пополнять ряды этой армии хулиганов, а родители всё так же закрывали глаза на то, чем занимаются их дети.
В 1913 году в Санкт-Петербурге прошла межведомственная конференция, посвящённая вопросам борьбы с хулиганством. Участники конференции пришли к выводу, что на появление и рост хулиганства также повлияли и такие факторы, как развитие обрабатывающей и добывающей промышленности, что в свою очередь привело к увеличению рабочего класса и к изменению условий жизни сельских жителей. Также на рост и распространение хулиганства, несомненно, повлияли освободительные движения, и особенно события 19041906 гг. Беспорядки фатальным образом воздействовали на неокрепшие умы наименее морально и нравственно устойчивых жителей деревни, понимавших свободу исключительно как отрицание всякой власти.
Под влиянием революции 1905 года, а также в результате распространения порнографической литературы и прессы нравственность катастрофически снизилась, что во многих местах привело к полному краху религиозности, распаду института семьи и отрицанию родительских прав. В марте 1913 года православная церковь попыталась провести собственное расследование с помощью опроса сельских священников и дьяков. Как показали результаты опроса, хулиганы демонстрировали неуважение к духовным лицам и местным чиновникам, сквернословили, предавались пьянству и праздности, носили с собой ножи и другое оружие[1020].
Тобольский епископ Алексей писал, что особенно по праздникам люди не могут выйти из дома, так как совершенно не уверены, что не подвергнутся оскорблениям или даже избиению. Хулиганы оскорбляли честь и достоинство односельчан, особенно женщин, ломали дома и другую собственность, издевались над животными, грубили старикам, непочтительно относились к родителям. Ширились безверие, неуважение к святой церкви, пьянство, сексуальная распущенность, потеря работоспособности, полная свобода от всех законов и социальных норм.
Среди причин роста сельского хулиганства в епархиальном докладе также подчёркивались всё растущее отсутствие страха и уважения перед законом и судом, ослабление семьи, миграция рабочей силы в город и его тлетворное влияние на деревенскую молодёжь, общий упадок морали и веры, что проявлялось в отсутствии уважения к старшим и власти, в пьянстве и незаконной торговле спиртным. От Архангельска до Екатеринославля, от Новгорода до Тамбова и до Волыни на юго-западе все священники в качестве фактора, развращающего молодых крестьян, назвали отъезд на заработки, что позволяло им в течение длительного времени избегать родительского контроля. По мнению епископа Курской епархии Степана, всего нескольких месяцев работы в городе на фабрике было достаточно, чтобы испортить сельских ребят.
 Рис. 27. Суд над хулиганами-чубаровцами, 1926 г.
Рис. 29. Хулиганская тактика — удар ножом в почку. Россия, 1930-е.
Рис. 27. Суд над хулиганами-чубаровцами, 1926 г.
Рис. 29. Хулиганская тактика — удар ножом в почку. Россия, 1930-е.
Священники в числе основных причин роста хулиганства также называли революцию 1905 года с её антиправительственными выступлениями, погромами и беспорядками. Кроме этого, в продолжающихся социальных беспорядках и падении нравственности они обвиняли и левые политические партии.
Харьковский епископ писал в 1913 году, что все священники единодушны во мнении, что безнравственность и распущенность пустили свои корни среди молодёжи именно после событий 1905–1906 годов. Этот бунт против власти и закона имел самое пагубное влияние на молодых людей, заразив их духом протеста, бунтарства и анархии. Херсонский епископ Назарий наряду с пагубным влиянием революции отметил и причастность левой и либеральной прессы, защищающей моральную распущенность, превозносящей беззаконие и идеализирующей бесшабашную отвагу, бандитизм и кровожадность[1021].
То, что до конца XIX столетия поножовщина была нехарактерна для русской деревни, отмечали многие авторы. Евгений Михайлович Балашев в работе «Школа в российском обществе 1917–1927 гг.», упоминая этот период, отметил, что «обычай кулачных драк постепенно стал приобретать форму хулиганства, а кулачный бой все чаще заменяла поножовщина»[1022]. Журнал «Русское богатство» за 1912 год жалуется на появление поножовщин и сетует, что если «и раньше на сельских праздниках бывали драки, то теперь ни одна ярмарка не обходится без двух-трёх зарезанных»[1023].
Конечно, можно было бы списать всё вышесказанное на предвзятость и ангажированность царских чиновников и православных клириков, однако все эти данные подтверждаются и советскими источниками. Не менее кровавыми подробностями деяний сельских хулиганов пестрят и отчёты ВЧК-ОГПУ-НКВД, датированные двадцатыми годами.
В этих отчётах мы встречаем упоминания о том, как в ряде случаев вооруженная хулиганствующая молодежь становилась бичом жителей целых селений. Так, в Брянской губернии в деревне Колтово, затерроризированные хулиганами крестьяне ложились спать в ожидании нападения, положив под руку топоры. В Ульяновской губернии, в трех селениях Ардатовского уезда, крестьяне каждую ночь ждали поджога от шайки хулиганов, уже второй год совершавшей грабежи и поджоги. Хулиганы подбрасывали крестьянам анонимки: «За это лето пустим 25 огней, мы ничего не боимся».
Следует особо отметить организованный характер хулиганства, приближавший его по форме к бандитизму. Так, в Кременчугском округе, в селе Песчаном, шайка хулиганов из десяти человек ранила одного из крестьян хутора Гориславцы и после неудачной попытки большой толпы крестьян, доходившей до 300 человек, устроить над хулиганами самосуд организовала нападение на крестьян хутора, едущих в город Кременчуг. В Армавирском округе, в селе Богословском, группа хулиганов из 15 человек, называвшая себя «волчьей сотней», избивала крестьян и насиловала женщин. Ряд подобных шаек был зарегистрирован и по Сибири[1024].
Противостояние хулиганов и комсомола поразительно напоминает конфликт пууккоюнкари и молодёжных организаций Финляндии. Так, в Псковской губернии, в селе Криухи, толпа пьяных хулиганов, вооруженных кольями и ножами, ворвалась в помещение, где происходил устроенный комсомольцами митинг, и с криком «Всю соввласть перебьем!» набросилась на представителей местной власти. В Саратовской губернии, в деревне Метровой, толпа пьяной молодежи, ворвавшись в помещение, где заседала конференция ВЛКСМ, начала скандалить и, когда милиционер попросил оставить помещение, набросилась на него с ножами. В Калужской губернии, в селе Макарове, пьяная компания крестьян, явившись на заседание суда, сорвала его работу. В Ульяновской губернии, в селе Каюшево, толпа крестьян из 50 человек по выходе из церкви разгромила избу-читальню, изорвала портреты вождей и избила находившихся в ней комсомольцев. В Прилукском (Украина) и Барнаульском (Сибирь) округах, в некоторых селах хулиганами была сорвана работа ликбезных пунктов. В Бийском округе хулиганы разогнали учительскую конференцию. В Красноярском — группа хулиганов на собрании крестьян, посвященном Дню печати, изорвала знамя батрачкома и открыла стрельбу и т. д. В Бурят-Монгольской республике, в селе Корсаново, группа кулацкой молодежи из 20 человек во время спектакля напала на Народный дом, крича: «Мы пришли громить Бурреспублику, коммунистов и комсомольцев[1025].
Эффективность борьбы с сельским хулиганством в России была столь же удручающе низкой, как и при попытке финских властей покончить с культурой пууккоюнкари. Слабая борьба низовых органов власти с хулиганами и безнаказанность последних вызывали сильное недовольство крестьян. «Почему молодежи не ходить с ножами и не резать народ, если за это слабо карают?» — заявляли крестьяне Тверской губернии. В районах наибольшего распространения хулиганства со стороны крестьян всё чаще слышались угрозы самочинных расправ с хулиганами. В Томском округе, например, на собраниях и сходах крестьяне заявляли: «Милиция не принимает мер против пьянства и хулиганства; мы сами будем убивать тех, кто это делает, — иначе жить нельзя». В селе Кундулук Иркутского округа крестьяне после ареста бедняка, убившего хулигана-рецидивиста, подали уездному прокурору прошение об его освобождении.
 Рис. 28. Ударная группа по борьбе с хулиганством, Россия, 1920-е.
Рис. 28. Ударная группа по борьбе с хулиганством, Россия, 1920-е.
Характерен факт стремления крестьян организовать «самооборону» для защиты от хулиганов, как это происходило в Донском округе. В Черноморском округе, в станице Ростагаевской, население заявляло, что, если хулиганы не будут высланы, придется «организовываться в секретные группы и поодиночке уничтожать хулиганов»[1026].
В советском журнале «Печать и революция» за 1925 год описывались случаи, когда в Тверской области парни, отправляясь на гулянку, обматывали тело под одеждой холстом для защиты от ножа[1027].
Тем не менее не вызывает никаких сомнений, что именно благодаря финским поножовщикам традиционный финский нож — финка стал в России не просто культовым оружием, но также легендой, символом и даже культурным феноменом. И знакомые с детства хрестоматийные строчки Сергея Есенина о «финском ноже», который «саданут под сердце в кабацкой драке», и леденящий душу образ финки в народном сознании, и иррациональный страх,вызываемый одним только названием этого ножа, — всё это отголоски давно исчезнувшей культуры ножевых бойцов Похьянмаа.
Глава VII
КРОВЬ И ЧЕСТЬ ЭЛЛАДЫ
Дуэли на ножах в Греции

 Из всех народных дуэльных культур греческая традиция поединков на ножах относится к наименее изученным. Длительное время игнорирование культуры народной чести являлось общей тенденцией для большинства этнографов, фольклористов, социологов и культурологов. Но даже на этом общем безрадостном фоне и с учётом ничтожного количества работ, посвящённых традиции народных дуэлей, Греция стоит особняком. Если говорить точнее, речь пойдёт не о материковой части страны, а об Ионических островах, где эти дуэли и процветали.
Происхождение этих поединков чести покрыто мраком, и о том, как и когда они появились на древней земле Эллады, мы лишь можем делать осторожные предположения. Можно предложить множество версий и теорий, но все они не выходят за рамки спекуляций. Так, например, учитывая, что Ионические острова длительное время находились под протекторатом Венеции, нельзя исключить влияние венецианской традиции. Путешественник Тертиус Кендрик, побывавший на Ионических островах в начале XIX века, отмечал, что «рядом с городом Форт Абрахам, с правой его стороны, расположена деревня Мандучио, жители которой имеют обыкновение носить длинные и острые ножи: обычай, очевидно доставшийся им от венецианцев»[1028]. Но давайте попытаемся рассмотреть и другие возможные факторы, предположительно способствовавшие появлению на этих греческих островах культуры дуэлей на ножах.
Итак, версия первая. В июле 1823 года известный английский поэт-романтик, автор «Чайльд-Гарольда» Джордж Ноэл Гордон Байрон на собственные средства приобрёл судно, оружие и продовольствие, нанял и снарядил несколько сотен солдат и отплыл в охваченную революцией Грецию на помощь к повстанцам, ведущим неравный бой с армией Османской империи. В 1824 году, незадолго до смерти, тяжело больной Байрон написал стихотворение «Песнь Сули», более известное как «Ода сулиотам»:
Из всех народных дуэльных культур греческая традиция поединков на ножах относится к наименее изученным. Длительное время игнорирование культуры народной чести являлось общей тенденцией для большинства этнографов, фольклористов, социологов и культурологов. Но даже на этом общем безрадостном фоне и с учётом ничтожного количества работ, посвящённых традиции народных дуэлей, Греция стоит особняком. Если говорить точнее, речь пойдёт не о материковой части страны, а об Ионических островах, где эти дуэли и процветали.
Происхождение этих поединков чести покрыто мраком, и о том, как и когда они появились на древней земле Эллады, мы лишь можем делать осторожные предположения. Можно предложить множество версий и теорий, но все они не выходят за рамки спекуляций. Так, например, учитывая, что Ионические острова длительное время находились под протекторатом Венеции, нельзя исключить влияние венецианской традиции. Путешественник Тертиус Кендрик, побывавший на Ионических островах в начале XIX века, отмечал, что «рядом с городом Форт Абрахам, с правой его стороны, расположена деревня Мандучио, жители которой имеют обыкновение носить длинные и острые ножи: обычай, очевидно доставшийся им от венецианцев»[1028]. Но давайте попытаемся рассмотреть и другие возможные факторы, предположительно способствовавшие появлению на этих греческих островах культуры дуэлей на ножах.
Итак, версия первая. В июле 1823 года известный английский поэт-романтик, автор «Чайльд-Гарольда» Джордж Ноэл Гордон Байрон на собственные средства приобрёл судно, оружие и продовольствие, нанял и снарядил несколько сотен солдат и отплыл в охваченную революцией Грецию на помощь к повстанцам, ведущим неравный бой с армией Османской империи. В 1824 году, незадолго до смерти, тяжело больной Байрон написал стихотворение «Песнь Сули», более известное как «Ода сулиотам»:
Дети Сули! Киньтесь в битву,
Долг творите, как молитву!
Через рвы, через ворота:
Бауа, бауа, сулиоты!
Есть красотки, есть добыча —
В бой! Творите свой обычай!
Знамя вылазки святое,
Разметавшей вражьи строи,
Ваших гор родимых знамя —
Знамя ваших жен над вами.
В бой, на приступ, стратиоты,
Бауа, бауа, сулиоты!
Плуг наш — меч: так дайте клятву
Здесь собрать златую ж: атву;
Там, где брешь в стене пробита,
Там врагов богатство скрыто.
Есть добыча, слава с нами —
Так вперед, на спор с громами![1029].
Чем же были славны эти выходцы из Сули, вызвавшие восхищение Байрона, и какими воинскими подвигами заслужили они себе право быть увековеченными поэтом? Воспетые великим романтиком «дети Сули» ведут происхождение от греков, бежавших в XVII столетии от турецкого гнета в горы Сули. В 1730 году количество сулиотов не превышало ста семейств. В половине XVIII столетия они захватили часть соседних мусульманских округов Маргарита и Парамифии. Население этих земель оказалось в зависимости от них и получило название «парасулиоты». Почти все сулиоты принадлежали к греко-кафолической церкви и родными языками считали греческий и албанский. Занимались они скотоводством и земледелием, и управляли ими их главари — капетаны. Так как сулиоты нуждались в лугах для выпаса скота и полях для выращивания хлеба, они решили платить властям города Дельвина — сегодня это Южная Албания — оброк в размере 30 пар, или 45 копеек, с человека. Но основные средства к существованию им давали разбойничьи набеги на соседей — мусульман. Широко известны прецеденты, когда с целью получения выкупа они захватили в плен шестьдесят беев, а также отбили у турок 30 окрестных деревень.
Императрица Екатерина II пользовалась услугами сулиотов в борьбе против турок и в свою очередь помогала им. Благодаря этой поддержке они довольно долго были в состоянии выдерживать борьбу со знаменитым военачальником Али-пашой Янинским. В 1790–1792 годах военная удача была на стороне сулиотов. Двадцать шесть лет они мужественно отражали все нападения турок. В этой войне прославились имена Кича, Ламбра, Фотия Джавелы, Дракоса, Зерво-са, Иеролинаха Самуила, а также женщин-сулиоток Моско и Хайдо. Только в 1800 году Али-паша решился повторить нападение на Сули, но безуспешно. Даже измена одного из сулиотских вождей, Георгия Боцариса, мало помогла ему. В результате, будучи не в состоянии сломить сопротивление горцев, он должен был довольствоваться блокадой горных проходов, ведущих в их область. Только в 1803 году силы сулиотов были надломлены[1030].
 Рис. 1. Мужество сулиотских женщин. Альфонс Мари де Невиль, 1865 г.
Рис. 1. Мужество сулиотских женщин. Альфонс Мари де Невиль, 1865 г.
 Рис. 2. Горец Крита.
Рис. 2. Горец Крита.
 Рис. 3. Сулиоты, А. Риксен, 1915 г.
Рис. 3. Сулиоты, А. Риксен, 1915 г.
Мужеством и свирепостью эти горцы ничем не уступали другим своим соплеменникам, маниотам, или наводившим на турок ужас горцам Крита — сфаки-отам. Так же как и те и другие, сулиоты жили набегами, придерживались древних традиций и строго соблюдали старинные обычаи и кодексы чести. Кроме этого, для сулиотов были характерны воинские пиррические пляски. Тертиус Кендрик описывает подобный ритуал, свидетелем которому он стал на одном из Ионических островов в 1822 году: «Два сулиота начали танцевать пиррический танец: обнажив кинжалы, они совершали ложные выпады друг против друга, разворачиваясь, когда казалось, что сейчас острие коснётся тела; они начали двигаться медленным подпрыгивающим шагом, что продолжалось несколько минут»[1031].
Женщины сулиотов, как и их мужья, отличались отвагой, презрением к смерти и ставили честь превыше жизни. Прекрасной иллюстрацией к этому может послужить получивший широкий резонанс трагический инцидент, известный как «танец Залонго». После того как во время Сулиотской войны в декабре 1803 года горцы потерпели поражение от армии Али-паши, они начали покидать свои деревни. Во время отхода небольшая группа сулиотских женщин и детей была окружена османскими войсками в горах Залонго, в Эпире. Чтобы избежать плена и рабства, женщины сбросили своих детей с утёса, а затем и сами последовали за ними. Согласно легенде, они бросались в пропасть одна за другой, танцуя и распевая песни. Вскоре этот драматическая история стала известна во всей Европе. На Парижском салоне 1827 года французский художник Ари Шеффер выставил две картины в романтическом стиле, одна из которых, посвящённая этому событию, называлась «Les Femmes Suliotes» — «Сулиотские женщины». В наши дни на горе Залонго в Кассопэ можно увидеть памятник, установленный в их честь[1032].
 Рис. 4. Жители острова Закинф. Андре Грассе де Сен-Совер, 1799 г.
Рис. 4. Жители острова Закинф. Андре Грассе де Сен-Совер, 1799 г.
Сулиоты, как и многие другие горцы, жили жёстко регламентированной клановой системой. Самыми известными кланами являлись: Antonopoulou, Kapralaioi, Setaioi, Douskaioi, Dentaioi, Tzavaraioi, Zervaioi, Zygouraioi[1033].
Но каким образом сулиоты, жители материкового Эпира, оказались на Ионических островах? Словарь Брокгауза и Ефрона лаконично сообщает, что в 1803 году часть сулиотов перешла на Ионические острова, где прославилась участием в борьбе греков за освобождение. Переселившись на Ионические острова, сулиоты не превратились в мирных землепашцев, а принимали на себя обязанности военной службы по отношению к различным державам — России, Франции, Англии, под властью которых последовательно находились эти острова[1034].
Казалось бы, этого достаточно для вывода, что на формирование культуры чести и традиции поединков на ножах у ионийских греков повлияли не только венецианцы, но и воинственные и свободолюбивые сулиоты. Но всё далеко не так однозначно. Ещё задолго до того, как к берегам Ионических островов подошли первые корабли с сулиотами, в этих местах оставили след их не менее воинственные соотечественники. Ещё в конце XV века, за три столетия до появления на островах первых сулиотов, Венецианская республика перевезла на принадлежавшие ей острова Корфу, Кефалинию и Закинф несколько подразделений легендарных стратиотов — безжалостных наёмных солдат, покрывших себя славой в боях с турками. Большинство этих подразделений формировалось из рекрутов, набранных из легендарных маниотов или же из жителей христианских областей Албании. Согласно профессору Николасу Паппасу, страдиоты оставались на Ионических островах в службах Венецианской республики ещё три столетия, до конца XVIII века[1035].
 Рис. 5. Житель континентальной Греции. Рис. 6. Горцы Греции. Андре Грассе де Сен-Совер, 1799 г.
Рис. 5. Житель континентальной Греции. Рис. 6. Горцы Греции. Андре Грассе де Сен-Совер, 1799 г.
Начиная с конца XVIII века вся история Ионических островов представляет собой бесконечную политическую чехарду. С 1204 года контроль над Корфу, или как его называют сами греки — Керкира, а с 1502-го и над остальными Ионическими островами перешёл к Венеции, под чьим протекторатом они и находились до 1797 года[1036], после чего перешли под правление покорителя Венеции Наполеона Бонапарта[1037]. Но уже в 1799 году объединённые силы России и Турции изгнали французов, и император Павел I с помощью адмирала Ушакова основал на Ионических островах так называемую Республику семи островов под совместным русско-турецким правлением[1038]. Вскоре, в 1807 году, по Тильзитскому миру острова снова отошли к Франции, а в 1809 году были захвачены англичанами, кроме Корфу, полученному Англией позже, в 1814 году. Таким образом, Ионические острова получили некую форму самоуправления, но под английским протекторатом.
Маниоты, сулиоты, наёмники-страдиоты, венецианцы, французы… Трудно сказать, какая из этих культур оказала наибольшее влияние на формирование воинственного нрава ионийцев и их культуры чести, а также на появление народных дуэлей на ножах. Единственное, что можно утверждать с определённой долей уверенности, это то, что традиция народных поединков была импортирована извне. Основанием для подобных утверждений служит тот факт, что в отличие от других стран, где процветали плебейские дуэли на ножах, у крестьян Ионических островов не существовало моделеобразующего слоя — то есть социальной группы, служащей образцом для подражания, чьи манеры и традиции можно было бы копировать. Если низшие слои Италии или Испании могли заимствовать развитые дуэльные традиции своего нобилитета, то ионийцы такой возможности были лишены. Ионийская аристократия на дуэлях не дралась. Было зарегистрировано всего несколько случаев, когда члены дворянских родов убивали друг друга, но это случалось редко и не на дуэлях. Причина, вероятно, в том, что аристократия на этих островах была организована в рамках относительно узких патриархальных групп, у каждой из которых состояла на службе вооружённая банда головорезов, или «брави». Таким образом, дворянские группировки Ионических островов воевали друг с другом чужими руками, используя наёмные банды из низших классов. Кроме того, учитывая, что на островах превалировал дух вендетты, вельможные синьоры должны были быть крайне осторожны в подстрекательстве к конфликту, так как этим они могли спровоцировать разрушительную междоусобицу[1039].
Итак, покончим с этническими изысканиями и вернёмся на Ионические острова первой половины XIX столетия. Эта часть островной истории нас интересует больше всего, так как именно период английского протектората совпал с расцветом поединков на ножах. Или правильнее было бы сказать, что в этот период народные дуэли были лучше всего описаны. Как сказал об Ионических островах Чарльз К. Таккерман, консул США в Греции в 1860-х годах, «во многих уголках этой страны нож так же быстр, как и язык». Это подтверждается и свидетельствами очевидцев, и многочисленными архивными документами уголовного судопроизводства тех лет. Уильям А. Гудисон как-то сказал об ионийцах, что клинок был «средством непосредственной реализации их мести» и что слишком часто они «пользовались правом замахнуться мрачным ножом и кровавым стилетом на грудь беззащитной невинности». Тенденцию островитян хвататься за нож по любому поводу отмечали многие офицеры колониальной администрации, а также путешественники, посещавшие острова в период британского владычества[1040].
Многочисленные материалы полицейских и судебных протоколов эпохи протектората свидетельствуют о том, что дуэли на ножах на Ионических островах были явлением обыденным и повседневным. Масштабы этих дуэлей поражают своим размахом. Основываясь на официальных данных, можно утверждать, что среднегодовая норма убийств на Керкире и Кефалинии составляла более 12 убитых на каждые 100 000 жителей, а общая статистика, включавшая как убийства, так и покушения на убийство, — 37,9 на 100 000. Примерно 20 % от общей статистики по убийствам составляли дуэли на ножах. Оба этих показателя значительно выше, чем сопоставимая статистика по другим сельским регионам Европы, например, во Франции, Англии, Германии, Испании и Италии. Только некоторые города Сицилии, такие как Палермо, и, может быть, ещё сельские районы Корсики середины XIX века демонстрировали более высокий уровень убийств. Но одна лишь статистика по убийствам и попыткам убийства сама по себе не даёт нам полной и точной картины распространения ножевых поединков среди мужчин Ионических островов, поэтому требуется комплексный подход к изучению этого феномена.
 Рис. 7. Критская семья, Фредерик Буассон
Рис. 8. Греческий разбойник Хаджи Абиид, 1893 г.19111.
Рис. 7. Критская семья, Фредерик Буассон
Рис. 8. Греческий разбойник Хаджи Абиид, 1893 г.19111.
Большинство поединков на ножах заканчивалось лишь относительно лёгкими ранениями, и поэтому система уголовного правосудия не рассматривала их как попытку убийства. Вместо этого дуэли на ножах чаще всего классифицировались полицией как обычное вооружённое нападение. Так, за исследованный период, охватывающий 16 лет, было обнаружено 2677 ордеров на арест и обвинений в нападении с использованием холодного оружия, что составляет 134 вооружённых нападения на 100 000 жителей. Из общего количества нападений для более детального изучения и досконального анализа было выбрано около 5 %, что составило 125 инцидентов.
На основании анализа дел можно заключить, что из 125 эпизодов 61 оказались дуэлями на ножах. Другими словами, 48 % всех зарегистрированных случаев вооружённых нападений являлись не чем иным, как поединками на ножах. Если предположить, что этот показатель характерен для всей выборки, то это значило бы, что в период с 1817 по 1864 год на Ионических островах произошло более восьми тысяч дуэлей на ножах! Эти цифры станут ещё более показательными, если мы будем рассматривать только нападения со смертоносным оружием. Таких случаев в выборке было 37, из которых 33, или 89 %, являлись поединками на ножах[1041].
Изучение судебных протоколов помогает нам понять, что инициировало эти дуэли. В выдержках из судебных дел мужчины постоянно говорят о репутации — fama, кровной мести — Γδικομεοι (дикомэ), чести — timi, onore, оскорблениях и «villanía insolenza» — грубости и дерзости. По наблюдениям Чарльза К. Таккермана, главной и самой распространённой причиной межличностного насилия у греков была честь. «Задетая честь или оскорбление семьи, — отметил он, — будут гореть, пока не смоются кровью обидчика»[1042].
Мужчины Ионических островов XIX столетия были столь же щепетильны в вопросах репутации и статуса, как и их современная родня, чья озабоченность вопросами чести прекрасно описана этнографами. Некоторые исследователи утверждали, что определённые слова пользовались в этом сообществе невероятным могуществом, так как они были вписаны в сущности образов, через призму которых мужчины воспринимали мир. Обмен ударами ножей на дуэли был просто органичной частью, продолжением той же беседы, в которой они обменивались словесными выпадами. Ионийские мужчины прекрасно осознавали, что существуют определённые слова и фразы, которые могут привести к конфронтации. Эти слова задевали их честь и репутацию. В результате они буквально подставляли лица под ножи, чтобы «спасти лицо» фигурально. В качестве иллюстрации давайте рассмотрим несколько типичных поединков чести.
Душной ночью 26 июля 1830 года Тоня Теодорос из деревни Агиос Теодорос на Керкире жестоко исполосовал лицо другого островитянина, Гиоргаки Мокастириотиса. Затем Теодорос плюнул на распростёртую на полу жертву и вышел из винной лавки, в которой произошёл этот инцидент. Всё это время пятеро присутствующих мужчин, включая владельца лавки Паноса Ландатеса, безучастно наблюдали за происходящим. Было установлено, что в течение некоторого времени между дуэлянтами существовала вражда, причина которой осталась неизвестна. В ту ночь в баре оба уже прилично выпили, когда Теодорос назвал Мокастириотиса дураком и хвастуном. В ответ Мокастириотис во всеуслышание заявил, что уж лучше быть дураком, чем «хозяином дома Магдалин», то есть шлюх. Теодорос вскочил со стула, выхватил садовый нож и потребовал, чтобы Мокастириотис встал и вёл себя как мужчина. Никто из присутствующих в помещении не вмешивался, пока дуэлянты обменивались ударами. Наконец Теодорос взмахом ножа распорол лицо жертвы от кончика подбородка до середины щеки. Брызнула кровь, и Мокастириотис рухнул на колени, проклиная своего противника[1043].
Теодорос Каввадис из Фискардо на Кефалинии убил Герасимоса Саломона из соседского Ассоса. После утомительного дня рыбной ловли Каввадис решил зайти в находившуюся неподалёку таверну. Согласно показаниям свидетелей, Саломон вскоре последовал за ним, подошёл к Каввадису и обвинил его в краже снастей из своей лодки. Каввадис предупредил его, что надо осторожней кидаться такими словами, как «вор». Появились ножи, и начался поединок. Саломон бросился вперёд, но удар Каввадиса пошёл слишком низко. Вместо того, чтобы порезать противнику лицо, что, как он указал в своих показаниях, и являлось его намерением, Каввадис перерезал сопернику сонную артерию, и Саломон скончался от потери крови. Как мы видим, смерть в этом поединке наступила в результате несчастного случая, или, как говорили дуэлянты Испании и Аргентины, «десграсиа» — невезения[1044].
Аналогичный случай имел место вечером 25 июля 1840 года, когда Гиоргиос Антиппас из Антипаты, там же, на Кефалинии, убил своего двоюродного брата Афанасиоса. Инцидент произошёл, когда кузены попивали вино перед домом знакомого крестьянина. В небольших деревнях, таких как Антипата, получить лицензию и продавать вино в своём доме было в порядке вещей. За два дня до этой встречи кто-то ранил осла Гиоргиоса камнем. Ссора разгорелась, когда он начал обвинять в этом проступке своего двоюродного брата. Чем больше вина было выпито, тем сильней накалялись страсти. Георгиос подразнивал брата, говоря, что тот не настоящий мужик и не может позаботиться о своей заднице. Афанасиос в ответ показал ему «рожки», то есть жест, обвиняющий мужчину в том, что он рогоносец. Разъярённый Гиоргиос обнажил стилет и потребовал, чтобы брат дрался с ним. В разгар схватки Афанасиос споткнулся о ножку стула и, потеряв равновесие, упал вперёд в тот самый момент, когда его брат выставил перед собой клинок. Нож вошёл в горло чуть ниже кадыка, и Афанасиос был убит[1045].
Рассмотрим и другие примеры. Как то раз, Иоаннис Тсудис вошёл в таверну Спиридона Бриотаса в Аргостоли и потребовал, чтобы Панагис Магдалиос прекратил называть его рогоносцем. Согласно полицейскому протоколу, Тсудис с подачи своей жены был убеждён, что именно Магдалиос распускал эти сплетни. Выслушав обвинение, Магдалиос просто рассмеялся. Вне себя от ярости Тсудис поклялся заставить его «сожрать свои слова». После поединка, который все очевидцы сочли хорошим и честным, Тсудису понадобилось тринадцать швов, чтобы зашить рану на лице[1046].
Обвинение соперника в том, что тот рогоносец, как и в следующем случае, было одним из самых распространённых «казус белли». Иоаннис Пелемедис получил жестокий урок, запомнив, что лучше не связываться с человеком, который зарабатывает на жизнь, имея дело с ножами. С красным от гнева лицом он ворвался в винную лавку на Гавиа-стрит и подошёл к столу, за которым сидел с друзьями мясник Евстахис Склониас. Встав перед ними, он обвинил мясника в обмане его жены при покупке мяса. Склониас принюхался и невозмутимо сообщил собравшимся мужчинам, что чувствует в комнате кого-то с рогами, имея в виду рогоносца, и как мясник узнаёт его по вони. Пелемедис выхватил кинжал и потребовал поединка. Дуэль была недолгой. Вторым ударом Склониас начисто отрезал противнику левое ухо. К ранению он добавил унизительное оскорбление, издевательски спросив Пелемидиса, не записать ли ему также этот кусочек мяса, то есть ухо, на счёт[1047].
Нередко дуэли начинались, когда мужчина вступался за оскорблённую честь супруги. Вечером 23 апреля 1835 года, на Керкире, Георгос Койдан вошёл в бильярдную и потребовал сатисфакции от Иоанниса Денинцандо. Незадолго до этого Койдан узнал, что Денинцандо прилюдно назвал его жену шлюхой. Выследив обидчика, он приблизился к нему и объявил собравшимся, что никому не дозволено оскорблять его «опоге» — честь. После этого он достал кинжал. В последовавшем поединке Койдан порезал Денинцандо лицо и уши[1048].
Защита честного имени жены заставила взять в руки нож и Теодороса Киринариса. Он недолюбливал своего двоюродного брата по отцу, Спиридона, слывшего хулиганом, и, согласно утверждению старейшин из деревни Комината на Керкире, эта неприязнь тянулась с детства. 18 декабря 1854 года конфликт достиг апогея. Теодорос узнал, что двоюродный брат распускает сплетни о его жене. Согласно рапорту констебля, когда он встретились, Спиридон сказал своему брату: «Позор, что твоя курица не остаётся во дворе». После этого они достали стилеты. Ни один из них не был искусным бойцом. Вскоре Теодорос получил порез руки, и бой закончился[1049].
Из-за своей дражайшей половины пострадал и Спирос Петролидес сорока двух лет, известный на Керкире парикмахер. Вечером 17 июня 1860 года он дрался на дуэли с 23-летним рабочим из деревни Велонадес. Последний оскорбил его честь и достоинство, назвав его жену «магдалиной» — шлюхой. Никто не знал, что случилось до того, как были произнесены слова, ставшие точкой невозврата, но все сошлись во мнении, что эти двое, выпив, почувствовали друг к другу неприязнь. Прежде чем соперников растащили, неудачливый парикмахер успел получить уродливый порез через весь подбородок[1050].
Но дуэли случались не только из-за жён. Поводом к вызову на поединок могло явиться оскорбление любой из женщин семьи. Так, когда Александрос Саламис из деревни Агиос Теодорос на Керкире в 1847 году убил Иоанниса Бассианиса, это случилось из-за того, что покойный оскорбил его сестру, прилюдно выбив у неё из рук веретено и прялку. Узнав об этом, брат встретил Бассианиса на главной дороге к деревне и вызвал его на дуэль на глазах у крестьян, возвращавшихся домой после работы в поле. Противники вытащили ножи и пустили их в ход. Через какое-то время после поединка Бассианис умер от пореза на лице. Вероятно, он стал жертвой инфекций[1051].
Существовали и менее романтичные поводы. Так, Иоаннис Курсарис с Керкиры и Афанасиос Меркурис как-то сцепились в винной лавке Сати Никераватоса. Поводом к конфликту послужило то, что один из них усомнился в происхождении другого и бросил фразу: «Sappiamo ch'e la vostra madre, ma suo padre il Dio sa» («Всем нам известно, кто твоя мать, но один Господь знает, кто твой отец»). Зрители вмешались только после того, как Курсарис распорол щёку Меркуриса, и появилась первая кровь[1052].
Встречались и нетипичные поединки, в которых отсутствовали традиционные элементы ритуала. 2 марта 1843 года Афанасиос Диаватос, торговец рыбой с центрального рынка Керкиры, столкнулся в винной лавке у пристани с Антониосом Авеллой, 23-летним рабочим, и обвинил его в краже весов. Они обменялись оскорблениями, и казалось, что всё идёт к дуэли на ножах, но вместо ножей соперники предпочли кулаки. Вероятней всего, отклонение от стандартного сценария было связано с тем, что Авелла был не местным, а приезжим с Мальты и как иностранец не принадлежал к той же культурной системе, что Диаватос и другие жители Керкирь[1053].
Такое же отклонение от хрестоматийного сценария мы встречаем в драке, происходившей в 1832 году в винной лавке Панагиса Левкатидиса в форте Агиос Георгиос на Кефалинии. В этом инциденте также присутствовали все элементы, необходимые для дуэли на ножах. Но вместо того, чтобы порезать обидчику лицо, Сизифос Романос, по определению судмедэксперта, «подверг жизнь Кимаки Кантуцца угрозе — «pericolo di vita», избив его рукояткой пистолета. В большинстве подобных случаев, так и не закончившихся дуэлью на ножах, явно присутствовали одно или два отличия от стандартного сценария. Как правило, один из участников был иностранцем — «xenos», или же относился к другой социальной группе. Таким образом, ножевые дуэли были предназначены только для своих, выходцев из одной этнической группы и одной социальной среды.
Как мы видим из приведённых примеров, несмотря на изобилие поводов к поединку, целью ионийских дуэлянтов было не убить, а только изуродовать противника и в качестве символа бесчестия и унижения оставить ему шрамы на лице[1054].
У островитян также существовал более символический и значительно менее кровавый тип поединков, известный как «мандинада». Майкл Херцфельд в своей работе о славящихся задиристостью пастухах Крита отмечал, что критские мужчины соревновались друг с другом в карточной игре и оспаривали место в мужской иерархии, обмениваясь песнями-оскорблениями[1055]. Можно сказать, что мандинада являлась греческим аналогом игры «в дюжину», распространённой среди чёрной городской молодёжи в США, когда испытывают остроумие соперника провокационными замечаниями о его матери. Также этот обычай напоминал аргентинскую пайяду, версоларизмо басков, капиаобу горцев Грузии и провокационные застольные игры итальянцев, такие, например, как пассател-ла. Как и пайада на Рио-де-ла-Плата, критская мандинада проходила в форме песенного диалога. Когда какая-либо строфа казалась соперникам слишком обидной или один из стихоплётов был не в состоянии достойно ответить на тираду соперника, участники этого условного импровизированного поединка хватались за ножи. Майкл Херцфельд приводит образчик провокационного поведения на мандинаде. Так, например, влюблённый юноша пел: «Ahhi ken a iksera ekini рои той meli, Na tin daizo zakhari, karidhia me to meli» («Ах, если бы я только знал ту, что предначертана мне в будущем, я бы пил её сладость, наслаждался её плодами и мёдом»). На что он слышал насмешливый ответ: «Ма to Theo katekho tine, ekini pou sou meli: Stou SkdTufadhonikou tin avli tin ekhoune dhemeni!» («Клянусь Богом, я её знаю — ту, что тебе предопределена в будущем — она же привязана в скотном дворе Скоуфадоникоса!»)[1056].
Любому горцу сразу становилось ясно, о чём речь: воображаемая невеста — это осёл! В подобной ситуации было не избежать кровавой развязки — назвать кого-либо ослом являлось в Греции одним из тяжелейших оскорблений.
Среди европейских аристократов или элиты юга США ритуальный поединок обычно начинался с вербального оскорбления, демонстрации неуважения или с символического акта физического унижения, такого, например, как пощёчина. Греческие мужчины, как мы убедились, в качестве повода к драке чаще всего использовали провокационные оскорбления из своего богатого запаса выражений с сексуальным подтекстом. После некоторых слов, сказанных в определённом контексте, что обычно происходило в винной лавке или таверне, пути назад уже не было. Мужчина должен был или принять вызов, или «потерять лицо».
С момента революционных исследований таких этнографов, как Дж. К. Кэмпбелл, Джулиан Питт-Риверс и Дж. Г. Перестиани, честь наконец начали рассматривать как ключевой элемент в жизни современных сельских сообществ Испании и Греции. Последующие исследования в этих странах и других регионах Средиземноморья привели к выводу что именно так называемый «комплекс стыда и чести» является центральным определяющим элементом системы средиземноморской культуры. Существует некий комплекс действий и представлений, которые повторяются в различных культурах, исповедующих культ чести. В данном случае нас интересуют два основных и постоянных фактора.
Первым фактором является то, что в культуре чести статус, репутация и уважение оцениваются, даруются или аннулируются только судом мужского общественного мнения. Вследствие этого честь выступает как разделитель культурных границ. Кроме того, честь тесно связана с агрессией. Так как мужественность постоянно выставлена на всеобщее обозрение, она всегда находится в опасности, и поэтому репутация мужчины напрямую зависит от его способности открыто противостоять всем проблемам. В культурах чести это развивает «воинственный дух», имеющий глубокие корни в социальном контексте средиземноморского общества. Таким образом, вторым основополагающим фактором и главным условием существования человека в «сообществе чести» была готовность применить физическое насилие для защиты своей репутации. Или хотя бы демонстрация готовности[1057].
Средиземноморские отчёты этнографов полны яркими описаниями красочной демонстрации мужской бравады. Но существует парадокс: антропологи отмечают, что, несмотря на мачистское позёрство, в действительности происходило очень мало реальных актов насилия, особенно с летальным исходом. Так же и в официальных судебных и полицейских отчётах не так много записей, регистрирующих убийства в поединках чести. Другими словами, было много мужской бравады, но мало крови. В своём исследовании саракатсани — греческой этнической группы, известной в основном благодаря склонности к насилию, Кемпбелл отметил, что «ножи они вынимают с большой бравадой только в том случае, когда точно уверены, что другие присутствующие помешают пустить их в ход». Также и Питт-Риверс считал, что в испанской Андалусии двое соперников вставали в стойку только тогда, когда были уверены, что зрители готовы их растащить. И наконец, Дэвид Гилмор в своём фундаментальном исследовании агрессии и чести в Испании не обнаружил реальных случаев насилия, угрожавшего жизни. Вместо этого он пришёл к выводу, что мужская агрессия на Пиренейском полуострове, в общем и целом была скорее ориентирована на символические проявления мачизма[1058]. Что, как мне кажется, является достаточно спорным утверждением.
Кроме поединков на ножах среди греческих мужчин была распространена и другая форма ритуального насилия — убийства в результате вендетты.
11 сентября 1835 года на деревенской площади Пилароса на Кефалинии во время обычной вечерней прогулки фермер Спиридон Калихиас подошёл к помощнику констебля Теодоросу Маридасу, вытащил из-за пояса пистолет и убил его выстрелом в голову. Многих в притихшей толпе это убийство совершенно не удивило. Более того, несколько человек даже угрюмо кивнули в знак удовлетворения. Некоторые из близких убитого полицейского бросились за оружием, другие поспешили в церковь, чтобы отзвонить заупокойную. Родственники, жалобно причитая, собрались вокруг тела и начали похоронный ритуал. Через несколько часов из столицы прибыл отряд из десяти вооружённых полицейских. Но все сорок допрошенных свидетелей хранили гробовое молчание: никто ничего не видел. Даже родня убитого ничего не сообщила о личности нападавшего. Через семнадцать дней, в течение которых никто не мог покинуть деревню, личность убийцы в конце концов была анонимно установлена. Тремя днями позже он был задержан полицейскими в соседней деревне в доме своего двоюродного брата.
Через неделю после ареста Калихиас стоял перед судом в зале правосудия в столице острова. Его адвокат утверждал, что поводом к убийству помощника констебля стало оскорбление «timі» — репутации и чести семьи Калихиаса. Как было установлено, чуть раньше в том же году, Маридас арестовал младшего брата Калихиаса за нарушение британских карантинных правил, и тот, несмотря на свой юный возраст, получил пожизненное заключение. В апелляции Калихиаса указывалось, что это преступление имело смягчающее обстоятельство — обычай кровной мести, что полностью поддерживали все односельчане. Но как гласила формулировка приговора, «чтобы предотвратить извращение справедливости и восстановить общественное спокойствие», суд отклонил эту аргументацию и признал его виновным в совершении убийства. Калихиас был в надлежащем порядке казнён, после чего его тело погрузили в смолу и на десять дней другим в назидание оставили висеть на городской площади[1059].
Другой прецедент получил резонанс благодаря поразительной дерзости совершённого преступления. Мало кто мог сравниться отвагой с Бернардо Лефтачи, боцманом на судне «Санита» с острова Закинф. Как-то раз Лефтачи, сопровождая своего покровителя — богатого и могущественного доктора Дими-триоса Ломбардоса, при посещении одной из деревень в поместье бывшего регента Закинфа, узнал, что его младший брат незадолго до этого был убит в драке с человеком по имени Гласси. Выяснив, что условия поединка были нечестными, боцман вернулся в столицу острова и направился в главное управление полиции. Там в этот момент находились брат Гласси, служивший констеблем, сержант и ещё два офицера. Войдя в помещение, Лефтачи выстрелил Гласси в голову и ударил ножом в сердце. Прежде чем шокированные полицейские пришли в себя, Лефтачи покинул здание. Несмотря на предпринятые по всему острову розыскные мероприятия, брат-мститель так и не был схвачен. Ходили слухи, что покровитель дал ему прибежище и организовал побег с острова[1060].
Ещё одно убийство в результате вендетты произошло, когда некий отпрыск одного из благородных родов Кефалинии сидел один в гостиной семейной усадьбы. Два ружейных выстрела разорвали тишину летнего вечера. Обе пули попали в цель, и молодой граф погиб на месте. В доме был полный штат слуг, и рядом с домом работали множество крестьян, но ни один из них не признался, что видел убийцу. В процессе расследования полиция выяснила, что молодой аристократ недавно приударил за девушкой, жившей в одной из принадлежавших его семье деревень, а затем бросил её. Основываясь на широко распространённой вере в кровную месть, полиция автоматически предположила, что её братья и были злоумышленниками, проникшими в дом этим вечером, забравшимися на дерево перед балконом в гостиной и убившими графа. И хотя у властей не оставалось сомнений в том, чьих это рук дело, братья так никогда и не заплатили за это преступление. Как было сказано в полицейском отчёте: «никого из крестьян не смогли вынудить дать показания, хотя нет сомнений, что многие из них располагали доказательствами»[1061].
 Рис. 9. Повстанцы братья Мантакас, Крит. Фредерик Буассон, 1911 г.
Рис. 9. Повстанцы братья Мантакас, Крит. Фредерик Буассон, 1911 г.
Это три случая олицетворяют типичные убийства в результате вендетты и демонстрируют ключевые отличия между кровной местью и дуэлями на ножах. И то и другое являлось ритуализованной формой насилия, но с различными правилами. В обоих случаях ключевым понятием была честь. Но в вендетте главной целью являлось именно убийство, тогда как в дуэльном поединке достаточно было напугать, унизить или изуродовать противника. Ещё одним различием было то, что в вендеттах, как правило, предпочитали не нож, а огнестрельное оружие, а также были приемлемы различные уловки и хитрости, такие, как убийство в спину из засады. То есть к вендетте не предъявлялись требования честного боя, обязательные для поединка. Прекрасной иллюстрацией к этому служат приведённые выше примеры вендетт — ни одна из жертв, о которых мы говорили, не имела ни шанса защитить себя, ни возможности ответить на нападение.
Ещё одним отличием вендетты от поединка на ножах было то, что главной причиной вендетт являлись не слова, а действия. Заурядное вербальное оскорбление, инициировавшее поединок на ножах, не могло послужить причиной для кровной мести. В вендетте провоцирующее действие в первую очередь должно было быть расценено как нарушение общинных норм. Достаточно взглянуть на разницу в действиях Лефтачи и родственников Теодороса Маридаса. Лефтачи был убеждён, что его брат погиб в нечестном бою, что и вызвало кровную месть, а семья Маридаса смирилась с его участью и не испытывала необходимости смывать позор кровью Калихиаса.
Также в случае вендетты сама жертва не обязана была принимать ответные меры — отомстить мог любой из родственников. Кроме этого, кровники-убийцы решительно избегали ареста и судебного разбирательства. В отличие от дуэлянтов, которые приветствовали свой арест, кровники противились задержанию, даже если убийство было совершено в полицейском участке. Как отмечали некоторые исследователи, многие убийцы-кровники уже никогда не возвращались домой и уходили в горы, чтобы стать бандитами — «бригантес». И наконец, болтливость и откровенность очевидцев дуэлей на ножах контрастирует с каменным молчанием свидетелей убийств в вендетте.
Таким образом, традиционный греческий код молчания — омерта распространялся не на все, а лишь на некоторые виды насилия. Так, например, ионийским мужчинам, хранившим гробовое молчание в случае вендетт, нравилось рассказывать о дуэлях на ножах, и даже казалось, что они рады возможности сообщить об этом суду. Эти свидетельства очевидцев дуэлей формировали общественное мнение и влияли на него больше, чем рассказы самих участников поединков. В своих показаниях очевидцы комментировали каждый аспект дуэли: кто дрался хорошо, а кто нет, кто провоцировал и кто получил по заслугам. В зависимости от того, в какую форму облачались эти комментарии, они могли как спасти, так и уничтожить репутацию дуэлянтов. В своих показаниях ионийские мужчины говорили о ходе поединка: чем всё закончилось, что при этом было сказано. Так же они оценивали и сам поединок, и судьи прислушивались к их оценкам. Мужчины рассказывали о том, насколько чисто прошёл бой, были ли равны силы противников. Был ли один из них пьянее, чем другой. Пытался ли кто-то из них не только оставить противнику шрамы, но и убить его. Хотя в реальности поединки на ножах были смертельно опасны и их участники нередко умирали, в интерпретации очевидцев драма могла превратиться в фарс. Это оставляло пятно как на добром имени человека, получившего шрам, так и на репутации его более удачливого противника. Так, например, и произошло в 1835 году на дуэли Андреаса Магираса и Николаоса Бамбулиса. Присутствовавшие на поединке зрители насмехались над ними, так как оба участника дуэли были настолько пьяны, что были не в состоянии драться. Один из очевидцев насмешливо заметил на суде, что «это выглядело забавно и оба сражались как идиоты»[1062].
Судьи, очевидно, принимали все эти факторы во внимание. Если удавалось доказать, что бой был честным, а провокация для одного из соперников — нестерпимой, то иногда выносились приговоры, не связанные с лишением свободы, такие как денежный штраф, обещание сохранять общественное спокойствие, или же назначались небольшие тюремные сроки — от 20 до 40 дней. Также магистраты пытались выяснить, не было ли между бойцами неприязни. Если оказывалось, что была, то, как правило, они выносили дуэлянтам более суровые приговоры. Кроме этого, судьи интересовались и ходом поединка. Если один из дуэлянтов не играл по правилам, то виновного приговаривали к сроку в исправительном доме. Если же кто-то из бойцов умирал от полученного в поединке ранения, судьи уделяли особое внимание намерениям его противника. То есть планировал ли убийца намеренно нанести смертельный удар, или же это был несчастный случай. Судьба ответчика часто зависела от того, как свидетели ответят на этот каверзный вопрос. Именно намерения отличали причинение смерти по неосторожности от убийства, а вооружённое нападение — от попытки убийства. По крайней мере, первоначально тюремное заключение грозило только обвиняемым в последних двух нарушениях. Но по прошествии времени, независимо от того, как мужчины ответили на эти вопросы, становилось всё более вероятным, что любого уличённого в дуэли на ножах вне зависимости от обстоятельств поединка ждало тюремное заключение[1063].
Судебное дело о нападении или о нападении со смертоносным оружием — как обычно квалифицировали поединки на ножах, могло быть инициировано самой жертвой как частным лицом или же государственным обвинителем. Выступая в качестве председателя магистрата в полицейском суде, государственный обвинитель должен был заслушать показания участников, констеблей и других официальных лиц. Его задачей в этих случаях было определить, достаточно ли причин для возбуждения дела. В 29 из 125 изученных случаев он решил, что дело не должно идти дальше, в исправительный суд, низшую из существующих инстанций системы уголовного правосудия. В делах, которым он не дал хода, было принято решение, что юридически не установлена вина ни одной из сторон или что полученные ранения слишком незначительны[1064]. В некоторых случаях обвинитель решал, что жертва получит денежную компенсацию. Но большинство дел всё-таки передавали в исправительный суд, где их рассматривала группа из трёх греческих юристов. На этих процессахприсутствовали все стороны, и выслушивались свидетельские показания. Эти суды стали одним из основных факторов, способствовавших исчезновению поединков на ножах.
Система уголовного правосудия предложила греческим мужчинам такую альтернативу поединкам на ножах, как судебное преследование за клевету. В период английского протектората тысячи греческих мужчин и женщин подавали судебные иски, присутствовали на заседаниях трибуналов и шли в Коррекционный суд, чтобы выдвигать обвинения в клевете против своих земляков-островитян. Сначала суд начали использовать в качестве арбитра в решении вопросов чести только среди аристократии. Но вскоре и мужчины из низших слоёв общества последовали их примеру и завалили судебные приёмные делами с обвинениями в клевете. Безусловно, сохранились и поединки на ножах, но относительный баланс дуэлей и судебных разбирательств изменился, и постепенно судебные иски вытеснили дуэли[1065].
Свой вклад в исчезновение традиции народных поединков на Ионических островах также внесли культурные и идеологические трансформации. С начала 1830-х годов пробританские ионийцы, которые держали рычаги местной политической власти, использовали все возможности, чтобы изменить национальный характер своих соотечественников. Они ориентировались на мнение английских колониальных чиновников, которые чернили ионийцев, сравнивая их с такими «отсталыми» этническими сообществами, как готтентоты или ирландцы — британцы часто называли ионийцев «ирландцами Средиземноморья». Греческие общественные лидеры регулярно слышали от британцев, что именно склонность к насилию отделяет «азиатов» и «дикарей» от «человека Запада». Таким образом, под влиянием британских властей ключевым фактором в цивилизаторской миссии греческого правительства стало восстановление и поддержание общественного порядка.
 Рис. 10. Заключённые британской тюрьмы на острове Закинф. Многие из них осуждены за дуэли на ножах. Greece of the twentieth century Перси Фальк Мартин, 1913 г.
Рис. 10. Заключённые британской тюрьмы на острове Закинф. Многие из них осуждены за дуэли на ножах. Greece of the twentieth century Перси Фальк Мартин, 1913 г.
В 1830-х и 1840-х годах радикальные «юнионисты» провоцировали массовые беспорядки везде, где это только было возможно. Любые общественные выступления превращались в смуту. Политические митинги и выборы использовались как средство для разжигания антибританских настроений и часто заканчивались кровопролитием. Кульминации националистический пыл достиг в 1848 году, когда острова были потрясены рядом кровавых волнений. Но после 1850 года лидеры националистического движения ионийских греков изменили тактику и перешли от агитации за выступления против британцев к демонстративно ненасильственным формам сопротивления. Они стремились сделать острова неуправляемыми, разрушив политический процесс, и в качестве средства для изгнания британцев предпочли открытой конфронтации раскол в политике. И насилие теперь уже рассматривалось ими лишь как препятствие в националистической борьбе. Эти перемены сопровождались и новой риторикой. В конце концов политические лидеры ионийцев сообщили народу, что насилие является не западным и не цивилизованным методом[1066].
 Рис. И. Мужчины на улице Андрицайны, Греция (фрагмент). Фредерик Буассон, 1903 г.
Рис. И. Мужчины на улице Андрицайны, Греция (фрагмент). Фредерик Буассон, 1903 г.
Но, несмотря на все усилия, политики не добились особого успеха ни в борьбе с преступностью, ни в уменьшении влияния кода молчания — омер-ты. Зато частые проповеди духовенства против насилия благодаря тесной связи между православием и эллинизмом находили отклик в душах ионийцев. Греки проводят чёткое различие между церковью как организацией и православием, и взгляды греческих мужчин на церковь были неоднозначными и противоречивыми. Но поскольку ключевым моментом в концепции самоидентификации греков как эллинов было именно православие, высказывания священников, ставившие под сомнение их статус христиан, могли найти отклик в душах ионийцев. Таким образом, священники убеждали их, что это аморально и не по-христиански, а радикально-националистические лидеры заявляли, что это антигречески и препятствует борьбе за национальное объединение. Было бы удивительно, если бы после этого греческие простолюдины не усвоили новые ценности.
Но ионийские власти, не полагаясь только на силу убеждения православных клириков и не возлагая особых надежд на речи политиканов, предприняли и более традиционные и эффективные меры. Вскоре на Ионических островах были приняты законы, запрещавшие хранение и ношение холодного оружия, а также его использование в общественных местах. Фермеры и сельскохозяйственные рабочие теперь могли владеть садовыми ножами с клинком длиной не более 5 см, и только мясники были освобождены от выполнения этих требований. Контроль за строгим соблюдением этого закона, включая конфискацию ножей, стал одной из основных обязанностей греческой полиции. Суды всё чаще относились к этим преступлениям более серьёзно. Например, если в 1823 году средний срок за незаконное ношение ножа составлял всего пять дней в исправительном доме, то в 1855 году за это же преступление наказывали уже 6–8 месяцами каторжных работ. Тенденция арестов за незаконное хранение оружия с течением времени также демонстрирует значительный рост. Короче говоря, полиция стала бдительней, арестовывая мужчин за ношение ножей в общественных местах, а суды стали выносить им за это более суровые приговоры. Как результат — количество людей с ножами сократилось[1067].
Сравнение образцов приговоров, вынесенных исправительными судами в 1823–1824 и в 1847 годах, демонстрируют резкую и заметную разницу. В 1820-х почти треть наказаний не была связана с лишением свободы. Вместо тюремного заключения виновную сторону приговаривали к штрафу от 1 до 5 ионийских долларов и обещанию поддерживать общественный порядок. В 1820-х принятие решения о сроке тюремного заключения в основном зависело от выясненных в зале суда деталей поединка и от характера нанесённых ранений, а типичные приговоры составляли десять и двадцать дней. Но вскоре, в конце 1840-х годов, позиция судов резко изменилась. Теперь к реальному тюремному сроку приговаривали каждого осуждённого. Типичные сроки приговоров составляли 60 дней, на которые приходится чуть более четверти всех случаев, и 2 года. Почти 40 % тех, кто был признан виновным в 1847 году, были приговорены к 90 дням тюрьмы и более, в то время как в 1823–1824 годах никто не получал больше 60 дней. За двадцать лет поединки на ножах прошли путь от незначительного проступка до серьёзного преступления, за которым следовал длительный тюремный срок[1068].
По причинам, указанным выше, особенно в связи с конфискацией ножей и жёсткими судебными приговорами ионийцы хоть и продолжали защищать репутацию на суде общественного мнения, но теперь, вместо того чтобы ограничиваться лишь традиционным анклавом мужского сообщества — винными лавками и тавернами, местом их поединков стали залы судов. Надо отметить, что, несмотря на всё это, дуэли на ножах так и не исчезли, а повысившиеся ставки в этой игре ещё больше привлекали мужчин, видевших в высоком риске большую честь. Но всё уже изменилось. Начиная примерно с середины столетия всё больше мужчин, страдавших от уколов жестоких оскорблений, вместо того, чтобы порезать обидчикам лица, тащили их в суд. В результате к 1880-м годам уровень нападений на островах сократился со 134 на 100 000 человек до 27, а к 1920-м годам упал до 8,7[1069].
Это исследование традиции народных поединков в Греции XIX века демонстрирует, что честь была более гибкой концепцией, чем считалось ранее. В данном случае этика чести сохранилась, но изменилась тесная связь между честью и насилием. Что осталось от плебейского насилия и мужественности, так это их символические проявления, так хорошо описанные этнографами середины-конца XX столетия. Греческий мужчина, изученный Кэмпбеллом, Херцфельдом и другими этнографами, до сих пор разными способами отстаивает свой статус и репутацию, но уже не с таким количеством кровопролитий, как два столетия назад.
Но надо заметить, что, несмотря на исчезновение поединков на ножах, а также на общее снижение мужского насилия, на Ионических островах не произошло трансформации чести во что-то другое. Существует несколько основных причин, обусловивших отличие Греции от других стран. Во-первых, на Ионических островах материальный базис, являвшийся основой роли чести в определении мужественности, до недавнего прошлого существенно не изменился. Ионические острова не ощутили ни индустриализации, ни урбанизации. Мужчины по-прежнему оставались крестьянами, пастухами, портовыми рабочими и торговыми моряками и пребывали в мире жёсткой конкуренции за скудные ресурсы. Это и есть основная причина того, почему честь там сохранила доминирующую позицию. Во-вторых, этическая основа чести осталась нетронута. Кампания велась политиками, священниками и националистами против насилия, но не против чести. Православные священники не осуждали честь с трибуны, как это делали евангелистские и утилитаристские священнослужители в Англии. Ионийские радикалы были далеки от того, чтобы очернять честь, но, рассуждая о ней, погрязли в националистической риторике. И наконец, суды и правовая система доказали важность увековечивания чести в дискурсе мужской идентичности[1070].
В результате соединительная ткань между честью, мужественностью и насилием была перерезана. Честь и сегодня всё ещё остаётся центром мужской идентичности ионических греков, а насилие — уже нет. Переход от дуэлей на ножах к словесным перепалкам произошёл в судебных залах XIX века. Когда англичане в 1864 году оставили острова, во владение ими вступило королевство Греция и приняло собственную судебную систему. С доступом к ритуалам и формальным механизмам судов мужские споры о чести и репутации вернулись в атмосферу таверн и винных лавок. Там они были изучены антропологами в 1950-1960-х годах, но с одной разницей — насилие и дуэли на ножах уже были отделены от культурной концепции чести и мужественности. В наше время ионийцы решают вопросы чести не на стилетах, а на словах и доказывают своё превосходство в карточных играх, а не в поединках на ножах. «Потерять лицо» стало в большей степени фигурой речи, чем реальной историей из жизни жесткого мира мужчин Ионических островов[1071].
Глава VIII
АПАЧИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Дуэли на ножах во Франции

 В XVI–XVII столетиях дуэли являлись бичом Франции, уносившим тысячи жизней, подобно эпидемиям чумы. Так, по данным из разных источников, только в годы царствования Генриха IV — с 1589 по 1610 год, что составляет немногим более 20 лет, на дуэлях, по разным оценкам, сложили головы от четырёх до восьми тысяч дворян. Роберт Болдвик склоняется к цифре четыре тысячи, с ним солидарен Ричард Коэн, писавший, что в среднем в неделю на дуэлях погибали четыре-пять человек. Учитывая население Франции той эпохи, по масштабам это сравнимо с потерями в Первой мировой войне. Дж. Кирнан считает эти цифры заниженными и оценивает масштаб дуэльных «потерь» в восемь тысяч жизней, хотя Кевин Макалир считает нужным ограничиться семью. Так или иначе, но масштабы жертв дуэльной эпидемии потрясают[1072]. Были и особо печально прославившиеся дуэлянты, неутомимо пополнявшие эту мрачную статистику, такие, например, как некий шевалье д'Андрьё, которому приписывали семьдесят два убийства на дуэлях, совершённые им ещё до достижения тридцатилетнего возраста. Этот милый юноша имел привычку заставлять своего поверженного противника перед смертью отречься от Бога, после чего с чувством выполненного долга перерезал ему горло[1073]. Эгертон Кастл писал: «Во второй половине XVI века, когда дуэли лишились законного статуса, Францию охватил чудовищный приступ помешательства на дуэлях, которые за сто восемьдесят лет обошлись стране в сорок тысяч бессмысленно потерянных жизней, сорок тысяч отважных дворян, убитых в поединках, возникавших, как правило, по самым пустяковым поводам»[1074].
Было предложено немало объяснений этому пагубному поветрию, постигшему Францию, в том числе и пресловутая «furia francese» — «галльская ярость». Как писал один из французских историков: «Мы предрасположены к поединкам в силу национального характера, потому и дерёмся на дуэлях»[1075].
История сохранила для нас сотни описаний поединков задиристых галльских дворян, а также и материалы связанных с дуэлями судебных дел. Во множестве специализированных работ, посвящённых дуэлям, подробно описаны поединки, уже ставшие хрестоматийными, такие, например, как бой Жарнака и ла Шантеньре, имевший место 10 июля 1547 года и породивший печально известный «удар Жарнака». Немало работ посвящено нашумевшей дуэли неутомимого бретёра де Бутвиля с де Бёвроном в 1627 году, стоившей Бутвилю головы, или не менее известному поединку-вендетте герцога де Гиза с графом де Колиньи на Пляс-Руаяль в 1643 году.
К сожалению, история народных «point d'honneur» — дел чести, в отличие от дуэлей знати, не балует нас описаниями «плебейских» поединков, и, более того, за редким исключением упоминания о подобных противоборствах вплоть до конца XIX столетия практически не встречаются. Свидетельств о проходивших во Франции поединках на кинжалах или ножах катастрофически мало, и все они являются раритетом или даже скорее курьёзом. Так, например, сохранилось описание проходившей в 1612 году дуэли некоего Жака Гальо: «Парировав первый удар, ответчик рассёк запястье и кисть несчастного, перерезав ему нервы на руке и заставив выронить шпагу, что позволило ему нанести укол своей жертве, защищавшейся кинжалом в левой руке. Затем ответчик нанёс ему удар по левой руке, который заставил того выпустить оружие, бросился на него и, несмотря на просьбы о милосердии, нанёс пять или шесть ударов кинжалом»[1076].
Но как мы видим из приведённого отрывка, начинался этот поединок как обычный бой на шпагах и кинжалах, поэтому его сложно классифицировать как дуэль на ножах. Уже несколько ближе к рассматриваемой нами теме стоит совершенно не типичная для аристократов той эпохи дуэль на ножах, имевшая место в 1651 году. В ходе этого поединка один из участников дуэли, граф де Карне, пытался броситься за шпагой. Его предупредили о необходимости вернуться и встретиться с противником лицом к лицу, а когда он проигнорировал предупреждение, то получил удар ножом в спину. Хотя удар в спину считался достойным порицания при любых обстоятельствах и, кроме того, являлся тяжким нарушением дуэльного кодекса, тем не менее в этом случае мы можем отнести этот бой именно к дуэлям на ножах[1077].
Во Франции, как и в большинстве стран Европы, кинжалы считались типичным оружием убийц. Поль де Монборше называл кинжалы «подлыми», так как их могли пустить в ход неожиданно, исподтишка, даже не позволив противнику встать в стойку, как это, например, и произошло на дуэли барона Монморенси-Галло с маркизом д'Аллегре в сентябре 1592 года. Франсуа де Монморенси-Галло, учтиво приподнял шляпу, чтобы отсалютовать Кристофу д'Аллегре, который на это коротко ответил: «Умри!» — и ударил галантного противника ножом. В результате этого ранения 22 сентября 1592 года барон скончался[1078].
История сохранила для нас и курьёзные дуэли, доведённые до абсурда. Двое соперников влезли в бочку и там изрезали друг друга ножами. Два других задиры при решении вопроса, кому пройти первому, схватились за левые руки и закололи друг друга кинжалами[1079]. А вот какую историю о дуэли на кинжалах в своей книге «The sword through the centuries» донёс до нас Альфред Хаттон. Граф Мартиненго был великим воином и обладал репутацией, созданной его подвигами. Но в то же время он был жестоким и беспринципным задирой. Как-то раз у него возникли разногласия с неким господином из Брешии, принадлежавшим к высшему обществу города, и он неоднократно пытался вызвать его на бой. Но вельможный синьор не был склонен вступать в какие-либо поединки. Отчаявшийся граф решил убить соперника любым доступным способом. Он нанял пару солдат, и они втроём среди бела дня ворвались в дом того господина, отыскали его в кабинете, убили без всяких церемоний, тихо вышли, сели на приготовленных лошадей и, прежде чем родственники убитого успели их задержать, бежали в Пьемонт. После этого вряд ли стоит удивляться тому, что некоторые родственники покойного брешианца настойчиво искали встречи с графом.
Одному из них, некоему итальянскому капитану, посчастливилось встретиться с ним, хотя, как показали дальнейшие события, повезло относительно. Встреча эта произошла на мосту через реку По, который, кажется, как будто специально был создан для событий такого рода. Случилось так, что рука этого капитана была искалечена в одном из сражений, поэтому он поставил условие, что для уравнивания шансов они должны встретиться, держа по два кинжала каждый. Кроме этого, на левых руках соперники должны были иметь «повязки Жарнака» — то есть защитное снаряжение в виде полосок брони без каких-либо сочленений, которые настолько ограничивали подвижность руки, что двигать ей можно было только от плеча. Эта защита нечасто применялась в поединках, и спокойно можно было отказаться, но граф был из тех, кто не боится ни бога, ни чёрта, поэтому он ответил: «Да пусть надевает свой брассард». Как показали дальнейшие события, это и в самом деле не имело большого значения, по крайней мере, для графа, так как после нескольких выпадов, вольтов и уклонов он вонзил один из своих кинжалов точно в сердце противника и весело продолжил путь, а этот инцидент, кроме прочего, укрепил его репутацию[1080].
У Хаттона мы находим и другую любопытную историю. Сир де ла Рок, господин старше шестидесяти, и виконт д'Алемань, молодой человек лет тридцати, были близкими соседями, и это соседство стало причиной ссоры. Так случилось, что они были совладельцами нескольких деревень, что мы понимаем как равные права сеньоров, и изначально ссора завязалась не между ними самими, а между их слугами — судебными приставами. Одну из таких сцен нам представляет Шекспир в «Ромео и Джульетте». Слуги двух враждующих кланов, Монтекки и Капулетти, встречаются на улице и затевают ссору, в которую им бы не стоило ввязываться. После небольшой предварительной перепалки Грегори спрашивает Самсона: «Вы ищете ссоры, синьор?», а тот отвечает: «Если вы её ищете, синьор, то я к вашим услугам».
Так случилось и с нашими приставами: они встретились в одной из деревенек для решения каких-то служебных дел и повздорили, так как каждый из них настаивал, что именно у него преимущество в решении спорного вопроса. Поскольку оба они не были аристократами и не имели привилегии на ношение мечей, их конфликт вылился в оскорбления, о которых оба должным образом и каждый в своей интерпретации сообщили своим хозяевам.
Де ла Рок вооружился двумя кинжалами и, встретив своего противника на улице Абэ, обратился к нему: «Сир, вы молоды, а я стар. Если наш поединок будет проходить на рапирах, ваше преимущество окажется несомненным. Поэтому выберите один из этих кинжалов и дайте мне сатисфакцию за нанесённое оскорбление». Д’Алемань принял этот учтивый вызов. В секунданты ла Рока они взяли Сира де Винса и юного Салернеса в качестве секунданта д’Алеманя. Соперники выехали из города и направились к сухому рву, затем секунданты отошли в сторону, чтобы наблюдать за ходом событий. «Дайте мне левую руку», — воскликнул ла Рок обратившись к д’Алеманю. Они взялись за руки и сразу же пустили кинжалы в ход. Старший из дуэлянтов нанёс своему противнику удар в корпус, в ответ получил кинжал по рукоятку в горло и упал мёртвым к ногам соперника[1081].
И, конечно же, нельзя не вспомнить известного «кинжальщика» начала XVII столетия, скромного школьного учителя из Ангулема Франсуа Равальяка, вошедшего в историю благодаря тому, что 14 мая 1610 года он заколол ножом короля Франции Генриха IV. За пятнадцать лет до этого несчастного дня, 27 декабря 1595 года, многострадальный монарх уже пережил одно покушение, когда некий студиоз из клермонского иезуитского колледжа попытался воткнуть ему кинжал в горло, но, поскольку в этот момент король наклонился, удар пришёлся в верхнюю губу[1082].
В XVI–XVII столетиях дуэли являлись бичом Франции, уносившим тысячи жизней, подобно эпидемиям чумы. Так, по данным из разных источников, только в годы царствования Генриха IV — с 1589 по 1610 год, что составляет немногим более 20 лет, на дуэлях, по разным оценкам, сложили головы от четырёх до восьми тысяч дворян. Роберт Болдвик склоняется к цифре четыре тысячи, с ним солидарен Ричард Коэн, писавший, что в среднем в неделю на дуэлях погибали четыре-пять человек. Учитывая население Франции той эпохи, по масштабам это сравнимо с потерями в Первой мировой войне. Дж. Кирнан считает эти цифры заниженными и оценивает масштаб дуэльных «потерь» в восемь тысяч жизней, хотя Кевин Макалир считает нужным ограничиться семью. Так или иначе, но масштабы жертв дуэльной эпидемии потрясают[1072]. Были и особо печально прославившиеся дуэлянты, неутомимо пополнявшие эту мрачную статистику, такие, например, как некий шевалье д'Андрьё, которому приписывали семьдесят два убийства на дуэлях, совершённые им ещё до достижения тридцатилетнего возраста. Этот милый юноша имел привычку заставлять своего поверженного противника перед смертью отречься от Бога, после чего с чувством выполненного долга перерезал ему горло[1073]. Эгертон Кастл писал: «Во второй половине XVI века, когда дуэли лишились законного статуса, Францию охватил чудовищный приступ помешательства на дуэлях, которые за сто восемьдесят лет обошлись стране в сорок тысяч бессмысленно потерянных жизней, сорок тысяч отважных дворян, убитых в поединках, возникавших, как правило, по самым пустяковым поводам»[1074].
Было предложено немало объяснений этому пагубному поветрию, постигшему Францию, в том числе и пресловутая «furia francese» — «галльская ярость». Как писал один из французских историков: «Мы предрасположены к поединкам в силу национального характера, потому и дерёмся на дуэлях»[1075].
История сохранила для нас сотни описаний поединков задиристых галльских дворян, а также и материалы связанных с дуэлями судебных дел. Во множестве специализированных работ, посвящённых дуэлям, подробно описаны поединки, уже ставшие хрестоматийными, такие, например, как бой Жарнака и ла Шантеньре, имевший место 10 июля 1547 года и породивший печально известный «удар Жарнака». Немало работ посвящено нашумевшей дуэли неутомимого бретёра де Бутвиля с де Бёвроном в 1627 году, стоившей Бутвилю головы, или не менее известному поединку-вендетте герцога де Гиза с графом де Колиньи на Пляс-Руаяль в 1643 году.
К сожалению, история народных «point d'honneur» — дел чести, в отличие от дуэлей знати, не балует нас описаниями «плебейских» поединков, и, более того, за редким исключением упоминания о подобных противоборствах вплоть до конца XIX столетия практически не встречаются. Свидетельств о проходивших во Франции поединках на кинжалах или ножах катастрофически мало, и все они являются раритетом или даже скорее курьёзом. Так, например, сохранилось описание проходившей в 1612 году дуэли некоего Жака Гальо: «Парировав первый удар, ответчик рассёк запястье и кисть несчастного, перерезав ему нервы на руке и заставив выронить шпагу, что позволило ему нанести укол своей жертве, защищавшейся кинжалом в левой руке. Затем ответчик нанёс ему удар по левой руке, который заставил того выпустить оружие, бросился на него и, несмотря на просьбы о милосердии, нанёс пять или шесть ударов кинжалом»[1076].
Но как мы видим из приведённого отрывка, начинался этот поединок как обычный бой на шпагах и кинжалах, поэтому его сложно классифицировать как дуэль на ножах. Уже несколько ближе к рассматриваемой нами теме стоит совершенно не типичная для аристократов той эпохи дуэль на ножах, имевшая место в 1651 году. В ходе этого поединка один из участников дуэли, граф де Карне, пытался броситься за шпагой. Его предупредили о необходимости вернуться и встретиться с противником лицом к лицу, а когда он проигнорировал предупреждение, то получил удар ножом в спину. Хотя удар в спину считался достойным порицания при любых обстоятельствах и, кроме того, являлся тяжким нарушением дуэльного кодекса, тем не менее в этом случае мы можем отнести этот бой именно к дуэлям на ножах[1077].
Во Франции, как и в большинстве стран Европы, кинжалы считались типичным оружием убийц. Поль де Монборше называл кинжалы «подлыми», так как их могли пустить в ход неожиданно, исподтишка, даже не позволив противнику встать в стойку, как это, например, и произошло на дуэли барона Монморенси-Галло с маркизом д'Аллегре в сентябре 1592 года. Франсуа де Монморенси-Галло, учтиво приподнял шляпу, чтобы отсалютовать Кристофу д'Аллегре, который на это коротко ответил: «Умри!» — и ударил галантного противника ножом. В результате этого ранения 22 сентября 1592 года барон скончался[1078].
История сохранила для нас и курьёзные дуэли, доведённые до абсурда. Двое соперников влезли в бочку и там изрезали друг друга ножами. Два других задиры при решении вопроса, кому пройти первому, схватились за левые руки и закололи друг друга кинжалами[1079]. А вот какую историю о дуэли на кинжалах в своей книге «The sword through the centuries» донёс до нас Альфред Хаттон. Граф Мартиненго был великим воином и обладал репутацией, созданной его подвигами. Но в то же время он был жестоким и беспринципным задирой. Как-то раз у него возникли разногласия с неким господином из Брешии, принадлежавшим к высшему обществу города, и он неоднократно пытался вызвать его на бой. Но вельможный синьор не был склонен вступать в какие-либо поединки. Отчаявшийся граф решил убить соперника любым доступным способом. Он нанял пару солдат, и они втроём среди бела дня ворвались в дом того господина, отыскали его в кабинете, убили без всяких церемоний, тихо вышли, сели на приготовленных лошадей и, прежде чем родственники убитого успели их задержать, бежали в Пьемонт. После этого вряд ли стоит удивляться тому, что некоторые родственники покойного брешианца настойчиво искали встречи с графом.
Одному из них, некоему итальянскому капитану, посчастливилось встретиться с ним, хотя, как показали дальнейшие события, повезло относительно. Встреча эта произошла на мосту через реку По, который, кажется, как будто специально был создан для событий такого рода. Случилось так, что рука этого капитана была искалечена в одном из сражений, поэтому он поставил условие, что для уравнивания шансов они должны встретиться, держа по два кинжала каждый. Кроме этого, на левых руках соперники должны были иметь «повязки Жарнака» — то есть защитное снаряжение в виде полосок брони без каких-либо сочленений, которые настолько ограничивали подвижность руки, что двигать ей можно было только от плеча. Эта защита нечасто применялась в поединках, и спокойно можно было отказаться, но граф был из тех, кто не боится ни бога, ни чёрта, поэтому он ответил: «Да пусть надевает свой брассард». Как показали дальнейшие события, это и в самом деле не имело большого значения, по крайней мере, для графа, так как после нескольких выпадов, вольтов и уклонов он вонзил один из своих кинжалов точно в сердце противника и весело продолжил путь, а этот инцидент, кроме прочего, укрепил его репутацию[1080].
У Хаттона мы находим и другую любопытную историю. Сир де ла Рок, господин старше шестидесяти, и виконт д'Алемань, молодой человек лет тридцати, были близкими соседями, и это соседство стало причиной ссоры. Так случилось, что они были совладельцами нескольких деревень, что мы понимаем как равные права сеньоров, и изначально ссора завязалась не между ними самими, а между их слугами — судебными приставами. Одну из таких сцен нам представляет Шекспир в «Ромео и Джульетте». Слуги двух враждующих кланов, Монтекки и Капулетти, встречаются на улице и затевают ссору, в которую им бы не стоило ввязываться. После небольшой предварительной перепалки Грегори спрашивает Самсона: «Вы ищете ссоры, синьор?», а тот отвечает: «Если вы её ищете, синьор, то я к вашим услугам».
Так случилось и с нашими приставами: они встретились в одной из деревенек для решения каких-то служебных дел и повздорили, так как каждый из них настаивал, что именно у него преимущество в решении спорного вопроса. Поскольку оба они не были аристократами и не имели привилегии на ношение мечей, их конфликт вылился в оскорбления, о которых оба должным образом и каждый в своей интерпретации сообщили своим хозяевам.
Де ла Рок вооружился двумя кинжалами и, встретив своего противника на улице Абэ, обратился к нему: «Сир, вы молоды, а я стар. Если наш поединок будет проходить на рапирах, ваше преимущество окажется несомненным. Поэтому выберите один из этих кинжалов и дайте мне сатисфакцию за нанесённое оскорбление». Д’Алемань принял этот учтивый вызов. В секунданты ла Рока они взяли Сира де Винса и юного Салернеса в качестве секунданта д’Алеманя. Соперники выехали из города и направились к сухому рву, затем секунданты отошли в сторону, чтобы наблюдать за ходом событий. «Дайте мне левую руку», — воскликнул ла Рок обратившись к д’Алеманю. Они взялись за руки и сразу же пустили кинжалы в ход. Старший из дуэлянтов нанёс своему противнику удар в корпус, в ответ получил кинжал по рукоятку в горло и упал мёртвым к ногам соперника[1081].
И, конечно же, нельзя не вспомнить известного «кинжальщика» начала XVII столетия, скромного школьного учителя из Ангулема Франсуа Равальяка, вошедшего в историю благодаря тому, что 14 мая 1610 года он заколол ножом короля Франции Генриха IV. За пятнадцать лет до этого несчастного дня, 27 декабря 1595 года, многострадальный монарх уже пережил одно покушение, когда некий студиоз из клермонского иезуитского колледжа попытался воткнуть ему кинжал в горло, но, поскольку в этот момент король наклонился, удар пришёлся в верхнюю губу[1082].
 Рис. 1. Франсуа Равальяк.
Рис. 1. Франсуа Равальяк.
Равальяк был удачливей и убил короля двумя ударами в грудь. Как принято считать, первый удар пришёлся в ребро, но упорный учитель мгновенно нанёс второй. После первого удара король поднял руку, что и позволило Равальяку беспрепятственно нанести второй удар, который, согласно мнению Перефикса и л'Этуаля, угодил точно в сердце, а по свидетельству Риго, повредил предсердие. Убийца попытался нанести третий удар, но, по легенде, для защиты короля под нож якобы подставил руку герцог Эперно. «French Mercury» писала, что Генрих умер от первого удара, который «прошёл между пятым и шестым ребром, пробил вену и предсердие и перерезал полую вену, вследствие чего венценосец «мгновенно лишился речи и жизни». Однако в действительности первый удар лишь оцарапал кожу, не нанеся королю вреда[1083]. В большинстве источников в качестве оружия убийцы короля фигурирует кинжал, однако в «Procès Criminel fait a Francois Ravaillac» — стенограмме процесса Равальяка орудием убийства назван «couteau», то есть нож. В материалах допроса Равальяка также фигурирует «обоюдоострый нож с роговой рукояткой»[1084]. На портретах той эпохи он неизменно изображён держащим в руке нож с волнистым «пламенеющим» клинком.
Чем бы ни был зарезан основатель династии Бурбонов, но этот инцидент стал продолжением старой, доброй и уже устоявшейся традиции резать французских королей. Так, ещё задолго до Равальяка и иезуита, 1 августа 1589 года некий монах-доминиканец, Жак Клемент, ударил короля Франции Генриха III ножом в живот, отчего монарх и почил в бозе на следующий день[1085]. Видимо, именно эта неприятная манера пускать французских монархов под нож и сыграла фатальную роль в формировании мировоззрения и системы ценностей будущего венценосца, объявившего ножам беспощадную войну и вошедшего в историю под именем Людовик XIV. Людовик, или, как его ещё называли, Король-Солнце, большую часть своего правления вёл бои с традицией дворянских дуэлей, однако драконовские законы, безжалостно искоренявшие чуму поножовщины, также вышли именно из-под его пера.
Французские монархи безуспешно пытались запретить остроконечные ножи ещё эдиктом от далёкого 1287 года. Следующий ордонанс, направленный против остроконечного оружия, был издан в 1487 году и запрещал ношение луков, арбалетов, алебард, пик, мечей, и кинжалов[1086]. Но настоящим ударом для французских любителей пырнуть ближнего своего смертоносным изделием тверских фабрик явился именно королевский эдикт Людовика XIV о запрете остроконечных ножей от 12 января 1688 года. Указ сей за ослушание грозил вполне осязаемыми и не только небесными карами, быстро отбившими у пейзан и вельмож охоту хвататься за ножи. А не успели французы прийти в себя от первого ордонанса, как августейший монарх 12 июля 1669 года огласил новую расширенную редакцию закона, грозящую ещё более жуткими карами.
В этих указах милостью Божьей король Франции и Наварры сообщал своим подданным о приобретении многих городов во Фландрии и на других землях Нидерландов, отошедших Франции по Ла-Шапельскому договору. После этой преамбулы монарх плавно переходил к тому, что спокойствие и благоденствие в этих землях омрачается частыми ссорами их жителей, в которых случаются ранения и даже убийства, производимые ножами. Согласно ордонансу от 1669 года, если кто осмелился вопреки королевскому запрету носить при себе остроконечный нож или же достать его, то в случае, если ослушник не нанёс вреда и никому не причинил ранения, на первый раз его приговаривали к заковыванию в кандалы или к изгнанию. В случае же рецидива предлагалось более суровое наказание на усмотрение судей и в зависимости от обстоятельств дела.
За ранение, нанесённое ножом, виновный отправлялся на галеры, а если оно оказывалось тяжёлым или смертельным, то его приговаривали к смертной казни. Далее следует ремарка предусмотрительного и дальновидного короля, решившего превентивно пресечь возможные злоупотребления, которая гласила, что в подобных случаях не предусматриваются никакие заступничества или прошения о помилования на любом уровне, за исключением королевского помилования, скрёплённого большой королевской печатью.
Чтобы окончательно предотвратить вероятные злоупотребления, связанные с использованием ножей, Король-Солнце этим эдиктом настрого запретил оружейникам и торговцам изготавливать, покупать и продавать кинжалы, стилеты, штыки и остроконечные ножи под страхом конфискации товара и штрафа в сто флоринов. Треть указанной суммы отходила короне, треть — информатору и последняя треть — судебному приставу или другим полицейским чиновникам, проводившим конфискацию. Далее этот указ уточняет, что эти же санкции также распространяются на трактирщиков и хозяев постоялых дворов, которым вменялось в обязанность убрать остроконечные ножи со столов или притупить их в течение трёх дней с момента публикации настоящего эдикта[1087].
Очевидно, именно благодаря суровым законам появлялись достаточно курьёзные и экзотические виды дуэльного оружия — например, кинжалы на шлемах. Так, Хаттон в своей работе приводит историю двух корсиканских солдат — крепких парней, которые, поссорившись, решили встретиться в поединке. Из одежды на них были кольчуги без рукавов, надетые на простые рубахи, и стальные шлемы-морионы на головах. Счастливчик, которому достался выбор оружия, опасаясь силы и борцовского умения противника, сделал особый выбор: он настаивал, чтобы на макушке их шлемов были надёжно закреплены наточенные, обоюдоострые кинжальные клинки, и, кроме этой странной конструкции, каждый должен был вооружиться мечом. Они выполнили все необходимые церемонии и принялись за дело. Так как оба соперника были искусными фехтовальщиками, большинство мощных ударов не достигало цели.
Вскоре один из них, кто был посильнее и слыл хорошим борцом, перешёл в рукопашную схватку и бросил противника на землю. Но тот, хоть и был физически слабее, оказался настоящим бойцом, не разжал в падении хватки, и они упали вместе. При этом борец упал крайне неудачно и сломал себе руку, что лишило его всякого преимущества. В пылу схватки оба потеряли мечи, и единственным оставшимся у них оружием были клювообразные кинжалы на шлемах. Они лежали, сцепившись на земле, и били друг друга этими страшными клювами, как две разъярённые птицы, пока их незащищённые лица, шеи и руки не были исколоты и изрезаны до неузнаваемости. И так они сражались до тех пор, пока настолько не ослабели от мучений, усталости и потери крови, что уже только ворочались с боку на бок, совершенно обессилев и будучи не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. В таком прискорбном состоянии они были унесены секундантами, и победитель так и не был определён[1088].
Некоторые авторы склонны считать, что именно Король-Солнце покончил с дуэльным безумием, терзавшим Францию долгие годы. Другие оппонируют им тем, что и после смерти Людовика дуэли оставались любимой забавой нобилитета[1089]. Как мне кажется, именно усилия мудрого монарха уберегли Францию от судьбы, постигшей некоторые другие страны Средиземноморья, такие как Испания и Италия, где долгие столетия культура народных дуэлей на ножах исправно собирала свою кровавую жатву.
Разумеется, я не считаю это исключительной заслугой королевских ордонансов — такие же, не менее жёсткие указы, направленные на борьбу с ножами и поножовщиной, регулярно издавались и в Испании, и в Италии. Также я не думаю, что какую-то фатальную роль могла сыграть разница в темпераментах этих народов или то, что французы были менее склонны к насилию, чем, скажем, итальянцы. Скорее решающим фактором в борьбе с поножовщинами во Франции стала сильная исполнительная власть, жёстко и своевременно обеспечивающая проведение королевских решений в жизнь, а также осуществляющая не менее жёсткий контроль за их выполнением.
Как мы неоднократно убеждались на примере тех же Италии и Испании, французам было нельзя отказать в одном: где и когда они бы ни появлялись — будь то в правление Короля-Солнце или Наполеона Бонапарта, в Италии или в Испании, там тут же железной рукой, жёстко и бескомпромиссно, начинал устанавливаться порядок. Всё решалось чётко, слаженно и быстро. Итальянские власти столетиями вели вялую борьбу с ножами и достигшей пугающих масштабов культурой ножевых поединков. Французы мгновенно решили эту проблему с помощью суровых судебных приговоров, за которыми следовали реальные и длительные тюремные сроки. Патрули отбирали у прохожих ножи прямо на улице и в поисках оружия проводили домашние обыски. Всё то же самое можно сказать и об Испании — во время французской оккупации там проводили аресты и показательные казни поножовщиков, отбирали навахи и даже вводили запреты на ношение плащей, под которыми испанцы традиционно скрывали клинки. Можно долго спорить об оправданности этих мер, но не вызывает никаких сомнений, что появление жёсткой и неподкупной французской исполнительной власти всегда предвещало мощный удар по преступности и не в последнюю очередь по ножевой культуре. Эффективность французского правосудия, косвенно подтверждает и старинная голландская пословица, гласившая: «Сто голландцев — сто ножей, сто, сто шотландцев — двести ножей, а сто французов — ни одного ножа».
Хотелось бы отметить ещё один крайне любопытный факт. Я не зря привёл цитату из эдикта 1669 года, в котором говорится «о приобретении многих городов во Фландрии и на других землях Нидерландов, отошедших Франции». Это один из ключевых моментов нашего исследования, и поэтому хотелось бы остановиться на нём подробней. В 1667 году Людовик XIV начал войну с Испанией. В качестве предлога для притязаний на большую часть испанских Нидерландов он использовал свой брак с дочерью скончавшегося короля Испании Карлоса IV Испанского — Марией Терезией и сослался на немецкое право наследования, принятое в Брабанте и Намюре.
2 мая 1668 года в Аахене был подписан мирный договор, по которому к Франции отходили одиннадцать городов испанских Нидерландов. А уже 14-января того же года выходит жесточайший указ, направленный на борьбу с ножами и поножовщиной.
Возникают интересные корреляции. Вскоре после появления эдикта Короля-Солнца в 1697 году царь всея Руси Пётр Алексеевич совершает турне по Нидерландам. А по возвращении, в 1700 году, неожиданно издаёт суровый указ против остроконечных ножей, грозящий отступникам и нарушителям царской воли битьём кнутом и ссылкой. Это любопытная взаимосвязь требует дополнительного изучения и выходит за рамки данной работы, однако не исключено, что оба эти эдикта в подобном контексте не были случайностью. Могу только предположить, что определённое влияние на исчезновение дуэлей на ножах в Голландии оказала Франция. Конечно, это только версия, да и факторов, способствовавших окончанию дуэлей, было значительно больше, но и эту трактовку нельзя списывать со счетов.
Но вернёмся к народным дуэлям. Упоминания о поединках на ножах во Франции вплоть до конца XIX века были редкими и отрывочными. Подобные инциденты, как правило, происходили среди моряков или в армейской среде — двух субкультурах, первая из которых славилась агрессивностью и склонностью к насилию, а вторая — болезненным отношением к чести. Так, довольно необычная офицерская дуэль произошла в Париже между капитаном Раулем де Вером и полковником Барбье-Дюфэ. Во время ссоры они договорились драться на дуэли с кинжалами в правых руках, в то время как их левые руки были связаны вместе. В результате этого поединка де Вер был убит, а Барбье-Дюфэ смертельно ранен[1090]. Американские моряки не питали тёплых чувств к французам и считали их, как и испанцев, любителями хвататься за ножи, что прекрасно иллюстрирует стычка между французскими и американскими моряками, имевшая место в октябре 1806 года[1091].
Началом недолгой эпохи дуэлей на ножах во Франции можно считать первую четверть XX столетия, и появлением своим эти поединки обязаны легендарной парижской субкультуре, известной как «les apaches», или просто «апаши». «Лес апашес» были частью преступного мира Парижа времён Belle Epoque — «прекрасной эпохи», охватывающей период с конца XIX века до Первой мировой войны. Это прозвище они получили благодаря своему эпатажному поведению и эскападам, напоминавшим дикие выходки, приписываемые европейцами индейцам — апачам. А возможно, на появление этого названия повлияли газетные статьи тех лет, изобиловавшие подробностями стычек американской кавалерии с апачами и портретами их легендарного вождя Джеронимо.
 Рис. 2. Апаши, начало XX в.
Рис. 2. Апаши, начало XX в.
Согласно одной из трактовок, впервые эта выражение прозвучало в 1902 году в статье двух парижских журналистов — Артура Дюпена и Виктора Морриса. «Апашами» они называли бандитов и хулиганов с Рю де Лаппе и сутенёров Бельвилля, отличавшихся от других преступников эксцентричным поведением и любовью к демонстративному эпатажу публики[1092]. В этой заметке описывалась драка у одного из ночных монмартрских клубов: «Накал страстей в шумной ссоре между двумя мужчинами и женщиной достиг ярости индейцев апачей, бросающихся в бой»[1093].
По легенде, троице драчунов этот эпитет пришёлся по душе, название прижилось, и вскоре все парижские уличные банды стали называть себя апашам[1094].
Однако более реалистичной мне кажется версия, опубликованная 23 января 1910 года в журнале «Le Petite Journal illustre». В статье под названием «Как избавить Париж от апашей» журналист Эрнест Лаут приводит историю о том, как парижские бандиты получили своё имя. Согласно Лауту, как-то раз, после успешного рейда стражей порядка, в полицейский участок Бельвилля в полном составе была доставлена молодёжная банда. Молодые люди долгое время промышляли грабежами и терроризировали всю округу. Наконец полиции после мастерски проведённой операции удалось арестовать всю банду в количестве около десятка человек. На допросе главарь группировки, восемнадцати лет от роду, вёл себя высокомерно и цинично. Он охотно рассказывал полицейским обо всех деяниях своей банды и с плохо скрытой гордостью описывал, как они грабили магазины, нападали на запоздалых прохожих, избавляя их от кошельков, и какие военные хитрости они применяли в борьбе с конкурирующей бандой. О своих подвигах он рассказывал настолько эмоционально и с таким куражом, что полицейский, который вёл допрос, не выдержал и воскликнул: «Да вы просто какие-то апачи!» Юноше, который, как и большинство мальчишек начала XX века, был хорошо знаком с книжками об индейцах Майн Рида, Густава Эмара и Габриэля Ферри, это название пришлось по душе. Буйная и свирепая натура этих воинов Дикого Запада как нельзя лучше соответствовала нраву парней из его банды. Когда вскоре все бандиты благодаря обычной снисходительности суда покинули тюремные ворота, банда была восстановлена в прежнем составе уже под новым именем — «Бельвилльские апачи». Вскоре это название распространилось на все парижские банды. Как иронично заметил Лаут, «об апашах пишут ежедневно, и осталось только дождаться появления этого термина в академических словарях»[1095].
Основными занятиями апашей были мошенничество, сутенёрство и уличные грабежи, иногда заканчивавшиеся убийствами. Средний возраст членов этих банд, как правило, не превышал двадцати лет. Существовало несколько характерных аксессуаров, выделяющих апашей из толпы. В первую очередь это была обувь — пара франтовских туфель должна была сверкать в любую погоду. Далее шли фуражка или кепка, небрежно повязанный шейный платок, рубашка с отложным воротником и пиджак. Некоторые апаши делали себе татуировку с изображением гильотины. Этот мрачный сюжет сопровождался философскими сентенциями в стиле «Моя последняя прогулка» или «Вот как я закончу свои дни». На спине одного безжалостного убийцы была трогательная татуировка: «Вспыльчивый, но добродушный»[1096]. У некоторых апашей были татуировки в виде кольца из точек вокруг шеи, сопровождаемые инструкцией: «Палач, руби по пунктирной линии»[1097].
 Рис. 3.4. Татуировки, наносившиеся заключёнными бириби — французских военных тюрем в Северной Африке.
Рис. 3.4. Татуировки, наносившиеся заключёнными бириби — французских военных тюрем в Северной Африке.
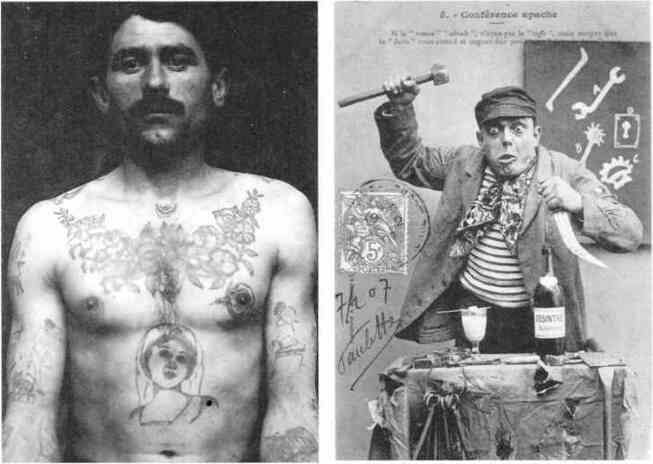 Рис. 5. Татуировки, наносившиеся заключёнными бириби — французских военных тюрем в Северной Африке.
Рис. 6. Гротескное изображение апаша с кинжалом и бутылкой абсента. Из цикла открыток «Конференция апашей», начало XX в.
Рис. 5. Татуировки, наносившиеся заключёнными бириби — французских военных тюрем в Северной Африке.
Рис. 6. Гротескное изображение апаша с кинжалом и бутылкой абсента. Из цикла открыток «Конференция апашей», начало XX в.
Апаши бесчинствовали в парижских районах Бельвилль, Бастилия, Ла Вийет и Монмартр, где находился известный ночной клуб «Мулен Руж». Во время расцвета этой субкультуры страх подвергнуться нападению апашей и ограблению ни днём, ни ночью не давал покоя формировавшемуся среднему классу буржуазии. Некоторые банды использовали специфический тип универсального оружия, известный как «револьвер апашей»: небольшой револьвер без ствола с кастетом-рукояткой и складным клинком под барабаном, напоминавшим штык[1098].
Апаши также разработали целый набор уловок, используемых ими в уличных ограблениях. Одним из самых известных «хрестоматийных» трюков, или, как говорили советские бандиты 30-х годов, «подходов»[1099], был так называемый «coup du рёге François» — «метод папаши Франсуа». «Папашин» метод заключался в следующем: один из апашей сзади накидывал на горло жертвы удавку, разворачивался и подтягивал за шею к себе на спину, в то время как второй его сотоварищ спокойно обшаривал карманы беспомощной жертвы, а третий стоял на стрёме. Излишне трепыхающийся клиент, мешавший апашу в этой тяжёлой работе, мог получить удар ножом[1100].
 Рис. 7. Перстни апашей. 1911 г.
Рис. 7. Перстни апашей. 1911 г.
Апаши в буквальном смысле терроризировали Париж начала века. Вот что 21 октября 1905 года о них писала «National Police Gazette»: «Самые ужасные головорезы мира. Мастера воровства. Они ожесточённо дерутся на ножах в общественных местах среди бела дня. Не боятся и презирают полицию. Они преданны друг другу в любых обстоятельствах, живут по своим законам и объединены против общества. В Париже, этом образцовом городе, надёжно охраняемом жандармами, есть улицы более опасные, чем улицы какого бы то ни было другого города. И всё это из-за отчаянных парижских бандитов. 15 лет назад песни парижских хулиганов были для публики в новинку и стали популярны. Тогда они ещё жили мало кому известной жизнью в своих «странных» кварталах; парижане, жившие в пригородах за полицейскими бастионами, были так далеки от всего этого. Сегодня эти головорезы уже в центре столицы. Они чувствуют себя как дома в самом сердце старого города, рядом с собором Нотр-Дам. Не проходит и дня без того, чтобы они появились на улице Сен-Мартен, в районе Монмартра, в Газетном ряду; Севастопольский бульвар и улочки вокруг Центрального рынка также становятся свидетелями каждодневного насилия; и площадь Бастилии превращается в настоящее поле битвы между апашами и полицией, что переходит все рамки»[1101].
Широкий резонанс получил инцидент, имевший место осенью 1905 года, когда на рю де ла Рокетт столкнулись две банды апашей в количестве около двадцати человек. Перепуганные владельцы находившихся по соседству магазинчиков вызвали полицию. Вскоре к месту драки прибыли восемь жандармов. При виде полиции апаши мгновенно забыли о своих разногласиях и, объединившись, напали на «фликов». В то время как нападавшие пускали в ход ножи и другое оружие, полицейские только защищались. В большей степени это было обусловлено страхом вызвать гнев либеральных газет и левых членов палаты депутатов, которые не преминули бы поднять вой в связи с «варварской жестокостью» полиции. В результате в самом центре Парижа, на площади Бастилии, почти час шёл бой, в котором полиция истекала кровью. Вскоре из дюжины близлежащих баров к апашам подтянулось подкрепление. Они дрались кастетами, называемыми «американский удар», дубинками, залитыми свинцом палками, тростями-шпагами и даже палили из револьверов. Но их самым любимым оружием, как писали газеты, «был длинный, узкий, острый нож, называемый «зарин», которым они ловко владеют»[1102].
 Рис. 8. Револьвер апашей с кастетом и клинком.
Рис. 8. Револьвер апашей с кастетом и клинком.
О презрительном отношении апашей к полиции лучше всего говорит обложка журнала «Petit Journal» от 20 октября 1907 года. На иллюстрации под надписью «Апаши, чума Парижа» изображён хрестоматийный франт-апаш в кепке, начищенных туфлях, с широким красным кушаком вокруг талии, с ножом в руке и небрежно повязанным шейным платком, презрительно поглядывающий сверху вниз на крохотную трагикомичную фигурку жандарма. Очевидно, эта аллегория была призвана символизировать полную беспомощность полиции[1103].
Кроме оригинального оружия стиля одежды и татуировок апаши подарили Европе свой танец, быстро завоевавший бешеную популярность в парижских салонах. Танец этот представлял собой хореографические этюды, или скорее пантомиму, символизировавшую отношения сутенёра и проститутки. Среди основных фигур танца было таскание партнёрши за волосы по полу, пощёчины, пускание сигаретного дыма в лицо, угрозы ножом, а одним из самых эффектных и любимых публикой было выбрасывание дамы в окно или в дверь. Из-за подобных бросковженщины во время этого жестокого перформанса нередко получали переломы шеи и позвоночника, а порой эти дикие танцы даже заканчивались смертью. По словам Ирен Кастл, первая жена известного танцора Мориса Мове погибла именно во время исполнения этого танца. Как писал о танце апашей сам Мове: «Я считаю его крайне жёстким танцем, но в нём нет демонстративной вульгарности. Этот танец отражает реализм примитивных страстей, и, как отражение жизненных реалий, он обладает красотой и художественной мощью».
Когда танец апашей вошёл в моду, дамы из парижского высшего света нанимали самых отъявленных бандитов для того, чтобы те учили их танцам. И чем кровожадней был апаш, тем больше ему платили[1104]. В октябре 1908 года российская газета «Раннее утро» писала об этом танце: «Танец апашей — этих подонков современного Парижа, был недавно впервые исполнен в одном из обозрений какого-то монмартрского театра-шантана. Любой новый танец влияет на парижан с силой эпидемической. Танец апашей был подхвачен широкими кругами общества, и теперь в самых светских домах он завоевал себе почетное место в списке излюбленных танцев падких до острых ощущений парижан»[1105].
Некоторые элементы субкультуры апашей не только вошли в моду во многих странах, но вскоре стали и частью мировой культуры. Подобная судьба, например, постигла и «танец апашей», и легендарные рубашки «апаш» с отложными воротниками. Так и сегодня, многие из этого символического танца-конфликта сутенёра и проститутки, апофеоза доминирования над женщиной, можно увидеть и в аргентинском танго, которое приобрело в Париже французский акцент, и в элементах фигурного катания[1106].
Огромную роль в популяризации и героизации этой субкультуры, несомненно, сыграли французские массмедиа. Так, самый популярный иллюстрированный французский журнал конца XIX — начала XX столетия «Le Petite Journal» — «Маленький журнал» смело можно назвать главным печатным органом, рупором и апологетом апашей. Редкий выпуск этого издания обходился без красочных изображений романтичных красавцев со злодейскими усиками и описания их очередных подвигов. Экзальтированная парижская публика знала многих сумрачных рыцарей ножа и удавки по именам и внимательно следила за описанием их романтических похождений. Каждому парижанину времён «бель эпок» были знакомы имена таких прославленных апашей, как Теофил ле Бонте, более известный как Тео-Монпарнасец, Жюль Жак по кличке Тигр, Крошка Скарлип, Луи Душитель, Рауль Мясник, Доминик Лека, Жозеф Пленьер, или Морис Пату[1107].
 Рис. 9. Апаш Антон Отто Краузер. Criminal Man. Чезаре Ломброзо, 1911 г.
Рис. 10. Амели Эли по прозвищу Золотой шлем, за сердце которой сражались предводители банд апашей Жозеф Пленьер и Доминик Лека. (Около 1900 г).
Рис. 9. Апаш Антон Отто Краузер. Criminal Man. Чезаре Ломброзо, 1911 г.
Рис. 10. Амели Эли по прозвищу Золотой шлем, за сердце которой сражались предводители банд апашей Жозеф Пленьер и Доминик Лека. (Около 1900 г).
 Рис. 11. Известный апаш и лидер банды Орту, Жозеф Пленьер. (1876–1922).
Рис. 11. Известный апаш и лидер банды Орту, Жозеф Пленьер. (1876–1922).
 Рис. 12. Король Бельвильских апашей, лидер банды Пупанкур, корсиканский сутенёр, Доминик Франсуа Эжен Лека (1874-около 1907).
Рис. 12. Король Бельвильских апашей, лидер банды Пупанкур, корсиканский сутенёр, Доминик Франсуа Эжен Лека (1874-около 1907).
Несмотря на мрачную репутацию головорезов, апашам, как и всем благородным бандитам Франции начиная ещё с легендарного Картуша, по закону жанра не чужды были понятия о чести. Как писал автор «Комиссара Мегрэ» Жорж Сименон: «А ещё были апаши. Повелась такая мода — шалить с ножом у тёмных фортов, и не обязательно ради выгоды, не всегда ради бумажника или часов прохожего. Видимо, просто хотелось доказать самому себе, что ты мужчина, гроза здешних мест, покуражиться перед потаскушками, которые в черных плиссированных юбках с пышными прическами поджидали клиентов на панели под газовым фонарем» [1108].
Прекрасной иллюстрацией к этой цитате из Сименона может служить классическая дуэль чести уже упомянутого апаша Мориса Пату, проходившая летом 1922 года. Пату по кличке Ужасный Шарль не поделил с другим апашем, Шарлем Аллеманжем по кличке Шарль Мокрушник, некую Луизу Расти, известную как Очаровашка Лулу. В июне 1922 года в газете «Нью-Йорк таймс» вышла посвящённая этому поединку заметка под заголовком «Осуждён за дуэль на ножах»: «Смертельная дуэль из-за женщины принесла тюремные сроки победителю, парижскому апашу Морису Пату и свидетелям поединка. Суд отверг доводы защиты, утверждавшей, что дуэли на ножах в преступном мире так же уважаемы, как шпага или пистолет в высших кругах»[1109].
Согласно показаниям свидетелей этой дуэли, поединок проходил согласно правилам, в соответствии с кодексом чести и с соблюдением всех дуэльных норм. Секунданты на месте заточили и раздали противникам одинаковые ножи.
Какое-то время после начала боя никто из дуэлянтов не имел преимущества, пока Аллеманж не совершил роковую ошибку, попытавшись ударить своего противника ногой в живот. Опытный боец Пату тут же воспользовался этой оплошностью, налетел на соперника и нанёс ему несколько ударов ножом, ставших для Аллеманжа фатальными[1110]. Все участники этой дуэли были арестованы. И хотя адвокаты Пату пригласили на суд немало уважаемых людей, потвердивших, что поединок проходил согласно классическим дуэльным правилам, и сам апаш, и секунданты этой дуэли были приговорены к двум годам заключения каждый. Организатор поединка также не избежал наказания и получил шесть месяцев тюрьмы. Столь мягкие наказания участникам дуэли объясняются тем, что этот процесс вызвал широкий резонанс и привлёк внимание всей Франции. В результате на суд было оказано давление, аргументированное тем, что оба апаша дрались согласно древним кодексам чести и оба соблюдали дуэльные нормы и правила.
Из газет мы узнаём и о другой «дуэли чести», произошедшей в июле 1933 года. В одном из баров в парижском районе Лес Аль повздорили двое апашей — Гюстав Уаю двадцати пяти лет и его одногодок Альфред Лиссе. Они пару раз заехали друг другу в лицо кулаками и разошлись. Вскоре, этим же вечером, Уаю оправил к Лиссе товарища, который передал ему формальный вызов на дуэль на ножах и приглашение прибыть для урегулирования вопроса чести на площадь Невинных. Уже вскоре после начала поединка «чести» оба были тяжело ранены. У Уаю была перебита яремная вена, а Лиссе получил два удара ножом в бедро, рядом с бедренной артерией. Уаю в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь Ларибузьер, а истекавшего кровью Лиссе — в старейшую парижскую больницу «Hôtel-Dieu de Paris»[1111].
Человеком чести был и другой прославленный апаш, Теофил ле Бонте, более известный в узких кругах как Тео-Монпарнасец. Сутенёр Тео был хрестоматийным апашем и считался душой и идеологом движения. Также Тео был известен как автор «Марсельезы» апашей, в которой были следующие слова: «Наши предки взяли Бастилию — так давайте же штурмовать тюрьму Сайте и Сент-Лазар, и станцию, и Сюрте; давайте разобьём наши цепи; конец рабству; давайте перевернём это общество; общество назвало нас апачами, так давайте же и мстить ему как дикари». И припев звучал как: «К оружию, отважные воры, анархисты и сутенёры».
Какое-то время Тео жил в Лондоне, где занимался привычным ремеслом сутенёра в районе Ковентри-стрит и Лестер-сквера. В июне 1907 года парижский суд приговорил его к пожизненному заключению за убийство стукача, выдавшего полиции шестерых апашей, среди которых оказался и приятель Монпарнасца по имени Лукас. Когда Тео дали последнее слово, он сказал: «Если передо мной стоит выбор убить стукача или провести двадцать лет в тюрьме, я выбираю двадцать лет». Приговор Тео воспринял спокойно, как и приличествовало настоящему апашу. Когда его уводил конвой, он повернулся к суду и сказал: «До встречи», при этом взмахнув рукой, как будто наносил удар ножом[1112].
Мстительность апашей была притчей во языцех. Так, «Petit Journal» от 19 мая 1907 года описывает месть апаша по имени Марше давнему обидчику, некоему стукачу по имени Бергер. Бергера долго искали, пока наконец до Марше не донеслось, что его видели на бульваре Ла Виллет. Апаши организовали за ним слежку, и в конце концов он оказался у них в руках. Информатора притащили на пустырь у бульвара де ла Шапель, связали и засунули ему в рот кляп. Апаши достали свои ножи, и каждый из них нанёс Бергеру «piqua» — предназначенный для предателей и стукачей порез на лице, напоминающий неаполитанский «сфреджо». И наконец последним ударом ножа Марше отсёк ему нос. После этого апаши бросили свою жертву и скрылись[1113].
 Рис. 13. Ограбление с использованием метода папаши Франсуа. Comment Se Defendre. Жорж Дюпа, 1922 г.
Рис. 13. Ограбление с использованием метода папаши Франсуа. Comment Se Defendre. Жорж Дюпа, 1922 г.
 Рис. 14. Французский апаш с татуировкой ножа кра-кра на левом предплечье.
Рис. 14. Французский апаш с татуировкой ножа кра-кра на левом предплечье.
Как отметила в 1905 году процитированная выше «Полицейская газета», любимым оружием апашей был нож «зарин». Первые упоминания об этом оружии мы встречаем ещё в 1837 году в книге Эжена Видока, легендарного французского сыщика, основателя и первого директора уголовного сыска Франции — Сюрте «Воры. Их нравы и язык». Наряду с другими сленговыми названиями ножа, такими как «двадцать два», что на арго означало «шухер», «косарь», «лингр» и «лингриот», получивших имя от города Лангр, известного производством ножей, Видок также упоминает термины «чурин» и «зурин»[1114].
А через несколько лет, в начале 1840-х, «чурин» уже фигурирует в «Парижских тайнах» известного французского романиста Эжена Сю. Более того, один из самых зловещих персонажей романа — убийца, славящийся искусностью в обращении с ножом, носит прозвище Чуринер, что не может не напомнить об аналогии с римскими «сикариями» — убийцами, получившими своё имя от кривого кинжала — «сики»[1115].
Это жаргонное название ножа из французских трущоб нам уже знакомо по созвучным терминам, бытовавшим в Англии, Испании, Италии и Аргентине. И корни его, несомненно, следует искать в цыганском языке романи. Открыв словарь простонародного французского языка 1929 года, мы читаем: «Surin — нож. Жаргон апашей. Деформация цыганского chourin. Suriner — от chouri-ner, поножовщик, убийца»[1116]. Упоминает о «зурине» устами персонажа «Отверженных», Жавера, и Виктор Гюго: «Твоя взяла», — ответил Жавер. Жан Вальжан вытащил из жилетного кармана складной нож и раскрыл его. «Ага, перо! — воскликнул Жавер. — Правильно. Тебе это больше подходит»[1117].
В оригинальном издании 1862 года у Гюго это звучало так: «Javert repondit: — Prends ta revanche, Jean Valjean tira de son gousset un couteau, et l'ouvrit. - Un surin! s'ecria Javert. Tu as raison, Cela te convient mieux»[1118].
Таким образом, в кармане Жан Вальжан носил не что иное, как цыганский «зурин». Трудно сказать, что называли «зурином» французские работники ножа и топора в первой четверти XIX столетия. Видок скупо упоминает, что это был «petit couteau», то есть небольшой нож, что ситуацию особо не проясняет. С любимцами же парижских апашей конца XIX — начала XX столетий всё значительно проще. Существует множество повествовательных и иконографических источников, немало этих ножей можно встретить в музеях и частных коллекциях.
На большей части рисунков, дагерротипов и фотографий эры апашей в руках у этих франтов мы можем увидеть два основных типа ножей. Первый из них — это различные вариации на тему складных стилетов, называемых «Couteau a cran d'arret» — пружинный нож. Как правило, этот тип ножей имел рудиментарную крестовину, одностороннюю заточку, а иногда ещё и заточенную первую треть обуха. Характерной чертой этих стилетов, отличающей их, например, от итальянских аналогов, являлось навершие рукоятки, стилизованное в форме рыбьего хвоста. Большая часть этих «couteau de defense» — ножей для самообороны была произведена во французском местечке Шательро. Вторым по популярности «зурином» апашей являлись многочисленные копии и клоны каталонских навах, как правило, снабжённые «ятаганными» клинками. Часть этих навах носила имя «Solognot» по названию региона Солонь. Навершие рукоятки нередко изготавливалось в форме стилизованного хвоста гремучей змеи, а накладки украшались вытравленным флоральным орнаментом. Хотя случались и отступления от «правил». Так например, на обложке журнала «Lyon-Républicain» от 31 мая 1903 года в руке у апаша мы можем увидеть традиционный крестьянский нож «нонтрон»[1119].

Рис. 15. Ножи изготовленные в Шательро в 1830–1850. La Coutellerie, Камиль Паж, 1896–1904.
Апаши, пойманные военными патрулями на пустырях Бельвилля, насильно мобилизованные и отправленные в теплушках на Западный фронт, везли с собой свои неразлучные «зарины» и навыки, полученные в уличных поединках Лейтенант ирландской гвардии Валентин Вильямс — кавалер Военного креста принимавший участие в боевых действиях на Сомме, писал в 1915 году, что французы славились тем, что в немецких траншеях отбрасывали в сторону винтовки и бросались на бошей со складными ножами или с самодельными заточками[1120]. В коллекции Люсьена Перрона хранится большая каталонская наваха с выгравированным на лезвии мотто «Mort aux boches» — «Смерть немцам». Хотя не исключено, что это всего лишь послевоенный сувенир.
Особенно ввести у солдат были французские вариации на тему испанской навахи с таким же, как у «испанцев», храповым механизмом, издающим при открывании характерный трещащий звук, за что эти ножи и получили прозвище «кра-кра». Как правило, это были недорогие крестьянские ножи с деревянными рукоятками и кольцом для продевания пальца, облегчающим закрывание. Нередко этот вид складных ножей считают типичным для Корсики и даже гравируют на клинках патетические надписи в стиле «корсиканская вендетта». Позже эти популярные ножи долгое время выпускали в Германии и Африке под названием «Окапи», а также как «Агути» во Франции. В 80-е годы их копию производила советская Белоруссия, а недавно этот бессмертный нож запустила в серию компания «Колд Стил» под именем «Куду», продолжив старую традицию называть эти ножи в честь представителей африканской фауны.


Рис. 18. Солдатский траншейный нож. Длина клинка 150 мм, 1915 г.

 Рис. 20. «Аутентичное оружие апашей». Эжен Вильод, 1912 г.
Рис. 20. «Аутентичное оружие апашей». Эжен Вильод, 1912 г.
Изображениями подобных копий каталонских навах изобилуют и многочисленные пособия по самообороне, издававшиеся во Франции перед Второй мировой войной. Не только Париж, но и многие другие города Европы и США начала XX столетия задыхались от уличной преступности. Я не буду подробно анализировать социальные, культурные и экономические причины, породившие это явление, так как этот феномен выходит за рамки нашего исследования, но нам он интересен тем, что породил новый жанр — литературу по самообороне. Если в середине XIX века подобные издания были достаточно редки, то уже в первой четверти XX столетия на читателя обрушилась целая лавина пособий, в большинстве своём крайне сомнительного качества, дающих обывателям глубокомысленные советы по самообороне. Например, в России прилавки книжных магазинов были завалены всевозможными рекомендациями для «господ офицеров» по владению вошедшим в моду джиу-джитсу. Не отставали и французские книготорговцы, предлагавшие покупателям несколько десятков подобных опусов, изобилующих советами, с помощью которых почтенный буржуа средних лет должен был легко обратить в бегство десяток вооружённых апашей.
 Рис. 21. Парижские апаши учатся защищаться от ножа с помощью трости. Начало XX в.
Рис. 21. Парижские апаши учатся защищаться от ножа с помощью трости. Начало XX в.
В 1898 году вышла работа Жоржа Армори «Treatise on the French Method of the Noble Art Of Self Defence»[1121]. Вскоре, в 1912 году, за ней последовали «La Defence Dans La Rue» Жозефа Рено, «Comment Se Defendre» Жоржа Дюбуа, вышедшая в 1922 году, и многие другие пособия. В качестве иллюстрации приведу один из советов по самообороне для женщин из книги «Comment Se Defendre» — «Как себя защитить». В этом пособии учитель фехтования, некий господин Дюбуа, рекомендовал женщинам, поздно вечером пересекающим неблагополучный район, держать в руке открытый складной нож, который он предложил целомудренно завернуть в газету, чтобы не пугать прохожих и не привлекать излишнего внимания блюстителей порядка. При встрече же с гипотетическим злодеем маэстро при первых признаках опасности рекомендовал парижским дамам не колеблясь нанести потенциальному насильнику-грабителю удар ножом в область желудка[1122].
На фото, призванном иллюстрировать этот кровожадный совет, изображена хрупкая мадмуазель Мадлен Дюбуа, доходчиво демонстрирующая дамам, как именно нужно прятать нож в газетку. При этом в руке у неё, как, собственно, и на всех остальных иллюстрациях к пособию Дюбуа, мы видим большую каталонскую наваху. Что также следует и из подписи к фото, где нож именуется «couteau catalan» — каталонский нож[1123].

 Рис. 23. Оборона от ножа с помощью трости. Comment Se Defendre. Жорж Дюбуа, 1922 г.
Рис. 23. Оборона от ножа с помощью трости. Comment Se Defendre. Жорж Дюбуа, 1922 г.
 Рис. 24. Мадлен Дюбуа с ножом спрятанным в газете. Comment Se Defendre. Жорж Дюбуа, 1922 г.
Рис. 24. Мадлен Дюбуа с ножом спрятанным в газете. Comment Se Defendre. Жорж Дюбуа, 1922 г.
А это уже рекомендации по использованию ножа в драке от автора «La Defence Dans La Rue» месье Рено. Его концепция ножевого боя выглядела следующим образом. Оружие мэтр рекомендовал удерживать в руке, уперев навершие рукоятки в основание ладони. Нож предпочтительней должен быть остроконечным и наточенным до бритвенной остроты. Также приветствовалась и заточенная часть первой трети обуха клинка — для лучшего проникновения в цель при колющих ударах. Нож было необходимо уметь держать в любой руке, не испытывая дискомфорта. Правшам автор пособия рекомендовал следующие удары и комбинации: показать атаку в верхнюю часть тела и нанести удар в живот; показать атаку в живот, нанести удар в горло; нанести удар в кисть или предплечье противника; показать укол в живот и ударом справа или слева нанести порез в лицо. Клинок при этом Рено советовал держать горизонтально, чтобы при ударе в грудь лезвие проскользнуло между рёбрами. Также автор пособия рекомендовал наносить резкие уколы и порезы в кисть и предплечья противника. С помощью пары финтов нужно было убедить соперника в намерении атаковать грудь или живот и при этом нанести колющий удар в руку. А уже следующим ударом должен стать укол в грудь. На упрёки и обвинения в том, что его рекомендации скорее приличествуют апашам, месье Рено резонно заметил, что каждый защищает себя как умеет и что не подобает джентльмену быть униженным или убитым[1124].
Сегодня во Франции не существует явления, подобного волне поножовщин, захлестнувшей Англию, и отчёты британских газет о так называемой «culture du poignard» ножевой культуре, царящей в Лондоне и других крупных городах Англии, читают здесь со священным ужасом. Но тем не менее эксперты предупреждают, что успокаиваться рано и Франция может легко последовать за Британией. По словам Алена Бауэра, ведущего французского криминолога, ношение ножей и другого оружия несовершеннолетними широко распространено сегодня во многих бедных районах французских городов. И если количество убийств по стране остаётся относительно низким — в среднем около тысячи в год, из которых только тридцать пять совершается несовершеннолетними, — то в последнее время наблюдается значительный рост насилия среди подростков. «Главное отличие в том, что наша «культура банд» в большей степени противостоит представителям властей. В Британии же эта культура скорее ориентирована на междоусобные разборки», — говорит месье Бауэр[1125].
Собственно говоря, противостояние маргинальных субкультур и властей, это типичная и традиционная тенденция для всех стран Средиземноморья. Однако, во Франции, в отличие, скажем, от Италии, не существовало могущественных и закрытых преступных сообществ, которые обычно и выполняют роль своеобразных «консервантов», неких «заповедников», в течение длительного времени способствующих выживанию и сохранению различных кровавых традиций. В сегодняшней Франции ножи, это прерогатива этнических преступных группировок, преимущественно выходцев из стран Северной Африки — бывших колоний. Об апашах — этих романтичных рыцарях без страха и упрёка, оставшихся в тех далёких кафе-шантанах Бель Эпок, нам напоминают лишь парни в рубахах с отложными воротниками на пляжах Ниццы, и надтреснутый звук старого аккордеона, исполняющего шансон Серебряного века в Монмартрском дворике.
Глава IX
ДУЭЛИ НА ВЫВОЗ
Экспорт ножевой культуры

 Началась эта история пять столетий назад, в XVII веке, когда высадившиеся на побережье Северной Америки голландские переселенцы основали на континенте колонии — Новые Нидерланды и Новый Амстердам. Как и в любой эмиграции, первыми к берегам земли Обетованной прибыли пассионарии. Вместе со своими фарфоровыми курительными трубками, кафтанами, чулками, башмаками с пряжками и войлочными шляпами они привезли на берега Гудзона голландскую манеру пить без меры и модную в то время в Голландии традицию поединков на ножах.
Правительство голландских поселений полностью отдавало себе отчёт в опасности злоупотребления алкоголем и кровавых последствиях этой пагубной привычки и заблаговременно попыталось принять превентивные меры. Так, в 1638 году губернатор Новых Нидерландов Кифт и городской совет постановили: «Ежедневное питьё вызывает множество бед и пороков и потому с этого момента всем лицам запрещается продавать и держать дома какое-либо вино под угрозой штрафа в 25 гульденов, за исключением лавок, где вино может покупаться по справедливой цене и разливаться в умеренных количествах»[1126].
Но, видимо, это не возымело должного действия и особо не сократило незаконный оборот алкоголя, так как спустя несколько лет, 11 июля 1642 года, государственный совет в назначении наказаний за драки в тавернах последовал примеру Генеральных штатов. В преамбуле к закону в мрачных тонах была обрисована сложившаяся ситуация: «Каждый день мы в избытке слышим о несчастных случаях, по большей части вызванных ссорами, выхваченными ножами и драками, а также множеством таверн и дешёвых баров. Никто не может использовать нож, а тем более наносить ранения другому лицу под угрозой штрафа в 50 гульденов или каторжных работ в цепях с неграми»[1127].
Судя по дошедшим до нас документам, поединки на ножах были типичным явлением для всех голландских поселений. Так, например, упоминания о подобных дуэлях нередко встречаются в судебных делах Форта Нассау, предшественника современного городка Олбани. Согласно архивным записям, во время случавшихся там поединков на ножах человека признавали виновным в умышленном убийство только в том случае, если смерть наступала в результате колющего удара ножом. Но если же речь шла лишь о порезах, то всё ограничивалось обвинением в убийстве по неосторожности[1128]. Легендарный губернатор Петер Стайвесант, правивший Новыми Нидерландами с 1647 года, за участие в поединках на ножах обычно приговаривал дуэлянтов к шести месяцам тюрьмы[1129].
В это же время на другом континенте, в далёкой Африке, появилась ещё одна голландская колония. В 1652 году мореплаватель Ян ван Рибек под патронажем Голландской Ост-Индской компании, в Столовой бухте, вблизи от мыса Доброй Надежды, основал Капскую колонию. Столицей её стал город Капстад, позже переименованный в Кейптаун[1130]. К сожалению, единственным свидетельством о дуэлях на ножах в этой голландской колонии, которое мне удалось найти, стала гравюра известного датского художника XVIII столетия Йоханнеса Рача, являющаяся одной из иллюстраций к известному Атласу ван Столка. На этой гравюре с видом Кейптауна, датированной 1762 годом, на переднем плане мы видим дуэль на ножах с участием двух голландцев. Один из дуэлянтов, одетый как матрос, высоко поднятой в типично испанской манере рукой защищает лицо и голову, в то время как его противник левой рукой прикрывает живот и сердце.
Началась эта история пять столетий назад, в XVII веке, когда высадившиеся на побережье Северной Америки голландские переселенцы основали на континенте колонии — Новые Нидерланды и Новый Амстердам. Как и в любой эмиграции, первыми к берегам земли Обетованной прибыли пассионарии. Вместе со своими фарфоровыми курительными трубками, кафтанами, чулками, башмаками с пряжками и войлочными шляпами они привезли на берега Гудзона голландскую манеру пить без меры и модную в то время в Голландии традицию поединков на ножах.
Правительство голландских поселений полностью отдавало себе отчёт в опасности злоупотребления алкоголем и кровавых последствиях этой пагубной привычки и заблаговременно попыталось принять превентивные меры. Так, в 1638 году губернатор Новых Нидерландов Кифт и городской совет постановили: «Ежедневное питьё вызывает множество бед и пороков и потому с этого момента всем лицам запрещается продавать и держать дома какое-либо вино под угрозой штрафа в 25 гульденов, за исключением лавок, где вино может покупаться по справедливой цене и разливаться в умеренных количествах»[1126].
Но, видимо, это не возымело должного действия и особо не сократило незаконный оборот алкоголя, так как спустя несколько лет, 11 июля 1642 года, государственный совет в назначении наказаний за драки в тавернах последовал примеру Генеральных штатов. В преамбуле к закону в мрачных тонах была обрисована сложившаяся ситуация: «Каждый день мы в избытке слышим о несчастных случаях, по большей части вызванных ссорами, выхваченными ножами и драками, а также множеством таверн и дешёвых баров. Никто не может использовать нож, а тем более наносить ранения другому лицу под угрозой штрафа в 50 гульденов или каторжных работ в цепях с неграми»[1127].
Судя по дошедшим до нас документам, поединки на ножах были типичным явлением для всех голландских поселений. Так, например, упоминания о подобных дуэлях нередко встречаются в судебных делах Форта Нассау, предшественника современного городка Олбани. Согласно архивным записям, во время случавшихся там поединков на ножах человека признавали виновным в умышленном убийство только в том случае, если смерть наступала в результате колющего удара ножом. Но если же речь шла лишь о порезах, то всё ограничивалось обвинением в убийстве по неосторожности[1128]. Легендарный губернатор Петер Стайвесант, правивший Новыми Нидерландами с 1647 года, за участие в поединках на ножах обычно приговаривал дуэлянтов к шести месяцам тюрьмы[1129].
В это же время на другом континенте, в далёкой Африке, появилась ещё одна голландская колония. В 1652 году мореплаватель Ян ван Рибек под патронажем Голландской Ост-Индской компании, в Столовой бухте, вблизи от мыса Доброй Надежды, основал Капскую колонию. Столицей её стал город Капстад, позже переименованный в Кейптаун[1130]. К сожалению, единственным свидетельством о дуэлях на ножах в этой голландской колонии, которое мне удалось найти, стала гравюра известного датского художника XVIII столетия Йоханнеса Рача, являющаяся одной из иллюстраций к известному Атласу ван Столка. На этой гравюре с видом Кейптауна, датированной 1762 годом, на переднем плане мы видим дуэль на ножах с участием двух голландцев. Один из дуэлянтов, одетый как матрос, высоко поднятой в типично испанской манере рукой защищает лицо и голову, в то время как его противник левой рукой прикрывает живот и сердце.
 Рис. 1. Вид Кейптауна. Иоханнес Рах. 1762 г. (Атлас ван Стояка).
Рис. 1. Вид Кейптауна. Иоханнес Рах. 1762 г. (Атлас ван Стояка).
Ещё одним косвенным свидетельством существования поединков на ножах в Капском месте может послужить следующая история. В 2006 году на одном из уважаемых оружейных форумов обсуждалась классическая испанская наваха XIX века, привезённая из Южной Африки. На клинок ножа была нанесена гравировка на африкаанс — диалекте нидерландского, на котором говорили голландские переселенцы в Капской колонии. Надпись гласила: «Van aboor in varen», что можно перевести как «От настоящего бура». Бурами (от голландского «Ьоегеп» — крестьяне), или африканерами, называли себя потомки этих голландских колонистов[1131].
Валерий Петрович Полозов, анализируя в своей работе «Оружие в гражданском обществе» законодательство США, регулирующее скрытое ношение оружия, отмечая его ярко выраженную ксенофобскую и расистскую направленность, а также тенденциозность по отношению к эмигрантам, задаётся вопросом: чем это могло быть обусловлено[1132]? Очевидно, автор имел в виду принятый в штате Нью-Йорк в 1911 году и до сих пор не потерявший силы пресловутый закон Салливана, названный так в честь его инициатора сенатора Тимоти Салливана. Закон ввёл лицензирование огнестрельного оружия и, кроме этого, запрещал всевозможные виды скрытого оружия, такие как кастеты, кистени, дубинки, а также ножи, кинжалы и бритвы при условии, что их собирались использовать в преступных целях. Главной мишенью для закона и в самом деле являлись иностранцы, вернее, итальянцы. Первым обвинённым на основании закона Салливана, а также около 70 % всех задержанных в течение трёх лет после его принятия, были итальянцами[1133]. Сам Полозов в качестве одного из объяснений приводит версию моральной компенсации после проигранной гражданской войны — очевидно, как некую форму своеобразного универсального ответа сообщества. Но в действительности причины, побудившие американских законодателей предпринять суровые меры по разоружению эмигрантов, были значительно более прозаичными, и способствовал этому целый ряд на первый взгляд не связанных событий. Для этого нам придётся совершить небольшой исторический экскурс в Италию середины XIX столетия.
Ещё со школьной скамьи всем нам знаком образ итальянского героя и пламенного революционера, ярого и непримиримого «борца с итальянским царизмом» Джузеппе Гарибальди, в непременной красной, как предполагалось, революционной рубашке, столь близкой, понятной и чётко вписывающейся в концепцию этой агитки, заботливо созданной советской историографией. Ну кто же не слышал о легендарном объединителе Италии, в силу исторически сложившейся несправедливости жестоко страдавшей от невозможности воссоединения своего народа. Согласно этой лубочной и значительно упрощённой интерпретации истории, Гарибальди реализовал вековые чаяния апеннинского пролетариата, и братские народы севера и юга, рыдая, рухнули друг другу в объятия. Пасторальные сицилийские, неаполитанские, апулийские и калабрийские пастушки осыпают смущённого Джузеппе цветами. В общем, апофеоз добра.
Вот вкратце преамбула традиционной трактовки объединения севера Италии с югом. Однако растиражированный в голливудских фильмах и в патриотической официальной версии итальянской истории сценарий объединения страны, мягко говоря, несколько не соответствует истинному положению дел. Вернее, следовало бы сказать, что подобная идеалистическая трактовка событий существует в некой параллельной реальности, созданной ура-патриотическими романами Алессандро Мандзони[1134] и работами поэта и драматурга, Сильвио Пеллико[1135].
Ещё более ста лет назад Ричард Бёртон отметил, что Италию населяют два разительно отличающихся друг от друга народа, разделённые рекой По, — греко-латиняне юга и галло-франки севера, под которыми он подразумевал пьемонтцев и миланцев[1136]. Любой читатель, хотя бы раз в жизни посетивший современную Италию, не мог не заметить, что и сегодня даже ещё более явно, чем сто пятьдесят лет назад, страна разделена на два антагонистических лагеря и дифференциация эта не только территориальная, этническая или экономическая. Есть ещё один ключевой фактор, и имя ему — ненависть.
В 1861 году под мудрым руководством короля Пьемонта Виктора Эммануила II произошло долгожданное объединение Италии, известное как Рисорджименто — Возрождение, к которому страна шла более восьмидесяти лет. Но когда спала эйфория и утихли ура-патриотические лозунги, жители юга обнаружили, что свои клятвы и обещания и в первую очередь распределение общественных земель новая власть выполнять не собирается. Отчаяние подтолкнуло обманутых Пьемонтом неаполитанских крестьян к массовым выступлениям. Повстанцы начали формировать вооружённые отряды, основу которых составили офицеры и солдаты прекратившей своё существование армии Бурбонов.
Единственным же шагом, предпринятым Пьемонтом для выхода из этой ситуации, стало размещение на юге 120-тысячной армии. Возмущённые южане резонно сочли это вторжение оккупацией и организовали сопротивление, которое официальный Пьемонт тут же не преминул объявить «бандитскими вылазками».
 Рис. 2. Концентрационный лагерь Сан Маурицио Канавезе, в котором содержали солдат армии Королевства Обеих Сицилий, отказавшихся принести присягу королю Виктору Эммануилу, 1860-е.
Рис. 2. Концентрационный лагерь Сан Маурицио Канавезе, в котором содержали солдат армии Королевства Обеих Сицилий, отказавшихся принести присягу королю Виктору Эммануилу, 1860-е.
Таким образом, год объединения Италии можно считать и датой начала гражданской войны на Апеннинах[1137]. Первые три года оккупации были самыми кровавыми, и в этот период при подавлении сопротивления жителей юга северян, или, как их называли на юге, пьемонтцев, погибло намного больше, чем за все 80 лет борьбы за освобождение и объединение Италии. Генерал Альфонсо Феррера ла Мармора, герой Рисорджименто, в докладе для парламентской комиссии, занимавшейся проблемой бандитизма, заявил, что с мая 1861 года по февраль 1863 был убит или казнён расстрельной командой 7151 «разбойник», как официальный Пьемонт называл восставших. Одна из французских газет осудила итальянскую военную репрессивную кампанию, сравнив её с истреблением коренных американцев, происходившим в тот же период в США. Что характерно, сами Соединённые Штаты всей душой поддержали устроенную Пьемонтом бойню. Существует примечательное письмо от госсекретаря Линкольна — Уильяма Сьюарда правительству Италии с заверениями в американской поддержке и понимании их позиции в отношении восставших регионов[1138].
 Рис. 3. Концентрационный лагерь Сан Маурицио Канавезе.
А вскоре Пьемонт предпринял следующий шаг, и в августе 1863 года был принят закон номер 1409, известный благодаря инициировавшему его политику Джузеппе Пика как «Legge Pica». Закон этот позволял создание военных трибуналов в тех провинциях, которые, согласно королевскому указу, были отнесены к «in stato di brigantaggio» — «бандитским режимам». Военные трибуналы, назначаемые генералами, командовавшими различными зонами, состояли из президента трибунала в звании полковника или подполковника, пяти судей — двух высших офицеров и трёх капитанов — и четырёх секретарей. Уже через несколько дней после принятия «Legge Pica» практически весь юг был объявлен «бандитской территорией»[1139]. В наши дни это, очевидно, назвали бы «введением режима контртеррористической операции». Придание югу статуса «главного террориста» развязало правительству руки и облекло геноцид в легитимную форму. Эти трибуналы, ранее использовавшиеся исключительно для рассмотрения преступлений, совершённых военнослужащими, получили дополнительные полномочия, и военный министр, Алессандро Делла Ровере, создал ещё восемь трибуналов к уже имеющимся четырём. Предоставление солдатам права расстреливать любого «разбойника», пойманного с оружием, и приводить в местные советы всех подозреваемых стало причиной концентрации чрезмерной власти в руках военных и ограничения личных свобод значительной части итальянцев. Как следствие, новорожденное Королевство Италия стало для многих крестьян символом военной диктатуры. В 1863 году 2901 крестьянин предстал перед судом, и 261 из них были приговорены к смерти или длительным тюремным срокам. В 1864 перед судом предстали уже 4523 человека, и было вынесено 822 приговора, а в 1865 году 3242 задержанным было вынесено 1035 обвинительных приговоров[1140].
Рис. 3. Концентрационный лагерь Сан Маурицио Канавезе.
А вскоре Пьемонт предпринял следующий шаг, и в августе 1863 года был принят закон номер 1409, известный благодаря инициировавшему его политику Джузеппе Пика как «Legge Pica». Закон этот позволял создание военных трибуналов в тех провинциях, которые, согласно королевскому указу, были отнесены к «in stato di brigantaggio» — «бандитским режимам». Военные трибуналы, назначаемые генералами, командовавшими различными зонами, состояли из президента трибунала в звании полковника или подполковника, пяти судей — двух высших офицеров и трёх капитанов — и четырёх секретарей. Уже через несколько дней после принятия «Legge Pica» практически весь юг был объявлен «бандитской территорией»[1139]. В наши дни это, очевидно, назвали бы «введением режима контртеррористической операции». Придание югу статуса «главного террориста» развязало правительству руки и облекло геноцид в легитимную форму. Эти трибуналы, ранее использовавшиеся исключительно для рассмотрения преступлений, совершённых военнослужащими, получили дополнительные полномочия, и военный министр, Алессандро Делла Ровере, создал ещё восемь трибуналов к уже имеющимся четырём. Предоставление солдатам права расстреливать любого «разбойника», пойманного с оружием, и приводить в местные советы всех подозреваемых стало причиной концентрации чрезмерной власти в руках военных и ограничения личных свобод значительной части итальянцев. Как следствие, новорожденное Королевство Италия стало для многих крестьян символом военной диктатуры. В 1863 году 2901 крестьянин предстал перед судом, и 261 из них были приговорены к смерти или длительным тюремным срокам. В 1864 перед судом предстали уже 4523 человека, и было вынесено 822 приговора, а в 1865 году 3242 задержанным было вынесено 1035 обвинительных приговоров[1140].
 Рис. 4. Расстрел бригантов, 1860-е.
Рис. 4. Расстрел бригантов, 1860-е.
 Рис. 5. Сицилийский бригант Николо Аккорси, конец 1870-х.
Рис. 5. Сицилийский бригант Николо Аккорси, конец 1870-х.
 ◄ Рис. 6. Легендарная бригантесса (разбойница) Микелина де Чезаре (1841–1868).
◄ Рис. 6. Легендарная бригантесса (разбойница) Микелина де Чезаре (1841–1868).
Нет точных данных по количеству «бандитов», убитых в боях в период с 1861 по 1865 год, но, по оценке Франко Мольфесе, автора работы «Storia del brigantaggio dopo l'unita», эта цифра превышает 5000 человек. Согласно данным из книги Альдо де Жако «И brigantaggio méridionale», количество убитых лишь в одной апулийской области Базиликата и только за период с 1861 по 1863 год составило около 3000, поэтому цифры за весь период и по всему югу будут значительно выше. Потери среди гражданского населения невозможно оценить даже приблизительно, но, без сомнения, в результате этой долгой, жестокой и кровопролитной гражданской войны количество жертв в несколько раз превысило число погибших во всех войнах Рисорджименто вместе взятых. Как описывал ситуацию гарибальдийский генерал Нино Биксио, «на юге те, кто носит плащ, хотят убить тех, у которых плащей нет». Ему вторил Энео Пазолини, сын известного политика: «Это самая настоящая гражданская война бедных против богатых». Майор Пьери описывал повстанцев-бригантов как тех, «кому нечего терять»[1141].
 Рис. 7. Карабинеры ведут бригантов.
Рис. 7. Карабинеры ведут бригантов.
Были созданы специальные подразделения, своеобразные «охотничьи отряды», выслеживающие повстанцев. В составе каждой такой расстрельной команды находился штатный фотограф, чей основной обязанностью было запечатлевать убитых. После этого законсервированные тела или только головы бригантов, другим в назидание и для деморализации повстанцев, выставляли на городских и деревенских площадях, а растиражированные фотографии мёртвых бунтовщиков с этой же целью клеили на стены домов и помещали на первых страницах газет и журналов.
 Рис. 8. Охотничья команда позирует у тела застреленного бриганта из Оргозоло Джузеппе Лоддо (Ловику). Нуоро, Сардиния, 1899 г.
Рис. 8. Охотничья команда позирует у тела застреленного бриганта из Оргозоло Джузеппе Лоддо (Ловику). Нуоро, Сардиния, 1899 г.
Но, несмотря на эту бойню, движение сопротивления не исчезло и протянуло ещё двадцать лет, до 1880-х годов. Последние репрессии против бандитизма, или, как его называли в Италии, бригантажа, хронологически совпали с началом массовой эмиграции в США и Южную Америку. Затравленные правительственными войсками и запуганные жесточайшими репрессиями бриганты начало массово покидать Италию. Процент бандитов в первой волне эмиграции из Италии в США был настолько высок, что премьер-министр Италии Франческо Саверио Нитти как-то саркастически заметил: «О emigrante о brigante» («Что ни эмигрант, то разбойник»)[1142]. В Национальном архиве Неаполя сохранилась примечательная пропагандистская карикатура, датированная 18 июля 1861 года. На этой литографии прекрасная женщина, символизирующая возрождённую Италию, выпроваживает повстанцев за пределы страны, сопровождая изгнание фразой: «Более вы недостойны называть себя сынами Италии». Что характерно, бриганты при этом изображены в виде уродливых карликов.
Перед отъездом, чтобы избежать ареста, многие бриганты скрывались в калабрийском горном массиве Сила, неподалёку от Козенцы, что нашло отражение в старых бандитских песнях о горных монастырях в Аспрумунти, где беглецы находили убежище, а затем всеми правдами и неправдами покидали страну. Так, в 1879 году префект полиции Козенцы сообщал, что «стало гораздо спокойней, так как многие отъявленные преступники, годами терроризировавшие эти места, покинули страну через порт Палермо и достигли Нового Орлеана и западного побережья США». Спустя три года он отметил: «из надёжного источника стало известно, что часть бандитов отправилась в Калифорнию и что билеты их были оплачены другими бандитами, ранее перебравшимися в Новый Орлеан»[1143].
 Рис. 9. Печально известный «Legge pica», или закон против бригантажа № 1409, от 15 августа 1863 г.
Рис. 9. Печально известный «Legge pica», или закон против бригантажа № 1409, от 15 августа 1863 г.
 Рис. 10. Премия выписанная префектом калабрийскогогорода Катандзаро, за головы членов банды Сейнарди 17 ноября 1876 г.
Рис. 10. Премия выписанная префектом калабрийскогогорода Катандзаро, за головы членов банды Сейнарди 17 ноября 1876 г.
 Рис. 11. Берсальер позирует с убитым бригантом. Сентябрь 1863 г.
Рис. 11. Берсальер позирует с убитым бригантом. Сентябрь 1863 г.
 Рис. 12. Охотничья команда, переодетая в горцев, в составе бригадира Суласа, и карабинеров Руи и Порку. Нуоро, Сардиния, 1899 г.
Рис. 12. Охотничья команда, переодетая в горцев, в составе бригадира Суласа, и карабинеров Руи и Порку. Нуоро, Сардиния, 1899 г.
Версию о том, что большую часть эмиграции составляли именно бриганты, подкрепляет информация из отчёта консула Италии в Сан-Франциско и другие документы, датированные 1885 годом. Так, консул писал: «В последнее время прибывает всё больше южных итальянцев, преимущественно с Сицилии и из провинции Козенца. Раньше их было не так много»[1144].
В 1889 году газета «La Voce del Popolo» («Глас народа») также сообщила о возросшем количестве иммигрантов, прибывших из южных регионов Италии, в основном с Сицилии и с крайнего юга[1145]. Но клишированный и навязываемый бесконечными голливудскими фильмами идеализированный лубочный образ «трудолюбивых юношей» и «благочестивых крестьян», отправившихся за море в поисках заработка и лучшей жизни, был бы неполным без ещё одного свидетельства, не оставляющего камня на камне от светлого образа первой волны южно-итальянских «пилигримов». Аргумент этот носил имя «Sirio» («Сириус»), и был он итальянским океанским лайнером, направлявшимся в Аргентину и перевозившим на борту 1418 пассажиров и 129 членов команды. Согласно судовым документам, в каютах первого класса находилось всего 48 человек, во втором — 80, и основную массу составляли пассажиры третьего класса, большой частью иммигранты.
 Рис. 14. Италия изгоняет бригантов. 18 июля, 1861 г.
Рис. 14. Италия изгоняет бригантов. 18 июля, 1861 г.
4 августа 1906 года «Сирио» напоролся на риф у островов Армигас, неподалёку от Кабо де Палое на побережье Испании[1146]. Мадридский корреспондент «Daily telegraph» описывал крушение «Сирио» как одну из жутчайших катастроф в истории. Итальянские эмигранты с ножами в руках, безжалостные и к детям, и к женщинам, бешено дрались за места в лодках и за спасательные круги. Многие пассажиры, а также некоторые члены команды, атакованные эмигрантами, были убиты и получили ранения. Сообщили, что, когда капитан увидел, что пароход тонет, а все шлюпки захвачены эмигрантами, он совершил самоубийство, выстрелив себе в висок из револьвера. Остальные офицеры совершенно потеряли голову, и руководить спасательными работами было некому. Очевидцы описывали жуткие картины паники на борту «Сирио». За полчаса эмигранты стали хозяевами положения. Они загнали членов команды в каюты, чтобы помешать попыткам офицеров спасти в первую очередь женщин и детей. Корреспондент заявлял, что, согласно свидетельским показаниям, группа эмигрантов приблизилась к шлюпке, полной людей и приготовленной к спуску на воду, и начала выкидывать из неё людей, а тех, кто оказывал сопротивление, убивали ножами. Но когда они уже приготовились сесть в лодку, появилась другая группа вооружённых ножами эмигрантов и также вступила в борьбу за шлюпку. Многие из выживших в катастрофе и добравшихся до берега пассажиров получили серьёзные ранения, и некоторые вскоре скончались от их последствий[1147].
Судя по этническому составу выживших в этой катастрофе, ножами итальянцы владели хорошо. Согласно данным «Дейли трибьюн», после крушения «Сирио» выжили 40 испанцев, 14 арабов, 10 австрийцев, 4 аргентинца, 4 бразильца, 2 черногорца, 119 граждан неопределённой национальности и… 348 итальянцев[1148]. История капризна и непредсказуема — сложно предугадать, каким критериям необходимо соответствовать, чтобы попасть в её анналы и обрести бессмертие. Так, катастрофа «Сирио» в своё время вызвала не меньший резонанс, чем гибель «Титаника», а события на борту итальянского судна были значительно более драматичными. Однако по странной прихоти судьбы «Титаник» превратился в бренд, а «Сирио» канул в Лету.
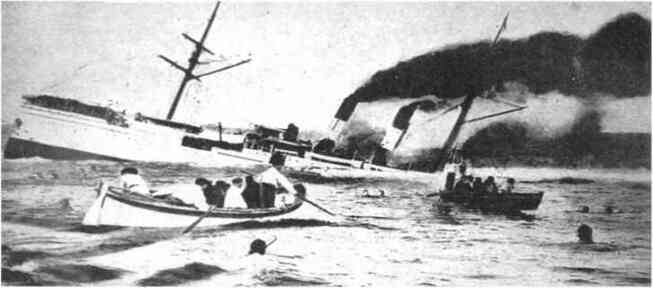 Рис. 15. Катастрофа Сирио, 4 августа 1906 г.
Рис. 15. Катастрофа Сирио, 4 августа 1906 г.
Тем не менее, несмотря на перечисленные свидетельства, нельзя однозначно утверждать, что все эти люди, называемые в официальных отчётах «бригантами», и на самом деле были самыми заурядными бандитами с большой дороги, избавлявшими от звонкой монеты путешественников, и перерезавшими своим жертвам глотки в горах Калабрии или Сицилии. Во все времена различные правители и режимы дискредитировали своих противников всеми мыслимыми и немыслимыми способами. К самым популярным и действенным методам, к которым прибегали власть имущие в борьбе с повстанцами и смутьянами, всегда относились такие проверенные веками и доказавшие свою эффективность обвинения, как «вероотступничество», «сатанизм», «содомия», «каннибализм», «детоубийство» и другие табуированные в христианскоммире деяния.
Не на последнем месте по фатальному воздействию на репутацию оппозиционеров традиционно стоит и эпитет «бандит», или «террорист», автоматически выводящий субъект из социума и лишающий всех гражданских прав. Подобный метод демонизации преступников, а также всех попавших в эту категорию неугодных успешно практиковался ещё древними германцами и упоминается в скандинавских сагах и ранних судебниках. Схема была простой, но надёжной и эффективной: законодательная власть объявляла что такой-то стал «варгром» — старонорвежский термин, обозначающий волка, или оборотня-волколака. Таким образом, согласно букве закона преступник превращался в животное и становился отверженным, парией, попутно теряя все свои человеческие права. Он должен был жить в лесу, и никто не имел права помогать ему или давать пищу. Более того, каждый достойный и законопослушный гражданин, встретив варгра, мог безнаказанно убить его, как бешеного пса[1149].
 Рис. 16. Итальянские эмигранты в порту Неаполя, 1903 г.
Рис. 16. Итальянские эмигранты в порту Неаполя, 1903 г.
Были ли пилигримы, покинувшие берега Южной Италии, самыми заурядными разбойниками, оставшимися не у дел солдатами несуществующей армии Бурбонов или просто вынужденно взявшимися за ножи крестьянами, резавшими пьемонтцев в отместку за унижения и смерть близких, подобно испанским герильясам, — однозначного мнения тут нет. Но одно можно сказать точно: во второй половине XIX столетия на направлявшихся к берегам Нового Света кораблях с южноитальянскими эмигрантами вместе с вендеттой, омертой и клановостью бриганты из Палермо, Козенцы и Таранто и каморристы из Неаполя везли ещё одну неотъемлемую часть культуры Южной Италии — поединки на ножах.
Эдмон Абу писал в 1861 году: «Если бы римские ножи никогда не покидали Рим, я бы и не стал поднимать эту тему. Однако в связи с тем, что в настоящее время множество итальянцев эмигрировало за границу и их ножи окрашивают кровью как гостиницы Лондона, так и таверны Константинополя, я как добропорядочный гражданин Европы хочу серьёзно поднять вопрос европейской безопасности»[1150].
Ещё одним доводом в пользу версии экспорта бандитизма с Апеннин может служить и тот факт, что вплоть до массового исхода бригантов из Италии в конце 1880-х годов даже в Новом Орлеане или в Хобокене — городах с большой сицилийско-калабрийской диаспорой — преступления с участием итальянцев были нечастным явлением. Хотя время от времени в газетах и появлялись сообщения об итальянской мафии, обложившей данью соотечественников, или о поножовщинах, но это были редкие и единичные случаи. Так, например, в прессу попал инцидент, произошедший в декабре 1879 года. В этот зимний день в баре на Брум-стрит во время игры в печально известную морру 18-летний Доменико Антонио Янтино поссорился с партнёрами по игре — барменом Винченцо Бьянко и ещё одним мужчиной, очевидно, кузеном Янтино. Страсти, разогретые парами алкоголя, дошли до точки кипения, и Янтино перерезал Бьянко ножом горло. При задержании он утверждал, что действовал исключительно в самообороне[1151]. Возможно, он не лукавил, так как в подобных случаев итальянцы строго соблюдали кодекс чести и дуэльные правила, что редко отражалось в полицейских протоколах. Большинство американских полицейских слабо разбирались в хитросплетениях итальянских обычаев.
Видимо, о дуэли шла речь и в ссоре Филиппа Карло Маньо с Джованни Лотто в январе 1886 года, когда в результате Лотто был доставлен в больницу Сант Винсенто с тяжёлым ранением от удара стилетом[1152].
А в 1888 году «Нью-Йорк таймс» рассказала своим читателем о смертельном поединке на ножах в Ховард Шапель, в графстве Морган, произошедшем в декабре этого же года между двумя юношами — Джорджем Масоном и Джоном Лампом. Ссора разгорелась при продаже часов. Масон выхватил нож и напал на Лампа, ранив его в плечо. Нож нашёлся и у Лампа, и дуэлянты резали и кромсали друг до наступления темноты. Оба уже получили по несколько ранений и истекали кровью, когда Ламп, изловчившись, вогнал нож в горло Масона, поставив точку в этой импровизированной дуэли[1153].
Но если до конца 1880-х итальянцы убивали и обкладывали данью только своих земляков, то вскоре ситуация кардинальным образом изменилась. Переломным моментом можно считать период с 1889 по 1891 год. Первой ласточкой стало вызвавшее большой резонанс убийство ирландского рабочего Томаса Баретта, зарезанного итальянскими торговцами фруктами из-за пары апельсинов 30 июня 1889 года. Это убийство переполнило чашу терпения ирландской общины, и в июле произошло собрание Общества защиты рабочих, на повестке дня которого был всего один вопрос: итальянцы и их ножи. Председатель отделения Томас Лайонс выступил с речью, в которой вспомнил всю историю той роковой драки, сделав вывод, что, хотя Баретт был не прав, схватив с прилавка апельсины, но, тем не менее это не являлось достаточным поводом для убийства. «Люди любой другой национальности задержали бы его или дали ему под зад ногой, — сказал Лайонс. — Но эти итальянцы со своими жестокими и кровожадными инстинктами, характерными для низших классов их нации, не могут обойтись без удара стилетом. Эти их инстинкты, — продолжил господин Лайонс, — постоянно создают проблемы и служат причиной кровопролитий в этом городе. Каждый из вас слышал о десятках убийств, совершённых итальянцами только в этом году, — но слышал ли кто-то из вас хотя бы об одном негодяе, приговорённом за это к повешению или пожизненному заключению в течение двух последних лет?».
 Рис. 17. Район Маленькая Италия, Нью-Йорк, 1900-е.
Рис. 17. Район Маленькая Италия, Нью-Йорк, 1900-е.
 Рис. 18. Итальянские торговцы фруктами, 1900-е.
Рис. 18. Итальянские торговцы фруктами, 1900-е.
После длительных и эмоциональных дебатов был единогласно принят ряд резолюций, звучавших следующим образом: «Мы решили, что убийство Барретта явилось ещё одним звеном в цепи преступлений, совершённых итальянцами из низших классов, особенно торговцами фруктами. И что лица, совершившие эти преступления, скорее всего отделаются крайне лёгкими приговорами, особенно по сравнению с теми, которые выносятся в отношении убийств, совершённых людьми других национальностей, и эта безнаказанность снижает страх этой нации перед законом. Мы рассчитываем привлечь внимание окружного прокурора к этому случаю и призываем расследовать его более решительно, чем это обычно происходит, а также (что важнее всего] члены общества отказываются обслуживать питейные заведения, перед которыми итальянцам разрешено держать прилавки с фруктами».
Копии этого решения были направлены окружному прокурору, в центральный трудовой союз и разосланы всем рабочим организациям города[1154].
Однако, не исключено, что ирландцы лукавили, разыгрывая неведение, или же, как и американская Фемида, и действительно имели крайне смутное представление о каморре и традициях этой преступной организации. На самом деле не всё с этой кражей апельсинов было так просто. Любой мальчишка на юге Италии прекрасно знал, что торговля фруктами традиционно служила ширмой для деятельности членов каморры. Могу только предположить, что на самом деле в основе этого инцидента лежал конфликт между двумя этническими преступными группировками — ирландской и итальянской. Возможно, речь шла о переделе рынка или о борьбе за сферы влияния. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что и в последующие годы несколько серьёзных конфликтов с участием сицилийско-калабрийских группировок также были связаны с торговлей фруктами и фруктовыми рынками.
 Рис. 19. Дэвид Хеннеси, шеф полиции Нового Орлеана (1858–1890).
Рис. 19. Дэвид Хеннеси, шеф полиции Нового Орлеана (1858–1890).
 Рис. 20. Мафиози Джузеппе Эспозито.
Рис. 20. Мафиози Джузеппе Эспозито.
Самое громкое убийство, поднявшее волну протестов и рост антиитальянских настроений, произошло 15 октября 1890 года. В этот день в Новом Орлеане на Жирод-стрит несколько залпов картечи, выпущенных из итальянских обрезов, оборвали жизнь шефа полиции Нового Орлеана Дэвида Хеннеси. По одной из версий, поводом для убийства стала месть за то, что ещё в 1881 году Хеннеси арестовал и экстрадировал в Италию находившегося в розыске известного бандита Джузеппе Эспозито[1155]. На родине синьор Эспозито обвинялся в грабежах и множестве других преступлений, среди которых было похищение британского туриста и отсечение ему уха[1156]. Однако, скорее всего шеф полиции пал жертвой мафиозных разборок двух итальянских кланов — Матранга и Провенцано[1157].
Любопытно, что в этом инциденте на сцене снова появляется торговля фруктами, так как одним из основных фигурантов дела был тесно связанный с кланом Матранга влиятельный итальянский предприниматель Джозеф Мачека, занимавшийся оптовыми поставками фруктов[1158]. По делу Хеннеси было задержано несколько итальянцев с Сицилии и из Калабрии — некоторые из них уже ранее имели в Италии судимости за разбой. Вскоре на следователей, присяжных и свидетелей начали оказывать беспрецедентное давление. Их запугивали и угрожали смертью. Всё это происходило открыто, на глазах у всего города, а главное — совершенно безнаказанно. Как это могло произойти, вероятно, лучше всего объясняет фраза итальянского консула Косте, который на вопрос об итальянской преступности в Новом Орлеане ответил: «Конечно же, мне известно о существовании мафии, и я знаю их главарей, но я их боюсь»[1159].
 Рис. 22. Толпа атакует окружную тюрьму Нового Орлеана, в которой содержатся сицилийцы, 14 марта 1891 г.
Рис. 22. Толпа атакует окружную тюрьму Нового Орлеана, в которой содержатся сицилийцы, 14 марта 1891 г.
 Рис. 21. Торговцы фруктами. Маленькая Италия, Нью-Йорк, 1900-е.
Рис. 21. Торговцы фруктами. Маленькая Италия, Нью-Йорк, 1900-е.
Однако дело происходило в Луизиане, где жили горячие головы с крутым нравом и старомодными южными представлениями о чести и справедливости. Недовольство и возмущение граждан, на глазах которых благодаря угрозам и подкупу разваливалось уголовное дело об убийстве популярного и уважаемого в городе полицейского, росли и достигли кульминации 14 марта 1891 года. В этот день толпа местных жителей по старой американской традиции решила взять справедливость в свои руки, выбила ворота окружной тюрьмы, где содержались бандиты, и линчевала одиннадцать подозреваемых итальянцев. «Итальянская колония в Новом Орлеане является угрозой для американских граждан», — заявил в этот день богатый торговец из Нового Орлеана Джон П. Ричардсон. А судья Руфус Б. Коуинг, заседая в Суде общих сессий 16 марта 1891 года по делу об обвинении Томазо Куччио в убийстве некоего Клеменса, дополнил: «Эти люди, приезжающие из Италии, чтобы насладиться гостеприимством нашей страны, создают немало проблем. Я не хочу сравнивать какие-либо национальности, однако не могу не отметить готовность итальянцев хвататься за оружие по любому, самому ничтожному поводу. Они должны учиться сдерживать себя, или неприятности с которыми они уже столкнулись, не станут для них последними[1160].
Но, как показали дальнейшие события, никаких выводов сделано не было, и что-то менять в своих привычках и укладе жизни консервативные сыны Апеннин не спешили. И в Новом Орлеане, и в Нью-Йорке, и в Хобокене продолжали греметь выстрелы и сверкать ножи. Так как лупары и пистолеты внутри итальянской диаспоры использовались только в вендеттах или войнах каморры, чаще всего в ход пускали такое традиционное народное оружие Италии, как «шпага бедняков», или попросту нож. Вот лишь небольшая часть данных из полицейских архивов о преступлениях, совершённых итальянцами с помощью холодного оружия только в одном Нью-Йорке и в течение всего нескольких месяцев 1892 года:
7 августа Луиза Антонио порезала ножом Анджелину Калентра;
7 августа Доминико Фигас порезал ножом Микеле Опена;
9 августа неизвестный итальянец порезал ножом Вито Таваре;
17 августа Микеле Чимали порезал бритвой Пауля Рома;
21 августа неизвестный итальянец порезал ножом Фрэнка Капати и Джозефа Гаспачи;
24 августа Паскуале Антико порезал ножом Фрэнка Парсона;
24 августа Луиджо де Рау порезал ножом Эндрю Луиджи;
31 августа Роза Мацца порезала ножом Фрэнка Бака;
10 сентября Джозеф Мария порезал ножом Николаса Парроне;
16 сентября Эндрю Лупо порезал ножом Паскуале Лумбиасси;
20 сентября Мануэль Френенц порезал ножом Томазо Карлина;
26 сентября Джимми Ройс порезал ножом Петера Роанца;
28 сентября неизвестный итальянец порезал ножом Микеле Мичио;
30 сентября Джо Пепино убил ножом Филиппа Альберта;
23 октября Паскуале Ленардо порезал ножом Марию Кампанардо;
3 ноября Реджиерре Гурно порезал ножом Джозефа Майо;
11 ноября неизвестный итальянский мальчик порезал ножом Петро Януша;
4 декабря Джозеф Стабиле порезал ножом Джона Махона;
7 декабря Рокко Доманио порезал ножом Антонио Селлода;
11 декабря Джеймс Сантенджело порезал бритвой Джона Гроте и Эмму Рине;
18 декабря неизвестный итальянец порезал ножом Джозефа Карло;
26 декабря Ральф Кунео порезал ножом рранциско Кардинали;
26 декабря трое неизвестных итальянцев порезали ножами Доминико Парбле;
13 января Фернандо Терравиа порезал ножом Альфонсо Батестреата;
16 января неизвестный итальянец порезал ножом Паскуале Финелла;
12 февраля Микеле Пилла порезал бритвой Николо Мартичио;
18 марта неизвестный итальянец порезал ножом Мариано Джиардино;
19 марта неизвестный итальянец порезал бритвой Лиззи Легальере;
31 марта Паскуале Меджелле порезал ножом Санто Риджио;
16 апреля Чарльз Бриенцо порезал ножом Мари Фелека;
23 апреля Дженисио Гартиано порезал ножом Луиджи Канджано;
27 апреля Фрэнки Артист порезал бритвой жену Маргариту[1161].
И это лишь ничтожная доля инцидентов, которые стали известны полиции, так как обычай круговой поруки и молчания, омерта, а также традиционное недоверие итальянцев к властям и отказ сотрудничать с законом не способствовали раскрываемости преступлений. Итальянцы явно не собирались отказываться от поединков на ножах для решения вопросов чести, трактовавшихся ими достаточно широко — от оскорбления семьи до банального шулерства в картах.
14 июля 1893 года такой тривиальный повод, как спор из-за оплаты счёта в баре, стал фатальным для 18-летнего итальянца Джозефа Винса. Винс и некий Крудели пили в баре С. Марини и повздорили из-за оплаты счёта. Марини растащил парней, вывел Винса на улицу, а Крудели запер в баре. Тем не менее вскоре Крудели выбрался через чёрный ход. Там он увидел Винса, стоявшего с компанией итальянцев. Выхватив стилет, он бросился к нему и воткнул оружие по рукоятку в желудок своему недругу. Тот упал, а Крудели в начавшейся суматохе исчез. Тяжело раненный Винс в критическом состоянии был доставлен в Гарлемскую больницу[1162].
Другой прецедент произошёл в феврале 1897 года, когда трое итальянцев, Даниэло Флорио, Феличе Раймунди и приятель Раймунди — Франческо Трима-рио играли в картишки за бутылкой вина в салоне на улице Кларк. Во время игры между ними возникла ссора, в результате которой Флорио бритвой располосовал лицо Раймунди, а вступившийся за Раймунди Тримарио убил Флорио ударом стилета в сердце[1163].
А 17 сентября 1900 года поводом для дуэли на ножах между Джузеппе Рай-моном и Джузеппе Сиоффи стало обвинение в шулерстве. Это был субботний вечер, и они перекидывались в карты в одном из баров в районе, известном как «маленькая Италия», когда Сиоффи стал обвинять Раймона в том, что тот передёргивает. Сиоффи вышел на улицу, вслед за ним бар покинул и Раймон. Дуэль произошла около 19 часов на Первой авеню, 111. Сиоффи был вооружён кинжалом, переделанным из напильника, а в руках Раймона был стилет. Пока дуэлянты обменивались ударами, вокруг собралась толпа зевак, наблюдавшая за происходящим с видимым удовольствием. При этом никто даже не сделал попытки их растащить. Шум схватки привлёк постового Баумейстера из полицейского участка на углу Сотой и Четвёртой улиц, но когда ему не без помощи дубинки наконец удалось прорваться через круг, образованный зрителями, оба дуэлянта уже лежали на земле без сознания. И тот, и другой получили ранения шеи — особенно тяжело был ранен Раймон. Карета скорой помощи привезла их в Гарлемскую больницу, где врачи констатировали, что Раймон находится в критическом состояний[1164].
Другая попавшая в газеты дуэль состоялась 21 апреля 1907 года, когда в поединке на ножах сошлись Францисе Ветти и Бруно Кордова. Причиной дуэли стала утренняя ссора в баре, и, как и в предыдущем случае, поединок проходил по всем дуэльным канонам. Кордова вышел на улицу, за ним последовал Ветти. Поединок был недолгим: Кордова ещё не успел воспользоваться ножом, как Ветти воткнул ему в живот стилет. От полученного ранения Кордова скончался[1165].
Разногласия, возникшие во время игры, стали причиной ещё одного поединка, произошедшего апрельским вечером 1893 года в Нью-Хэвен. В этот день к компании итальянцев, игравших в орлянку на Хилл-стрит, подошёл Доминик Иревиани с просьбой принять его в игру. В ответ на это один из игроков, Джемс Галлурди, неожиданно ударил его по лицу и бросился бежать к своёму дому, находившемуся неподалёку, преследуемый по пятам Иревиани. Он уже почти добежал до дверей, когда на пороге его настиг Иревиани, выхватил стилет с десятисантиметровым клинком и ударил Галлурди в живот. Друзья перенесли раненого в дом, и он тут же был доставлен в больницу, однако полученная им колотая рана желудка оказалась смертельной. Полиция, как всегда, прибыла на место преступления поздно, и убийцы уже и след простыл. Согласно показаниям очевидцев, после случившегося Иревиани спокойно зашёл в булочную, съел кусок пирога и в сопровождении приятеля направился в сторону Дарби. Судя по нелогичному поведению Галлурди, возможно, противники были знакомы и ранее, и между ними существовала какая-то вражда, или же это могло быть одним из ритуалов наказания каморры. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что Галлурди всего лишь за пару дней до этого инцидента приехал в гости к брату из Нью-Йорка[1166].
 Рис. 23. Детектив Дж. Петросино (слева), инспектор Кэри и инспектор МакКэферти сопровождают убийцу мафии (второй слева) Петто Быка (Томазо Петто), 1903 г.
Рис. 23. Детектив Дж. Петросино (слева), инспектор Кэри и инспектор МакКэферти сопровождают убийцу мафии (второй слева) Петто Быка (Томазо Петто), 1903 г.
Не менее традиционным и более романтическим проводом для дуэли было соперничество в любви. Так, в мае 1897 года в поединке за сердце девушки сошлись Наталли Каскао и его приятель, парикмахер Луис Карвелли. Парни дружили долгие годы, пока конец их дружбе не положила любовь к одной и той же девушке, жившей неподалёку от них, на Второй авеню. Приятели решили покончить с любовным треугольником, согласно кодексу чести, на дуэли с ножами в руках. Они встретились в условленном месте в воскресенье вечером в сопровождении друзей, выполнявших роль секундантов. Каскао вооружился опасной бритвой, а Карвелли — стилетом. В ходе поединка Каскао получил фатальное ранение в живот и вскоре скончался в Вильямсбургской больнице[1167].
Рука об руку с любовью шла её неразлучная спутница и альтер эго — ревность. В январе 1894 года Энтони Леони, муж Антоанетты Леони, в приступе ярости порезал ножом лицо 23-летнего сердцееда Петера Демайри, оставив на лице соблазнителя традиционный символ ревности и мести — «сфреджо»[1168].
 Рис. 24. Праздник в Маленькой Италии. Нью-Йорк, около 1912 г.
Рис. 24. Праздник в Маленькой Италии. Нью-Йорк, около 1912 г.
20 декабря того же 1894 года на итальяльком празднике, посвященном возвращению гроба Святой Лючии, в Джерси-Сити, в Хобокене, городке с большой сицилийской диаспорой, Антонио Карапине и Винченцо Валино порезали некоего Мукио, приехавшего на праздник. Мукио, получивший удар стилетом, утверждал, что нападение на него было совершено по приказу рафии. Карапине и Валино же обвиняли Мукио как инициатора конфликта, ещё в Италии объявившего Валино вендетту, и в свою очередь утверждали, что они действовали исключительно в самообороне. Подобные ссылки на мафию и вендетту были типичны для показаний участников народных дуэлей, замаскированных под всё что угодно — от несчастных случаев и до кровной мести. Да и такой большой национальный праздник, с массовыми шествиями, салютом, фейерверками и льющимся рекой вином, был не менее типичным антуражем для «дуэлло рустикана»[1169].
Ещё один образчик «сфреджо» был с помощью стилета оставлен на лице молодого сицилийца Гаэтано ла Бресто 17 февраля 1908 года. Правда, в этом случае Бресто и в самом деле был обвинён в предательстве интересов мафии и приговорён к ношению сфреджо в виде метки, традиционной для предателей и полицейских информаторов — пореза, ведущего от носа к уху[1170]. В декабре 1906 года на обеде Американо-итальянской демократической лиги бывший заместитель окружного прокурора Таунсенд, горько заметил, что «итальянцы великая нация, но им следовало бы научиться оставлять ножи дома». «Я убеждаю их в этом при каждом удобном случае», — добавил он. Впрочем, поднятая Таунсендом проблема особого резонанса не вызвала, и итальянская диаспора и далее не прилагала никаких усилий и не принимала мер по обучению и социализации иммигрантов[1171].
В эпоху электричества и синематографа итальянские традиции вошли практически в неизменённом с появления на американской земле первых иммигрантов виде. Так, уже в преддверии Первой мировой войны, 9 мая 1913 года, полиция вмешалась в драку итальянцев на ножах, проходившую на улице перед кинотеатром. Им удалось задержать четверых из десяти участников поножовщины. Предположительно отношения выясняли члены расколовшейся банды Джона Сиррокко. Изначально это выглядело как дуэль на ножах, но позже поединок перерос в массовую поножовщину. Один из дуэлянтов, Минцио де Фалько, был доставлен в Гудзонскую больницу со смертельным ранением. Вскоре после появления арестованных вокруг полицейского участка на Малберри-стрит собралось более 500 итальянцев, и полицейским понадобилось подкрепление и все резервы, чтобы доставить задержанных в участок[1172].
Первая мировая война практически положила конец дуэльной культуре, и хрестоматийный поединок, прошедший по всем канонам дуэльного кодекса в леске, в северной части города Бриджстоун в феврале 1921 года, уже можно скорее считать анахронизмом, чем нормой. Вызванная одним из очевидцев поединка полиция, прибывшая на место происшествия через несколько минут после окончания дуэли, обнаружила умирающего итальянского сапожника Джионанна Дироссо, истекавшего кровью от ранения в грудь. Как удалось установить следствию, первыми свидетелями дуэли, увидевшими часть поединка, стали Лиман Хадден и Джон Д. Дойл, ожидавшие трамвая на углу напротив места события. Они решили, что это заурядная кулачная драка, и не стали вмешиваться. И другой очевидец, Питер Марсконик, сперва было решил, что стал свидетелем кулачной потасовки, но когда Дироссо упал и больше не поднялся, он решил взглянуть, что же там произошло. На поляне в лесу он обнаружил умирающего Дироссо и два ножа лежащие рядом с ним на земле.
Информация о дуэли, собранная полицией на основании показаний очевидцев, доказывает, что поединок был честным и проходил согласно дуэльному кодексу. Противники, придя в лес, сняли пальтец жилеты и шляпы и уложили их на землю. После этого оба достали из карманов ножи и несколько секунд молча стояли лицом к лицу. Затем каждый из них сделал десять шагов назад, а потом они снова приблизились друг к другу с ножами в руках. В первом столкновении соперники вошли в клинч, после чего отскочили друг от друга и снова отошли на десять шагов назад. Оба парировали по несколько ударов, после чего Дироссо получил смертельный удар ножом в сердце. Его противник, так и оставшийся неизвестным, опустился перед ним на колени и несколько мгновений молча смотрел в лицо своей жертве. Вслед за этим он отбросил окровавленный нож, надел шляпу, жилет и пальто и торопливо покинул место этой драмы[1173].
 Рис. 25. Итальянские эмигранты учат английский в Хартфорде, Коннектикут, 1900-е.
Рис. 25. Итальянские эмигранты учат английский в Хартфорде, Коннектикут, 1900-е.
Кстати, некоторые исследователи склонны считать, что и за демонизацию «ice pick» — шила для колки льда — знакового символа в американской масс-культуре, также ответственны именно итальянцы. В эпоху сухого закона наёмные убийцы организованной преступности при ликвидации жертвы, чтобы придать убийству вид смерти от естественных причин, нередко предпочитали использовать шило для колки льда. Для этого жертву загоняли в угол в укромном месте, и, пока два-три мужчины держали несчастного, «палач» всаживал «ice pick» через барабанную перепонку в мозг. Это орудие оставляло крохотную ранку в ухе, которая почти не кровоточила, а выступившую кровь было несложно вытереть. Врачи, осматривавшие тело, как правило, приходили к заключению, что причиной смерти являлось кровоизлияние в мозг. Для обнаружения истинной причины смерти требовалось профессиональная экспертиза, которая в то время могла быть произведена лишь в нескольких местах.
Убийства с помощью шила для колки льда долгое время приписывались некоторыми авторами итальянской мафии как прямой импорт с Сицили[1174]. Но им оппонирует автор «Энциклопедии мафии» Карл Сифакис. С его точки зрения, этот метод возвёл в искусство известный еврейский гангстер эпохи сухого закона Израэл Алдерман по кличке Вилли-Ледоруб. В эпоху бутлегерства Алдерман тесно сотрудничал с Мейером Лански, а позже, вместе с Лански, Багси Сигелом, Мо Седуэем и Гасом Гринбаумом, он стал одним из первых инвесторов в игорном бизнесе Лас-Вегаса. Вилли-Ледоруб держал в Миннеаполисе двухэтажное заведение, незаконно торгующее алкоголем, в котором, как гордо утверждал гангстер, он совершил одиннадцать убийств с помощью быстрого и надёжного шила для колки льда. Это всегда выглядело так, как будто покойник в пьяном беспамятстве мешком рухнул на барную стойку, а Алдерман со смехом отчитывал «пьянчугу», пока тащил его в заднюю комнату. Труп скидывали в угольную яму к ожидавшему в переулке грузовику и увозили прочь[1175].
Другие авторы начала XX столетия утверждали, что шило для колки льда было излюбленным оружием американских негров. Этого мнения придерживался, например, доктор Алекс Стюарт, хирург из больницы в Чаттануга, в штате Теннеси, которому часто приходилось иметь дело с ранениями, нанесёнными этим оружием. Он считал, что основным фактором при выборе чёрными шила для льда в качестве оружия в первую очередь являлась его низкая цена — пять центов. Кроме того, «ice pick» не привлекал внимания, при этом выглядел пугающе, а образцы с металлической рукояткой, по утверждению доктора, можно было метать с дистанции в тридцать и более метров[1176]. Видимо, придётся признать, что в этом случае честь изобретения убийства с помощью шила для колки льда итальянцам всё же не принадлежит.
Но ножевая культура Италии не ограничилась берегами Нового Света. Не избежала этой печальной участи и старая добрая Англия. Именно итальянцы сыграли роковую роль в формировании ортодоксальной английской хопло-фобии — страха перед ножами. Чтобы понять, как и когда это произошло, а также выяснить, почему британцы не дрались на ножах и какие поединки выполняли на Британских островах функцию «народных дуэлей», нам придётся отправиться в Англию периода правления Тюдоров — в XVI век.
В XVI столетии на бесчисленных дуэльных площадках Италии, Испании и Франции тысячи бретёров насаживали друг друга на шпаги всеми возможными способами, которым их обучили маститые мэтры в фехтовальных школах и академиях, действовавших на юге европейского континента. А в старой доброй Англии джентльмены всё ещё доказывали удаль по старинке, в молодецких поединках с мечами и щитами. К шпаге, этой южной игрушке, консервативные британцы относились с изрядной долей скепсиса и презрения, считая её оружием подлым, не предназначенным для честного боя, а следовательно, недостойным настоящего мужчины. Национальным оружием англичан традиционно считался тяжёлый меч, предназначенный для нанесения мощных рубящих ударов и обычно использовавшийся в комбинации с небольшим так называемым «кулачным» щитом — баклером. Демонстрацией пресловутой молодецкой удали британские джентльмены занимались в районе Рафиан-Холл, ныне известном как Западный Смитфилд, и, как правило, «дело чаще кончалось испугом, чем раной, и чаще раной, чем убийством»[1177].
Хотя куртуазные кавалеры приходили в восторг от изящного фехтования колющим оружием, основная часть народа никогда не любила его: английская воинственность скорее была склонна к внешней демонстрации удали и не жаждала гибели противника. Англичане всегда любили изматывающий бой с мечами и баклерами, и, когда щиты вышли из моды, выносливость и стойкость, которые соперники выказывали в жарком бою на палашах, были гораздо созвучнее их духу, чем самая хитроумная и ловкая схватка на рапирах[1178]. Это мнение совпадает и с точкой зрения Ричарда Френсиса Бёртона, высказанной в его известной работе «Книге меча». «Англичане, так же как немцы и скандинавы, весьма неохотно приняли образ действий фехтовальщика как такового — то есть сражающегося именно рапирой, острием ее; это достаточно узкое и специализированное оружие защиты и нападения, присущее Южной Европе — Испании, Италии и Франции», — писал Бёрто[1179]. Даже если рассматривать время расцвета меча, трудно найти клинок, на котором стояло бы клеймо английского производителя, а английские надписи на нем, как правило, датируются, самое раннее, XVIII столетием. Как заметил Бёртон: «Причина тому очевидна. Северяне рубили большими мечами, топорами и саблями, потому что это оружие как нельзя лучше соответствовало их могучему сложению, весу и силе. Но это грубое использование оружия. В Англии фехтование — это экзотика и всегда было ею. Здесь фехтование — удел немногих и, встречаясь редко, считалось явлением чужеродным»[1180].
Но, несмотря на все предубеждения, протесты и ортодоксальную английскую приверженность традициям, желание следовать моде оказалось сильнее британского консерватизма, и между 1570 и 1580 годами шпага начала вытеснять традиционные мечи и баклеры с дуэльных площадок Британии. Далеко не все приняли новую игрушку с распростёртыми объятиями, и частенько отказ от старого доброго английского меча вызывал сожаление и даже недовольство. Лучше всего отразил общее настроение Дик Кумс, персонаж вышедшей в 1599 году комедии «Славная история о двух сварливых дамах из Абингтона», с горечью заметивший, что «уж никогда не увидеть настоящего храбреца, если меч и баклер канут в Лету и на смену им придут рапиры с кинжалом — мастеров меча и щита станут насаживать на вертел, как кошку или кролика, а мальчуган сможет превозмочь любого силача»[1181].
 Рис. 26. Дуэль на кинжалах. Перси Маккуард, 1895 г.
Рис. 26. Дуэль на кинжалах. Перси Маккуард, 1895 г.
Жертвой новомодной игрушки — кинжала стал один из самых талантливых и выдающихся поэтов елизаветинской эпохи, которого многие считают альтер эго Шекспира, — Кристофер Марло. Как и его французский коллега по ремеслу Франсуа Вийон, Марло вращался в сомнительных компаниях, посещал заведения с плохой репутацией и так же, как Вийон, не задумываясь хватался за нож. Как закончил жизнь Вийон, доподлинно неизвестно, хотя и поговаривали, что он погиб в поножовщине, но Марло 30 мая 1593 года был убит в Дептфорде ударом кинжала человеком по имени Инграм Фризер. В 1925 году было опубликовано заключение доктора Лесли Хотсона, исследовавшего причины смерти Кристофера Марло. Приведу отрывок из этого исследования: «Кристофер Марло внезапно и по преднамеренной злобе к названному Инграму Фризеру выхватил кинжал вышеназванного Инграма Фризера, который тот носил за спиной, и этим кинжалом нанес названному Инграму две раны в голову длиною в два дюйма и глубиной в четверть дюйма. Тогда названный Инграм, боясь быть убитым и сидя, как сказано, между названным Николаем Скерзом и Робертом Поулей таким образом, что ему некуда было податься, в защиту свою и ради спасения жизни вступил в борьбу с названным Кристофером Марло, чтобы отнять у него свой кинжал. В этой свалке названному Инграму некуда было податься от Марло. И вот случилось в этой свалке, что названный Инграм в защиту жизни своей вышеупомянутым кинжалом стоимостью в 12 пенсов нанес названному Кристоферу Марло смертельную рану повыше правого глаза глубиной в два дюйма и шириной в дюйм, от каковой смертельной раны названный Кристофер Марло тут же немедленно скончался»[1182].
Несмотря на сопротивление традиционалистов, к 1580 году в Англии кроме одиночного длинного меча, палаша и меча в комбинации с баклером и тарчем в ходу уже были и одиночная шпага, и шпага в комбинации с кинжалом, и одновременное фехтование двумя шпагами. Принято считать, что в Англии моду на шпагу ввёл Роуланд Йорк, известный лондонский кондотьер и авантюрист XVI века. В 1625 году Карлтон писал о нём, что «он был лондонцем, прославившимся среди бретёров того времени тем, что привёз на английскую землю новую манеру поединка — прокалывать противника остриём шпаги»[1183]. Похоже, что этот пассаж из Карлтона является неточным цитированием из «Anales: or, The true and royall history of the famous Empresse, Elizabeth, Queen of England, France and Ireland» Абрахама Дарси. У Дарси говорится, что Роуланд Йорк «принёс в Англию эту безнравственную и пагубную моду драться в поединках на дуэльных площадках на шпагах, называемых «так» и предназначенных только чтобы колоть»[1184]. Был ли Йорк и на самом деле законодателем новой моды, покрыто мраком, но этот яркий и неоднозначный персонаж успел повоевать в Нидерландах под началом капитана Моргана, и поучаствовать в осаде Антверпена, и послужить испанской короне в качестве командира копейщиков. Поэтому, как мне кажется, он является далеко не худшим претендентом на эти лавры[1185].
Так или иначе, но к концу XVI столетия палаши с баклерами перекочевали в шотландские горы, а новая средиземноморская игрушка стала непременным атрибутом всякого британского джентльмена. Соответственно, кто-то должен был объяснять привычным к громоздкому мечу здоровякам, как управляться с этим «вертелом». Первыми маэстро, прибывшими на берега Альбиона, чтобы нести свет истинного высокого фехтования, стали испанцы со своим «La verdadera destreza» — Истинным искусством, ученики великого Каррансы, чьё имя тогда гремело повсюду. Вскоре обучать фехтованию на рапирах, а также на рапирах и кинжалах стали в большинстве фехтовальных школ старой доброй Англии[1186]. Вслед за испанцами появились и итальянские мастера фехтования со своими «стокаттами», «имброкаттами» и «страмаццоне», открывшие школы в Лондоне. Имена некоторых из них до нас донесла изданная в 1599 году работа Джорджа Сильвера «Paradoxes of defence». Так, например, Сильвер упоминает о державшем фехтовальную школу синьоре Рокко и его сыне Йеронимо, помогавшем отцу в ремесле, а также о синьоре Винченцо, под которым подразумевается известный итальянский мастер клинка Винченцо Савиоло, автор единственной работы по шпаге, изданной в Англии в XVI столетий[1187].
Сильвер, как ортодоксальный приверженец традиционной английской манеры боя с мечами и баклерами, не питал особой симпатии к южным коллегам, да и к тому же новомодные итальянцы, повсюду открывавшие свои школы, перетягивали у английских мастеров клиентуру. Поэтому неудивительно, что большую часть его монографии представляют нападки на итальянскую концепцию фехтования и оппонирование Сильвера основным постулатам итальянской манеры боя. Однако среди саркастических ремарок в адрес более удачливых товарищей по цеху Сильвер в предисловии к своей работе уронил горькую провидческую фразу, о которой, вероятно, впоследствии неоднократно вспоминали английские законодатели последующих веков. Он сказал: «Эти итальянские фехтовальщики учат нас не обороняться, а нападать. Они учат людей кромсать друг друга у себя в мирное время…»[1188].
 Рис. 27. Школа бокса. Лондон, 1788 г.
Рис. 27. Школа бокса. Лондон, 1788 г.
Вскоре привыкшим к суровой рубке и ностальгирующим по сече мечами британцам наскучили манерные и сложные выкрутасы с иноземными «шпильками», и утешились они тем, что нашли себе новое, развлечение, полностью соответствовавшее их вкусам и требованиям — с минимальным риском для жизни и при этом позволяющее решать конфликты, не вступая в противоречия с законом. Называлась эта новая мужская игрушка, известная сегодня как бокс, — пугилизм, и к середине XVII столетия розовощёкие английские здоровяки с пыхтением старательно мяли друг дружке бока. Уже в 1681 году прошёл первый в современной истории официальный боксёрский матч, организованный Генри Фитцджеймсом, носящим титул герцога Альбемарля, на котором дрались между собой дворецкий и мясник герцога[1189]. А около 1720 года первый официально признанный чемпион Англии по боксу легендарный Джеймс Фигг начал проводить регулярные боксёрские матчи. Эту практику продолжил Джек Броутон в амфитеатре Джорджа Тейлора на Оксфорд-стрит, а после 1742 года благодаря королевскому покровительству — и в своём балагане по соседству. В 1743 году Броутон разработал семь правил, регулирующих поединки, которые вскоре были приняты и другими тренерами. Эти правила пытались подвести часть практик под общий стандарт и избавиться от других. Бокс приобрёл невиданную популярность в Лондоне, где в залах и на уличных площадках появлялось всё большее количество кулачных бойцов. К 1760 году боксёрская техника была усовершенствована, матчи стали систематично планироваться менеджерами и промоутерами, слава бойцов гремела по всей стране, повсеместно распространилось букмекерство, и быстро находились покровители с деньгами.
Первый матч, прошедший за пределами Лондона, был зарегистрирован в 1758 году в Сент-Олбанс, в Хертфордшире, когда Фолкнер отлупил Тейлора, а после 1760-го такие бои уже стали обычной практикой. В 1770-х боксёрские поединки часто проходили на ипподромах, таких как Ньюмаркет, или в местах проведения ярмарок. В конце XVIII столетия появилась бристольская школа пугилизма, представленная 112 ведущими бойцами английского происхождения, выступавшими с 1780 по 1824 год. Тридцать шесть из них были лондонцами, а двадцать шесть — из Бристоля или из Бата в Сомерсетшире[1190].
Но для нашего исследования важен следующий факт. Уже к 1769 году бокс завоевал такую популярность во всех слоях английского общества, что превратился в общепринятый легитимный способ решения спорных вопросов и дел чести, полностью вытеснив более кровавые методы разрешения конфликтов. Как следствие, к середине XVIII столетия в Британии поножовщины между англичанами уже практически не встречались. Исключением остались инциденты с участием иностранцев, преимущественно выходцев из Средиземноморья — испанцев, итальянцев, португальцев и греков. В качестве иллюстрации можно привести нашумевшее дело моряка Антонио Сильва, зарезавшего в 1761 году в драке Бартоломью Малэхана. Средиземноморские народы не изменяли своим традициям и в качестве аргумента кулаку всегда предпочитали нож[1191].
Джордж Колман и Бонелл Торнтон, два английских журналиста, писавшие для «The Connoisseur», в своей статье от 22 августа 1754 года иронизировали, что бокс является чисто английской прерогативой, так как «англичане питаются стейками из говядины и поэтому сильны, как быки, а французы, употребляющие фрикасе из лягушачьих лапок, субтильны, как их еда — лягушки и не в состоянии нанести хороший удар кулаком»[1192]. Сторонником этой версии, как уже было сказано, являлся и Ричард Бёртон, также акцентировавший внимание на разнице в антропометрических данных южан и северян и связывавший её с предпочтениями в выборе оружия. Таким образом, развивая эту мысль, логично было бы предположить, что и в самом деле быстрые и подвижные, но невысокие и сухопарые народы Средиземноморья в основной своей массе имели бы крайне мало шансов в рукопашной схватке против более крупных и атлетичных северян.
В целом эта теория звучит крайне привлекательно и убедительно, расставляя многие точки над «i», в том числе аргументируя появление шпаги именно в средиземноморском регионе, так как это лёгкое и маневренное оружие, не требующее большой физической силы и выносливости, подходило южанам гораздо больше, чем массивный и тяжёлый меч. Но у всей этой стройной теории есть одно «но»: в эпоху, о которой идёт речь, антропометрические показатели как в Южной, так и в Северной Европе практически не отличались. Согласно статистическим данным, средний рост мужчин в XVIII веке составлял от 163–164 см в Италии, Испании, Германии, Франции и Нидерландах до 167 см в Англии и Швеци[1193]. Не думаю, что разница в росте в 3–4 сантиметра могла стать веским фактором в выборе оружия. Всё-таки, как мне кажется, решающую роль в расстановке приоритетов при выборе способа решения конфликтов в Англии, как и в победоносном шествии бокса, сыграли вовсе не мышечная масса и врождённое добродушие типичного «Джона Буля» — хрестоматийного английского здоровяка. Скорее это заслуга прочно пустивших свои пуританские корни протестантской морали, этики и трактовки личной чести, заложенных ещё Генрихом VIII и рьяно насаждаемых последней представительницей Тюдоров, Елизаветой I, непримиримой противницей католической веры.
Как связаны пуританская мораль, протестантство и поединки на ножах? Если взглянуть на карту мира, мы убедимся, что практически все культуры ножа и чести возникали ипроизрастали исключительно в странах с католической верой — Испании, Италии, Португалии, а также в областях и регионах, в своё время находившихся под их влиянием. Прекрасной иллюстрацией к этой теории является печально известный своими дуэлями на ножах фламандский Брабант, долгое время находившийся под испанским протекторатом, а также греческие Ионические острова, где в течение нескольких столетий безраздельно властвовала Венецианская республика. Спекулировать на эту тему можно бесконечно, но факт остаётся фактом: к середине XVIII века нож в Британии был заменён боксом и окончательно исключён из дискурса чести английских мужчин. Да и сама концепция личной чести, начиная уже с первой четверти XVII века, претерпела на Британских островах значительные метаморфозы.
В XVI веке в Британии доминировала болезненная чувствительность в вопросах чести, вероятно, доставшаяся ей от высокомерных нормандских завоевателей, заимствованная у хозяйки половины мира, Испании, или привезённая на английскую землю негоциантами ренессансной Италии. Один из законодателей моды на «южную честь», маэстро Винченцо Савиоло, в своём датированном 1595 годом труде по фехтованию, предназначенном для английской публики, напоминал британским джентльменам, что «оскорбления могут наноситься как делом, так и словом»[1194]. Ему вторил граф Аннибале Ромей в своей работе «Courtier's academy», увидевшей свет в 1597 году: «Хотя ссоры могут длиться бесконечно, но вызываются они только двумя причинами — поступками или словами»[1195]. Но всего через несколько лет в английском обществе начинаются кардинальные перемены в восприятии и трактовке чести. Так, в одной из своих работ начала XVII столетия английский драматург и солдат Барнабе Рич поучает: «Закон божий учит нас терпеливо и безропотно сносить оскорбительные слова и другие обиды»[1196]. Несомненно, что главная заслуга в этой трансформации системы ценностей принадлежит известному указу против дуэлей, изданному в феврале 1614 года, и его инициатору, разработчику и идейному вдохновителю Генри Говарду, графу Нортгемптону[1197].
Основой доктрины Говарда было желание предоставить аристократам инструментарий, позволяющий ликвидировать причину большинства поединков — вербальные оскорбления, или, как тогда говорили, «первое слово, начинающее ссоры». Так, в соответствии с условиями королевского указа, если стороны жили в непосредственной близости от Лондона, то информация обо всех подобных оскорблениях должна была немедленно доводиться до суда рыцарской чести или же поступать к лорду-наместнику, если они проживали в более отдалённой части страны[1198]. В этом указе впервые появляется разделение оскорблений на вербальные и невербальные, на словесные и реальные. Под словесными подразумевались, например, «бесчестные поступки» и «порочащая ложь».
Но если в эдикте 1614 года, согласно королевской точке зрения, любое оскорбление, реальное или словесное, «наносило глубокие раны репутации джентльмена»[1199], а худшим оскорблением являлось обвинение во лжи, то всего четыре года спустя, в 1618 году, царственная концепция кардинально поменялась. Дворян призывали молча и безропотно переносить словесные уколы, и, более того, в новой редакции обвинение во лжи вообще уже не считалось оскорблением. И если в указе от 1614 года говорилось, что джентльмены обязаны быть крайне чувствительными в вопросах чести, то спустя четыре года такая трактовка уже являлась предметом насмешек. Система ценностей, в которой даже небольшое оскорбление чести воспринималось смертельно серьёзно, теперь стала считаться порочной и ошибочной[1200]. Если в 1614 году королевский трактат убеждал, что для джентльмена нет большей ценности, чем честь, то спустя четыре года «большую ценность» несколько перефразировали, переименовав в «большую глупость». Как мы помним, основной целью эдикта 1614 года являлось заменить дуэли судами чести. Но через четыре года о судах чести уже никто и не вспоминал. Вместо этого единственным способом борьбы с дуэльной культурой стал полный отказ от основополагающих норм чести и мужества[1201]. Проще говоря, английским джентльменам было рекомендовано хранить терпение и молча игнорировать вербальные оскорбления и обидь[1202]. Всё дальнейшее повествование можно рассматривать как конфликт двух культур чести: архаичной, рефлекторной средиземноморской и культуры пуританской чести протестантской Англии, заложившей основы множества уродливых явлений, таких, например, как печально известная политкорректность.
Прекрасным примером, иллюстрирующим метаморфозы, произошедшие в Англии в первой четверти XVII столетия, и символизирующим пропасть, разделившую эти европейские культуры, могут служить две поговорки, относящиеся к описываемой эпохе, — итальянская и английская. «La lingua non ha osso, fa romper il dosso», — гласит поговорка из сборника итальянских пословиц 1610 года («Язык ломает кости, хотя сам он без костей»)[1203]. «Sticks and stones may break my bones; but cruel words can never harm me» («Палки и камни ломают мои кости, но жестокие речи никогда не смогут причинить мне вреда»), — отвечает на это английская пословица[1204].
Одним из первых «ксенофобских» законодательных актов, направленных против иностранцев — преимущественно выходцев из средиземноморских регионов, можно считать так называемый «Эдикт против стилетов», вступивший в силу 26 марта 1616 года[1205]. В пользу этого предположения говорит тот факт, что ¡многие английские авторы XVII столетия описывали стилет как исключительно итальянское оружие[1206]. Говоря о попытках разоружения иностранцев, нельзя не вспомнить и закон от 1604 года, более известный как «Statute of Stabbing» — Статут о поножовщине. Этот закон был направлен против других любителей ножей, шотландцев, которые, как говорится в статуте, «носят короткие кинжалы и часто в возникших за столом разногласиях неожиданно пускают их в ход»[1207]. Очевидно, что страсть шотландцев к поножовщине всё-таки не являлась исключительно ксенофобскими происками британских законодателей, о чём свидетельствует голландская пословица, гласившая: «Сто голландцев — сто ножей, а сто шотландцев — двести ножей»[1208].
Самый громкий суд над иностранцем, совершившим в Англии убийство с помощью ножа, произошёл более чем через сто лет после описываемых событий. 20 октября 1769 года итальянец Джозеф Баретти — известный писатель, составитель словарей и преподаватель, предстал перед лондонским судом в Олд Бейли по обвинению в убийстве Эвана Моргана, совершённом им в самообороне во время уличной драки в центральном Лондоне[1209]. Этот процесс вызвал негодование общественности, огромный резонанс и поднял мощную волну антиитальянских настроений, что в большей степени было связано с предпочтением итальянцев использовать в ссорах ножи, а не решать вопросы чести цивилизованно, в кулачном бою, как, например, это делали англичане. К этому времени на Британских островах у итальянцев уже настолько сложилась устойчивая репутация кровожадных поножовщиков, что даже столовый десертный ножик с серебряным лезвием, фигурировавший в деле Баретти, вызывал ужас. Этот процесс газеты окрестили «делом Хеймаркет[1210]. В ту эпоху на Хеймаркет находился сенной рынок, а сейчас там театр. Одним из главных недругов и вечных оппонентов Баретти был приятель Вольтера известный английский, врач, автор нескольких работ по хирургии, Сэмьюэль Шарп, издавший свои путевые заметки о посещение Апеннинского полуострова в виде книги под названием «Письма из Италии». В своей книге доктор Шарп сравнивает культурные традиции англичан и итальянцев, отмечая, что главной причиной кровавых дуэлей на ножах в Италии является отсутствие такой безвредной альтернативы для решения вопросов чести, как, например, бокс на Британских островах.
Вот что он писал в 1767 году: «Я не раз упоминал, как часто в Англии мне приходилось стыдиться этого бесчеловечного обычая, распространённого среди простонародья, пускать в ход кулаки даже в самой пустяковой ссоре, но насколько чаще мне приходится краснеть в Италии и испытывать чувство стыда за эту страну благодаря распространённым тут обычаям. По моему опыту в этой стране я нахожу, что внезапная вспышка гнева у несдержанного в своих страстях мужчины, должна быть немедленно удовлетворена, и если разбитый на месте нос не даст сатисфакции, удар ножа заменит удар кулака, и произойдёт убийство. На днях я видел, как высокий и мускулистый парень ростом около шести футов полез в драку, но делал он это так неуклюже и в такой женственной манере, что это вызвало смех не только у меня, но и у присутствовавших при этом дам. Если бы такой парень встретился вам в Броутоне, вы бы поставили на него деньги, кем бы ни был его противник, но осмелюсь утверждать, что любой мальчишка 17–18 лет из Итона превратил бы его в студень. Я никогда не питал тёплых чувств к этой английской традиции бокса, пока не приехал в Италию, но сегодня она уже кажется мне занятием совершенно невинным и достойным всяческой похвалы. Мужчины должны давать выход негодованию как средству для спасения чести и репутации, и хорошо, когда человек выплёскивает свой гнев, дав обидчику пощёчину или ударив его кулаком в живот. Здесь же мужчины обуянные яростью в тот же миг хватаются за нож и мгновенно наносят удар.
Поразительно, сколько убийств совершается в Италии, и большинство из них — это следствие ссор. Но все эти убийства не произошли бы, будь тут традиция решать конфликты с помощью старого доброго английского бокса»[1211].
Возможно, в чём-то Шарп и был прав, так как и на самом деле безоружные виды поединков в Средиземноморье Нового времени практически представлены не были. Так, например, тот же бокс появился в Италии достаточно поздно, и первый боксёрский матч в Италии прошёл в Вероне только в 1909 году, а итальянским «Фиггом» стал генуэзец Пиетро Бойне. Итальянская федерация пугилистики — кулачного боя была организована лишь в 1916 году, а первый чемпионат страны прошёл в 1920-м[1212].
Разницу в манере решения вопросов чести между двумя культурами прекрасно иллюстрирует поединок на ножах некоего англичанина с итальянским офицером: «Моя стойка со сжатыми кулаками, выставленной вперёд левой ногой и выпрямленной головой скорее напоминала боксёра, чем фехтовальщика. Мой противник наклонился вперёд к левой ноге, выставив перед собой как баклер левое предплечье, обёрнутое плащом, а в правой сжимал кинжал, намереваясь вогнать его по рукоятку в незащищённую часть моего тела. Какое-то мгновение он изучал меня взглядом, и вдруг с неожиданной живостью полковник бросился на меня, как бывалый боец. Скорее благодаря случайности, чем мастерству, я запутал клинок его кинжала в толстых складках попоны Закео и вопреки всем правилам, прежде чем он сумел освободить своё оружие, нанёс ему мощнейший удар под левое ухо, заставивший его челюсти клацнуть, как пара кастаньет, и, как поражённый молнией, он растянулся на земле во весь рост. Хотя я нанёс удар в момент замешательства, это был классический нокдаун, который очаровал бы увлекающихся боксом английских джентльменов, но синьор полковник Алмарио был совершенно не готов к такой манере боя, и было похоже, что он от этого не в восторге. Несколько мгновений он лежал, не подавая признаков жизни»[1213].
Точку зрения Шарпа в 1823 году разделял в своей работе «Bqfiiana; or, Sketches of ancient and modern pugilism», посвящённой истории бокса, и известный английский спортивный писатель и журналист Пирс Игэн. Он заметил, что «в Голландии слишком часто всё решает длинный нож, в Италии вряд ли кто-то не носит стилет, во Франции и Германии не редкость использование камней и палок, но зато в Англии действуют только кулаками»[1214].
К XIX веку английские джентльмены настолько сжились с новой моралью и, как и многие другие граждане колониальных империй, так прониклись духом своей цивилизаторской миссии, что каждая поножовщина вызывала у них искреннее отвращение. Кроме этого, увиденное провоцировало их на длительные морализаторские разглагольствования о превосходстве бокса и примитивных инстинктах «латинян» и других «варваров», как, например, это произошло во время поединка на ножах двух голландских моряков на поле у Темзы в 1825 году:
«Философ, занимающийся исследованием человеческой природы, не считает ниже своего достоинства изучать манеры и нравы самых низших слоёв общества, и мнение его относительно всей нации в целом в большей мере будет сформировано вниманием к ним, а также к среднему классу. Вольтер, будучи в Лондоне, был особо внимателен в изучении поведения английской черни, и он упоминает об одном обстоятельстве, которое он ранее не встречал ни в одной стране, когда в спорах между собой наши плебеи, казалось, постоянно руководствуются принципами чести, поскольку, когда ссора достигает кульминации, конфликт улаживается способом поединка, результатом которого хоть и может стать лёгкое ранение, но который при этом крайне редко имеет роковые последствия. И зрители, несомненно, вмешаются в случае, если одна из сторон попытается совершить бесчестный поступок. К этому нельзя не упомянуть о примирении, следующем сразу за урегулированием конфликта, а также о человечности и доброте, с которыми победитель обходится с проигравшим. В других же странах, если на оскорбление сразу и не отвечают ударом длинного ножа, как это делают итальянцы и португальцы, то, если в поединке один из противников упадёт, его сопернику дозволяется избивать его так долго, пока ему не удастся встать. Также в подобных поединках используют удары ногами, царапаются и даже душат друг друга. Так обстоят дела в Брабанте и во Фландрии. Наша английская традиция бокса, отвлечённо рассматриваемая человеком гуманным, высоких моральных качеств и чистой души, бесспорно, должна казаться ему жестокой и беспощадной, но философ, которому хорошо знакома человеческая природа, представленная в других странах, сочтёт нашу традицию бокса сравнительно невинной и, возможно, даже возвышенной и благородной»[1215].
Подобными бесчисленными, но однотипными эссе пестрят многие газеты, журналы и путевые заметки викторианской эпохи. Хотя справедливости ради следует отметить, что в огромном количестве инцидентов с использованием ножа на берегах туманного Альбиона на долю самих англичан приходится всего несколько редких случаев. Подобным исключением из правил можно считать происшествие, имевшее место в Лондоне, когда некий Томас Памфорд во время конфликта с полицейским Уильямом Тейлором нанёс ему ножевое ранение в бедро, рядом с пахом. Несмотря на то, что ранение было случайным и удар пришёлся в ногу, его светлость высший судья, ссылаясь на «чуждую англичанам манеру пускать в ход нож в драках, которую следует искоренить могучей рукой закона», приговорил обвиняемого к 12 месяцам каторжных работ[1216].
Другой совершенно не типичный для Англии случай произошёл в 1839 году в Ланкашире, когда двое рабочих, разругавшись в пабе, продолжили ссору на улице, схватились за ножи, и один из них зарезал другого. Несмотря на старания защитников, уверявших, что их клиент был в стельку пьян, судья, барон Парк, приговорил убийцу к пожизненному заключению. Аргументировал барон свой суровый приговор тем, что «он послужит примером и предостережением остальным, решившим взяться за нож»[1217]. Хотя в XIX столетии многие английские рабочие носили с собой ножи и использовали их в качестве инструмента, они никогда не доставали и не применяли их как аргумент в драке. Во время конфликтов ножи традиционно пускали в ход только итальянцы и другие выходцы из средиземноморских стран, а также иногда католики-ирландцы[1218]. В основном статистика поединков на ножах на Британских островах была обязана своим ростом увеличившемуся количеству иностранных моряков в английских портах, сопровождавшему экономический бум середины викторианской эпохи[1219].
Однако, классификация англичанами южан как кровожадных дикарей, обуреваемых низменными инстинктами, имела и свои несомненные плюсы. В целом считалось, что убийцы-иностранцы, особенно если их жертвами также становились чужеземцы или же англичане из низших слоёв общества, в силу меньшей цивилизованности их родных стран должны нести меньшую ответственность, чем англичане. Подобный статус обеспечивал выходцам из Средиземноморья снисходительное отношение судов, а следовательно, и более мягкие приговоры «не ведающим, что творят, беднягам»[1220]. Так, в 1853 году в Ливерпуле судья Алдерсон приговорил испанского моряка Эдмунда Монтеро к двадцати годам за нанесение в поединке смертельных ножевых ранений другому моряку. «Если бы он не был иностранцем, — сказал Алдерсон, — я бы вынес ему смертный приговор».
Когда испанский моряк Бернардо Энрикес убил в драке другого иностранца, нанеся ему в живот смертельное ранение «жутким ножом», он был обвинён в убийстве, и спасло его только заступничество присяжных, указавших суду на его иностранное происхождение. В следующем году испанец Хосе де Росарио зарезал греческого моряка. Как сообщалось, жертва предложила выяснить отношения «по-английски» — на кулаках, и Росарио согласился, но во время драки неожиданно выхватил нож. Хотя он был обвинён в преднамеренном убийстве, но в результате был осуждён за убийство по неосторожности и получил 15 лет[1221].
В 1868 году адвокат итальянского моряка Джона Морелли не нашёл лучшего довода, чем заявить, суду, что «иностранцы иначе не умеют». Он горячо согласился, что «использование ножа было крайне предосудительным. «Но, — продолжил адвокат, — следует иметь в виду, что задержанный был итальянцем». Судья Уиллс «внёс протест против предложения делать различия между выходцами из разных стран» и посетовал на итальянскую манеру носить ножи, «благодаря чему столичные улицы уже не так безопасны, как бывало». Тем не менее он приговорил Морелии всего лишь к 18 месяцам тюрьмы. Более мягкие наказания иностранным морякам, по крайней мере когда речь шла об убийствах других иностранцев, также были обусловлены распространённой точкой зрения, что цивилизаторская миссия английских судов была направлена только на англичан. Иностранные моряки находились в Англии лишь временно, концентрировались исключительно в районах доков и, таким образом, не представляли сколь-нибудь значительной угрозы для нравственного прогресса в Англии. Американцы же, как «кузены», такого снисхождения не заслуживали. Так, некий Джон Муди, зарезавший другого американского моряка во время стоянки в Нью-Кастле в 1859 году, получил за это убийство максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Льготы и послабления иностранцам «аннулировали» и такие факторы, как использование менее распространённого оружия. Так, когда в 1861 году бразильский моряк в ливерпульском пабе убил в драке соотечественника не вездесущим матросским ножом, а перерезал ему глотку опасной бритвой, он получил пожизненное заключение[1222].
26 декабря 1865 года произошло очередное громкое дело, всколыхнувшее Англию, — процесс двух итальянцев из Саффер-Хилл, Серафино Пелиццони и Грегорио Моньи. По соседству с Саффер-Хилл проживала итальянская диаспора, чьим основным занятием являлось изготовление зеркал и рамок. Вечером 26 декабря компания этих иностранцев, опьянённая алкогольными парами, забрела в публичный дом под названием «Золотой якорь». В это время там уже находились несколько англичан, которые сидели в бильярдной. Итальянцы же расположились у барной стойки. В какой-то момент по невыясненной причине между двумя компаниями вспыхнула ссора. Итальянцы ворвались в бильярдную, и началась драка. В результате мужчина по имени Майкл Харрингтон получил удар ножом от одного из итальянцев и вскоре скончался[1223].
Дуэли на ножах между выходцами из других стран Западной Европы были в Лондоне редкостью, и их можно было пересчитать по пальцам. Так, благодаря газетам мы узнаём о поединке на ножах между двумя немцами, проходившем в Лондоне в январе 1873 года. Вот как описывается эта дуэль: «Два хорошо известных в городе немецких джентльмена не так давно повздорили из-за некой дамы, и, как утверждалось, они испытывали друг к другу настолько враждебные чувства, что не нашли иного выхода, как прибегнуть к поединку. В связи с этим были приглашены секунданты и врач, и дуэль должна была состояться в парке Финсбери. Однако они не получили позволения на проведение поединка в Оговоренном месте, в связи с чем враждующим сторонам пришлось отойти немного дальше, до места, где они были скрыты от случайных зевак высокой изгородью. Утверждалось, что вслед за этим они сражались на ножах с семидюймовыми клинками. Дрались они на дистанции вытянутой руки, лицом к лицу. Глаза их были защищены очками, а три пальца на руке, включая большой, закрыты перекрестьями ножей.
Поединок начался около семи часов, и после первых же выпадов более худощавый дуэлянт дважды ранил своего противника в правое предплечье. Но, по мнению присутствующих, этого было недостаточно, чтобы объявить о прекращении поединка. Схватка продолжилась, и ожесточённые атаки и парирования следовали одно за другим. Дуэлянт, ранее уже добившийся успеха, казалось, начал терять хладнокровие, так как через двадцать минут изматывающего боя он забыл о защите и тут же получил уродливый порез от уголка рта до мочки уха. Тут вмешались врач с секундантами и остановили бой. Дуэлянт, получивший опасное ранение, был доставлен в Немецкую больницу. Всю дорогу он не проронил ни слова, и разговаривать с ним также было запрещено»[1224].
Но в общем и в целом, несмотря на все эти досадные недоразумения с иностранцами и поножовщинами, Лондон XIX века был местом крайне спокойным и безопасным и совершенно не соответствовал нашим представлениям о нём как о смертоносной клоаке, составленным по книгам сэра Артура Конан Дойля. В 2004 году, работая над статьёй о причинах ортодоксальной английской хоплофобии, я задался вопросом: а собственно, почему «жалкие» 5 убийств Джека Потрошителя, совершённые в 1888–1889 годах, когда Лондон уже был огромным мегаполисом, вызвали такой непропорциональный резонанс и ажиотаж? Ведь вряд ли кто-то сегодня вспомнит таких серийных убийц прошлого, как, например, фигурант прогремевшего в своё время «Комаровского дела», московский извозчик Василий Петров, орудовавший в 20-х годах и разложивший по мешкам три десятка человек[1225]. Только специалисты по истории криминалистики назовут имена таких современников Потрошителя, как итальянец Эйсебио Пьяданьелле, в 1890-х зверски убивший пять девушек, или француз Жозеф Ваше, казнённый в 1898 году за жестокие убийства одиннадцати женщин и детей[1226]. Так почему же имена и деяния этих маньяков подверглись забвению, а эталоном и символом серийного убийцы стал именно Джек?
Конечно, некоторая доля ответственности за создание и популяризацию бренда и инфернального образа Потрошителя, как и всегда в подобных случаях, лежит на журналистах. Но есть и другой, не менее весомый фактор. Для этого нам придётся обратиться к помощи статистики. Согласно данным, приведённым Даниелем Боски, общий коэффициент убийств по Британии и Шотландии во второй половине XIX века составлял всего одно убийство на 100 000 человек в год. В самом неблагополучном городе Англии, портовом Ливерпуле, в период с 1851 по 1872 год на 100 000 человек в год происходило 2 убийства, а в «жутких лондонских трущобах», описанных Конан Дойлем, Скотланд-Ярд в год расследовал всего 0,5 убийства на 100 000 человек! Чтобы представить себе масштабы этой «вакханалии преступности», достаточно сказать, что к 80-м годам XIX века население Лондона достигло 4 миллионов. То есть, исходя из статистических данных, в огромном даже по современным меркам городе Шерлока Холмса, Мориарти и Потрошителя, кишащем негодяями и злодеями всех мастей, на самом деле совершалось всего 20 убийств в год. Даже в одной из самых тихих и безопасных европейских столиц — Париже коэффициент убийств в тот же период был значительно выше: 1,3 на 100 000 населения. То есть почти в три раза больше, чем в Лондоне. А в самом криминализированном городе Франции — Марселе в период с 1837-го по 1869й в год совершалось от 2,4 до 3,5 убийства на каждые 100 000 человек.
Для сравнения: например, в сицилийском Палермо середины-конца XIX века, исправно поставлявшем на Британские острова угрюмых мужчин с ножами, в год в среднем отпевали 45 покойников на 100 000 выживших. Учитывая, что в 1890-х население Палермо составляло около 300 000, можно легко посчитать, что в Catacombe dei Cappuccini и на другие городские кладбища в год поступало 135 человек, убитых всеми мыслимыми и немыслимыми способами. То есть пропорционально количеству жителей в 90 раз больше, чем в Лондоне с его четырьмя миллионами! Статистика по другим городам Южной Италии выглядела не лучше, и священники там совершали панихиды по 16–25 убиенным на 100 000 человек в год, заколотым ножами в поединках и застреленным из засады в вендеттах[1227].
Даже с мирными и безопасными (по итальянским меркам) городами Центральной Италии, провожавшими в год в последний путь от 9 до 26 безвременно усопших, мог потягаться только один из европейских городов с самой дурной славой — французский Марсель. На фоне Палермо, да и в сравнении с любыми другими городами Италии, в которых ни один мало-мальски приличный праздник не обходился без 5-10 зарезанных в поединках, идеалистический Лондон со своими 20 убитыми в год скорее напоминает «Утопию» Мура, чем самый крупный индустриальный мегаполис Европы конца XIX века. Тогда становится понятным, почему Джек Потрошитель, в одиночку выполнивший четверть годовой лондонской нормы по покойникам, вызвал у добропорядочных и законопослушных британских подданных такой ужас. Учитывая, что ко всему прочему убийства были ещё и совершены ножом — чуждым джентльмену и табуированным в чопорном викторианском обществе оружием подлого плебса и кровожадных дикарей-иммигрантов, это событие не могло не всколыхнуть английское общество.
Возвращаясь к теме поединков, хотелось бы отметить, что даже в начале XX столетия итальянцы в Англии всё ещё продолжали решать дела чести и спорные вопросы в дуэлях на ножах, регулярно пополняя полицейские сводки. Об одном из таких поединков «сынов страны бельканто со смуглыми лицами цвета оливок» в 1902 году писал английский поэт и журналист Джордж Роберт Симс[1228].
Британские гангстеры первой четверти XX столетия, рациональные, несентиментальные и, в отличие от своих средиземноморских конкурентов, не отягощённые грузом архаичных и сложных хитросплетений кодексов чести, предпочитали огнестрельное оружие. Хотя и среди них встречались исключения. Например, прославленный английский гангстер, король преступного мира Лондона первой половины XX века, Уильям Чарльз Хилл, более известный как Билли Хилл, отдавал предпочтение именно ножу. Возможно, эту привычку он приобрёл в начале своей карьеры вымогателя ещё в 20х, в войнах с бандами конкурентов из «Маленькой Италии», лондонского района, где проживала итальянская диаспора. В пользу этой версии также свидетельствует тот факт, что в привычке Билла было наносить на лица своих жертв и противников традиционную метку Южной Италии, известную как «сфреджо» — ритуальный порез лица в виде креста или латинской буквы V. Вот как об этом рассказывал сам Билл: «Я всегда осторожно вёл нож по лицу сверху вниз, никогда не резал поперёк лица или снизу вверх. Всегда сверху вниз. Таким образом, если нож соскальзывает, вы не порежете артерию. В конце концов, порез — это всего лишь порез, а перерезанная артерия — это уже убийство»[1229].
Уже в наши дни, когда в странах с развитой традицией поединков на ножах, таких как Испания, Италия или Аргентина, культура ножа канула в небытие уже почти столетие назад, Англию неожиданно постиг ножевой Ренессанс. Первые страницы английских газет последних лет изобилуют заголовками, включающими такие термины, как «ножевая культура» и «ножевая эпидемия». И действительно, по масштабам и скорости распространения это явление напоминает эпидемию или даже пандемию.
Исследования преступности в Британии показали, что в 2005 году количество преступлений с использованием ножей резко возросло с 24,290 до 42,020, то есть на 73 процента. С мая по июнь этого же года произошло 91 вооружённое нападение, 19 из которых закончились смертью жертв. Количество людей в Англии и Уэльсе, осуждённых за ношение ножей, увеличилось с 3511 в 2000 году до 5784 в 2004-м.
Английская общественная организация «Youth Justice Board» заявила, что преступления с использованием ножей являются типичными для детей, исключённых из школы. Их исследовательский центр опубликовал цифры, на основании которых можно сделать вывод, что ножевые ранения могли получить около 57 900 молодых людей. Участились прецеденты с применением ножей в школах. Нередки случаи, когда полиция конфисковывает ножи даже у десятилетних детей[1230].
Произошла забавная метаморфоза. Заметки британских джентльменов, путешествовавших по Испании в XIX веке, были полны скорбными моралистскими поучениями и сентенциями о «дикарской манере поножовщин, характерной исключительно для примитивных народов», обуреваемых не менее «примитивными страстями». А менее 150 лет спустя давно забывшая о поножовщинах Испания подверглась террору тысяч британцев с ножами в руках — прямых потомков тех самых викторианских пилигримов, преисполненных осознания своей цивилизаторской миссии.
Британская газета «Daily Mail» в апреле 2008 года писала, что британские головорезы экспортируют английскую ножевую эпидемию на испанские курорты. Хулиганы контрабандой провозят смертоносные клинки в своём багаже или приобретают оружие в местных магазинах. Вооружённые испанские полицейские с помощью металлоискателей начали проводить выборочные проверки на курорте Магалуф на Мальорке. Эти предосторожности были предприняты после того, как в том же году на этом курорте во время драки с двумя британцами был зарезан 26-летний бармен Дэниэл Хэстелоу. Но власти опасались, что очередная вспышка насилия с использованием ножей — это только вопрос времени.
Старший инспектор Хайме Марко, отвечающий за обеспечение безопасности сотен тысяч британцев, съезжающихся в Магалуф каждое лето, сказал: «Мы знаем, что ношение ножей в Британии, как бы это сказать точнее, вошло в моду и что количество преступлений с использованием ножей выросло в этом году. Мы беспокоимся о том, что приезжающие сюда молодые британцы привозят эту традицию с собой. Оружие или прилетает вместе с ними в багаже, или же покупается на месте, когда они прибывают в Испанию. Этим летом наши полицейские с помощью металлоискателя проводили на курорте случайные выборочные проверки среди отдыхающих. Во время этих проверок, проводившихся каждые несколько дней, было конфисковано большое количество ножей. И речь идёт не о маленьких перочинных ножиках — я имею в виду большие ножи с клинками, превышающими 11 см в длину, способные стать причиной смерти в драке. У этих туристов нет ни малейшего повода для ношения ножей. Если их использовать в драке, то кто-то может быть убит».
В январе 2008 года бармен Дэниэл Хэстелоу, уроженец Ливерпуля, был зарезан в собственной квартире в Магалуфе. Он ввязался в драку с двумя британцами, когда вечером с друзьями отмечал свой день рождения. Позже этим же вечером двое мужчин ворвались к нему в квартиру и зарезали его на глазах испуганного соседа. Хэстелоу, бывший каменщик, перебравшийся в Испанию за четыре месяца до этой трагедии в поисках лучшей жизни, получил три ранения в спину и одно в шею. Лезвие ножа пробило его печень и лёгкое, и два часа спустя он скончался в больнице. Оба англичанина, Ричард Робертс 35 лет и Энтони Гриффит 22 лет, были задержаны в тот момент, когда они пытались сесть на самолёт, отлетающий в Великобританию из аэропорта Пальма.
После массовой драки с участием 150 человек, в Магалуфе была произведена выборочная полицейская проверка. Всё произошло в 14.30, после того как пьяный английский хулиган напал на молодого парня. Местная полиция мгновенно окружила район и арестовала зачинщиков. Полицейские обыскали сотни англичан и конфисковали множество нелегальных ножей. Проведённое исследование показало, что 10 % приехавших на Мальорку англичан в возрасте от 16 до 35 лет во время отдыха принимали участие в драках с поножовщинами.
Но Мальорка далеко не единственный испанский курорт, столкнувшийся с проблемой британцев и их ножей. Вскоре после побоища в Магалуфе, двое англичан были задержаны на тенерифском курорте Плайя де Лас Америкас за нанесение смертельных ножевых ранений двадцатипятилетнему марокканцу. Жертва была ранена в 6 часов дня в самом центре туристического района. Охранник обнаружил потерпевшего истекавшим кровью и без сознания. Этим же вечером по обвинению в убийстве были задержаны два англичанина. В тот же день, когда полиция проводила акцию в Магалуфе, к кампании против британской ножевой эпидемии присоединился Дэвид Бэкхем. Звезда футбола рассказал, что, когда ему было 13 лет, один из братьев его лучшего друга получил ножевое ранение в тот момент, когда разнимал уличную драку. В результате этого ранения подросток, который должен был подписать контракт с английским футбольным клубом «Лейтон Ориент», оказался парализованным[1231].
Хорошо, что чопорные британские джентльмены XIX столетия, клеймившие с высоты пуританской морали «дикарскую» и «варварскую» традицию поединков на ножах, не дожили до того скорбного дня, когда столь осуждаемая ими культура ножа пустила свои порочные корни в их старой доброй Англии.
Глава X
СТАЛЬНЫЕ САРДИНЫ РИО
Дуэли на опасных бритвах

 На протяжении многовековой истории народных дуэлей ужесточение законодательства и другие суровые меры, предпринимаемые правительствами для обезоруживания своих строптивых граждан, предпочитавших решать дела чести, скрещивая ножи в поединках, порождали диковинные и экзотические образцы дуэльного оружия и новые, не менее удивительные типы дуэлей, порой принимавшие самые причудливые формы. Так, одним из самых необычных видов дуэльного оружия, вызванного к жизни неутомимой фантазией мексиканских блюстителей чести конца XIX — начала XX столетия, стали «кучийос де запатерос», или «чаветас», — сапожные ножи, служившие для подрезания краёв кожи при изготовлении обуви. У них было короткое мощное лезвие, формой напоминающее полумесяц или ноготь, и короткая рукоятка, прятавшаяся в ладони. Специфическая форма «чаветас» предполагала скорее режущие, чем колющие удары[1232].
Так как эти ножи представляли собой самый заурядный и широко распространённый рабочий инструмент, их без проблем можно было приобрести в любой жестяной лавке, а кроме того, задержанный всегда мог сослаться на необходимость ношения «чаветы» для использования в ремесле. Возможно, именно этим и объясняется такое непропорциональное количество сапожников среди обвиняемых в поножовщинах. В Мехико-сити, в тюрьме Белем, где немало заключённых трудилось в качестве сапожников, именно этот тип ножа держал пальму первенства в драках и даже в самоубийствах[1233].
Другое, не менее причудливое дуэльное оружие было в ходу у голландских крестьян XIX столетия и представляло собой самую заурядную монету, известную как «дуббелтье». Дуббелтье изготавливались из сплава латуни и серебра и внешне напоминали старые английские шиллинги и шестипенсовики. Гладкие края этой мелкой монетки, равной двум стиверам, или десяти центам, были остры, как у ножа, и благодаря этому своему качеству, дуббелтье частенько использовались в поединках в качестве оружия. Голландские дуэлянты зажимали эту монету между костяшками пальцев и резали ею лица противников[1234].
На протяжении многовековой истории народных дуэлей ужесточение законодательства и другие суровые меры, предпринимаемые правительствами для обезоруживания своих строптивых граждан, предпочитавших решать дела чести, скрещивая ножи в поединках, порождали диковинные и экзотические образцы дуэльного оружия и новые, не менее удивительные типы дуэлей, порой принимавшие самые причудливые формы. Так, одним из самых необычных видов дуэльного оружия, вызванного к жизни неутомимой фантазией мексиканских блюстителей чести конца XIX — начала XX столетия, стали «кучийос де запатерос», или «чаветас», — сапожные ножи, служившие для подрезания краёв кожи при изготовлении обуви. У них было короткое мощное лезвие, формой напоминающее полумесяц или ноготь, и короткая рукоятка, прятавшаяся в ладони. Специфическая форма «чаветас» предполагала скорее режущие, чем колющие удары[1232].
Так как эти ножи представляли собой самый заурядный и широко распространённый рабочий инструмент, их без проблем можно было приобрести в любой жестяной лавке, а кроме того, задержанный всегда мог сослаться на необходимость ношения «чаветы» для использования в ремесле. Возможно, именно этим и объясняется такое непропорциональное количество сапожников среди обвиняемых в поножовщинах. В Мехико-сити, в тюрьме Белем, где немало заключённых трудилось в качестве сапожников, именно этот тип ножа держал пальму первенства в драках и даже в самоубийствах[1233].
Другое, не менее причудливое дуэльное оружие было в ходу у голландских крестьян XIX столетия и представляло собой самую заурядную монету, известную как «дуббелтье». Дуббелтье изготавливались из сплава латуни и серебра и внешне напоминали старые английские шиллинги и шестипенсовики. Гладкие края этой мелкой монетки, равной двум стиверам, или десяти центам, были остры, как у ножа, и благодаря этому своему качеству, дуббелтье частенько использовались в поединках в качестве оружия. Голландские дуэлянты зажимали эту монету между костяшками пальцев и резали ею лица противников[1234].
 Рис. 1. Дуэль каменщика и скульптора. Йост Амман, 1588 г.
Рис. 1. Дуэль каменщика и скульптора. Йост Амман, 1588 г.
Так, Уильям Чамберс в своих воспоминаниях о поездке в Нидерланды в 1832 году привёл услышанную им любопытную историю, в которой фигурирует дуббелтье. Преамбула была такова. Как-то жители одной деревни собрались в здании суда, имевшемся практически в любой, даже в самой крохотной голландской деревушке, для обсуждения каких-то насущных вопросов, и при этом свои ножи, которые там носил каждый, они развесили вдоль стены. Всем односельчанам было хорошо известно старинное правило, согласно которому прикосновение к чужому ножу означало вызов на поединок. На этом собрании также присутствовали двое мужчин, и внешне, и характером являвшихся полной противоположностью друг друга. Один из них был высоким и крепким, и казалось, даже само имя этого человека — Стеркус выражало его буйный нрав. Другой же по имени Янтье, или Маленький Ян, был карликом, а кроме того, после полученной в юности травмы ещё и горбатым и славился в округе кротким и безобидным нравом. Прогуливаясь по комнате и рассматривая оружие на стенах, Янтье, ведомый то ли безрассудством, то ли какой-то неведомой целью коснулся ножа, принадлежавшего Стеркусу который, обрадовавшись возможности поссориться, тут же вызвал малютку на поединок. Так как шансы слишком явно были неравными, все присутствующие выступили против его жестоких намерений и попытались успокоить разъярённого гиганта. А что касается несчастного Янтье, то он выразил сожаление о совершённой ошибке и попросил прощения. Но ничто не могло дать Стеркусу сатисфакции, кроме немедленной дуэли. Однако через некоторое время Янтье, казалось, набрался мужества и к всеобщему удивлению заявил, что готов принять вызов на поединок. Со светящейся в глазах силой духа, которую ранее никто бы в нём и не заподозрил, карлик твёрдо сказал, что так как он вызванная сторона, то имеет право на свободный выбор оружия для своей защиты.
Всеобщий одобрительный возглас дал ему право такого выбора. Покинув на какое-то время комнату, он вернулся, вооружённый старым башмаком в одной руке и дуббелтье, в другой. Этот необычный вид экипировки вызвал всеобщее изумление, так оно не имело даже малейшего сходства с вооружением Давида, вышедшего на бой с Голиафом. Тем не менее сам Янтье был уверен в своём арсенале, и поединок начался. Уже несколько первых минут боя показали, что Янтье не ошибся в выборе тактики. Стеркус атаковал его своим большим ножом, раздавая такие удары, что после каждого из них зрители уже не ожидали увидеть несчастного Янтье в живых. Но кроха с необычайной ловкостью отражал атаки, используя башмак как щит, в то время как сам он зажатым в другой руке дуббелтье, подпрыгивая, хладнокровно резал и полосовал лицо своего противника. Вскоре гигант, совершенно вымотанный своими безуспешными усилиями и измучившийся от болезненных порезов, нанесённых монеткой, был вынужден признать поражение. Он покинул место поединка, покрытый позором и кровью, в то время как его почти невредимого соперника толпа громко приветствовала и поздравляла, заявив, что с этого момента его имя будет Янтье Кордаат, или Храбрец Янтье[1235].

Рис. 2. «Чавета» — сапожный нож мексиканских Рис. 3. Голландские «дуббелтье», 1724 г. дуэлянтов.
Но ни один из этих суррогатов ножа не сравнится с популярностью и смертоносностью другого немудрёного инструмента, неразлучного спутника брадобреев с библейских времён — старой доброй опасной бритвы. Уместно будет упомянуть три основные и самые многочисленные группы ценителей и поклонников этого оружия: члены итальянской каморры, уличные банды Рио-де-Жанейро и Лиссабона и, наконец, чернокожие американские маргиналы. Так как уважаемые «пиччиотти» Неаполя использовали бритву исключительно в ритуальных целях, о которых мы поговорим позже в главе о шрамировании, то сразу же можно двигаться дальше, по оставленному бритвой кровавому следу, ведущему от берегов Чёрного континента в Новый Свет.
Европейцы, слабо знакомые с американской историей, хихикают над кажущейся бессмысленностью глупых клише из голливудских комедий положений с копами, бесконечно поедающими пончики, и машинами, сотнями сшибающими вездесущие пожарные гидранты. И только лишь сами американцы да, может быть, ещё пара-тройка европейских культурологов или знатоков истории рекламы вспомнят, что известная американская сеть закусочных, столкнувшаяся в эпоху сухого закона с угрозой вымогательства, спаслась оригинальным маркетинговым ходом: каждый коп, дежуривший в ночную смену, получал кофе и пончик бесплатно. Поэтому всю ночь в их забегаловках толпились патрульные, жующие пончики, и вскоре злоумышленники оставили эту компанию в покое. Чу а то, что пожарный гидрант в США — «священная корова», каждый американец знает с детства. Огромные штрафы грозят каждому несчастному, повредившему гидрант или даже просто посмевшему запарковать рядом машину. Гидрант стал для янки неким сакральным, почти фрейдистским символом подавления личной свободы. Именно поэтому фрустрированные гидрантами американцы радостно рукоплещут каждой машине, сбивающей на экране столь ненавистный им пожарный кран.
Назовём это эндемичным культурным феноменом — уникальным явлением, специфичным для определённой культуры. Таким же феноменом можно назвать симбиоз чёрного американца и опасной бритвы. Чо когда произошла эта судьбоносная встреча, и как возник этот странный союз? Законодательство молодого американского государства не баловало своих белых граждан либеральными взглядами на ношение холодного оружия. И уж тем более совсем не миндальничало счернокожими. Массмедиа и белое общественное мнение традиционно интерпретировали образ чёрного раба как стихийное жестокое и порочное начало. Лучше всего популярную точку зрения выразил в 1852 году журналист и писатель сэр Джон Эдвард Салливан: «К счастью, неграм запрещено носить с собой любое оружие и даже ножи, так как ссорятся они часто, а страсти и мстительность их при этом настолько жестоки и кровожадны, что результатом явилось бы непрекращающееся кровопролитие»[1236].
 Рис. 4. Американская парикмахерская в Ричмонде. Айра Кроу, 1861 г.
Рис. 4. Американская парикмахерская в Ричмонде. Айра Кроу, 1861 г.
Но господь не оставил без защиты своих агнцев, распевающих для него гимны в церковном хоре. И, видимо, вспомнив свою же фразу «Не мир пришёл я вам принести, но меч», послал он своим чёрным чадам мессию — опасную бритву. Как мы вскоре убедимся, подарок этот пришёлся кстати и стал такой же неотъемлемой частью чёрной субкультуры, как вуду или джаз. Но почему господь в великой мудрости своей выбрал для вооружения бесправных и униженных не пламенеющий меч архангела Михаила или что-то столь же основательное и разрушительное, а невзрачный инструмент цирюльника? Однако провидение знало что делает. Ведь в большинстве цирюлен Нового Света, зловеще ухмыляясь и поигрывая наточенной бритвой, белых клиентов поджидали у кресел… чёрные парикмахеры.
На известной гравюре Айры Кроу, датированной 1861 годом, изображён интерьер парикмахерской в Ричмонде. В кресле с обречённым и испуганным лицом сидит белый клиент, которому приложил к горлу бритву инфернальный чёрный брадобрей. До Гражданской войны чёрные были в парикмахерском бизнесе монополистами. Война изменила ситуацию — некоторое время белые джентльмены Юга не рисковали садиться в кресло к вооружённым бритвами бывшим рабам, против освобождения которых они так долго и упорно сражались. Как в 1865 году грустно заметил редактор виргинской газеты «Petersburg Daily Index»: «Вот раньше у нас были только цветные парикмахеры, а теперь белые стараются ходить только к белым»[1237]. Но, судя по всему, он не вполне владел ситуацией, и сетования его были безосновательны. Хотя в течение 1850-х годов белые неоднократно пытались влезть в этот бизнес, чёрные держали свою нишу цепко и даже вернули территории, отнятые в свое время белыми цирюльниками-эмигрантами. Только в том же виргинском Ричмонде после войны количество чёрных парикмахеров удвоилось. В Новом Орлеане, несмотря на огромное количество эмигрантов и высочайшую конкуренцию, треть парикмахерских держали чёрные. В Мобайле, штат Алабама, чёрные вытеснили с рынка белых конкурентов — двое из троих брадобреев были цветными. И в Саванне афроамериканцы одержали верх — к 1880 году восемь из десяти городских парикмахеров были неграми. Между 1860 и 1880 годами процент чёрных парикмахеров вырос с уважаемых 80 % до невероятных 96 %. Хотя в 1870-м на долю чёрных приходилось только 1/6 парикмахерских в Бостоне и одна треть в Филадельфии, зато в Детройте и Кливленде примерно половина парикмахеров были чёрными, как и две трети в Колорадо. Западное побережье предоставляло чёрным парикмахерам ещё более благоприятные условия. Например, первый чернокожий житель Сиэтла в то же время был и первым в городе парикмахером, а к 1870 году почти половина чёрного населения города работала парикмахерами[1238]. Таким образом, вскоре опасная бритва, так же как сапожная чавета у мексиканцев или пуукко у финнов, заняла достойное место почти в каждой благочестивой и богобоязненной чёрной семье и на законных правах регулярно посещала церковные службы в жилетных кармашках своих владельцев.
Вместе с внезапно обретённой свободой бывшим рабам в нагрузку достались и её побочные эффекты, такие как личная честь и болезненно обострённое чувство собственного достоинства, что раньше являлось исключительно белой монополией. И то, и другое, соответственно, было необходимо защищать от посягательств. Вот тут-то и пригодился абсолютно легитимный, корпоративно-цеховой аксессуар — бритва. Так же органично, как топор в руках дровосека, смотрелась и опасная бритва в кармане цветного. У белого обывателя она ассоциировалась исключительно с пеной для бритья, помазком, горячими полотенцами и учтивой фразой: «Освежить, масса?»
 Рис. 5. Рабы с ножами, 1861 г.
Рис. 5. Рабы с ножами, 1861 г.
Но была у бритвы и другая, менее известная белым посетителям салонов ипостась. Кровавая и зловещая. Приведу небольшой пассаж из незаконченного и никогда ранее не переводившегося на русский язык рассказа Эрнеста Хемингуэя «Носильщик». В этой короткой сценке Джордж, чёрный носильщик, обслуживающий пульмановские вагоны, объясняет белому мальчишке Джимми, как правильно надо использовать опасную бритву:
«Я ничего не ответил, тут зазвонил колокольчик. Джордж вышел, вытащил мелочь из ящика и вернулся.
«Тебе когда-нибудь приходилось видеть человека, порезанного бритвой?»
— «Нет». — «Хочешь, расскажу?» — «Да». Колокольчик звякнул снова. «Лучше пойду-ка гляну». Джордж вышел. Вскоре он вернулся и уселся рядом. «Бритву пользуют, — сказал он, — не только брадобреи». Он взглянул на меня. «Не боись, — сказал он. — Это я просто объясняю». — «А я и не боюсь». «Сказал бы, что это так и есть, — ответил Джордж. — Здесь ты рядом с лучшим другом». «Конечно», — сказал я. Я заметил, что он порядочно надрался. «Ведь у твоего папаши много такого добра?» Он достал бутылку. «Не знаю я».
— «Твой старик настоящий христианин и джентльмен». Он сделал глоток. Я промолчал.
«Так вот, о бритве», — сказал Джордж. Он залез во внутренний карман пиджака и вынул бритву. Она лежала закрытой на его левой ладони. Ладонь была розовой.
«Насчёт бритвы» — сказал Джордж. Он держал её на ладони. Ручка была роговой, чёрного цвета. Он открыл её и взял в правую руку, как нож. «Волоса с головы часом не найдётся?» — «В смысле?» — «Ну выдери один. Мои-то слишком крепко держатся». Я вырвал волос и дал Джорджу. Он внимательно разглядывал его, держа в левой руке, затем раскрыл бритву и перерезал его пополам. «Хорошая заточка» — сказал он. Глядя на остаток волоса в левой руке, он развернул бритву и провёл лезвием в обратном направлении. Острие срезало волос прямо у большого и указательного пальца, которыми он держал его.
«И в работе проста, — сказал Джордж. — Два отличных качества».
Зазвенел колокольчик, он сложил бритву и протянул её мне. «Присмотри за ней», — сказал он и вышел из комнаты. Я рассмотрел её, открыл и закрыл. Это была самая обычная бритва. Джордж вернулся и сел рядом со мной. Он сделал глоток. Бутылка была пуста. Он взглянул на неё и засунул обратно в карман. «Дай-ка, пожалуйста, бритву», — сказал он. Я протянул ему её. Он положил её на левую ладонь. «Ты понял, — сказал он. — Хорошая заточка и простота. Ну а теперь кое-что поважнее, чем эти две вещи, — безопасность в использовании».
Он взял бритву в правую руку, легко взмахнул, бритва открылась и легла вдоль костяшек руки лезвием наружу. Он показал мне руку; рукоятка бритвы была зажата в кулаке, а лезвие опиралось на костяшки и удерживалось указательным и большим пальцами. Лезвие надёжно удерживалось в кулаке остриём наружу. «Видел?» — спросил Джордж. А теперь необходимые для использования навыки. Он поднялся, кулак был сжат, лезвие бритвы лежало на костяшках. Бритва блестела под лучами солнца, светившего в окно.
Иллюстрации к главе V. Дуэли на ножах в США
 Джеймс (Джим] Боуи (1796–1836).
Джеймс (Джим] Боуи (1796–1836).
 Нож подаренный Джимом Боуи известному актёру Эдвину Форресту. Общая длина 43 см, 1820-е.
Нож подаренный Джимом Боуи известному актёру Эдвину Форресту. Общая длина 43 см, 1820-е.
 «Арканзаская зубочистка». Общая длина 41 см, вторая половина XIX в.
«Арканзаская зубочистка». Общая длина 41 см, вторая половина XIX в.

Мексиканские дуэльные ножи «сакатрипас» (кишкодёр), общая длина от 28,8 до 40,4 см.
 Мексиканские боевые ножи.
Общая длина от 27 до 33 см, начало XX в. (© Hermann Historica).
Мексиканские боевые ножи.
Общая длина от 27 до 33 см, начало XX в. (© Hermann Historica).
Иллюстрации к главе VI. Дуэли на ножах в Финляндии и Скандинавии
 Дуэль на ножах, или, Поясная дуэль (Baltesspannarna). Йохан Петер Молин, 1859 г. (фрагмент).
Дуэль на ножах, или, Поясная дуэль (Baltesspannarna). Йохан Петер Молин, 1859 г. (фрагмент).
 Дуэль на ножах, или, Поясная дуэль (Baltesspannarna). Йохан Петер Молин, 1859 г. (© Bengt Oberger).
Дуэль на ножах, или, Поясная дуэль (Baltesspannarna). Йохан Петер Молин, 1859 г. (© Bengt Oberger).
 Легендарное оружие ножевых бойцов Похьянмаа — Хярмян пуукко. Обшая длина 150 и 215 мм. (© А. Мак].
Легендарное оружие ножевых бойцов Похьянмаа — Хярмян пуукко. Обшая длина 150 и 215 мм. (© А. Мак].
Иллюстрации к главе VII. Дуэли на ножах в Греции
 Дуэль на ножах на острове Закинф. Lettres sur la Morée et les îles de Cerigo, Hydra et Zante, Антуан-Лоран Кастеллан, 1808 r.
Дуэль на ножах на острове Закинф. Lettres sur la Morée et les îles de Cerigo, Hydra et Zante, Антуан-Лоран Кастеллан, 1808 r.
 Житель Корфу. За поясом виден генуэзский нож. Жак Грассе де Сен-Совер, 1788 г
Житель Корфу. За поясом виден генуэзский нож. Жак Грассе де Сен-Совер, 1788 г
 Горец-сулиот с Корфу. Луи Дюпре, около 1810–1820 rr.
Горец-сулиот с Корфу. Луи Дюпре, около 1810–1820 rr.
Иллюстрации к главе VIII. Дуэли на ножах во Франции
 Дуэль апашей Лека и Пленьера за сердце Амели Эли (постановочная фотография), начало XX в.
Дуэль апашей Лека и Пленьера за сердце Амели Эли (постановочная фотография), начало XX в.
 Апаши, чума Парижа. Le Petit Journal, 20 октября 1907 г.(© J-E Lalliard).
Апаши, чума Парижа. Le Petit Journal, 20 октября 1907 г.(© J-E Lalliard).
 Оружие апашей, 1905 г.
Оружие апашей, 1905 г.
 Дуэль Гюстава Уаю и Альфреда Лиссе. Le Petit Journal L'Illustre, июль 1933 г. (© J-F. Lalliard)
Дуэль Гюстава Уаю и Альфреда Лиссе. Le Petit Journal L'Illustre, июль 1933 г. (© J-F. Lalliard)
Иллюстрации к главе IX. Экспорт ножевой культуры
 Эмигранты с ножами прорываются к лодкам. «Крушение Сирио». Le Petit Journal, 19 августа 1906 г.
Эмигранты с ножами прорываются к лодкам. «Крушение Сирио». Le Petit Journal, 19 августа 1906 г.
 Лубочное изображение бригантов в национальных костюмах, 1860-е.
Лубочное изображение бригантов в национальных костюмах, 1860-е.
 Бой Даниэля Мендозы и Ричарда Хэмфриса. Хэмпшир, 9 января 1788 г.
Бой Даниэля Мендозы и Ричарда Хэмфриса. Хэмпшир, 9 января 1788 г.
 «Папские войска застали бригантов врасплох». Эмиль Жан Орас Верне, 1831 г.
«Папские войска застали бригантов врасплох». Эмиль Жан Орас Верне, 1831 г.
Иллюстрации к главе X. Дуэли на опасных бритвах
 «Сражающиеся негры». Аугустус Эрл, 1822 г.
«Сражающиеся негры». Аугустус Эрл, 1822 г.
 «Бой на бритвах». Джулиан Бинфорд, 1941 г.
«Бой на бритвах». Джулиан Бинфорд, 1941 г.
 Капоэйристов отправляют на порку. Фредерико Гильерме Бриггс, около 1832 г.
Капоэйристов отправляют на порку. Фредерико Гильерме Бриггс, около 1832 г.

Опасная бритва «Маленькая красавица» (««Southern & Richardson»;Шеффилд), 1890-е (© Д. Черевичник).
 «Не пытайся меня надуть, эта чёрная девчонка моя!». Ноты, 1897 г.
«Не пытайся меня надуть, эта чёрная девчонка моя!». Ноты, 1897 г.
 Дуэль «енотов» на бритвах. The Chicago Record-Herald, 7 декабря 1902 г.
Дуэль «енотов» на бритвах. The Chicago Record-Herald, 7 декабря 1902 г.

«Кто-то обидел меня». Ноты, 1918 г.
«Оставьте ваши бритвы за дверью». Ноты, 1900 г.
 «Летите, дрозды, летите». Ноты, 1897 г.
«Прощай, милый, я ухожу от тебя». И у женщины и у ребёнка в карманах опасные бритвы. Ноты, 1885 г.
«Летите, дрозды, летите». Ноты, 1897 г.
«Прощай, милый, я ухожу от тебя». И у женщины и у ребёнка в карманах опасные бритвы. Ноты, 1885 г.
 Каталина де Эраусо. Франциско Пачеко, 1630 г.
Каталина де Эраусо. Франциско Пачеко, 1630 г.
 Критская женщина из Кносса со свадебным ножом за поясом, XX в.
Критская женщина из Кносса со свадебным ножом за поясом, XX в.
 Ломбардская сперада, 1901 г.
Ломбардская сперада, 1901 г.
 Наваха за подвязкой. «La Copla», Хулио Ромеро де Торрес, 1927 г.
Наваха за подвязкой. «La Copla», Хулио Ромеро де Торрес, 1927 г.
 Coltello dell’Amore (нож любви), общая длина 8 см. (© Consigli).
Coltello dell’Amore (нож любви), общая длина 8 см. (© Consigli).

Coltello dell’Amore (нож любви), общая длина 22 см. (© Consigli).

(© Consigli).
 Coltello dell’Amore (нож любви), общая длина 22 см. (© Consigli).
Coltello dell’Amore (нож любви), общая длина 22 см. (© Consigli).
 Garter knives — ножи американских проституток и фото их владелиц, конец XIX в.
Garter knives — ножи американских проституток и фото их владелиц, конец XIX в.
 Моряки дерутся в таверне, XIX в.
Моряки дерутся в таверне, XIX в.
 Моряки дерутся на ножах недалеко от Байонны. Cassell's history of England, 1909 г.
Моряки дерутся на ножах недалеко от Байонны. Cassell's history of England, 1909 г.
* * *
 Рис. 6. Парикмахерская в Иллинойсе, 1920 г.
Рис. 6. Парикмахерская в Иллинойсе, 1920 г.
Джордж присел и нанёс три удара бритвой. Потом отступил назад и нанёс ещё два удара по воздуху. После чего, наклонив голову и прикрыв шею левым предплечьем, он махал кулаком с зажатым лезвием назад и вперёд, назад и вперёд, ныряя и уклоняясь. «Уметь пользоваться, — сказал он. — И желательно держать в левой руке подушку». Он сел и вытер лицо. Снял кепку и вытер кожаную тесьму внутри. Потом подошёл и взял стакан с водой. «Бритва — это иллюзия, — заметил он. — От бритвы не защититься. Любой может порезать тебя бритвой. Если ты достаточно близко, чтобы порезать их, то они наверняка порежут тебя. Вот если бы ты мог держать в левой руке подушку, всё бы было в порядке. Но где ты собираешься раздобыть подушку, когда тебе нужна бритва? Кого ты собрался резать в постели? Бритва — это иллюзия, Джимми. Это оружие ниггеров. Обычное оружие ниггеров. И теперь ты знаешь, как они его используют. Разложить вот так бритву в кулаке — это единственное достижение, когда-либо совершённое неграми»[1239].
Как известно, Хемингуэй серьёзно увлекался боксом и прекрасно разбирался в оружии, поэтому нет никаких сомнений, что и о манере использования бритвы он рассказал со знанием дела и присущим ему вниманием к деталям. Хотя некоторые авторы, например, Карл Эби, склонны интерпретировать этот рассказ с фрейдистских позиций, но мне кажется, что, руководствуясь старым добрым принципом Оккама, не надо умножать сущности и искать несуществующую метафоричность[1240].
 Рис. 7. «Енот, у которого была бритва». Обложка нотной тетради, 1885 г.
Рис. 7. «Енот, у которого была бритва». Обложка нотной тетради, 1885 г.
Таким образом, бритва покинула парикмахерские салоны и вышла на улицы. Чёрные маргиналы быстро оценили её практичность, легальность, доступность, дешевизну, лёгкий вес, плоскую форму, удобство скрытого ношения, оставляемые бритвой жуткие раны и, конечно, мощный психологический эффект, производимый этим оружием. А в конце XIX столетия чернокожие парни с бритвами обрели идеологию: «ниггеризм», — характерный гротескный стиль поведения, который иногда называют чёрным маньеризмом, и эндемичный песенный жанр известный как «coon songs» — песни енотов. Основоположником этого музыкального стиля считается Пол Аллен, автор написанной в 1883 году песни «New Coon In Town» («Новый енот в городе»). Золотой век «песен енотов» пришёлся на последнее десятилетие XIX века, с 1890 по 1900 год[1241]. Существует несколько версий происхождения этого термина. По одной из них «сооп» это производное от слова barracoon, которое в свою очередь ведёт происхождение от староиспанского barracon — большой барак или хижина. В XVII столетии в Западной Африке, на Карибских островах и в штатах американского юга в таких зарешёченных загонах перед погрузкой на суда держали чёрных рабов[1242]. Согласно другой версии, своим названием этот жанр обязан гастрономическим пристрастиям чернокожих жителей южных штатов — опоссумы и еноты занимали в их меню достойное место наравне с цыплятами и фасолью. И сегодня кухня южан предлагает множество блюд из «сооп». Только в Кентукки около десятка рецептов печёного, жаренного и грилованного енота[1243]. Так или иначе, но уже вскоре название этого забавного и пронырливого зверька широко использовалось для обозначения чёрных франтов вооружённых бритвами.
Когда герои «песен енотов» собирались вместе для игры в картишки, или по каким-либо другим поводам, ни у кого не оставалось сомнений, что вскоре начнётся драка и заблестят бритвы. Такие персонажи, как герой песни «Её звать Мэнди», заявляли: «Бритва всегда у меня под рукой». Но среди бойцов на бритвах можно было встретить не только крутых парней, как, например, в песне «I can't give up my rough and rowdish ways» («Я не могу перестать вести буйную и беспутную жизнь»), но и практически любого чернокожего. А в песне «Ниггеризм» чёрный парень ищет неприятности на свою голову: «Он не успел моргнуть и глазом, как заблестели пятьдесят бритв». Песня "Leave Your Razors At The Door" («Оставляйте ваши бритвы за дверью») рассказывает о приглашённых на вечеринку чернокожих парнях, где они услышали следующие поучения: «Оставляйте ваши бритвы за дверью и не устраивайте тут ненужные битвы. Лучше сыграйте какую-нибудь музычку а лезвия оставьте внизу — они уже давно вышли из моды. А если нужно пустить кровь чёрному, не обязательно потрошить его: чтобы разделаться с ним достаточно воспользоваться хорошим кирпичём. Оставляйте ваши бритвы за дверью». В песне «De bully's weddin' night» («Брачная ночь хулигана») всех призывают «захватить с собой бритвы и стволы». Согласно тексту шлягера «Fly You Blackbirds, Fly» («Летите, дрозды, летите») в роли одного из лучших бойцов на бритвах выступает девица, которая настолько искусно владеет этим оружием, что: «Циклоны испуганно затихают, когда в одно мгновение она вскипает держа бритву в руке».
 Рис. 8. «Преступное фаду». Театральная афишка, нач. XX в.
Рис. 8. «Преступное фаду». Театральная афишка, нач. XX в.
Даже чёрные проповедники признают «право бритвы». В песне «Every Race Has A Flag But The Coon» («У каждого народа кроме енотов есть свой флаг») опасная бритва позиционируется как один из официальных символов чёрной Америки. «The Coon's Trademark» («Клеймо енота») утверждает, что на самом деле негры уже рождаются с бритвой в руках. А в «Ram A Jam» поётся, что каждая этническая группа пускает в ход своё специфическое оружие, и что у негров это опасная бритва. По сюжету героя песни ранит кирпич, брошенный неизвестным злоумышленником. Но пострадавший легко определяет национальность и родную страну нападавшего, именно благодаря типу выбранного оружия. Вот как выглядят его рассуждения: «Если бы он был турком, то не швырялся бы кирпичами, а проткнул меня кинжалом. И это не итальянец — те предпочитают ножи. Если бы по мою душу явился ниггер, то можете не сомневаться, что он воспользовался бы бритвой. Могу покляться, это был ирландец, ведь бросать кирпичи их любимая забава».
И конечно, сюжеты «песен енотов» обыгрывают искусность чёрных в обращении с бритвой. Нередко, как, например, в песне «I Don't Love Nobody» («Я никого не люблю»), мужчина вынужден схватиться за бритву, чтобы защитить свою подругу. Иногда опасная бритва фигурирует как часть антуража хулигана или бахвала. Так песня «There's No Coon That's One-Half So Warm» рассказывает историю некоего хвастливого франта, которого настигло возмездие в виде бритвенных порезов. А в «Bully» («Хулиган») чернокожий парень строит следующие планы: «Я захвачу с собой длинную бритву, чтобы порезать его поглубже. И когда я повстречаю этого фраера, то отправлю его плавать с рыбами». Ну, и в конце концов бритва никогда не помешает если дело идёт к драке, особенно если, как утверждает рассказчик в «Не Cert'ny Was Good То Ме», «рядом толпа негров, которые явно непрочь подраться[1244]».
Американские газеты конца XIX — начала XX века изобилуют сообщениями о многочисленных кровавых поединках цветных на бритвах. Так, 13 сентября 1891 года достоянием общественности стал поединок двух чёрных — 24-летнего Джона Рэймонда и сорокалетнего Джона Митчелла. Они сцепились из-за денег, и Митчелл, который был пониже, в запале достал бритву и порезал Рэймонда. Рэймонд не остался в долгу, выхватил свою бритву и в ответ нанёс несколько порезов Митчеллу. Их пытался растащить полицейский офицер, после чего оба, мгновенно забыв о конфликте, объединившись, напали на него — уже знакомый нам элемент народной дуэли, исключающий вмешательство третьей стороны[1245].
В июле 1898 года «Таймс» взволнованно писала о наделавшей много шума дуэли, прославившейся как «Честный бой». Некий Чарльз Уилсон был задержан и приведён в гарлемский полицейский суд за участие «в самой кровавой дуэли на бритвах, когда-либо проходившей в этом городе». Фабула дела была такова. Брат Чарльза, Генри Уилсон, и некий Джон Сторк работали официантами. Оба они были цветными. Как-то раз Генри стоял перед своим домом, когда мимо проходил Сторк. Уилсон напомнил ему про старый должок, на что Сторк ответил, что с собой у него денег нет. Этот ответ взбесил Уилсона, и он заявил, что сумеет забрать своё. Сторк достал бритву, его примеру последовал и Уилсон, и они начали кромсать и полосовать друг друга. Брат Генри, Чарльз Уилсон, вышел из дома, встал рядом с дуэлянтами и заявил, что будет следить за тем, чтобы поединок был честным.
Когда на место дуэли прибыл привлечённый шумом схватки полицейский Мак-Дермот, то он обнаружил Джона Сторка лежащим без сознания на мостовой и истекающим кровью из многочисленных порезов на голове и плечах. У Уилсона ещё хватило сил подняться наверх по лестнице домой, где его и обнаружили лежащим на полу и ослабевшим от потери крови. Его голова была жутко изрезана, а один из пальцев отрублен. Раненые были перевезены в больницу, где после осмотра врачи заключили, что оба дуэлянта не выживут[1246].
Как следует из криминальных сводок начала XX века, и через 10–15 лет после описываемых событий бритва всё также продолжала оставаться визитной карточкой чёрных. Так, 18 мая 1902 года в Нью-Йорке произошла групповая драка между белыми и цветными моряками, в ходе которой некий чёрный по имени Клиффорд Рейфорд, 33 лет, выхватил бритву. Бритву у него быстро отобрали, а сам Рейфорд отправился в больницу с пробитой головой[1247]. 3 июля 1905 года двое чёрных повздорили, достали бритвы и направились к Вильямсбургскому мосту, распугивая по дороге прохожих. Зеваки образовали круг и наблюдали, как дуэлянты снова и снова совершают выпады. Никто не пострадал, кроме одного из зрителей, которому порезали правую руку. Вскоре прибыла полиция и обезоружила соперников[1248].
В 1904 году была пущена в эксплуатацию нью-йоркская подземка, в те далёкие времена ещё не оборудованная камерами, — просто чудесное местечко для поединков. Чем и не преминули воспользоваться два чёрных дуэлянта с бритвами в прекрасный весенний денёк, 15 апреля 1907 года. В пылу схватки один из негров был ранен на глазах испуганных пассажиров, после чего некий служащий подземки попытался их растащить. В результате этого вмешательства ему распороли бритвой лицо от уха до уголка рта, перерезав при этом мышцы щеки. Этот тип пореза, несущий важную смысловую нагрузку в контексте дуэлей, также будет рассматриваться в главе, посвящённой шрамированию[1249]. Ещё не смыли кровь на полу вагона метро, как 16 августа 1908 года два чёрных военных моряка флота США, поссорились на борту корабля и пустили в ход бритвы. В последовавшем поединке один из них был убит. А 30 марта 1910 года компания пьяных негров сцепилась на бритвах в прогулочном поезде между Роаноке и Уинсло. Один из них, Джим Вудс, был убит, а другой, Джеймс Хейрстон, получил серьёзные ранения[1250].
Итак, мы вкратце ознакомились с трансформациями и метаморфозами, которые прошла бритва, превратившись из безобидного инструмента цирюльника в наводящее ужас, смертоносное оружие улиц, а также с теми, кто позаботился о создании этому оружию леденящей душу репутации. Далее мы отправимся в Бразилию, в солнечный Рио-де-Жанейро, где, как известно, поголовно все ходили в белых штанах, в кармане которых, судя по утверждениям историков и данным криминальных сводок, непременно лежали потемневшие от запёкшейся крови «сарджиньи». «Сарджинья» — сардина[1251], или, как их ещё называли, «бока де сири» — крабья пасть[1252], не имели никакого отношения ни к рыбам, ни к морю. Эти кулинарные названия, часто фигурировавшие в полицейских протоколах Рио-де-Жанейро на протяжении всего XIX столетия, являлись местными сленговыми прозвищами «навальи», или опасной бритвы — излюбленного оружия банд капоэйристов, терроризировавших улицы бразильских городов более полутора столетий назад.
Капоэйра. Ставшее модным в последние десятилетия старинное боевое искусство чёрных рабов Бразилии. Красивые акробатические элементы, экзотическое музыкальное сопровождение, размашистые движения. Скорее ритуальный танец, вызывающий скептическую усмешку на суровых лицах всевозможных знатоков боевых искусств. И действительно, на фоне скупых экономных передвижений и мощных ударных серий боксёров или молниеносных борцовских проходов и бросков для непосвящённых капоэйра выглядит безобидным, трогательным и наивным хореографическим этюдом. Такой экзотической аэробной нагрузкой с этническим флёром.
Но есть один малоизвестный даже среди многих современных поклонников капоэйры нюанс. Все эти кажущиеся нелепыми размашистые движения руками, приседания, раскачивания с ноги на ногу, манера прикрывать лицо и шею предплечьями обретают смысл и становятся предельно ясными и логичными, если учесть, что капоэйра в эпоху своего расцвета никогда и не рассматривалась как безоружное единоборство. Каждый элемент и каждое движение этого боевого искусства были подчинены одной доминанте — холодному оружию. А точнее, опасной бритве и ножу.
Первые упоминания о капоэйре относятся к XVIII веку. Так, в 1789 году за занятия капоэйрой был арестован мулат по имени Адам[1253]. А в 1821 году военная комиссия Рио-де-Жанейро в докладной записке военному министру сообщала о «срочной необходимости публичного наказания, без промедления, «негров-капоэйристов», задержанных военной академией при нарушении общественного порядка. Комиссия подвергла критике начальника полиции, отпустившего арестованных, так как суд признал их невиновными. Из-за этого поступка, как считала военная комиссия, «несчастье постигло их хозяев, которым пришлось оплатить судебные издержки». Военная комиссия также полагала, что аресты капоэйристов в качестве превентивной меры неэффективны, потому что, как они утверждали, «только порка в публичном месте пугает их и служит примером для всех». В докладной записке также сообщалось, что «вышеуказанные капоэйристы с помощью холодного оружия причинили шесть смертей и множество ранений»[1254].
Около семи часов вечера 26 июля 1831 года две банды капоэйристов из двухсот человек сцепились на пляже в окрестностях Сан-Хосе. Когда вмешалась гражданская гвардия, перед тем как банды разбежались, один из капоэйристов бросил камень в голову капитану патруля и ранил его. Двое чёрных и один мулат были задержаны и предстали перед судом. Вечером того же дня банды перегруппировались и продолжили драку в другом районе города. Причина драки в протоколе не была указана и лишь сообщалось, что с прибытием третьей стороны в лице властей банды объединили силы для отпора и когда патруль ушёл, они снова продолжили драться между собой[1255].
Принятая в капоэйре иерархическая структура и используемая терминология однозначно указывают на происхождение этого боевого искусства. Так, неофиты-капоэйристы назывались «молекис» — дети — термин, ведущий своё происхождение из Северной Анголы, где словом «мулеке» обозначались юноши, ещё не прошедшие обряд инициации и не вступившие во взрослую жизнь. Этот термин, широко применялся португальскими и бразильскими работорговцами для обозначения любого ребёнка. В бандах капоэйристов эти юноши в основном использовались как вспомогательная сила, например, для переноски оружия. После обряда посвящения молеке переходил на следующую иерархическую ступень и становился касингеле. Это выражение на языке банту обозначало, что он стал подмастерьем в изучении боевых искусств.
Подготовка касингеле состояла из нескольких этапов. Начинали они с деревянных имитаций клинков, и заканчивали отточенными стальными лезвиями. Обычно тренировки проводились в воскресное утро и состояли из упражнений для ног и ударов головой, бритвой и ножом. В роли инструкторов для новичков выступали самые опытные капоэйристы. Сначала ученики отрабатывали все удары деревянными макетами, а затем переходили на настоящую сталь: частенько места тренировок были залиты кровью. После этого подмастерья-касингеле переходили на следующую ступень и становились амадорес или зубиладос. Амадорес уже могли пройти особую церемонию инициации, проводившуюся вдали от непосвящённых, и стать полноправными капоэйристами. После этой инициации капоэйрист достигал высшего уровня посвящения и получал право наносить себе ритуальные татуировки этого общества[1256].
Ещё одним символом принадлежности к сообществу капоэйристов были цветные шейные платки. В 1930-х Луиз Эдмундо, описывая известного капоэйриста Мандука де Прайя, упомянул о его голубом шейном платке. Мастер Бимба, основатель Капоэйра Региональ, утверждал, что шёлковый шейный платок использовался для защиты шеи от порезов бритвой, широко применявшейся в качестве оружия в конце XIX века. Он считал, что шёлк противостоит бритвенному порезу и предохраняет эту уязвимую часть тела от ранений[1257]. Но Бимбе оппонирует исследователь истории капоэйры Валделор Рего. Он считает, что шёлковый шарф, упомянутый мастером Бимбой, не являлся какой-то особой деталью туалета капоэйристов, а всего лишь был модным аксессуаром, к тому же защищающим воротник от пыли и пота. Даже в наши дни во время тренировок чёрные прокладывают между шеей и воротником простой хлопковый шарф или небольшое полотенце[1258].
 Рис. 9. Негр с ножом. Георг Лёвенштерн, Рио де Жанейро, 1827 г
Рис. 9. Негр с ножом. Георг Лёвенштерн, Рио де Жанейро, 1827 г
Подготовка капоэйристов проходила на площадях под руководством опытных мастеров. Как писал местный журналист: «Похоже, что местом для тренировок новичков были выбраны окрестности Се (порт Сенту Се в штате Байя). Вчера в 2.30 ночи муниципальная стража застала опытного капоэйриста Жозе Леандро Франклина за преподаванием искусства капоэйры новичку по имени Албано. Оба были доставлены в тюрьму»[1259].
В качестве основных поводов для ареста капоэйристов в полицейских протоколах встречается использование ножей, бритв, дубинок и палок. Так, например, 14 апреля 1812 года был арестован раб, застигнутый за занятиями капоэйрой и швырянием камней. А 4 июля 1817 года некий Жозее Бенкуэла был задержан за занятия капоэйрой и ношение «faca de ponta» — большого остроконечного ножа. В тот же день за занятия капоэйрой и ношение «estoque» — шпаги был задержан раб Жоаким Аугусто[1260].
4 февраля 1818 года пять рабов, занимавшихся капоэйрой, были задержаны с запрещёнными законом «navalha de ponta» — остроконечными складными ножами. 3 января 1820 года раб Жоаким Ангола был арестован за хранение опасной бритвы и капоэйристской дубинки. Интересная деталь, отсылающая нас к «форменным» дубинкам итальянских каморристов[1261].
Кроме опасных бритв и складных ножей на вооружении капоэйристов также стояли большой нож — «фака», «какубу» — особый тип ножа без рукоятки, «бикуда», или «большой клюв», — узкий остроконечный кинжал, «факау» — мачете и импровизированное оружие в виде всевозможных колющих и режущих предметов[1262].
 Рис. 10. Местре Бимба (Мануэль душ Рейш Машаду, 1900–1974).
Рис. 10. Местре Бимба (Мануэль душ Рейш Машаду, 1900–1974).
Известный бразильский историк Александр Хосе де Мело Мораиш Фильо отмечал, что место лидера мальты — банды капоэйристов мог занять лишь храбрейший. Так, преподобный Джеймс Флетчер, посетивший Рио в 1850х, писал, что предводителями банд становились те капоэйристы, на счету у которых было больше всего убийсь[1263]. Карлос Эуженио Либано Соарес, профессор Федерального университета штата Байя, занимавшийся изучением капоэйры второй половины XIX столетия, писал, что владение боевыми искусствами играло важную роль при выборе лидера, так как в определённых конфликтных ситуациях урегулирование спорных вопросов происходило путём ритуального единоборства главарей мальт[1264]. Внутренняя иерархическая структура мальт была прекрасно известна властям. Так, например, для полиции не было секретом, что раб Жозе Ангола, арестованный 25 ноября 1819 года за занятия капоэйрой, являлся признанным главарём капоэйристов[1265].
Кроме привезённых невольниками воинских традиций Чёрного континента капоэйра вобрала в себя и боевые искусства европейских колонизаторов — португальцев и испанцев. Каждый новый член мальты приносил с собой какие-то знакомые ему с детства элементы. Так, если в банду вступали африканец или европеец, хорошо владеющие бритвой, то и в схватке они пользовались привычными навыками. Другой вопрос: каким образом манера владения бритвой вышла за рамки индивидуального умения бойцов и превратилась в широко распространённое боевое искусство? Скупая информация, почёрпнутая из документальных источников XIX века, не позволяет нам с уверенностью детально описать, как именно применялась бритва в бою. Но анализируя манеру использования бритвы капоэйристами в XX столетии, мы можем предположить, что техника бритвы просто накладывалась на безоружный бой «жого ди капоэйра» [1266].
Надо отметить, что все официальные бразильские академии боевых искусств ещё в 1930-х убрали бритву из программы тренировок, вероятно, из-за того, что зловещая репутация этого оружия мешала продвижению и популяризации капоэйры в Европе и США. В результате капоэйра превратилась в то, что мы видим сегодня — безоружные элементы кикбоксинга и акробатики, иногда сопровождаемые ударами головой[1267].
 Рис. 11. Загадочная бритва-сабля из замка Зигмаринген. The Book of the Sword, Ричард Ф. Бёртон, 1884 г.
Рис. 11. Загадочная бритва-сабля из замка Зигмаринген. The Book of the Sword, Ричард Ф. Бёртон, 1884 г.
 Рис. 12. Дагомейская бритва. The Uncivilized Races, or Natural History of Man, Джон Дж. Вуд, 1870 г.
Рис. 12. Дагомейская бритва. The Uncivilized Races, or Natural History of Man, Джон Дж. Вуд, 1870 г.
 Рис. 13. Лампарина. Каликсто Кордейро, Cosmos, 1906 г.
Рис. 14. Ричард Ф. Бёртон, (1821–1890).
Рис. 13. Лампарина. Каликсто Кордейро, Cosmos, 1906 г.
Рис. 14. Ричард Ф. Бёртон, (1821–1890).
В специализированной литературе существует множество версий, рассматривающих происхождение техники боя на холодном оружии в капоэйре и её интеграцию в это боевое искусство. Так, одни считают, что появление бритвы было обусловлено влиянием богатых дуэльных традиций Иберии. Другие отстаивают африканское происхождение этого обычая, ссылаясь на одно из архаичных жаргонных названий бритвы — «ананун ва хвису», «злое лезвие», имеющее бенинское происхождение. Это термин упоминался ещё Ричардом Френсисом Бёртоном, посетившим Дагомею с дипломатической миссией в 1863 году, когда англичане пытались отговорить короля Бенина — Джелеле от занятий работорговлей, каннибализма и массовых ритуальных убийств военнопленных[1268].
«Злыми лезвиями» были вооружены наводившие ужас на врагов «женщины-бритвы» — женская королевская гвардия Дагомеи. Бёртон описывал их оружие, которое также называли «Nyek-ple-nen-toh», как увеличенную копию самой обычной европейской опасной бритвы, но с клинком, иногда достигавшим почти метра в длину. Лезвия этих бритв, как и у европейских образцов, складывались и убирались в рукоятки из чёрного дерева, а в открытом виде клинок бритвы удерживался специальной пружиной[1269]. Интересно, что на иллюстрации из первого издания книги Бёртона 1884 года под изображением предмета с явными признаками складного оружия, поразительно напоминающего складную бенинскую бритву, стоит подпись «Матросский палаш»[1270]. Конечно, можно предположить, что это досадная опечатка. Однако, это же изображение за подписью «Большой матросский нож», приводит в своей работе 1869 года «Die Kriegswaffen», Август Деммин. Откуда его, по-видимому, и взял Ричард Бёртон, как и многие другие иллюстрации для своей работы. Деммин указал и размер клинка этого оружия — 60 см, а также отметил, что «нож» хранится в экспозиции музея замка Зигмаринген[1271]. Учитывая, что при общей длине около 120 см. более половины этого предмета приходится на абнормально длинную рукоятку, я даже не могу предположить как и для каких целей моряки могли использовать в бою оружие такой крайне странной конструкции. Хотя, как показывает практика, иконография обманчива, и может оказаться, что это всего лишь искажённое изображение дадао — любимого оружия китайских пиратов.

 Рис. 15. Фадист, карикатура. Альберто Пиментель, 1904 г.
Рис. 16. «Фаду с навахой за подвязкой». Театральная программка нач. XX в.
Рис. 15. Фадист, карикатура. Альберто Пиментель, 1904 г.
Рис. 16. «Фаду с навахой за подвязкой». Театральная программка нач. XX в.
Некоторые ладинос — рабы, перенявшие средиземноморские традиции и культуру и прожившие какое-то время в Португалии, несомненно, имели возможность ознакомиться с португальской манерой использования короткого клинка. Так, Ричард Лигон, английский автор XVII столетия, отмечал, что рабы, жившие среди португальцев на Барбадосе, обладали многими талантами, среди которых он отметил склонность к пению и фехтованию. «Я видел несколько этих португальских цветных у полковника Джеймса Дрексеса, искусно дерущихся на шпагах и кинжалах, со стокаттами, имброкатами и пассами, видел и поединки на одних шпагах в стиле Каррансы, проходившие с таким изяществом, что их движения привели бы вас в восторг», — писал Лигон[1272].
Многочисленные политические карикатуры второй половины XIX столетия использовали опасную бритву как символ капоэйры. Так, карикатура из бразильского журнала «Космос» за 1906 год изображает припавшего на колено капоэйриста, или, как их называли в Португалии, фадиста, перерезающего сопернику глотку опасной бритвой в технике, называемой «лампарина»41 Фадистами в Португалии изначально называли исполнителей музыки в стиле «фаду», но позже этот термин экстраполировался и на всех маргиналов. Возможно, этот образ сформировался под влиянием общественного мнения, воспринимавшего фадистов исключительно как дерущихся на бритвах уличных бандитов. Фадисты были символом субкультуры, презираемой высшими слоями общества. На карикатурах женщин-фадисток изображали в виде проституток, а мужчин — исключительно с бритвой в руках[1273].
Конечно, эта точка зрения португальского бомонда была известна и бразильскому высшему обществу, что не могло не повлиять на репутацию капоэйристов Рио и их последующую демонизацию. Португальский писатель конца XIX века Жозе Дуарте Рамальо Орчигао, писал, что большие опасные бритвы, которые носили с собой фадисты, на жаргоне назывались «Santo Cristo», что в этом контексте можно перевести как «О Боже!». Очевидно, этот возглас вырывался у добропорядочных граждан Лиссабона при виде сверкающей бритвы в руке у фадиста. Также он считал, что от нападения фадиста вооружённого бритвой, существовало только две защиты — револьвер, или искусное владение тростью[1274].
Доктор Маттиас Ассунсао утверждает, что случаи применения опасных бритв участились именно во второй половине XIX века, когда банды-мальты пополнились португальскими эмигрантами, а следовательно, техника владения бритвой была привезена именно ими[1275]. Но не существует прямых доказательств, свидетельствующих о влиянии специфических фадистских техник бритвы на капоэйру. Этой точки зрения придерживаются бразильский политический и военный деятель Элизио де Араужо и профессор Лейла Мезан Алгранти. Они доказывают, что наиболее резкий всплеск использования бритв рабами Рио приходится не на конец XIX столетия, как считает Ассунсао, а на период с 1812 по 1814 год, когда количество прецедентов с применением бритвы возросло с 5 случаев в 1812 году до 40 в 1814-м. Хотя нельзя отрицать, что капоэйристам должно было быть известно это иберийское искусство, и не исключено, что они переняли некоторые технические элементы и защиты, так как часто сталкивались с ними в многочисленных поединках на улицах Рио[1276].
Резюмируя, можно сказать, что возможно некоторые техники древней иберийской боевой традиции владения ножом и бритвой могли быть включены в капоэйру, однако прямых доказательств этому нет. Кроме того, испанская традиция в основе своей имеет технику плаща и кинжала, тогда как в капоэйре, во всяком случае, в конце XIX века, использовались свои собственные, ни на что не похожие техники. Бразильский историк и исследователь капоэйры, Карлос Эуженио Либано Суарис отметил, что в первой половине XIX столетия капоэйристы рождённые в Африке, предпочитали ножи, а капоэйристы бразильского происхождения — бритвы. Но из документов следует, что и африканцы использовали бритвы ненамного реже местных бразильцев. Скорее всего, дело было не в этнических предпочтениях, а в практических свойствах бритвы. Любой мог оценить её доступность, остроту лезвия, компактность, небольшой вес и, не в последнюю очередь, легальность. Учитывая, что чернокожим было необходимо скрывать наличие оружия, бритва идеально подходила для этих целей. Также возможно, что этот выбор отражал социальное неравенство между африканцами, выбиравшими более доступное оружие, и бразильцами, имевшими возможность приобрести более дорогое[1277].
В своей диссертации «The Search for Knocking and Kicking», Кристофер Кури отмечает, что и в бразильской капоэйре, и в США бритва использовалась в комплексе с ударами руками и ногами. В Соединённых Штатах XIX столетия бритва для людей африканского происхождения стала не просто оружием, а символом образа чёрного денди. Американский историк Филип Брюс писал, что в XIX веке чёрные отдавали предпочтение бритвам, а не ножам и пистолетам, не только из практических соображений, как замечательному средству защиты и нападения, но ещё и из эстетических побуждений[1278]. Некоторые традиционные техники использования холодного оружия в капоэйре мы можем увидеть в исполнении мастеров Жоао Гранди и Жоао Пекено в документальном фильме Иаира Мора «Танец войны», снятом на 70-мм плёнку в 1968 году.
Надоотметить, что поединки капоэйристов были значительно менее ритуализованы и не столь жёстко кодифицированы, как, скажем, дуэли их средиземноморских коллег. Всё-таки в первую очередь капоэйра, в отличие от ритуальных поединков испанцев или итальянцев с их внешними проявлениями мачизма была скорее ориентирована на самооборону, а следовательно, и на выживание любой ценой, вследствие чего не столь сурово регулировалась кодексом чести. Так, мастер Бимба обычно говорил, что если дела плохи, то лучше удрать. Капоэйристы считали, что любые способности имеют свой предел, поэтому среди них бытовала поговорка, высмеивающая идею непобедимости: «Только скалы выдержат бурю». В таких ситуациях Бимба говаривал: «Если парень гонится за вами, неожиданно остановитесь и воткните «ferro» («железку» — т. е., нож) ему в брюхо»[1279].
Доступность и легитимность опасной бритвы сделали её одним из самых популярных видов оружия далеко за пределами Португалии и Бразилии. Учитывая, что опасная бритва в первую очередь являлась для каждого мужчины необходимой гигиенической принадлежностью, встретить её можно было в самых неожиданных местах. Например, студент Чикагского университета Ричард Альберт Леб, осуждённый в 1924 году за убийство к пожизненному заключению, 28 января 1936 года в душевой Стэйтсвильской тюрьмы был убит опасной бритвой, которую держал в руке другой заключённый, Джеймс Дэй[1280].
Разумеется, все прекрасно помнят, как ослеплённый жаждой наживы герой «Двенадцати стульев» Киса Воробьянинов перерезал опасной бритвой горло своему компаньону, «сыну турецкоподданного» Остапу Бендеру.
Полагаю, что началом конца многовекового господства опасной бритвы можно считать 1901 год, когда Кинг Жилетт и Вильям Никерсон разработали первый бритвенный станок со сменными лезвиями. Вскоре, в 1928 году, Якоб Шик запатентовал электрическую бритву. Тысячелетняя монополия опасной бритвы была нарушена, и она начала быстро уступать позиции гаджетам XX века. Последним гвоздём, забитым в гроб древнего инструмента брадобреев, стало изобретение Марселем Биком в 1975 году одноразового бритвенного станка и усовершенствования, внесённые в 70-х годах в конструкцию электробритвы компанией «Ремингтон». Ещё несколько десятилетий опасные бритвы можно было увидеть в руках наиболее консервативных представителей парикмахерского ремесла, пока их окончательно не запретили как не соответствующие ужесточившимся санитарно-гигиеническим нормам. Думаю, что падение популярности опасной бритвы как уличного оружия в первую очередь было обусловлено именно потерей ею легитимности. Если в начале XX века ни у кого не возникало вопроса, почему в кармане у мужчины лежит опасная бритва — владелец мог нести её точить или править, то в наши дни, когда эти архаичные аксессуары стали историей и прочно заняли место на полках коллекционеров, это по крайней мере вызовет недоумение.
Глава XI
ЛИЦО СО ШРАМОМ
Скарификация в дуэльных культурах

 Среди множества ритуалов, типичных для культуры народных дуэлей, один стоит особняком — шрамирование. Эта традиция встречается во многих мировых культурах в разнообразных формах и ипостасях и во все эпохи, вероятно, начиная с неолита. В зависимости от культурной интерпретации и символической нагрузки этот ритуал мог рассматриваться как знак доблести или унижения и как символ причастности к какой-либо социальной группе, сообществу, конфессии или этносу — как своеобразная тамга, оберег и в сотне других трактовок и толкований. Так, например, порезы лица как часть обряда оплакивания описывает греческий автор Менандр. Когда в 576 году византийские послы присутствовали при оплакивании Дизабула, главы Западного тюркского каганата, то Турксанф, «гегемон» тюрков, предложил послам порезать себе щёки в знак траура, «чтобы кровью, а не слезами почтить память погибшего воина»[1281]. В наши дни этот архаичный обряд, известный в определённых субкультурах как «скарификация», переживает ренессанс.
Ещё в античности во многих обществах и культурах голова и лицо несли важную сакральную нагрузку и являлись одними из символов мужской чести. Так, например, одним из самых тяжёлых оскорблений для мужчины считалось оттаскать его за бороду[1282]. Законодательства многих стран и разных эпох определяя компенсацию за ранение, увеличивали сумму виры при нанесении ущерба внешности. Ещё Платон предлагал ввести за нанесение раны, обезобразившей лицо, такую же компенсацию, как за неизлечимое ранение[1283]. Не обошли обезображивание вниманием и ранние европейские судебники. Ломбардские законы устанавливали для ранений лица такую же виру, как за усечение конечностей. А в законах Бургундии компенсация за повреждение лица была в три раза выше, чем за ранение любой другой части тела[1284]. Аналогичные наказания были предусмотрены и судебниками других стран. Например, в датирующихся XIII веком Ливонских правдах вира за рану на лиц£ составляла шесть марок, при том что ранения на теле оценивались всего в три марки. Что характерно, даже синяк под глазом обходился обидчику в те же шесть марок, то есть дороже, чем тяжкое ранение в любую другую часть тела[1285].
Шрамирование лица в народных дуэльных культурах относилось к так называемым негативным ритуалам, которые в первую очередь подразумевали унижение противника. Традицию ритуального шрамирования мы находим во многих народных дуэльных культурах Нового времени. Так, например, свидетельство о существовании подобного ритуала мы встречаем в 1614 году у Сервантеса в новелле «Ринконете и Кортадильо», рассказывающей об организованном преступном сообществе Севильи XVII столетия:
«В это время показался Чикизнаке, и Мониподьо справился у него, покончено ли с заказанной ему раной в четырнадцать стежков.
«Какой раной? — переспросил Чикизнаке. — Не тому ли купцу, что живет на перекрестке?»
— «Да-да, ему», — подтвердил кавальеро.
«Дело обстоит следующим образом, — отвечал Чикизнаке. — Вчера вечером я поджидал купца у дверей его дома; он пришел еще до молитвы. Подхожу, прикинул глазом лицо, и оказалось, что оно очень маленькое; совершенно невозможно было уместить рану в четырнадцать стежков; и вот, будучи не в состоянии сдержать свое обещание и выполнить данную мне деструкцию, я…» «Ваша милость, вероятно, хотели сказать, инструкцию», — поправил кавальеро. «Совершенно верно, — согласился Чикизнаке. — Увидев, что на таком непоместительном и крошечном личике никак не уложить намеченное число стежков, не желая терять время даром, я нанес одному из слуг этого купца такую рану, что, по совести сказать, первый сорт!» «Семь стежков раны хозяина, — сказал кавальеро, — я всегда предпочту четырнадцатистежковой ране его слуги. Одним словом, вы не сделали того, что было нужно. Впрочем, что тут разговаривать — не такой уж большой расход те тридцать эскудо, которые я вам дал в задаток. Имею честь кланяться, государи мои!»[1286].
Среди множества ритуалов, типичных для культуры народных дуэлей, один стоит особняком — шрамирование. Эта традиция встречается во многих мировых культурах в разнообразных формах и ипостасях и во все эпохи, вероятно, начиная с неолита. В зависимости от культурной интерпретации и символической нагрузки этот ритуал мог рассматриваться как знак доблести или унижения и как символ причастности к какой-либо социальной группе, сообществу, конфессии или этносу — как своеобразная тамга, оберег и в сотне других трактовок и толкований. Так, например, порезы лица как часть обряда оплакивания описывает греческий автор Менандр. Когда в 576 году византийские послы присутствовали при оплакивании Дизабула, главы Западного тюркского каганата, то Турксанф, «гегемон» тюрков, предложил послам порезать себе щёки в знак траура, «чтобы кровью, а не слезами почтить память погибшего воина»[1281]. В наши дни этот архаичный обряд, известный в определённых субкультурах как «скарификация», переживает ренессанс.
Ещё в античности во многих обществах и культурах голова и лицо несли важную сакральную нагрузку и являлись одними из символов мужской чести. Так, например, одним из самых тяжёлых оскорблений для мужчины считалось оттаскать его за бороду[1282]. Законодательства многих стран и разных эпох определяя компенсацию за ранение, увеличивали сумму виры при нанесении ущерба внешности. Ещё Платон предлагал ввести за нанесение раны, обезобразившей лицо, такую же компенсацию, как за неизлечимое ранение[1283]. Не обошли обезображивание вниманием и ранние европейские судебники. Ломбардские законы устанавливали для ранений лица такую же виру, как за усечение конечностей. А в законах Бургундии компенсация за повреждение лица была в три раза выше, чем за ранение любой другой части тела[1284]. Аналогичные наказания были предусмотрены и судебниками других стран. Например, в датирующихся XIII веком Ливонских правдах вира за рану на лиц£ составляла шесть марок, при том что ранения на теле оценивались всего в три марки. Что характерно, даже синяк под глазом обходился обидчику в те же шесть марок, то есть дороже, чем тяжкое ранение в любую другую часть тела[1285].
Шрамирование лица в народных дуэльных культурах относилось к так называемым негативным ритуалам, которые в первую очередь подразумевали унижение противника. Традицию ритуального шрамирования мы находим во многих народных дуэльных культурах Нового времени. Так, например, свидетельство о существовании подобного ритуала мы встречаем в 1614 году у Сервантеса в новелле «Ринконете и Кортадильо», рассказывающей об организованном преступном сообществе Севильи XVII столетия:
«В это время показался Чикизнаке, и Мониподьо справился у него, покончено ли с заказанной ему раной в четырнадцать стежков.
«Какой раной? — переспросил Чикизнаке. — Не тому ли купцу, что живет на перекрестке?»
— «Да-да, ему», — подтвердил кавальеро.
«Дело обстоит следующим образом, — отвечал Чикизнаке. — Вчера вечером я поджидал купца у дверей его дома; он пришел еще до молитвы. Подхожу, прикинул глазом лицо, и оказалось, что оно очень маленькое; совершенно невозможно было уместить рану в четырнадцать стежков; и вот, будучи не в состоянии сдержать свое обещание и выполнить данную мне деструкцию, я…» «Ваша милость, вероятно, хотели сказать, инструкцию», — поправил кавальеро. «Совершенно верно, — согласился Чикизнаке. — Увидев, что на таком непоместительном и крошечном личике никак не уложить намеченное число стежков, не желая терять время даром, я нанес одному из слуг этого купца такую рану, что, по совести сказать, первый сорт!» «Семь стежков раны хозяина, — сказал кавальеро, — я всегда предпочту четырнадцатистежковой ране его слуги. Одним словом, вы не сделали того, что было нужно. Впрочем, что тут разговаривать — не такой уж большой расход те тридцать эскудо, которые я вам дал в задаток. Имею честь кланяться, государи мои!»[1286].
 Рис. 1. Испанская шебека. Жан Бужон, 1826 г.
Рис. 1. Испанская шебека. Жан Бужон, 1826 г.
Как мы видим, речь в этом отрывке идёт о заказном нанесении шрама на лицо в качестве символического унижения, из чего можно сделать вывод, что в Севилье XVII столетия подобная практика была в порядке вещей. Многие авторы, посетившие Испанию в XVIII–XIX столетиях, писали о манере испанских навахеро вырезать на лице противнике «Cruz de San Andres» — крест святого Андрея в виде двух перекрещивающихся диагональных порезов. Об этом обычае упоминал и личный хирург короля Англии Карла Второго — Ричард Вайсман, побывавший в молодости корабельным врачом. Он вспоминал, что, когда служил на одном из судов дюнкеркцев — голландских каперов на службе у испанской короны, у которых тогда в моде были поединки на ножах — сникерсни, у него было немало работы, связанной со штопкой порезанных лиц.
В качестве иллюстрации Вайсман привёл одну любопытную историю. Как-то раз, когда их судно стояло у берега на якоре, в залив вошли три корабля с голландцами, состоящими на службе у короля Испании, которых сам доктор называл «гамбургцами». Боцман одного из этих судов сошёл на берег в компании моряков с корабля Вайсмана. Во время совместной попойки боцман завёл речь о религии и начал бранить одного из матросов за ношение креста. Некоторое время спустя, основательно заправившись горячительными напитками, он стал задираться и клясться святым причастием, что не станет носить крест, и пусть чёрт заберёт его, если это не так. Один из моряков сбил его с ног, наступил коленом на грудь, прижал голову к земле и, вытащив из-за пояса нож, порезал ему лицо от уха до рта. Как это профессиональным языком описал Вайсман, от «os zygoma» до нижней челюсти. После совершения этого акта возмездия моряк бросил изуродованному боцману, что крест на лице послужит ему защитой и чёрт его уже не заберёт. Раненый боцман был поручен заботам Вайсмана и вскоре оправился от ранения, хотя некоторые следы креста остались видны. Как отметил Вайсман, эта категория людей носила шрамы на лице с большой гордостью, как символ личной храбрости[1287].
Флаг с изображением двух перекрещивающихся косых линий — Андреевского креста, на котором, по преданию, был распят святой Андрей Первозванный, можно найти на флагштоках многих государств и разных эпох, начиная с флага Шотландии 832 года. Но вот крест святого Андрея именно в виде двух кровавокрасных полос с рваными зазубренными краями, напоминающими зияющий порез, можно увидеть только на морском флаге Испании в период с 1506 по 1701 год и вплоть до 1843 года — на её воинском штандарте. Упоминание о сходстве раны с «рваным» крестом мы находим и в «Рондолле» Гумилёва:
«Вперед, задиры! Вы без страха, и нет для вас запретных мест,
На ваших лбах моя наваха запечатлеет рваный крест»[1288].
Андреевскими крестами называет порезы лица и Проспер Мериме в «Кармен»:
«Ну а я, — сказала Кармен, — устрою тебе мушиный водопой на щеках и распишу их, как шахматную доску». И тут же — чик-чик! — ножом, которым она срезала сигарные кончики, она начинает чертить ей на лице андреевские кресты»[1289].
Мериме хорошо знал предмет — он серьёзно интересовался культурой цыган Андалусии и особенно гордился своим знанием местных реалий, сленга и диалектных идиоматических выражений[1290]. В прекрасном русском переводе Лозинского Кармен пообещала своей дерзкой сопернице «расписать щёки, как шахматную доску»[1291] — в оригинальной французской версии «peindre un damier». В перекладе на испанский эта идиома звучала как «pintar un javeque», что можно перевести как «разрисовать», «разукрасить» или «расписать шебеку»[1292]. Шебекой в XVI–XIX веках называлось небольшое средиземноморское боевое, а позже торговое трёхмачтовое судно, оснащённое треугольным так называемым «латинским» парусом[1293]. Произошло это название от французского слова «che-Ьес», откуда оно трансформировалось в старокастильское «xabeque», а позже и в javeque[1294].
Существует множество версий о происхождении этой идиомы. Например, знаток Испании барон Давилье считал, что это название было обусловлено оснасткой шебеки. «Нанесённая рана формой напоминает парус этого средиземноморского судна», — писал он[1295]. Не исключено, что этимология этого выражения была связана с традицией расписывать борта шебек геометрическими фигурами или же с напоминавшими кровоточащие порезы красными полосами на их парусах. А возможно, изъязвлённое шрамами лицо напоминало морякам волнующееся море, так как на флотском сленге «пинтар» обозначало рябь на воде[1296].
Давилье отметил, что среди испанских мастеров ножа порез лица, «хабек», или, как его ещё называли, «чирло», являлся одним из важнейших технических элементов в поединке[1297]. К началу XIX столетия выражение «расписать шебеку» плотно заняло своё место в вербальных угрозах народной дуэльной культуры Испании. О «хабек» упоминается и в пособии по владению навахой «Manual del Baratero»[1298], и в сборниках народной поэзии Сегарры[1299]. В 1855 году о распространённых в поединках на ножах порезах лица пишет Форд в своей хрестоматийной работе «Путеводитель по Испании». Так, он упоминал, что среди андалузских махо во время нередких вспышек ревности обычным наказанием являлся порез щеки соблазнителя, называемый «отметиной», или «разрисовкой». Согласно Форду, популярной среди махо угрозой была фраза: «Ya estadas señalada, Ya estas pintado, picaro!» («Я порежу тебе лицо, плут!»). В литературном испанском языке метафора «pintado рог la justicia» — «помеченный правосудием» обозначала мошенника, a «pan pintado» на жаргоне пекарей назывался хлеб, украшенный крестовыми и диагональными надрезами. В Севилье была распространена угроза: «Mira que te pinto un jabeque» («Смотри, как бы я не расписал тебе шебеку»).
Человек, получивший «хабек», не мог никому показаться в таком виде, стеснялся отметин на лице и отчаянно пытался восстановить внешность и кожу лица. Как гласила старинная севильская пословица: «Над шрамами подшучивают те, кто никогда их не получал». Единственным косметическим средством для удаления шрамов тогда считался кошачий жир: «El sebo unto de gato, Que en cara defienda los senales» («Кошачий жир, который защищает от отметин на лице»)[1300].
Вероятно, эту испанскую моду вместе с испанской культурой поединков на ножах моряки-дюнкеркцы занесли во Фландрию. Во всяком случае, голландские источники XVII века упоминают о распространённой среди низших классов страны традиции, известной как «de bek opsnijden» или «bekkensni-jden» (дословно «разрез рта»). Существовало множество эвфемизмов для «беккеншнэйден» — например: «Я повешу тебе на щёку красную ленточку»[1301]. Как правило, это был восходящий порез щеки, идущий от уголка рта. Часто «беккеншнэйден» наносили в качестве наказания. Например, в 1651 году отставной солдат из Зютфена был осуждён за то что порезал женщине лицо разбитым стеклом[1302]. Или же как акт возмездия брошенного любовника, как в инциденте в ночь на Эпифанию 1698 года, когда Ян Хелт порезал от уха до рта лицо своей бывшей подружке Маргриетье Дюийфф[1303].
Некоторые исследователи считают, что «беккеншнэйден» являлся элементом исключительно мужской мести[1304]. В Северном Брабанте, одной из южных провинций Голландии, «беккеншнэйден» были нередки во время ярмарок. Как раз подобный инцидент произошёл на одной из таких ярмарок в Ренсселаерсвике в 1649 году. 21 сентября, за день до открытия так называемой Амстердамской ярмарки, Ян Диркс ван Бремен стал жертвой нападения Абрахама Стивенса де Кроаэта, и Дирка Хендрикса ван Хилверсума. В результате этого нападения Ян Дирке получил ножевое ранение лица, идущее справа налево и сверху вниз, от нижней губы к подбородку[1305].
Порезы лица сурово карались голландскими судами. Так, за обезображенное подобным образом лицо Меувиса Хоогенбума Якоб Лоокерманс был оштрафован на триста гудьденов, и, кроме того, суд обязал его оплатить услуги хирурга[1306]. Ещё более суровым наказанием для агрессора закончился инцидент с участием личного садовника бургомистра Амстердама Николаэса Витсена, произошедший в 1704 году. История эта выглядела следующим образом. Варнаар Варнаарсе работал садовником у бургомистра Витсена. Работодатель Варнаара являлся одним из отцов города, кораблестроителем, учёным и советником русского царя Петра Первого, что придавало садовнику более высокий социальный статус, чем у других работников. Неизвестно, сколько ему было лет, но недоброжелатели называли Варнаара стариканом. Его недруг, 24-летний Хендрик Блок, он же Косой Хейн, поменявший много мест работы, на тот момент трудился в ситценабивной мануфактуре. Мы не знаем, что вызвало между ними вражду, но можем предположить, что садовник пытался защитить имущество хозяина.
Как-то раз Хейндрик в компании шести приятелей встретил садовника на прогулке за городскими стенами и ударил его по голове подобранной дохлой чайкой с такой силой, что Варнаар свалился в канаву. Снова враги встретились в сентябре у Утрехтских ворот, где Варнаар болтал с сержантом городской стражи. Хейндрик, достав нож, стал оскорблять Варнаара, называя его старым негодяем и вором, крадущим голубей бургомистра. Его приятель подначивал его: «Вгони нож в этого старого пса по самую рукоятку!» Но вместо этого Хейндрик потребовал, чтобы Ваарнар пришёл вместе с сыном в воскресенье в условленное место, где обещал порезать им обоим лицо. Садовник проигнорировал его вызов, и следующая их встреча произошла в субботу, 18 октября, когда Варнаар и его маленькая дочурка — что даёт основание предполагать, что он не был так стар, — спрятались от дождя в мясной лавке. Его противник снова повторил: «Завтра, в воскресенье, я порежу тебе лицо, старый подонок!» Варнаар взял в руки палку, чтобы отколотить обидчика, но тот выхватил нож и осуществил свою угрозу, порезав садовнику подбородок. В ноябре Хейндрик был арестован. Под пыткой он признайся не только в оскорблении садовника бургомистра и нападении на него, но и в семи другим эпизодах, где он также использовал нож для нанесения ранений[1307].
Практически никогда за всю историю дуэлей в Амстердаме жертвы нападений не умирали от ранений головы. Смертельные удары чаще всего наносили в грудь или живот. В качестве возможного объяснения может быть использован тот факт, что народные дуэлянты 1700-х, как правило, не стремились убить друг друга. Поединки на ножах представляли лишь демонстрацию силы. Перед началом схватки некоторые дуэлянты недвусмысленно заявляли, что противник «нуждается в порезе» или «кое-кто что-то получит». Убийства же на дуэлях обычно случались, когда эмоции брали верх над рассудком и простой демонстрации превосходства или символического унижения противника уже было недостаточно[1308].
Прекрасное описание «беккеншнэйден» мы находим в некогда популярном, а ныне забытом романе Генриха Майера «Дочь оружейника», изданном на русском языке в 1873 году. Герой романа, оружейный мастер Вальтер, у речной переправы неподалёку от Амерсфорта был вызван на поединок неким лодочником, слывшим умелым бойцом на ножах. Лодочник принёс два ножа одинаковой длины и один из них подал сопернику. Вальтер прикрепил нож к руке платком, чтобы защитить пальцы. Таким же способом привязал нож его противник, и они встали в восьми шагах друг от друга. Оружейник спокойно ждал нападения, следя за всеми движениями перевозчика. Тот, видя, что его противник не становится в правильную позицию, решил, что имеет дело с новичком, и двинулся к нему. Вальтер спокойно ждал, не поднимая рук, но когда лодочник почти дотронулся до него, он быстро схватил его за руку левой рукой, а правой мгновенно вырезал ножом крест на его щеке. Потом сильно толкнул его, и лодочник, потеряв равновесие, упал под громкий хохот окружающих. Но тут же в ярости вскочил на ноги и, несмотря на то что его лицо было покрыто кровью, потребовал продолжить бой. Оба встали на свои места, но в этот раз оружейник не ждал, когда противник подойдет к нему. Он сам одним скачком очутился возле лодочника, опять сжал его вооруженную руку и быстро вырезал на другой щеке полумесяц, «так что эмблемы христианства и магометанства соединились на его лице, разделенные только красным носом»[1309].
С одной стороны, такой «беккеншнэйден» фигурально символизировал для фуурфехтера потерю лица, но с другой — некоторые гордо носили эту метку как символ бойцовской репутации, так как это доказывало отвагу владельца шрама и его способность терпеть боль. «Беккеншнэйден» вошёл в обиход вместе с традицией поединков на ножах в XVII веке и вышел из моды в середине XVIII столетия[1310]. Но эта мрачная традиция не утеряла своей популярности и в просвещённом XIX веке. Ещё в 1822 году «European magazine» отмечал: «Каждая нация дерётся в соответствии со своими обычаями. Так, голландцы режут друг другу ножами лица»[1311].
В Италии XVI века находившейся под испанским господством, мода на всё испанское не оставила незамеченной и традицию ритуального обезображивания лица. Вместе с испанским костюмом, испанскими ножами, испанской культурой чести и испанской традицией поединков на ножах на плодородную землю Апеннин упали семена и этого архаичного обряда. Джеймс Тёрнер отмечал, что уже в ренессансной Италии, и особенно в Риме, было распространено нанесение шрамов на лица проституток. Подобный ритуал мы можем увидеть на изображении из датированной 1692 годом серии гравюр Джузеппе Мариа Мителли, «La vite infelice della meretrice compartita ne dodeci mesi dell'anno». Этот цикл гравюр посвящён различным перипетиям из жизни проститутки и охватывает период с юности и до её смерти. На одной из гравюр, «Ottobre» («Октябрь»), завёрнутый в плащ мужчина распарывает жрице любви лицо коротким серпообразным ножом[1312].
Вскоре право на этот ритуал было практически монополизировано печально известным преступным сообществом Неаполя — каморрой. Так как, согласно своей мифологии и историографии, каморра вела происхождение от Ла Гардуньи, легендарного преступного сообщества Севильи XV столетия, то, видимо, она переняла и эту кровавую испанскую традицию. В сумрачной среде неаполитанской каморры шрамирование лица из простого ритуала унижения превратилось в жестокую субкультуру, известную как «sfregio».
 Рис. 2. Проститутке распарывают лицо ножом. La vita infelice della meretrice (Несчастная жизнь блудницы). Джузеппе Мария Мителли. 1692 г.
Рис. 2. Проститутке распарывают лицо ножом. La vita infelice della meretrice (Несчастная жизнь блудницы). Джузеппе Мария Мителли. 1692 г.
Одно из первых упоминаний о сфреджо в значении шрамирования лица мы находим в 1760 году в словаре Баретти[1313]. Это слово можно перевести с итальянского как «шрам», или «порез на лице», а в метафорическом смысле — как «позор» или «бесчестье». В Неаполе XIX столетия сфреджо имело только одну мрачную интерпретацию — нанесение на лицо с помощью бритвы или ножа видимых шрамов различного размера, несущих различную смысловую нагрузку. Каморристы, находящиеся в тюрьмах, за отсутствием других орудий наносили сфреджо осколками стекла или заточенными обрезками металла[1314]. Только в период с 1859 по 1860 год было зафиксировано 116 случаев сфреджо. А в течение последующих двух лет их число уже превысило 223. В период с 1830 по 1840 год сфреджо стали в Неаполе настолько частым явлением, что понадобился специальный репрессивный закон[1315]. Итальянское правосудие отчаянно боролось с этой традицией, и за нанесение сфреджо выносили достаточно строгие приговоры. Хотя получившие шрамы жертвы редко обращались в полицию, иногда подобные инциденты всё-таки превращались в уголовные дела. Так, 21 апреля 1854 года уголовный суд Потенцы приговорил некоего Доменико Пассалакуа за нанесение сфреджо к десяти годам тюрьмы[1316]. Неизвестно, чем был обусловлен такой суровый приговор, так как обычно тюремный срок за подобное преступление редко превышал 5–6 лет, как, например, в деле о нанесении сфреджо Микеле Гайта, рассмотренном уголовным судом Салерно[1317], или в процессе Фердинандо Винчи, обвинённого в сфреджо судом Неаполя[1318]. В эти годы произошла демонизация опасной бритвы, с помощью которой чаще всего и уродовали лицо. Благодаря этому, вскоре бритва приобрела в Италии репутацию коварного и подлого оружия преступного мира, и за её ношение назначали самое строгое наказание.
Но каморристы горевали недолго и вскоре нашли альтернативу запрещённой бритве. Как ни абсурдно это звучит, но это оружие было вызвано к жизни драконовским законом премьер-министра Италии Джолитти от 1908 года. Закон ограничивал максимально допустимую длину клинка ножа 4 сантиметрами, а ножи с остриём вообще должны были исчезнуть как класс. В результате этих ограничений итальянские производители наладили выпуск ножа моцетта со срезанным под прямым углом остриём и разолино, прозванного так за сходство с разойо — опасной бритвой[1319].
Все исследователи, занимавшиеся изучением каморры, сходятся во мнении, что для членов этой организации сфреджо представлял вид наиболее распространённого наказания. Они прибегали к нему, когда было необходимо покарать на небольшой проступок, совершённый соратником, и если речь шла о мести в отношении «непосвящённых». Наибольшее число обвиняемых в сфреджо было среди молодых преступников, более или менее тесно связанных с этим сообществом. Из монографии профессора Пуччи о каморре мы узнаём, что среди дисциплинарных наказаний, накладываемых организацией на своих членов, были штрафы, целование руки или ступни соратников, получение пощёчины, дискредитация и временное отстранение от работы, увольнение, компенсация ущерба, избиение, сфреджо и, наконец, смерть[1320]. В своём фундаментальном исследовании Ломброзо сообщал, что, когда речь шла о выполнении задания организации, каморрист, не колеблясь, мог ранить, или даже убить жертву, но для своей личной мести он обычно при помощи бритвы наносил на лицо противника сфреджо. Нанесение шрама, как правило, поручалось пиччиотто — молодым преступникам, которые только начали подниматься по иерархической лестнице каморры. Настоящий каморрист никогда не наносил сфреджо лично — ни для себя, ни для других. Хотя было одно исключение: жена каморриста по традиции получала от него сфреджо ещё в тот период, когда он только ухаживал за ней, будучи молодым пиччиотто. Можно сказать, что в каморре это являлось своеобразной формой помолвк[1321].
На основании материалов шестидесяти уголовных дел, связанных с нанесением сфреджо, можно заключить, что средний возраст тех, кто наносил эти ранения, или, как их ещё называли, сфреджатори, обычно колебался между 16 и 30 годами. Примерно 70 % неофитов вербовались из числа бывших заключённых, и поэтому все они были хорошо известны полиции. Большинство из них занимались неквалифицированным трудом: мусорщики, продавцы, уличные торговцы, разносчики. Почти все сфреджатори были тщеславны и бахвалились своей отвагой. Так, один из них, Николас П., прозванный «u mimmo» — «мим», пиччиотто из района Порто, после того как нанёс подруге сфреджо, во всеуслышание заявил, что «порезал любовницу не только чтобы доказать превосходство мужчины над женщиной, но также и для того, чтобы по этой специфической отметине все знали, что её оставил человек, способный заставить уважать себя»[1322].
По статистике, среди получивших шрамы женщин количество девиц было выше, чем замужних дам, а на последнем месте находились вдовы. Чаще всего жертвами сфреджо становились женщины, работавшие приходящими домработницами, сразу за ними шли продавщицы, служанки, портнихи, парикмахерши, прачки и, наконец, зарегистрированные проститутки. Следует отметить, что большинство тех, кто называл себя приходящими домработницами, на самом деле являлись тайными или явными проститутками, скрывавшими своё занятие под этим обтекаемым названием. В общем, можно с достаточной уверенностью сказать, что большинство сфреджати — женщин со шрамами на лице — не обладали высокими моральными достоинствами и на социальной лестнице находились ближе ко дну общества.
Сфреджо были наиболее популярны в районах с плохой репутацией, где женщин лёгкого поведения хватало с лихвой. Из 160 неапольских проституток со шрамами на лице 32 признались, что они занялись проституцией после того, как их друг, нанёсший сфреджо, опозорил их и бросил. Информация, полученная от синьора Донадио, секретаря полицейского управления в Неаполе, позволяет сделать вывод, что нападения такого рода чаще всего совершались в районах Викариа, Меркато, Прато, Пендино и Монтекалварио, считавшиеся прибежищами каморристов. В районах Сан-Фернандо и Сан-Джузеппе сфреджо встречались значительно реже[1323].
 Рис. 3. Сфреджиати. L'uomo Delinquente. Чезаре Ломброзо, Турин, 1897 г.
Рис. 3. Сфреджиати. L'uomo Delinquente. Чезаре Ломброзо, Турин, 1897 г.
Как правило, сфреджо наносили мужчины женщинам или другим мужчинам. Резали друг другу лица и женщины. Но подобная форма мести женщины возлюбленному мужчине являлась большой редкостью. Среди основных поводов к совершению сфреджо чаще всего встречались ревность, тщеславие, ярость, а иногда месть или вендетта. Шрам могли наносить как по приказу организации, так и по заказу частного лица. В 78 изученных случаях 18 молодых людей порезали лица своих возлюбленных в приступе ревности или ослеплённые оскорблением чести. Кроме того, некрасивые или подурневшие женщины считались более верными. Возможно, порезав лицо возлюбленной, юноши хотели устранить повод для вечных подозрений, споров и постоянных ссор. Нередко случалось, что сфреджо, вместо того чтобы разбить узы привязанности, только укреплял их, и девушка, которая могла бы потерять лицо в глазах общественного мнения, считала, что её честь восстановлена. Почти так же выглядела ситуация и среди членов каморры. Женщина каморриста, получившая сфреджо, никогда не свидетельствовала против мужчины, который её изуродовал, а наоборот, гордилась принадлежностью к нему. Но надо заметить, что при этом она руководствовалась не преданностью, лояльностью или великодушием, а исключительно тщеславием. Видимый шрам, свидетельствовавший о том, что это возлюбленная каморриста, автоматически повышал статус женщины в обществе[1324].
Тщательные исследования М. Канале, долгое время работающего в охране общественной безопасности неапольского района Порто, дают основания утверждать, что у каморристов в зависимости от повода существовали различные виды сфреджо. Наиболее частым являлся так называемый, «сфреджо симпатии», который носили женщины каморристов. Этот вид шрама наносился с помощью хорошо заточенной бритвы, и порез соединял по горизонтали ухо с губой. Шрам в этой плоскости, как считали авторы XIX века, «практически сливался с чертами лица, не портил его и, более того, даже добавлял некий шарм простеньким мордашкам девушек из народа». Бывало, что в подобных случаях судья рассматривал нанесение «сфреджо симпатии» лишь как временное обезображивание и назначал менее суровое наказание, предусмотренное для лёгкого ранения[1325].
Более серьёзным ранением являлось так называемое «сфреджо мести», для нанесения которого использовалась зазубренная бритва, оставлявшие рваные раны. В этом случае разрез вёлся сверху вниз от глаза. В результате лицо было обезображено сильнее, рана более заметна, и, кроме этого, нередко повреждались слюнные железы и лицевой нерв. Этот вид сфреджо применялся для наказания предателей, информаторов и агентов полиций[1326]. В связи с различием между сицилийскими и неаполитанскими традициями и обычаями сфреджо не смог укорениться на Сицилии из-за кровожадного нрава её обитателей, предпочитавших шрамированию более радикальные методы. В ситуации, когда камор-ра выбирала сфреджо, сицилийцы прибегали к убийству. Там, где неаполитанцы мстили за оскорбление ударом бритвы по лицу, Сицилия, Корсика и Сардиния вонзали кинжал в сердце. Когда одни довольствовались обезображиванием, другие убивали.
За пределами Неаполя сфреджо попадалось достаточно редко. Встречаются немногочисленные упоминания об обезображивании лица в городах Сицилии, но и там сфреджо всегда наносились только членами преступных сообществ[1327]. Так, невольным свидетелем нанесения заказного сицилийского сфреджо стал известный русский экономист середины XIX века Матвей Степанович Волков. Вот как он описывал этот инцидент в воспоминаниях: «Ужасное происшествие! Доктор N, молодой человек красивой наружности, ежедневно на закате солнца прогуливался за городскими воротами. Однажды подбегает к нему человек и одним ударом ножа разрезывает лицо поперёк. Раненый падает без чувств. Кто-то узнал его, поднял и привёз домой. Очнувшись, несчастный увидел, что разбойник ничего у него не взял; следовательно, то был bravo, исполнитель чьего-нибудь мщения. Вспомнил он, что недавно поссорился с другим доктором. Может быть, это мщение того доктора»[1328].
Упоминание о сфреджо мы встречаем и через 100 лет после описанных событий. В 70-х годах XX столетия известный калабрийский бард, каморрист Франческо «Чиччо» Скарпелли, выступавший под псевдонимом Фред Скотти, в популярной песне тех лет, «Тарантелла гуаппа», пел: «Е si 'u curtieddu miu si avja lu tagliu. Carogna io ti sfreggiu e t' azzaccagnu» («Мой нож искусен в своём ремесле. Для начала, предатель, я порежу тебе лицо»)[1329].
По иронии судьбы, сам Скарпелли, попав в двусмысленную ситуацию, порезанным лицом не отделался. Он грубо нарушил закон уважаемого сообщества, начав оказывать знаки внимания жене местного капо ндрангеты, которая, очевидно, не смогла отказать голосистому роковому красавчику с набриолиненной причёской. Во всяком случае, капо с ним церемониться не стал и, чтобы сохранить лицо, вместо пиччиотто с бритвой, отправил к нему стрелка с лупарой. На надгробии незадачливого барда выбита патетическая эпитафия в лучших традициях каморры: «А Ciccio, stroncato da mano crudele» («Сражён жестокой рукой»)[1330].
 Рис. 4. Надгробие Франческо 'Чиччо' Скарпелли [Фред Скотти).
Рис. 4. Надгробие Франческо 'Чиччо' Скарпелли [Фред Скотти).
 Рис. 5. Различные типы сфреджо. Usi е costumi dei camorristi. Абель де Блазио, 1897 г.
Рис. 5. Различные типы сфреджо. Usi е costumi dei camorristi. Абель де Блазио, 1897 г.
Прекрасный комплект хрестоматийных неаполитанских сфреджо, благодаря которым он получил кличку Меченый или Человек со шрамом, носил на лице прославленный гангстер эпохи сухого закона Альфонсо Габриэль Капоне, более известный под именем Аль Капоне. Репортёрам он любил рассказывать историю о том, что эти шрамы были им получены на войне или, по другой версии, в результате несчастного случая в парикмахерской, когда он ещё был ребёнком. Но на самом деле приобретены они были несколько иным путём.
В далёком 1917 году юный Альфонс Капоне работал на босса нью-йоркской мафии Фрэнки Йела в отеле «Гарвард» на Кони-Айленд. В один из вечеров в танцевальный зал в сопровождении своей сестры Лены и невесты по имени Мария Танцио вошёл нью-йоркский мафиози Фрэнк Галлуччо. Аль Капоне приметил хорошенькую гостью и игриво и откровенно улыбался Лене. Вскоре девушку начало раздражать навязчивое внимание со стороны молодого человека, и она попросила брата намекнуть ему об этом. Но только он собрался поговорить с Капоне, как тот вдруг наклонился к Лене и игриво сообщил, что у неё «клёвая задница». Услышав этот сомнительный комплимент, Фрэнк пришёл в бешенство. Он тут же бросил Капоне, что «не собирается выслушивать такое дерьмо от кого бы то ни было», и потребовал, чтобы тот немедленно извинился перед сестрой. Альфонс протянул к Фрэнку руки и примирительно сказал: «Да ладно, дружище, я же пошутил!» «Это ни хрена не смешно!» — ответил разьярённый Галлуччо. Тут улыбка сползла с лица Капоне. Галлуччо выхватил складной нож и нанёс ему три удара. Он целился в горло, но так как этим вечером успел пропустить пару коктейлей, то вместо шеи попал по лицу. В госпитале Кони-Айленд, Капоне потребовалось наложить 30 швов.
После этого инцидента у Галлуччо произошло объяснение с боссами нью-йоркской мафии. В результате Капоне был вызван на ковёр и предупреждён, чтобы даже не думал мстить за порезы, так как это было справедливым наказанием за оскорбление сестры Галлуччо. Капоне признал вину и принёс извинения его сестре. Галлуччо был сам не рад, что изуродовал Аль Капоне, но, согласно кодексу чести каморры, его поступок в защиту чести сестры был абсолютно оправдан. Шрамы выглядели следующим образом: косой шрам длиной 10 см поперёк щеки перед левым ухом, вертикальный шрам длиной 5 см на челюсти с левой стороны и косой шрам 5 см под левым ухом на шее.
Некоторые беспринципные газетёнки и журналы старались увеличить его шрамы на фото, чтобы лицо Капоне выглядело более безжалостным. Хотя газетчики и прозвали Капоне Человеком со шрамом, но никто из них никогда не отважился сказать ему это в лицо[1331]. Так по иронии судьбы старинная неаполитанская традиция настигла Капоне, выходца из неаполитанского городка Кастелламаре ди Стабиа, за тысячи километров от дома, в далёкой Америке.
Однако, синьор Капоне не был в этом одинок. Его товарищем по несчастью стал другой легендарный гангстер эпохи сухого закона, уроженец сицилийского местечка Леркара-Фридди, Сальваторе Луканья, более известный широкой публике, как Чарльз «Счастливчик» Лучано. В 1928 году между бандами двух капо мафии, Джузеппе «Джо» Массерия, на которого работал Лучано, и Сальваторе Маранцано началась братоубийственная война получившая название «Кас-телламарской», по названию родного местечка Маранцано, Кастелламаре дель Гольфо. С 1928 по 1931 год это кровопролитие унесло жизни более 60 человек. В 1929 году, в разгар боевых действий, несколько неустановленных мужчин, предположительное из банды Маранцано, схватили Лучано и вывезли на Статен-Айленд, где подвергли его пыткам. Закончив истязания они с помощью ножа нанесли на его правую щёку традиционный сфреджо, серьёзно повредив при этом мышцы щеки и перебив глазодвигательный нерв, поднимающий верхнее веко.
Не менее комфортно чувствовала себя испанская традиция шрамирования, очевидно, завезённая туда переселенцами из Андалузии, и в Аргентине, где её адаптировала дуэльная культура пастухов-гаучо. Чарльз Дарвин, путешествовавший по Аргентине в 1831–1836 годах, во время своей известной экспедиции на «Бигле», наблюдая в Рио-де-ла-Плата за поединками гаучо, заметил, что в драке каждый из противников старается попасть другому в лицо и поранить ему нос или глаза, о чём нередко свидетельствовали глубокие, ужасные на вид шрамы[1332].
 Рис. 6. Шрамы от ножа на лице гаучо.
Рис. 7. Чарли Лучано (1817–1962).
Рис. 8. Улпьфонс Габриэль Капоне (1899–1947).
Рис. 6. Шрамы от ножа на лице гаучо.
Рис. 7. Чарли Лучано (1817–1962).
Рис. 8. Улпьфонс Габриэль Капоне (1899–1947).
Президент Аргентины Сармиенто писал: «В других странах мужчина достаёт нож, чтобы убить, — и убивает. Но когда аргентинский гаучо достаёт свой нож в драке, то только чтобы ранить. Его единственная цель — порезать лицо, оставить отметину, его личное несмываемое клеймо. Именно поэтому часто можно увидеть гаучо, покрытых глубокими шрамами»[1333].
Но в отличие от культур ножа Средиземноморья, шрам на лице гаучо нес только одну смысловую нагрузку — он служил признаком неумелого бойца. Гаучо считали, что человек, искусно владеющий ножом, никогда не позволит оставить у себя на лице свидетельство своей неловкости и непрофессионализма. Получить такой порез в их среде считалось страшным оскорблением.
Прекрасной иллюстрацией к этому свидетельству служит описание дуэли из культовой эпической поэмы «Гаучо Мартин Фьерро» написанной в 1842 году аргентинским писателем Хосе Эрнандесом. Главный герой повествования, гаучо Мартин Фьерро, порядочно набравшись в пульперии, оскорбил негритянку. За девушку вступился её чернокожий приятель, и всё закончилось поединком на ножах. В пылу боя Мартин, еле державшийся на ногах после бурных возлияний, пропустил один из ударов противника, и нож чёрного гаучо оставил порез на его лице. Так как для гаучо это являлось унижением и тяжким оскорблением, Фьерро пришёл в ярость и убил своего незадачливого соперника ударом ножа[1334].
Традиция гаучо резать в поединках лица противников прекрасно описана знатоком культуры гаучо Марио Лопесом Осорнио в его уже хрестоматийной работе 1192 года «Esgrima Criolla» («Креольское фехтование»), посвящённой дуэлям на ножах. В одной из глав книги Осорнио описывал, как юных гаучо обучали искусству владеть ножом, а в качестве «выпускного экзамена» они были должны провести поединок на остром оружии со своим учителем. И лучшим доказательством достигнутого учеником мастерства считался символический удар, наносимый клинком плашмя по голове учителя[1335].
 Рис. 9. Мензурные ранения.
Рис. 10. Осмотр ранений после мензура. «Beim flicken». Кристиан Вильгельм Аллерс, 1902 г.
Рис. 9. Мензурные ранения.
Рис. 10. Осмотр ранений после мензура. «Beim flicken». Кристиан Вильгельм Аллерс, 1902 г.
Ритуалы шрамирования лица были зарегистрированы и в других культурах чести. Так, например, нельзя не вспомнить лица немецких студентов, изуродованные в легендарных университетских дуэлях — мензурах. В Мексике этот тип ранений был известен как «чарраскеар». Здесь, как и в других странах, унаследовавших испанские обычаи, голова являлась символом личной чести, и уличные поединки часто заканчивались ранами на лице. В мексиканской традиции подобные отметины на лице воспринимались как признак личности, склонной к насилию, и поэтому видимые шрамы всегда регистрировались в полицейских и тюремных документах. Априори предполагалось, что они могли быть причинены только ножами, и поэтому служили неоспоримым свидетельством агрессивного поведения индивидуума[1336].
 Рис. 11. Уильям (Билли) Чарльз Хилл (1911–1984). Фото 1952 г.
Рис. 11. Уильям (Билли) Чарльз Хилл (1911–1984). Фото 1952 г.
 Рис. 12. Мензурные ранения.
Рис. 12. Мензурные ранения.
 Рис. 13. Студенты после мензура.
Рис. 13. Студенты после мензура.
 Рис. 14. Немецкие студенты с мензурными ранениями на лице — большая часть ударов приходилась в левую сторону, 1903 г.
Рис. 15. Генерал Эрнст Кальтенбруннер на Нюрнбергском процессе. На лице хорошо видны мензурные шрамы, полученные на студенческих дуэлях.
Рис. 14. Немецкие студенты с мензурными ранениями на лице — большая часть ударов приходилась в левую сторону, 1903 г.
Рис. 15. Генерал Эрнст Кальтенбруннер на Нюрнбергском процессе. На лице хорошо видны мензурные шрамы, полученные на студенческих дуэлях.
![]() style='spacing 9px;' src="/i/25/434925/image452.jpg">
Рис. 16. Классическая метка сутенёра на лице проститутки из Бангладеша, 2000-е.
style='spacing 9px;' src="/i/25/434925/image452.jpg">
Рис. 16. Классическая метка сутенёра на лице проститутки из Бангладеша, 2000-е.
Томас Талант, изучавший народные дуэли чести в Греции, на Ионических островах, писал, что и греческие мужчины в поединках на ножах также старались не убить, а лишь изуродовать своего противника. Им достаточно было унизить соперника, оставив шрамы на его лице[1337]. Во Франции подобная традиция некоторое время существовала в начале XX столетия в среде парижских апашей. На иллюстрациях из французских газет и журналов тех лет можно увидеть, как апаши оставляют на лицах полицейских информаторов «piqua» — символической ранение, схожее по смысловой нагрузке с неаполитанским сфреджо[1338]. Хотя в целом, как уже говорилось, для Франции подобная практика была нетипична, как и сами поединки на ножах. Не менее экзотично этот ритуал выглядел и на туманном Альбионе, где в 20-х годах прошлого столетия он стал визитной карточкой короля преступного мира Лондона Билли Хилла[1339]. Хилл любил оставлять свою фирменную метку, вырезая крест, а чаще латинскую букву «V», на щеке жертвы. Вот что он сам говорил об этом: «Я всегда осторожно вёл ножом по лицу сверху вниз, никогда не резал поперёк лица или снизу вверх. Всегда сверху вниз. Таким образом, если нож соскользнёт, вы не порежете артерию. В конце концов, порез — это всего лишь порез, но перерезанная артерия — это уже убийство»[1340].
Но и сегодня этот жестокий ритуал существует не только в декоративной своей ипостаси, как дань моде или в качестве элемента молодёжной субкультуры. Совсем недавно, в 1994–1995 годах, банда грабителей в составе нескольких мужчин и одной женщины, известная как группа Ахмета Рахметова, совершила в Москве ряд дерзких нападений на женщин, которых не только избавляли от денег и ценностей, но и насиловали. При этом находившаяся в составе банды девушка ножом вырезала на лицах жертв древний как мир, архаичный символ унижения и мести — кресло. Вскоре, в 2003 году, «сучьи метки», как традиционно называли в российской преступной среде порезы лица, идущие от уголка рта, стали наносить провинившимся или строптивым проституткам и сутенёры Ташкента[1341].
Жива эта традиция и в Соединённых Штатах. И сегодня в среде чернокожих гангстеров бытует сленговое выражение «buck 50», или, «buck-fifty», обозначающее диагональный порез лица бритвой. Угроза нанести «buck 50» подразумевает настолько обширное ранение, что на зашивание подобной раны потребуется как минимум 150 стежков[1342].
Глава XII
НОЖ ЗА ПОДВЯЗКОЙ ЧУЛКА
Женские дуэли

 В 90-е годы минувшего столетия синтез трёх основных факторов — голливудской киноиндустрии, субкультуры комиксов и феминистического движения — породил новый экранный женский образ. Яркими представителями этого амплуа стали, например, девушка-киллер из культового фильма Люка Бессона «Никита» или школьница-убийца Того Юбари из другой знаковой ленты — «Убить Билла» — хрупкие, большеглазые, затянутые в школьную форму или в коктейльные платья. Но ни субтильное сложение, ни высокие каблуки, ни маникюр совершенно не мешали экранным феям одним ударом хладнокровно отправлять в нокаут сотни злодеев-мужчин с комплекцией борцов сумо. Другими представительницами нового тренда стали персонажи из популярного в своё время сериала «Ксена, принцесса-воин» о похождениях угрюмой мужеподобной воительницы с телом тренера по бодибилдингу Также можно вспомнить культовый в определённых кругах фильм «Солдат Джейн», где коротко стриженная тестостероновая героиня Деми Мур, обутая в армейские ботинки и затянутая в камуфляжную форму, поигрывая бицепсами, демонстрировала своё мужское начало восторженно застывшим у экранов поклонницам. Эмпирический опыт, элементарная логика и здравый смысл подсказывали большинству зрительниц, что все эти героические деяния являются не более чем вымыслом сценаристов и популярным клише. Но, тем не менее, не одна доверчивая домохозяйка из числа поклонниц жанра, принявших эпические подвиги экранных героинь за чистую монету, пала жертвой искренней веры в собственную неуязвимость и всесилие. Результатом рухнувших при столкновении с жестокой реальностью иллюзий кроме разочарования становились солнечные очки, прикрывавшие под глазом радужные следы неудачной борьбы с мировым злом, и больничные койки.
Увы, но тургеневская девушка с томиком Вольтера в одной руке и шпагой в другой, хладнокровно стряхивающая с клинка соперника-мужчину, — это не более чем миф. Любимый, тщательно оберегаемый и культивируемый, но всего лишь миф. Приходится признать, что большинство романтических историй о грозных дуэлянтках, наводивших ужас на мужчин, не имеют под собой реальной основы. В действительности прецеденты, в которых изящная дама в кружевах в открытом и честном бою нанизывала на шпагу оскорбителя-мужчину, легко пересчитать по пальцам.
Взглянем на нашумевшие дамские «point d'honneur» — дела чести. Например, можно вспомнить один из первых в истории Европы женских поединков, когда в 1650 году неподалёку от Бордо на дуэли сошлись две сестры из знатного гасконского рода[1343], или бой за сердце Ришелье между графиней де Полиньяк и маркизой де Несль в 1721 году[1344]. Можно упомянуть и не менее известный поединок между двумя мексиканскими сеньоритами, Мартой Дюран и Хуаной Луной, имевший место в апреле 1900 года[1345]. Но есть один важный нюанс — в этих прославленных поединках, как и во многих других, дамы сражались исключительно с дамами.
В 90-е годы минувшего столетия синтез трёх основных факторов — голливудской киноиндустрии, субкультуры комиксов и феминистического движения — породил новый экранный женский образ. Яркими представителями этого амплуа стали, например, девушка-киллер из культового фильма Люка Бессона «Никита» или школьница-убийца Того Юбари из другой знаковой ленты — «Убить Билла» — хрупкие, большеглазые, затянутые в школьную форму или в коктейльные платья. Но ни субтильное сложение, ни высокие каблуки, ни маникюр совершенно не мешали экранным феям одним ударом хладнокровно отправлять в нокаут сотни злодеев-мужчин с комплекцией борцов сумо. Другими представительницами нового тренда стали персонажи из популярного в своё время сериала «Ксена, принцесса-воин» о похождениях угрюмой мужеподобной воительницы с телом тренера по бодибилдингу Также можно вспомнить культовый в определённых кругах фильм «Солдат Джейн», где коротко стриженная тестостероновая героиня Деми Мур, обутая в армейские ботинки и затянутая в камуфляжную форму, поигрывая бицепсами, демонстрировала своё мужское начало восторженно застывшим у экранов поклонницам. Эмпирический опыт, элементарная логика и здравый смысл подсказывали большинству зрительниц, что все эти героические деяния являются не более чем вымыслом сценаристов и популярным клише. Но, тем не менее, не одна доверчивая домохозяйка из числа поклонниц жанра, принявших эпические подвиги экранных героинь за чистую монету, пала жертвой искренней веры в собственную неуязвимость и всесилие. Результатом рухнувших при столкновении с жестокой реальностью иллюзий кроме разочарования становились солнечные очки, прикрывавшие под глазом радужные следы неудачной борьбы с мировым злом, и больничные койки.
Увы, но тургеневская девушка с томиком Вольтера в одной руке и шпагой в другой, хладнокровно стряхивающая с клинка соперника-мужчину, — это не более чем миф. Любимый, тщательно оберегаемый и культивируемый, но всего лишь миф. Приходится признать, что большинство романтических историй о грозных дуэлянтках, наводивших ужас на мужчин, не имеют под собой реальной основы. В действительности прецеденты, в которых изящная дама в кружевах в открытом и честном бою нанизывала на шпагу оскорбителя-мужчину, легко пересчитать по пальцам.
Взглянем на нашумевшие дамские «point d'honneur» — дела чести. Например, можно вспомнить один из первых в истории Европы женских поединков, когда в 1650 году неподалёку от Бордо на дуэли сошлись две сестры из знатного гасконского рода[1343], или бой за сердце Ришелье между графиней де Полиньяк и маркизой де Несль в 1721 году[1344]. Можно упомянуть и не менее известный поединок между двумя мексиканскими сеньоритами, Мартой Дюран и Хуаной Луной, имевший место в апреле 1900 года[1345]. Но есть один важный нюанс — в этих прославленных поединках, как и во многих других, дамы сражались исключительно с дамами.
 Рис. 1. Каталина де Эраусо (1592–1650).
Рис. 2. Кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова, она же, Александр Александров (1783–1866).
Рис. 1. Каталина де Эраусо (1592–1650).
Рис. 2. Кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова, она же, Александр Александров (1783–1866).
Если же в кои-то веки барышни и скрещивали клинки с мужчинами, то, как правило, этими воительницами были вовсе не хрупкие и изящные блоковские незнакомки, не Ундины Жуковского и не Лорелеи Гёте, а скорее вагнеровские валькирии из германской мифологии. На дуэльные площадки выходили плотные, крепко сбитые мужеподобные особы с мужскими манерами, мужской мускулатурой и одетые в мужскую одежду. Уместно будет вспомнить таких неоднозначных и противоречивых исторических персонажей, как легендарная женщина-воин Каталина де Эраусо, которой в 1625 году была посвящена пьеса Хуана Переса де Монтальвана «Монахиня Алферес», или кавалерист-девица Дурова. Обе эти дамы покрыли себя славой и на полях сражений, и в поединках. Однако они бесконечно далеки от навязываемых массовой культурой романтических образов — с потемневших портретов на нас смотрят угрюмые лица андрогенов.
Уроженку Сан-Себастьяна Каталину де Эраусо, также известную под именем «де Алферес», прославленную женщину-солдата первой половины XVII столетия, современники описывали как крайне мужеподобную особу[1346]. Педро де ла Вайе, встречавшийся с Эраусо в 1626 году, в письме из Рима к Марио Скипано вспоминал, что Каталина была «высокой и сильной, с мужской внешностью и, неразвитой грудью». Эраусо призналась де ла Вайе, что избавиться от груди ей помогли специальные лекарства. Лицом она напоминала евнуха и одевалась в форму испанского солдата[1347].
Недалеко от неё ушла и другая воинственная девица, участница Отечественной войны 1812 года, георгиевский кавалер Надежда Андреевна Дурова. Она всегда ходила в мужском костюме, носила мужскую причёску и требовала, чтобы к ней обращались исключительно Александр Андреевич Александров[1348]. Нельзя не упомянуть и легендарную «мадемуазель д'Эон», считавшуюся одним из лучших фехтовальщиков своего времени. Она же Шарль де Бомон, в честь которого было названо одно из первых обществ трансвеститов. Имя д'Эона стало нарицательным, и термин «эонизм» долгое время использовался для обозначения трансгендерного поведения[1349].
Личность и гендерная принадлежность ещё одной неоднозначной дамы, мадемуазель де Мопен, она же Жюли д'Обиньи, она же шевалье Мопен — прославленной оперной певицы, фехтовальщицы и дуэлянтки конца XVII столетия, также покрыта мраком. Мадемуазель щеголяла в мужской одежде, соблазняла дам и имела крайне спорную репутацию. Де Мопен посвящена целая глава в работе о трансгендеризме французского автора Фернан Гонтье «Homme ou femme? La confusion des sexes» — «Мужчина или женщина? Гендерная путаница»[1350].
Но дело тут не в большей мышечной массе, скорости рефлексов или воинственности мужчин — дуэльные шпаги XVIII–XIX столетий были лёгкими, маневренными и не требовали особой физической силы. Кроме этого, дамское фехтование было в моде, и немало девушек из высшего общества прекрасно владели этим оружием. Но кроме факторов объективных, таких как антропометрические и психофизические данные, существовали и более весомые причины. Одной из основных, если не главной, был тот факт, что во всех дуэльных культурах женщины были исключены из дискурса мужской чести. А это значит, что у прекрасных дам просто не было шансов доказать своё фехтовальное мастерство, так как их не допускали на дуэльные площадки и не вызывали на поединки, равно как и не принимали от них вызовы на дуэль[1351]. Возможно, многие из читателей-мужчин ещё в детстве сталкивались с рудиментарной формой этой табуированной традиции, выслушивая нотации от родителей, что «с девочками драться нельзя».
 Рис. 3. Мадемуазель де Бомон, она же, шевалье д'Эон. Лондон, 1777 г.
Рис. 3. Мадемуазель де Бомон, она же, шевалье д'Эон. Лондон, 1777 г.
Учёные, антропологи и этнологи, изучавшие феномен чести в странах Европы Нового времени, отмечали, что трактовка женской чести повсюду кардинально отличалась от интерпретации мужской. Женская честь рассматривалась исключительно как честь семьи, целомудрие, соблюдение сексуальных приличий, а кроме этого, и подчинение родственникам-мужчинам, оберегавшим эту честь от посягательств. В культурах, где честь играет важную роль, основную ценность она представляет для мужчин. В некоторых сообществах, как, например, у многих бедуинских племён, считается, что женщины вообще не обладают честью, а в других культурах женская честь вторична или же имеет ограниченную природу. Частично это обусловлено тем, что женщины часто, в большей или меньшей степени, исключены из общественной жизни. Нередко в подобных сообществах честь женщины — это зеркальное отражение чести её мужа. А там, где женщины всё-таки обладают личной честью, главным составляющим их чести является именно целомудрие[1352].
Женщинам нечасто выпадал шанс продемонстрировать такие качества, как мужество в бою, и их возможности всегда были ограничены домашней сферой, поэтому если честь женщины ставилась под сомнение и ее следовало защитить, то этим обычно занимался мужчина.
В исландских сагах героини часто обладают развитым чувством чести, и когда у них не оставалось иного выхода, они сами могли взяться за оружие для её защиты. Но даже в этом случае женщину с развитым чувством собственного достоинства саги наделяют мужскими качествами и для её обозначения используют исландское выражение «годр дренгр», что можно перевести как «славный парень»[1353].
Общеизвестно, что честь — тема парадоксальная, и одна из её самых известных загадок — это влияние поведения женщины на мужскую честь. В силу своей сексуальной власти над мужчинами женщина обладала ключом к чести семьи. Её распутное поведение могло обесчестить семью, в то время как скромность хорошо отражалась на семейном союзе. От женщин, таким образом, ожидали культивации «стыда», в то время как честь мужчины определялась в зависимости от успеха в защите женщин его семьи от оскорблений. Следовательно, честь была реальным сегментом ресурсов семьи, её, по выражению французского социолога и антрополога Пьера Бордю, «символическим капиталом», а также оружием, с помощью которого удовлетворялись вражда, амбиции и решались разного рода конфликты[1354].
Смешение слов «Бонга» (честь) и «fama» (репутация), то есть индивидуального и социального аспектов понятия чести, отчетливо проявляется в литературных произведениях периода золотого века Испании, где в качестве причины бесчестья фигурирует либо неверность женщины, либо посягательство на ее добродетель. В этом случае обесчещенной являлась вся семья, все ее члены — не только муж, но и отец, брат, дядя. И все они имели равное право мстить. Случаи, когда женщины не желали, чтобы их личные обиды улаживали мужчины, встречались крайне редко[1355].
Собственно говоря, подобная дифференциация была характерна для большинства культур и за пределами Средиземноморья. Скажем, нельзя утверждать, что трактовка мужской и женской чести в крестьянских сообществах России XIX столетия как-то кардинально отличалась от её интерпретации в сельских общинах Средиземноморья. Марина Громыко в работе «Мир русской деревни» писала, что крестьянское понятие чести включало в себя отсутствие оснований для оскорблений и умение ответить на незаслуженные поношения для мужчин, чистоту — для девушек и верность — для женщин[1356]. Во всех культурах и формальные, и народные дуэли всегда были исключительно мужским занятием. Как уже говорилось, поскольку женщины не принимали участия в дуэлях, они не могли быть и формально вызваны на поединок. В отличие от жёстко кодифицированных и ритуализованных мужских поединков, не существовало правил, регулирующих женские дуэли, и поэтому женщины значительно чаще подвергались риску неожиданного нападения[1357].
 Рис. 4. Женщины дерутся за панталоны. Джон Смит, первая половина XVIII века.
Рис. 4. Женщины дерутся за панталоны. Джон Смит, первая половина XVIII века.
Не исключено, что именно необходимость защитить себя от возможных нападений и стала одним из факторов, объясняющим появление к XIII веку в некоторых европейских странах традиции дарить девушкам в качестве свадебного подарка ножи. Эти свадебные ножи, как правило, были богато украшены, оправлены в золото и усыпаны драгоценными камнями. К XVI столетию мода дарить на свадьбу невесте нож прочно укоренилась в Европе[1358]. Женщины, получившие в подарок нож, превратившийся к тому времени в дорогой аксессуар, чувствовали себя поднявшимися по социальной лестнице, так как в купеческой и мещанской среде ношение подобных ножей несло сильную снобистскую окраску[1359]. На многих портретах той эпохи можно увидеть женщин с ножами, подвешенными у пояса рядом с сумочкой[1360]. Ещё в 1597 году в «Ромео и Джульетте» Шекспир устами одного из персонажей настаивал, что Джульетта должна «носить свои свадебные ножи». И на «Атласе Европы» Джона Спида 1626 года можно увидеть англичанку, держащую в руках сумочку и ножи[1361]. Светских дам со свадебными ножами любил изображать на своих гравюрах и известный немецкий художник XVI века Генрих Альдегревер.



 Рис. 5. Свадебные ножи, XVII в. (British Museum, Лондон).
Рис. 5. Свадебные ножи, XVII в. (British Museum, Лондон).
 Рис. 6. Свадебные ножи. Нюрнберг, 1581 г.
Рис. 6. Свадебные ножи. Нюрнберг, 1581 г.
 Рис. 8. Свадебные танцоры. Генрих Альдегревер, 1538 г.
Рис. 8. Свадебные танцоры. Генрих Альдегревер, 1538 г.
К XVIII веку в большей части просвещённой Европы мода на свадебные ножи постепенно исчезла, однако в наиболее консервативных её уголках мы находим отголоски этой архаичной традиции и в XIX столетии. Так, бытовавшую в XIX веке на Сицилии традицию дарить девушке на помолвку нож описал известный итальянский антрополог, фольклорист и этнолог Джузеппе Питре[1362]. Этот обряд отметили в своих воспоминаниях и многие путешественники, посетившие Южную Италию в конце XIX — начале XX века. Вот как этот обычай описывал Луис Кайко: «Молодой человек приходит вместе с семьёй и преподносит своей невесте, которая в первый раз видит его так близко, искусно раскрашенный шёлковый платок, фартук, иногда чудесный шарф, также из шёлка, дешёвое колечко и складной нож с одним лезвием и смертоносным остриём. Иногда также и девушка дарит ему нож»[1363]. Этим «coltelli d'amore» — «ножам любви» посвящена целая глава в замечательной монографии Джанкарло Баронти «Ножи Италии». В итальянской ножевой культуре, как и во многих других странах, дарить колющие предметы считалось дурным предзнаменованием. Однако профессор Баронти считает, что подобный подарок нёс мощную сакральную нагрузку и выполнял символическую функцию оберега, что, очевидно, и должно было нейтрализовать его негативный потенциал. Кроме этого, подарок имел фаллический смысл и нёс явный сексуальный подтекст. Юноша, подаривший нож говорил этим: «Я постоянен и твёрд в своих намерениях, как лезвие этого ножа, любовь моя сильна, как сталь, из которой он сделан, а молодость моя преходяща, как переменчив свет на поверхности клинка»[1364].
 Рис. 9. Молодая критянка со свадебным ножом.
Рис. 9. Молодая критянка со свадебным ножом.
Таким образом, девушка, выполнявшая этим ножом какие-либо домашние работы, постоянно имела при себе символический образ суженого. А нож, преподнесённый девушкой возлюбленному, имел несколько другой культурный контекст. Подобный символический подарок подразумевал, что от юноши ожидают мужественности, агрессивности и конкурентоспособности[1365].
Как правило, в качестве «ножа любви», невесте подносили итальянскую версию небольшой каталонской навахи. Иногда на лезвии гравировали изображения жениха с невестой, цветы, крылатые сердца, фразы с любовными признаниями и выражениями чувств и различные патетические слоганы в стиле «Только смерть разлучит нас». Рукоятки этих ножей украшали резьбой и инкрустировали, а иногда на них можно встретить характерный декоративный элемент в виде стилизованного изображения глаз — так называемый «оки ди дадо», также выполнявший роль оберега. «Ножи любви» не отличались большими размерами. Так, экземпляры «coltelli d'amore», хранящиеся в музеях Рима и Турина, достигают в длину от 17 и максимально до 32,8 см. Баронти отмечает, что подобная практика свадебных подарков также была распространена и за пределами Сицилии — в Умбрии, Абруццо, Лацио, Апулии и некоторых других областях страны[1366].
 Рис. 10. Критянка в мужском костюме,
Рис. 10. Критянка в мужском костюме,
Аналогичный обычай сохранился и у другого средиземноморского соседа Италии — Греции. Там неотъемлемой частью костюма каждой обручённой или замужней жительницы Западного или Центрального Крита являлся «bassalaki», он же «passalaki», или, как его ещё называли, «argyrobounialaki». Это был маленький нож в серебряных ножнах, называемых «foukari», — миниатюрная копия мужского ножа. «Passalaki» являлся традиционным символическим подарком жениха невесте, носившей полученный нож за поясом. Критские девушки, как и мужчины, носили ножи на талии, за своими красно-голубыми шёлковыми поясами, и ходили с ними на танцы и другие торжества. С символической точки зрения, кинжал демонстрировал другим мужчинам, что девушка замужем или обручена и принадлежит только одному. Как символ, кинжал напоминал и самой девушке о том, что она должна быть предана своему мужу и что ценой, которую она заплатит за неверность, будет её жизнь. В дополнение к своему символическому значению кинжал имел и сугубо практическое, так как молодая критянка, находясь в опасности, с помощью этого оружия всегда могла защитить себя и свою честь[1367].
Для успешного ритуала венчания и крепкого брака критские обычаи предписывали перед свадебной церемонией спрятать небольшой «passalaki» с чёрной рукояткой, называемый «мавроманика», в обувь невесты, где он должен был находиться в течение всего обряда, чтобы проклятия завистников были бессильны. Когда-то на Крите верили, что если жених и невеста используют подобный чёрный кинжал во время свадьбы, то они смогут противостоять любым злым чарам, направленным на разрушение их брака. Ну и, наконец, после свадьбы пара должна была вырезать этим кинжалом крест на пороге своего дома, что также служило оберегом и защитой от злых духов. Символизм этого кинжала и вера в его огромную метафизическую ценность в качестве средства защиты человека от дьявольской мощи мира духов глубоко укоренились на Крите. Подобные «мавроманике» небольшие кинжалы с чёрными рукоятками также использовались в качестве талисманов для маленьких детей, для защиты эпилептиков от дурного влияния Луны, а одержимых бесами — от демонов. Кроме того, когда женщина теряла одного из детей, она вешала остальным на шею в качестве талисманов и оберегов маленькие кинжалы с вырезанными на чёрной рукоятке крестами, чтобы «мрачный жнец» — смерть не забрал и их. Важность символической интерпретации этого кинжала в социальной жизни Крита сохранилась до наших дней[1368].
Позаботились о защите своей чести и достоинства и черноглазые дочери Севильи, Малаги и Мадрида. Наполеоновские солдаты во время оккупации Испании, а затем и многочисленные путешественники, посетившие Пиренейский полуостров в XIX веке, отмечали привычку испанских девиц носить с собой ножи за подвязкой чулка и пускать их в ход при малейшей угрозе своей чести. Как пелось в испанской уличной песенке тех лет:
«No te metas con la Lola; La Lola tiene un cuchiyo Pa defendé su persona» («He связывайся с Лолой, у Лолы есть нож, и она не даст себя в обиду»[1369].
Известный коллекционер навах, специалист по истории испанского холодного оружия и автор нескольких академических работ Пераль Фортон писал об этой традиции: «Я не сомневаюсь, что некоторые женщины — махи в определённый период действительно носили ножи за подвязкой. Но не стоит это экстраполировать на всех испанских женщин, как это произошло благодаря солдатам наполеоновской армии, столкнувшимся с этой традицией в Испании»[1370]. Мнение Фортона подкреплено десятками свидетельств очевидцев. Так, барон Чарльз Дембовски, путешествовавший по Испании в 1838–1840 годах, писал, что большинство манол — женщин из среднего класса Мадрида — всё ещё носят ножи на правой ноге за подвязкой чулка или же в специальном кармане в недрах платья, где они также хранят свои сбережения[1371]. Также Ричард Форд в своих знаменитых путевых заметках «Путешествие по Испании» отмечал, что манолиты, или, как он их называл, «мадридские амазонки», были известны тем, что скрытно носили небольшие ножи за подвязками на правой ноге, в связи с чем у них даже бытовало суеверие, что начинать движение с левой ноги — это к невезению[1372]. Писатель, путешественник и полиглот Терренс Хьюз, проживший в Испании семь лет, был менее лаконичен: «Везде мы встретим мадридских манол, воинственных скандалисток столичного дна, спорящих пылко и быстро, с горящими глазами и раздувающимися ноздрями, и у каждой на правой ноге за подвязкой чулка спрятан грозный нож. Андалусия привлекательна и беспощадна. Для многих женщин, за исключением дам высшего света, нож является таким же обыденным аксессуаром, как чётки, и они всегда готовы не только к молитве, но при необходимости воспользоваться и ножом»[1373].
Далее Хьюз описывает оружие своей знакомой танцовщицы, некой Хасин-ты: «Это был прекрасный образчик смертоносного «кучийо» с шестидюймовым клинком, который носился под платьем закреплённый вертикально, как стальной собрат китового уса. В местном знойном климате корсеты носят очень редко, а простолюдинки их не используют совсем. Хасинта никогда не надевала корсеты и относилась к ним с презрением. Своего стального охранника она носила совсем не для кокетства, а исключительно для защиты, а иногда и для мести. Толстый шагреневый чехол был вшит с внутренней стороны платья и служил ножнами для кинжала, а чтобы острие случайно не прокололо чехол, к нему была крепко пришита пластинка, похоже, стальная. Рукоятка, изготовленная из чёрного дерева, была обмотана медной проволокой, чтобы не скользила рука. Навершие рукоятки было изготовлено из латуни, имело изогнутую форму и служило опорой для основания большого пальца, направляющего мускульную энергию в движение, знакомое каждому испанцу, — удар, при котором мизинец смотрит на противника, или в удар обратным хватом. Клинок был работы толедских мастеров, до сих пор пользующихся заслуживающей доверия репутацией: без дамасских узоров, без гравировок, но изготовленный из великолепной стали и прекрасно закалённый. Лезвие, как и остриё, было заточено с обеих сторон, и клинок пробивал насквозь долларовую монету без малейшего ущерба для стали.
Вот так выглядела любимая игрушка Хасинты из Сан-Сальвадора — опасная игрушка, прижившаяся у неё за пазухой, о присутствии которой никто даже не подозревал: так прямо она держалась, настолько непоколебима была её уверенность в себе, так изящно она была сложена, и так отточены её движения. Гибкость клинка из чудесной стали не мешала ей наклоняться, и таким образом, кроме защиты, в случае необходимости нож мог использоваться и в качестве изящного корсета. Женщины из низших классов, живущие в Севильском квартале Триана, так же как девицы из района Лавапьес, носили свои ножи за подвязкой»[1374].
 Рис. 11. Креолка из Перу.
Хуан де ла Круз Кано и Ольмедийя, 1778 г.
Рис. 11. Креолка из Перу.
Хуан де ла Круз Кано и Ольмедийя, 1778 г.
К середине XIX века манера носить ножи за подвязкой чулка в большинстве европейских стран уже устойчиво ассоциировалась исключительно с Испанией. Даже известная ирландская аферистка, актриса и танцовщица Элизабет Гилберт, выдававшая себя за уроженку Андалусии по имени Лола Монтес, во время гастролей в Варшаве для достоверности образа дополнила свой гардероб небольшим ножом за подвязкой чулка[1375]. А вскоре наваха за подвязкой стала настолько органичной частью традиционного образа испанской женщины, что даже королева Испании Изабелла Вторая, любившая подчеркнуть свою близость к народу и далеко не всегда изъяснявшаяся высоким стилем, как-то заметила: «Yo soy muy Espanola у de las de la Virgen de la Paloma, que llevan la navaja en la liga» («Я типичная испанка — одна из тех, что молятся Деве Марии Паломской и носят нож за подвязкой»[1376].
 Рис. 12. Лола Монтес (Элизабет Джилберт), 1851 г.
Рис. 12. Лола Монтес (Элизабет Джилберт), 1851 г.
Джеймс Лорьега в своей работе «Севильская сталь», посвящённой культуре ножевых дуэлей Испании, также упомянул небольшие женские навахи, носимые за подвязкой и известные как «салвавирго», что можно перевести как «охранник чести»[1377]. Андалузских женщин с навахами любил изображать на своих полотнах известный испанский художник, профессор Мадридской школы изящных искусств Хулио Ромеро Торрес. На одной из его картин — «La copla» изображена андалузская красавица с гитарой в руке и с навахой за подвязкой чулка. Также косвенным свидетельством может служить тот факт, что в испанских музеях и частных коллекциях встречаются навахи с гравировками «Prendida en la liga defiendo a mi señora» («Прикреплена за подвязкой и защищаю свою госпожу») и «Sirbo a una dama» («Я служу даме»[1378].
Очевидно, на волне эмиграции из Андалусии эта традиция попала и в Аргентину, так как знаток истории и культуры аргентинских гаучо Марио Лопес Осорнио упоминал о манере женщин гаучо и жительниц городских предместий носить для самообороны небольшие ножи за подвязкой чулка[1379]. Не обошла эта испанская традиция вниманием и другие страны Латинской Америки. Так, известный перуанский политик первой половины XIX века Хусто Фигерола писал: «Женщины носят ножи за подвязкой, мужчины за — поясом, не проходит и дня без убийства. В течение 1827 года в больницу Сан-Хуан де Диос в Лиме поступили 1500 человек с ножевыми ранениями[1380].
Как правило, основным поводом для женских поединков становились бытовые склоки и имущественные дрязги. Так, дуэль в Мехико в 1906 году произошла из-за затянувшегося спора в отношении пары цыплят. Согласно газете «Эль Импариал», две соперницы — сорока и шестидесяти лет — встретились на дороге Ла Пьедад в сопровождении свидетелей, чтобы сражаться на ножах согласно кодексу чести. Одна из дуэлянток, Сатурнина Элизальде, привела с собой на место дуэли маленького сына. Прежде чем начался поединок, она усадила малыша под деревом, благословила его и поцеловала, сказав, что, возможно, они видятся в последний раз. Её слова стали пророческими, и мгновения спустя она лежала мёртвой. Её товарка хотя и призналась в совершении убийства, но отрицала свою вину, мотивируя это тем, что соперница также намеревалась её убить[1381].
Кстати, в Мексике женщины считались хоть и слабыми, но «взрывными» бойцами, подверженными неконтролируемым страстям, — скорее «свирепыми зверьми», чем хладнокровными дуэлянтами. Мексиканские сторонники дуэлей были непреклонными противниками участия женщин в поединках. Эпитеты для описания женских дуэлей в работах мексиканских авторов варьировались от «смехотворная» до «возвышенная»: женщины могли драться зонтиками в Аламеде или же обнажать свою «пышную грудь» во время поединка в Вене. Поэтому насилие между женщинами всегда рассматривалось не как защита чести, а лишь как результат женской порочности и приверженности к проявлению страстей. В Мексике, как и в других культурах чести, насильственные действия совершались женщинами только против лиц своего же пола. Мексиканки из низших слоёв общества пользовались репутацией людей, способных защитить себя, и их не меньше, чем мужчин, беспокоило, как их храбрость и стойкость воспринимаются судом общественного мнения. Честь мексиканских женщин была достаточно «автономной» и не всегда связывалась с честью их мужей. Хотя мексиканки в поединках также использовали ножи и, как и мужчины, метили в лицо соперниц, судебные документы демонстрируют их меньшую привередливость в выборе оружия[1382].
Ещё одна дуэль имела место в Луисвилле в октябре 1876 года, когда две негритянки — Анни Симмонс и Мэри Боулз поругались из-за какого-то пустяка и решили выяснить отношения в поединке на ножах. Они договорились встретиться перед баптистской церковью ночью и фез свидетелей. Жестокая схватка длилась около получаса. Боулз была жутко изрезана, а также потеряла правый глаз. Симмонс получила лёгкое ранение и была арестована[1383]. А в 1888 году смертельная вражда заставила взяться за ножи двух дочерей земли вендетты — Корсики. Франческа Фортунати и Бенита Паскуалини жестоко ненавидели друг друга, и наконец их вражда дошла до такой степени, что всякая встреча соперниц сопровождалась взаимными оскорблениями. В один прекрасный день их перепалка достигла такого накала, что, не выдержав, Франческа Фортунати воскликнула, что одна из них должна исчезнуть с лица земли. Бенита Паскуалини полностью разделяла её чувства, и в качестве радикального средства решения конфликта был избран поединок до смерти. Приготовления к дуэли длились недолго — в условленный день они встретились, и началась короткая, но жестокая схватка. Уже через несколько мгновений Бенита Паскуалини замертво рухнула на землю с сердцем, пробитым стилетом соперницы[1384].
 Рис. 13. Интерьер Севильской табачной фабрики, Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 13. Интерьер Севильской табачной фабрики, Гюстав Доре, 1865 г.
Не менее распространённой причиной, заставлявшей прекрасных дам взяться за нож, было соперничество за сердце мужчины. В 1643 году до Кито, сегодняшней столицы Эквадора, донеслись вести о поединке на ножах между двумя женщинами, состоявшемся в главной церкви Санта Мария де Пуэрто — небольшого поселения золотодобытчиков, ныне известного как колумбийский Барбакоас. Согласно свидетельствам очевидцев, Хуана де ла Круз, жена владельца золотого рудника, напала на метиску из местных по имени Барбара Перес, полосуя ей лицо ножом и называя её всевозможными эпитетами, в основном начинающимися со слова «puta» — «шлюха». Причиной драки, которая произошла на глазах у множества свидетелей, среди которых были перепуганный священник и несколько рабов, вероятно, стало обвинение Перес в проституции. Донна Хуана крикнула алькальду — местному должностному лицу, который пытался растащить дуэлянток: «Ваша милость, сеньор, позвольте мне рассчитаться с этой индейской сучкой, этой маленькой «негрерой», которая позволила моему мужу задрать ей юбку!». Многие свидетели утверждали, что нередко слышали, как и до этого донна Хуана неоднократно обвиняла Барбару Перес. Так, она говорила: «Эта шлюха трактирщика навещает в руднике своих шестерых или семерых любовников» или «Её надо было порезать, когда ещё Франциско Серрано обнаружил её вместе с забравшимся на неё мулатом Педро Санчесом»[1385]. В 1862 году в Неаполе две сестры, движимые ревностью, устроили дуэль на ножах. Одна из них была убита, вторая получила восемнадцать ранений[1386]. А в 1906 году две девочки, соперницы в любви, — Николаса Элизальде и Франциска Фуэнте решили раз и навсегда выяснить отношения в поединке на ножах в поле, на окраине Мехико-сити. Элизальде было смертельно ранена пятью ударами ножа, а её противница Фуэнте арестована[1387].
Нешуточные страсти кипели и в далёкой заснеженной России. Вот что в том же 1906 году писала российская газета «Русское слово»: «Вчера в 12-м часу ночи на Тверской, около д. Елисеева, между встретившимися здесь двумя молодыми девушками, одна из которых была в сопровождении кавалера, произошла ссора. Бывшая с кавалером выхватив финский нож, нанесла им своей противнице несколько тяжелых ран. Раненая оказалась М. И. Хрусталевой, 19-ти л. Ее подняли в безсознательном состоянии и отправили в больницу. Герои дикой расправы скрылись в толпе»[1388].
 Рис. 14. Сперада.
Рис. 14. Сперада.
Также мы встречаем несколько упоминаний о дуэлях, в которых участвовали темпераментные дочери Иберийского полуострова. В одной из них две манолы боролись за сердце богатого андалусца. Чтобы поставить точку в этом соперничестве, они решили драться на дуэли. Одним прекрасным майским утром они вооружились кинжалами и навахами и в сопровождении секундантов покинули город через ворота Алкала. Согласно достигнутой договорённости, живой с этой дуэли могла вернуться лишь одна. Но как только они добрались до места, выбранного для кровавого поединка, к ним приблизились трое жандармов, арестовавших обеих соперниц вместе с секундантами. Манолы при этом презрительно рассмеялись и охотно проследовали в ближайший полицейский участок. «Сеньор, — обратилась одна из несостоявшихся дуэлянток к дежурному офицеру. — Эти господа, нарушив все возможные законы, ограничили нашу личную свободу». «Разберёмся, — ответил тот с важностью представителя власти. — Жандарм, в каком проступке вы обвиняете этих дам?» «Сеньор, — промолвил полицейский, — у меня были все основания предполагать, что арестованные имели умысел драться до смерти на дуэли. По этой причине мы и привели их к вашей чести, чтобы их наказали по всей строгости закона». «Если вы позволите, сеньор, — сказала одна из задержанных, — мы не сделали и не собирались делать ничего, за что могли бы понести предусмотренное законом наказание» Вслед за тем девушка указала изумлённому представителю власти на тот факт, что закон о запрете дуэлей касается только мужчин и никого более. Правовая информированность девушки застала полицейского врасплох и невероятно удивила. После тщательного изучения уголовного кодекса чиновник пришёл к выводу, что в законе не упоминается рассматриваемый случай, и он, хоть и с неохотой, был вынужден освободить задержанных, предварительно взяв с них обещание отказаться от своих смертоносных замыслов[1389].
 Рис. 15. Лучия, героиня романа Алессандро Мандзони, «Обручённые». Худ. Франческо Гонин, 1840 г.
Рис. 16. Императрица Мексики Шарлотта Бельгийская (1840–1927), в своей спераде.
Рис. 15. Лучия, героиня романа Алессандро Мандзони, «Обручённые». Худ. Франческо Гонин, 1840 г.
Рис. 16. Императрица Мексики Шарлотта Бельгийская (1840–1927), в своей спераде.
Незадолго до этого инцидента две другие манолы, девушки с королевской табачной фабрики, довели свои намерения до конца и убили друг друга на дуэли. Форма поединка, выбранного дуэлянтками, была настолько варварской, насколько и романтичной. Соперницам было около двадцати лет, и, по свидетельствам очевидцев, обе были необычайно красивы. В одно воскресное утро в сопровождении нескольких подруг девушки отправились в деревню, находившуюся в четырёх или пяти милях от города, где превосходно позавтракали в таверне за разными столами. Окончив трапезу, они закрыли занавески на окнах, разделись до пояса и попросили подруг покинуть комнату. Затем по условленному сигналу девушки набросились друг на друга с навахами в руке и резали, полосовали и кололи друг друга до тех пор, пока обе, смертельно раненные, не рухнули на пол. По прошествии нескольких минут в комнату вернулись их подруги. Эстефания, одна из дуэлянток, получила десять ранений и в течение получаса умерла от потери крови. Касильда, её соперница, скончалась ещё раньше от ужасного ранения в шею[1390].
 Рис. 17. Спадини-шпильки для сперады.
Рис. 17. Спадини-шпильки для сперады.
 Рис. 18. Шпильки для сперады.
Рис. 18. Шпильки для сперады.
В итальянских источниках XIX века нередко встречаются описания дуэльной традиции жён каморристов Неаполя. Согласно правилам каморры, жена смещённого с поста или же погибшего каморриста могла претендовать на получение доли мужа. В случае возникновения каких-либо разногласий при решении этого вопроса она имела право вызвать на поединок жену каморриста, занявшего пост её супруга. Оружием в этих боях служили ножи или же так называемые «спадин ди дженова» — «генуэзские шпажки»: длинные и острые заколки для волос, используемые в причёсках итальянскими женщинами всех классов. На множестве жанровых сценок и портретов XIX века мы часто видим на головах итальянских женщин необычные украшения, напоминающие тиары. Эти тиары, известные под ломбардскими названиями «коацца», «раджера» или «сперада», носили все итальянские женщины независимо от происхождения и социальной принадлежности. В зависимости от состоятельности их владелицы сперады могли быть изготовлены из серебра, бронзы и даже из дерева. Эти тиары были не просто украшением — они играли важную роль в жизни итальянок XIX столетия. В первую очередь они служили символом, демонстрирующим все изменения их социальной роли и статуса: свободна женщина или замужем, есть ли у неё дети и т. д. Сперада была главной ценностью итальянки — девушки из беднейших слоёв общества могли отказаться от последнего, но никогда не продали бы свою спераду[1391]. Состояла сперада из нескольких частей. Основным элементом конструкции являлась длинная булавка с двумя овальными декоративными элементами на краях, называемая «sponton», или «шип». Эта булавка скрепляла косы, собранные у замужних синьор на затылке. По всей длине этой основы располагалось несколько десятков длинных шпилек, удерживающих причёску. Шпильки сперады были двух видов. Первые, называемые «spadine» («шпажка»), остроконечные, тонкой работы и богато украшенные, жених дарил девушке на церемонии объявления о помолвке, после чего она официально могла считаться невестой. Вторые же, так называемые «ложечки», имели закруглённые кончики, и жених дарил их уже в качестве свадебного подарка или их преподносили по случаю памятного события — например, рождения первого ребёнка[1392].
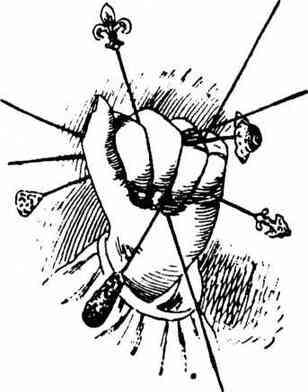 Рис. 19. Шляпные булавки — оружие женщин. The Caledonia advertiser, май-июнь 1904 г.
Рис. 19. Шляпные булавки — оружие женщин. The Caledonia advertiser, май-июнь 1904 г.
 Рис. 20. Проститутки сражаются на ножах. Пауль Баллуриан, 1900-е.
Рис. 20. Проститутки сражаются на ножах. Пауль Баллуриан, 1900-е.
Но кроме чисто декоративной функции у этих длинных и острых шпилек было и менее безобидное предназначение. Словарь миланского диалекта Франческо Черубини 1843 года называл эти шпильки «spadinn», «spadine» или «spodini», то есть шпажками[1393]. На протяжении нескольких столетий «шпажки» сопровождала мрачная слава коварного и смертоносного женского оружия. О том, что итальянки частенько использовали эти живописные аксессуары в целях, далёких от их прямого предназначения, упоминали многие авторы тех лет. Так, Карло Д'Аддосио в своём исследовании дуэлей каморры писал, что в некоторых случаях, особенно если речь идёт о поединке между мужчиной и женщиной или между двумя женщинами, в качестве оружия используется «спаделла ди Дженова»[1394]. К сожалению, он никак не комментирует эту любопытную информацию, поэтому я не могу с уверенностью утверждать, что речь идёт именно о «spadella» в интерпретации шпильки. Однако, поскольку автор сделал акцент на том, что это было не типичное для поединка оружие, а также заметил, что эта «шпажка» использовалась в дуэлях женщин или же с участием женщин, можно предположить, что упомянутыми «спаделлами» были именно шпильки.
Дуэль-зумпату на «генуэзских шпажках» в борьбе за долю мужа предлагала жене нового капинтеста супруга исчезнувшего босса каморры Аньело Аусьелло[1395]. И героиня вышедшей в 1912 году оперы «I gioielli della Madonna», повествующей о любви девушки Малиэллы и каморриста Дженнаро, также выхватывает из причёски «генуэзскую шпажку» — spadella di Genova[1396]. В работе 1896 года о женской преступности инцидент с использованием «спаделла ди Дженова» описывает и Джованни Чираоло. В этом случае на почве застарелой вражды впоединке на шпильках сошлись две неаполитанки, некие Каролина В. и Анна Л. Сначала они осыпали друг друга оскорблениями, а затем пустили в ход верные «spadella di Genova»[1397]. «Наш народ часто держит в кармане оружие, а если же его нет с собой, когда в нём нуждаются, то находится любой колющий предмет, который пускают в дело со слепой яростью, а иногда даже ранения наносят вытащенными из волос металлическими или черепаховыми заколками», — писал Чираоло[1398].
 Рис. 21. Суфражистка владеющая джиу-джитсу. Карикатура, 1910 г.
Рис. 21. Суфражистка владеющая джиу-джитсу. Карикатура, 1910 г.
Поединок на шпильках между двумя дамами, не поделившими любовника, описал в 1775 году известный русский журналист XVIII века Николай Иванович Новиков: «Любовницы досадою, ревнивостию и злобою воспламеняются. Не древние на брань ополчаются амазонки, храбростию своею греков устрашавшие, не смертоносные из колчанов своих извлекают стрелы: две любовницы, женщины нашего века, выдергивают из шиньонов своих длинные булавки и мгновенно ими друг друга поражают. Обе поединщицы приходят во исступление: злоба паче возгорается, удары повторяются, а любовник от места удаляется. Храбрые наши ироини, переколов друг другу и руки и бока и истощив свои силы, не победя соперницу, удивляются своей крепости»[1399]. Таким образом можно констатировать, что ироничное выражение «пустить шпильку» ещё не так давно не являлось лишь фигурой речи.
Курьёзный случай произошёл в давно забывшей о поединках на ножах Франции незадолго до революции. Эта в высшей степени необычная дуэль случилась в 1772 году, когда две дамы высшего света, мадемуазель де Гинь и мадемуазель Д'Экийон, на одном из светских приёмов разошлись во мнениях в вопросе своей знатности и положения в обществе. Продолжить дискуссию дамы решили в саду в поединке на ножах — оружии для аристократии более чем нетипичном. Дуэль проходила без секундантов, и обе дамы получили ранения: де Гинь в руку и Д'Экийон в шею[1400]. Одно из последних и самых ярких напоминаний о непостоянной природе дуэлей случилось в 1908 году. 27 ноября этого года газета «Брэнсон Эхо» сообщила о дуэли между двумя женщинами — мисс Фрэнк Грэхем и мисс Джеймс Крэбтри. Единственным доводом в пользу того, чтобы считать этот поединок дуэлью, служит тот факт, что всё было спланировано заранее. Ссора началась с того, что женщины поругались при обсуждении участия их мужей в некоем аграрном коммерческом проекте. К сожалению, газетная заметка не поясняла, почему их мужья не могли уладить свои проблемы сами. Мисс Грэхем и мисс Крэбтри решили встретиться в уединённом местечке в горах Озарк. Единственным свидетелем дуэли стала десятилетняя Фанни Грэхем — возможно, она несла оружие. Далее соперницы пришли к соглашению, что оружием будут камни. Дело чести уже было в разгаре, когда, обменявшись парой бросков, они по какой-то причине продолжили поединок, уже вооружившись ножами. Как сообщает газета, мисс Грэхем упала в обморок, получив порезы плеча и руки. Но и мисс Крэбтри не вышла невредимой. Она получила уродливый порез на лице, а также резаные раны груди и рук. После дуэли обе женщины были арестованы, но выпущены под залог. «Эхо», однако, предупредило, что стоит ожидать дальнейших бед, так как сатисфакция в этом поединке не была ни дана, ни получена[1401].
За минувшее столетие мир изменился. Изменились и социальные, культурные и этические нормы. Такие понятия, как «честь», «достоинство», «репутация», в западной культуре стали милыми и трогательными, но давно потерявшими практический смысл архаизмами. А когда-то фундаментальные понятия «целомудрие» и «честь семьи» в системе современных западных ценностей и вовсе безвозвратно ушли в область казарменных анекдотов и непристойных шуток и в новом европейском порядке стали считаться скорее постыдным недоразумением. Не за горами тот день, когда под натиском воинствующего либерализма и гипертрофированной толерантности могут пасть последние традиционные нравственные и этические бастионы, и тогда понятие «женская честь» окончательно станет анахронизмом, достоянием словарей редких и устаревших слов и займёт своё место в этимологической кунсткамере среди других курьёзов и диковинок.
Глава XIII
ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОБРОК МОРЯ
Поножовщины моряков

 Образ моряка с детства ассоциируется у нас с бравыми парнями с открытыми обветренными лицами, в клёшах и бескозырках, горланящими песни в портовых тавернах с бутылкой рома в руке, ловко взбирающимися по вантам и высматривающими землю из «вороньего гнезда». Просоленные и загорелые морские волки, которым сам чёрт не брат. Однако была у этой мужественной и романтической профессии и менее светлая сторона. Нельзя забывать о том, что история мореплаваний состоит не только из захватывающих приключений и экзотических островов с сокровищами, но также из многомесячных изматывающих переходов, скудного питания, тяжёлой работы, хронического недосыпания и болезней. Усугублялось всё это ещё и тем, что жизнь моряков на судне была ограничена небольшим пространством корабельного трюма и им долгими месяцами приходилось видеть одни и те же смертельно надоевшие лица товарищей по команде. Отсутствие на борту женщин, долго сдерживаемые негативные эмоции, сексуальное и психологическое напряжение вызывали фрустрацию, неврозы и депрессии, что нередко приводило к конфликтам. Как правило, моряки выпускали пар в прибрежных тавернах, но иногда портовые пристани разделяли месяцы пути, поэтому поножовщина на борту судов была нередким явлением. Психологические проблемы, с которыми сталкивались моряки, разрушали социальные связи внутри команды — мужчины, страдающие от депрессии, были не лучшей компанией. Многие моряки совершенно переставали себя контролировать. Подобное положение дел в сочетании с тем, что всем им до смерти надоело ежедневно в течение долгих месяцев плавания видеть одни и те же лица, приводило к тому, что рушилось любое подобие товарищества и забывалось о хороших манерах. Жизнь в пространстве столь ограниченном, что невозможно было пройти, чтобы не натолкнуться на кого-нибудь из членов команды, вскрывала многие недостатки товарищей, с которыми моряки делили стол и кров. «Нет такого места, где вы лучше узнаете человека, — как-то заметил ирландский моряк Патрик Мид, — чем на одном из этих судов»[1402].
Образ моряка с детства ассоциируется у нас с бравыми парнями с открытыми обветренными лицами, в клёшах и бескозырках, горланящими песни в портовых тавернах с бутылкой рома в руке, ловко взбирающимися по вантам и высматривающими землю из «вороньего гнезда». Просоленные и загорелые морские волки, которым сам чёрт не брат. Однако была у этой мужественной и романтической профессии и менее светлая сторона. Нельзя забывать о том, что история мореплаваний состоит не только из захватывающих приключений и экзотических островов с сокровищами, но также из многомесячных изматывающих переходов, скудного питания, тяжёлой работы, хронического недосыпания и болезней. Усугублялось всё это ещё и тем, что жизнь моряков на судне была ограничена небольшим пространством корабельного трюма и им долгими месяцами приходилось видеть одни и те же смертельно надоевшие лица товарищей по команде. Отсутствие на борту женщин, долго сдерживаемые негативные эмоции, сексуальное и психологическое напряжение вызывали фрустрацию, неврозы и депрессии, что нередко приводило к конфликтам. Как правило, моряки выпускали пар в прибрежных тавернах, но иногда портовые пристани разделяли месяцы пути, поэтому поножовщина на борту судов была нередким явлением. Психологические проблемы, с которыми сталкивались моряки, разрушали социальные связи внутри команды — мужчины, страдающие от депрессии, были не лучшей компанией. Многие моряки совершенно переставали себя контролировать. Подобное положение дел в сочетании с тем, что всем им до смерти надоело ежедневно в течение долгих месяцев плавания видеть одни и те же лица, приводило к тому, что рушилось любое подобие товарищества и забывалось о хороших манерах. Жизнь в пространстве столь ограниченном, что невозможно было пройти, чтобы не натолкнуться на кого-нибудь из членов команды, вскрывала многие недостатки товарищей, с которыми моряки делили стол и кров. «Нет такого места, где вы лучше узнаете человека, — как-то заметил ирландский моряк Патрик Мид, — чем на одном из этих судов»[1402].
 Рис. 1. Голландский матрос с ножом в руке. Победа над флотами Франции и Испании в заливе Виго 23 октября 1702 г.
Рис. 1. Голландский матрос с ножом в руке. Победа над флотами Франции и Испании в заливе Виго 23 октября 1702 г.
 Рис. 2. Брабантский матрос. Бернар Пикар, 1695–1730 гг.
Рис. 2. Брабантский матрос. Бернар Пикар, 1695–1730 гг.
 Рис. 3. Американский моряк с револьвером, 1861–1865 гг.
Рис. 3. Американский моряк с револьвером, 1861–1865 гг.
Оснований для недовольства было предостаточно — отсутствие женского общества, свежих продуктов и нехватка сна делали моряков раздражительными, особенно в отношениях с товарищами по команде. Независимо от того, чем это было вызвано: цветом кожи, происхождением, недостаточной личной гигиеной, манерой пережёвывания пищи или храпом, но чем дольше моряки оставались в изоляции, тем чаще их посещали недобрые мысли о товарищах. «Если вы хотите узнать, каков человек на самом деле, — писал Ноэль Блейкман в своей книге «Некоторые личные воспоминания о флотской службе», — запритесь с ним на год, и вы увидите, из чего сделан он, да и что за мужик ты сам»[1403].
Учитывая, что в плавании за время долгой изоляции моряки были вынуждены изо дня в день видеть все недостатки своих товарищей, их раздражительность можно понять. Но последствия этого напряжения были разрушительными, и часто хрупкие социальные связи, только что установленные моряками, давали трещину. Члены команды переставали делиться друг с другом, росло воровство, падала дисциплина. Любая просьба, совет или предложение теперь становились поводом для конфликта. «Похоже, главное сейчас — это ссоры», — писал судовой кочегар Чарльз Пул в мае 1864 года[1404]. Психологическое и физическое истощение только усиливали неприязнь моряков друг к другу. Как заметил новичок Майлоу Лэйси: «Каждый ненавидел каждого и себя в том числе»[1405]. Кочегар Уильям Уэйнрайт как-то назвал подобный период повышенной агрессивности членов команды «дьявольским оброком».
 Рис. 4. Поединок моряков. Morosophie, Гийом Ла Перьер, 1553 г.
Рис. 4. Поединок моряков. Morosophie, Гийом Ла Перьер, 1553 г.
 Рис. 5. Дуэль между испанскими моряками, 1860 г.
Рис. 5. Дуэль между испанскими моряками, 1860 г.
В эти дни моряки пытались бороться с тяжёлой депрессией беспробудным пьянством и постоянными драками. В марте 1864 года Уильям Уэйнрайт отмечал, что половина его команды регулярно пьянствовала и дралась. Кулачные драки, а также поединки на ножах между моряками, иногда заканчивавшиеся смертью, стали на борту его судна обычным явлением. Другой кочегар, Джордж Арнольд, как-то раз принявший участие в двух серьёзных драках в течение одного дня, заметил: «Я никогда никого не задираю, если только он не начинает первым». Хотя во время второй драки, после того как вмешались приятели его противника, Арнольд бахвалился: «Я бы выколотил из него семь колоколов!». Адмирал Робли Данлисон Эванс вспоминал, как черная меланхолия, вызванная изоляцией, приводила к насилию: «Наши парни торчали на борту так долго и мы находились под таким давлением, что все стали крайне раздражительными и задиристыми. Драки превратились в обыденность, и некоторые из них заканчивались крайне серьёзно. Несколько человек даже рассталось с жизнью»[1406]. В качестве иллюстрации к воспоминаниям Эванса можно привести небольшой отрывок из работы Джона Шербурна Слипера: «Одним воскресным утром на юте испанской шхуны, которая после почти недельной стоянки в порту готовилась выйти в море, разгорелась ожесточённая ссора между двумя испанцами. Вскоре их выкрики, грозный вид и неистовая жестикуляция привлекли внимание всех окружающих. Внезапно, очевидно, устав от взаимных оскорблений, они сбросили плащи, которыми каждый из них обернул левую свою руку, выхватили длинные ножи, послужившие образцом для смертоносного боуи, и свирепо набросились друг на друга. Казалось, что каждый мускул их трепетал и сокращался от ярости, в глазах светилось отчаянное безрассудство, и представлялось, что их мышцы наделены сверхчеловеческим могуществом. Одна яростная атака следовала за другой, но оба бойца искусно парировали все выпады левой рукой, которую использовали в качестве баклера. Наконец один из дуэлянтов получил ранение в грудь, и в мгновение ока рубашка окрасилась кровью. Но это только подтолкнуло раненого наброситься на противника с ещё большей энергией. Совершенно позабыв о защите, они кидались друг на друга, словно два разъярённых тигра. Но такая схватка не могла длиться долго. Вскоре один из испанцев, весь покрытый ранами и ослабевший от потери крови, рухнул на палубу. Победитель в этой дуэли, судя по окровавленной рубахе, побледневшему лицу и неверной походке, также был не в лучшем состоянии, и приятели отвели его в трюм»[1407].
 Рис. 6. Моряки отдыхают на палубе судна. Река Джеймс, Вирджиния, 9 июля 1862 г.
Рис. 6. Моряки отдыхают на палубе судна. Река Джеймс, Вирджиния, 9 июля 1862 г.
Слипер, писавший под псевдонимом Хаузер Мартингейл, был старым морским волком — двадцать два года он прослужил в торговом флоте. Даже его псевдоним — «хаузер», переводится как «перлинь» — стальной трос, использовавшийся в судовом такелаже[1408].
Джордж Бернард Шоу однажды заметил, что «чем дольше люди находятся на борту судна, тем всё более сумасшедшими они становятся». Действительно, наблюдения за моряками военно-морского флота демонстрируют, что психологическое напряжение обусловленное изоляцией, ломало многих из них. Эти нервные срывы являлись результатом истощения организма, бессонницы и депрессий, вызванных ограниченным пространством. В ту далёкую эпоху нервный срыв означал, что у моряка не было сил выбраться из своего гамака, чтобы заступить на вахту ни этим утром, ни завтра, ни в последующие дни.

 Рис. 7. Юный моряк на борту судна
Рис. 8. Монитор «Nahant». Нью Хемпшир, 1864-65 гг.
Рис. 7. Юный моряк на борту судна
Рис. 8. Монитор «Nahant». Нью Хемпшир, 1864-65 гг.
Хотя моряки плохо понимали, что с ними происходит во время нервного срыва, тем не менее они придумали множество метафор для этого ужасного недуга. Уильям Уэйнрайт описывал свои ощущения как «разбитое сердце», «оказаться за гранью добра и зла» и «страдания из-за несмелости». Моряк Джон ван Нест ощущал себя «полностью опустошённым». Другой моряк, Гасси ван Гизон, переживал из-за того, что «не знал, как быть». Матрос Уильям Миллер описывал, как однажды потерял самообладание, проснувшись утром 14 декабря 1861 года. «Мне было настолько плбхо, что я был не в состоянии выполнять свои обязанности, — писал он доктору Уильяму Томсу. — Мне пришлось всё бросить». Алво Хантер, юнга с монитора «Nahant», вспоминал, как однажды утром проснулся с ощущением невозможности и нежелания покинуть свой гамак. Хантер понимал, что не всё с ним в порядке, но недоумевал, так как ощущал себя физически здоровым. Обеспокоившись этим и не понимая, что ему делать, юнга решил посетить судового врача. Осмотрев парня, врач заключил, что тот полностью здоров. «Это я и сам знаю, сэр, — с досадой ответил Хантер. — Просто я чувствую себя разбитым!»[1409]. Думаю, что именно высокая вероятность возникновения конфликтов среди членов команды и послужила основой для появления известного и широко распространённого морского поверья, что женщина на борту приносит несчастье. Существует множество всевозможных интерпретаций и объяснений этого суеверия. Так, одна из версий, особенно популярная среди английских моряков, гласила, что, так как слово «ship» — «корабль» в английском языке женского рода, то с появлением на борту женщины корабль «начинала» ревновать её к своим мужчинам-морякам, что было чревато всевозможными несчастьями, валившимися на голову команды[1410]. Но, как мне кажется, это как раз тот случай, когда можно спокойно применить бритву Оккама и не множить версии без необходимости. Понятно, что появление женщины на судне, полном мужчин в самом расцвете сил, при этом не избалованных женским вниманием, не особо отягощённых морально-этическими нормами и не страдающих от избытка воспитания, ничем хорошим закончиться не могло. Эту точку зрения также разделял английский клирик и писатель середины XVII столетия Джон Флэйвел, писавший негоцианту Джону Лаверингу о возможных проблемах с женщинами на борту его торговых судов: «Убить в них [моряках) вожделение — это самое надёжное средство даровать процветание вашей торговле»[1411].
 Рис. 9. Моряк с ножом. Корнелис Дюсарт, около 1695 г.
Рис. 9. Моряк с ножом. Корнелис Дюсарт, около 1695 г.
 Рис. 10. Голландский матрос. Бернар Пикар 1695–1730 гг.
Рис. 10. Голландский матрос. Бернар Пикар 1695–1730 гг.
Кстати, традиционное представление о пиратских кораблях как о плавучих притонах, дикой вольнице, не подчиняющейся никаким правилам, — это не более чем расхожее заблуждение — клише, созданное романистами и приключенческими фильмами. В действительности на этих судах царила жесточайшая дисциплина, а нормы и ограничения, которыми регулировалась жизнь членов команды, своей суровостью порой превосходили дисциплинарные требования военного флота викторианской эпохи. Средиземноморские флибустьеры начала XVII века строго-настрого запрещали женщинам ступать на борт своих судов, так как справедливо считали, что их присутствие на корабле «слишком часто приводит в смятение». Этот запрет сохранился и в XVIII веке. В соглашении, составленном между известным уэльским пиратом конца XVII — начала XVIII столетия Бартоломью Робертсом по прозвищу Чёрный Барт и его командой говорилось: «Никаких мальчиков и женщин на борту»[1412]. Более того, если женщину захватывали в качестве добычи, «ей незамедлительно предоставляли охрану, чтобы не допустить гибельных последствий такого смертоносного повода для распрей и ссор». Эту точку зрения благоразумно разделял экипаж и другого именитого английского флибустьера начала XVIII столетия Джона Филлипса: «Когда бы мы ни встретили богобоязненную даму, тот, кто познает её без её согласия, будет предан смерти»[1413]. Работорговец Уильям Снелгрейв, захваченный пиратами у западного побережья Африки в 1719 году, писал в мемуарах: «У пиратов существует правило не допускать женщин на борт своих судов, находящихся в гавани. Если же они в качестве добычи захватывают в море судно, на борту которого находятся какие-либо женщины, никто под страхом смерти не смеет принуждать их против воли. Это является хорошим дипломатическим ходом для предотвращения среди них беспорядков, и правило это строго соблюдается»[1414]. Кстати, упомянутый Чёрный Барт Робертс придерживался более пуританских взглядов, чем многие другие пиратские капитаны, и для предотвращения конфликтов на борту судна даже запретил команде азартные игры[1415]. Как следует из принятого на его корабле правила не брать на борт не только девиц, но и мальчиков, похоже, что в эпоху парусного флота, моряки, очевидно от безысходности, особой разборчивостью в связях не отличались. Профессор Денверского университета Артур Н. Джилберт отмечал, что в XVIII столетии гомосексуализм в британском королевском флоте безжалостно наказывался, так как считалось, что это подрывает дисциплину и порядок[1416]. С дисциплиной и порядком у моряков и в самом деле были некоторые сложности. Вот как описывал Майкл Беннет американских моряков периода Гражданской войны в США: «Моряки были грубыми и шумными. В то время как добропорядочные люди должны быть вежливыми, говорить учтиво, воздерживаться от табака и пить умеренно, моряки федератов ругались, жевали табак и напивались до бесчувствия. Обычно они развлекались шутливой агрессией, пьянством и непристойными словесными перепалками. Они и гордились своим рабочим происхождением, и стеснялись его, и поэтому многие моряки впадали в ярость, доказывая свою мужественность или защищая честь, и бахвалились этим своим происхождением. Эта обидчивость присутствовала во всех их речах и в поведении. Моряки имели привычку беспрерывно дразнить, шутить и высмеивать друг друга, по поводу и без повода — то, что они называли «поддеть».
 Рис. 11. Костюмы моряков разных стран. Абрахам де Брюйн, 1581 г.
Рис. 11. Костюмы моряков разных стран. Абрахам де Брюйн, 1581 г.
 Рис. 12. Американский Рис. 13. Бой на борту судна Массачусетс. Эдвард Харт, 1897 г. моряк, 1861–1865 гг.
Рис. 12. Американский Рис. 13. Бой на борту судна Массачусетс. Эдвард Харт, 1897 г. моряк, 1861–1865 гг.
В их розыгрышах использовался сарказм, далёкий от сентиментальности, присущей среднему классу, а также жестокие и унизительные шутки. Зубоскальство моряков часто бывало бесчувственным, циничным и жестоким. За малейшей ошибкой следовали крики, свист и беспощадное улюлюканье. В большинстве своём моряки не испытывали друг к другу симпатии и смеялись над неудачами других. Они разыгрывали всех и вся, включая детей и животных. Склоки были им жизненно необходимы. Драки, состоявшие из жёстких шлепков ладонью и ударов кулаком, называемые моряками «фистана», были обычны даже среди приятелей. Моряки мгновенно пускали в ход кулаки и отчаянно дрались, когда их провоцировали, и выхватывали нож, когда приходили в ярость. Одним из любимых их выражений было «Я выпущу тебе кишки!». И это не было пустой угрозой. Ежедневное использование ножа для разрезания и сращивания концов канатов сделало моряков смертоносными и искусными бойцами. Такими умельцами в обращении с ножом были многие новобранцы, поэтому офицеру, как-то раз принимавшему их на борт судна в Чарльстоне, пришлось попросить каждого рекрута отдать ему нож, перед тем как войти на борт»[1417].
 Рис. 14. Драка матросов. Ян Люйкен, 1682 г.
Рис. 15. Голландский моряк. Корнелис Дюсарт, около 1695 г.
Рис. 14. Драка матросов. Ян Люйкен, 1682 г.
Рис. 15. Голландский моряк. Корнелис Дюсарт, около 1695 г.
Травматизм на судах, особенно в эпоху парусного флота, был крайне высок. Пабло Буэно в работе, посвящённой испанским морякам XVI столетия, писал, что кроме смертельных травм существовали и менее опасные повреждения, но навсегда оставлявшие отметины: пальцы, раздавленные упавшим грузом, ранения, нанесённые частями мачт или такелажа, лица, распоротые щепами, и т. д. Эти отметины были крайне важны для чиновников компании «Каррера де Индиас», так как они позволяли идентифицировать отдельных моряков. В реестры торгового дома служащие тщательно вносили все рубцы и другие особые приметы, в том числе шрамы от старых ранений. Конечно, далеко не все шрамы были получены в результате несчастных случаев во время работ. Насилие среди членов команд, особенно поединки на ножах, как уже говорилось, были в норме вещей, и установить происхождение этих шрамов было непросто. Поэтому реестры часто предупреждают, какие из полученных моряками шрамов являлись именно результатами ножевых ранений. Так или иначе, но количество моряков, чьи лица или руки были иссечены глубокими шрамами, было очень большим, что указывает как на высокий уровень насилия, так и на опасность судовых работ. Исследование личных дел двух тысяч матросов свидетельствует, что у половины из них на теле были обнаружены следы старых ранений[1418]. Также, судя по данным подобных регистров, почти половина команды затонувшего в 1622 году испанского галеона «Nuestra Señora de Atocha» имела на лицах, руках и запястьях шрамы или следы от ранений[1419].
 Рис. 16. Матросы на галере. М. Схайп, 1649 г.
Рис. 16. Матросы на галере. М. Схайп, 1649 г.
 Рис. 17. Тренировочный бой на борту судна Ньюарк, 1891 г.
Рис. 17. Тренировочный бой на борту судна Ньюарк, 1891 г.
Похоже, что за прошедшие с момента катастрофы «Аточи» три столетия ситуация не сильно изменилась. Кнут Вейбуст, изучавший быт моряков дальнего плавания в 70-х годах XX столетия, писал: «В мою последнюю поездку в Финляндию мне рассказали, что, когда финны дерутся на ножах, они не используют их для колющих ударов; они пытаются порезать лоб противника так, чтобы кровь залила глаза. На самом деле немногие гибли в результате драк на ножах — большинству из них на память достались шрамы на лице. В боях между командами различных судов, стоявших в одном порту, использовались и кастеты, и ножи[1420]. Однако, эти выводы были слишком оптимистичны. Так, например, в январе 1888 году в поединке на ножах сошлись двое финских матросов, приписанных к барку «Элизабет Грэхем». В пылу схватки один из них по имени Нельсон ударил своего товарища по команде Эмиля Эриксена в спину. Эриксена от неминуемой смерти спасло лишь то, что удар ножа пришёлся в ребро[1421].
Очевидцем поединков на ножах до смерти на борту судна невольно пришлось стать англичанину Аарону Смиту. Вот как он это описывал в 1824 году: «Начатое ликёром закончилось множеством вина. Вся команда сильно опьянела и пришла в волнение. Между двумя членами экипажа произошла ссора, превратившаяся в отчаянный поединок на ножах, за которым с ледяным спокойствием наблюдала вся команда. Долгое время никто из бойцов не имел преимущества, так как, несмотря на опьянение, оба сражались с одинаково искусно и осторожно, пока один из них не упал, истекая кровью, после сильного удара в левую часть груди. Когда ярость капитана утихла, он спросил меня, что я думаю об испанской манере боя на ножах, добавив, что я просто обязан научиться владеть ножом. При этом капитан отметил, что это была первая вещь, которой его научил отец»[1422].
 Рис. 18. Тренировка по фехтованию на борту линейного корабля Британия. В. Томас, 1860 г.
Рис. 18. Тренировка по фехтованию на борту линейного корабля Британия. В. Томас, 1860 г.
Надо заметить, что не все моряки были одинаково склонны к поножовщине. Превалировали среди них представители стран с развитой ножевой культурой, и пальму первенства держали выходцы из стран Средиземноморья и Латинской Америки, что прекрасно видно на примере судов над испанскими моряками в Англии. В 1853 году в Ливерпуле барон Андерсен приговорил испанского моряка Эдмунда Монтеро к 20 годам за нанесение в поединке смертельных ножевых ранений другому моряку. «Если бы он не был иностранцем, — сказал Андерсен, — я бы приговорил его к смерти». Когда испанский моряк Бернардо Энрикес убил другого иностранца, смертельно ранив его в живот «жутким ножом», он был обвинён в убийстве, и спасло его лишь заступничество присяжных, указавших на его иностранное происхождение. В следующем году испанец Хосе де Росарио зарезал греческого моряка. Как сообщалось, жертва предложила выяснить отношения «в английском стиле» — на кулаках, и Росарио согласился, но во время драки выхватил нож. Он был обвинён в преднамеренном убийстве, но в результате был осуждён за убийство по неосторожности и получил 15 лет[1423].
В 1804 году массовая драка с поножовщиной была спровоцирована испанскими моряками в Филадельфии; 19 мая 1814 года испанцы сцепились с греческой командой в Бостоне, а 12 июня 1808 года там же, в Бостоне, португальские моряки зарезали в драке двух американцев. В результате привычка испанских, итальянских и португальских моряков хвататься за ножи по поводу и без повода явилась одной из причин ксенофобии по отношению к любому выходцу из стран Средиземноморья — «португашке» со смуглой кожей[1424].
В 1858 году некий судья в портовом Ливерпуле вынес определение, что «использование в городе ножа «цветными» недопустимо». Через два года этот же судья отметил, что в ливерпульский порт прибывает множество американских моряков, которым следовало бы разъяснить, что в этой стране они не могут безнаказанно пускать в ход нож. В следующем году в Ливерпуле на Худ-стрит некий испанский матрос во время ссоры из-за женщины зарезал своего земляка. К 1863 году ножевые ранения стали настолько частым явлением, что судья Томас Стенфорд Рафлз издал уведомление на семи языках, предупреждающее моряков о запрете ношения ножей и другого оружия. Копии этого уведомления были вручены капитанам, командам иностранных судов и владельцам пансионов для моряков. Считалось, что эта превентивная мера оказалась довольно эффективным шагом, хотя один чернокожий моряк вскоре после прочтения уведомления зарезал своего земляка[1425]. Кнут Вейбуст описывал драку испанцев в Монтевидео на борту судна «Монтуз». Члены команды дрались ножами и свайками, но в конце концов были разоружены и заперты в трюме[1426].
 Рис. 19. Английский моряк дерётся с четырьмя американцами. Лондон, 1781 г.
Рис. 19. Английский моряк дерётся с четырьмя американцами. Лондон, 1781 г.
Так как до второй половины XIX века судовые ножи не были унифицированы, в поединках на борту матросы использовали оружие всевозможных видов, размеров и конструкций. Это могли быть и утилитарные европейские ножи, напоминающие финские «пуукко», и различные типы этнических ножей — от популярных на флоте испанских навах до кинжалов, и даже свайки для работы с такелажем. Так, в материалах суда над испанскими пиратами от 1834-года мы читаем: «Свидетели подтвердили сведения о пиратах на борту судна и дополнили показания, уже ранее данные капитаном: «Мы увидели ножи в рукавах их курток, когда они вступили на палубу, — это были длинные испанские ножи. Один из пиратов приказал капитану спуститься вниз в каюту, и двое других последовали за ним. Капитан был внизу недолго, вскоре он позвал меня и приказал мне привести всю команду на корму, что я и выполнил. Из каюты вышли трое пиратов и, угрожая нам ножами, приказали всем спуститься в трюм. Когда весь экипаж был собран в каюте, эти трое тоже спустились к нам и потребовали немедленно отдать им все деньги. Они подталкивали нас ножами, так как им казалось, что мы всё делаем недостаточно быстро. Ножи были длиной около 30 сантиметров, с обоюдоострым лезвием. Среди испанских моряков принято носить такое оружие»[1427]. Вероятно, речь шла о популярных у испанских моряков альбасетских кинжалах, или о больших клиновидных ножах, известных как «фламенко» или «бельдюк». Подобные ножи «фламенко» у испанских моряков упоминаются уже в законе от 1760 года[1428].
 Рис. 20. Прибивание руки к мачте ножом, XVI–XVII вв.
Рис. 21. Нож моряка. Пьемонт, XIX в.
Рис. 20. Прибивание руки к мачте ножом, XVI–XVII вв.
Рис. 21. Нож моряка. Пьемонт, XIX в.
У английских моряков были популярны длинные ножи, называемые «gully». Первые упоминания этого термина встречаются во второй половине XVI столетия. По одной из версий, «gully» — это производное от французского «goulet», или «goule», что значит «глотка»[1429]. В XVIII веке это название встречается в стихах шотландских поэтов Бёрнса[1430] и Фергюссона[1431]. Кроме «gully» на английских судах в ходу были и другие сленговые названия ножа. Самым популярным из них было «chivey» и его многочисленные вариации. Начиная с XVII столетия это слово звучало как «chive» или «chiv»[1432], а в 1820–1840 годах оно произносилось как «chise», «chis», «chiser» или «chiven»[1433]. В некоторых источниках XVIII века встречаются такие его формы, как «ochive» и «oschive»[1434]. Словарь исторического сленга Эрика Партриджа утверждает, что все эти термины имеют цыганское происхождение. Однако ещё в 1624 году «chivg» встречается в качестве синонима к слову «chip» — осколок, щепка, обрезок[1435]. Кроме этого, слово «chive» в английском языке служит для обозначения одного из подвидов лука, известных как Allium schoenoprasum, или шнитт-лук. A «chives» — это длинные побеги лука, которые ещё принято называть перьями. В этой интерпретации этимология «chive» и «chives» ведётся от старофранцузского названия лука — «cives»[1436]. Таким образом, скорее всего, цыгане здесь ни при чём, и на судах просто использовали такие традиционные для ножа метафоры, как «щепка» или «перо». Часто моряки носили распространённые в XVI–XIX веках различные виды недорогих ножей для колониальной торговли, так называемые «trade knives». Канонической формой ножа моряка принято считать небольшие ножи в ножнах производства Фламандии, Германии, Англии или Франции с формой клинка, называемой «полумесяц» или «sheepfoot» — «овечье копытце». Больше всего они напоминали ножи для хлеба, чем, собственно, и являлись, так как законодательства большинства европейских стран сквозь пальцы смотрели на ношение хлебных ножей, а наказания за ранения, причинённые подобным оружием, были значительно мягче, чем за раны от «боевого» ножа. Также среди английских моряков пользовались популярностью большие складные ножи, формой и особенно навершием рукоятки напоминающие сицилийский нож «калтаджироне».
Борьба с поножовщинами среди моряков велась уже начиная с первых дальних плаваний. Вероятно, именно кровопролития на борту судов, возвращавшихся из Святой земли во время третьего крестового похода, вынудили английского короля Ричарда I, также называемого Львиное Сердце, принять суровые меры против поножовщин. Результатом явился свод законов, известный как «Кодекс Олерон» — по названию острова Олерон, расположенного на атлантическом побережье Франции[1437]. Кодекс этот гласил:
«Каждый убивший человека на корабле будет привязан к убитому и брошен с ним в море.
Если же кто убьёт человека на берегу, то связан будет с жертвой своей таким же способом и похоронен с ним заживо.
Каждый, кто достанет нож свой или иное оружие, чтобы пролить кровь, или же прольёт кровь иным способом, лишится руки».
Если же моряк угрожает товарищу ножом, то руку его прибивают этим же ножом к мачте, и нарушитель может освободиться только в том случае, если ему удастся вырвать нож»[1438].
На судах голландского флота эти архаичные законы действовали с XVII столетия, а в военно-морском уставе Голландии дожили до 1795 года. В Испании королевским указом от 1 сентября 1760 года морякам, очевидно, в качестве превентивной меры для предотвращения поножовщин на берегу было запрещено покидать судно с ножами. Они могли пользоваться ими на борту для выполнения ежедневных такелажных работ, однако, сходя на берег во время увольнений, должны были оставлять оружие на корабле[1439]. Ужесточили судовое законодательство и американцы. Согласно закону от 1866 года, членам команды было запрещено носить нескладные ножи на борту, и в обязанности капитана или другого должностного лица под угрозой наказания входила повинность информировать каждого моряка, вступающего на палубу судна, о требованиях закона и их неукоснительном выполнении[1440]. Тем не менее, видимо, не особо полагаясь на сознательность и законопослушность моряков, капитаны принимали дополнительные меры предосторожности. Так, Вейбуст описывает историю о том, как на одном судне члены команды один за другим передавали ножи судовому механику, который отламывал кончик клинка примерно в двух с половиной сантиметрах от острия[1441].
Фредерик Харли вспоминал, как после принятия нового закона подобную процедуру отламывания кончиков ножей проводил старший помощник американского барка «Элси», отплывающего в Мельбурн. Погрустневшей команде он объявил, что «на его судне мужчины будут драться только тем оружием, которое им дал Господь, — то есть кулаками». Один из членов команды, ирландец по имени О'Рурк, пожаловался, что пятнадцать лет назад, когда он ходил на таких крупных судах, как «Live Yankee» и «Fantom», никто не заставлял его ломать ножи. Но «Live Yankee» был списан ещё до принятия закона, в 1865 году, поэтому Рурку осталось только ностальгировать по ушедшим временам[1442].
Однако было бы ошибкой утверждать, что именно поножовщина стала тем единственным фактором, вызвавшим необходимость замены традиционных остроконечных ножей на небольшие утилитарные «складники», которые мы и видим сегодня. Скорее вопрос надо рассматривать глобально, и в большей степени на эти метаморфозы повлиял конец эпохи парусных судов. Так, например, Сэм Свенсон писал, что с окончанием эры парусного флота, когда морякам уже не приходилось столько работать с такелажем, старинный матросский нож в ножнах за ненадобностью исчез и уступил место складным ножам[1443].
С уходом эпохи парусников канули в Лету многомесячные утомительные дальние плавания, бочки с затхлой водой, и протухшая солонина. Женщины на кораблях стали обыденностью, психоаналитики объяснили природу фрустрации, нервных срывов и депрессий. Поэтому в наши дни шансов встретить на борту современного судна поединки на ножах не больше, чем услышать в исполнении упившейся ромом команды старинную матросскую песню «What will we do with a drunken sailor» («Что делать с пьяным моряком?!»).
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Итак, наш небольшой исторический экскурс подошел к концу. Пора подвести итоги и коротко коснуться основных положений этой работы. Пожалуй, начнём с конфессионального тезиса. Как читатель мог убедиться, практически все традиции дуэлей на ножах, за редким исключением, появлялись и процветали в странах с католической культурой. А так же, как я неоднократно отмечал, в регионах, находившихся под протекторатом этих стран, или под их влиянием. Как это, например, произошло с греческими Ионическими островами, испытавшими сильное влияние Венецианской республики, или же с исповедующим католицизм нидерландским анклавом, Северным Брабантом. Разумеется, следует упомянуть латиноамериканские страны, а также юг США, куда культура личной чести была завезена испанцами еще в XVI столетии. В самой Испании, на родине ножевых дуэлей, основные тезисы доктрины личной чести были не только сформулированы на уровне юридических обычаев, но и записаны в Партидах — законодательном сборнике, а, следовательно, кодифицированы. Таким образом, и испанские правители и духовенство признавали право граждан Испании на обладание личной честью. Соответственно, было законодательно закреплено и право этих граждан на защиту чести и достоинства.
Как читатели могли заметить, Римские папы в частности и католический клир в целом, отличались крайне либеральными взглядами на смертоносные методы, избранные их паствой для защиты чести. В отличие от «неофитов» — протестантов, строго следовавших букве Священного писания и славившихся своей бескомпромиссностью. Как известно, и Лютер и Кальвин считали, что судьба каждого человека предопределена задолго до его рождения, а, следовательно, он не может обладать личной честью, так как истинная честь исходит только от Бога. Что прекрасно видно на примере английских законодательных актов 1614–1618 г., практически на корню уничтоживших культуру чести на Британских островах.
Но, разумеется, одного лишь влияния католической церкви и распространения католической морали и системы ценностей было бы недостаточно. Причин значительно больше. Так, среди других приоритетных факторов, несомненно, следует назвать коррупцию. Продажность испанских и итальянских чиновников ещё в XVIII веке стала притчей во языцех, а уж коррумпированность государственных служащих Мексики или Аргентины славилась далеко за пределами Латинской Америки. И само собой, как я уже неоднократно отмечал, драматическую роль в этом театре абсурда сыграла исполнительная власть, на чьих плечах лежит львиная доля ответственности за беззаботное и беспечное существование этой кровавой традиции. Несмотря на то, что законы этих стран были сильны на бумаге, институции, на которые была возложена обязанность за их контролем и исполнением, в силу различных обстоятельств не особо стремились выполнять свой долг. Конечно, иногда отправлению правосудия мешали причины объективные, как, например, раздробленность и разница юрисдикций Италии, огромные расстоянии Мексики и Аргентины, или элементарное отсутствие средств. Свою лепту внесли и многие другие факторы. Среди ключевых причин, также нельзя не упомянуть неразвитую и несовершенную, а иногда и просто нефункциональную судебную систему. В результате для восстановления справедливости, и в том числе при оскорблении личной чести или чести семьи, стороны были вынуждены искать альтернативные способы решения конфликтов, обращались к юридическим обычаям, и, в конце концов, брались за ножи. Как мы прекрасно видим на примере Ионических островов второй половины XIX столетия, именно суды положили конец многовековой традиции дуэлей на ножах, и решение дел чести, которые ранее регулировались исключительно с ножами в руках, окончательно и бесповоротно перешло в компетенцию суровых людей в мантиях. Также, среди немаловажных факторов следует назвать отказ граждан стран с развитой традицией народных дуэлей от любой формы сотрудничества с представителями власти. Как читатель мог убедиться, отказ от дачи показаний был стандартной ситуацией для большинства инцидентов с поножовщинами, и правоохранительные органы не могли рассчитывать не только на свидетельские показания, но даже на минимальную помощь населения. В регионах с развитой культурой личной чести, как, например, в Южной Италии, эта традиция — «омерта», или закон молчания и круговой поруки, жива и широко распространена до сих пор. В разных формах омерта также сохранилась и в ряде других областей в рамках некоторых субкультур, а также замкнутых преступных или этнических групп и сообществ. Нельзя не отметить и значение такой печально известной католической традиции, поражавшей многих иностранцев, посетивших Италию, как система убежищ — в основном монастырей — открывавших свои двери всем беглецам от правосудия. Широко известны роль и значение покаяния в христианстве, но в католичестве раскаяние грешника было возведено в абсолют и считалось значительно более важным фактором, чем его наказание, что во времена печально известных аутодафе инквизиции спасло жизнь не одному внезапно прозревшему еретику. Свою роль сыграли и поразительно мягкие наказания, и либеральная система помилований, распространённые практически во всех странах с ножевой культурой, от Испании и до Финляндии.
За упадком, а затем и исчезновением культуры дуэлей на ножах, как, собственно, и за взлётом, также стоит целый комплекс причин. В первую очередь среди ключевых факторов, обусловивших эти трансформации, следует упомянуть наступление цивилизации, или, как это назвал известный немецкий социолог Норберт Элиас, «цивилизационный процесс». Одной из основных вех этого процесса стало распространение влияния протестантства, что сыграло далеко не последнюю роль в исчезновении массовой традиции народных дуэлей в Голландии XVII века, способствовало концу культуры пууккоюнкари Финляндии и вырыло могилу дуэлям на ножах юга США в XIX столетии. Разумеется, ответственность за эти драматические метаморфозы лежит не только и не столько на клириках — кальвинистах, лютеранах и пиетистах. Свою роль, и далеко не последнюю, сыграло распространение утилитаристской пуританской этики и морали, рациональной и расчётливой, в которой не было места «романтическим бредням» о чести, достоинстве, нормах мужественности, мужской самоидентификации, месте мужчины в обществе и другой «сентиментальной чуши», не связанной напрямую с получением дохода. Именно эта новая капиталистическая мораль, чьи постулаты были прекрасно сформулированы Бенджамином Франклином, объявила непримиримую войну традиционным ценностям, и, разумеется, одной из фундаментальных основ традиционного общества — чести.
Свой гвоздь в крышку гроба народных дуэлей также вбила законодательная, а со временем и исполнительная власть. Постепенно, где то раньше, а где то позже ужесточились законы, а главное, надзор за их исполнением. У участников поединков исчезло привычное ощущение безнаказанности. Дуэлянтов стали не толькоарестовывать, но и бескомпромиссно и безо всякого снисхождения приговаривать к реальным и длительным тюремным срокам. Драконовские законы, подобные закону Джолитти, и аналогичные ордонансы Испании, ограничили длину клинков гражданских ножей, что сделало их непригодными для поединков. Свою роль сыграл и уже упомянутый цивилизационный процесс. Более «развитые» и «цивилизованные» державы, такие как Англия, считали страны Средиземноморья с их ножевой культурой варварами и кровожадными дикарями и клеймили со всех трибун. Что, естественно, портило светлый образ этих государств, стремившихся приобщиться к «новым европейским ценностям» и войти в семью цивилизованных народов Европы. Свой вклад внесли и масс-медиа, активно формировавшие новое «прогрессивное» общественное мнение. Также, соглашусь со многими исследователями в том, что жирной точкой, символическим венком на гроб массовой культуры народных дуэлей, стала Первая Мировая война. Масштабы драматических последствий этого эпохального события не до конца оценены до сих пор. Но одно можно сказать точно — в эту трещину, разделившую не только Европу, но и весь мир на «до» и после», рухнула и европейская культура народных дуэлей.
Итак, попытаемся кратко резюмировать и подвести итог всему вышеизложенному. Совершенно очевидно, что для появления в какой либо стране ножевой культуры был необходим целый ряд специфических условий, создающих «благоприятный климат». Среди обязательных условий в первую очередь следует назвать наличие концепции личной чести. Далее следуют такие приоритетные факторы, как традиционное общество, либеральные законы, мягкие наказания, слабая и беспомощная исполнительная власть, саботирующая выполнение своих обязанностей, нефункциональная судебная система, институты убежищ и системы помилований. Также приветствуется наличие родоплеменного строя с его кровно-родственными связями, и воинственной культуры моделеобразующего слоя. Не помешает труднодоступность региона для длинных рук закона и карающего меча Фемиды — горы, острова, пампа, прерии и другие препятствия, затрудняющие или делающие невозможным отправление правосудия. Горы, вне зависимости от страны и эпохи, в силу своей труднодоступности всегда служили «заповедником» и питательной средой архаичных традиций и обычаев. Как читатель мог заметить, итальянский и греческий бригантаж, или испанский бандолеризм, являлись близнецами абречества Северного Кавказа. Так, например, кодексы чести корсиканских «бандитти» практически идентичны старинному этическому кодексу чеченцев, «Къонахалла». Для того, чтобы ножевая культура не деградировала и пережила столетия в неизменённом виде, заботливо сохраняя и передавая из поколения в поколение традиции, системы, школы и сложные техники ножевого боя, также необходимо наличие некоего мощного и многочисленного закрытого сообщества. Так в Италии роль «консерванта» сыграла каморра — могущественная преступная организация, известная ещё с XVI века. Именно благодаря «малавитози» и каморристам, их закрытости, «омерте», ортодоксальному традиционализму и строгому соблюдению древних традиций, сложные техники ножевого боя пережили жесточайшие репрессии, драконовские законы, войны, и другие эпохальные драматические события, положившие конец массовой культуре народных дуэлей, и успешно дожили до наших дней. Нельзя не упомянуть и такие обязательные факторы, являющиеся неотъемлемой и органичной частью ножевой культуры, как жестокость дуэлянтов на ножах, их безжалостность и безразличное отношение к смерти. Как читатель мог заметить, во всех культурах поединков на ножах, от Нидерландов XVI столетия и до Аргентины середины XX века, смерть от ножа была событием заурядным и считалась простым невезением и неудачным стечением обстоятельств. Это отношение к смерти культивировалось в странах с развитой ножевой культурой с раннего детства. Кровавая и жестокая традиция испанской тавромахии, смертоносные детские игры в корриду, поощрение детских поножовщин — всё это способствовало формированию особого типа умелых и безжалостных бойцов, равнодушных к своим и чужим страданиям и философски относившихся к смерти. Причём не на уровне индивидуальных качеств бойца, а в масштабах менталитета всей нации. То есть, налицо трансформация морали и, как следствие, формирование крайне специфических морально-этических норм, исключавших табу на лишение ближнего своего жизни, и достаточно вольно трактовавших библейские заповеди. На культуру Испании и формирование кровожадного испанского менталитета, как я уже отмечал, несомненно, повлияла Реконкиста. За восемь веков жестокой перманентной войны, смерть стала привычным и естественным антуражем жизни испанцев. Поэтому «муэртовать», перерезая ножами глотки любому врагу, включая пленных и раненых, для «мусье шпанов» являлось совершенно естественной частью их обыденной повседневной жизни. Ещё известный французский историк Фернан Бродель упоминал, что история Пиренейского полуострова насыщена жестокостью и отмечал «первобытную свирепость» его жителей.
В заключение хотелось бы коснуться некоторых распространённых мифов, поверий и заблуждений, окружающих «ножевой бой». И, разумеется, в послесловии к русскому изданию, я не могу обойти вниманием и такой горячо любимый, холимый и лелеемый миф, как «традиционные» русские школы и системы ножевого боя. Да, именно миф. В России никогда не существовало такой традиции, и я постараюсь коротко рассказать, чем это обусловлено. В качестве главного аргумента сторонники теории существования «традиционных русских стилей» приводят следующие доводы: «Неужели у всех было, а у нас не было?! Этого не может быть!», или: «Ножи ведь на Руси были! Значит, был и ножевой бой!». То есть, хрестоматийные логические ошибки, напоминающие классический анекдот о мужчине, обвинённом в изнасиловании лишь на том основании, что «у него было чем». Во-первых, я хотел бы заметить, что ножевой культуры (а также ножевых систем, школ, традиций, техник и т. д.), никогда не было не только в России, но и в большинстве других стран мира. Например, в двух других могущественных империях — в Англии и Франции. Отсутствие ножевой культуры, так же, как и любой другой традиции, это не хорошо и не плохо, это лишь констатация. Во многих странах есть свои эндемичные и уникальные традиции и субкультуры. В России не было традиции ножевого боя, зато, скажем, в Италии — кулачного. Почему на юге традиционно развито виноделие, а на севере варят пиво, или, почему экономика одной страны строится на сельском хозяйстве, а другой на рыболовстве — это тоже обусловлено не происками врагов, а массой объективных причин. И уж точно это никоим образом не говорит об ущербности государств, в которых ножевые традиции не возникли, скорее, об их здоровье. Существование подобных маргинальных культур в первую очередь свидетельствует о серьёзных болезнях общества и скорее вредит имиджу страны, что мы можем увидеть на примере Испании, Аргентины или Италии, где сегодня стараются не вспоминать эти мрачные, и как считают в этих странах, позорные страницы своей истории. Поэтому я не вижу причин отчаянно биться за право и сомнительную честь считаться родиной подобных кровавых традиций. Особенно, если этих традиций никогда не существовало.
Во всех трёх государствах — и в России, и в Англии, и во Франции примерно в один и тот же период гражданские ножи потеряли легитимность в качестве оружия, перестали использоваться при решении конфликтов и окончательно и бесповоротно перекочевали в сферу хозяйственного, бытового и рабочего инструмента. При этом, опустевшую нишу поединков простонародья во всех трёх странах тут же прочно заняли значительно менее кровавые и смертоносные способы сублимации — кулачные бои. В большей степени это утверждение относится к Англии и России, и в меньшей — к Франции. Началась эта «гуманизация» во всех трёх странах примерно в один период, в XVII веке. Точнее, этот процесс длился с начала XVII столетия (Англия) и до начала XVIII (Россия). Что же объединяет эти три страны? Среди основных факторов в первую очередь следует назвать абсолютизм. Непримиримую войну ножам в частности и дуэлям в целом объявили три легендарных правителя трёх абсолютных монархий: английская королева Елизавета I, французский король-Солнце Людовик XIV, и грозный российский государь Пётр Алексеевич. Все три монарха издали жесточайшие указы, грозящие жуткими карами как за поножовщины простонародья, так и за поединки аристократии. А учитывая умение всех трёх венценосцев жёстко и бескомпромиссно наводить порядок, все эти кары были не гипотетическими, как, скажем, беззубые угрозы итальянских ордонансов, а вполне реальными и осязаемыми. Что ослушники быстро ощутили на своей шкуре. Длительные тюремные сроки, тяжёлые каторжные работы, жуткие наказания Петровских указов и голландских кодексов, предусматривающие прибивание руки и другие варварские пытки, и, разумеется, смертная казнь, ставшая близкой как никогда, быстро отбили у потенциальных бретёров любое желание хвататься за ножи. Конечно, сии суровые меры были обусловлены вовсе не отеческой заботой правителей о здоровье своих граждан. Как известно, абсолютные монархии всегда славились тотальным контролем жизни своих подданных. И среди первоочередных задач каждого мудрого и дальновидного правителя первыми пунктами всегда стояли разоружение граждан и единоличное принятие решений об их жизни и смерти. Так как участие и в народных поединках и в дуэлях аристократии нарушало сразу оба пункта, радостного ажиотажа у монархов-монополистов это не вызывало. Их неблагодарные подданные изрезанные ножами или заколотые шпагами покидали этот мир по-английски, не получив на то соизволения венценосца и выскальзывали из-под монаршей опеки, грубо нарушая при этом государственную монополию на убийство.
Другим немаловажным фактором во всех трёх монархиях стала функциональная судебная система, предлагавшая преследование по закону за оскорбления и клевету в качестве достойной и главное легитимной альтернативы поножовщине. Дела в судах рассматривались быстро, и наказания не заставляли себя ждать. И, разумеется, свой вклад в формирование кредита доверия и законопослушности граждан внесла сильная исполнительная власть, чётко и своевременно обеспечивавшая соблюдение законов и служившая символом неотвратимости наказания. Суровость российского закона славилась далеко за пределами страны. Как в 1893 году писал Редьярд Киплинг в своих прославленных «Стихах о трёх котиколовах»: «Ибо русский закон суров — лучше пуле подставить грудь, чем заживо кости сгноить в рудниках, где роют свинец и ртуть». Таким образом, благодаря усилиям монархов, сильной исполнительной власти и судам, в Англии и Франции в XVII столетии, а в России в начале XVIII века, все виды поножовщин ушли в прошлое. В то время как жители Средиземноморья и Латинской Америки продолжали насаживать друг друга на ножи, граждане этих трёх стран дрались на кулачках, строчили на обидчиков кляузы, и тащили их в суд.
Ещё одним крайне важным свидетельством могут считаться многочисленные воспоминания как российских авторов, так и иностранцев, живших и работавших в России, либо путешествовавших по Российской империи в XVII–XIX вв. Среди этих мемуаров, бытовых зарисовок, очерков и путевых заметок масса уникальных и достоверных сведений о русской культуре, обычаях и традициях. Нередко эти свидетельства служат единственным достаточно объективным источником информации о той эпохе. Так, например, многие из этих работ детально описывают кулачные бои — технику, тактику, а также, ритуалы и обряды, окружавшие эти поединки. Однако, ни один из авторов ни словом не упоминает о поединках на ножах и уже тем более о каких-либо школах или системах. Более того, нередко они акцентируют внимание на том, что поножовщина для этих мест нехарактерна, и что русские в силу незлобивого национального характера скорее склонны к безобидным развлечениям. С чем были полностью согласны и российские авторы. Так, например, в изданной в Москве в 1827 году работе «Москва, или исторический путеводитель по знаменитой столице» мы читаем: «К сему последнему роду оружия надлежит присоединить большие ножи, носимые предками даже до времён Петра I за поясом, и кинжалы, заимствованные от Татар; они т. е. ножи и кинжалы также не употреблялись в битвах, но служили предкам нашим в дорогах и охоте таким оружием, которое только в крайней нужде (курсив мой. — Д.Ч.) могло быть защитою».
Даже если чисто гипотетически предположить, что большинство этих работ писалось тотально лояльными к государству Российскому иностранцами, и они просто обходили «опасную» тему, дабы угодить государю и не портить светлый образ страны, есть одно но. Как прекрасно известно, Россия и в XVII и в XVIII вв. была наводнена не только дружественными «варягами», но и иезуитами, шпионами Англии и других держав и прочими недругами всех мастей. И все эти враги православной веры и государства Российского, обнаружив следы такой варварской и дикой традиции, ни за что не упустили бы шанс отметить этот вопиющий факт, свидетельствующий об «отсталости и нецивилизованности» россиян, в своих отчётах. Как это регулярно делали англичане в Голландии, Испании, Италии или странах Латинской Америки. Однако, этого не произошло. Иноземцы не удостоили ножи ни словом. Обошли эту тему вниманием и российские источники. Что не может не привести к вполне определённым и закономерным выводам, к которым, полагаю, придёт и мой читатель. Быть может, мифические мастера столетиями практиковали сложные и изощрённые техники ножевого боя, оставаясь при этом совершенно незамеченными и невидимыми? Военные за плотно закрытыми дверьми казарм? Казаки в своих станицах на далёком Дону, Тереке и Кубани? Помилуйте, дорогие читатели! Версии о «военном» или «казачьем» ножевом бое не выдерживают никакой критики. Все прекрасно помнят, какие жуткие кары предусматривал за поножовщины Военный устав Петра Первого для служилых людей. Также уместно будет вспомнить, что традиционные юридические обычаи казачества нередко были не менее жестокими. Так, согласно законам Запорожской сечи, убийцу живьём бросали в вырытую могилу, сверху ставили гроб с его жертвой и яму засыпали. Кроме этого, даже человек бесконечно далёкий от военного дела в первую очередь задастся вопросом: а для чего, например, тому же казаку, обвешанному оружием как новогодняя ёлка игрушками — пикой, ружьём, шашкой или саблей, сложные техники ножевого боя?! Где и с кем лёгкая кавалерия должна была устраивать поединки на ножах? Предварительно зачем-то спешившись, затем отбросив ружьё, пику и шашку. Кстати, этот же вопрос я неоднократно задавал филиппинским гуру. И никто из них не смог связно ответить на вопрос, для чего полуголому воину — моро, с головы до ног обвешанному невероятным количеством метательного, рубящего, режущего и колющего оружия, сложные техники ножевого боя. И это в диких джунглях Минандао, где никогда не было никаких законов, и куда старались не соваться ни испанцы, ни, позже, американцы. Уже и не говоря о том, для чего в муссонных лесах и мангровых зарослях воинам вооружённым длинными и массивными мечами — баронгами, кампиланами и боло, понадобились такие сложные конструкции, как маленькие складные ножи-бабочки «балисонг», которые сегодня принято считать визитной карточкой филиппинских боевых искусств. Ведь прекрасно известно, что в первую очередь складной нож, это традиционное и типичное городское оружие. Но что более существенно, это оружие, специально разработанное и предназначенное для скрытого ношения, появление которого обусловлено исключительно законодательными ограничениями! Кто, что и от кого собрался прятать в набедренной повязке в непроходимых джунглях?! И зачем воину с огромным мечом, копьём, луком и полуметровыми ножами — крисом и боло, изящный и субтильный перочинный складной ножик, причём, в отличие от криса, не несущий абсолютно никакой сакральной нагрузки, сие есть коммерческая тайна, покрытая коммерческим мраком.
Возвращаясь к казакам, думаю, уместно будет вспомнить и свидетельства очевидцев, — русских офицеров, воевавших вместе с испанцами против Наполеона, которые отмечали, что донские и украинские казаки старались не связываться с испанцами и их ножами, и уступали в споре при первых признаках близящейся поножовщины. Что также потверждает всё вышесказанное.
Ещё одним фактором, который следовало бы упомянуть, стало отсутствие в России рыцарской культуры, а, следовательно, не было и необходимого для появления дуэлей моделеобразующего слоя — то есть, класса, прослойки или социальной группы, служащей образцом для подражания. В отличии, скажем, от стран Средиземноморья, где долгие столетия рыцарство со своим кодексом чести являлось доминирующим классом, и где низшие классы копировали их этические нормы, традиции и ритуалы. Как я уже говорил, тут нет знаков плюс или минус, это специфика процесса исторического развития, который, как известно, двигался весьма извилистыми путями. Так, например, Норберт Элиас в работе «О процессе цивилизации» отмечал, что также и в Китае моделеобразующим слоем стал не класс воинов, а миролюбивое учёное чиновничество. Мне могут возразить, что, скажем, на Ионических островах рыцарство как моделеобразующий слой также отсутствовало. Да, это верно. Своя островная аристократия на дуэлях не дралась. Но нельзя забывать, что многие столетия там безраздельно царила воинственная Венецианская республика. Что оставило свой след не только в менталитете ионийцев, но также и в островной моде, и в оружии. На многочисленных гравюрах и литографиях мы видим ионийцев, одетых в венецианские костюмы, с венецианскими масками на лицах и с генуэзскими ножами в руках.
И, разумеется, архиважным фактором является интерпретация концепции личной чести в России в XVII-XVIII веках — в эпоху расцвета народных дуэлей в странах Запада. Привить гражданам государства российского персонифицированное чувство чести — той самой личной чести европейского образца, безуспешно пытался ещё просвещённый государь Пётр Алексеевич в первой четверти XVIII столетия. Однако все его усилия оказались тщетны. Даже дворянство и офицеры встретили личную честь — этот диковинный заморский продукт, достаточно холодно, и, как заметила Нэнси Коллманн, рассматривали её как ненужную иностранную аффектацию. Крайне любопытное свидетельство мы находим в работе «Россия при Петре Великом», изданной на русском языке в 1874 г. Это воспоминания Иоганна-Готгильфа Фокеродта — секретаря прусского посольства в России в 1717–1733. Так в 1737 году Фокеродт писал: «Вообще изо всех иноземных выдумок для Русских нет ничего смешнее, как если станешь говорить им о чувстве чести… От того-то Петр 1-й ни при одном своем Указе не нашел такой охотной покорности, как при запрещении поединков, да и по сю пору никто из Русских Офицеров не подумает требовать удовлетворения бесчестия, нанесеннаго ему равным лицом, а строго следует предписанию Указа о поединках, повелевающаго оскорбленной стороне подавать в подобных обстоятельствах жалобу…». Конечно, факторов значительно больше, и здесь я привёл лишь основные и самые существенные из них.
Поножовщины для России явление нехарактерное, и их появление тесно связано с распространением хулиганства и с общей маргинализацией общества в первом десятилетии XX века. Основные факторы, способствовавшие появлению в России деревенского и городского хулиганства, я постарался достаточно подробно изложить в главе, посвящённой финской ножевой культуре. Кстати, большую часть произведений о «верной финке», которые сторонники теории «традиционного русского ножевого боя» любят использовать в качестве иллюстраций, якобы свидетельствующих о древности традиций, учёные-фольклористы и культурологи относят к дворовому «эпосу» 30-50-х годов XX столетия.
Существует множество фундаментальных работ, рассматривающих и анализирующих все аспекты истории поединков в России. Это труды Ю. М. Лотмана, книги А.В Вострикова, А. Кацуры, Р Хоптона, И. Рейфман, и фундаментальное исследование интерпретации личной чести в России Н. Ш. Коллманн. Поэтому, подробней останавливаться на всех многочисленных факторах я не стану.
Также уместно будет рассмотреть распространённое в определённых кругах мнение об абсолютной бесполезности опыта ножевого боя народов Средиземноморья применительно к «современным реалиям». Так как мне нередко приходилось сталкиваться с этой точкой зрения, остановимся на этом утверждении подробней. Как читатель мог заметить, большинство культур поединков на ножах в течение всех пяти веков своего существования, были преимущественно городскими. Чем же так кардинально могли отличаться люди европейских мегаполисов XVII или XIX столетия от наших современников? Антропометрическими данными? Да нет, в среднем и рост и вес, а также скорость рефлексов соответствовали нашим параметрам. Человеческая анатомия за последние пятьсот лет тоже не менялась — всё те же мышцы, связки, сухожилия, кровеносные сосуды и внутренние органы. Всё те же массивные кровопотери при перебитой подключичной или бедренной артерии, как и от удара сикой траекса две тысячи лет назад и всё те же перитониты от удара современной «Спайдеркой» в живот, как и в XVIII веке от удара навахой. И жили они в таких же каменных многоэтажных коробках на улицах мегаполисов. Надевали такие же брюки, куртки и пальто, курили всё те же трубки и сигары. Носили большие ножи там, где это позволял закон, и складные скрытого ношения там, где закон был более суров. Их родные города также задыхались от преступности, улицы были забиты асоциальными иммигрантами, а кровавые межэтнические конфликты были привычным антуражем повседневной жизни. Так в чём же выражаются эти загадочные «современные реалии», позволяющие отбросить прекрасно описанный и кодифицированный опыт многих поколений искусных бойцов, накопленный в течение столетий? Уже и не говоря об игнорировании такого бесценного источника информации, как живая и непрерывная традиция. На самом деле, история о некой исключительности и уникальности «современных реалий» не более чем миф, заботливо культивируемый отцами-основателями всевозможных «смертоносных» доморощенных систем ножевого боя, появившихся в последнее десятилетие на волне моды и интереса к этому направлению боевых искусств.
Ещё одно не менее популярное и устойчивое заблуждение, которое гласит, что «никакого ножевого боя в Европе не было», а если даже и был, то «ничего не сохранилось», смею надеяться, в этой книге мне удалось развеять. Традиция не прерывалась, сохранилась и процветает. А в последние годы, благодаря усилиям энтузиастов и популяризаторов, постепенно, шаг за шагом, начинает выходить из тени и покидать анклавы закрытых сообществ. Конечно, в силу объективных причин, массовая культура народных дуэлей на ножах вряд ли возродится в той форме, в которой она существовала последние столетия. Однако, эта развитая и крайне любопытная боевая традиция может сохраниться в демонстрационной или спортивной ипостаси.
Покончив с историей появления и исчезновения культур ножа и с другими столь же эпохальными темами, мы можем обратить взоры к вопросу может и не столь глобальному, но крайне волнующему многих современных поклонников боевых искусств. А именно, как выглядел тот единственно правильный всамделишный «боевой» нож. Можно с уверенностью сказать, что в странах и культурах, где существовали развитые традиции ножевого боя и нож являлся примарным, а нередко и единственным доступным оружием, на размеры, форму, конструкцию и другие характеристики влиял один и только один фактор: законы. Как только в какой-либо из стран власти запрещали простонародью носить шпаги, мечи и другое длинноклинковое оружие, оставив его лишь во владении аристократии или военных, тут же вставал актуальный вопрос: на чём драться? Шпаги отняли, но личная честь то осталась, и всё также нуждалась в защите. Следовательно, необходим был некий суррогат длинного клинка, на роль которого и было избрано дешёвое и легитимное подручное оружие — нож. Как его метко называли итальянцы, «народная шпага», или «меч бедняков». Хочу обратить внимание читателей, на крайне важный факт — выбор пал не на дубинку, кистень, или другие традиционные виды народного оружия, а именно на нож. И, как я уже отмечал, выбор этот был далеко не случаен, и в основе его лежат вовсе не рациональные соображения. Нож стал суррогатом рыцарского меча и также как и меч нес важную смысловую нагрузку и служил сакральным символом.
Если взглянуть на иконографические источники и почитать свидетельства очевидцев и участников этих поединков, то из них следует, что народные дуэлянты по возможности всегда старались использовать ножи максимально большого размера. Разумеется, как я уже говорил, в первую очередь размеры и конструкция гражданского оружия регулировались законодательством данной страны и эпохи. А так же, это зависело от строгости, или, наоборот, от попустительства исполнительной власти. Конечно, существовали и другие факторы, такие как мода, доступность, эстетические требования, сакрализация, и т. д. Но в странах с развитой ножевой культурой все эти факторы были вторичны и не оказали существенного влияния на генезис дуэльных ножей. Именно вследствие ужесточения законодательства итальянцы были вынуждены сменить своих «генуэзцев» и «трианголо» на складные ножи, а позже и на ножи без острия и опасные бритвы. Как и испанцы и греки-ионийцы. Только законодатели, и никто иной, ещё в XVII веке лишили европейских крестьян их традиционного оружия самообороны, длинных ножей — кордов, ругеров, хаусверов и бауэрнверов. Из-за ужесточения законов даже дикие гаучо, привыкшие к вольнице пампы, ближе к концу XIX века заменили свои огромные каронеро, даги и факоны, маленькими «верихеро» и карманными складными ножами. Короче говоря, перефразируя пословицу «шерше ля фам», можно резюмировать, что в этом случае всегда необходимо искать соответствующий закон, ответственный за эти метаморфозы. Любое, даже самое мелкое и вроде бы несущественное изменение в конструкции гражданского оружия, — в данном случае ножей, практически всегда было обусловлено лишь изменениями в законодательстве. Но как только в силу каких-либо причин происходила либерализация законодательных ограничений, все дуэльные ножи, вне зависимости от страны, эпохи и культурных традиций приводились к общему знаменателю, и становились похожи на один единственный образец: большой мясницкий нож с клинком в 30–70 см, и односторонней или полуторной заточкой. То есть, именно на те, европейские крестьянские ножи XIII-XVII веков — ругеры и хаусверы, послужившие прототипом для большинства гражданских боевых ножей Европы Нового времени. Большой остроконечный нож мясника появился ещё в античности как специализированный инструмент для работы с мясом, и был идеально приспособлен для максимально лёгкого и комфортного проникновения в плоть, и рассечения мышц, связок и сухожилий. Дизайн клинков и рукояток этого типа ножей хотя и выкристаллизовался ещё в раннее Средневековье, но ни разу не менялся за прошедшую тысячу лет и дошёл до наших дней практический первозданном виде. Это доказывает, что подобная форма была признана оптимальной для любых манипуляций с «мясом». Что также подтверждается данными судебной статистики за последние три столетия: ни для кого не станет ни секретом, ни откровением, что в 98 % инцидентов с использованием ножей фигурируют «кухонники». Уже к середине XVIII века на большинстве зарисовок из судебных дел, мы видим именно кухонные ножи. Следует отметить, что статистика эта охватывает не только Европу и Латинскую Америку, но и большинство других стран мира. Причём, согласно всё тем же статистическим данным, кухонные ножи используются не только в случае ранений и убийств на бытовой почве, но и держат пальму первенства в конфликтах организованных преступных группировок, как в Европе, так и в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. И эта популярность легко объяснима. Ни одно другое гражданское холодное оружие (возможно, за исключением топора) настолько не сочетает в себе эргономичность, универсальность, смертоносность, доступность и главное, легитимность. В метафорическом смысле, большой кухонный нож можно сравнить с акулой — оба вида в процессе длительной эволюции превратились в идеальное орудие убийства. Вторым, не менее популярным типом дуэльного (боевого) ножа, являлись различные вариации на тему классического кинжала. Однако, опять же, в силу законодательных ограничений в большинстве стран, кинжальные клинки с двусторонней заточкой обычно были недоступны на рынке гражданского оружия. Поэтому кинжалы, как правило, использовались лишь в рамках замкнутых групп. Практически во всех странах Европы легитимное ношение кинжалов было ограничено военными, и иногда аристократией. Исключением становились члены организованных преступных сообществ, бандиты, разбойники и маргиналы всех мастей, а также горцы, пастухи, островитяне и другие жители труднодоступных в силу тех или иных причин районов, диких вольниц, куда не дотягивались длинные руки Фемиды. Иногда ношение кинжалов считалось относительно легитимным в регионах, где они являлись частью национального костюма. Как, например, скиан ду шотландцев.
Разумеется, нельзя оставить без внимания и такую волнующую многих поклонников боевых искусств «сакральную» тему, можно сказать, священную корову боевых искусств последних десятилетий, как «специальный нож для ножевого боя». Датой рождения этого удивительного продукта коммерческой мысли можно считать середину 70-х годов двадцатого столетия. Именно в этот период на быстрорастущем американском рынке боевых искусств первые осторожные шаги делали внезапно материализовавшиеся из небытия филиппинские гуру, вдохновленные коммерческим успехом своих более удачливых и расторопных коллег из Гонконга. Однако, настоящий прорыв в формировавшейся нише «специальных боевых ножей» произошёл лишь через несколько лет, в 1981 году, когда на экраны вышел уже ставший культовым фильм «Рембо: Первая кровь», снятый по одноимённому роману Дэвида Моррелла с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Специально для этого фильма легендарный арканзаский ножедел Джимми Лайл разработал зловещего вида нож, снабжённый не менее жуткой пилой. Нож, который был сделан огромным, чтобы эффектней смотреться на широком экране, немедленно стал главным объектом вожделения всех пубертальных мальчуганов Соединённых Штатов. Полагаю, что именно ножи Лайла инспирировали голливудскую моду вооружать героев ножами, а позже и пистолетами, гипертрофированного размера. Например, такими любимцами режиссёров блокбастеров, как «Дезерт Игл». Однако, к концу 90-х практически каждый юный американский владелец подростковых прыщей, очков и брекетов на передних зубах, обзавёлся «Настоящим ножом Рембо», с которым они горделиво восседали во время семейных барбекью на заднем дворике отчего дома где-нибудь в Нью-Джерси. Все эти годы коммерческий успех фантазийного торгового артикля «Нож Рембо» не давал покоя бесчисленным мастерам и гуру боевых искусств, и лишал их сна. К этому моменту поколение «Рембо» выросло, сам героический персонаж эпопеи несколько поизносился, да и былой блеск его ножа померк. Этим мгновенно воспользовались отцы-основатели всевозможных стилей и направлений многочисленных единоборств, обосновавшихся на бескрайних просторах Нового света. Вскоре среди мастеров БИ не иметь разработок «Специального Ножа Для Ножевого Боя» стало считаться моветоном и верхом неприличия. Выпуск ножа собственного дизайна стал в этих кругах символом успеха, окончательной вехой в реализации гуру и некой символической вишенкой на торте его карьеры. Однако, в отличие от изделий Лайла, за этими ножами не стоял такой мощный бренд как «Рембо», поэтому для продвижения авторских креативов была избрана другая эффективная и проверенная временем стратегия: легендирование и мифологизация. В бесчисленных видеоуроках, распространявшихся в 80-е-90-е годы на кассетах VHS, суровые небожители рассказывали восторженно застывшим у экранов ламповых телевизоров подросткам о суровых реалиях «Настоящего Ножевого Боя». Которым, разумеется, идеально соответствовал именно этот загадочный предмет в их руках, менее всего напоминавший нож, зато наводивший на мрачные мысли о зулусской мифологии. Благодаря тому, что основная целевая группа — подростки с папиными кредитками, жертвы конспирологии в шапочках из фольги и фрустрированные офисные клерки всегда наличествуют в достатке, тенденция эта оказалась устойчивой, концепция удивительного «чудо-оружия» перекочевала в Европу и благополучно дожила да наших дней. Разумеется, это нельзя назвать ноу-хау, так как подобная система продаж практикуется уже не первое столетие. Вот так же когда то пронырливые негоцианты их Шеффилда, Золингена, Тьера и Бирмингема, в торговых факториях Дикого Запада ловко сбывали доверчивым простакам излишки кухонных и столовых ножей и прочего железного лома, под маркой «Смертоносных Ножей Боуи». А их коллеги по ремеслу в это же время обхаживали гаучо, и заваливали столовым неликвидом Латинскую Америку.
Однако, в заключение, всё же хочу заметить, что вовсе не развенчивание и ниспровержение мифов являлось основной целью моей книги. Я всего лишь попытался заполнить информационную лакуну, для чего и пришлось развеять многочисленные заблуждения, основанные на умозрительных предположениях о том «как могло бы быть» и рассказать, как всё было на самом деле. Надеюсь, для многих читателей эта книга откроет доселе неизвестные страницы европейской истории и позволит взглянуть на многие аспекты народной культуры Европы в другом свете.
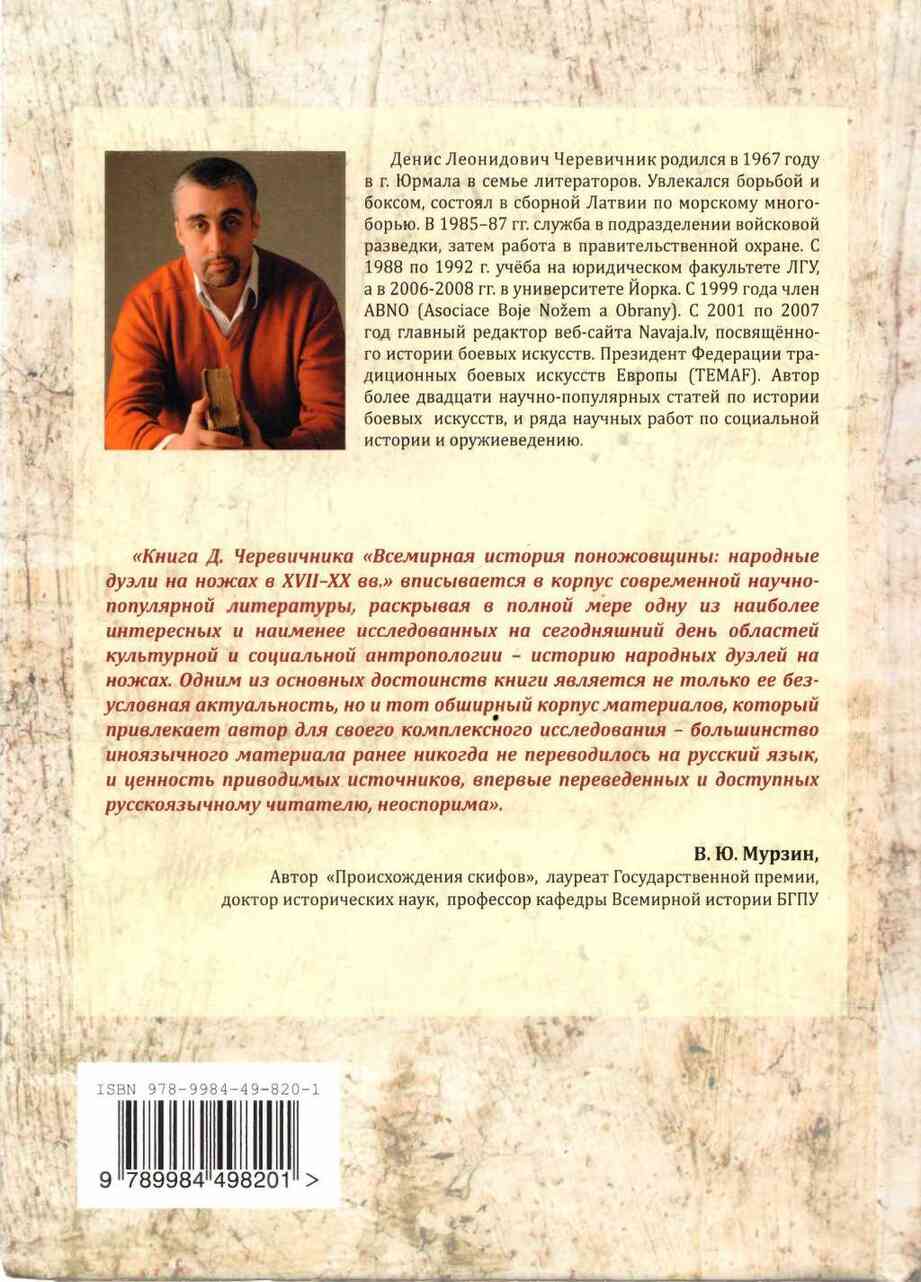
Примечания
1
Stevenson, Robert Louis. Treasure island, Robert brothers, Boston (1884), pp. 214-216.
(обратно)
2
Salgari Emilio. II Corsaro Nero, Roma (1996).
(обратно)
3
Лорка, Гарсиа Ф. Избранное: стихи, театр, статьи. Сост. и предисл. Е. Стрельцовой, оформл. Н. Старцева. - М.: Московский рабочий, 1983. - С. 57.
(обратно)
4
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 2007. - С. 51-52.
(обратно)
5
Кибалова Л., Гербенова 0., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Перевод на русский язык И. М. Ильинской и А. А. Лосевой в 1986 г. - Прага: Артия,1987. - 608 с.
(обратно)
6
Codex Wallerstein, Vom Baumans Fechtbuch (1549), 74 V.
(обратно)
7
Боткин, В. П. Письма об Испании. В типографии Эдуарда Праца. - СПб, 1857. - 450 с.
(обратно)
8
Дефурно Марселей. Повседневная жизнь Испании Золотого века. - М.: Молодая гвардия, 2004. - С. 41-42.
(обратно)
9
Там же. - С. 42.
(обратно)
10
Там же. - С. 42.
(обратно)
11
Там же. - С. 44-45.
(обратно)
12
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 2007. - С. 227.
(обратно)
13
Там же. - С. 227.
(обратно)
14
Cancionero general: que contiene muchas obras cte diuersos autores antiguos, con algunas cosas nueuas de modernos, de nueuo corregido у impresso. En Anuers: en casa de Philippo Nucio, a la ensena de las dos Ciguenas (1573), p. 78.
(обратно)
15
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London(1855), Part II, p. 205.
(обратно)
16
Cervantes, Saavedra Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, Madrid(1605).
(обратно)
17
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London(1855), Part I, p. 205.
(обратно)
18
Дефурно Марселей. Повседневная жизнь Испании Золотого века. - М.: Молодая гвардия, 2004. - С. 282.
(обратно)
19
Davillier, Charles. Spain. London, Bickers & Son (1881), p. 218.
(обратно)
20
Дефурно Марселей. Повседневная жизнь Испании Золотого века. - М.: Молодая гвардия, 2004. - С. 282.
(обратно)
21
Neuman, Henry, Baretti, Giuseppe Marco Antonio. A pocket dictionary of the Spanish and English languages, In two parts, London (1823), p. 36.
(обратно)
22
Scott, Samuel Parsons. Through Spain: a narrative of travel and adventure in the Peninsula. J. B. Lippincott Company (1886), p. 132.
(обратно)
23
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), pp. 380-381.
(обратно)
24
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London (1855), Part I, p. 205.
(обратно)
25
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 384.
(обратно)
26
Ibid., p. 383.
(обратно)
27
Ibid.,
(обратно)
28
Larra, Mariano Jose de. Figaro. Los barateros, о el desafio у la репа de muerte. / Colec-cion de articulos dramaticos, literarios, politicos у de costumbres, Madrid (1837), Tomo quarto, pp. 145-152.
(обратно)
29
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton., Premier Semestre (1865), p. 376.
(обратно)
30
Боткин В. П. Современник № XI, ноябрь. Письма об Испании. - Спб.: В типографии Эдуарда Праца, 1849. - С. 4.
(обратно)
31
Herreros, Manuel Breton de los. Obras de Don Manuel Breton de los Herreros, de la Real Academia Espanola, Madrid (1851), p. 346.
(обратно)
32
Ibid., pp. 380-381.
(обратно)
33
Boime, Albert. Art in an age of Bonapartism, 1800-1815, The University of Chicago Press, Chicago (1993), pp. 222-225.
(обратно)
34
Ibid., p. 223.
(обратно)
35
Ibid., p. 235.
(обратно)
36
Боткин В. П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигильский: Серия “Литературные памятники”. - Л.: Наука, 1976. - С. 83.
(обратно)
37
Gautier, Theophile. Wandering in Spain, Ingram, Cooke, and Co (1853), p. 169.
(обратно)
38
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 375.
(обратно)
39
Сааведра, Мигуэль де Сервантес. Сочинения. Серия: Золотой том. - М.: Олма-Пресс, 2002. - С. 587-588.
(обратно)
40
Там же. - С. 806.
(обратно)
41
Monnier, Marc. La camorra: mysteres de Naples, Paris (1863), p. 132.
(обратно)
42
Ibid., p. 132
(обратно)
43
The Nun Ensign. Translated from the Spanish with an introduction and notes by James Fitzmaurice-Kelly, T. Fisher Unwin, London (1908), p. 162.
(обратно)
44
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 4.
(обратно)
45
Harper's magazine, Volume XXVII, New York (1863), p. 31.
(обратно)
46
Weyrauch, Walter Otto. Gypsy law: Romani legal traditions and culture, 1st edition, University of California Press, LA, (2001), p. 203.
(обратно)
47
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton. Premier Semestre (1865), pp. 382-383.
(обратно)
48
Боткин В. П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигильский: Серия "Литературные памятники". - Л.: Наука, 1976. - С. 83.
(обратно)
49
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 378.
(обратно)
50
Nixon-Roulet, Mary F. The Spaniard at home, A. C. McClurg & со, Chicago (1910), pp. 303-304.
(обратно)
51
The New York Times, 23 April 1899.
(обратно)
52
Edwards, William H. A voyage up the River Amazon: including a residence at Para, J. Murray, London (1847), p. 109.
(обратно)
53
Хаттон, Альфред. Холодное оружие Европы. Приёмы великих мастеров фехтования. Пер. с англ. И. А. Емеца. - М.:Центрполиграф, 2008. - С. 21-22.
(обратно)
54
Немирович-Данченко, В. И. Очерки Испании. Из путевых воспоминаний. В 2 т. - Т. I. - М.: Елизавета Гербек, 1888. - С 227.
(обратно)
55
Amicis, De Edmondo. Spain and the Spaniards, In Two Volumes, H. T. Coates & Co, Philadelphia (1895), Vol. II, pp. 272-273.
(обратно)
56
Urquhart, David. The pillars of Hercules: or, A narrative of travels in Spain and Morocco in 1848, In Two Volumes, Harper & Brothers, New York (1850), Vol. II, p. 386.
(обратно)
57
Неведомский, H. В. Отрывки из истории партизанов Пиренейского полуострова. //Современник, 1839. - Т. 15. - Ч. 5. - С. 15.
(обратно)
58
Боткин В. П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигильский: Серия "Литературные памятники". - Л.: Наука, 1976. - С. 13.
(обратно)
59
Crawford, Lieut. Col. Grenadier Guards. Stories of Spanish life. // The Monthly Review, E. Henderson, Old Bailey, London (1837), Vol. 3, pp. 381-382.
(обратно)
60
J. M. M. Spaniards. // Appletons' journal: a magazine of^general literature. - 1874. Vol. II, № 267. - pp. 564-565.
(обратно)
61
Сергеенко M. E. Жизнь древнего Рима. - СПб.: Издательско-торговый дом "Летний Сад"; Журнал "Нева", 2000. - С. 107.
(обратно)
name=t78>
62
Ливий, Тит. История Рима от основания города. В 3 т. Переводы под ред. М. Л. Гаспарова, Г. С. Кнабе, В. М. Смирина. Отв. ред. Е. С. Голубцова. (Серия «Памятники исторической мысли»). Т. 2. Кн. XXV. - М.: Наука, 1991. Т. 2. - С. 204.
(обратно)
63
Manual del baratero, о, Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 19.
(обратно)
64
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 7.
(обратно)
65
Peterson, Harold. Leslie. Daggers and Fighting knives of the Western World. From the Stone Age to 1900, Dover Publications Inc, New York (2001), p. 68.
(обратно)
66
Boletin bibliografico espanol у estranjero, Tomo X, Imprenta de Beneses, Madrid (1849), 1084, p. 291.
(обратно)
67
Boletm de la Real Academia Espanola, Real Academia Espanola (1970), Vol 50, p. 563566.
(обратно)
68
Ibid.
(обратно)
69
Ibid., р. 565.
(обратно)
70
Самойлов. Д. Наваха: мифы и реальность. // Прорез. -2006. -№ 5. -С. 27.
(обратно)
71
Manual del baratero, о, Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 20.
(обратно)
72
Gautier, Theophile Wandering in Spain, Ingram, Cooke, and Co, London (1853), p. 216
(обратно)
73
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 2007. - С. 227.
(обратно)
74
Там же. - С. 105
(обратно)
75
Мериме Проспер. Новеллы. / Перевод с французского. Комментарии А. Михайлова. - М.: Художественная литература, 1978 г. -349 с.
(обратно)
76
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 17, p. 42.
(обратно)
77
Rose, Hugh James. Untrodden Spain, and her black country, being sketches of the life and character of the Spaniard of the interior, Second Edition, Samuel Tinsley, London (1875), Vol. I, pp. 49-51.
(обратно)
78
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 13.
(обратно)
79
Edwards, William H. A voyage up the River Amazon: including a residence at Para, J. Murray, London (1847), p. 109.
(обратно)
80
Townsend, Joseph. A journey through Spain in the years 1786 and 1787, In three Volumes, C. Dilly, London (1792), Vol III, p. 102.
(обратно)
81
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 15.
(обратно)
82
Ibid., p. 21.
(обратно)
83
Ibid.
(обратно)
84
Ibid., p. 22.
(обратно)
85
Ibid., pp. 33-34.
(обратно)
86
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton., Premier Semestre (1865), p. 379.
(обратно)
87
Gautier, Theophile. Wanderings in Spain, Ingram, Cooke, and Co, London (1853), p. 155.
(обратно)
88
Rose, Hugh James. Untrodden Spain, and her black country, being sketches of the life and character of the Spaniard of the interior, Second Edition, Samuel Tinsley, London (1875), Vol. I, pp. 49-51.
(обратно)
89
Сааведра, Мигуэль де Сервантес. Сочинения. Серия: Золотой том. - М.: Олма-Пресс, 2002. - С. 475-476.
(обратно)
90
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), pp. 15-16.
(обратно)
91
Мериме Проспер. Новеллы. Перевод с французского. Комментарии А. Михайлова. - М.: Художественная литература, 1978 г. - 349 с.
(обратно)
92
Baroja, Julio Caro. Ensayo sobre literatura de cordel, Madrid (1990), p. 445.
(обратно)
93
Brea, Antonio de. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin, Imprenta real, Madrid (1805), p. 62-L16.
(обратно)
94
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 32.
(обратно)
95
Hutton, Alfred. The sword through the centuries, Dover Publications, Inc, Mineola (2002), p. 109.
(обратно)
96
J. M. M. Spaniards. // Appletons' journal: a magazine of general literature (1874). Vol 11 №267, pp. 564-565.
(обратно)
97
Urquhart, David. The pillars of Hercules: or, A narrative of travels in Spain and Morocco in 1848, Harper & Brothers, New York (1850), Vol. II, p. 386.
(обратно)
98
Crawford, Lieut. Col. Grenadier Guards. Stories of Spanish life. // The Monthly Review (1837), Vol. 3, p. 381-382.
(обратно)
99
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 35.
(обратно)
100
Burton, Richard Francis. The Book of the Sword, Chatto & Windus, London (1884), p. 18.
(обратно)
101
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London (1855), Part. II, p. 804.
(обратно)
102
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 379.
(обратно)
103
Боткин В. П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигильский: Серия "Литературные памятники". - Л.: Наука, 1976. - С. 433.
(обратно)
104
White, Joseph Blanco. Letters from Spain by don Leucadio Doblado, London (1822), p. 156.
(обратно)
105
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 45.
(обратно)
106
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages. De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 379.
(обратно)
107
Alvarez, Antonio Machado у (Demofilo). Cantes flamencos, Seville, Imp. у lit. de el porvenir (1881), p. 207.
(обратно)
108
Page, Camille. La Coutellerie depuis l'origine jusqu'a nos jours, la fabrication ancienne et moderne, par Camille Page, Publisher: impr. de H. Riviere, Chatellerault, (1896-1904).
(обратно)
109
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 18.
(обратно)
110
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London (1855), Part II, p. 804.
(обратно)
111
Urquhart, David. The pillars of Hercules: or, A narrative of travels in Spain and Morocco in 1848, in two Volumes, New York (1855), Vol II, pp. 235-237.
(обратно)
112
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 378.
(обратно)
113
Боткин В. П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигиль-ский: Серия "Литературные памятники". - Л.: Наука, 1976. - С. 83.
(обратно)
114
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 2007. - С. 121.
(обратно)
115
Петрушевский, Александр Фомич. Генералиссимус князь Суворов. В 3-х томах.Приложения к 3 тому. Приложение 11 к 28 главе. - СПб., 1884.
(обратно)
116
Сергеев-Ценский, С. М. Севастопольская страда: эпопея в трёх книгах. Ил. худож. П. Я. Павлинова. - М.: ОГИЗ: Гос. изд-во худож. лит., 1942. - С 208.
(обратно)
117
Еврипид. Трагедии. В 2 томах. “Литературные памятники". Т. 2. - М.: Наука, Ладомир, 1999. - С. 1400-1410.
(обратно)
118
Ливий, Тит. История Рима от основания Города. В 3 т. Т. 2. Кн. XXI-XXXIII. - М.:Наука, 1991.
(обратно)
119
Там же.
(обратно)
120
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos,Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 12-13.
(обратно)
121
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London(1855), Part II, p. 804.
(обратно)
122
Pabano, F. M. Historia у costumbres de los gitanos, coleccion de cuentos viejos у nuevos, dichos у timos graciosos, maidiciones у refranes netamente gitanos; diccionario espa-nol-gitano-germanesco, dialecto de los gitanos, Barcelona, Montaner у Simon (1915), p. 20.
(обратно)
123
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 14.
(обратно)
124
Гарсиа, Лорка Ф. Избранное: стихи, театр, статьи. Сост. и предисл. Е. Стрельцовой, оформл. Н. Старцева. - М.: Московский рабочий, 1983. - С. 53-73.
(обратно)
125
Испанские поэты XX века. / Пер. с исп. X. Р. Чименес, А. Мачадо, Ф. Г. Лорка, Р. Альберти, М. Эрнандес. - М.: Художественная литература, 1977. - 720 с.
(обратно)
126
Loriega, James. Sevillian Steel. The Traditional Knife Fighting Arts of Spain, PaladinPress, Boulder (1999), p. 43.
(обратно)
127
Agius, Dionisius A. Classic ships of Islam from Mesopotamia to the Indian Ocean, Brill Academic Publishers, Leiden (2008), p. 347-348.
(обратно)
128
Warren, Sam. Tales from the Tijuana Jailsf Warren Communications, San Diego (2008), p. 204.
(обратно)
129
Al-Makkari, Ahmed Ibn Mohammed. The history of Mohammedan dynasties in Spain, In Two Volumes, London (1840), Vol. I, p. 291.
(обратно)
130
Ibid., p. 41.
(обратно)
131
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 13.
(обратно)
132
Castillo, Bernal Diaz del. Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espana, EnMadrid, en la Imprenta del Reyno (1632), p. 21.
(обратно)
133
Espinar, Alonso Martinez. De Arte de Ballesteria у Monteria, En Madrid, en la Emprenta Real (1644), p. 27.
(обратно)
134
Oudin, Cesar. Tesoro de las dos lenguas, espanola у francesa, En Bruselas, En casa del dicho Juan Mommarte (1660).
(обратно)
135
Ibid.
(обратно)
136
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 13.
(обратно)
137
Moore, Simon. Table knives and forks, Shire Publications, Buckinghamshire (2006), p. 5.
(обратно)
138
Malcolm, Corey. Navajas of the Galleons. // The Navigator: Newsletter of the Mel Fisher Maritime Heritage Society (2005), Vol. 21, № 4, Fig. 1.
(обратно)
139
Alciato, Andrea, Emblematum libellus, Paris, Chrestien Wechel (1542), 20, XVI.
(обратно)
140
Alciato, Andrea, Emblematum liber, Augsburg, H. Steyner (1531).
(обратно)
141
Jose Sanchez Ferrer. Aportaciones al studio de la cuchilleria de albacete (I): noticia de dos piezas ineditas. // Al-Basit, Revista de studios albacetenes (2003), Norn. 47, pp. 219 227.
(обратно)
142
Aznar, Jose Aranda. Bandoleros, Diputacion de Ciudad Real, Area de Cultura, Madrid(1995), pp. 151-152.
(обратно)
143
The Advertiser (Adelaide, SA: 1889-1931), Monday 20 January 1902.
(обратно)
144
Riano, Juan Facundo. The industrial arts in Spain, Chapman & Hall, London (1890), p. 72.
(обратно)
145
Неведомский, H. В. Отрывки из истории партизанов Пиренейского полуострова. // Современник, 1839. -Т. 15. - Ч. 5. -С. 13-14.
(обратно)
146
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London(1855), Part II, p. 804.
(обратно)
147
Amicis, Edmondo de. Spain and the Spaniards, In Two Volumes, H. T. Coates & Co, Philadelphia (1895), Vol. II, p. 52.
(обратно)
148
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London(1855), Part II, p. 804.
(обратно)
149
Боткин В. П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигильский: Серия “Литературные памятники". - Л.: Наука, 1976. - С. 83.
(обратно)
150
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveaif journal des voyages, De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1864), p. 6.
(обратно)
151
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 99.
(обратно)
152
Ibid.
(обратно)
153
Ibid., p. 14.
(обратно)
154
Flores, Antonio. Doce espanoles de brocha gorda: novela de costumbres contem-poraneas, Segunda Edicion, Madrid (1848), p. 165.
(обратно)
155
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. EdouardCharton, Premier Semestre (1864), p. 5.
(обратно)
156
Komlos, John, Baten Joerg, The biological standard of living in comparative perspective, Stutgart, Steiner (1998), p. 109.
(обратно)
157
Gautier, Theoph'iie. Wandering in Spain, London (1853), p. 155.
(обратно)
158
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. EdouardCharton, Premier Semestre (1864), p. 6.
(обратно)
159
Townsend, Joseph. A journey through Spain in the years 1786 and 1787, C. Dilly, London (1792), Vol III, p. 102.
(обратно)
160
Forton, Rafael Martinez Del Peral. La navaja espanola Antigua, Madrid (1980), p. 190.
(обратно)
161
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton. Premier Semestre (1864), p. 6.
(обратно)
162
Amicis, Edmondo de. Spain and the Spaniards, In Two Volumes, H. T. Coates & Co, Philadelphia (1895), Vol. II, pp. 135-136.
(обратно)
163
Frost, Lawrence A. The Custer album: a pictorial biography of General George A. Custer, University of Oklahoma Press, Superior Publishing Company, Seattle (1990), p. 178.
(обратно)
164
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), pp. 18-19.
(обратно)
165
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London (1855), Part II, p. 803-804.
(обратно)
166
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 14.
(обратно)
167
Ibid., p. 14.
(обратно)
168
Peterson, Harold. Leslie. Daggers and Fighting knives of the Western World. From the Stone Age to 1900, Dover Publications, Inc, New York (2001), p. 68.
(обратно)
169
Неведомский, H. В. Отрывки из истории партизанов Пиренейского полуострова. // Современник, 1839. - Т. 15. - Ч. 5. - С. 14-15.
(обратно)
170
Неведомский, Н. В. Материалы русской истории: Последнее сражение Фигнера. Примечания из истории партизанов. // Современник, 1838. -Т. 9. -Гл. 5. - С. 29.
(обратно)
171
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 23.
(обратно)
172
Page, Camille. La Coutellerie depuis l'origine jusqu'a nos jours, la fabrication ancienne et moderne, par Camille Page, Publisher: impr. de H. Riviere, Chatellerault, (1896-1904), p. 1242.
(обратно)
173
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages. De M. Edouard Charton., Premier Semestre (1865), p. 379.
(обратно)
174
Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos,Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 41.
(обратно)
175
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 16.
(обратно)
176
Riano, Juan Facundo, The industrial arts of Spain, Chapman & Hall, London (1890), p.106.
(обратно)
177
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), pp. 41-42.
(обратно)
178
Ibid., p. 46.
(обратно)
179
Marrero, Alejandro C. Moreno y. Estudio juridico del cuchillo Canario. [Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Reader. - Режим доступа:http://www. infonortedigital. com/publicaciones/docs/49. pdf (дата обращения: 08. 06. 2010).
(обратно)
180
Ibid.
(обратно)
181
Ibid.
(обратно)
182
Baretti, Joseph (Giuseppe Marco Antonio Baretti). A journey from London to Genoa, through England, Portugal, Spain, and France, Printed for T. Davies, London (1770), Vol IV, pp. 85-86.
(обратно)
183
Adams, John. The flowers of modern travels, Boston (1816), Vol II, p. 13.
(обратно)
184
Боткин В. П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигиль-ский: Серия "Литературные памятники". - Л.: Наука, 1976. - С. 10.
(обратно)
185
Marrero, Alejandro С. Moreno у. Estudio juridico del cuchillo Canario. [Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Reader. - Режим доступа:http://www. infonortedigital. com/publicaciones/docs/49. pdf (дата обращения: 08.06.2010)
(обратно)
186
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 47.
(обратно)
187
Marrero, Alejandro C. Moreno y. Estudio juridico del cuchillo Canario. [Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Reader. - Режим доступа: http://www. infonortedigital. com/publicaciones/docs/49. pdf (дата обращения: 08. 06.2010)
(обратно)
188
Ibid.
(обратно)
189
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 47.
(обратно)
190
Marrero, Alejandro C. Moreno y. Estudio juridico del cuchillo Canario. [Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Reader. - Режим доступа: http://www. infonortedigital. com/publicaciones/docs/49. pdf (дата обращения: 08. 06.2010)
(обратно)
191
Ibid.
(обратно)
192
Ibid.
(обратно)
193
Ibid.
(обратно)
194
Ibid.
(обратно)
195
Ibid.
(обратно)
196
Ibid.
(обратно)
197
Ibid.
(обратно)
198
Ibid.
(обратно)
199
Ibid.
(обратно)
200
Ibid.
(обратно)
201
Ibid.
(обратно)
202
Ibid.
(обратно)
203
Ibid.
(обратно)
204
The New York Times, 30 December 1908.
(обратно)
205
Marrero, Alejandro C. Moreno y. Estudio juridico del cuchillo Canario. [Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Reader. - Режим доступа:http://www. infonortedigital. com/publicaciones/docs/49. pdf (дата обращения: 08.06.
(обратно)
206
Ibid.
(обратно)
207
Lombroso Cesare, Lombroso-Ferreo Gina. Criminal man, according to the classification of Cesare Lombroso, New York and London, G. P. Putnam, New York and London (1911), p. 32.
(обратно)
208
Marrero, Alejandro C. Moreno y. Estudio juridico del cuchillo Canario. [Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Reader. - Режим доступа: http://www. infonortedigital. com/publicaciones/docs/49. pdf (дата обращения: 08. 06. 2010)
(обратно)
209
Ibid
(обратно)
210
Ibid
(обратно)
211
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 2007. - С. 226-227.
(обратно)
212
Боткин В. П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигильский: Серия "Литературные памятники". - Л.: Наука, 1976. - С. 24.
(обратно)
213
Townsend, Joseph. A journey through Spain in the years 1786 and 1787, C. Dilly, London (1792), Vol III, p.103.
(обратно)
214
Капустин. M. H. Поездка в ИСпанию. // Русский вестник. Русский вестник. - М., 1858.-Том 18.-С. 195-196.
(обратно)
215
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London (1855), Part II, p. 804.
(обратно)
216
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 376.
(обратно)
217
Urquhart, David. The pillars of Hercules: or, A narrative of travels in Spain and Morocco in 1848, In Two Volumes, Harper & Brothers, New York (1850), Vol. II, p. 386.
(обратно)
218
Mackenzie, Alexander Slidell. Spain revisited, In two volumes, New-York, Harper & Brothers (1836), Vol. I, p. 309.
(обратно)
219
Duels between women. // Appleton's journal: a magazine of general literature, 1874, Vol. 11, №264, p. 469.
(обратно)
220
Отечественные записки. Год четвёртый. Том 24. - СПб.: Типография А. Бородина и Комп., 1842. - С. 72
(обратно)
221
Larra, Mariano Jose de. Figaro. Los barateros, о el desafio у la репа de muerte. // Col-eccion de articulos dramaticos, literarios, politicos у de costumbres, Tomo quarto, Madrid(1837), pp. 145-152.
(обратно)
222
Неведомский, H. В. Отрывки из истории партизанов Пиренейского полуострова. // Современник. - СПб., 1839. - Т. 15. - Ч. 5. - С. 11.
(обратно)
223
Craik, George Lillie. The pictorial history of England. During the reign of George the Third, Charles Knight and Co, London (1844), Vol. IV, p. 316.
(обратно)
224
Boime, Albert. Art in an age of Bonapartism, 1800-1815, The University of Chicago Press (1993), Vol. II, pp. 309-310.
(обратно)
225
Булгарин, Фаддей. Воспоминания Фаддея Булгарина. // Библиотека для чтения. - СПб.: Типография Карла Края, 1848. - Т. 88. - С.. 81.
(обратно)
226
Боткин В. П. Письма об Испании. Издание подготовили: Б. Ф. Егоров, А. Звигильский: Серия "Литературные памятники". - Л.: Наука, 1976. - С. 75-77.
(обратно)
227
Неведомский, Н. В. Отрывки из истории партизанов Пиренейского полуострова. // Современник. - СПб., 1839. - Т. 15. - Ч. 5. - С 15.
(обратно)
228
Boime, Albert. Art in an age of Bonapartism, 1800-1815, The University of Chicago Press (1993), Vol. II, p. 309.
(обратно)
229
Неведомский, H. В. Отрывки из истории партизанов Пиренейского полуострова. // Современник. - СПб., 1839. - Т. 15. - Ч. 5. - С 11.
(обратно)
230
Там же. - С. 15.
(обратно)
231
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 36, Fig. 18.
(обратно)
232
Private correspondence with Mr. J. F. Lallard.
(обратно)
233
Buckham, E. W. Personal narrative of adventures in the Peninsula during the war in 1812-1813, By an officer Late in the staff corps regiment of cavalry, John Murray, London (1827), p.61.
(обратно)
234
Ibid., p. 60
(обратно)
235
Ibid., p.61
(обратно)
236
Chartrand, Rene. Spanish Guerrillas in the Peninsular War, 1808-14, Osprey Publishing, Oxford, UK (2004), p. 8.
(обратно)
237
Boix, Vicente. Historia de la ciudad у reino de Valencia, Imprenta de D. Benito Monfort, Valencia (1845), Tomo II, p. 178.
(обратно)
238
De la causa formada por el senor D. Joseph Maria Manescau, alcalde del crimen de la real audiencia de Valencia, por comision de la junta suprema de gobierno, contra el cano-nigo de s. Isidro, Don Baltasar Calbo, de orden de dicha junta suprema, Valencia (1808).
(обратно)
239
Миловидов, Б. П. Партизан А. С. Фигнер и военнопленные Великой армии в 1812-1813 гг. // Отечественная война 1812 г. и российская провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных коллекциях. - Малоярославец., 2007. - С. 157-176.
(обратно)
240
Там же.
(обратно)
241
Неведомский, Н. В. Материалы русской истории: Последнее сражение Фигнера. Примечания из истории партизанов. // Современник. - СПб., 1838. - Т. 9. - Гл. 5. - С.. 26.
(обратно)
242
Востриков, А., Грачёва,Е. Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII - начало XX века. // Россия / Russia. - М.: ОГИ, 1999. - Вып. 3 (11). - С. 101-127.
(обратно)
243
Там же.
(обратно)
244
Миловидов, Б. П. Партизан А. С. Фигнер и военнопленные Великой армии в 1812-1813 гг. // Отечественная война 1812 г. и российская провинция в событиях,человеческих судьбах и музейных коллекциях. - Малоярославец., 2007. - С. 157-176.
(обратно)
245
Неведомский, Н. В. Материалы русской истории: Последнее сражение Фигнера. Примечания из истории партизанов. // Современник. - СПб., 1838. - Т. 9. - Гл. 5. - С. 27
(обратно)
246
Там же. - С. 10.
(обратно)
247
Там же. - С. 29.
(обратно)
248
Там же. - С. 30.
(обратно)
249
Востриков, А., Грачёва, Е. Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII - начало XX века. // Россия / Russia. - М.: ОГИ, 1999. - Вып. 3 (11). - С. 104.
(обратно)
250
Миловидов, Б. П. Партизан А. С. Фигнер и военнопленные Великой армии в 1812-1813 гг. // Отечественная война 1812 г. и российская провинция в событиях,человеческих судьбах и музейных коллекциях. - Малоярославец., 2007. - С. 157-176.
(обратно)
251
Неведомский, Н. В. Материалы русской истории: Последнее сражение Фигнера. Примечания из истории партизанов. // Современник. - СПб., 1838. - Т. 9. - Гл. 5. - С. 30.
(обратно)
252
Там же. - С. 30.
(обратно)
253
«Газета», №216, 20.11. 2003.
(обратно)
254
Wood, Danny. Knife crime cuts a global trail. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://news. bbc. со. uk/2/hi/europe/7508418. stm (дата обращения: 15. 08.2010).
(обратно)
255
Cherry, Shai. Torah through time, The Jewish Publication Society, Philadelphia (2007), p. 80
(обратно)
256
Varriano, John L. Caravaggio: the art of realism, Pennsylvania State University Press (2006), p. 117.
(обратно)
257
Ibid., p. 117.
(обратно)
258
Robb, Peter. M: The Caravaggio Enigma: Reissued, Bloomsbury UK, London (2011), p. 299.
(обратно)
259
Simond, Louis . A tour in Italy and Sicily, London (1828), p. 227.
(обратно)
260
Hearn, Lafcadio. Lafcadio Hearn's America: ethnographic sketches and editorials, Edited by Simon J. Bronner, The University Press of Kentucky, Kentucky, Lexington, (2002), p. 64.
(обратно)
261
Smith, James Edward. A sketch of a tour on the continent, In three volumes, Second edition, London (1807), Vol. I, p. 233.
(обратно)
262
Sulivan, Richard Joseph. A view of nature, in letters to a traveller among the Alps: With reflections of atheistical philosophy, now exemplified in France, In 6 Volumes, Printed for T. Becket, London (1794), Vol. VI, p. 430.
(обратно)
263
Simond, Louis. A tour in Italy and Sicily, London (1828), p. 227.
(обратно)
264
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05. 2010).
(обратно)
265
Zanazzo, Giggi. Usi, costumi e pregiudizi del popolo di Roma, Societa tipografico-edi-trice nazionale, Torino (1908), p. 202.
(обратно)
266
Nicassio, Susan Vandiver. Imperial City: Rome Under Napoleon, The University of Chicago Press, Chicago (2009), p. 90.
(обратно)
267
Sala, George Augustus. Rome and Venice: with other wanderings in Italy, in 1866-7, London (1869), p. 431.
(обратно)
268
Ibid., p. 143.
(обратно)
269
Boschi, Daniele. Homicide and Knife Fighting in Rome, 1845-1914, in Spierenburg,P. (Ed.), Men and Violence: Masculinity, Honor Codes and Violent Rituals in Europe and America, 17th-20th Centuries, Columbus, Ohio, The Ohio State University (1998), p. 129.
(обратно)
270
Marozzo, Achille. Opera Nova dellArte delle Armi, Modena (1536).
(обратно)
271
Privat coresspondence with Mr. R. Laura.
(обратно)
272
Pangle, Thomas L. The laws of Plato, Translated with notes and an interpretive essay, by Thomas L. Pangle, London, The University of Chicago Press (1988), p. 516.
(обратно)
273
Kyriakos, Kassis, Mani's History, Athens: Presoft (1979), p. 28.
(обратно)
274
Greenhalgh, P. A. L. Eliopoulos, Edward. Deep into Mani: Journey to the Southern Tip of Greece, Faber and Faber (1985), p. 26.
(обратно)
275
Nicholas, Nick. A History of the Greek Colony of Corsica. // Journal of Hellenistic diaspora, Vol 31, 03/2005, pp. 34-35.
(обратно)
276
Ibid., p. 35
(обратно)
277
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. - СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1890-1907.
(обратно)
278
Майноты. // Вестник Европы. - М., 1808. - Ч. 42. - № 22.
(обратно)
279
Perdicaris, G. A. The Greece of the Greeks, In Two Volumes, New-York, Paine & Burgess, (1845), Vol. 2, pp. 145-146.
(обратно)
280
Ibid., p. 148.
(обратно)
281
Ibid., p. 147.
(обратно)
282
Rawson, Elisabeth. The Spartan tradition in European thought, Oxford University Press(1969), Reprinted New York (2002), pp. 290-293.
(обратно)
283
Греция и жители ее в нынешнем состоянии // Вестник Европы. - М., 1822. - Ч.122. -№1.
(обратно)
284
Броневский, Владимир. Записки морскаго офицера, в продолжеши кампанш на Средиземном море под начальством Вице-Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. В трёх частях. Часть третья. - СПб.: В морской типографии, 1819 год. - С. 4-5.
(обратно)
285
Rawson, Elisabeth. The Spartan tradition in European thought, Oxford University Press.1969, Reprinted New York (2002), pp. 290-293.
(обратно)
286
Записки полковника Вутье о нынешней войне греков. Перевод Ореста Сомова. В двух частях. Часть первая. - СПб, 1824. - С. 134.
(обратно)
287
Арш, Г. Л. Этеристкое движение в России. - М.: Наука, 1970. - С. 97.
(обратно)
288
Первый поход российского флота в Архипелаг описанный Адмиралом Грейгом.(Из собственной его рукописи). // Отечественные записки. - СПб., 1823. - Ч. 14. - С.186-192.
(обратно)
289
Papas, Nicholas С. J, Stradioti: Balkan Mercenaries in fifteenth and sixteenth century Italy. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. shsu. edu/~his_ncp/Stradioti. html (дата обращения: 25. 05. 2010).
(обратно)
290
Онианс, Ричард. На коленях богов. - М.: "Прогресс-Традиция", 1999. - С. 114.
(обратно)
291
Papas, Nicholas С. J, Stradioti: Balkan Mercenaries in fifteenth and sixteenth century Italy. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. shsu. edu/~his_ncp/Stradioti. html (дата обращения: 25. 05. 2010).
(обратно)
292
Lawson, John Cuthbert. Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion: A Study inSurvivals, Cambridge: at the University Press (1910), pp. 441-443.
(обратно)
293
Грейвс, Роберт. Мифы Древней Греции. Пер. с англ. К. П. Лукьяненко. Под ред. и с послесл. А. А. Тахо-Годи. - М.: Прогресс, 1992. - С. 315-320.
(обратно)
294
John Cuthbert. Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion: A Study in Survivals, Cambridge: at the University Press (1910), pp. 441-443.
(обратно)
295
Seaford, Robert. Reciprocity and Ritual: Homer and Tragedy in the Developing City-State, New York, Oxford University Press (1994), p. 89.
(обратно)
296
Записки полковника Вутье о нынешней войне греков. / Перевод Ореста Сомова.В двух частях. Часть первая. - СПб., 1824. - С. 154-155.
(обратно)
297
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present, Polity Press, Cambridge, UK (2008), pp. 13-14.
(обратно)
298
Shake-speare, William. The Tragicall Historie of Hamlet Prince of Denmarke, At London printed for N:L and John Trundell (^603), G3.
(обратно)
299
Kircher, Athanasius. Phonurgia Nova sive Coniugium Mechanico-physicum artis et naturae Paranympha Phonosophia concinnatum, Campidone, Rudolphum Dreherr, (1673).
(обратно)
300
Ibid., Liber II, Sect. II, p. 206.
(обратно)
301
The Dance. Historic Illustrations of Dancing from 3300 В. C. to 1911 A. D. by an Antiquary, London, John Bale, Sons & Danielsson LTD, (пер. Линская Д., Лаврецова Ю. . Смольнякова Е. )1911, рр. 13-14. [Электронный ресурс ]. Режим доступа:http://historicaldance. spb. ru/index/articles/books/aid/49/print_version, (дата обращения: 18. 03. 2010).
(обратно)
302
Ibid., р. 12, Fig. 13-А.
(обратно)
303
Ibid., р. 14.
(обратно)
304
Ibid., р. 23.
(обратно)
305
Ibid., 30.
(обратно)
306
Собрание занимательных обычаев. Пер. Е. Б. Веселаго. // Вестник древней истории. - 1960. - № 4.
(обратно)
307
Любкер, Фридрих. Реальный словарь классических древностей. В 3 томах. Том 3. - М.: Олма-пресс, 2001. - С. 180.
(обратно)
308
Dictionary of Greek and Roman Geography, In 2 volumes, Edited by William Smith, Little, Brown, and Company, Boston (1857), Vol. II, pp. 1183-1184.
(обратно)
309
Gilbert, William. Lucrezia Borgia, Duchess of Ferrara, Hurst and Blackett, London (1869), Vol. I, pp. 213-214.
(обратно)
310
Pouqueville, Francois Charles Huques Laurent. Travels through the Morea, Albania, and other parts of the Ottoman empire to Constantinople, London (1806), p. 55.
(обратно)
311
Daboo, Jerry. Ritual, rapture and remorse a study of tarantism and pizzica in Salento, First edition, Peter Lang, Bern (2010), p. 234.
(обратно)
312
Ibid., pp. 239-240.
(обратно)
313
Ibid.
(обратно)
314
Ibid.
(обратно)
315
Ibid., р. 242.
(обратно)
316
Ibid.
(обратно)
317
Ibid., p. 243.
(обратно)
318
Ibid., p. 244.
(обратно)
319
Ibid., p. 245.
(обратно)
320
Monaco, Davide. La scherma salentina... a memoria d'uomo, Dalla "pazziata" alia danza scherma, Aramire (2007).
(обратно)
321
Gala, Giuseppe Michelle. Sonu, saltu, cantu, coloribus - balli tradizionali in Puglia: fra storia e societa. // II Folklore d'ltalia. "Le Regioni d'ltalia" (2007), № 2, pp. 36-37.
(обратно)
322
Monaco, Davide. La scherma salentina... a memoria d'uomo, Dalla "pazziata" alia danza scherma, Aramire (2007).
(обратно)
323
Daboo, Jerry. Ritual, rapture and remorse a study of tarantism and pizzica in Salento, First edition, Peter Lang, Bern (2010), p. 239.
(обратно)
324
Кузнецов, А. А. Внизу Сванетия. - M.: Молодая гвардия, 1971.
(обратно)
325
Mirabella, Emanuele. Mala vita: gergo camorra e costumi degli affiliati: con 4500 voci della lingua furbesca in ordine alfabetico (Prefazione di Cesare Lombroso), Napoli, Italia: F. Perella (1910), p. 184.
(обратно)
326
Malafarina, Luigi. II codice della Ndrangheta, Parallelo 38 (1978), pp. 81-99.
(обратно)
327
Ibid.
(обратно)
328
Quattrocchi, Vito. The Sicilian Blade II, First Edition, Lulu, com (2005), p. 48.
(обратно)
329
Ndrangheta, Camurra e Mafia. // La musica della mafia. II canto di malavita, Pias Recordings GMBH (2000).
(обратно)
330
Malafarina, Luigi. II codice della Ndrangheta, Parallelo 38 (1978), p. 93.
(обратно)
331
Monnier, Marco. La Camorra. Notizie storiche raccolte e documentate, Terza Edizione, Firenze, G. Barbera (1863), p. 63.
(обратно)
332
Bettany, G. T. The World's Inhabitants Or Mankind, Animals and Plants, Part One, Ward, Lock & Co, London (1888), p. 102.
(обратно)
333
Lombardo, Robert M. The Black Hand Terror by Letter in Chicago, University of Illinois Press (2010), pp. 127-130.
(обратно)
334
Kelly, Robert J. Organized crime: a global perspective, Rowman & Littlefield (1986), p. 135.
(обратно)
335
d'Addosio, Carlo. 1 duello dei camorristi, L. Pierro (1893), p. 47.
(обратно)
336
Ibid.
(обратно)
337
Сааведра, Мигуэль де Сервантес. Сочинения. Серия: Золотой том. - М.: Олма-Пресс, 2002. - 1056 с.
(обратно)
338
Monnier, Marco. La Camorra. Notizie storiche raccolte e documentate, Terza, Edizione, Firenze, G. Barbera (1863), p. 15.
(обратно)
339
Lombardo, Robert M. The Black Hand Terror by Letter in Chicago, University of Illinois Press (2010), pp. 127-128.
(обратно)
340
Robba, Serena. Camorra. Uno stile di vita. Tesi de laurea, Universit degli studi del Piemonte orientale " Amedeo Avogadro", facolta di giurisprudeza, anno academic 2008/2009.
(обратно)
341
Merriam-Webster's Spanish-English dictionary, Merriam-Webster Inc, US (1998), p. 48.
(обратно)
342
Baretti, Joseph. A dictionary, Spanish and English, and English and Spanish, In Two Volumes, London (1809), Vol. I.
(обратно)
343
Lombardo, Robert M. The Black Hand Terror by Letter in Chicago, University of Illinois Press (2010), pp. 127-128.
(обратно)
344
Casas, Cristobal de las. Vocabulario de las dos lenguas Toscana у Castellana, In Venetia (1604), p. 335.
(обратно)
345
Oddo, Giacomo. II brigantaggio, Volume primo, Milano (1863), p. 366.
(обратно)
346
Veneroni, Giovanni. Dittionario italiano, e francese, Tomo Primo, In Venetia, (1698), p. 133.
(обратно)
347
Robba, Serena. Camorra. Uno stile di vita. Tesi de laurea, Universit degli studi del Piemonte orientale " Amedeo Avogadro", facolta di giurisprudeza, anno academic 2008/2009.
(обратно)
348
Russo, Ferdinando, Serao Ernesto. Le camorra: origini, usi, costumi et riti dell' "anno-rata soggieta", F. Bideri (1907), p. 47.
(обратно)
349
Ibid., p. 84.
(обратно)
350
Fiore, Gigi di. La camorra e le sue storie: la criminalita organizzata a Napoli dalle origini alle ultime guerre, UTET Libreria, Torino (2005), p. 351.
(обратно)
351
Consiglio, Alberto. La camorra a Napoli, Alfredo Guida Editore, Napoli (2005), p. 115.
(обратно)
352
d'Addosio, Carlo. II duello dei camorristi, L. Pierro (1893), p. 20.
(обратно)
353
De Blasio, Abele. Usi e costumi dei camorristi, Napoli, L. Pierro (1897), p. 103.
(обратно)
354
Andreoli, Raffaele. Vocabolario napoletano-italiano, G. B. Paravia (1887), p. 804.
(обратно)
355
Spezzano, Francesco. II gergo della malavita in Calabria, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza (1996), p. 133.
(href=#r355>обратно)
356
Ibid.
(обратно)
357
d'Addosio, Carlo. II duello dei camorristi, L. Pierro (1893), pp. 14-16.
(обратно)
358
De Blasio, Abele. Usi e costumi dei camorristi, Napoli, L. Pierro (1897), pp. 103-106.
(обратно)
359
Russo, Ferdinando, Serao Ernesto. La camorra: origini, usi, costumi et riti dell' "anno-rata soggieta", F. Bideri (1907), p. 47.
(обратно)
360
Consiglio, Alberto. La camorra a Napoli, Alfredo Guida Editore, Napoli (2005), p. 74.
(обратно)
361
Train, Arthur, Courts. Criminals, and the Camorra, Charles Scribner's Sons, New York (1912), p. 149.
(обратно)
362
The New York Times, 28 February 1885.
(обратно)
363
The New York Times, 17 April 1911.
(обратно)
364
Russo, Ferdinando, Serao Ernesto. La camorra: origini, usi, costumi et riti dell' "anno-rata soggieta", F. Bideri (1907), p. 46.
(обратно)
365
Smith, Alfred Emanuel. // Outlook Publishing company, Inc, New York, Vol 9 (1911), p. 724.
(обратно)
366
Robba, Serena, Camorra. Uno stile di vita, Tesi de laurea, Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", facolta di giurisprudenza, anno academico 2008/2009, pp. 21-23.
(обратно)
367
Monnier, Marc. La Camorre, Paris, Levy (1863), p. 28.
(обратно)
368
Russo, Ferdinando, Serao Ernesto. La camorra: origini, usi, costumi et riti dell' "anno-rata soggieta'', F. Bideri (1907), p. 47.
(обратно)
369
Valpy, Francis Edward Jackson. An etymological dictionary of the Latin language, London (1828), p. 431.
(обратно)
370
The New York Times, 6 August 1895.
(обратно)
371
Бёртон, Ричард. Ф. «Книга мечей. Холодное оружие сквозь тысячелетия». / Пер. с англ. Д. Лихачева. - М.:Центрполиграф, 2004. - С- 30.
(обратно)
372
The Outlook. Volume XCVIII, Outlook Co (1911), p. 725.
(обратно)
373
Wheeler, David Hilton. Brigandage in south Italy, London, S. Low, son, and Marston (1864), p. 308.
(обратно)
374
Fiore, Gigi Di. Potere camorrista: quattro secoli di malanapoli, Alfrede Guida Editore, Napoli (1993), p. 159.
(обратно)
375
Jacquemet, Marco. Credibility in court: communicative practices in the Camorra trials, Cambridge University Press (1996), p. 67.
(обратно)
376
Gramsci, Antonio. Lettere dal carcere, Davide Zedda Editore (2008), p. 40.
(обратно)
377
Macmillan's magazine. Volume 8, May-October, London (1863), pp. 57-58.
(обратно)
378
Russo, Ferdinando, Serao Ernesto. La camorra: origini, usi, costumi et riti dell' "anno-rata soggieta'', F. Bideri (1907), p. 47.
(обратно)
379
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05. 2010).
(обратно)
380
Nicassio, Susan Vandiver. Imperial City: Rome Under Napoleon, The University of Chicago Press, Chicago (2009), p. 139.
(обратно)
381
Ibid., p. 78.
(обратно)
382
Ibid., p. 139.
(обратно)
383
Ibid., p. 51.
(обратно)
384
Ibid.
(обратно)
385
Williams, Hugh William. Travels in Italy, Greece and at the Ionian islands, Edinburgh (1820), Vol. I, p. 381.
(обратно)
386
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05. 2010).
(обратно)
387
Forsyth, Joseph. Remarks on Antiquities, Arts, and Letters, During an Excursion in Italy, in the Years 1802 And 1803, Fourth Edition, London (1835), p. 405.
(обратно)
388
d'Addosio, Carlo. II duello dei camorristi, L. Pierro (1893), pp. 14-15.
(обратно)
389
Nicassio, Susan Vandiver. Imperial City: Rome Under Napoleon, The University of Chicago Press, Chicago (2009), p. 139-140.
(обратно)
390
Ibid., p. 140.
(обратно)
391
Crawford, Francis Marion. Ave Roma immortalis; studies from the chronicles of Rome, In Two Volumes, New York: The Macmillan со.; London, Macmillan & со., ltd (1900), Vol. II, pp. 143-144.
(обратно)
392
Boyesen, Hjalmar Hjorth. The story of Norway, New York, G. P. Putnam's Sons (1886), p. 54.
(обратно)
393
Rosetti, Bartolomeo. I bulli di Roma. Storie e awenture d'amore e di coltello da Jacac-cio ar piu de l'Urione: quattro secoli di vita sociale e di costume, Newton Compton, Roma (1979).
(обратно)
394
Repubblica, 11 giugno 1993, pagina 6.
(обратно)
395
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05. 2010).
(обратно)
396
Ibid.
(обратно)
397
Valadier, A. Rome vraie, Paris: Lacroix, Verboeckhoven (1867), pp. 205-206.
(обратно)
398
"Once a week", № 81,17 July, 1869, pp. 15-19.
(обратно)
399
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05.2010).
(обратно)
400
"Uomini d'onore". Italia, regia Francesco Sbano, 72m, 2009.
(обратно)
401
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05.2010).
(обратно)
402
Ibid.
(обратно)
403
Nicassio, Susan Vandiver. Imperial City: Rome Under Napoleon, The University of Chicago Press, Chicago (2009), p. 100.
(обратно)
404
About, Edmond. Rome of today, James O. Noyes, New York (1861), p. 107.
(обратно)
405
Nicassio, Susan Vandiver. Imperial City: Rome Under Napoleon, The University of Chicago Press, Chicago (2009), p. 100.
(обратно)
406
Malpezzi, Frances M., William M. Clements. Italian-American Folklore, August House Inc, Little Rock (1992), pp. 151-158.
(обратно)
407
Ibid., 158.
(обратно)
408
About, Edmond. Rome of today, James 0. Noyes, New York (1861), pp. 81-83
(обратно)
409
Ibid., p. 84.
(обратно)
410
Nicassio, Susan Vandiver. Imperial City: Rome Under Napoleon, The University of Chicago Press, Chicago (2009), p. 100.
(обратно)
411
Ibid., p. 223.
(обратно)
412
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05.2010).
(обратно)
413
Ibid.
(обратно)
414
Ibid.
(обратно)
415
Verga, Giovanni. Under the shadow of Etna; Sicilian stories from the Italian of Giovanni Verga, Boston, Joseph Knight company (1896), pp. 112-114.
(обратно)
416
Pitre, Giuseppe. Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, Volume 15,Palermo (1889), p. 309.
(обратно)
417
Дикки Джон. Коза Ностра. История сицилийской мафии. - М.: Эксмо, 2007. - С.11- 12.
(обратно)
418
Gala, Giuseppe Michelle. Sonu, saltu, cantu, coloribus - balli tradizionali in Puglia: fra storia e societa. // II Folklore d'ltalia "Le Regioni d'ltalia”. - 2007. - № 2. - pp. 95-96.
(обратно)
419
Goldoni, Carlo. Opere teatrali del Sig. awocato Carlo Goldoni, Veneziano: con rami al-lusivi. Tomo decimo (T. 10) Dalle stampe di Antonio Zatta у Figli, Venezia (1789), p. 27.
(обратно)
420
Auquet, Roland. Cruelty and civilization: the Roman games, Routledge, New York, NY(1994), p. 46.
(обратно)
421
Dacian studies. Contributions for La Tene period researches. // Dacian stuies. Translated by Corahs Crisan, Csok Zsolt and Anisoara Munteanu, Editura MEGA, Cluj-Napoca/-2008.46.
(обратно)
422
Daremberg, Charles Victor, Saglio, Edmond. Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, d'apres les textes et les monuments, Tome quatrieme, deuxieme partie, Paris: Hachette (1873), p. 1300.
(обратно)
423
Dumesnil, Jean Baptiste Gardin. Latin synonyms, with their different significations, London (1809), p. 324.
(обратно)
424
Burton, Richard F. The Book of the Sword, London, ChatJo and Windus (1884), p. 252.
(обратно)
425
Plautus, Titus Maccius. M. Accii Plauti Comoediae, Volumen Tertium, Londini, Imprimente A. J. Valpy (1829), p. 1510.
(обратно)
426
Russo, Ferdinando, Serao Ernesto. La camorra: origini, usi, costumi et riti dell' "anno-rata soggieta”, F. Bideri (1907), p. 47.
(обратно)
427
Котигорошко, В. Г. Мечи Малокопаньского могильника. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/karpatyka/2008_37/004. htm (дата обращения: 05. 07. 2011).
(обратно)
428
Maximi, Valerii. Factorum et dictorum memorabilium, Venetiis, Apvd Ioannem Mariam (1569), p. 60.
(обратно)
429
Dennis, George. A handbook for travellers in Sicily, London, John Murray (1864), p. 153.
(обратно)
430
Dacian studies. Contributions for La Tene period researches, Translated by Coralis Crisan, Csok Zsolt and Anisoara Munteanu, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2008, pp. 141-142.
(обратно)
431
Preston, Harriet Waters, Louise Dodge. The private life of the Romans, Boston ; New York: Leach, Shewell, & Sanborn (1896), p. 121.
(обратно)
432
Burton, Richard F. The Book of the Sword, London, Chatto and Windus (1884), p. 272.
(обратно)
433
Fields, Nic. Spartacus and the Slave War 73-71 BC: A Gladiator Rebels Against Rome,Osprey Publishing, Oxford, UK (2009), p. 30.
(обратно)
434
Геродот. История. В 9-ти кн. / Пер. Г. А. Стратановского. - М.: ООО "Издательство ACT", "Ладомир", 2001. - Книга VII, Полиг.
(обратно)
435
Мелюкова, Анна Ивановна, Скифия и фракийский мир. - М.: Наука, 1979. - С. 98.
(обратно)
436
Campbell, Duncan В. Roman Auxiliary Forts 27 ВС-AD 378, Osprey Publishing, Oxford, UK (2009), p. 7.
(обратно)
437
Grumeza, Ion. Dacia: land of Transylvania, cornerstone of ancient Eastern Europe,Hamilton Books, Lanham, Maryland (2009), p. 167.
(обратно)
438
Мелюкова, А. И. Вооружение скифов. - M.: Наука, 1964.
(обратно)
439
Вайнштейн, С. И., Дьяконова, В. П. Памятники в могильнике Кокэль конца I тыс. до н. э. - первых веков н. э. // Труды ТКАЭЭ. - Т. II. - М. -Л., 1966. - С. 288.
(обратно)
440
Dacian studies. Contributions for La Тепе period researches, Translated by CoralisCrisan, Csok Zsolt and Anisoara Munteanu, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2008, p. 145.
(обратно)
441
Doganu, Mircea, Michail Zahariade. History of the Romanians: From the origins to the modern age, Amco Press Pub (1996), p. 64.
(обратно)
442
Fields, Nic. Spartacus aifd the Slave War 73-71 BC: A Gladiator Rebels against Rome,Osprey Publishing, Oxford, UK (2009), p. 30.
(обратно)
443
Doganu, Mircea, Michail Zahariade. History of the Romanians: From the origins to the modern age, Amco Press Pub (1996), pp. 1183-1184.
(обратно)
444
Contributions for La Tene period researches. //Dacian studies. Translated by Coralis Crisan, Csok Zsolt and Anisoara Munteanu, Editura MEGA, Cluj-Napoca (2008), pp. 146-147.
(обратно)
445
Valeriu Sirbu, Sabin Adrian Luca, Cristian Roman. Tombs of Dacian warriors (2nd -1st C. BC) found in hunedoara-gradina castelului (Hunedoara county. // Acta Terrae Septem-castrenis (2007), VI, 1, pp. 168-176.
(обратно)
446
Begg, Christopher T. Flavius Josephus: translation and commentary. //Judean Antiquities. - 2004. - Issue 5-7. Vol. 4, Brill Academic Publishers, Leiden, com. 488.
(обратно)
447
Wisdom, Stephen/ Gladiators 100 BC-AD 200, Osprey Publishing, Oxford, UK, (2001), p. 12.
(обратно)
448
Kohne, Eckart, Cornelia Ewigleben, Ralph Jackson. Gladiators and caesars: the power of spectacle in ancient Rome, Univesrity of California Press, Berkeley, LA (2000), p. 37.
(обратно)
449
Fields, Nic. Spartacus and the Slave War 73-71 BC: A Gladiator Rebels Against Rome, Osprey Publishing, Oxford, UK (2009), p. 30.
(обратно)
450
Contributions for La Tene period researches. // Dacian studies. Translated by Coralis Crisan, Csok Zsolt and Anisoara Munteanu, Editura MEGA, Cluj-Napoca (2008), pp. 147-148.
(обратно)
451
Kohne, Eckart, Cornelia Ewigleben, Ralph Jackson. Gladiators and caesars: the power of spectacle in ancient Rome, Univesrity of California Press, Berkeley, LA (2000), p. 52.
(обратно)
452
Ibid., p. 51.
(обратно)
453
Giroire, Cecile, Daniel Roge. Roman art from the Louvre, American Federation of Arts, Musee du Louvre, Hudson Hills Press, Inc (2007), p. 205.
(обратно)
454
Friedlander, Ludwig. Roman life and manners under the early Empire, Vol IV, London,George Routledge & Sons (1913), p. 176.
(обратно)
455
Kohne, Eckart, Cornelia Ewigleben, Ralph Jackson. Gladiators and caesars: the power of spectacle in ancient Rome, Univesrity of California Press, Berkeley, LA (2000), p. 52.
(обратно)
456
Китов, Георги. Александровската гробница, Библиотека културно-историческо наследство, Славена, Варна, първо издание (2004), с. 53.
(обратно)
457
Page, Camille. La Coutellerie depuis l'origine jusqu'a nos jours, la fabrication ancienne et moderne, par Camille Page, Publisher: impr. de H. Riviere, Chatellerault, (1896-1904), p. 47
(обратно)
458
Kohne, Eckart, Cornelia Ewigleben, Ralph Jackson. Gladiators and caesars: the power of spectacle in ancient Rome, Univesrity of California Press, Berkeley, LA (2000), p. 51.
(обратно)
459
Ibid., p. 50.
(обратно)
460
Jacobelli, Luciana. Gladiators at Pompeii, Getty Publications, Los Angeles (2003), p. 9.
(обратно)
461
Montfaucon, Bernard de. L'antiquite expliquee et representee en figures, tome qua-trieme, premiere partie, A Paris (1719), p. 61.
(обратно)
462
Burton, Richard F. The Book of the Sword, London, Chatto and Windus (1884), p.252.
(обратно)
463
Флавий, Иосиф. Иудейская война. / Переизд: с прим. К. А. Ревяко, В. А. Федосика.- Минск.: Беларусь, 1991. - С. 116.
(обратно)
464
Там же. - С. 132.
(обратно)
465
Begg, Christopher Т. Flavius Josephus: translation and commentary, Volume 4, Judean Antiquities 5-7, Brill Academic Publishers, Leiden (2004), p. 145.
(обратно)
466
Ross, Heather Colyer. The art of Arabian costume: a Saudi Arabian profile, EPS/Play-ers Press; Fourth Edition edition (1994), p. 176.
(обратно)
467
Rich, Anthony. A dictionary of Roman and Greek antiquities, London (1860), p. 599.
(обратно)
468
Wilkes, John. The Illyrians, Blackwell, Oxford, (1996), pp. 238-239.
(обратно)
469
Dictionary of Greek and Roman Geography, In 2 volumes, Little, Brown, and Company,Boston (1857), Vol. II, pp. 1183-1184.
(обратно)
470
Cumin, Patrick. A manual of civil law; or, Examination in the Institutes of Justinian,London (1854), T. 18, b. 4, p. 388.
(обратно)
471
Gutch, John Mattew. A lytell geste of Robin Hode, In two volumes, London, (1847), Vol. I, p. 6.
(обратно)
472
Pliny. Natural History, With an English translation in ten Volumes, Libri XXXIII-XXXV, Harvard University Press, Cambridge, MA (1938), Vol. IX, pp. 228-229.
(обратно)
473
Ruggiero, Guido. A Companion to the Worlds of the Renaissance, Blackwell Publishing(2007), p. 142.
(обратно)
474
Fiore, Gigi Di. La camorra e le sue storie: la criminalita organizzata a Napoli dalle origin! alle ultime “guerre", UTET libreria (2005), p. 351.
(обратно)
475
Misson, Maximilien (Francois Maximilien Misson). A new voyage to Italy: with curious observations on several other countries, Printed for R. Bonwicke, London (1714), Vol. II, Part I, pp. 397-398.
(обратно)
476
Rusnak, Mattew Francis. Dissertation ( Doctor of Philosophy), The trial of GiuseppeBaretti, October 20th 1769, A literary and cultural history of the Baretti case, New Brunswick, New Jersey, May (2008), p. 240.
(обратно)
477
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05. 2010).
(обратно)
478
Train, Arthur Cheney. Courts, Criminals and the Camorra., New-York, CharlesScribner's Sons (1912), p. 149.
(обратно)
479
Baronti, Giancarlo. Coltelli d'ltalia: Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare: storia e catalogazione, F. Muzzio (1986), p. 236.
(обратно)
480
Pitre, Giuseppe. Archivio per lo studio delle tradizioni popolari, Forni, (1894), Tomo13, p.297.
(обратно)
481
Russo, Ferdinando, Serao Ernesto. La camorra: origini, usi, costumi et riti dell' "anno-rata soggieta”, F. Bideri (1907), p. 16.
(обратно)
482
Baronti, Giancarlo. Coltelli d'ltalia: Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare: storia e catalogazione, F. Muzzio (1986), pp. 143-147.
(обратно)
483
Ibid., pp. 131-139.
(обратно)
484
Ibid., pp. 149-156.
(обратно)
485
Ibid., pp. 159-171.
(обратно)
486
Ibid., pp. 174-179.
(обратно)
487
Ibid., pp. 189-201.
(обратно)
488
Ibid., pp. 203-209.
(обратно)
489
Willshire, William Hughes. A Descriptive Catalogue of Playing and Other Cards in theBritish Museum, London (1876), fig. X.
(обратно)
490
Baronti, Giancarlo. Coltelli d'ltalia: Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare: storia e catalogazione, F. Muzzio (1986), pp. 233-238.
(обратно)
491
Ibid
(обратно)
492
Ibid
(обратно)
493
Ibid
(обратно)
494
Ibid
(обратно)
495
Lombroso, Cesare. Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale, Tomo 14, Ermanno Loeswcher (1893), p. 280.
(обратно)
496
Ibid., p. 180.
(обратно)
497
Marozzo, Achille. Opera Nova dell'Arte delle Armi, Modena (1536), pp. 18-20.
(обратно)
498
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 2007. - С. 184.
(обратно)
499
Ibid., р. 60.
(обратно)
500
Ibid., р. 75.
(обратно)
501
Ibid., р. 69.
(обратно)
502
Ibid., р. 47.
(обратно)
503
Biddle, Anthony Joseph Drexel. Do or die, The Leatherneck Association, Inc, Washington, D. C (1944).
(обратно)
504
Styers, John. Cold Steel Technique of Close Combat, Washington DC The LeatherneckAssociation (1952).
(обратно)
505
Ruggiero, Guido. A Companion to the Worlds of the Renaissance, Blackwell Publishing (2007), p. 142.
(обратно)
506
Enggass, Robert, Jonathan Brown. Italian and Spanish art, 1600-1750, Northwestern University Press, Evanston, II (1970), p. 85.
(обратно)
507
Ibid
(обратно)
508
Warwick, Genevieve. Caravaggio: realism, rebellion, reception, Assotiated University Presses, Cranbury, NJ (2006), p. 29.
(обратно)
509
Ibid
(обратно)
510
Ibid., p. 46.
(обратно)
511
Rusnak, Mattew Francis. Dissertation ( Doctor of Philosophy), The trial of Giuseppe Baretti, October 20th 1769, A literary and cultural history of the Baretti case, New Brunswick, New Jersey, May (2008), p. 237.
(обратно)
512
Ibid., p. 238.
(обратно)
513
Ibid
(обратно)
514
Ibid., p. 239.
(обратно)
515
Ibid
(обратно)
516
About, Edmond Francois Valentin. Rome of today, New York. James 0. Noyes, (1861), p. 93.
(обратно)
517
Ibid., pp. 91-92.
(обратно)
518
Moore, John. A view of society and manners in Italy: with anecdotes relating to some eminent characters, London: Printed for W. Strahan, and T. Cadell (1781), pp. 459-473.
(обратно)
519
Archenholtz, Johann Wilhelm von. A Picture*of Italy Printed for G. G. J. and J. Robinson (1791), pp. 245-248.
(обратно)
520
Ibid., p. 124.
(обратно)
521
Nicassio, Susan Vandiver. Imperial City: Rome Under Napoleon, The University of Chicago Press, Chicago (2009), p. 144.
(обратно)
522
Ibid
(обратно)
523
Hutton, Alfred. The sword through the centuries, Dover Publications, Inc, Mineola, NY (2002), pp. 112-116.
(обратно)
524
Simond, Louis. A tour in Italy and Sicily, London (1828), pp. 226-227.
(обратно)
525
About, Edmond Francois Valentin. Rome of today, New York. James 0. Noyes, (1861), pp. 89-97.
(обратно)
526
Ibid., p. 90.
(обратно)
527
Ibid., p. 91.
(обратно)
528
Ibid
(обратно)
529
Nicassio, Susan Vandiver. Imperial City: Rome Under Napoleon, The University of Chicago Press, Chicago (2009), p. 143.
(обратно)
530
Ibid., р. 140.
(обратно)
531
Forester, Thomas. Rambles in the islands of Corsica and Sardinia, Second Edition, London, Longman, Green and Roberts (1861), p. 61.
(обратно)
532
Spierenburg, Pieter Cornelius. Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America., The Ohio State University (1998), p. 129.
(обратно)
533
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05. 2010).
(обратно)
534
Spierenburg, Pieter Cornelius. Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America., The Ohio State University (1998), p. 148.
(обратно)
535
Ibid., p. 129.
(обратно)
536
Malborough Express, Volume XLII, Issue 190,12 August 1908, p. 6.
(обратно)
537
Vagnozzi, Vero. II coltello, spada dei poveri. / Polizia e democrazia. Gennaio/2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. poliziaedemocrazia. it/live/in-dex. php?domain=archivio&action=articolo&idArticolo=1357 (дата обращения: 22. 05. 2010).
(обратно)
538
Русский Вестник. Том 29. - 1860. - С. 193-194.
(обратно)
539
The New York Times, 12 August 1915.
(обратно)
540
Pirocchi, Angelo L. Italian Arditi: Elite Assault Troops 1917-20, Osprey Publishing Ltd (2004), p. 30.
(обратно)
541
Dalton, Hugh. With British Guns in Italy, Methuen & Co Ltd, London (1919), p. 22.
(обратно)
542
The New York Times, 20 June 1918.
(обратно)
543
Giudici, Paolo, Reparti dAssalto, Milan, Alpes (1928).
(обратно)
544
The New York Times, 25 August 1918.
(обратно)
545
The New York Times, 20 June 1918.
(обратно)
546
Robinson, Conway. An account of discoveries in the West until 1519, and of voyages to and along the Atlantic Coast of North America, from 1520 to 1573, Richmond (1848), p. 263.
(обратно)
547
Parish, Woodbine. Buenos-Ayres and the provinces of the Rio de la Plata, London,(1852), p. 3.
(обратно)
548
Slatta, Richard W. Gauchos and the vanishing frontier, The University of Nebraska Press (1992), p. 7.
(обратно)
549
Ibid., p. 8.
(обратно)
550
Ibid
(обратно)
551
Ibid
(обратно)
552
Ibid., pp. 8-9.
(обратно)
553
Ibid., р. 9.
(обратно)
554
Ibid., р. 12.
(обратно)
555
Ibid, р. 13.
(обратно)
556
Ibid., р. 118.
(обратно)
557
Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo: 6, Civilizacion i barbarie en las pampas arjen-tinas., Cuarta edicion, D. Appleton у companfa, Nueva York (1868], p. 32.
(обратно)
558
Depetris, Jose Carlos. Mitologia de punales. [ Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pampapalabra. freeservers. com/aaduelo. htm (дата обращения: 18. 01. 2010].
(обратно)
559
Ibid
(обратно)
560
Ibid
(обратно)
561
Indice del archivo del departemento general de policia, tomo 2, Buenos Aires (I860].
(обратно)
562
Дарвин, Чарльз. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» /Пер. с англ. С. Л. Соболя; Под редакцией Е. Е Сыроечковского и С. Л. Соболя. - 4-е изд. -М.: Мысль, 1983.-С. 151.
(обратно)
563
Там же. - С. 70-71.
(обратно)
564
Slatta, Richard W. The cowboy encyclopedia, ABC-CLIO (1994], p. 388.
(обратно)
565
Slatta, Richard W. Gauchos and the vanishing frontier, The University of Nebraska Press (1992], p. 118.
(обратно)
566
Caldcleugh, Alexander. Travels in South America, during the years 1819 - 20 - 21: containing an account of the present state of Brazil, Buenos Ayres, and Chile, 2 vols. London: John Murray (1825], стр. 179-180.
(обратно)
567
Борхес, Хорхе Луи. Проза разных лет: сборник. / Составл. и предисл. И Тертерян;Коммент. Б. Дубина. - М.: Радуга, 1984. - С. 124.
(обратно)
568
Argeri, Maria F. De guerreros a delincuentes, Madrid (2005], pp. 263-264.
(обратно)
569
Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo: 6, Civilizacion i barbarie en las pampas arjen-tinas, Cuarta edicion, D. Appleton у compafna, Nueva York (1868], p. 32.
(обратно)
570
Борхес, Хорхе Луи. Проза разных лет: сборник. / Составл. и предисл. И. Тертерян;Коммент. Б. Дубина. - М.: Радуга, 1984. - С 38-42.
(обратно)
571
Hudson, William Henry. Far Away and Long Ago: a history of my early life, E. P. Dutton& Company, New York (1918], p. 255.
(обратно)
572
Slatta, Richard W. Gauchos and the vanishing frontier, The University of Nebraska Press(1992], p. 78.
(обратно)
573
Chasteen, John Charles. Heroes on horseback: a life and times of the last gaucho caudillos, University of New Mexico Press (1995], p. 97.
(обратно)
574
Ibid., p. 95.
(обратно)
575
Slatta, Richard W. Comparative Frontier Social Life: Western Saloons and ArgentinePulperias. // Great Plains quarterly (1987], Vol 7-8, Center for Great Plains Studies, University of Nebraska-Lincoln, p. 160.
(обратно)
576
Борхес, Хорхе Луи. Проза разных лет: сборник. / Составл. и предисл. И Тертерян;Коммент. Б. Дубина. - М.: Радуга, 1984. - С. 250-254.
(обратно)
577
Woodbine, Parish. Buenos-Ayres and the provinces of the Rio de la Plata, London,(1852], pp. 46-47.
(обратно)
578
Manual del baratero о arte manejar de navaja, el cuchillo у la tijera de los gitanos, Madrid, Imprenta de D. Alberto Goya (1849), p. 39.
(обратно)
579
Hernandez, Jose. El Gaucho Martin Fierro, Buenos Aires, Imprenta de La Pampa, (1872), p. 46.
(обратно)
580
Эрнандес, Хосе. Мартин Фьерро. / Пер. с исп. Мих. Донского. - М.: Художественная литература, 1972.
(обратно)
581
Granada, Daniel. Vocabulario rioplatense razonado, II Edicion, Imprenta Rural, Montevideo (1890), p. 219.
(обратно)
582
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), p. 145.
(обратно)
583
Ibid
(обратно)
584
Ibid., p. 71.
(обратно)
585
Ibid., p. 72.
(обратно)
586
Ibid., p. 76.
(обратно)
587
Ibid., pp. 77-78.
(обратно)
588
Cochrane, Charles Stuart, journal of a residence and travels in Colombia during the years 1823 -1824, Henry Colburn, London (1825), Vol I, pp. 162-163.
(обратно)
589
Chasteen, John Charles. Heroes on horseback: a life and times of the last gaucho caudillos, University of New Mexico Press (1995), p. 94.
(обратно)
590
Борхес, Хорхе Луи. Проза разных лет: сборник. / Составл. и предисл. и Тертерян; Коммент. Б. Дубина. - М.: Радуга, 1984. - С. 261-263.
(обратно)
591
Там же.
(обратно)
592
Там же.
(обратно)
593
Chasteen, John Charles. Heroes on horseback: a life and times of the last gaucho caudillos, University of New Mexico Press (1995), p. 94.
(обратно)
594
Salvatore, Ricardo Donato. Wandering paysanos: state order and subaltern experience in Buenos Aires during the Rosas era, Duke University Press (2003), p. 232.
(обратно)
595
Sarmiento, Domingo Faustino. Life in the Argentine republic in the days of the tyrants: or, Civilization, New York (1868), p. 170.
(обратно)
596
Chasteen, John Charles. Heroes on horseback: a life and times of the last gaucho caudillos, University of New Mexico Press (1995), pp. 94-95.
(обратно)
597
Slatta, Richard W. Gauchos and the vanishing frontier, The University of Nebraska Press (1992), p.61.
(обратно)
598
Depetris, Jose Carlos. Mitologia de punales. [ Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pampapalabra. freeservers. com/aaduelo. htm (дата обращения: 18. 01. 2010).
(обратно)
599
Stanley, David. Cowboy poets & cowboy poetry, University of Illinois Press (2000), p. 302.
(обратно)
600
Guido, Carla Rey de, Walter Guido. Cancionero rioplatense, 1880-1925, Biblioteca Aya-cucho, Caracas (1989), p. 385.
(обратно)
601
Hudson, William Henry. Far Away and Long Ago: a history of my early life., E. P. Dutton & Company, New York (1918), p. 256.
(обратно)
602
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), pp. 19-20.
(обратно)
603
The Terrific Register: Or, Record of Crimes, Judgments, Providences, and calamities,London, 1825, Vol II, p. 245.
(обратно)
604
Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo: 6, Civilization i barbarie en las pampas arjen-tinas, Cuarta edicion, Nueva York (1868), p. 67.
(обратно)
605
Hudson, William Henry. Far Away and Long Ago: a history of my early life., E. P. Dutton& Company, New York (1918), pp. 251-255.
(обратно)
606
Ibid., pp. 252-253.
(обратно)
607
Slatta, Richard W. Gauchos and the vanishing frontier, The University of Nebraska Press(1992), p. 118.
(обратно)
608
Rock, David. State building and political movements in Argentina, 1860-1916, Stanford University Press, Stanford CA (2002), p. 80.
(обратно)
609
Злой гаучо // Вестник Императорского русского географического общества. - Кн. I, Том 10. - СПб., 1854. - С.. 25-26.
(обратно)
610
Sofia, Julio. Juan Moreira, Lobos, 10 de Abril de 2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. infolobos. com. ar/Nota. asp?IdNota=27 (дата обращения: 9. 08.2010).
(обратно)
611
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), pp. 57-58.
(обратно)
612
Castro, Donald S. The Argentine tango as social history, 1880-1955: the soul of the people, E. Mellen Press (1991), p. 44.
(обратно)
613
Slatta, Richard W. Bandidos: the varieties of Latin American banditry, Greenwood Press (1987), p. 58.
(обратно)
614
Sofia, Julio. Juan Moreira, Lobos, 10 de Abril de 2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. infolobos. com. ar/Nota. asp?IdNota=27 (дата обращения: 9. 08.2010).
(обратно)
615
Aeberhard, Danny, Andrew Benson, Lucy Phillips. The rough guide to Argentina, Rough Guides (2000), p. 200.
(обратно)
616
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), p. 52.
(обратно)
617
Ibid., p. 54.
(обратно)
618
Ibid
(обратно)
619
Ibid., p. 54.
(обратно)
620
Ibid., p. 58.
(обратно)
621
Ibid., p. 55.
(обратно)
622
Caldcleugh, Alexander. Travels in South America, during the years, 1819-20-21, In two volumes, London (1825), Vol. I, p. 180.
(обратно)
623
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), p. 56.
(обратно)
624
Ibid., pp. 52-53.
(обратно)
625
Ibid., pp. 62-63.
(обратно)
626
Ibid., рр. 63-64.
(обратно)
627
Ibid
(обратно)
628
Cunninghame Graham, R. В., El Rio de la Plata, Londres (1914), p. 52
(обратно)
629
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), p. 79.
(обратно)
630
Ibid., pp. 85-87.
(обратно)
631
Ibid
(обратно)
632
Hudson, William Henry. Far Away and Long Ago: a history of my early life, E. P. Dutton & Company, New York (1918), p. 254-255.
(обратно)
633
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), p. 51.
(обратно)
634
Льоса, Марио Варгас. Поединок. / Рассказы магов. - СПб.: Азбука-классика, 2002.
(обратно)
635
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), pp. 43-45.
(обратно)
636
Slatta, Richard W. Gauchos and the vanishing frontier, The University of Nebraska Press(1992), p. 74.
(обратно)
637
Ibid,
(обратно)
638
Sarmiento, Domingo Faustino. Obras de D. F. Sarmiento, Conflicto у armomas de las razas en America, Belin hermanos (1900), Tomo 36-37, p. 166.
(обратно)
639
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, BuenosAires, Henisferio Sur (2005), pp. 24-29.
(обратно)
640
Ibid., p. 30.
(обратно)
641
Борхес, Хорхе Луи. Проза разных лет: сборник. / Составл. и предисл. И Тертерян;Коммент. Б. Дубина. - М.: Радуга, 1984. - С. 250-254.
(обратно)
642
Henderson, James. A history of the Brasil, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, London (1821), p. 77.
(обратно)
643
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, BuenosAires, Henisferio Sur (2005), pp. 30-31.
(обратно)
644
Ibid., p.31.
(обратно)
645
Slatta, Richard W. Gauchos and the vanishing frontier, The University of NebraskaPress (1992), pp. 40-41.
(обратно)
646
Castle, Egerton. Schools and masters offence, from the Middle Ages to the eighteenth century, London, George Bell and Sons (1885), p. 229.
(обратно)
647
Gautier, Theophile, Tra los montes, Bruzelles et Leipzig (1843), Tome II, p. 36.
(обратно)
648
Darwin, Charles. Charles Darwin's Beagle diary, Cambridge University Press, Cambridge (2001), p. 158.
(обратно)
649
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), pp. 41-42
(обратно)
650
Slatta, Richard W. Gauchos and the vanishing frontier, The University of Nebraska Press (1992), p. 74.
(обратно)
651
Ibid., p. 118.
(обратно)
652
Ibid., р. 119.
(обратно)
653
Knowles, Mark. The wicked waltz and other Scandalous dances, McFarland, (2009), p. 108.
(обратно)
654
Ibid
(обратно)
655
Ibid
(обратно)
656
Guibert, Rita. Seven voices: Seven Latin American writers talk to Rita Guibert, (Перевод E. Лысенко), Alfred A. Knopf, Inc (1973), p. 94.
(обратно)
657
Knowles, Mark. The wicked waltz and other Scandalous dances, McFarland (2009), p. 108.
(обратно)
658
Baily, Samuel. L, Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City. 1870 to 1914, Cornell University Press, New York (2004), p. 54
(обратно)
659
Кофман, А. Ф. Аргентинское танго и русский мещанский романс. / Литература в контексте культуры. - М.: Наука, 1986. - С. 227-228.
(обратно)
660
Борхес, Хорхе Луис. Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. / Произведения 19421969 гг. Составитель Борис Дубинин. - М.: Амфора, 2000.
(обратно)
661
Knowles, Mark. The wicked waltz and other Scandalous dances, McFarland, (2009), p.110.
(обратно)
662
Борхес, Хорхе Луис. Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. / Произведения 19421969 гг, составитель Борис Дубинин. - М.: Амфора, 2000.
(обратно)
663
Окампо, Виктория. Беседа с Борхесом. // Иностранная литература. Перевод с исп. Е. Лысенко. - 1991. - № 9.
(обратно)
664
Vasquez, Maria Esther. Borges Sus Dias Y Su Tiempo, Buenos Aires, Javier Vergara (1984), p. 64.
(обратно)
665
Cammarota, Frederico. Vocabulario familiar у del lunfardo, Buenos Aires, A. Pena Lillo (1970), p. 23.
(обратно)
666
Ibid., p. 146.
(обратно)
667
Castro, Donald S. The Argentine tango as social history, 1880-1955, E. Mellen Press (1991), p. 43.
(обратно)
668
Delgado, Celeste Frazer, Jose Esteban Munos. Everynight life: culture and dance in Latino America, Duke University Press (1997) p. 158.
(обратно)
669
Кофман, А. Ф., Аргентинское танго и русский мещанский романс. / Литература в контексте культуры. - М.: Наука, 1986. - С. 220-221.
(обратно)
670
Там же.
(обратно)
671
Окампо, Виктория. Беседа с Борхесом. // Иностранная литература. Перевод с исп. Е. Лысенко. - 1991. - № 9.
(обратно)
672
Кофман, А. Ф, Аргентинское танго и русский мещанский романс. / Литература в контексте культуры. - М.:Наука, 1986. - С. 220-221.
(обратно)
673
Osornio, Lopez Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, Buenos Aires, Henisferio Sur (2005), p. 143.
(обратно)
674
Johson, Lyman L. Workshop of Revolution: Plebeian Buenos Aires and the Atlantic World, 1776-1810, Duke University Press (2011), p. 274.
(обратно)
675
Barreneche, Osvaldo. Crime and the administration of justice in Buenos Aires, 1785-1853, University of Nebraska (2006), p. 62.
(обратно)
676
Дарвин, Чарльз. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». /Пер. с англ. С. Л. Соболя; Под редакцией Е. Е Сыроечковского и С. Л. Соболя. - 4-е изд. -М.: Мысль, 1983.-С. 91-92
(обратно)
677
Там же.-С. 151-152.
(обратно)
678
Love, George Thomas. A five years' residence in Buenos Ayres: during the years 1820 to 1825, London (1825), pp. 122-123.
(обратно)
679
Registro oficial (de la provincia de Buenos Aires), Buenos Aires, Imprenta de Alvarez(1821), pp. 128-129.
(обратно)
680
Barreneche, Osvaldo. Crime and the administration of justice in Buenos Aires, 1785-1853, University of Nebraska (2006), p. 62.
(обратно)
681
Борхес, Хорхе Луис. Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. / Произведения 1942-1969 гг, составитель Борис Дубинин. - М.: Амфора, 2000.
(обратно)
682
Burri, Rene. Gauchos, Takarajima books, New York, NY (1994).
(обратно)
683
Lanuza, Jose Luis. The gaucho today. / Burri, Rene. Gauchos, Takarajima books, New York, NY (1994).
(обратно)
684
Валишевский, Казимир. Пётр Великий. - М: Астрель, 2002. - С. 63
(обратно)
685
Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года, Том IV. 1700-1712, Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. - С. 12.
(обратно)
686
Там же. - С. 184.
(обратно)
687
Хоптон, Ричард. Дуэль: всемирная история. - М.: Эксмо, 2010. - С. 370.
(обратно)
688
Там же. - С. 430.
(обратно)
689
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg, The Ohio State University (1998).
(обратно)
690
Rowlands, Samuel. The knave of Clubbs, Printed at London by E. A. dwelling nere Chrift-Church (1611), p.33.
(обратно)
691
Marvell, Andrew. The poetical works of Andrew Marvell, Boston (1857), p. 175.
(обратно)
692
Plays written by the late ingenious Mrs. Behn: in four volumes, London: M. Poulson sold by A. Bettesworth (1724), Vol. I, p. 235.
(обратно)
693
Boyer, Abel. The royal dictionary. French and English, English and French, London,(1729).
(обратно)
694
Streatfeild, George Sidney. Lincolnshire and the Danes, London (1881), p. 362.
(обратно)
695
Грамматин, H. Ф., Паренаго, M. А. Новый английско-российский словарь, в 4 томах. Том III. - М., 1816. - С. 202.
(обратно)
696
John Watts De Peyster, Robert (of Gloucester). The history of Carausius: the Dutch Augustus, and emperor of Britain, Zeeland, Dutch Flanders, Armorica and the Seas; Poughkeepsie: Platt & Schram (1858), not. IV for p. 112.
(обратно)
697
Gilbert, William Schwenck. The Mikado, Dover Publications Inc., Dover Thrift Edition(1992), pp. 43-44.
(обратно)
698
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), p. 119.
(обратно)
699
Shakespeare's Europe; unpublished chapters of Fynes Moryson's Itinerary, being a survey of the condition of Europe at the end of the 16th century; with an introd. and an account of Fynes Moryson's career by Charles Hughes, Sherratt & Hughes, London, (1903), p. 370.
(обратно)
700
The humour of Holland. London: W. Scott (1893), p. 292.
(обратно)
701
Marci, Jacobus. Deliciae Batavicae. Variae elegantesque picturae omnes Belgii antiqui-tates, & quicquid praeterea in eo visitur. Amsterdam: Jean Jansson (1618).
(обратно)
702
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 2007. - С. 197.
(обратно)
703
Konstam, Angus. Piracy: The complete history, Osprey Publishing (2008), pp. 95-98.
(обратно)
704
Wiseman, Richard. Eight chirurgical treatises, on these following heads, Sixth Edition, London (1734), Vol. II, pp. 79-80.
(обратно)
705
Deursen, Arie Theodorus van. Plain lives in a golden age: popular culture, religion, and society in seventeenth-century Holland, University of Cambridge Press, Cambridge,(1991), p. 25.
(обратно)
706
Moodie, Donald. The Record: Or, a Series of Official Papers Relative to the Condition and Treatment of the Native Tribes of South Africa, Cambridge University press, New York(2011), p. 252.
(обратно)
707
Ibid
(обратно)
708
Ibid., p. 315.
(обратно)
709
Ibid., p. 382.
(обратно)
710
Ibid
(обратно)
711
Устав воинский о должности генералов-фелдмаршалов и всего генералитета, и прочих чинов, которые при войске надлежат быть, и оных воинских делах и поведениях, что каждому чинить должно. - Седьмым тиснением. - СПб.: Императорская Академия Наук, 1789. - С. 42.
(обратно)
712
Deursen, Arie Theodorus van. Plain lives in a golden age: popular culture, religion, and society in seventeenth-century Holland, University of Cambridge Press, Cambridge,(1991), p. 25.
(обратно)
713
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 81.
(обратно)
714
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998) p. 117.
(обратно)
715
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 90.
(обратно)
716
Ibid., p. 91.
(обратно)
717
Bakvis, Herman. Catholic power in the Netherlands, McGill-Qeens's University Press, (1981).
(обратно)
718
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), p. 103.
(обратно)
719
Ibid., p. 107.
(обратно)
720
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 82.
(обратно)
721
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University, (1998), p. 113.
(обратно)
722
Ibid., p. 104.
(обратно)
723
Ibid., p. 109.
(обратно)
724
Ibid., p. 111.
(обратно)
725
Ibid., p. 115, p. 123.
(обратно)
726
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 87.
(обратно)
727
Ibid., p. 84. ^
(обратно)
728
Rory Lynn Van Tuyl, Jan N. A. Groenendijk. A Van Tuyl chronicle: 650 years in the history of a Dutch-American family, First edition, Anundsen Publishing, Decorah, IA, (1996), pp. 80-81.
(обратно)
729
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 84.
(обратно)
730
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), pp. 111-112.
(обратно)
731
Ibid., p. 112.
(обратно)
732
Spierenburg, Pieter, Roodenburg, Herman. Social control in Europe: 1500-1800, 1st Edition, Ohio State University Press (2004), pp. 230-231.
(обратно)
733
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), p. 105.
(обратно)
734
Ibid
(обратно)
735
Ibid., p. 114.
(обратно)
736
Ibid.. P.116.
(обратно)
737
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 88.
(обратно)
738
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), p. 115.
(обратно)
739
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), pp. 87-88.
(обратно)
740
Ibid., p. 88.
(обратно)
741
Walsh, Robert. // The American quarterly review, Philadelphia, Carey, Lea & Carey (1828), Vol. 3 (March-June), p. 135.
(обратно)
742
Deursen, Arie Theodorus van. Plain lives in a golden age: popular culture, religion, and society in seventeenth-century Holland, University of Cambridge Press, Cambridge,(1991), pp. 110-111.
(обратно)
743
Ibid
(обратно)
744
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 87.
(обратно)
745
Ibid., p. 82.
(обратно)
746
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), p. 113.
(обратно)
747
Ibid., p. 115.
(обратно)
748
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 89.
(обратно)
749
Ibid
(обратно)
750
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), p. 115.
(обратно)
751
Ibid
(обратно)
752
Ibid
(обратно)
753
Ibid., p. 273.
(обратно)
754
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 97.
(обратно)
755
Gould, George M, Pyle, Walter L. Anomalies and Curiosities of Medicine, Philadelphia(1900), p. 672.
(обратно)
756
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 97.
(обратно)
757
Ibid., p. 98.
(обратно)
758
Gravett, Christopher. German medieval armies 1300-1500, Osprey Publishing, UK(1985), p. 46.
(обратно)
759
Towle, George Makepiece. Vasco da Gama, his voyages and adventures, Boston: Lothrop, Lee & Shepard со (1878), p. 210.
(обратно)
760
Sundstrom, Lars. The exchange economy of pre-colonial tropical Africa, C. Hurst & Company, London (1974), p. 193.
(обратно)
761
Ibid., p. 194.
(обратно)
762
Coleccion de cedulas, cartas-patentes, provisiones, reales ordenes у otros documentos, Madrid, En la imprenta Real (1829), Tomo II, p. 216.
(обратно)
763
Hunt Janin, Ursula Carlson. Trails of Historic New Mexico: Routes Used by Indian, Spanish and American Travelers through 1886, McFarland & Company, Jefferson, N. Carolina (2009), p. 41.
(обратно)
764
Brinckerhoff, Sidney B. Chamberlain, Pierce A. Spanish Military Weapons in Colonial America, 1700-1821, Stackpole Books (1972), p. 110.
(обратно)
765
Simmons, Marc, Turley, Frank. Southwestern Colonial Ironwork: The Spanish Black-smithing Tradition, Sunstone Press, Santa Fe, USA (2008), p. 131.
(обратно)
766
Bancroft, Hubert Howe. California, In XIX Volumes, 1801-1824, San Francisco (1885),Vol. II, p. 202.
(обратно)
767
Loriega, James. Sevillian Steel, The Traditional Knife Fighting Arts of Spain, Paladin Press, Boulder (1999), p. 58.
(обратно)
768
Suarez Avila, Luis. Flamenco: motivacion metommica у evolucion cultural del nombre de los gitanos у de su cante. // Culturas Populares. Revista Electronica 7, julio-diciembre 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. culturaspopulares. org/tex-tos7/articulos/suarez. htm (дата обращения: 3. 08. 2010).
(обратно)
769
Machado у Alvarez, Antonio. El folklore andaluz: revista de cultura tradicional, Sevilla,Andaluria, Fundacio'n Machado (1882), p. 38.
(обратно)
770
Escriche, Joaquin. Diccionario razonado de legislacion у jurisprudencia. Tomo primero, Madrid (1847), p. 264.
(обратно)
771
Howell, Thomas Jones. A Complete Collection of State Trials and Proceedings for HighTreason and other crimes and misdemeanors, Vol. XXX, London (1822), p. 617.
(обратно)
772
Anson George, Walter Richard. A voyage round the world, in the years 1740-44, Edinburgh (1781), Vol. I, p. 31.
(обратно)
773
Perez у Lopez, Antonio Javier. Taatro de la legislacion universal de Espana e Indias, Madrid (1792), Vol. IV, p. 183.
(обратно)
774
Suarez Avila, Luis. Flamenco: motivacion metommica у evolucion cultural del nombre de los gitanos у de su cante. // Culturas Populares. Revista Electronica 7, julio-diciembre 200? P. 18. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. culturaspopulares. org/textos7/articulos/suarez. htm (дата обращения: 3. 08. 2010).
(обратно)
775
Ibid., p. 21.
(обратно)
776
Ibid., p. 13.
(обратно)
777
Hildebrand, Arthur Sturges. Magellan, Harcourt, Brace and Company, New York (1924), p. 138.
(обратно)
778
Moreno, Frederico B. Philippine law dictionary, Third Edition, Rex Printing Company, INC (1982), pp. 234-380.
(обратно)
779
Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Vol. 46, MBRAS (1973), pp. 168-169.
(обратно)
780
Lach, Donald F., Asia in the Making of Europe, Vol. I, The University of Chicago Press, Chicago (1994), p. 601.
(обратно)
781
Yangwen, Zheng. China on the Sea: How the Maritime World Shaped Modern China, Koninklijke Brill NV (Leiden), p. 233.
(обратно)
782
Sarmiento, Domingo Faustino. Conflicto у armonias de Las rasas en America, Tomo primero, S. Ostwald etc, Buenos Aires (1883), p. 184.
(обратно)
783
McNamee, Laurence, Biffle, Kent. A few words, Taylor Pub (1988), p. 137.
(обратно)
784
Petter, Nicolaes. Klare Onderrichtinge der Voortreffelijke Worstel-Konst, JohannesJanssonius, Amsterdam (1674).
(обратно)
785
Hanso, James Austin. Fur trade cutlery sketchbook, The Fur Press; 2nd edition, (1994), p. 6.
(обратно)
786
Haydn, Joseph, Vincent, Benjamin. Haydn's dictionary of dates relating to all ages and nations: for universal reference, Ninth edition, Edward Moxon and Co, Dover Street,(1860), p. 375.
(обратно)
787
Smiles, Samuel. Industrial biography: Iron-workers and tool-makers, Boston (1864), p.133.
(обратно)
788
Farmer, John Stephen. Slang and Its Analogues Past and Present, Printed for subscribers only (1896), p. 65.
(обратно)
789
Burns, Robert. Poems, chiefly in the Scottish dialect, In two volumes, Edinburgh (1794), Vol. II, p. 222.
(обратно)
790
Shackleford, Steve. Blade's Guide to Knives & Their Values, Krause Publications, Iola (2009), p. 165.
(обратно)
791
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present, Polity Press, Cambridge, UK (2008), p. 88.
(обратно)
792
Petter, Nicolaes. Klare Onderrichtinge der Voortreffelijke Worstel-Konst, Johannes Janssonius, Amsterdam (1674), Chapitre 11, 55-64.
(обратно)
793
Marci, Jacobus. Deliciae Batavicae. Variae elegantesque picturae omnes Belgii antiqui-tates, & quicquid praeterea in eo visitur. Amsterdam: Jean Jansson (1618), atlas 40.
(обратно)
794
A new description of Holland, and the rest of the United Provinces in General. Printed for H. Rhodes, London (1701), p. 104.
(обратно)
795
Ibid
(обратно)
796
Диксон, Олард. Мистерии мухомора. / Применение галлюциногенного гриба в шаманской практике. - М.: Велигор, 2005. - С. 42-43.
(обратно)
797
Ibid
(обратно)
798
Ibid
(обратно)
799
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, 8K (2008), p. 89.
(обратно)
800
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), pp. 123-124.
(обратно)
801
Ibid., p. 124.
(обратно)
802
Ibid
(обратно)
803
Rory Lynn Van Tuyl, Jan N. A. Groenendijk. A Van Tuyl chronicle: 650 years in the history of a Dutch-American family, Anundsen Publishing Company, Decorah (1996), p. 82.
(обратно)
804
Arie Theodorus van Deursen. Plain lives in a golden age: popular culture, religion, and society in seventeenth-century Holland, University of Cambridge Press, Cambridge,(1991), pp. 110-111.
(обратно)
805
Rory Lynn Van Tuyl, Jan N. A. Groenendijk. A Van Tuyl chronicle: 650 years in the history of a Dutch-American family, Anundsen Publishing Company, Decorah (1996), p. 197.
(обратно)
806
Ruff, Julius Ralph. Violence in early modern Europe, 1500-1800, Canbridge University Press, Cambridge, UK (2001), p. 50.
(обратно)
807
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), pp. 109-110.
(обратно)
808
Ibid., p. 110.
(обратно)
809
Ibid
(обратно)
810
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present., Polity Press, Cambridge, UK (2008), pp. 65-66.
(обратно)
811
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg. The Ohio State University (1998), p. 110.
(обратно)
812
Ibid., p. 111.
(обратно)
813
Ibid., p. 122.
(обратно)
814
Ibid
(обратно)
815
Ibid
(обратно)
816
Ibid., p. 123.
(обратно)
817
Ibid
(обратно)
818
Ibid., pp. 120-121.
(обратно)
819
Ibid
(обратно)
820
Wild, Albert. Die Niederlande: ihre Vergangenheit und Gegenwart, Wigant (1862), p.259-260.
(обратно)
821
Bardsley, S. A. On the Use and» Abuse of Popular Sports and Exercises, resembling those of the Greeks and Romans, as a national Object. // Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Literary and Philosophical Society of Manchester. Second series, London (1805), Vol I, p. 206.
(обратно)
822
Dutch custom of knife slivering. // The terrific register: or, Record of crimes, judgments, providences and calamities, London (1825), Vol III, p. 613.
(обратно)
823
Отечественные записки. - Том 30, Год пятый. - СПб, 1843 год. - С. 77-78.
(обратно)
824
Singleton, Esther. Dutch New York, New York, Dodd, Mead (1909), p. 275.
(обратно)
825
Truman, Benjamin Cumming. The Field of Honor: Being a Complete and Comprehensive History of Duelling, New York: Fords, Howard, & Hulbert (1884), p. 80.
(обратно)
826
Pedro, Jose Montero de (marques de Casa Mena.). The Spanish in New Orleans and Louisiana, Pelican Publishing Company Inc, Gretna (2000), pp. 16-17.
(обратно)
827
Dimitri, John Bull Smith. Lessons in the history of Louisiana: from its earliest settlement to the close of the civil war, to which are appended lessons in its geography and products, A. S. Barnes & Company (1877), pp. 28-29.
(обратно)
828
Savas, Theodore R, Dameron, J. David. A Guide to the Battles of the American Revolution, Savas Beatie LLC, New York, NY (2010), pp. 66-67.
(обратно)
829
Rodrigues, Junius P. The Louisiana Purchase: A Historical and Geographical Encyclopedia, ABC-CLIO, Santa Barbara, CA (2002). p. 206.
(обратно)
830
Din, Gilbert C. The Canary Islanders of Louisiana, Louisiana State University Press, Baton Rouge (1999), preface XI.
(обратно)
831
Downey, Fairex. Our Lusty Forefathers. New York (1947), p. 263.
(обратно)
832
Ibid
(обратно)
833
Ibid
(обратно)
834
Examiner, 14 November 1888
(обратно)
835
Sullivan, Edward Robert. Rambles and scrambles in North and South America, London (1852), p. 185.
(обратно)
836
Cunningham, Eugene. Triggernometry: A Gallery of Gunfighters, University of Oklahoma Press (1996), p. 67.
(обратно)
837
Maselli Joseph, Candeloro Dominic. Italians in New Orlean, Arcadia Publishing, Chicago, IL (2004), p. 7.
(обратно)
838
Hearn, Lafcadio. Inventing New Orleans, edited by Frederick Starr, University Press of Mississippi (2001), p. 53.
(обратно)
839
Ibid., pp. 53-54.
(обратно)
840
Ibid., p. 54.
(обратно)
841
Kirchner, Paul. The Deadliest Men: The World's Deadliest Combatants Throughout the Ages, Paladin Press (2001), pp. 193-199.
(обратно)
842
Brock, Eric J. New Orleans cemeteries, Arcadia Publishing (1999), p. 120.
(обратно)
843
Gumbo Ya-ya. The Riverside Press, Cambridge, Massachusetts (1945), pp. 329-330.
(обратно)
844
Lafcadio Hearn's America: Ethnographic Sketches and Editorials, edited by Simon J. Bronner, The University Press of Kentucky, Lexington, KY (2002), p. 75.
(обратно)
845
Thorp, Raymond W. Bowie knife, University of Mexico Press (1948), p. 36.
(обратно)
846
Vardis Fisher, Opal Laurel Holmes. Gold rushes and mining camps of the early American West Caldwell, Caxton Press; Fourth Printing edition (1978), pp. 407-408.
(обратно)
847
The New York Times, 9 October 1870.
(обратно)
848
Edmondson, J. R. Jim Bowie: Frontier Legend, Alamo Hero, Rosen Publishing, First Edition, New York, NY (2003), p. 8.
(обратно)
849
Ibid., pp. 14-15.
(обратно)
850
Ibid., p. 6.
(обратно)
851
Baldick, Robert. The duel: a history of dueling, London (1965), pp. 129-130.
(обратно)
852
Ibid
(обратно)
853
Nile's Register, 17 November 1827.
(обратно)
854
Baldick, Robert. The duel: a history of dueling, London (1965), pp. 129-130.
(обратно)
855
Cramer, Clayton E. Concealed weapon laws of the early republic, Praeger Publishers, Westport, CT (1999), pp. 87.
(обратно)
856
Edmondson, J. R. Jim Bowie: Frontier Legend, Alamo Hero, Rosen Publishing, First Edition, New York, NY (2003), p. 52.
(обратно)
857
Cramer, Clayton E. Concealed weapon laws of the early republic, Praeger Publishers, Westport, CT (1999), p. 87.
(обратно)
858
Ibid., p. 88.
(обратно)
859
Ibid
(обратно)
860
Vardis Fisher, Opal Laurel Holmes. Gold rushes and mining camps of the early American West Caldwell, Caxton Press, Fourth Printing edition (1978), p. 407.
(обратно)
861
Cramer, Clayton Е. Concealed weapon laws of the early republic, Praeger Publishers,Westport, CT (1999], p. 88.
(обратно)
862
McComb, David G. Texas, a modern history, University of Texas Press, Austin, TX, (1989], p. 41.
(обратно)
863
Cramer, Clayton E. Concealed weapon laws of the early republic, Praeger Publishers,Westport, CT (1999], p. 90.
(обратно)
864
The American Whig Review, New series, Vol V, New York, (1850], pp. 418-422.
(обратно)
865
New York Times. 21 November 1895.
(обратно)
866
Vincent's semi-annual United States register, Edited by Francis Vincent, Philadelphia, 1st Jan-lst Jul. (I860], p. 818.
(обратно)
867
Kautz, Pete. The Original Cassius Clay. // Close quarter combat Magazine, Issue 15,November 30, (2002], pp. 6-9.
(обратно)
868
Ibid
(обратно)
869
Ibid
(обратно)
870
McQeen, Keven. Cassius. M. Clay, Turner Publishing Company, Paducah, KY, (2001], pp. 17-18.
(обратно)
871
Kautz, Pete. The Original Cassius Clay. // Close quarter combat Magazine, (2002], Issue 15, November 30, pp. 6-9.
(обратно)
872
Коршунов, Э. Л. Генерал-адмиралы Российского императорского флота. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2003. - С. 110-112.
(обратно)
873
McQeen, Keven. Cassius. М. Clay, Turner Publishing Company, Paducah, KY, (2001], p.148.
(обратно)
874
Kautz, Pete. The Original Cassius Clay. // Close quarter combat Magazine (2002], Issue15, November 30, pp. 6-9.
(обратно)
875
Ibid
(обратно)
876
Ibid
(обратно)
877
Ibid
(обратно)
878
The New York Times, 8 December 1861.
(обратно)
879
The American Whig Review, New series, Vol. V -whole Vol. XI, New York, (1850], pp. 420-423.
(обратно)
880
Huston, Matilda Charlotte. Hesperos: or, Travels in the West, In two volumes, London (1850], Vol. II, pp. 48-50.
(обратно)
881
The New York Times, 26 December 1897.
(обратно)
882
The New York Times, 11 October 1885.
(обратно)
883
The New York Times, 12 September 1888.
(обратно)
884
The New York Times, 3 July 1877.
(обратно)
885
Sonnichsen, Charles Leland. Tucson: The Life and Times of an American City, University of Oklahoma Press, Norman (1987], p. 133.
(обратно)
886
The New York Times, 16 September 1880.
(обратно)
887
Meed, Douglas V. Comanche. 1800-74, Osprey Publishing Ltd, Oxford, UK (2003], p. 13-14.
(обратно)
888
Hough, Emerson. The story of outlaw: a study of the western desperado, New York:Grosset & Dunlap (1907), p. 177.
(обратно)
889
Sabine, Lorenzo. Notes on duels and dueling, Boston (1855), p. 223.
(обратно)
890
The New York Times, 18 March 1866.
(обратно)
891
Rolle, Andrew F. The Lost Cause: The Confederate Exodus to Mexico, University of Oklahoma Press, USA (1992), p. 58.
(обратно)
892
Steward, Dick. Duels and the roots of violence in Missouri, University of Missouri Press,Columbia, Missouri (2000), p. 197.
(обратно)
893
Green, A. C. Sketches from the five states of Texas, Texas A &M University Press, 1st edition (1998), p. 126.
(обратно)
894
Ibid
(обратно)
895
Ibid
(обратно)
896
The Family Saga: A Collection of Texas Family Legends. Edited by Francis Edward Ab-ernethy, Jerry Bryan Lincecum, Frances Brannen Vick, University of North Texas Press(2003), pp. 175-178.
(обратно)
897
Sonnichsen, Charles Leland. Ten Texas feuds, University of New Mexico Press, (1971), p. 32.
(обратно)
898
Douglas, Claude Leroy. Famous Texas feuds, State House Press (1988), p. 25.
(обратно)
899
Johnson, Frank White. A history of Texas and Texans, In IV Volumes, American Historical Society, Chicago (1914), Vol III, pp. 1413-1414.
(обратно)
900
Hogan, William Ransom. The Texas republic, University of Oklahoma press (1946), p.240.
(обратно)
901
Johnson, Frank White. A history of Texas and Texans, In IV Volumes, American Historical Society, Chicago (1914), Vol III, pp. 1413-1414.
(обратно)
902
The New York Times, 2 March 1855.
(обратно)
903
The New York Times, 18 September 188^
(обратно)
904
The London literary gazette and journal of belles lettres, arts, sciences, etc., James Moyes, London (1828). p. 184.
(обратно)
905
Piccato, Pablo. City of suspects: crime in Mexico City, 1900-1931, Duke University Press, US (2001), p.91.
(обратно)
906
Ibid
(обратно)
907
Ibid
(обратно)
908
Ibid., p. 89.
(обратно)
909
The New York Times, 3 January 1892.
(обратно)
910
The New York Times, 8 May 1893.
(обратно)
911
Truman, Benjamin Cumming. The Field of Honor: Being a Complete and Comprehensive History of Duelling, New York: Fords, Howard, & Hulbert (1884), p. 91-92.
(обратно)
912
Vardis Fisher, Opal Laurel Holmes. Gold rushes and mining camps of the early American West Caldwell, Caxton Press; Fourth Printing edition (1978), p. 407.
(обратно)
913
Piccato, Pablo. City of suspects: crime in Mexico City, 1900-1931, Duke UniversityPress, US (2001), p.90.
(обратно)
914
Ibid
(обратно)
915
Ibid
(обратно)
916
The New York Times, 19 August 1898.
(обратно)
917
Taylor, William B. Drinking, homicide & rebellion in colonial Mexican villages, Stanford University Press (1979), pp. 82-83.
(обратно)
918
Wise, Henry Augustus. Los gringos: or, An inside view of Mexico and California, with wanderings in Chili, Peru and Polynesia, New York (1849), p. 239.
(обратно)
919
Wilson, Robert Lawrence. Steel canvas: The art of American arms, Chartwell Books,Inc, New Jersey (1995), pp. 108-109.
(обратно)
920
Edmondson, J. R. The Alamo story: from early history to current conflicts, Republic ofTexas Press (2000), p. 123.
(обратно)
921
Edmonson, James M. American surgical instruments: the history of their manufacture and a directory of instrument makers to 1900, Norman Publishing (1997), p. 17.
(обратно)
922
Dougherty, Kevin. Weapons of Mississippi, The University Press of Mississippi, USA(2010), p. 48.
(обратно)
923
Ibid
(обратно)
924
Adams, Bill. The antique Bowie knife book, 1st Edition, Museum Pub. Co (1990), p. 116.
(обратно)
925
Williamson, William R. "Bowie knife", Handbook of Texas online, Published by the Texas State Historical Association. [ Электронный ресурс ]. Режим доступа:http://www. tshaonline. org/handbook/online/articles/BB/lnbl. html (дата обращения:22.04.2010) .
(обратно)
926
Harpers weekly, "Camp life in the confederate army-mississippians practicing with the Bowie knife", August 31,1861.
(обратно)
927
Williamson, William R. "Bowie knife", Handbook of Texas online, Published by the Texas State Historical Association. [ Электронный ресурс ]. Режим доступа:http://www. tshaonline. org/handbook/online/articles/BB/lnbl. html (дата обращения:22.04.2010) .
(обратно)
928
Ibid
(обратно)
929
Ibid
(обратно)
930
Ibid
(обратно)
931
Revoil, Benedict Henry. In Shooting and Fishing in the Rivers, Prairies, and Backwoods of North America, In two volumes, London (1865), Volume II, p. 276.
(обратно)
932
Allen, Michael. Western Rivermen, 1763-1861: Ohio and Mississippi Boatmen and theMyth of the Alligator Horse, Luisiana State University Press, USA (1994), p. 8.
(обратно)
933
Bancroft, Hubert How. California, Volume XIX, 1801-1824, San Francisco (1885), Vol.II, p. 202.
(обратно)
934
Cramer, Clayton E. Concealed weapon laws of the early republic, Praeger Publishers, Westport, CT (1999), p. 143.
(обратно)
935
Ibid., p. 145.
(обратно)
936
Ibid., pp. 145-150.
(обратно)
937
Хоптон, Ричард. Дуэль. Всемирная история. - М.: Эксмо, 2010. - С. 323.
(обратно)
938
Sabine, Lorenzo. Notes on duels and dueling, Third Edition, Boston (1859], pp. 335-336.
(обратно)
939
Ibid
(обратно)
940
Ibid
(обратно)
941
The New York Times, 2 February 1855.
(обратно)
942
The New York Times, 17 February 1885. /
(обратно)
943
Boyer, Paul S. The Oxford Companion to United States History, Oxford UniversityPress, New York, NY (2001), p. 132.
(обратно)
944
Gallant, Thomas W. Honor, masculinity and Ritual knife fighting in Nineteenth-Century Greece. //American Historical Review. Vol 105. No. 2. April 2000, p. 374.
(обратно)
945
Игнатьев, А. А. 50 лет в строю. В двух томах. -Т. 1. - М.: Гос. изд-во худож. лит-ры,1950.-С. 451.
(обратно)
946
Ylikangas, Heikki. The knife fighters: Violent crime in Southern Ostrobothnia, 1790-1825(Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Vakivaltarikollisuus Etela-Pohjanmaalla 1790-1825, Academia Scientarum Fennica, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla [1998], p. 15.
(обратно)
947
Ibid
(обратно)
948
Ibid., p. 231.
(обратно)
949
Ibid
(обратно)
950
Ibid
(обратно)
951
Ibid., p. 132.
(обратно)
952
Ibid., pp. 132-133.
(обратно)
953
Ibid., p. 134.
(обратно)
954
Helsingin Sanomat, 17. 2.1996.
(обратно)
955
Ylikangas, Heikki. The knife fighters: Violent crime in Southern Ostrobothnia, 1790-1825 (Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Vakivaltarikollisuus Etela-Pohjanmaalla 1790-1825, Academia Scientarum Fennica, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla (1998), p. 179
(обратно)
956
Ibid., p. 182.
(обратно)
957
Ibid., pp. 104-105.
(обратно)
958
Ibid
(обратно)
959
Ibid., pp. 105-106.
(обратно)
960
Ibid., p. 100.
(обратно)
961
Ylikangas, Heikki, Karonen, Petri, Lehti, Martti. Five centuries of violence in Finland and the Baltic Area, Ohio State University (2001), p. 94.
(обратно)
962
Wheelwright, Horace William. Ten years in Sweden: being a description of the landscape, climate, domestic life, forests, mines, agriculture, field sports and fauna of Scandinavia, London, Groombridge and sons (1865], p. 118.
(обратно)
963
Ibid., р. 117.
(обратно)
964
Malte-Blun, Conrad. Universal Geography, or description of all the parts of the world, on a new plan, Boston: Lilly and Wait (late Wells and Lilly (1831), Vol. VIII, p. 522.
(обратно)
965
Chesshyre, Henry T. Newton. Recollections of a five years' residence in Norway, London (1861), p. 131.
(обратно)
966
Ibid
(обратно)
967
Prime, Samuel Irenaeus. The Alhambra and the Kremlin: The South and the North of Europe, New York (1870), p. 450.
(обратно)
968
Ампер, Жан-Жак. Очерки Севера. - СПб.: В типографии Н. Греча, 1835. - С. -52-53.
(обратно)
969
Evangelical Christendom, Vol IX, London (1855), p. 374.
(обратно)
970
Ylikangas, Heikki. The knife fighters: Violent crime in Southern Ostrobothnia, 17901825 (Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Vakivaltarikollisuus Etela-Pohjanmaalla 17901825, Academia Scientarum Fennica, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla (1998), p. 108.
(обратно)
971
Ibid., p. 101.
(обратно)
972
Ibid., p. 102.
(обратно)
973
Ibid., p. 103.
(обратно)
974
Ibid
(обратно)
975
Ibid., p. 106.
(обратно)
976
Ibid., p. 74.
(обратно)
977
Mugge, Theodor. Afraja, a Norwegian and Lapland tale: or, Life and love in Norway, Third Edition, Philadelphia (1854), p. 201.
(обратно)
978
Ylikangas, Heikki. The knife fighters: Violent crime in Southern Ostrobothnia, 1790-1825 (Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Vakivaltarikollisuus Etela-Pohjanmaalla 17901825, Academia Scientarum Fennica, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla (1998), p. 74.
(обратно)
979
Ibid., p. 108.
(обратно)
980
Ibid., p. 31.
(обратно)
981
Ibid., p. 32.
(обратно)
982
Ibid., p. 33.
(обратно)
983
Ibid., p. 111.
(обратно)
984
The Penny magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, Vol. 5, London (1836), p. 358.
(обратно)
985
Ylikangas, Heikki. The knife fighters: Violent crime in Southern Ostrobothnia, 1790-1825 (Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Vakivaltarikollisuus Etela-Pohjanmaalla 17901825, Academia Scientarum Fennica, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla (1998), p. 112
(обратно)
986
Ibid., p. 113.
(обратно)
987
Ibid., p. 109.
(обратно)
988
Ibid., p. 103.
(обратно)
989
Ibid., p. 244.
(обратно)
990
Ibid., p. 104.
(обратно)
991
Ibid., pp. 109-110.
(обратно)
992
Ibid., р. 110.
(обратно)
993
Ibid., р. 179.
(обратно)
994
Ibid., р. 180.
(обратно)
995
Ibid., р. 182.
(обратно)
996
Ibid., рр. 184-185.
(обратно)
997
Ibid., р.. 185
(обратно)
998
Ibid
(обратно)
999
Ibid
(обратно)
1000
Ibid., р. 241.
(обратно)
1001
Ibid., р. 242.
(обратно)
1002
Вальтер, Николай. Изнанка финляндской культуры (финляндская печать о финнах). / Материалы для очерка финляндских нравов. - СПб.: Типограф1я Бр. В. И Линник, 1913. - С. 23-40.
(обратно)
1003
Там же
(обратно)
1004
Там же
(обратно)
1005
Ylikangas, Heikki. The knife fighters: Violent crime in Southern Ostrobothnia, 1790-1825 (Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Vakivaltarikollisuus Etela-Pohjanmaalla 1790-1825, Academia Scientarum Fennica, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla (1998), p. 242.
(обратно)
1006
Hoglund, Arthur William. Finnish immigrants in America, 1880-1920, Ayer company Inc, New Hampshire, USA (1979), pp. 88-89.
(обратно)
1007
Ylikangas, Heikki. The knife fighters: Violent crime in Southern Ostrobothnia, 1790-1825 (Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Vakivaltarikollisuus Etela-Pohjanmaalla 1790-1825, Academia Scientarum Fennica, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla (1998), p. 244.
(href=#r1007>обратно)
1008
Куприн, А. И. Мы, русские беженцы в Финляндии: Публицистика (1919- 1921). / Составление, вступительная статья и комментарии Б. Хеллмана при участии Р. Дэвиса. - СПб.: Журнал "Нева". - С. 339.
(обратно)
1009
Иоффе, Э. Линии Маннергейма. - СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2005. - С.151.
(обратно)
1010
«Знамя». - М.: Гослитиздат, 1940. № 11-12. - С. 93.
(обратно)
1011
Фролов Д. Д. Советско-финский плен. 1939-1944 гг. / По обе стороны колючей проволоки. - М.: Алетейя, 2009. - С. 546.
(обратно)
1012
Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России: Сб. статей /Под науч. ред. А. Н. Цамутали, О. П. Илюха, Г. М. Коваленко: НовГУ имени ЯрославаМудрого. - Великий Новгород, 2004. - 404 с., ил. (Серия «Научные доклады»; Вып. 1.).-С.ЗОЗ.
(обратно)
1013
Там же. - С. 303-304.
(обратно)
1014
Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Том VII: 1723-1727.-СПб., 1830.-№ 4939.-С. 682.
(обратно)
1015
Лебедев, В. К истории кулачных боёв на Руси. // Русская старина. - СПб, июль1913.-Т. 155.-С. 108.
(обратно)
1016
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. - СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1890-1907.
(обратно)
1017
Пискарев П. А.; Урлаб Л. Л. Милый старый Петербург: воспоминания о быте старого Петербурга начала XX века. - СПб: Гиперион, 2007. - С. 267-268.
(обратно)
1018
Русское слово, 06 ноября (24 октября) 1907.
(обратно)
1019
Коонен, А. Страницы жизни. - М.: Изд-во “Кукушка", 2003. - С. 25.
(обратно)
1020
Frank Stephen Р. Crime, cultural conflict, and justice in rural Russia 1856-1914, University of California Press, First edition, London (1999), pp. 282-285.
(обратно)
1021
Ibid., pp. 285-286.
(обратно)
1022
Балашев E. M. Школа в российском обществе 1917-1927 гг: становление “нового человека. - СПб.: РАН, 2003. - С. 74.
(обратно)
1023
Крюков, Ф. Без огня. // Русское богатство. - № 12. -СПб., 1912.
(обратно)
1024
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. / Под редакцией А. Береловича, В. Данилова. В III томах. - Том И: 1923-1929. - М.: Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2000. - С. 448-450.
(обратно)
1025
Там же.
(обратно)
1026
Там же.
(обратно)
1027
Печать и революция, 1925г., № 10, выпуски 7-8. - С. 128.
(обратно)
1028
Kendrick, Tertius Т. С. The Ionian islands: Manners and customs, James Haldane, London (1822), p. 171.
(обратно)
1029
Блок, А. А. Собрание сочинений в четырёх томах. Том 2. - М.: Правда, 1981. - С. 307.
(обратно)
1030
Сулиоты. // Вестник Европы. - М., 1825. - Ч. 142, № 10. - С. 143-146.
(обратно)
1031
Kendrick, Tertius Т. С. The Ionian islands: Manners and customs, James Haldane, London(1822), pp. 47-48.
(обратно)
1032
De Jongh, Brian. Companion guide to Greece, Companion guides, Woodridge (2000), p. 470.
(обратно)
1033
Souliotes. [ Электронный ресурс ]. Режим доступа: http://en. wikipedia. org/wiki/Souliotes (дата обращения: 07. 02. 2010).
(обратно)
1034
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В современной орфографии. - СПб.: Издательское общество “Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон", 1907-1909.
(обратно)
1035
Pappas, Nicholas С. J, Stradioti: Balkan Mercenaries in Fifteenth and Sixteenth Century Italy. [ Электронный ресурс ]. Режим доступа: http://www. shsu. edu/~his_ncp/Stra-dioti. html (дата обращения: 09. 02.2010).
(обратно)
1036
Orkney, George William Hamilton Fitzmaurice. Four Years in the Ionian Islands: theirPolitical and Social condition, in two volumes, London (1864), Vol. I, p. 2.
(обратно)
1037
Ibid., p. 45.
(обратно)
1038
Милютин, Д. А. История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование императора Павла I. / Издание второе. - Том I, части I-IV. - СПб., 1857. - С. 480.
(обратно)
1039
Gallant, Thomas W. Honor, Masculinity, and Ritual Knife Fighting inNineteenth-Century Greece. // The American Historical Review, Vol. 105. No. 2, April(2000), p. 377.
(обратно)
1040
Ibid., p.361.
(обратно)
1041
Ibid., p. 362.
(обратно)
1042
Gallant, Thomas W. Experiencing dominion: culture, identity and power in the BritishMediterranean, University of Notre Dame Press (2002) p. 133.
(обратно)
1043
Gallant, Thomas W. Honor, Masculinity, and Ritual Knife Fighting inNineteenth-Century Greece. // The American Historical Review, Vol. 105, No. 2, April (2000), p. 359.
(обратно)
1044
Ibid., p. 364.
(обратно)
1045
Ibid
(обратно)
1046
Gallant, Thomas W. Experiencing dominion: culture, identity and power in the British Mediterranean, University of Notre Dame Press (2002) p. 126.
(обратно)
1047
Gallant, Thomas W. Honor, Masculinity, and Ritual Knife Fighting inNineteenth-Century Greece. // The American Historical Review, Vol. 105, No. 2, April (2000), p. 364.
(обратно)
1048
Ibid., p. 365.
(обратно)
1049
Ibid
(обратно)
1050
Ibid., p. 366.
(обратно)
1051
Gallant, Thomas W. Experiencing dominion: culture, identity and power in the British Mediterranean, University of Notre Dame Press (2002), p. 126.
(обратно)
1052
Gallant, Thomas W. Honor, Masculinity, and Ritual Knife Fighting inNineteenth-Century Greece. // The American Historical Review, Vol. 105, No. 2, April 2000, p. 366.
(обратно)
1053
Ibid
(обратно)
1054
Ibid., p. 367.
(обратно)
1055
Herzfeld, Michael. The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountain Village, Prineston University Press, Prineston, NJ (2005), pp. 143-144.
(обратно)
1056
Ibid
(обратно)
1057
Gallant, Thomas W. Honor, Masculinity, and Ritual Knife Fighting inNineteenth-Century Greece. // The American Historical Review, Vol. 105. No. 2, April 2000, p. 375.
(обратно)
1058
Ibid., p. 376.
(обратно)
1059
Ibid., p. 367.
(обратно)
1060
Gallant, Thomas W. Experiencing dominion: culture, identity and power in the British Mediterranean, University of Notre Dame Press (2002), p. 130.
(обратно)
1061
Gallant, Thomas W. Honor, Masculinity, and Ritual Knife Fighting inNineteenth-Century Greece. // The American Historical Review, Vol. 105. No. 2, April (2000), p.368.
(обратно)
1062
Gallant, Thomas W. Experiencing dominion: culture, identity and power in the British Mediterranean, University of Notre Dame Press (2002), p. 133.
(обратно)
1063
Gallant, Thomas W. Honor, Masculinity, and Ritual Knife Fighting in Nineteenth-Century Greece. // The American Historical Review, Vol. 105. No. 2, April (2000), p. 369
(обратно)
1064
Ibid., p. 369.
(обратно)
1065
Ibid., p. 376.
(обратно)
1066
Ibid., p. 378.
(обратно)
1067
Ibid, pp. 378-379.
(обратно)
1068
Ibid., pp. 379-380.
(обратно)
1069
Ibid., p. 380.
(обратно)
1070
Ibid., p. 381.
(обратно)
1071
Ibid., p. 382.
(обратно)
1072
Хоптон, Ричард. Дуэль. Всемирная история. - М.: Эксмо, 2010. -С. 121.
(обратно)
1073
Там же. - С. 124.
(обратно)
1074
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 2007. - С.. 82
(обратно)
1075
Хоптон, Ричард. Дуэль. Всемирная история. - М.: Эксмо, 2010. -С. 121.
(обратно)
1076
Caroll, Stuart. Blood and violence in early modern France, Oxford University Press, (2006), p. 163.
(обратно)
1077
Ibid
(обратно)
1078
Ibid., p. 137.
(обратно)
1079
Записки для чтения. - СПб.: Изд. К. Трубников, июль 1867. - С. 473.
(обратно)
1080
Hutton, Alfred. The Sword Through the Centuries, Dover Publications, Inc., Mineola, N. Y(2002), pp. 119-120.
(обратно)
1081
Ibid., pp. 117-119.
(обратно)
1082
Turner, Sharon. The Modern History of England. The history of the reigns of Edward the Sixth, Mary, and Elizabeth, Part the second, London (1835), Vol. IV, p. 361.
(обратно)
1083
Memoirs of Maximilian de Bethune, duke of Sully, prime minister to Henry the Great. In six volumes, The Fourth Edition, London (1763), Vol V, pp. 285-286.
(обратно)
1084
Goldsmid, Edmund. The Trial of Francis Ravaillac for the Murder of King Henry theGreat, Edinburgh (1885), p. 15.
(обратно)
1085
Armstrong, Alastair. France, 1500-1715, Oxford, UK (2003), p. 90.
(обратно)
1086
Ruff, Julius Ralph. Violence in early modern Europe, 1500-1800, Canbridge UniversityPress, Cambridge, UK (2001), p. 50.
(обратно)
1087
Recueil des Edits, declarations, arrests et regiemens, Douai (1730), pp. 27-28.
(обратно)
1088
Hutton, Alfred. The Sword Through the Centuries, Dover Publications, Inc, Mineola, N. Y (2002), pp. 116-117.
(обратно)
1089
Хоптон, Ричард. Дуэль. Всемирная история. - М.: Эксмо, 2010. - С. 152-157.
(обратно)
1090
Truman, Benjamin Cummings. The Field of Honor: Being a Complete and Comprehensive History of Duelling, New York: Fords, Howard, & Hulbert (1884), p. 236.
(обратно)
1091
Gilje, Paul A. Rioting in America, Indiana University Press, Bloomington (1999), p. 65.
(обратно)
1092
Dubois, Claude. La Bastoche: bal-musette, plaisir et crime, 1750-1939: "Paris entre chiens et loups", Editions du Felin (1997), pp. 82-85.
(обратно)
1093
Knowles, Mark. The Wicked Waltz and Other Scandalous Dances, McFarland, Jefferson, NC (2009), p. 207.
(обратно)
1094
Ibid
(обратно)
1095
Le Petite Journal illustre, 23 Janvier 1910, p. 26.
(обратно)
1096
Parry, Albert. Tattoo: secrets of a strange art as practised among the natives of the United States, Simon and Schuster (1933), p. 108.
(обратно)
1097
Collier's, Vol. 110, Part II, Crowell-Collier Publishing Company (1942), p. 26.
(обратно)
1098
Hogg, Ian V, Weeks, John, Walter John. Pistols of the World, Krause Publications, Iola, WI (2004), p. 102.
(обратно)
1099
Ознобишин, H. H. Искусство рукопашного боя, - M.: Фаир-Пресс, 2005. - С. 374.
(обратно)
1100
Там же. - С. 365-366.
(обратно)
1101
National Police Gazette, 21 October 1905, p. 3.
(обратно)
1102
Ibid
(обратно)
1103
Le Petit Journal, 20 octobre 1907.
(обратно)
1104
Knowles, Mark. The wicked waltz and other scandalous dances, McFarland, Jefferson, NC (2009), p. 207.
(обратно)
1105
«Раннее утро», 15 октября (2 октября) 1908 года.
(обратно)
1106
Knowles, Mark. The wicked waltz and other scandalous dances, McFarland, Jefferson, NC (2009), p. 207.
(обратно)
1107
Ibid
(обратно)
1108
Сименон, Жорж. Романы. / Составитель Й. Фомина. - М.: Олма-Пресс, 2003. - С. 43.
(обратно)
1109
The New York Times, 1 June 1922.
(обратно)
1110
The New York Times, 22 June 1922.
(обратно)
1111
Le Petit Journal Illustre, 25 Juin 1933, p. 4.
(обратно)
1112
The New York Times, 30 June 1907.
(обратно)
1113
Le Petit Journal illustre, 19 Mai 1907.
(обратно)
1114
Vidocq, Eugene Francois. Les voleurs: physiologie de leurs moeurs et de leur langage, Seconde Edition, Paris (1837), Tome second, p. 281.
(обратно)
1115
Sue, Eugene. Les mysteres de Paris. //Journal des debats, 19 June 1842 until 15 October (1843).
(обратно)
1116
Kastner, L. E., Marks, J. A. Glossary of Colloquial and Popular French for the Use of English Readers and Travellers, London & Toronto (1929), p. 338.
(обратно)
1117
Гюго, Виктор. Собрание сочинений в 10-и томах. Том 3. - М.:Издательство "Правда", 1972. - С. 23.
(обратно)
1118
Hugo, Victor. Les miserables, Cinquieme partie (Jean Valjean), New-York (1862), p. 33.
(обратно)
1119
Lyon-Republicain, 31 mai 1903.
(обратно)
1120
Williams, G. Valentine. With our army in Flanders, Edward Arnold, London (1915), p. 40.
(обратно)
1121
D'Armoric, Georges. Les Boxeurs Francis's Treatise on the French Method of the Noble Art of Self Defence: With a Short Chapter on “canne”, London (1898), 35p.
(обратно)
1122
Dubois, Georges/ Comment se deffendre, Editions Nilson, Paris (1918), pp. 181-182.
(обратно)
1123
Ibid., p. 171, fig. 42-43.
(обратно)
1124
Joseph-Renaud, Jean. La Defense Dans La Rue, Preface de M. F. Goron, P. Laffitte, Paris (1912).
(обратно)
1125
Knife crime cuts a global trail, Wednesday, 16 July 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news. bbc. со. uk/2/hi/europe/7508418. stm (дата обращения: 25.04.2010).
(обратно)
1126
Singleton, Esther. Dutch New York, New York: Dodd, Mead (1909), p. 275.
(обратно)
1127
O'Callaghan, Edmund Bailey. Laws and ordinances of New Netherland, 1638-1674, Weed, Parsons and Company, Albany (1868). p. 33.
(обратно)
1128
Munsell, Joel. The Annals of Albany, Vol. X, Munsell & Rowland, Albany (1859), p. 170.
(обратно)
1129
Abbott, John, S. C, Peter Stuyvesant, the Last Dutch Governor of New Amsterdam, EchoLibrary, Teddington, UK (2006), p. 59.
(обратно)
1130
Collins, Robert O. Documents from the African past, Markus Wiener Publishers, Princeton, NJ (2001), p. 96.
(обратно)
1131
South African Navaja, 3 March 2006. [Электронный ресурс ]. Режим доступа: http:// www. vikingsword. com/vb/showthread. php?t=1976 (дата обращения: 12. 04. 2010).
(обратно)
1132
Полозов, В. П. Оружие в гражданском обществе (ultimum ratio civils). / Политикоправовое исследование, (издание третье исправленное и дополненное). - М.: Крафт+, 2001. - 224. с.
(обратно)
1133
Guns in America: A Historical Reader, Edited by Dizard, Jan E, Muth Robert M, Andrews, Stephen P, New York University Press, New York & London (1999), p. 393.
(обратно)
1134
Manzoni, Alessandro. I promessi sposi: Storia milanese del secolo XVII, Milano (1868).
(обратно)
1135
Pellico, Silvio. Le mie prigioni, Torino, (1832).
(обратно)
1136
Burton, Richard Francis. The Book of the Sword, London, Chatto and Windus (1884), p. 270.
(обратно)
1137
Mack Smith, Dennis, Italy: A modern history, University of Michigan Press, (1969), p. 75.
(обратно)
1138
Lupo, Salvatore. History of the mafia, Colombia University Press (2009), XII, Foreword.
(обратно)
1139
Whittam, John. Politics of the Italian Army, 1861-1918, Shoe String Press Inc, Hamden(1976), pp. 83.
(обратно)
1140
Ibid
(обратно)
1141
Ibid., p. 84.
(обратно)
1142
Lupo, Salvatore, History of the mafia, Colombia University Press (2009), XII, Foreword.
(обратно)
1143
Cinel, Dino. From Italy to San Francisco: the immigrant experience, Stanford University Press, Stanford (1982), pp. 32-33.
(обратно)
1144
Ibid., p. 32.
(обратно)
1145
Ibid., pp. 32-33.
(обратно)
1146
Seamen's Journal: A Journal of Seamen, by Seamen, for Seamen, Sailors' Union of the Pacific (1914), Vol. 27, p. 624.
(обратно)
1147
The New York Times, 6 August 6 1906.
(обратно)
1148
The New York Daily Tribune, 7 August 1906.
(обратно)
1149
Myth in Indo-European Antiquity. Edited by Gerald James Larson, C. Scott Littleton, Jaan Puhvel, University of California Press (1974), pp. 131-157.
(обратно)
1150
About, Edmond. Rome of today, New York (1861), p. 89.
(обратно)
1151
The New York Times. 4 December 1879.
(обратно)
1152
The New York Times, 2 January 1886.
(обратно)
1153
The New York Times, 17 December 1888.
(обратно)
1154
The New York Times, 28 July 28 1889.
(обратно)
1155
The New York Times, 16 May 1893.
(обратно)
1156
Gill, James. Lords of Misrule: Mardi Gras and the Politics of Race in New Orleans, University Press of Mississippi (1997), p. 139.
(обратно)
1157
Palisi, Frank J. Sicily To New Orleans And Beyond, Outskirts Press (2009), p. 31.
(обратно)
1158
The Business of Crime: Italians and Syndicate Crime in the United States, University of Chicago Press, Chicago, IL (1981), p. 37.
(обратно)
1159
The New York Times, 16 May 1893.
(обратно)
1160
Ibid
(обратно)
1161
The New York Times, 16 May 1893.
(обратно)
1162
The New York Times, 14 July 1893.
(обратно)
1163
The New York Times, 4 December 1879.
(обратно)
1164
The New York Times, 17 September 1900.
(обратно)
1165
The New York Times, 21 April 1907.
(обратно)
1166
The New York Times, 17 April 1893.
(обратно)
1167
The New York Times, 6 May 1897.
(обратно)
1168
The New York Times, 19 January 1894.
(обратно)
1169
The New York Times, 21 December 1894.
(обратно)
1170
The New York Times, 17 February 1908.
(обратно)
1171
The New York Times, 22 December 1906.
(обратно)
1172
The New York Times, 9 May 1913.
(обратно)
1173
The New York Times, 5 February 1921.
(обратно)
1174
Sifakis, Carl. The mafia encyclopedia, Third Edition, Checkmark Books, New York, (2005), p.223
(обратно)
1175
Ibid
(обратно)
1176
War medicine. Editor: Winfield Scott Pugh, New York, N. Y (1942), pp. 179-180.
(обратно)
1177
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 2007. - С. 36-37.
(обратно)
1178
Ibid., р. 245.
(обратно)
1179
Бёртон, Ричард Ф. Книга мечей. - М.: Центрполиграф, 2004. - С. 11.
(обратно)
1180
Там же.-С. 12.
(обратно)
1181
Porter Henry. The two angry women of Abington, London (1599), The Malone Society reprints, Oxford University Press (1912), F3 -1340.
(обратно)
1182
Морозов, M. M. Избранные статьи и переводы. - М.: ГИХЛ, 1954; по: Steane, John Barry, Marlowe: a critical study by J. B. Steane, Cambridge University Press, 1964, pp. 4-6.
(обратно)
1183
The Comedies, Histories, Tragedies, and Poems of William Shakspere. Edited by Charles Knight, The Second Edition, In III Volumes, London (1842), Volume III.
(обратно)
1184
Ibid
(обратно)
1185
Motley, John Lothrop. History of the Netherlands, In Four Volumes, 1586-89, New York, Harper & Brothers (1867), Vol. II, p. 156-157.
(обратно)
1186
Кастл Эгертон. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. - М.: Центрполиграф, 20t)7. - С. 39.
(обратно)
1187
Там же. - С. 40.
(обратно)
1188
Там же.-С. 127.
(обратно)
1189
Collins, Tony, Martin, John, Vamplew, Wray. Encyclopedia of traditional British rural sports, Routledge, NY (2005), pp. 216-217.
(обратно)
1190
Ibid
(обратно)
1191
Rusnak, Mattew Francis. Dissertation ( Doctor of Philosophy ), The trial of Giuseppe Baretti, October 20th 1769, A literary and cultural history of the Baretti case, New Brunswick, New Jersey, May (2008), p. 200.
(обратно)
1192
Ibid
(обратно)
1193
Ulijaszek, Stanley J, Francis E. Johnston, M. A. Preece. The Cambridge encyclopedia of human growth and development, Cambridge University Press, Cambridge (1998), p. 391.
(обратно)
1194
Peltonen, Markku. The duel in early modern England: civility, politeness, and honour Cambridge University Press, Cambridge (2003), p. 59-60.
(обратно)
1195
Ibid
(обратно)
1196
Ibid
(обратно)
1197
Taylor, Gary, Lavagnino, John. Thomas Middleton: The Collected Works, Oxford University Press, New York (2010), p. 1304.
(обратно)
1198
Peltonen, Markku. The duel in early modern England: civility, politeness, and honour, Cambridge University Press, Cambridge (2003), p. 132.
(обратно)
1199
Ibid
(обратно)
1200
Ibid., p. 143.
(обратно)
1201
Ibid., p. 144.
(обратно)
1202
Ibid
(обратно)
1203
Buoni, Tomasso. Nuouo thesoro de'prouerbij italiani, In Venetia (1610), p. 35
(обратно)
1204
Apperson, George Latimer. English proverbs and proverbial phrases: a historical dictionary, J. M. Dent and Sons limited (1929), p. 601.
(обратно)
1205
Larkin, James Francis, Hughes, Paul L. Stuart royal proclamations, Vol. I, Clarendon Press (1973), p. 359.
(обратно)
1206
Cotgrave, Randle. A French and English dictionary, London (1673).
(обратно)
1207
Auckland,WilliamEden.PrinciplesofPenal Law,London,PrintedforB.White(1771),p.212.
(обратно)
1208
The humour of Holland. London, W. Scott (1893), p. 292.
(обратно)
1209
Rusnak, Mattew Francis. Dissertation ( Doctor of Philosophy ), The trial of Giuseppe Baretti, October 20th 1769, A literary and cultural history of the Baretti case, New Brunswick, New Jersey, May (2008), p. 21.
(обратно)
1210
Ibid., p. 29.
(обратно)
1211
Sharp, Samuel. Letters from Italy: describing the customs and manners of that country,The Third Edition, London (1767), pp. 284-285.
(обратно)
1212
Rusnak, Mattew Francis. Dissertation ( Doctor of Philosophy ), The trial of Giuseppe Baretti, October 20th 1769, A literary and cultural history of the Baretti case, New Brunswick, New Jersey, May (2008), p. 199.
(обратно)
1213
Grant, James. Adventures of an aide-de-camp, or a campaign in Calabria, London G. Routledge (1857), Vol. II, pp. 209-211.
(обратно)
1214
Egan, Pierce. Boxiana; or, Sketches of ancient and modern pugilism, London, (1823),Vol I, p. 13.
(обратно)
1215
The terrific register: or, Record of crimes, judgments, providences and calamities. Vol III, London: Published by Sherwood, Jones, and Co. and Hunter, Edinburgh (1825), p. 613.
(обратно)
1216
Philips, David. Crime and authority in Victorian England, Rowman & Littlefield Pub Inc (1978), p. 265.
(обратно)
1217
Wiener, Martin J. Men of blood: violence, manliness and criminal justice in VictorianEngland, Cambridge University Press, Cambridge (2004), p. 58.
(обратно)
1218
Emsley, Clive. The English and Violence Since 1750, Hambledon and London, (2007), p. 87.
(обратно)
1219
Wiener, Martin J. Men of blood: violence, manliness and criminal justice in Victorian England, Cambridge University Press, Cambridge (2004), p. 58.
(обратно)
1220
Ibid
(обратно)
1221
Ibid
(обратно)
1222
Ibid
(обратно)
1223
The London review of politics, society, literature, art, & science, № 236, Vol. X, Saturday, January 7, (1865), pp. 269-271.
(обратно)
1224
Bruce Herald, 21 January 1873. Volume VI, Issue 456, p. 7.
(обратно)
1225
Булгаков, M. А. Москва краснокаменная. Театральный роман. Дни Турбиных:Рассказы, фельетоны, пьесы. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - С. 71-75.
(обратно)
1226
The Human Tradition in Modern France. Edited by K. Steven Vincent, Alison Klair-mont-Lingo, Scholarly Resources Inc, Wilmington, DE (2000), pp. 83-99.
(обратно)
1227
Men and violence: gender, honor, and rituals in modern Europe and America. Edited by Pieter Spierenburg, Ohio State University Press, Columbus (1998), pp. 129-133.
(обратно)
1228
Sims, George Robert. Living London: its work and its play, its humour and its pathos, its sights and its scenes, III Volumes, Cassell and Company (1902), Vol I, p. 5.
(обратно)
1229
EmsleyClive.TheEnglishandViolenceSince 1750, New York&London (2007),pp. 33-34.
(обратно)
1230
Knife UK: The rise of knife culture. //The Independent, November 4, 2006.[Электронный ресурс ]. Режим доступа: http://www. independent, со. uk/news/uk/ crime/knife-uk-the-rise-of-knife-culture-422661. html (дата обращения: 22. 07. 2010).
(обратно)
1231
Worden, Tom. British knife culture travels with thugs to holiday resorts as Spanish police start random spot checks. // Daily Mail, August 19, 2008. [ Электронный ресурс ]. Режим доступа:http://www. dailymail. со. uk/news/article-1046981/British-knife-culture-travels-thugs-holiday-resorts-Spanish-police-start-random-spot-checks. html (дата обращения: 23. 07.2010).
(обратно)
1232
Piccato, Pablo. City of suspects: crime in Mexico City, 1900-1931, Duke University Press,(2001), p. 91.
(обратно)
1233
Ibid
(обратно)
1234
Chambers, William. A tour in Holland, the countries on the Rhine, and Belgium. In the autumn of 1832, Edinburgh (1839), p. 78.
(обратно)
1235
Ibid
(обратно)
1236
Sullivan, Edward Robert. Rambles and scrambles in North and South America, London,Richard Bentley (1852), p. 276.
(обратно)
1237
Bristol, Douglas Walter Jr. Knights of the razor: black barbers in slavery and freedom, The John Hopkins University Press (2009), pp. 137.
(обратно)
1238
Ibid., pp. 137-139.
(обратно)
1239
Hemingway, Ernest. The complete short stories of Ernest Hemingway, The Finca Vigia Edition Scribner, NY (1987), pp. 575-576.
(обратно)
1240
Eby Carl P. Hemingway's fetishism: psychoanalysis and the mirror of manhood, State University of New York Press (1999), p. 66.
(обратно)
1241
Keystone Folklore Quarterly, Vol. XVII, The Pensylvania Folklore Society, Pittsburgh(1972), p.63.
(обратно)
1242
Edwards, Jay Dearborn. A Creole Lexicon, Louisiana State University Press, BatonRouge (2004), p. 20.
(обратно)
1243
Anderson, Janet Aim. A Taste of Kentucky, The University Press of Kentucky, Lexington(1986), pp. 23-25.
(обратно)
1244
Keystone Folklore Quarterly, Vol. XVII, The Pensylvania Folklore Society, Pittsburgh(1972), pp. 74-75.
(обратно)
1245
The New York Times, 13 September 1891.
(обратно)
1246
The New York Times, 25 July 1898.
(обратно)
1247
The New York Times, 18 March 1902.
(обратно)
1248
The New York Times, 3 July 1905.
(обратно)
1249
The New York Times, 15 April 1907.
(обратно)
1250
The New York Times, 17 August 1908.
(обратно)
1251
Capoeira, Nestor. Capoeira: roots of the dance-fight-game, North Atlantic Books (2002), p. 156.
(обратно)
1252
Ibid., p. 12.
(обратно)
1253
Assungao, Matthias Rohrig. Capoeira: The History of an Afro-Brazilian Martial Art,Routledge, Oxon, OX (2005), p. 73.
(обратно)
1254
Ibid., p. 149.
(обратно)
1255
Talmon-Cvaicer, Maya. The hidden history of capoeira: a collision of cultures in the Brazilian battle dance, University of Texas Press (2008), p. 20.
(обратно)
1256
Desch-Obi, Thomas J. Fighting for honor: the history of African martial art traditions in the Atlantic world, University of South Carolina (2008), pp. 161-162.
(обратно)
1257
Talmon-Cvaicer, Maya. The hidden history of capoeira: a collision of cultures in the Brazilian battle dance, University of Texas Press (2008), pp. 99-100.
(обратно)
1258
Ibid
(обратно)
1259
Desch-Obi, Thomas J. Fighting for honor: the history of African martial art traditions in the Atlantic world, University of South Carolina (2008), pp. 161-162.
(обратно)
1260
Talmon-Cvaicer, Maya. The hidden history of capoeira: a collision of cultures in the Brazilian battle dance, University of Texas Press (2008), p. 20.
(обратно)
1261
Ibid
(обратно)
1262
Capoeira, Nestor. Capoeira: roots of the dance-fight-game, North Atlantic Books (2002), p. 12.
(обратно)
1263
Desch-Obi, Thomas J. Fighting for honor: the history of African martial art traditions in the Atlantic world, University of South Carolina (2008), p. 162.
(обратно)
1264
Ibid
(обратно)
1265
Talmon-Cvaicer, Maya. The hidden history of capoeira: a collision of cultures in the Brazilian battle dance, University of Texas Press (2008), p. 20.
(обратно)
1266
Desch-Obi, Thomas J. Fighting for honor: the history of African martial art traditions in the Atlantic world, University of South Carolina (2008), p. 208.
(обратно)
1267
Ibid
(обратно)
1268
Burton, Richard Francis. A mission to Gelele, King to Dahome, Second edition, In Two Volumes, London (1864), Vol II, p. 224.
(обратно)
1269
Burton, Richard, Francis. The book of the sword, London, Chatto and Windus (1884), pp. 168-169.
(обратно)
1270
Ibid., p. 140.
(обратно)
1271
Desch-Obi, Thomas J. Fighting for honor: the history of African martial art traditions in the Atlantic world, University of South Carolina (2008), p. 302.
(обратно)
1272
Kosmos. Revista Artistica, Scientifica e Literaria, n. 62, Rio de Janeiro. Ano III, 1906, Fig. C6.
(обратно)
1273
Desch-Obi, Thomas J. Fighting for honor: the history of African martial art traditions in the Atlantic world, University of South Carolina (2008), p. 303.
(обратно)
1274
Capoeira, Nestor. Capoeira: roots ofthe dance-fight-game, Blue Snake Books (2002), p. 147.
(обратно)
1275
Desch-Obi, Thomas J. Fighting for honor: the history of African martial art traditions in the Atlantic world, University of South Carolina (2008), p. 303.
(обратно)
1276
Ibid., pp. 303-304.
(обратно)
1277
Ibid., p. 304.
(обратно)
1278
Ibid
(обратно)
1279
Capoeira, Nestor. Capoeira: roots ofthe dance-fight-game, Blue Snake Books (2002), p. 30.
(обратно)
1280
Newton, Michael. The Encyclopedia of Kidnappings, Facts on File, Inc, New York, NY(2002), p. 112.
(обратно)
1281
МАЛАЛА, ИОАнн. Византийские хроники от начала до VII в. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 4. 485, прим. 604.
(обратно)
1282
Песнь о Роланде; Коронование Людовика; Нимская телега; Песнь о Сиде; Романсеро. М., 1976. - С. 259-360.
(обратно)
1283
Di Giacomo, Salvatore. Gli sfregi 3i Napoli, Liguori Editore, Napoli (2005), p. 29.
(обратно)
1284
Ibid., pp. 29-30.
(обратно)
1285
Назарова E. Л. Ливонские правды как исторический источник . // Древнейшие государства на территории СССР. - М.: Издательство «Наука», 1979. - С. 196,15-16.
(обратно)
1286
Сааведра, Мигуэль де Сервантес. Сочинения. / Серия: Золотой том. - М.: Олма-Пресс, 2002. - С. 805-807.
(обратно)
1287
Wiseman, Richard. Eight chirurgical treatises, on these following heads, Sixth Edition, London (1734), Vol. II, pp. 79-80.
(обратно)
1288
Гумилёв, H. С. Стихи. Письма о русской поэзии. - М.: Художественная литература, 1989.-С. 167.
(обратно)
1289
Мериме Проспер. Новеллы. / Перевод с французского. Комментарии А. Михайлова. /П. Мериме. - М.: Художественная литература, 1978 г. - 349 с.
(обратно)
1290
Ullman, Stephen. Style in the French novel, Cambridge University Press, Cambridge, UK (1957), p. 55.
(обратно)
1291
Мериме Проспер. Новеллы. / Перевод с французского. Комментарии А. Михайлова. /П. Мериме. - М.: Художественная литература, 1978 г. - 349 с.
(обратно)
1292
Merimee, Prosper. Nouvelles de Prosper Merimee, Troisieme Edition, Paris (1857), p. 43.
(обратно)
1293
The Magazine of Science, and School of Arts, Edited by G. Francis, London (1844), Vol. V, p. 13.
(обратно)
1294
The Journal of the Royal Geographical Society of London, London (1836), Vol. six, p. 116.
(обратно)
1295
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages. De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 378.
(обратно)
1296
Navarrete, Martin Fernandez de. Diccionario maritimo espanol, Madrid, en la imprenta real (1831), p. 421.
(обратно)
1297
Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages. De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 378.
(обратно)
1298
Manual del baratero о arte manejar de navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, M. d. R, Madrid (1849), p. 22.
(обратно)
1299
Segarra, Tomas. Poesias populares, F. A. Brockhaus, Leipzig (1862), p. 257.
(обратно)
1300
Ford, Richard. A handbook for travelers in Spain, Third Edition, London (1855), Part II, pp. 804-805.
(обратно)
1301
Lotte van de Pol. Het Amsterdams hoerdom: prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw, Wereldbibliotheek (1996), p. 80.
(обратно)
1302
Men and Violence: Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America. Edited by Pieter Spierenburg, The Ohio State University (1998), p. 118.
(обратно)
1303
Ibid
(обратно)
1304
Rudolf Dekker, Lotte van de Pol. Vrouwen in mannenkleren: de geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa, 1500-1800, Wereldbibliotheek (1989), p. 56.
(обратно)
1305
Jaap Jacobs. New Netherland: a Dutch colony in seventeenth-century America, Brill Academic Publishers (2004), p. 453.
(обратно)
1306
Ibid
(обратно)
1307
Spierenburg, Pieter Cornelius. A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present, Polity Press, Cambridge, UK (2008), pp. 65-66.
(обратно)
1308
Men and Violence: Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg, The Ohio State University (1998), p. 115.
(обратно)
1309
Майер, Генрих. Дочь оружейника. - СПб, 1873.
(обратно)
1310
J. L. de Jager. Volksgebruiken in Nederland: een nieuwe kijk op tradities, Spectrum(1981), p. 20.
(обратно)
1311
The European magazine, and London review, Volumes 81-82 (from July to December), By Lupton Relfe, 13, Cornhll, London (1822).
(обратно)
1312
Turner, James Grantham. Libertines and radicals in early modern London, CambridgeUniversity Press, Cambridge (2002), pp. 24-27.
(обратно)
1313
Baretti, Giuseppe Marco Antonio. A dictionary of the English and Italian languages, London (1760), Vol. I.
(обратно)
1314
Di Giacomo, Salvatore. Gli sfregi di Napoli: testi storici e letterari sui bassifondi parteno-pei, Liguori Editore, Napoli (2005), p. 27.
(обратно)
1315
Ibid., p. 30.
(обратно)
1316
Accounts and papers of the House of Commons, In thirty volumes, Great Britain. Parliament. House of Commons, London (1858), Vol. LIX, p. 29.
(обратно)
1317
Ibid., p.30.
(обратно)
1318
Ibid., p. 31.
(обратно)
1319
Baronti, Giancarlo. Coltelli D'ltalia, Franco Muzzio Editore, Padova (1986), pp. 119-120.
(обратно)
1320
Di Giacomo, Salvatore. Gli sfregi di Napoli: testi storici e letterari sui bassifondi parteno-pei, Liguori Editore, Napoli (2005), p. 31.
(обратно)
1321
Ibid
(обратно)
1322
Ibid., pp. 31-32.
(обратно)
1323
Ibid., pp. 33-34.
(обратно)
1324
Ibid., рр. 34-35.
(обратно)
1325
Ibid., р. 36.
(обратно)
1326
Ibid
(обратно)
1327
Ibid., р. 37.
(обратно)
1328
Волков, М. С. Отрывки из заграничных писем (1844-1848). - СПб., 1857. - С. 168-169.
(обратно)
1329
Tarantella guappa. Fred Scotti. // La musica della mafia, Vol I, II canto di malavita, Pias recording GMBH (2000).
(обратно)
1330
Fierro, Enrico. Ammazzati l'onorevole, Dalai Editore (2007), pp. 63-64.
(обратно)
1331
Helmer, William J, Mattix, Rick. The Complete Public Enemy Almanac: New Facts and Features on the People, Places, and Events of the Gangster and Outlaw Era, 1920-1940, Cumberland House Publishing (2007).
(обратно)
1332
Дарвин, Чарльз. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». / Пер. с англ. С. Л. Соболя; Под редакцией Е. Е Сыроечковского иС. Л. Соболя. - 4-е изд.-М.: Мысль, 1983.-С. 151.
(обратно)
1333
Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo: 6, Civilization i barbarie en las pampas arjen-tinas, Cuarta edicion en Castellano, Nuevap York (1868), p. 32.
(обратно)
1334
Hernandez, Jose. El gaucho Martin Fierro, Decima quinta edicion, Bolivar, (1894).
(обратно)
1335
Lopes, Osornio Mario A. Esgrima criolla: cuchillo, rebenque, poncho у chuza, la ed, Bueneos Aires, Hemisferio Sur (2005), pp. 19-20.
(обратно)
1336
Piccato, Pablo. City of Suspects: Crime in Mexico City, 1900-1931, Duke University Press, USA (2001), p.91.
(обратно)
1337
Gallant, Thomas W. Honor, Masculinity, and Ritual Knife Fighting in Nineteenth-Century Greece, The American Historical Review, Vol. 105, No. 2, April (2000), p. 363.
(обратно)
1338
Le Petit Journal illustre, 19 Mai 1907.
(обратно)
1339
Emsley, Clive. The English and Violence since 1750, Hambledon and London (2007), pp. 33-34.
(обратно)
1340
Агапов, П. В. Социология бандитизма. - М., 2004. - С. 25.
(обратно)
1341
ЦентрАзия. "Сучьи метки". Ташкентские сутенеры начали клеймить неблагонадежный товар. 20.11. 2003. [ Электронный ресурс ]. Режим доступа: http://www. centrasia. ru/newsA. php?st=1069283820 (дата обращения: 02. 05. 2010).
(обратно)
1342
«Vibe», Vol. 10-6, June 2002, p. 57.
(обратно)
1343
Baldick, Robert. The duel: a history of dueling, Chapman & Hall, London (1965), p. 169.
(обратно)
1344
Truman, Benjamin Cummings. The field of honor: being a complete and comprehensive history of duelling in all countries; including the judicial duel of Europe, the private duel of the civilized world, and specific descriptions of all the noted hostile meetings in Europe and America, New York, Fords, Howard, & Hulbert (1884), pp. 152-153.
(обратно)
1345
Diario de jurisprudencia del Distrito у territorios federales, Mexico, Tip. de "El Imparcial," (1907), Tomo XI, p. 320.
(обратно)
1346
Velasco, Shery Marie. The Lieutenant Nun: Transgenderism, Lesbian Desire & Catalina de Erauso, University of Texas Press, First Edition (2000).
(обратно)
1347
Ibid., p. 78.
(обратно)
1348
Сакс, А. А. Кавалерист-девица штабс-ротмистр Александр Андреевич Александров(Надежда Андреевна Дурова). // Вестник русской конницы. - СПб., 1912.
(обратно)
1349
Sharpe, Andrew N. Transgender Jurisprudence: Dysphoric Bodies of Law, 1 Edition,Routledge Cavendish (2006), p. 23.
(обратно)
1350
Gontier, Fernande. Homme ou femme? La confusion des sexes, Perrin (2006), pp. 84-97.
(обратно)
1351
Essers, Caroline. New Directions in Postheroic Entrepreneurship: Narratives of Gender and Ethnicity, Copenhagen Business School Pr (2009), pp. 129-130.
(обратно)
1352
Stewart, Franck Henderson. Honor, The University of Chicago Press, Chicago, (1994), p. 107.
(обратно)
1353
Ibid
(обратно)
1354
Kollmann, Nancy Shields. By Honor Bound: State and Society in Early Modern Russia,Cornell University Press, Ithaca, New York (1999), p. 26.
(обратно)
1355
Дефурно, Марселей. Повседневная жизнь Испании золотого века. - М.: МолодаяГвардия, 2004. - С. 41-46.
(обратно)
1356
Громыко М. М. Мир русской деревни. - М.: Молодая гвардия, 1991. - С. 57.
(обратно)
1357
Men and violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Edited by Pieter Spierenburg, The Ohio State University (1998), p. 118.
(обратно)
1358
The New book of knowledge. Grolier, Inc (1986), p. 286.
(обратно)
1359
Moore, Simon. Table knives and forks, Shire Publications, Buckinghamshire (2006), p. 14.
(обратно)
1360
Vincent, Susan. Dressingthe elite: clothes in early modern England, Berg, NY (2003), p. 169.
(обратно)
1361
Moore, Simon. Table knives and forks, Shire Publications, Buckinghamshire (2006), p. 14.
(обратно)
1362
Baronti, Giancarlo. Coltelli d'ltalia: Rituali di*violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare. Storia e catalogazione, Franco Muzzio Editore, Padova (1986), pp. 213-227.
(обратно)
1363
Caico, Louise. Sicilian ways and days, New York, Appleton (1910), p. 51.
(обратно)
1364
Baronti, Giancarlo. Coltelli d'ltalia: Rituali di violenza e tradizioni produttive nel mondo popolare. Storia e catalogazione, Franco Muzzio Editore, Padova (1986), pp. 213-227.
(обратно)
1365
Ibid
(обратно)
1366
Ibid
(обратно)
1367
Vasilatos, Nikos. To Kretiko machairi "The Cretan Dagger", Klassikes Ekdoseis, Athens (1993).
(обратно)
1368
Ibid
(обратно)
1369
Alvarez, Antonio Machado y. Cantes flamencos, Ediciones Cultura Hispanica (1881).
(обратно)
1370
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius, Vol XI (1973), p. 51
(обратно)
1371
Bizarre. An original, literary gazette, Part 18, Philadelphia, August 5, (1854), Vol. V, pp. 231-234.
(обратно)
1372
Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, London, (1855), Vol. II, p. 803.
(обратно)
1373
Hughes, Terence, McMahon. Revelations of Spain in 1845, Henry Colburn, London(1845), Vol I, p. 221.
(обратно)
1374
Ibid., pp. 402-403.
(обратно)
1375
Ibid., p. 404.
(обратно)
1376
Repido, Pedro de. Isabel II, Reina De Espana, Espasa Calpe, Madrid (1932), p. 206.
(обратно)
1377
Loriega, James. Sevillian Steel. The Traditional Knife Fighting Arts of Spain, PaladinPress, Boulder (1999), p. 91-96.
(обратно)
1378
Forton, Rafael Martinez Del Peral. Las Navajas. Un Estudio у una Coleccion. // Gladius,Vol XI (1973), p. 19
(обратно)
1379
Lopez, Osornio Mario A. Esgrima criolla: Cuchillo, rebenque, poncho у chuza, BuenosAires, Hemisferio Sur (2005), pp. 41-42.
(обратно)
1380
Figuerola, Justo D. D. Elogio del excelentisimo senor don Jose de San Martin у Mator-ras,: protector del Peru, generalisimo de las fuerzas de mar у tierra, institutor de la Orden del Sol, gran oficial de la legion de merito de Chile, у capitan general de sus exercitos, que en su publico recibimiento en la Universidad de San Marcos de Lima el dia 17 de enero del presente ano, Lima, Imprenta de don Manuel del Rio (1822), p. 25.
(обратно)
1381
Piccato, Pablo. City of suspects? crime in Mexico City, 1900-1931. Duke UniversityPress, Durham (2001), pp. 93-94.
(обратно)
1382
Ibid., pp. 92-93.
(обратно)
1383
The New York Times, 30 October 1876.
(обратно)
1384
The New York Times, 2 May 1888.
(обратно)
1385
Restall, Matthew. Beyond black and red: African-native relations in colonial LatinAmerica, University of New Mexico Press (2008), pp. 159-160.
(обратно)
1386
Ballou's dollar monthly magazine, Boston (1862), Vol. XVI, p. 597.
(обратно)
1387
The New York Times, 15 January 1906.
(обратно)
1388
Русское слово, 20 (07) апреля 1906 года.
(обратно)
1389
Appleton's journal: a magazine of general literature, Issue 264, (1874), Vol. 11, pp.469-470.
(обратно)
1390
Ibid
(обратно)
1391
La Sperada. [ Электронный ресурс ]. Режим доступа:http://www. circolosardegna. brianzaest. it/nuova_pagina_22. htm (дата обращения: 11.07.2010).
(обратно)
1392
Ibid
(обратно)
1393
Cherubini, Francesco. Vocabolario Milanese-Italiano, Milano, (1843), Vol. IV, p. 271.
(обратно)
1394
D'Addosio, Carlo. II duello dei camorristi, Luigi Pierro Editore, Napoli (1893), p. 78.
(обратно)
1395
Robba, Serena, Camorra. Uno stile de vita, Tesi de laurea, Universita' degli studi delPiemonte Orientale 'Amedeo Avogadro", facolta di giurisprudenza, anno academico2008/2009, pp. 21-23.
(обратно)
1396
Wolf-Ferrari, Ermanno. The jewels of the Madonna: opera in three acts on Neapolitan life, G. Schirmer (1912), p. 24.
(обратно)
1397
Ciraolo, Giovanni. Delitti femminili a Napoli: studio di sociologia criminale, Milano, Max Kantorowicz (1896), p. 68.
(обратно)
1398
Ibid
(обратно)
1399
Новиков H. И. Смеющийся Демокрит. //Живописец. - СПб., 1775.-3 изд. - С. 149-150.
(обратно)
1400
Townsend, George Henry. The manual of dates: a dictionary of reference, London, Routledge, Warne & Routledge (1862), p. 296.
(обратно)
1401
Steward, Dick. Duels and the roots of violence in Missouri, University of Missouri Press, Columbia, Missouri (2000), p. 205.
(обратно)
1402
Bennet, Michael J. Union Jacks: Yankee sailors in the Civil War, The University of North Carolina Press (2004), p. 74.
(обратно)
1403
Ibid
(обратно)
1404
Ibid
(обратно)
1405
Ibid
(обратно)
1406
Ibid., pp. 74-75.
(обратно)
1407
Hawser Martingale (John Sherburne Sleeper). Jack in the forecastle, Boston, Estes & Lauriat (1880), p. 83.
(обратно)
1408
Alibone, Samuel Ostin. A Critical Dictionary of English Literature and British and American Authors Living and Deceased: From the Earliest Accounts to the Latter Half of the Nineteenth Century, London (1870), Vol. II, p. 2119.
(обратно)
1409
Bennet, Michael J. Union Jacks: Yankee sailors in the Civil War, The University of North Carolina Press (2004), p. 75.
(обратно)
1410
Puckett, Newbell Nice. Popular beliefs and superstitions, G. K. Hall (1981), Vol. II, p. 793.
(обратно)
1411
Creighton, Margaret S. Iron men, wooden women: gender and seafaring in the Atlantic world, 1700-1920, The John Hopkins University Press, Baltimore (1996), p. 9.
(обратно)
1412
Ibid
(обратно)
1413
Ibid
(обратно)
1414
Ibid
(обратно)
1415
Ibid., pp. 9-10.
(обратно)
1416
Ibid., p. 9
(обратно)
1417
Bennet, Michael J. Union Jacks: Yankee sailors in the Civil War, The University of North Carolina Press (2004), p. 23.
(обратно)
1418
Perez-Mallaina, Pablo Emilio. Spain's men of the sea: daily life on the Indies fleets in the sixteenth century, The John Hopkins University Press, Maryland (1998), p. 74.
(обратно)
1419
Malcolm, Corey. Navajas of the Galleons. / The Navigator: Newsletter of the Mel FisherMaritime Heritage Society (2005), Vol. 21, № 4, Fig. 1.
(обратно)
1420
Weibust, Knut. Deep sea sailors: a study in maritime ethnology, Nordiska museet; 2nd edition (1976), p. 508.
(обратно)
1421
Thames Star, Volume XX, Issue 5913,17 January 1888.
(обратно)
1422
Smith, Aaron. The atrocities of the pirates: Being a faithful narrative of the unparalleled sufferings endured by the author during his captivity among the pirates, London (1824), pp. 57-62
(обратно)
1423
Wiener, Martin J. Men of blood: violence, manliness and criminal justice in Victorian England, Cambridge University Press (2006), p. 58.
(обратно)
1424
Gilje, Paul A. Rioting in America, Indiana University Press, Bloomington (1999), p. 65
(обратно)
1425
Macilwee, Michael, The Liverpool Underworld: Crime in the City, 1750-1900, Liverpool University Press, Liverpool (2011), pp. 123-124.
(обратно)
1426
Weibust, Knut. Deep sea sailors: a study in maritime ethnology, Nordiska museet; 2nd edition (1976), p. 200.
(обратно)
1427
A report of the trial, Before the United States Circuit Court, on an indictment charging them with the commission of an act of Piracy, on board the brig Mexican of Salem, Boston(1834), pp. 9-13.
(обратно)
1428
Escriche, Joaquin. Diccionario razonado de legislacion у jurisprudencia, Tomo primero, Madrid (1847), p. 264.
(обратно)
1429
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Eleventh Edition, Merriam-Webster, Inc, USA (2003), p. 556.
(обратно)
1430
Burns, Robert, Poems, chiefly in the Scottish dialect: By Robert Burns, In two volumes, Edinburgh (1793), Vol I, p. 222.
(обратно)
1431
Fergusson, Robert. The poetical works of Robert Fergusson, with biographical introduction, notes and glossary etc., by Robert Ford, London (1773), p. 63.
(обратно)
1432
Partridge, Eric. The Routledge dictionary of historical slang, 6 edition, Routledge (1973), p. 177.
(обратно)
1433
Ibid., p. 176.
(обратно)
1434
Ibid., p. 640.
(обратно)
1435
Nares Robert. A Glossary; Or Collection of Words, Phrases, Names and Allusions to Customs, Proverbs etc., A new edition, London (1859), Vol. I, p. 159.
(обратно)
1436
Scully, Terence. The Viandier of Taillevent, University of Ottawa Press, Canada, (1988), p. 79.
(обратно)
1437
Benedict, Erastus Cornelius. The American admiralty, its jurisdiction and practice, New York, Banks & Brothers (1870), p. 30.
(обратно)
1438
A Collection of voyages and travels: some now first printed from original manuscripts, In Four Volumes, London (1704), Volume III, p. 368.
(обратно)
1439
Escriche, Joaquin. Diccionario razonado de legislacion у jurisprudencia, Tomo primero, Madrid (1847), p. 264.
(обратно)
1440
Parsons. Theophilius. A treatise on the law of shipping and the law and practice of admiralty, In two volumes, Boston (1869), Vol. II, p. 33.
(обратно)
1441
Weibust, Knut. Deep sea sailors: a study in maritime ethnology, Nordiska museet; 2nd edition (1976), p. 201.
(обратно)
1442
Harlow, Frederick Pease. The making of a sailor, or, Sea life aboard a Yankee square-rigger, Dover Publications, NY (1988), Reprint. Orig. published: Salem (1928), pp. 90-92.
(обратно)
1443
Svensson, Sam. Handbook of Seaman's ropework, Dodd, Mead (1972), p. 44.
(обратно)
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава I
ФЛАМЕНКО С НАВАХОЙ
Глава II
СТИЛЕТЫ И БЕЛЬКАНТО
Глава III
ЖЕСТОКОЕ ТАНГО ПАМПЫ
Глава IV
ХОЛОДНЫЙ БЛЕСК СНИКЕРСА
Глава V
ЮЖНЫЕ ДЕСПЕРАДО
Глава VI
ЭТО ХЯРМЯ!
Глава VII
КРОВЬ И ЧЕСТЬ ЭЛЛАДЫ
Глава VIII
АПАЧИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Глава IX
ДУЭЛИ НА ВЫВОЗ
Глава X
СТАЛЬНЫЕ САРДИНЫ РИО
Глава XI
ЛИЦО СО ШРАМОМ
Глава XII
НОЖ ЗА ПОДВЯЗКОЙ ЧУЛКА
Глава XIII
ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОБРОК МОРЯ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
*** Примечания ***



 Что первым приходит нам в голову при слове «Испания»? Корриды в Мадриде? Конкистадоры и гружённые золотом майя каравеллы? Бег с быками в Памплоне, причудливые здания Гауди в Барселоне, или картины Гойи, Веласкеса, Эль Греко, Пикассо и Дали? А может, смуглянки с кастаньетами, отбивающие каблучками такт фламенко, и заунывные мотивы андалузского канте хондо? Гордячка Кармен, и дерущиеся за её любовь бессмертные герои Мериме, Хосе и Кривой, сжимающие в руках легендарные испанские навахи?
Испанцы и ножи. Невозможно представить Испанию без романтических персонажей бесчисленных авантюрных романов — вечно закутанных в плащи мрачных типов, в расшитых андалузских камзолах, надвинутых на глаза шляпах и с огромными неразлучными навахами за широким цветастым поясом. Сердце какого мальчишки не замирало, когда за юным Джимми Хоккинсом из романа Стивенсона с навахой в зубах неотвратимо поднимался по мачте «Эспаньолы» старый пират Израэль Хэнде[1], или когда герою Эмилио Сальгари — благородному Чёрному Корсару на узкой мощёной улочке ночного города дорогу внезапно загораживали пятеро молчаливых и беспощадных басков со смертоносными навахами наготове[2]. Испания представала перед восхищёнными читателями как вечный праздник — бесконечная череда танцев и коррид, дуэлей и фиест. Феерия, наполненная перестуком кастаньет гитан, кокетливыми махами с неизменными веерами в руках, ночными серенадами кабальерос под ажурными балконами чернооких дочерей Андалусии и чопорными испанками в строгих чёрных мантильях, преклонившими колени на мессах. Образ, порождённый симбиозом трёх основных факторов: «плутовского» романа, костумбризма и литературного жанра середины — конца XIX столетия, известного как «поездка в Испанию».
Первый камень в фундамент опереточного образа страны, очевидно, заложил столь популярный в Испании XVI веке жанр плутовского, или, как его ещё называют, пикарескного романа, прославленного героями Кеведо, Сервантеса, Кальдерона и Гонгоры. Окончательно же имидж Испании как костюмированного бала — ожившего романа, населённого лукавыми персонажами «novella picaresca», сформировался ближе к середине XIX века стараниями испанских писателей и художников, работавших в жанре костумбризма.
Направление, известное как костумбризм, возникло в литературе и искусстве Испании в первой четверти XIX века на волне романтизма и подъёма национального самосознания, сопровождавшегося повышенным интересом к народной культуре, обычаям, традициям и даже моде. Костумбристы занимались живописанием народного быта, зачастую приукрашивая и идеализируя действительность. В 1843 году группа писателей-костумбристов опубликовала книгу «Los españoles: Pintados рог si mismos» («Испанцы, изобразившие сами себя»), которая стала своеобразной квинтэссенцией и декларацией костумбризма и вызвала целый шквал подобных изданий. Эта лубочная эстетика впоследствии дала жизнь жанру, который можно определить как «Voyage еп Espagne», или просто — «Поездка в Испанию». К середине XIX столетия мода на посещение Испании с последующим изданием своих путевых заметок превратилась в повальную тенденцию, напоминающую эпидемию. Такого внимания не удостаивались ни далёкие экзотические страны, ни даже изобилующая дорогими сердцу каждого путешественника античными развалинами и красочными открыточными видами соседняя «белла Италия».
В Испанию бросились все — профессиональные путешественники и политики, юноши из богатых семейств и бедные студенты, офицеры и суфражистки. Это модное поветрие не обошло стороной и художника Гюстава Доре, отметившего своё пребывание на испанской земле серией чудесных гравюр, и известного русского очеркиста и литературного критика XIX века Василия Петровича Боткина, оставившего свои знаменитые «Письма об Испании». А также издателя Фаддея Булгарина, политика Дэвида Уркварта и сотни других прославленных и неизвестных пилигримов. Эти неутомимые и любознательные путешественники прилежно изучали испанские традиции, быт и обычаи, тщательно записывали и зарисовывали каждую мелочь — детали одежды, жаргон, уличные и бытовые сценки. Оставленные ими путевые заметки — это бесценный источник информации, позволяющий нам восстановить аутеничную и достаточно объективную картину жизни Испании XIX столетия.
Свидетельства этих странников и лаконичные заметки из пожелтевших газет, дополненные не менее скупыми фразами из судебных архивов, помогают нам узнать о существовании другого лица Испании. В этой её сумрачной ипостаси не было места эстетике плутовского романа: песням, гитарам, романтике и любви. Испания представала мрачным ангелом смерти из андалузских баллад Федерико Гарсиа Лорки с «чёрной косой цвета смоли и крыльями из альбасетских ножей»[3].
За буйством красок апельсиновых рощ, блеском расшитых камзолов, звоном гитар и перестуком кастаньет скрывалась оборотная сторона открытки под названием «Испания» — её мрачная и кровавая культура ножа и чести, патетическая и пафосная, как высокопарные девизы, выгравированные на испанских навахах. Гордость и скорбь страны, воспетая в стихах Эрнандеса, Гумилёва, Борхеса и Лорки, обожаемая и осуждаемая, преследуемая законом и церковью. Такая же плоть от плоти Испании, как кувшин хереса на столе и висящий под потолком каждого крестьянского дома окорок «хамон». Как обжигающие ветры Тарифы, горы Сьерра-Маэстра или палящее солнце Андалусии. Десафио, навахада — эта традиция известна под многими именами в разных ипостасях, и уже пять столетий за ней тянется широкий кровавый след и длинные ряды могильных камней с именами тысяч отважных кабальерос, принесённых в жертву этому кровожадному божеству — чести.
К XV столетию в бывшей имперской провинции Испании мало что изменилось со времён римского владычества. Ни минувшие века, ни вестготы, ни арабское вторжение, ни Реконкиста не внесли существенных изменений в размеренный и неторопливый уклад жизни Пиренейского полуострова. Да и сами испанцы, известные своим консерватизмом, не особо изменились за прошедшие столетия. И в начале XX века они всё так же, как и две тысячи лет назад, заполняли трибуны амфитеатров, чтобы увидеть, как матадоры, потомки зверобоев-бестиариев римских Колизеев, закалывают быков на залитых кровью аренах. Они носили всё те же архаичные римские сандалии, римские плащи и, как и древние иберы, культивировали в своих детях храбрость, презрение к смерти и воинственность. Этертон Кастл писал, что после падения Римской империи гладиаторские бои пустили в Испании более крепкие корни, чем в любой другой римской провинции, и сохранились там в виде национального увлечения корридой. Также он отмечал что боевые школы Древнего Рима под техничным управлением ланист оставались в Испании при менявшихся условиях и во время варварских нашествий, и в период господства мавров, так как эти заведения оказались вполне созвучны их обычаям[4].
Что первым приходит нам в голову при слове «Испания»? Корриды в Мадриде? Конкистадоры и гружённые золотом майя каравеллы? Бег с быками в Памплоне, причудливые здания Гауди в Барселоне, или картины Гойи, Веласкеса, Эль Греко, Пикассо и Дали? А может, смуглянки с кастаньетами, отбивающие каблучками такт фламенко, и заунывные мотивы андалузского канте хондо? Гордячка Кармен, и дерущиеся за её любовь бессмертные герои Мериме, Хосе и Кривой, сжимающие в руках легендарные испанские навахи?
Испанцы и ножи. Невозможно представить Испанию без романтических персонажей бесчисленных авантюрных романов — вечно закутанных в плащи мрачных типов, в расшитых андалузских камзолах, надвинутых на глаза шляпах и с огромными неразлучными навахами за широким цветастым поясом. Сердце какого мальчишки не замирало, когда за юным Джимми Хоккинсом из романа Стивенсона с навахой в зубах неотвратимо поднимался по мачте «Эспаньолы» старый пират Израэль Хэнде[1], или когда герою Эмилио Сальгари — благородному Чёрному Корсару на узкой мощёной улочке ночного города дорогу внезапно загораживали пятеро молчаливых и беспощадных басков со смертоносными навахами наготове[2]. Испания представала перед восхищёнными читателями как вечный праздник — бесконечная череда танцев и коррид, дуэлей и фиест. Феерия, наполненная перестуком кастаньет гитан, кокетливыми махами с неизменными веерами в руках, ночными серенадами кабальерос под ажурными балконами чернооких дочерей Андалусии и чопорными испанками в строгих чёрных мантильях, преклонившими колени на мессах. Образ, порождённый симбиозом трёх основных факторов: «плутовского» романа, костумбризма и литературного жанра середины — конца XIX столетия, известного как «поездка в Испанию».
Первый камень в фундамент опереточного образа страны, очевидно, заложил столь популярный в Испании XVI веке жанр плутовского, или, как его ещё называют, пикарескного романа, прославленного героями Кеведо, Сервантеса, Кальдерона и Гонгоры. Окончательно же имидж Испании как костюмированного бала — ожившего романа, населённого лукавыми персонажами «novella picaresca», сформировался ближе к середине XIX века стараниями испанских писателей и художников, работавших в жанре костумбризма.
Направление, известное как костумбризм, возникло в литературе и искусстве Испании в первой четверти XIX века на волне романтизма и подъёма национального самосознания, сопровождавшегося повышенным интересом к народной культуре, обычаям, традициям и даже моде. Костумбристы занимались живописанием народного быта, зачастую приукрашивая и идеализируя действительность. В 1843 году группа писателей-костумбристов опубликовала книгу «Los españoles: Pintados рог si mismos» («Испанцы, изобразившие сами себя»), которая стала своеобразной квинтэссенцией и декларацией костумбризма и вызвала целый шквал подобных изданий. Эта лубочная эстетика впоследствии дала жизнь жанру, который можно определить как «Voyage еп Espagne», или просто — «Поездка в Испанию». К середине XIX столетия мода на посещение Испании с последующим изданием своих путевых заметок превратилась в повальную тенденцию, напоминающую эпидемию. Такого внимания не удостаивались ни далёкие экзотические страны, ни даже изобилующая дорогими сердцу каждого путешественника античными развалинами и красочными открыточными видами соседняя «белла Италия».
В Испанию бросились все — профессиональные путешественники и политики, юноши из богатых семейств и бедные студенты, офицеры и суфражистки. Это модное поветрие не обошло стороной и художника Гюстава Доре, отметившего своё пребывание на испанской земле серией чудесных гравюр, и известного русского очеркиста и литературного критика XIX века Василия Петровича Боткина, оставившего свои знаменитые «Письма об Испании». А также издателя Фаддея Булгарина, политика Дэвида Уркварта и сотни других прославленных и неизвестных пилигримов. Эти неутомимые и любознательные путешественники прилежно изучали испанские традиции, быт и обычаи, тщательно записывали и зарисовывали каждую мелочь — детали одежды, жаргон, уличные и бытовые сценки. Оставленные ими путевые заметки — это бесценный источник информации, позволяющий нам восстановить аутеничную и достаточно объективную картину жизни Испании XIX столетия.
Свидетельства этих странников и лаконичные заметки из пожелтевших газет, дополненные не менее скупыми фразами из судебных архивов, помогают нам узнать о существовании другого лица Испании. В этой её сумрачной ипостаси не было места эстетике плутовского романа: песням, гитарам, романтике и любви. Испания представала мрачным ангелом смерти из андалузских баллад Федерико Гарсиа Лорки с «чёрной косой цвета смоли и крыльями из альбасетских ножей»[3].
За буйством красок апельсиновых рощ, блеском расшитых камзолов, звоном гитар и перестуком кастаньет скрывалась оборотная сторона открытки под названием «Испания» — её мрачная и кровавая культура ножа и чести, патетическая и пафосная, как высокопарные девизы, выгравированные на испанских навахах. Гордость и скорбь страны, воспетая в стихах Эрнандеса, Гумилёва, Борхеса и Лорки, обожаемая и осуждаемая, преследуемая законом и церковью. Такая же плоть от плоти Испании, как кувшин хереса на столе и висящий под потолком каждого крестьянского дома окорок «хамон». Как обжигающие ветры Тарифы, горы Сьерра-Маэстра или палящее солнце Андалусии. Десафио, навахада — эта традиция известна под многими именами в разных ипостасях, и уже пять столетий за ней тянется широкий кровавый след и длинные ряды могильных камней с именами тысяч отважных кабальерос, принесённых в жертву этому кровожадному божеству — чести.
К XV столетию в бывшей имперской провинции Испании мало что изменилось со времён римского владычества. Ни минувшие века, ни вестготы, ни арабское вторжение, ни Реконкиста не внесли существенных изменений в размеренный и неторопливый уклад жизни Пиренейского полуострова. Да и сами испанцы, известные своим консерватизмом, не особо изменились за прошедшие столетия. И в начале XX века они всё так же, как и две тысячи лет назад, заполняли трибуны амфитеатров, чтобы увидеть, как матадоры, потомки зверобоев-бестиариев римских Колизеев, закалывают быков на залитых кровью аренах. Они носили всё те же архаичные римские сандалии, римские плащи и, как и древние иберы, культивировали в своих детях храбрость, презрение к смерти и воинственность. Этертон Кастл писал, что после падения Римской империи гладиаторские бои пустили в Испании более крепкие корни, чем в любой другой римской провинции, и сохранились там в виде национального увлечения корридой. Также он отмечал что боевые школы Древнего Рима под техничным управлением ланист оставались в Испании при менявшихся условиях и во время варварских нашествий, и в период господства мавров, так как эти заведения оказались вполне созвучны их обычаям[4].
 Рис. 1. Кодекс Валлерштейна, около 1470 г.
Рис. 1. Кодекс Валлерштейна, около 1470 г.
 Рис. 2. Игра в карты. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 2. Игра в карты. Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 3. Баратеро. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Рис. 3. Баратеро. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
 Рис. 4. Схватка баратеро. Los Españoles pintados per sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Рис. 4. Схватка баратеро. Los Españoles pintados per sí mismos, Мадрид, 1843 г.
 Рис. 5. Баратеро требует свою долю выигрыша. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 6. Тюремный баратеро. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 5. Баратеро требует свою долю выигрыша. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 6. Тюремный баратеро. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

 Рис. 8. Драка за игрой в шары в Валенсии. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 8. Драка за игрой в шары в Валенсии. Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 9. Цыганская драка. Леонардо Аленса Ньето, 1825 г.
В испанском десафио был кодифицирован каждый элемент. Как и в формальных дуэлях, сатисфакция в народном поединке могла быть достигнута «первой кровью», то есть символической царапиной, но иногда кровожадный кодекс чести требовал смерти оскорбителя. Так, например, социальные и этнические табу вынуждали вести поединки на ножах лишь до первой крови андалузских цыган — хитанос. Профессор Вальтер Отто Вайраух, исследовавший цыганскую культуру, писал, что испанские цыгане часто решали дела чести семьи в ритуальных поединках на ножах, и обычно первого пореза, нанесённого противнику, было достаточно, чтобы считать дело улаженным[46]. Первой кровью, как правило, заканчивались и поединки уже упомянутой городской шпаны — чарранес, или матонов. Вот как выглядела типичная встреча двух подобных смельчаков, описанная Давилье: «Еа! Никак тут встретились храбрецы?! — выкрикивал один из них, открывая свою наваху. «Tiro oste! Доставай нож, дружище Хуан!» — восклицал другой, двигаясь вокруг соперника. «Vente a mi, Curriyo! Не прячься, Франсиско!» — «Это ты, zeno Хуан, скачешь тут, как щенок?» — «Еа, Dios mio! Крепись, уже скоро твоя душа предстанет перед богом!» — «Не ранил ли я тебя?» — «Что ты, это пустяк!» — «Я собираюсь убить тебя одним ударом. Тебе нужно последнее помазание!» — «Escape, рог Dios, Curriyo! Ради бога, спасайся Франсиско! Ты же видишь, ты полностью в моей власти, и я собираюсь проделать в тебе дыру, больше чем арка вон того моста!».
Согласно Давилье, подобные диалоги могли тянуться более часа, пока поединщиков не растаскивали друзья. После этого успокоившиеся соперники складывали ножи и перемещались в какую-нибудь таверну, где и топили свой гнев в хересе[47].
Хочу заметить, что подобный ритуал примирения, имевший целью «утопить» конфликт в вине, встречается во многих культурах. Так, например, среди народных дуэлянтов Нидерландов XVII–XVIII веков существовал обычай, известный как «афдринкен», когда стороны пытались забыть о своих разногласиях, сидя за одним столом в таверне за бутылочкой винца.
Очевидцем дуэли до первой крови как-то раз довелось стать и Василию Петровичу Боткину, путешествовавшему по Испании в августе-октябре 1845 года. Вот как он описывал этот бой: «На днях случилось мне видеть поединок двух majos на ножах. Нож — народное орудие испанцев: он очень широк и складной; сталь его имеет форму рыбы, вершка четыре длиною; его обыкновенно всякий носит в кармане. Им не колют, а режут, и самым ловким ударом считается разрезать живот до внутренностей. В такого рода поединке каждый обёртывает левую руку плащом, а за неимением его — курткой и отражает ею удары противника. Противники стали шагах в восьми друг от друга, круто нагнувшись вперед; ножи держали они не за ручку, а за сталь в ладони: как только один бросался, другой уклонялся в сторону, они быстро кружились, каждый норовил нанести удар разрезом противнику сбоку, но все дело кончилось легкими ранами, их разняли»[48].
Рис. 9. Цыганская драка. Леонардо Аленса Ньето, 1825 г.
В испанском десафио был кодифицирован каждый элемент. Как и в формальных дуэлях, сатисфакция в народном поединке могла быть достигнута «первой кровью», то есть символической царапиной, но иногда кровожадный кодекс чести требовал смерти оскорбителя. Так, например, социальные и этнические табу вынуждали вести поединки на ножах лишь до первой крови андалузских цыган — хитанос. Профессор Вальтер Отто Вайраух, исследовавший цыганскую культуру, писал, что испанские цыгане часто решали дела чести семьи в ритуальных поединках на ножах, и обычно первого пореза, нанесённого противнику, было достаточно, чтобы считать дело улаженным[46]. Первой кровью, как правило, заканчивались и поединки уже упомянутой городской шпаны — чарранес, или матонов. Вот как выглядела типичная встреча двух подобных смельчаков, описанная Давилье: «Еа! Никак тут встретились храбрецы?! — выкрикивал один из них, открывая свою наваху. «Tiro oste! Доставай нож, дружище Хуан!» — восклицал другой, двигаясь вокруг соперника. «Vente a mi, Curriyo! Не прячься, Франсиско!» — «Это ты, zeno Хуан, скачешь тут, как щенок?» — «Еа, Dios mio! Крепись, уже скоро твоя душа предстанет перед богом!» — «Не ранил ли я тебя?» — «Что ты, это пустяк!» — «Я собираюсь убить тебя одним ударом. Тебе нужно последнее помазание!» — «Escape, рог Dios, Curriyo! Ради бога, спасайся Франсиско! Ты же видишь, ты полностью в моей власти, и я собираюсь проделать в тебе дыру, больше чем арка вон того моста!».
Согласно Давилье, подобные диалоги могли тянуться более часа, пока поединщиков не растаскивали друзья. После этого успокоившиеся соперники складывали ножи и перемещались в какую-нибудь таверну, где и топили свой гнев в хересе[47].
Хочу заметить, что подобный ритуал примирения, имевший целью «утопить» конфликт в вине, встречается во многих культурах. Так, например, среди народных дуэлянтов Нидерландов XVII–XVIII веков существовал обычай, известный как «афдринкен», когда стороны пытались забыть о своих разногласиях, сидя за одним столом в таверне за бутылочкой винца.
Очевидцем дуэли до первой крови как-то раз довелось стать и Василию Петровичу Боткину, путешествовавшему по Испании в августе-октябре 1845 года. Вот как он описывал этот бой: «На днях случилось мне видеть поединок двух majos на ножах. Нож — народное орудие испанцев: он очень широк и складной; сталь его имеет форму рыбы, вершка четыре длиною; его обыкновенно всякий носит в кармане. Им не колют, а режут, и самым ловким ударом считается разрезать живот до внутренностей. В такого рода поединке каждый обёртывает левую руку плащом, а за неимением его — курткой и отражает ею удары противника. Противники стали шагах в восьми друг от друга, круто нагнувшись вперед; ножи держали они не за ручку, а за сталь в ладони: как только один бросался, другой уклонялся в сторону, они быстро кружились, каждый норовил нанести удар разрезом противнику сбоку, но все дело кончилось легкими ранами, их разняли»[48].
 Рис. 10. Дуэль воров. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Рис. 10. Дуэль воров. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
 Рис. 11. Перед атакой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 11. Перед атакой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
 Рис. 12. Мулине, 1798 г.
Рис. 12. Мулине, 1798 г.

 Рис. 14. Дуэль. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
Рис. 14. Дуэль. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
 Рис. 15. Плащ и шпага. La Scherma, Франческо Алфиери, 1640 г.
Рис. 15. Плащ и шпага. La Scherma, Франческо Алфиери, 1640 г.
 Рис. 16. Атака навахеро. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
Рис. 16. Атака навахеро. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
 Рис. 17. Обложка первого издания. Manual del Baratero, 1849 г.
Рис. 17. Обложка первого издания. Manual del Baratero, 1849 г.
 Рис. 18. Укол в пах. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 18. Укол в пах. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

 Рис. 19. Защита с помощью шляпы. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin, Мануэль Антонио де Бреа, Мадрид, 1805 г.
Рис. 19. Защита с помощью шляпы. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin, Мануэль Антонио де Бреа, Мадрид, 1805 г.
 Рис. 20. Бойцы прячут ножи за шляпами. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 20. Бойцы прячут ножи за шляпами. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
 Рис. 21. Стойка. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 21. Стойка. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
 Рис. 22. Известный матадор XVIII века Хосе Кандидо Экспозито перед тем как нанести смертельный удар прикрывает глаза быку.
Рис. 22. Известный матадор XVIII века Хосе Кандидо Экспозито перед тем как нанести смертельный удар прикрывает глаза быку.
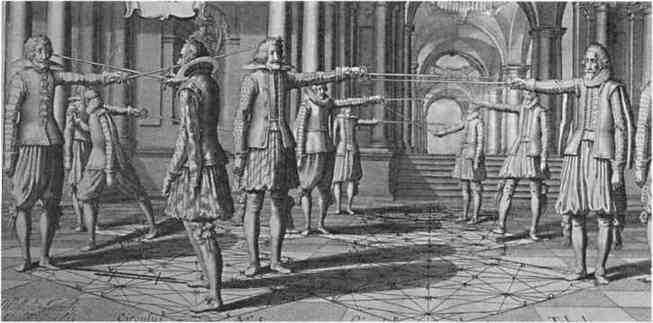 Рис. 23. Вердадера дестреза. Academie de l'Espee, Жирар Тибо, 1628 г.
Рис. 23. Вердадера дестреза. Academie de l'Espee, Жирар Тибо, 1628 г.
 Рис. 24. Флоретазо. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 24. Флоретазо. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
 Рис. 25. Десхарретазо. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 25. Десхарретазо. Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 26. Мулине. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 26. Мулине. Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 27. Защиты. Manual del Baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 27. Защиты. Manual del Baratero, Мадрид, 1849 г.
 Рис. 29. Фронтальная стойка. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 30. Отбив ножа левой рукой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 29. Фронтальная стойка. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 30. Отбив ножа левой рукой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

 Рис. 31. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin. Мануель Антонио де Бреа, Мадрид, 1805 г.
Рис. 31. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin. Мануель Антонио де Бреа, Мадрид, 1805 г.
 Рис. 32. Уловка с падением. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 32. Уловка с падением. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
 Рис. 33. Дуэль на навахах. Франсиско Гойя, 1812–1820 гг.
Рис. 33. Дуэль на навахах. Франсиско Гойя, 1812–1820 гг.
 Рис. 34. Метание навахона. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 34. Метание навахона. Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 35. Матадор добивает быка (фрагмент) («Тавромахия», офорт 9). Франсиско Гойя, около 1815–1816 гг.
Рис. 35. Матадор добивает быка (фрагмент) («Тавромахия», офорт 9). Франсиско Гойя, около 1815–1816 гг.
 Рис. 36. Цыган-эскиладор (стригаль). На поясе видны ножницы. Хуан Каррафа, 1825 г.
Рис. 36. Цыган-эскиладор (стригаль). На поясе видны ножницы. Хуан Каррафа, 1825 г.
 Рис. 37. Ножницы в качестве оружия. Дуэль скорняка и портного, Йост Амман, 1588 г.
Рис. 37. Ножницы в качестве оружия. Дуэль скорняка и портного, Йост Амман, 1588 г.
 Рис. 38. Навахеро. El Siglo pintoresco, 1845 г.
Рис. 38. Навахеро. El Siglo pintoresco, 1845 г.
 Рис. 39. Испанские ножи XVIII-XIX в. La Coutellerie depuis l’origine jusqu'a nos jours, Камилл Паж, 1896–1904 гг.
Рис. 39. Испанские ножи XVIII-XIX в. La Coutellerie depuis l’origine jusqu'a nos jours, Камилл Паж, 1896–1904 гг.
 Рис. 40. Каррака
Рис. 40. Каррака
 Рис. 41. Бритва цирюльника. Голландия, XV в.
Рис. 42. Наваха поднятая с испанского галеона Nuestra Senora de Atochа, затонувшего в 1622 г.
Рис. 41. Бритва цирюльника. Голландия, XV в.
Рис. 42. Наваха поднятая с испанского галеона Nuestra Senora de Atochа, затонувшего в 1622 г.
 Рис. 43. Emblematum libellus (Книга эмблем), 1542 г.
Рис. 43. Emblematum libellus (Книга эмблем), 1542 г.
 Рис. 44. Emblematum libellus (Книга эмблем), 1618 г.
Рис. 44. Emblematum libellus (Книга эмблем), 1618 г.
 Рис. 46. Мавританская лампа. The Industrial Arts in Spain, Хуан Рианьо, 1879 г.
Рис. 46. Мавританская лампа. The Industrial Arts in Spain, Хуан Рианьо, 1879 г.
 Рис. 47. Продавцы ножей. Луис Эскобар, Альбасете, 1927 г.
Рис. 47. Продавцы ножей. Луис Эскобар, Альбасете, 1927 г.
 Рис. 48. Дуэль на навахах «del santolio» (santo oleo). Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 48. Дуэль на навахах «del santolio» (santo oleo). Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 49. Бретёр с навахой. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 49. Бретёр с навахой. Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 50. Жители Кордовы. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 50. Жители Кордовы. Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 51. Испанский охотничий нож. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna, Флоренция, 1983 г.
Рис. 51. Испанский охотничий нож. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna, Флоренция, 1983 г.
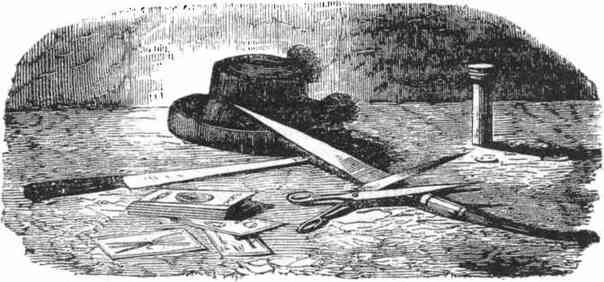 Рис. 52. Наваха, нож и ножницы — оружие вора. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Рис. 52. Наваха, нож и ножницы — оружие вора. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
 Рис. 53. Ирис № 142, Барселона, 25 января 1902 г.
Рис. 53. Ирис № 142, Барселона, 25 января 1902 г.
 Рис. 54. Ирис № 142, Барселона, 25 января 1902 г.
Рис. 54. Ирис № 142, Барселона, 25 января 1902 г.
 Рис. 55. Кинжал в распятии. Criminal man. Чезаре Ломброзо, 1911 г.
Рис. 55. Кинжал в распятии. Criminal man. Чезаре Ломброзо, 1911 г.
 Рис. 56. Guardia Civil из Хуэскара. Испания, 1912 г.
Рис. 56. Guardia Civil из Хуэскара. Испания, 1912 г.
 Рис. 57. Дуэль баратеро Игнасио Аргуманьеса и Грегорио Кане, 1836 г.
Рис. 57. Дуэль баратеро Игнасио Аргуманьеса и Грегорио Кане, 1836 г.
 Рис. 58. «За нож» («Ужасы воины», офорт 34). Франсиско Гойя, 1810 -1815 гг.
Рис. 58. «За нож» («Ужасы воины», офорт 34). Франсиско Гойя, 1810 -1815 гг.
 Рис. 59. «Ни за что» («Ужасы войны», офорт 35). Франсиско Гойя, 1810–1815 гг.
Рис. 59. «Ни за что» («Ужасы войны», офорт 35). Франсиско Гойя, 1810–1815 гг.
 Рис. 60. Женщины Сарагосы сражаются с французскими драгунами. Хуан Гальвес, Фернандо Брамбийя, 1812–1813 гг.
Рис. 60. Женщины Сарагосы сражаются с французскими драгунами. Хуан Гальвес, Фернандо Брамбийя, 1812–1813 гг.
 Рис. 61. «Они не хотят» («Ужасы войны», офорт 9). Франсиско Гойя, 1810–1815 гг.
Рис. 61. «Они не хотят» («Ужасы войны», офорт 9). Франсиско Гойя, 1810–1815 гг.
 Рис. 62. Мужчина с кинжалом. Франсиско Гойя, около 1820 г.
Рис. 63. Испанец добивает французского солдата. Начало XIX в.
Рис. 62. Мужчина с кинжалом. Франсиско Гойя, около 1820 г.
Рис. 63. Испанец добивает французского солдата. Начало XIX в.
 рис. 64. Валтасар Кальво в 1808 году благословляет навахи.
рис. 64. Валтасар Кальво в 1808 году благословляет навахи.

 Bella Italia — прекрасная Италия! Неаполитанские песни в исполнении Карузо — кто же из наших бабушек не подпевал его голосу с граммофонной пластинки, с которой лились звуки «Вернись в Сорренто»? Столь любимые русскими писателями бухты и скалы Капри, античные развалины Рима и Сицилии, сотни лет вдохновлявшие многие поколения романтиков. Дворцы дожей и каналы Венеции, фрески виллы Борджиа и флорентийские дворцы.
Возрождения, швейцарские гвардейцы в своих архаичных шапках у ворот Ватикана. Коварные Медичи, мудрый Макиавелли и лукавый Боккаччо. Капелла Святого Петра, шарманщики с обезьянками на улицах Рима и напыщенные мафиози в хрестоматийных полосатых костюмах, сидящие перед тарелкой пасты в уличных кафе Палермо и Катании. Старухи в чёрном, идущие за гробами убитых в бесконечных вендеттах, и беспечные венецианские гондольеры у площади Сан-Марко.
Порой кажется, что мы знаем об Италии всё — историю, традиции, привычки, моду, кухню. Но в этот раз нас не интересуют ни бельканто, ни неореализм итальянского кино 60-х. Мы не будем спорить о пристрастиях Леонардо, и пытаться поднять завесу тайны Джоконды.
В каббалистике существует такой термин, как «ситра ахра», что буквально можно перевести как «другая сторона» — обратная, тёмная сторона реальности, подпитываемая грехами людскими[255]. Но такая «обратная сторона Луны» существует не только в качестве метафоры или философской категории. Своя «ситра ахра» — назовём её в этом контексте скелетами в шкафу — есть и у каждой культуры. Зазеркалье Италии было двуликим. Если две беды России — это, как известно, дураки и дороги, то двумя проклятиями Италии на многие сотни лет стали каморра и дуэли на ножах.
На протяжении всей истории Апеннинского полуострова на территории его появлялись и исчезали государства, культуры и народы, и все они приносили какие-то свои уникальные традиции. Как неоднороден сам итальянский этнос, так разнородна и его культура. В отличие от других стран, где также существовали культуры поединков на ножах, таких как Испания или Голландия, ножевая традиция Италии не появилась в какой-то определённый исторический период. Она формировалась и развивалась под влиянием множества часто совершенно не связанных между собой факторов в течение многих веков. Особую сложность изучению региональных обычаев и традиций Италии придаёт тот факт, что вплоть до середины XIX столетия страна была раздроблена и представляла собой множество отдельных государств, различающихся по этническому составу и говорящих на различных диалектах.
За минувшие века ножевая культура стала настолько органичной частью жизни итальянцев и неотделимой частью системы ценностей итальянского общества, что даже просвещённые итальянские поэты и писатели прошлого считали использование низшими классами Италии ножей для решения споров естественной частью народной культуры. Описание и изображения подобных поединков мы находим не только в многочисленных пособиях по фехтованию и самообороне, но и в работах прославленных итальянских писателей и художников эпохи Возрождения. Так, сцену, изображающую поединок на кинжалах, мы можем увидеть на картине «Adorazione dei Magi» — «Поклонение волхвов», написанной известным итальянским художником Джентиле да Фабриано в 1423 году.
Bella Italia — прекрасная Италия! Неаполитанские песни в исполнении Карузо — кто же из наших бабушек не подпевал его голосу с граммофонной пластинки, с которой лились звуки «Вернись в Сорренто»? Столь любимые русскими писателями бухты и скалы Капри, античные развалины Рима и Сицилии, сотни лет вдохновлявшие многие поколения романтиков. Дворцы дожей и каналы Венеции, фрески виллы Борджиа и флорентийские дворцы.
Возрождения, швейцарские гвардейцы в своих архаичных шапках у ворот Ватикана. Коварные Медичи, мудрый Макиавелли и лукавый Боккаччо. Капелла Святого Петра, шарманщики с обезьянками на улицах Рима и напыщенные мафиози в хрестоматийных полосатых костюмах, сидящие перед тарелкой пасты в уличных кафе Палермо и Катании. Старухи в чёрном, идущие за гробами убитых в бесконечных вендеттах, и беспечные венецианские гондольеры у площади Сан-Марко.
Порой кажется, что мы знаем об Италии всё — историю, традиции, привычки, моду, кухню. Но в этот раз нас не интересуют ни бельканто, ни неореализм итальянского кино 60-х. Мы не будем спорить о пристрастиях Леонардо, и пытаться поднять завесу тайны Джоконды.
В каббалистике существует такой термин, как «ситра ахра», что буквально можно перевести как «другая сторона» — обратная, тёмная сторона реальности, подпитываемая грехами людскими[255]. Но такая «обратная сторона Луны» существует не только в качестве метафоры или философской категории. Своя «ситра ахра» — назовём её в этом контексте скелетами в шкафу — есть и у каждой культуры. Зазеркалье Италии было двуликим. Если две беды России — это, как известно, дураки и дороги, то двумя проклятиями Италии на многие сотни лет стали каморра и дуэли на ножах.
На протяжении всей истории Апеннинского полуострова на территории его появлялись и исчезали государства, культуры и народы, и все они приносили какие-то свои уникальные традиции. Как неоднороден сам итальянский этнос, так разнородна и его культура. В отличие от других стран, где также существовали культуры поединков на ножах, таких как Испания или Голландия, ножевая традиция Италии не появилась в какой-то определённый исторический период. Она формировалась и развивалась под влиянием множества часто совершенно не связанных между собой факторов в течение многих веков. Особую сложность изучению региональных обычаев и традиций Италии придаёт тот факт, что вплоть до середины XIX столетия страна была раздроблена и представляла собой множество отдельных государств, различающихся по этническому составу и говорящих на различных диалектах.
За минувшие века ножевая культура стала настолько органичной частью жизни итальянцев и неотделимой частью системы ценностей итальянского общества, что даже просвещённые итальянские поэты и писатели прошлого считали использование низшими классами Италии ножей для решения споров естественной частью народной культуры. Описание и изображения подобных поединков мы находим не только в многочисленных пособиях по фехтованию и самообороне, но и в работах прославленных итальянских писателей и художников эпохи Возрождения. Так, сцену, изображающую поединок на кинжалах, мы можем увидеть на картине «Adorazione dei Magi» — «Поклонение волхвов», написанной известным итальянским художником Джентиле да Фабриано в 1423 году.

 Рис. 2. Бригант преподносит кинжал в дар деве Марии. Луи-Эсташ Оду, 1836 г.
Рис. 2. Бригант преподносит кинжал в дар деве Марии. Луи-Эсташ Оду, 1836 г.
 Рис. 3. Бриганты сражающиеся на ножах. Томас Баркер, 1844 г.
Рис. 3. Бриганты сражающиеся на ножах. Томас Баркер, 1844 г.



 Рис. 8. Игра в дзекинетту. Бартоломео Пинелли, 1815 г.
Рис. 8. Игра в дзекинетту. Бартоломео Пинелли, 1815 г.

 Рис. 10. Процесс в Витербо. Каморристов ведут в здание суда, 1911 г.
Рис. 10. Процесс в Витербо. Каморристов ведут в здание суда, 1911 г.
 Рис. 11. Каморрист Дженнаро Аббатемаджо. Процесс в Витербо, 1911 г.
Рис. 11. Каморрист Дженнаро Аббатемаджо. Процесс в Витербо, 1911 г.
 Рис. 12. Неаполитанский гуаппо с тростью-вара, 1866 г.
Рис. 12. Неаполитанский гуаппо с тростью-вара, 1866 г.

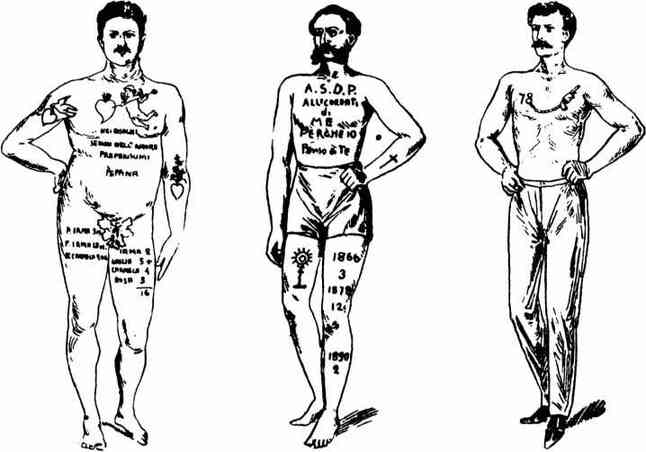 Рис. 14. Каморрист-сутенёр.
Рис. 15. Каморрист-вор.
Рис. 16. Каморрист-бандит.
La Mala Vita a Napoli, Абель де Блазио, 1905 г.
Рис. 14. Каморрист-сутенёр.
Рис. 15. Каморрист-вор.
Рис. 16. Каморрист-бандит.
La Mala Vita a Napoli, Абель де Блазио, 1905 г.
 Рис. 17. Зумпата. Начало XX в.
Рис. 17. Зумпата. Начало XX в.
 Рис. 18. Каморрист. 1901 г.
Рис. 19. Капинтеста каморры Сальваторе «Торе» де Крещенцо, около 1860 г.
Рис. 18. Каморрист. 1901 г.
Рис. 19. Капинтеста каморры Сальваторе «Торе» де Крещенцо, около 1860 г.
 Рис. 20. Каморристы. Кристиан Вильгельм Аллерс, 1890-е.
Рис. 20. Каморристы. Кристиан Вильгельм Аллерс, 1890-е.
 Рис. 21. Каморрист Паскуале Барра.
Рис. 21. Каморрист Паскуале Барра.
 Рис. 22. Сицилийские «campieri» — наёмные рабочие, часто выполнявшие функции охраны. Фото конца XIX в.
Рис. 23. Нанесение татуировки каморристу. Начало XX в.
Рис. 22. Сицилийские «campieri» — наёмные рабочие, часто выполнявшие функции охраны. Фото конца XIX в.
Рис. 23. Нанесение татуировки каморристу. Начало XX в.

 Рис. 26. Римский булли. Бартоломео Пинелли, нач. XIX в.
Рис. 26. Римский булли. Бартоломео Пинелли, нач. XIX в.
 Рис. 27. Костюмы римлян конца XIX в.
Рис. 27. Костюмы римлян конца XIX в.
 Рис 28. Дуэль булли. Бартоломео Пинелли, 1823 г.
Рис 28. Дуэль булли. Бартоломео Пинелли, 1823 г.
 Рис. 29. Мужчина с плащом и кинжалом Италия, около 1600 г.
Рис. 29. Мужчина с плащом и кинжалом Италия, около 1600 г.
 Рис. 30. Сражение (сассолате) между районами Трастевере и Монти на Коровьем поле. Бартоломео Пинелли, 1830 г.
Рис. 30. Сражение (сассолате) между районами Трастевере и Монти на Коровьем поле. Бартоломео Пинелли, 1830 г.
 Рис. 31.Ссора в Риме. Бартоломео Пинелли.
Рис. 31.Ссора в Риме. Бартоломео Пинелли.
 Рис. 32. Битва обнажённых. Антонио Поллайоло. 1470 г.
Рис. 32. Битва обнажённых. Антонио Поллайоло. 1470 г.
 Рис. 33. Игра в морру. Бартоломео Пинелли, 1809 г.
Рис. 33. Игра в морру. Бартоломео Пинелли, 1809 г.
 Рис. 34. Игра в пасателлу. Бартоломео Пинелли 1831 г.
Рис. 34. Игра в пасателлу. Бартоломео Пинелли 1831 г.
 Рис. 35. Сицилийская семья. Конец XIX в.
Рис. 35. Сицилийская семья. Конец XIX в.
 Рис. 36. Джузеппе Питре (1841–1916).
Рис. 36. Джузеппе Питре (1841–1916).
 Рис. 37. «Кьоджинские перепалки». Collezione completa delle commedie del signor Carlo Goldoni. Венеция, 1789 г.
Рис. 37. «Кьоджинские перепалки». Collezione completa delle commedie del signor Carlo Goldoni. Венеция, 1789 г.

 Рис. 39. Надгробие оружейника Луция Корнелия Атимето, вилла Массимо, I в. до н. э.
Рис. 39. Надгробие оружейника Луция Корнелия Атимето, вилла Массимо, I в. до н. э.
 Рис. 40. Царь даков Децебал перерезает себе горло сикой, 113 г. н. э. Колонна Траяна, Рим.
Рис. 40. Царь даков Децебал перерезает себе горло сикой, 113 г. н. э. Колонна Траяна, Рим.

 Рис. 42. Воин с кинжалом в наплечных ножнах.
Рис. 42. Воин с кинжалом в наплечных ножнах.

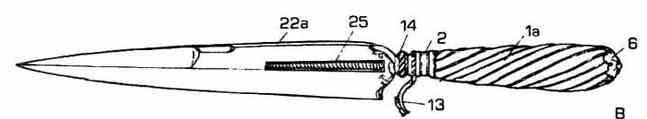


 Рис. 47. Ссора римских булли. В руках дуэлянтов отчётливо видны кинжалы «трианголо». Бартоломео Пинелли, XIX в.
Рис. 47. Ссора римских булли. В руках дуэлянтов отчётливо видны кинжалы «трианголо». Бартоломео Пинелли, XIX в.

 Рис. 49. Тосканский охотничий нож. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna. Флоренция, 1983 г.
Рис. 49. Тосканский охотничий нож. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna. Флоренция, 1983 г.
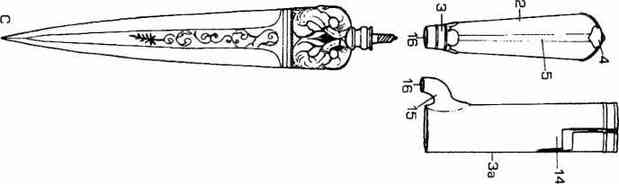

 Рис. 52. Сардинский бригант Джованни Корбедду Салис (1844–1898) с леппой за поясом.
Рис. 52. Сардинский бригант Джованни Корбедду Салис (1844–1898) с леппой за поясом.




 Рис. 57. Джон Стайерс
Рис. 57. Джон Стайерс
 Рис. 58. Стайерс проводит пассата сото.
Рис. 58. Стайерс проводит пассата сото.
 Рис. 59. Д. Стайерс и А.Дж. Прицци.
Рис. 59. Д. Стайерс и А.Дж. Прицци.
 Рис. 60. Каноническая итальянская техника — пассата сото. Д.Биддл.
Рис. 60. Каноническая итальянская техника — пассата сото. Д.Биддл.
 Рис. 61. Инквартата. Д. Стайерс.
Рис. 61. Инквартата. Д. Стайерс.
 Рис. 62. Биддл демонстрирует инквартату.
Рис. 62. Биддл демонстрирует инквартату.
 Рис. 65. Указ кардинала Паолуччи от 2 января 1708 года, запрещающий ношение складных ножей без фиксатора длинее 18 см.
Рис. 65. Указ кардинала Паолуччи от 2 января 1708 года, запрещающий ношение складных ножей без фиксатора длинее 18 см.
 Рис. 68. Рисунок ножа, которым было нанесено ранение в драке в 1749 г. Общая длина 220 мм. (© G. С. Baronti).
Рис. 68. Рисунок ножа, которым было нанесено ранение в драке в 1749 г. Общая длина 220 мм. (© G. С. Baronti).
 Рис. 69. Шеф полиции Рима со своими сбирри. Франсуа Николя Боке, 1680–1716 гг.
Рис. 69. Шеф полиции Рима со своими сбирри. Франсуа Николя Боке, 1680–1716 гг.
 Рис. 70. Карта Чивитавеккья, XIX в.
Рис. 70. Карта Чивитавеккья, XIX в.
 Рис. 71. Джованни Джолитти (1842–1928).
Рис. 71. Джованни Джолитти (1842–1928).
 Рис. 72. Arditi — Отважные. Бойцы ударных отрядов итальянской армии в 1915–1918 гг.
Рис. 72. Arditi — Отважные. Бойцы ударных отрядов итальянской армии в 1915–1918 гг.

 Рис. 74. Лейтенант ардити Карло Сабатини [второй слева) с товарищами у Монте Корно в Трентино, 1918 г.
Рис. 74. Лейтенант ардити Карло Сабатини [второй слева) с товарищами у Монте Корно в Трентино, 1918 г.

 В 1515 году три испанских корабля под командованием Хуана Диаса де Солиса пристали к берегам Нового Света в устье реки, называемой туземцами Парана Гуасу — Река-как-море. Де Солис первым исследовал Рио-де-ла-Плата, которой он дал имя Маре Дульче — Сладкое море. Но эта амбициозная экспедиция закончилась провалом — вскоре после высадки на берег Солиса и его людей убили воинственные индейцы, населявшие эти места[546].
Более удачливым оказался другой мореплаватель, венецианец Себастьян Кабо, в течение нескольких месяцев изучавший дельту Параны и открывший реку Парагвай. В месте слияния рек Парана и Рио-Каркаранья его экспедиция основала небольшой форт — первое испанское поселение на берегах Параны. Многие исследователи именно Кабо приписывают авторство названия Рио-де-ла-Плата, что в переводе означает «Река из серебра». Следующим в эти места в 1536 году прибыл Педро де Мендоза. На юго-западном берегу, в дельте Рио-де-ла-Плата, в устье рек Парана и Уругвай, он основал небольшой сеттльмент, который испанцы рассчитывали использовать как опорный пункт для исследования региона. Поселение это получило имя Сьюдад де Нуэстра Сеньора Санта Мария дель Буэн Айре. В 1570-х испанцы основали в этих местах целый ряд населённых пунктов, а в 1580-м заложенный Мендозой посёлок был расширен, укреплён, и на его месте вырос форт, позже превратившийся в город Буэнос-Айрес[547].
Именно здесь, в окружавшей Рио-де-ла-Плата пампе, жили и умирали гаучо — герои Гутьереса, Эрнандеса и Борхеса, свободолюбивые, суровые и немногословные пастухи, арканившие диких аргентинских быков, бесконечно воевавшие с индейцами и, как и большинство жителей любого пограничья, с презрением относившиеся к законам и власти.
Происхождение гаучо покрыто туманом колониальной пампы, и все обсуждения этой темы увязли в трясине академической полемики. Историки разделились на два основных лагеря: испанистов и американистов. Первые из них настаивают на испанских или арабских корнях культуры всадников пампы. Так, в 1886 году Федерико Тобаль утверждал, что одежда, обычаи, характер, родовая сплочённость, внешность — абсолютно всё в гаучо является восточным и арабским. Даже их музыка и поэзия, считал он, несут на себе арабский след, ведущий через Андалусию в аргентинскую пампу. Другие же испанисты игнорируют далёкое арабское влияние и рассматривают только пастушескую культуру Андалусии. Так, Эрнесто Кесада, аргентинский писатель националистического толка, в 1902 году утверждал, что «гаучо — это жители Андалусии, перевезённые в пампу в XVІ-XVІІ столетиях». Кесада однозначно и категорично настаивал на том, что это часть испанского наследия, принесённого конкистадорами. Сторонниками теории об испанском происхождении этих пастухов также являлись видный землевладелец и основатель Аграрного общества Аргентины Эдуардо Оливера и известный фольклорист Мартиниано Легисамон[548].
Американисты же настаивали на автохтонном происхождении гаучо, которых они рассматривали как продукт, «порождённый уникальной атмосферой Нового Света». Но и их ряды не были монолитными, и они нередко расходились во мнениях. Так, например, Висенте Росси, являлся ортодоксальным сторонником теории «индианизма» и искал корни гаучо среди известных своей жестокостью воинов кочевого племени гуарани, или, как их ещё называли, «хаучии». Гуарани, которых с 1826 года относили к уругвайским этносам, жили на «банда ориенталь» — восточном берегу реки. В качестве основного аргумента Росси использовал этимологические ссылки на происхождение термина «гаучо», который, как он предполагал, происходил от гуаранского «хаучо» или «хаучи». Пабло Бланко Асеведо также разделял взгляды индианистов и считал основным фактором, оказавшим влияние на формирование ранних гаучо, индейцев чарруа с восточного берега. Свои утверждения он аргументировал тем, что гаучо, как и индейцы, использовали традиционные индейские «болеа-доры», или «болас», а также имели пристрастие к популярному у индейцев чаю мате[549].
Многие американисты склоняются к версии расового и культурного смешения индейских и испанских элементов. Хотя они и утверждают, что происхождение гаучо связано с Новым Светом, но мнения о точном месте их появления значительно расходятся. Так, Бланко Асеведо, Росси и франко-аргентинский писатель Поль Груссак считали колыбелью гаучо восточный берег. А Эмилио Р. Кони, яростный федералист и непримиримый противник «портеньос» — жителей Буэнос-Айреса, настаивал на том, что родиной гаучо являлась провинция Санта-Фе[550].
Первые упоминания о гаучо датируются 1601 годом, когда некий путешественник видел в окрестностях Буэнос-Айреса всадников с лассо и без сёдел. Свидетельства, датированные началом 1730-х, описывают вакерии — охоту с лассо, в которых всадники окружали и убивали крупный рогатый скот из-за шкур. Мануэль Гальвес и Карлос Октавио Бунге делили местных крестьян на тех, кто обычно ездили на мулах, и тех, кто предпочитал коней — то есть гаучо. Возможно, что впервые гаучо появились как охотники на диких быков на аргентинском берегу Рио-де-ла-Плата, а позже, в конце XVI и начале XVII столетия расселились вдоль реки вверх от парагвайского Асунсьона[551].
Загадкой остаётся не только происхождение гаучо, но и этимология этого названия. Термин «гаучо» впервые встречается в 1743 году в журнале «Noticias secretas de America», издаваемом двумя испанскими учёными и мореплавателями, Антонио де Ульоа и Хорхе Хуаном и Сантасилья. Описывая жителей горного района Чили, находящегося примерно в восьмидесяти лигах — 250 милях — от Консепсьона, в качестве общего термина для обозначения местных крестьян они упоминали выражение «gauchos о gente campestre». В самой Аргентине этот термин впервые встречается в 1774 году в жалобе правительственных чиновников, сетовавших на злодеяния «гаучо, или похитителей скота, действующих на banda oriental — в диком, огромном и большей частью неуправляемом районе пограничья».
Этимология этого слова вызывает оживлённые дебаты среди всех сторонников арабского, андалузского, баскского, французского, цыганского, еврейского, португальского, кечуанского, арауканского и даже английского его происхождения. Так, например, в 1820 году английский художник Эмерик Эссекс Видал предложил маловероятную версию об английских корнях этого термина. «Все соотечественники называют жителей Буэнос-Айреса «гаучо» — словом, которое, без сомнения, имеет общий корень со старым английским «gawk» или «gawkey», используемым для описания неотёсанных манер и внешнего вида этой деревенщины», — безапелляционно утверждал этот англичанин. Большинство сторонников местного происхождения этого термина склонялись к арауканской версии. Наиболее вероятными вариантами им казалось арауканское слово «хаучу» и термин кечуа, «хаук-ча», имеющие одинаковое значение — «сирота»[552].
В 1515 году три испанских корабля под командованием Хуана Диаса де Солиса пристали к берегам Нового Света в устье реки, называемой туземцами Парана Гуасу — Река-как-море. Де Солис первым исследовал Рио-де-ла-Плата, которой он дал имя Маре Дульче — Сладкое море. Но эта амбициозная экспедиция закончилась провалом — вскоре после высадки на берег Солиса и его людей убили воинственные индейцы, населявшие эти места[546].
Более удачливым оказался другой мореплаватель, венецианец Себастьян Кабо, в течение нескольких месяцев изучавший дельту Параны и открывший реку Парагвай. В месте слияния рек Парана и Рио-Каркаранья его экспедиция основала небольшой форт — первое испанское поселение на берегах Параны. Многие исследователи именно Кабо приписывают авторство названия Рио-де-ла-Плата, что в переводе означает «Река из серебра». Следующим в эти места в 1536 году прибыл Педро де Мендоза. На юго-западном берегу, в дельте Рио-де-ла-Плата, в устье рек Парана и Уругвай, он основал небольшой сеттльмент, который испанцы рассчитывали использовать как опорный пункт для исследования региона. Поселение это получило имя Сьюдад де Нуэстра Сеньора Санта Мария дель Буэн Айре. В 1570-х испанцы основали в этих местах целый ряд населённых пунктов, а в 1580-м заложенный Мендозой посёлок был расширен, укреплён, и на его месте вырос форт, позже превратившийся в город Буэнос-Айрес[547].
Именно здесь, в окружавшей Рио-де-ла-Плата пампе, жили и умирали гаучо — герои Гутьереса, Эрнандеса и Борхеса, свободолюбивые, суровые и немногословные пастухи, арканившие диких аргентинских быков, бесконечно воевавшие с индейцами и, как и большинство жителей любого пограничья, с презрением относившиеся к законам и власти.
Происхождение гаучо покрыто туманом колониальной пампы, и все обсуждения этой темы увязли в трясине академической полемики. Историки разделились на два основных лагеря: испанистов и американистов. Первые из них настаивают на испанских или арабских корнях культуры всадников пампы. Так, в 1886 году Федерико Тобаль утверждал, что одежда, обычаи, характер, родовая сплочённость, внешность — абсолютно всё в гаучо является восточным и арабским. Даже их музыка и поэзия, считал он, несут на себе арабский след, ведущий через Андалусию в аргентинскую пампу. Другие же испанисты игнорируют далёкое арабское влияние и рассматривают только пастушескую культуру Андалусии. Так, Эрнесто Кесада, аргентинский писатель националистического толка, в 1902 году утверждал, что «гаучо — это жители Андалусии, перевезённые в пампу в XVІ-XVІІ столетиях». Кесада однозначно и категорично настаивал на том, что это часть испанского наследия, принесённого конкистадорами. Сторонниками теории об испанском происхождении этих пастухов также являлись видный землевладелец и основатель Аграрного общества Аргентины Эдуардо Оливера и известный фольклорист Мартиниано Легисамон[548].
Американисты же настаивали на автохтонном происхождении гаучо, которых они рассматривали как продукт, «порождённый уникальной атмосферой Нового Света». Но и их ряды не были монолитными, и они нередко расходились во мнениях. Так, например, Висенте Росси, являлся ортодоксальным сторонником теории «индианизма» и искал корни гаучо среди известных своей жестокостью воинов кочевого племени гуарани, или, как их ещё называли, «хаучии». Гуарани, которых с 1826 года относили к уругвайским этносам, жили на «банда ориенталь» — восточном берегу реки. В качестве основного аргумента Росси использовал этимологические ссылки на происхождение термина «гаучо», который, как он предполагал, происходил от гуаранского «хаучо» или «хаучи». Пабло Бланко Асеведо также разделял взгляды индианистов и считал основным фактором, оказавшим влияние на формирование ранних гаучо, индейцев чарруа с восточного берега. Свои утверждения он аргументировал тем, что гаучо, как и индейцы, использовали традиционные индейские «болеа-доры», или «болас», а также имели пристрастие к популярному у индейцев чаю мате[549].
Многие американисты склоняются к версии расового и культурного смешения индейских и испанских элементов. Хотя они и утверждают, что происхождение гаучо связано с Новым Светом, но мнения о точном месте их появления значительно расходятся. Так, Бланко Асеведо, Росси и франко-аргентинский писатель Поль Груссак считали колыбелью гаучо восточный берег. А Эмилио Р. Кони, яростный федералист и непримиримый противник «портеньос» — жителей Буэнос-Айреса, настаивал на том, что родиной гаучо являлась провинция Санта-Фе[550].
Первые упоминания о гаучо датируются 1601 годом, когда некий путешественник видел в окрестностях Буэнос-Айреса всадников с лассо и без сёдел. Свидетельства, датированные началом 1730-х, описывают вакерии — охоту с лассо, в которых всадники окружали и убивали крупный рогатый скот из-за шкур. Мануэль Гальвес и Карлос Октавио Бунге делили местных крестьян на тех, кто обычно ездили на мулах, и тех, кто предпочитал коней — то есть гаучо. Возможно, что впервые гаучо появились как охотники на диких быков на аргентинском берегу Рио-де-ла-Плата, а позже, в конце XVI и начале XVII столетия расселились вдоль реки вверх от парагвайского Асунсьона[551].
Загадкой остаётся не только происхождение гаучо, но и этимология этого названия. Термин «гаучо» впервые встречается в 1743 году в журнале «Noticias secretas de America», издаваемом двумя испанскими учёными и мореплавателями, Антонио де Ульоа и Хорхе Хуаном и Сантасилья. Описывая жителей горного района Чили, находящегося примерно в восьмидесяти лигах — 250 милях — от Консепсьона, в качестве общего термина для обозначения местных крестьян они упоминали выражение «gauchos о gente campestre». В самой Аргентине этот термин впервые встречается в 1774 году в жалобе правительственных чиновников, сетовавших на злодеяния «гаучо, или похитителей скота, действующих на banda oriental — в диком, огромном и большей частью неуправляемом районе пограничья».
Этимология этого слова вызывает оживлённые дебаты среди всех сторонников арабского, андалузского, баскского, французского, цыганского, еврейского, португальского, кечуанского, арауканского и даже английского его происхождения. Так, например, в 1820 году английский художник Эмерик Эссекс Видал предложил маловероятную версию об английских корнях этого термина. «Все соотечественники называют жителей Буэнос-Айреса «гаучо» — словом, которое, без сомнения, имеет общий корень со старым английским «gawk» или «gawkey», используемым для описания неотёсанных манер и внешнего вида этой деревенщины», — безапелляционно утверждал этот англичанин. Большинство сторонников местного происхождения этого термина склонялись к арауканской версии. Наиболее вероятными вариантами им казалось арауканское слово «хаучу» и термин кечуа, «хаук-ча», имеющие одинаковое значение — «сирота»[552].
 Рис. 1. Гаучо, играющий на гитаре, 1915 г.
Рис. 2. Гаучо XVIII в. Акварель Ренара.
Рис. 1. Гаучо, играющий на гитаре, 1915 г.
Рис. 2. Гаучо XVIII в. Акварель Ренара.
 Рис. 3. Гаучо, 1915 г.
Рис. 3. Гаучо, 1915 г.
 Рис. 4. Шрамы от ножа на лице.
Рис. 5. Гаучо. 1868 г.
Рис. 4. Шрамы от ножа на лице.
Рис. 5. Гаучо. 1868 г.
 Рис. 6. «После перикона» (популярный танец). Франциско Айерса, Эстанция Сан Хуан, 1891 г.
Рис. 6. «После перикона» (популярный танец). Франциско Айерса, Эстанция Сан Хуан, 1891 г.
 Рис. 7. Гаучо пьющий мате, 1950 г.
Рис. 7. Гаучо пьющий мате, 1950 г.
 Рис. 8. Уловка с пончо. Энрике Кастельс Капурро (1913–1987).
Рис. 8. Уловка с пончо. Энрике Кастельс Капурро (1913–1987).
 Рис. 9. Креольская дуэль. Около 1912 г.
Рис. 9. Креольская дуэль. Около 1912 г.
 Рис. 10. Дуэль. Постановочная фотография нач. XX в.
Рис. 10. Дуэль. Постановочная фотография нач. XX в.
 Рис. 11. Клеймение скота.
Рис. 11. Клеймение скота.
 Рис. 12. Мазоркерос режут горло оппозиционерам. Los martires de Buenos Aires, Manuel M. Nieves, 1857 r.
Рис. 12. Мазоркерос режут горло оппозиционерам. Los martires de Buenos Aires, Manuel M. Nieves, 1857 r.
 Рис. 13. Гаучо Мартин Фьерро и пайадор, 1897 г.
Рис. 13. Гаучо Мартин Фьерро и пайадор, 1897 г.
 Рис. 14. Доминго Фаустино Сармиенто в сражении при Касерос, провинция Санта Фе, 1852 г.
Рис. 14. Доминго Фаустино Сармиенто в сражении при Касерос, провинция Санта Фе, 1852 г.
 Рис. 15. Доминго Фаустино Сармиенто (1811–1888).
Рис. 15. Доминго Фаустино Сармиенто (1811–1888).
 Рис. 16. Гаучо Мартин Фьерро. Хосе Эрнандес
Рис. 17. Хуан Морейра. 1897 г.
Рис. 16. Гаучо Мартин Фьерро. Хосе Эрнандес
Рис. 17. Хуан Морейра. 1897 г.

 Рис. 18. Сержант Андрес Чирино.
Рис. 19. Стойка. Esgrima criolla, Марио Лопес Осорнио, 1942 г.
Рис. 18. Сержант Андрес Чирино.
Рис. 19. Стойка. Esgrima criolla, Марио Лопес Осорнио, 1942 г.
 Рис. 20. Креольская дуэль. Хорхе Даниель Кампос.
Рис. 20. Креольская дуэль. Хорхе Даниель Кампос.

 Рис. 21. Обезоруживание. Esgrima criolla, Марио Лопес Осорнио, 1942 г.
Рис. 21. Обезоруживание. Esgrima criolla, Марио Лопес Осорнио, 1942 г.
 Рис. 22. Мартин Фьерро. Карлос Алонсо, 1960 г.
Рис. 22. Мартин Фьерро. Карлос Алонсо, 1960 г.
 Рис. 23. Растры.
Рис. 23. Растры.
 Рис. 24. Серебряная рукоять европейского кинжала. Любек 1510 г.
Рис. 24. Серебряная рукоять европейского кинжала. Любек 1510 г.

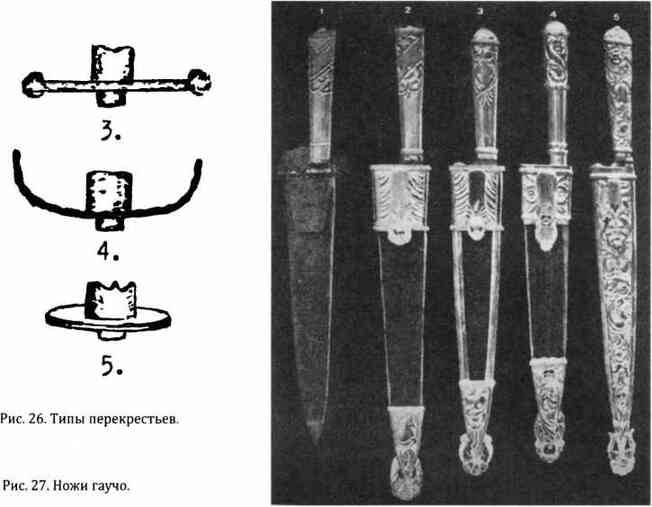

 Рис. 29. Ножи английского и французского производства для латиноамериканского рынка. La coutellerie. Камилл Паж, Шательро, 1904 г.
Рис. 29. Ножи английского и французского производства для латиноамериканского рынка. La coutellerie. Камилл Паж, Шательро, 1904 г.
 Ножи гаучо носили заткнутыми за пояс за спиной, рукояткой вправо и лезвием вверх. Эта манеру ношения оружия можно, например, увидеть на многочисленных работах художника Эмерика Эссекса Видала периода 1820-х. Хотя мне также встречались гравюры и дагерротипы, на которых рукоятки ножей были повёрнуты влево. Возможно, это обусловлено тем, что владельцы ножа были левшами, хотя Осорнио предлагает другое объяснение. Он описывает ножи, уже изначально предназначенные для ношения рукояткой влево, и считает, что это было ошибкой производителя, не удосужившегося ознакомиться с местными традициями. Скорее всего, такая манера ношения ножа в первую очередь была продиктована соображениями безопасности. В октябре 1842 года пеон Лоренцо Понсе получил смертельное ранение в пах собственным ножом, перелетев на скаку через голову коня. Это несчастный случай произошёл из-за того, что нож у него находился не сзади за поясом по диагонали, как это принято у гаучо, а спереди[645]. Напрашивается интересная параллель с популярными в Европе Нового времени длинными кинжалами, известными как анеласы или бракемары. Клинки анеласов достигали 1820 дюймов в длину, что сравнимо по размерам с оружием гаучо, но главное — анеласы, они же, «pistos», «anelacio» и «epee de passot», носили точно так же, как факоны и даги гаучо — сзади за поясом, рукояткой вправо[646].
На картине испанского художника Мануэля Кабрала Бехарано «Escena еп una venta», написанной в 1855 году, у одного из персонажей жанровой сценки, сидящего спиной к зрителю, за поясом фаха торчит небольшой кинжал в типичной для гаучо манере — рукояткой вправо. Теофиль Готье в своих путевых заметках об Испании отмечал, что мадридские махо носили свои навахи сзади за поясом посередине[647]. Возможно, это является ещё одним, хоть и косвенным, доводом в пользу версии о европейских корнях гаучо.
Ножи гаучо носили заткнутыми за пояс за спиной, рукояткой вправо и лезвием вверх. Эта манеру ношения оружия можно, например, увидеть на многочисленных работах художника Эмерика Эссекса Видала периода 1820-х. Хотя мне также встречались гравюры и дагерротипы, на которых рукоятки ножей были повёрнуты влево. Возможно, это обусловлено тем, что владельцы ножа были левшами, хотя Осорнио предлагает другое объяснение. Он описывает ножи, уже изначально предназначенные для ношения рукояткой влево, и считает, что это было ошибкой производителя, не удосужившегося ознакомиться с местными традициями. Скорее всего, такая манера ношения ножа в первую очередь была продиктована соображениями безопасности. В октябре 1842 года пеон Лоренцо Понсе получил смертельное ранение в пах собственным ножом, перелетев на скаку через голову коня. Это несчастный случай произошёл из-за того, что нож у него находился не сзади за поясом по диагонали, как это принято у гаучо, а спереди[645]. Напрашивается интересная параллель с популярными в Европе Нового времени длинными кинжалами, известными как анеласы или бракемары. Клинки анеласов достигали 1820 дюймов в длину, что сравнимо по размерам с оружием гаучо, но главное — анеласы, они же, «pistos», «anelacio» и «epee de passot», носили точно так же, как факоны и даги гаучо — сзади за поясом, рукояткой вправо[646].
На картине испанского художника Мануэля Кабрала Бехарано «Escena еп una venta», написанной в 1855 году, у одного из персонажей жанровой сценки, сидящего спиной к зрителю, за поясом фаха торчит небольшой кинжал в типичной для гаучо манере — рукояткой вправо. Теофиль Готье в своих путевых заметках об Испании отмечал, что мадридские махо носили свои навахи сзади за поясом посередине[647]. Возможно, это является ещё одним, хоть и косвенным, доводом в пользу версии о европейских корнях гаучо.
 Рис. 32. Гаучо в национальных костюмах.
Рис. 32. Гаучо в национальных костюмах.
 Рис. 33. Компадритос, Буэнос Айрес, 1900-е.
Рис. 33. Компадритос, Буэнос Айрес, 1900-е.
 Рис. 34. Калабрийские эмигранты в Буэнос Айресе, нач. XX в.
Рис. 34. Калабрийские эмигранты в Буэнос Айресе, нач. XX в.
 Рис. 35. Компадритос, нач. XX в. (Национальный архив Аргентины).
Рис. 35. Компадритос, нач. XX в. (Национальный архив Аргентины).
 Рис. 36. Дуэль.
Рис. 36. Дуэль.
 Рис. 37. Мужчины танцуют танго. Буэнос-Айрес, 1900-е.
Рис. 37. Мужчины танцуют танго. Буэнос-Айрес, 1900-е.
 Рис. 36. Итальянские эмигранты на празднике в Рио Терсеро, Аргентина, 1914 г.
Рис. 36. Итальянские эмигранты на празднике в Рио Терсеро, Аргентина, 1914 г.
 Рис. 38. Пульперия, 1919 г.
Рис. 38. Пульперия, 1919 г.
 Рис. 39. Карикатура на Росаса, 1841–1842 гг.
Рис. 39. Карикатура на Росаса, 1841–1842 гг.
 Рис. 40. Вистео.
Рис. 40. Вистео.

 В ноябре 1697 года царь всея Руси Пётр Алексеевич, находясь с Великим посольством в Голландии, посетил Амстердам, где, как писал автор его биографии Казимир Валишевский, «ожидал его друг, почти сотрудник, городской бургомистр Николай Витсен». Витсен переписывался с Лефортом, бывал в России в царствование Алексея Михайловича и даже написал знаменитую книгу о восточной и южной «Татарии». Кроме этого, он служил посредником для царского двора при заказах кораблей и других покупках, производимых в Голландии, и не мог не принять венценосного путешественника с распростертыми объятиями[684]. А в 1700 году, через три года после этой встречи, вернувшийся к тому времени в Россию великий государь неожиданно издаёт следующий суровый указ:
«На Москве и в городах всяких чинов людям ножей остроконечных никому с собою в день и в ночь и ни в какое время не носить для того, что многие люди в дорогах на съездах, и на сходах, и в домах, в ссорах, и драках, и в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти, а воры и нарочно с такими ножами ходят по ночам и людей режут и грабят, и со времени этого указа в ножевом ряду таких остроконечных ножей не делать, и не держать, и никому не продавать, а которые нож: и ныне у них в рядах есть, и те ножи им переделать и сделать тупоконечными, Марта к 31 числу нынешнего 700 году. А буде они тех ножей к вышеписанному числу не переделают иучнут их продавать, а купцы, покупая у них, учнут их носить: и тех купцов и продавцов с теми ножами приводить в Приказ и учинить им купцам и продавцам наказанье, бить кнутом и ссылать в ссылку. И сей Великого Государя указ в Китае, в ножевом и во всех рядах и в Белом, и в Земляном городах, по большим улицам и переулкам прокликать бирючем и в Стрелецком приказе записать в книгу; а по воротам Кремля и Китая и Белаго и Земляного городов и по крестцам с сего Великого Государя указу списать списки приклеить; а каким образцом те ножи делать, положить с теми же списками с указу Великого Государя»[685].
Через два года, в январе 1702-го, Посольскому приказу объявляется ещё более жестокий царский эдикт, на этот раз направленный против дуэлей и грозящий за участие в поединках суровыми карами — от отсечения конечностей и до смертной казни[686]. Что же подтолкнуло просвещённого государя Петра Алексеевича неожиданно предпринять в родных пенатах такие беспрецедентные меры против ножей и поножовщин?
Автор фундаментальной работы об истории дуэлей Ричард Хоптон склоняется к мысли, что Пётр насмотрелся на дуэли во время своего знаменитого путешествия по странам Запада в девяностые годы XVII столетия и счёл нужным нанести превентивный удар и на родине, уничтожив этот обычай в зародыше[687]. Хоптону оппонирует переводчик русского издания его работы — в русской редакции «Дуэль. Всемирная история». С его точки зрения причина кроется в том, что, поскольку на дуэлях гибли немногие ценные кадры, прежде всего из иностранцев, Пётр Первый просто не мог позволить себе терять дефицитных специалистов, которых у него было намного меньше, чем у коллег-государей в Центральной и Западной Европе. Вот он и надеялся, что страх перед казнью остудит горячие головы[688].
Кто же из них прав? И для чего же Петру понадобилось запрещать не значительно более грозное оружие, такое как алебарды, бердыши или чеканы, а самые заурядные бытовые ножи, висевшие у пояса каждого крестьянина и горожанина? Что же так повлияло на формирование взглядов Петра в период с 1697 по 1702 год? Действительно ли всё упиралось исключительно в дефицит специалистов или же во время своего голландского турне великий государь увидел нечто такое, что заставило его немедля принять экстраординарные меры по разоружению простонародья государства Российского? По странному стечению обстоятельств в эти годы ещё одна страна сражалась с поножовщинами, и именно оттуда вернулся Пётр незадолго до написания своих указов против ножей и дуэлей. Этой страной каналов, мельниц, кораблей, плотин и тюльпанов была Голландия. Но какая связь между этой далёкой европейской страной и петровскими указами? Чтобы разобраться в этом, нам придётся «плясать от печки» и совершить ретроспективный экскурс.
В уже далёком 1998 году в Москве в самый разгар дефолта креативщики рекламной группы «ВВDО», работавшие над имиджем шоколадного батончика «Сникерс», создали один из самых удачных и популярных слоганов за последние двадцать лет: «Не грусти, сникерсни!» В том же году на мой рабочий стол курьер «Федекса» положил пакет, в котором находился только что увидевший свет сборник работ по истории криминалистики под редакцией профессора Пиетера Спиеренбурга. Перу самого Спиеренбурга в этом альманахе принадлежала монография, не только перевернувшая мои представления о народной культуре Европы, но также послужившая инспирацией и ставшая краеугольным камнем и отправной точкой этой книги. Эта судьбоносная работа называлась «Дуэли на ножах и кодексы чести в Амстердаме Нового времени» и рассматривала такой уникальный и малоизученный аспект европейской культуры, как многовековая традиция низших классов Голландии решать вопросы чести в поединках на ножах[689]. Передо мной открылся целый новый мир, в котором на фоне пейзажей Брейгеля, ландшафтов Вильденса и ван Юдена персонажи бытовых сценок ван Остаде, Рейкарта и Тильборха кружили вокруг соперников в смертельном танце, сжимая в руке легендарные фламандские ножи.
Я не случайно вспомнил этот знаковый и уже ставший частью русской кухни шоколадный батончик. Дело в том, что более четырёхсот лет эти фламандские народные дуэли известны миру под «кондитерским» именем… сникерсни. Этимология этого названия достаточно ясна и легко прослеживается. В основе её лежит голландский термин «стекен оф снийден» — «колоть и резать», использовавшийся во Фландрии XVI столетия для обозначения дуэлей на ножах. В англоязычной литературе это выражение в интерпретации поединка на ножах впервые встречается в вышедшей в 1611 году книге английского поэта Сэмюеля Роулендса, где в описании батальной сцены фигурируют «фламандские ножи для стикорснай»[690]. А в сатирическом стихотворении «Голландский характер», написанном в 1653 году, во время англо-голландской войны, английский поэт и парламентарий Эндрю Марвел не только выставляет голландцев пьянчугами и грубиянами, но и упоминает об их любимом развлечении, название которого к тому времени претерпело начительные трансформации и приобрело своё современное звучание — «сникерснии»[691]. Также мы видим, что именно эта форма произношения вошла в обиход и стала традиционной, когда один из героев вышедшей в 1673 году пьесы английского драматурга и писательницы Афры Бен «Голландский любовник», заявляет: «Я покажу вам, как я хорош в сникерсни!» Чтобы у читателей не оставалось сомнений, что речь идёт именно о дуэли на ножах, автор добавляет ремарку: «Достаёт большой голландский нож»[692].
К XVIII столетию большинство словарей, как, например, словарь Бойера 1729 года, уже привычно толкуют сникерсни как традиционную фламандскую дуэль на ножах[693]. К XIX веку это выражение настолько вошло в обиход, что в некоторых языках и диалектах потерялся его изначальный смысл. В Средней Англии сникерсни было более известно как сникерсниз. Так, в вышедшей в 1881 году работе о диалекте Линкольншира — графства на восточном побережье Англии, Стритфилд приводит линкольнширское выражение «Тебя ждёт сникерснииз», которым жители местных городков и деревень пугали непослушных детей[694]. Учитывая, что в этом регионе старой доброй Англии словом «сникерсни» называли большой нож, детишки Линкольншира должны были славиться своим безукоризненным поведением и послушанием. Возможно, именно обещание «пустить под нож» в качестве воспитательной меры и породило вошедшие в поговорку вежливость и прекрасные манеры английских леди и джентльменов викторианской эпохи.
Не оставили эти дуэли без внимания и российские языковеды, и словарь 1816 года скупо упоминает, что «сникерсни есть резание ножами, поединок на ножах, употребительный в Голландии между простым народом»[695]. К середине XIX века сникерсни разошлось по различным диалектам и странам во всевозможных ипостасях. Так, в 1831 году под этим именем фигурируют семидесятисантиметровые ножи, которыми казнили бельгийских повстанцев. Документы 1858 года трактуют сникерсни и как любимые кинжалы жителей Фрисланда, и как жаргонное название складных ножей Норфолка[696], а герой комической оперы «Микадо», увидевшей свет в 1885 году, угрожает «выхватить свой сникерсни» уже в интерпретации самурайского меча[697].
Хотя первые официальные свидетельства о существовании сникерсни в Амстердаме датируются 1650 годом, однако нет оснований полагать, что именно эта дата является отправной точкой отсчёта зарождения народных поединков чести. Вполне вероятно, что голландская культура дуэлей на ножах имеет значительно более долгую историю. Так, например, некоторые свидетельства, датированные более ранним периодом, мы можем встретить в работах профессора Хермана Рооденбурга о церковных взысканиях, проводившихся реформатской консисторией Амстердама начиная с 1578 года. Эти дисциплинарные дела кроме иных проступков включали и описания различных насильственных деяний, совершённых членами церковной общины. В том числе консисторией был рассмотрен ряд серьёзных ранений с использованием ножей и даже несколько убийств. К сожалению, Рооденбург не упоминает деталей и подробностей этих инцидентов и лишь сообщает о количестве членов общины, совершивших преступления[698].
В ноябре 1697 года царь всея Руси Пётр Алексеевич, находясь с Великим посольством в Голландии, посетил Амстердам, где, как писал автор его биографии Казимир Валишевский, «ожидал его друг, почти сотрудник, городской бургомистр Николай Витсен». Витсен переписывался с Лефортом, бывал в России в царствование Алексея Михайловича и даже написал знаменитую книгу о восточной и южной «Татарии». Кроме этого, он служил посредником для царского двора при заказах кораблей и других покупках, производимых в Голландии, и не мог не принять венценосного путешественника с распростертыми объятиями[684]. А в 1700 году, через три года после этой встречи, вернувшийся к тому времени в Россию великий государь неожиданно издаёт следующий суровый указ:
«На Москве и в городах всяких чинов людям ножей остроконечных никому с собою в день и в ночь и ни в какое время не носить для того, что многие люди в дорогах на съездах, и на сходах, и в домах, в ссорах, и драках, и в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти, а воры и нарочно с такими ножами ходят по ночам и людей режут и грабят, и со времени этого указа в ножевом ряду таких остроконечных ножей не делать, и не держать, и никому не продавать, а которые нож: и ныне у них в рядах есть, и те ножи им переделать и сделать тупоконечными, Марта к 31 числу нынешнего 700 году. А буде они тех ножей к вышеписанному числу не переделают иучнут их продавать, а купцы, покупая у них, учнут их носить: и тех купцов и продавцов с теми ножами приводить в Приказ и учинить им купцам и продавцам наказанье, бить кнутом и ссылать в ссылку. И сей Великого Государя указ в Китае, в ножевом и во всех рядах и в Белом, и в Земляном городах, по большим улицам и переулкам прокликать бирючем и в Стрелецком приказе записать в книгу; а по воротам Кремля и Китая и Белаго и Земляного городов и по крестцам с сего Великого Государя указу списать списки приклеить; а каким образцом те ножи делать, положить с теми же списками с указу Великого Государя»[685].
Через два года, в январе 1702-го, Посольскому приказу объявляется ещё более жестокий царский эдикт, на этот раз направленный против дуэлей и грозящий за участие в поединках суровыми карами — от отсечения конечностей и до смертной казни[686]. Что же подтолкнуло просвещённого государя Петра Алексеевича неожиданно предпринять в родных пенатах такие беспрецедентные меры против ножей и поножовщин?
Автор фундаментальной работы об истории дуэлей Ричард Хоптон склоняется к мысли, что Пётр насмотрелся на дуэли во время своего знаменитого путешествия по странам Запада в девяностые годы XVII столетия и счёл нужным нанести превентивный удар и на родине, уничтожив этот обычай в зародыше[687]. Хоптону оппонирует переводчик русского издания его работы — в русской редакции «Дуэль. Всемирная история». С его точки зрения причина кроется в том, что, поскольку на дуэлях гибли немногие ценные кадры, прежде всего из иностранцев, Пётр Первый просто не мог позволить себе терять дефицитных специалистов, которых у него было намного меньше, чем у коллег-государей в Центральной и Западной Европе. Вот он и надеялся, что страх перед казнью остудит горячие головы[688].
Кто же из них прав? И для чего же Петру понадобилось запрещать не значительно более грозное оружие, такое как алебарды, бердыши или чеканы, а самые заурядные бытовые ножи, висевшие у пояса каждого крестьянина и горожанина? Что же так повлияло на формирование взглядов Петра в период с 1697 по 1702 год? Действительно ли всё упиралось исключительно в дефицит специалистов или же во время своего голландского турне великий государь увидел нечто такое, что заставило его немедля принять экстраординарные меры по разоружению простонародья государства Российского? По странному стечению обстоятельств в эти годы ещё одна страна сражалась с поножовщинами, и именно оттуда вернулся Пётр незадолго до написания своих указов против ножей и дуэлей. Этой страной каналов, мельниц, кораблей, плотин и тюльпанов была Голландия. Но какая связь между этой далёкой европейской страной и петровскими указами? Чтобы разобраться в этом, нам придётся «плясать от печки» и совершить ретроспективный экскурс.
В уже далёком 1998 году в Москве в самый разгар дефолта креативщики рекламной группы «ВВDО», работавшие над имиджем шоколадного батончика «Сникерс», создали один из самых удачных и популярных слоганов за последние двадцать лет: «Не грусти, сникерсни!» В том же году на мой рабочий стол курьер «Федекса» положил пакет, в котором находился только что увидевший свет сборник работ по истории криминалистики под редакцией профессора Пиетера Спиеренбурга. Перу самого Спиеренбурга в этом альманахе принадлежала монография, не только перевернувшая мои представления о народной культуре Европы, но также послужившая инспирацией и ставшая краеугольным камнем и отправной точкой этой книги. Эта судьбоносная работа называлась «Дуэли на ножах и кодексы чести в Амстердаме Нового времени» и рассматривала такой уникальный и малоизученный аспект европейской культуры, как многовековая традиция низших классов Голландии решать вопросы чести в поединках на ножах[689]. Передо мной открылся целый новый мир, в котором на фоне пейзажей Брейгеля, ландшафтов Вильденса и ван Юдена персонажи бытовых сценок ван Остаде, Рейкарта и Тильборха кружили вокруг соперников в смертельном танце, сжимая в руке легендарные фламандские ножи.
Я не случайно вспомнил этот знаковый и уже ставший частью русской кухни шоколадный батончик. Дело в том, что более четырёхсот лет эти фламандские народные дуэли известны миру под «кондитерским» именем… сникерсни. Этимология этого названия достаточно ясна и легко прослеживается. В основе её лежит голландский термин «стекен оф снийден» — «колоть и резать», использовавшийся во Фландрии XVI столетия для обозначения дуэлей на ножах. В англоязычной литературе это выражение в интерпретации поединка на ножах впервые встречается в вышедшей в 1611 году книге английского поэта Сэмюеля Роулендса, где в описании батальной сцены фигурируют «фламандские ножи для стикорснай»[690]. А в сатирическом стихотворении «Голландский характер», написанном в 1653 году, во время англо-голландской войны, английский поэт и парламентарий Эндрю Марвел не только выставляет голландцев пьянчугами и грубиянами, но и упоминает об их любимом развлечении, название которого к тому времени претерпело начительные трансформации и приобрело своё современное звучание — «сникерснии»[691]. Также мы видим, что именно эта форма произношения вошла в обиход и стала традиционной, когда один из героев вышедшей в 1673 году пьесы английского драматурга и писательницы Афры Бен «Голландский любовник», заявляет: «Я покажу вам, как я хорош в сникерсни!» Чтобы у читателей не оставалось сомнений, что речь идёт именно о дуэли на ножах, автор добавляет ремарку: «Достаёт большой голландский нож»[692].
К XVIII столетию большинство словарей, как, например, словарь Бойера 1729 года, уже привычно толкуют сникерсни как традиционную фламандскую дуэль на ножах[693]. К XIX веку это выражение настолько вошло в обиход, что в некоторых языках и диалектах потерялся его изначальный смысл. В Средней Англии сникерсни было более известно как сникерсниз. Так, в вышедшей в 1881 году работе о диалекте Линкольншира — графства на восточном побережье Англии, Стритфилд приводит линкольнширское выражение «Тебя ждёт сникерснииз», которым жители местных городков и деревень пугали непослушных детей[694]. Учитывая, что в этом регионе старой доброй Англии словом «сникерсни» называли большой нож, детишки Линкольншира должны были славиться своим безукоризненным поведением и послушанием. Возможно, именно обещание «пустить под нож» в качестве воспитательной меры и породило вошедшие в поговорку вежливость и прекрасные манеры английских леди и джентльменов викторианской эпохи.
Не оставили эти дуэли без внимания и российские языковеды, и словарь 1816 года скупо упоминает, что «сникерсни есть резание ножами, поединок на ножах, употребительный в Голландии между простым народом»[695]. К середине XIX века сникерсни разошлось по различным диалектам и странам во всевозможных ипостасях. Так, в 1831 году под этим именем фигурируют семидесятисантиметровые ножи, которыми казнили бельгийских повстанцев. Документы 1858 года трактуют сникерсни и как любимые кинжалы жителей Фрисланда, и как жаргонное название складных ножей Норфолка[696], а герой комической оперы «Микадо», увидевшей свет в 1885 году, угрожает «выхватить свой сникерсни» уже в интерпретации самурайского меча[697].
Хотя первые официальные свидетельства о существовании сникерсни в Амстердаме датируются 1650 годом, однако нет оснований полагать, что именно эта дата является отправной точкой отсчёта зарождения народных поединков чести. Вполне вероятно, что голландская культура дуэлей на ножах имеет значительно более долгую историю. Так, например, некоторые свидетельства, датированные более ранним периодом, мы можем встретить в работах профессора Хермана Рооденбурга о церковных взысканиях, проводившихся реформатской консисторией Амстердама начиная с 1578 года. Эти дисциплинарные дела кроме иных проступков включали и описания различных насильственных деяний, совершённых членами церковной общины. В том числе консисторией был рассмотрен ряд серьёзных ранений с использованием ножей и даже несколько убийств. К сожалению, Рооденбург не упоминает деталей и подробностей этих инцидентов и лишь сообщает о количестве членов общины, совершивших преступления[698].
 Рис. 1. Бойцы на ножах. Deliciae Batavicae. Маркус Якобус, 1618 г.
Рис. 1. Бойцы на ножах. Deliciae Batavicae. Маркус Якобус, 1618 г.
 Рис. 2. Дюнкерк, 1613 г.
Рис. 2. Дюнкерк, 1613 г.
 Рис. 3. Два портных на дуэли, Йост Амман, 1588 г.
Рис. 3. Два портных на дуэли, Йост Амман, 1588 г.
 Рис. 4. Уличные бои между жителями Хертогенбоса и членами Гильдии фехтовальщиков в июле 1579 г. Карел Якоб де Хёйсер, около 1774–1778 гг.
Рис. 4. Уличные бои между жителями Хертогенбоса и членами Гильдии фехтовальщиков в июле 1579 г. Карел Якоб де Хёйсер, около 1774–1778 гг.
 Рис. 5. Ссора за игрой в карты. Давид Рийкарт (1612–1661).
Рис. 5. Ссора за игрой в карты. Давид Рийкарт (1612–1661).
 Рис. 6. Поножовщина. Йонас Сейдерхуф, около 1650–1680 гг.
Рис. 6. Поножовщина. Йонас Сейдерхуф, около 1650–1680 гг.
 Рис. 7. Драка на ножах (фрагмент). Вацлав Холлар, (1607–1677).
Рис. 7. Драка на ножах (фрагмент). Вацлав Холлар, (1607–1677).
 Рис. 9. Драка на постоялом дворе. Франс Гринвуд, 1733 г.
Рис. 8. Аллегория Брабантского восстания(фрагмент), 1791 г.
Рис. 9. Драка на постоялом дворе. Франс Гринвуд, 1733 г.
Рис. 8. Аллегория Брабантского восстания(фрагмент), 1791 г.
 Рис. 10. Дуэль на ножах. Третьего ссорщика секундант удерживает от вмешательства. Дирк Босбом, 1681 г.
Рис. 10. Дуэль на ножах. Третьего ссорщика секундант удерживает от вмешательства. Дирк Босбом, 1681 г.
 Рис. 11. Кермис в деревне. Гиллис ван Брин, 1593 г.
Рис. 11. Кермис в деревне. Гиллис ван Брин, 1593 г.
 Рис. 12. Крестьянская драка. Хорошо видны различные типы крестьянских ножей. Корнелис ван Кауеркен, 1640 г.
Рис. 12. Крестьянская драка. Хорошо видны различные типы крестьянских ножей. Корнелис ван Кауеркен, 1640 г.
 Рис. 13. Крестьяне перед дракой. Йонас Сейдерхуф, около 1660 г.
Рис. 13. Крестьяне перед дракой. Йонас Сейдерхуф, около 1660 г.
 Рис. 14. Нож со стилетным клинком, возможно складной. Портрет Жака де Булье, Питер ван ден Берге, 1699 г.
Рис. 14. Нож со стилетным клинком, возможно складной. Портрет Жака де Булье, Питер ван ден Берге, 1699 г.
 Рис. 15. Женщина с ножом для забоя скота. Возможно с такими ножами возвращались домой из Фландрии испанские солдаты. Ханс Бальдунг Грин, 1500 г.
Рис. 15. Женщина с ножом для забоя скота. Возможно с такими ножами возвращались домой из Фландрии испанские солдаты. Ханс Бальдунг Грин, 1500 г.



 Рис. 21. Разграбление Мехелена в 1572 г. Франс Хогенберг, 1572 г.
Рис. 21. Разграбление Мехелена в 1572 г. Франс Хогенберг, 1572 г.
 Рис. 22. Индеец из племени Тускарора с ножом бельдюк в руке. 1711 г.
Рис. 22. Индеец из племени Тускарора с ножом бельдюк в руке. 1711 г.
 Рис. 23. Оружейник за работой. Клиенты разглядывают приобретённый нож. Каспар Лийкен, 1694 г.
Рис. 23. Оружейник за работой. Клиенты разглядывают приобретённый нож. Каспар Лийкен, 1694 г.


 Рис. 26. Большой нож мясника — бельдюк. Портрет ван Бренаерта. Антоний ван дер Дус, 1650 г.
Рис. 26. Большой нож мясника — бельдюк. Портрет ван Бренаерта. Антоний ван дер Дус, 1650 г.
 Рис. 27. Мужчина с деревянной ногой. В его руке большой нож, напоминающий испанские навахоны XVI-XIХ в. Саломон Савери, 1638 г.
Рис. 27. Мужчина с деревянной ногой. В его руке большой нож, напоминающий испанские навахоны XVI-XIХ в. Саломон Савери, 1638 г.
 Рис. 28. Крестьянин из окрестностей Кордовы. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 28. Крестьянин из окрестностей Кордовы. Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 29. Навахоны (фламенконы) за поясом завсегдатаев испанской таверны, Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 29. Навахоны (фламенконы) за поясом завсегдатаев испанской таверны, Гюстав Доре, 1865 г.


 Рис. 32. Игроки в карты и смерть. Ян Ливенс, 1638 г.
Рис. 32. Игроки в карты и смерть. Ян Ливенс, 1638 г.
 Рис. 33. Сражающиеся крестьяне. Пиетер Нолпе, 1623 г.
Рис. 33. Сражающиеся крестьяне. Пиетер Нолпе, 1623 г.
 Рис. 34. 35. Самооборона от ножа. Klare Onderrichtinge der Voortreffelijcke Worstel-konst., Николаес Петтер, 1674 г.
Рис. 34. 35. Самооборона от ножа. Klare Onderrichtinge der Voortreffelijcke Worstel-konst., Николаес Петтер, 1674 г.
 Рис. 36. Ссора за игрой в карты. Адриаен ван Остаде, 1653 г.
Рис. 36. Ссора за игрой в карты. Адриаен ван Остаде, 1653 г.
 Рис. 37. Разъярённый крестьянин. Ян Ван дер Вельде, 1633 г.
Рис. 37. Разъярённый крестьянин. Ян Ван дер Вельде, 1633 г.
 В руках у соперников навахоны. «Дуэль», Жозеф Сен-Жерми, 1888 г.
В руках у соперников навахоны. «Дуэль», Жозеф Сен-Жерми, 1888 г.
 Махо с ножами атакуют мамелюков. «2 мая 1808». Франсиско Гойя, 1814 г.
Махо с ножами атакуют мамелюков. «2 мая 1808». Франсиско Гойя, 1814 г.
 «Ссора» (фрагмент). Мануэль Кабрал Агуадо Бехарано, 1850 г.
«Ссора» (фрагмент). Мануэль Кабрал Агуадо Бехарано, 1850 г.
 Малагская наваха. Общая длина 55 см, длина клинка, 29 см. (© I-F Lalliard).
Малагская наваха. Общая длина 55 см, длина клинка, 29 см. (© I-F Lalliard).
 «Схватка цыган». Рафаэль Ромеро Баррос, 1871 г.
«Схватка цыган». Рафаэль Ромеро Баррос, 1871 г.
 «Гибель Даоиса и оборона парка Монтелеон», (фрагмент). Мануэль Кастеллано, 1862 г.
«Гибель Даоиса и оборона парка Монтелеон», (фрагмент). Мануэль Кастеллано, 1862 г.
 Боевая альбасетская наваха, 1887 г. Общая длина 59,2 см.
Боевая альбасетская наваха, 1887 г. Общая длина 59,2 см.


 Испанский кинжал, тип А, середина XIX века.
Общая длина 28,2 см.
Испанские дуэльные ножи (© J-F. Lalliard).
Испанский кинжал, тип А, середина XIX века.
Общая длина 28,2 см.
Испанские дуэльные ножи (© J-F. Lalliard).
 Французская наваха Тьерского производства, конец XIX в. Общая длина 42 см.
Французская наваха Тьерского производства, конец XIX в. Общая длина 42 см.

 Испанский кинжал, тип 'Б', конец XVIII века. Общая длина 28 см.
Испанский кинжал, тип 'Б', конец XVIII века. Общая длина 28 см.
 Испанские дуэльные ножи (© J-F. Lalliard).
Испанские дуэльные ножи (© J-F. Lalliard).
 Аллегория Испании. «Канте хондо». Хулио Ромеро де Торрес, 1930 г.
Аллегория Испании. «Канте хондо». Хулио Ромеро де Торрес, 1930 г.
 Поединок на кинжалах. Alte Armatur und Ringkunst. Ханс Тальхоффер. Байерн, 1459 г.
Поединок на кинжалах. Alte Armatur und Ringkunst. Ханс Тальхоффер. Байерн, 1459 г.
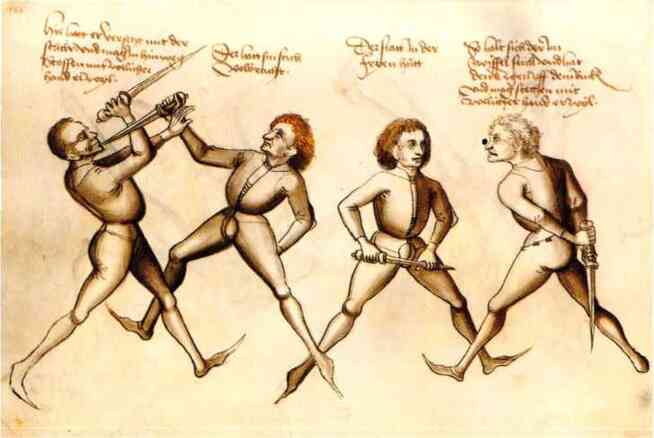 Боец справа прячет кинжал за спиной Fechtbuch, Ханс Тальхоффер, 1467 г.
Боец справа прячет кинжал за спиной Fechtbuch, Ханс Тальхоффер, 1467 г.
 «В Римской таверне». Карл Генрих Блох, 1866 г.
«В Римской таверне». Карл Генрих Блох, 1866 г.
 Игра в морру. Бартоломео Пинелли, 1828 г.
Игра в морру. Бартоломео Пинелли, 1828 г.
 Дуэль на Пьяцца дель Попполо. Шарль Гриньон, 1796 г.
Дуэль на Пьяцца дель Попполо. Шарль Гриньон, 1796 г.
 Ссора каморристов. Неаполь, 1853 г.
Ссора каморристов. Неаполь, 1853 г.




 Калабрийский нож тре пианелле. Обшая длина 36,4 см.
Калабрийский нож тре пианелле. Обшая длина 36,4 см.





 Ронкола производства Маньяго. Начало XX в. Обшая длина 26 см. (© J-F. Lalliard).
Ронкола производства Маньяго. Начало XX в. Обшая длина 26 см. (© J-F. Lalliard).



 Гаучо с эстанции «Ринкон де Лопес» развлекаются поединками на ножах. Аргентина, 1958 год. (© Rene Burri / Magnum Photos).
Гаучо с эстанции «Ринкон де Лопес» развлекаются поединками на ножах. Аргентина, 1958 год. (© Rene Burri / Magnum Photos).
 Дуэль после перикона (популярный танец). Франциско Айерса, эстанция Сан Хуан, 1891 г.
Дуэль после перикона (популярный танец). Франциско Айерса, эстанция Сан Хуан, 1891 г.
 Гаучо-чарруа. Жан Батист Дебре, 1834 г.
Гаучо-чарруа. Жан Батист Дебре, 1834 г.
 Гаучо-гуарани. Жан Батист Дебре, 1834 г.
Гаучо-гуарани. Жан Батист Дебре, 1834 г.






 Поединок на ножах. Керамическая плитка, 1740–1866 гг.
Поединок на ножах. Керамическая плитка, 1740–1866 гг.
 Дуэль на ножах. Керамическая плитка, 1625–1675 гг.
Дуэль на ножах. Керамическая плитка, 1625–1675 гг.
 Спор за игрой в карты (фрагмент). Ян Стиин, вторая половина XVII в.
Спор за игрой в карты (фрагмент). Ян Стиин, вторая половина XVII в.




 Складной нож. Нидерланды, 1600–1650 гг.
Складной нож. Нидерланды, 1600–1650 гг.
 Складной нож. Нидерланды, около 1700 г.
Складной нож. Нидерланды, около 1700 г.
 Рис. 38. Мальчики колотят товарища палками. Йоханнес Александр Рудольф Бест (1807–1855).
Рис. 38. Мальчики колотят товарища палками. Йоханнес Александр Рудольф Бест (1807–1855).
 Рис. 39. Мужчина с тростью. Дирк Эверсен Лонс, 1622 г.
Рис. 39. Мужчина с тростью. Дирк Эверсен Лонс, 1622 г.
 Рис. 40. Обезьянья дуэль на ножах. Карикатура. Михель Карри, 1667 г.
Рис. 40. Обезьянья дуэль на ножах. Карикатура. Михель Карри, 1667 г.
 Рис. 41. Голландские мужчины из Маркена. Джон Хигинбосэм, 1908 г.
Рис. 41. Голландские мужчины из Маркена. Джон Хигинбосэм, 1908 г.

 Первые свидетельства о дуэлях на ножах, проходивших на территории, где сегодня располагаются Соединённые Штаты Америки, датируются XVI веком. В 1500-х на берегах Гудзона в поединках у таверн сходились разгорячённые возлияниями голландские переселенцы. Но вскоре стараниями легендарного губернатора Нового Амстердама Петера Стайвесанта, который вёл непримиримую борьбу с этой пагубной традицией, был принят ряд жёстких законов как против поединков на ножах, так и против питейных заведений, служивших рассадником этих дуэлей. В результате суровых мер, предпринятых местными властями, традиция далёкой родины вскоре канула в Лету, не оставив какого-либо значимого следа в истории голландских поселений в Новом Свете[824].
Поэтому отсчёт дуэлей на ножах я бы начал вести с поединка, состоявшегося в городе Плимут в штате Массачусетс 18 июня 1621 года. В этот день двое слуг, Эдвард Доти и Эдвард Лейчестер, встретились на дуэльной площадке с кинжалами в руках. До смертоубийства не дошло, хотя оба они были ранены — один в шею, а другой в ногу. Так как симпатии жителей городка были на их стороне, оба отделались символическим наказанием — соперников связали вместе и оставили лежать в таком виде на двадцать четыре часа. Но благодаря заступничеству их хозяев и мольбам самих незадачливых дуэлянтов даже и этот мягкий приговор был отменён уже через час. Их развязали, и они пообещали больше никогда не совершать столь пагубных поступков[825].
За исключением поселившиеся на Манхэттене голландцев, переселенцы из Европы — особенно приплывшие на «Мэйфлауэре» английские пуритане — за ножи хвататься не стремились и в приверженности дуэльным традициям замечены не были. Таким образом, ранний период истории Соединённых Штатов особого интереса для изучения культуры чести и традиции поединков не представляет. Поэтому мы спокойно уожем перенестись на несколько веков вперёд, в начало XIX столетия, на старый добрый американский Юг, знакомый нам по книгам Майн Рида, Марка Твена и Маргарет Митчелл. Именно здесь, на берегах Миссисипи, на холмах Озарка и у заболоченных байу Луизианы, более столетия процветала традиция решать столь волнующие гордых южан вопросы чести в поединках на ножах. Большинство исследователей сходится во мнении, что ножевая культура, как и культура чести, попали в Новый Свет на кораблях европейских переселенцев и что корни этой традиции надо искать на родине многих дуэльных культур — в Средиземноморье. Но принадлежала ли пальма первенства испанским мастерам навахи, мрачным сицилийским бригантам или куртуазным французским фехтовальщикам, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Слишком много культур и народов смешалось в этом огромном котле.
В начале XVI столетия в местах, где позже был возведён Новый Орлеан, высадились испанские мореплаватели. Принято считать, что первым появившимся на Миссисипи европейцем стал в 1540 году испанец Эрнандо де Сото. Но ещё задолго до него здесь побывали и другие его соотечественники. В числе предшественников де Сото можно назвать экспедицию Альвареса де Пинеда 1519 года, Панфило де Нарваэса и Альваро Нуньеса Кабеса де Вака, появившихся в этих местах в 1528 году, и, наконец, Луиса де Москосо, высадившегося на Миссисипи в 1640-х. Но всего через сорок лет после Москосо, в 1680 году, на этой территории уже безраздельно хозяйничали французы, проводившие колонизацию долины Миссисипи и объявившие эти земли собственностью французской короны[826].
7 мая 1718 года французская Миссисипская компания основала поселение, получившее название Да Нувель Орлеан, или Новый Орлеан. Об этих временах напоминает Французский квартал, расположенный в историческом центре Орлеана. В 1763 году, вскоре после окончания колониальной войны, известной как Семилетняя, которую Уинстон Черчилль как-то назвал «первой мировой», Новый Орлеан, согласно Парижскому договору, перешёл под юрисдикцию испанской короны[827].
Во время войны за независимость 1775–1783 годов испанский Новый Орлеан представлял собой стратегически важный порт, через который по Миссисипи шли тайные поставки помощи и вооружения повстанцам. В 1779 году граф Бернардо де Гальвес и Мадрид организовал в городе антианглийскую кампанию[828]. Под испанским контролем город оставался до 1801 года, когда он снова стал французским. В 1803 году Наполеон провернул сделку, вошедшую в историю как «Vente de la Louisiane» — «Луизианская покупка», и продал территории Луизианы вместе с Новым Орлеаном Соединённым Штатам[829].
В быстро растущий портовый город в поисках лучшей жизни устремились эмигранты со всего мира, среди которых было и немало испанцев. Кроме переселенцев из континентальной Иберии сюда прибывали пилигримы и из более отдалённых владений испанской короны. Так, например, в конце 1778 года у пристани Нового Орлеана пришвартовалось испанское судно «Santis-simo Sacramento» с переселенцами с Канар. Всего с этих принадлежавших Испании островов в Луизиану перебралось около двух тысяч человек[830]. Кроме Канар экспатриантов поставляли и другие испанские территории, такие как Балеарские острова. Именно с Балеар на одном из судов тогда ещё совсем зелёным юнгой приплыл в Новый Орлеан будущий легендарный фехтовальщик и бретёр дон Хосе, или, как его ещё называли друзья, Пепе, Юуйя, уроженец Порт Махон — столицы Менорки, одного из Балеарских островов[831].
Говорили, что никто в Новом Орлеане не владел палашом и саблей лучше, чем он. Со шпагой и рапирой он был неуязвим, а с винтовкой прослыл виртуозом. Из пистолета он мог выбивать монетки у друзей из пальцев или сбивать яйца с головы своего сына на дистанции в тридцать шагов. Этот самый выдающийся дуэлянт в городе мог сражаться с кем угодно и на любых условиях. Сохранились свидетельства о том, что он дрался на ножах боуи, когда соперники держались за противоположные концы шейного платка и не отпускали, пока один из них не падал мёртвым. При этом лучшей тактикой было позволить противнику вогнать нож в ваше левое плечо и затем потрошить его[832].
Так как в жилах Пепе текла испанская кровь, он, как и многие из его земляков, обладал врождённой способностью к владению ножом. Он мог сражаться на кинжалах в тёмной комнате или стоя рядом с соперником на большой бочке. Однажды дон Хосе заявил, что может убить своего противника, проткнув его на выбор в любую пуговицу жилета. Что он и сделал первым же ударом. Хотя те, кого Юуйя вызывал на бой, часто демонстрировали крайнюю предусмотрительность, мгновенно предлагая ему любые извинения на выбор, но, тем не менее, список его жертв был достаточно длинным[833].
Первые свидетельства о дуэлях на ножах, проходивших на территории, где сегодня располагаются Соединённые Штаты Америки, датируются XVI веком. В 1500-х на берегах Гудзона в поединках у таверн сходились разгорячённые возлияниями голландские переселенцы. Но вскоре стараниями легендарного губернатора Нового Амстердама Петера Стайвесанта, который вёл непримиримую борьбу с этой пагубной традицией, был принят ряд жёстких законов как против поединков на ножах, так и против питейных заведений, служивших рассадником этих дуэлей. В результате суровых мер, предпринятых местными властями, традиция далёкой родины вскоре канула в Лету, не оставив какого-либо значимого следа в истории голландских поселений в Новом Свете[824].
Поэтому отсчёт дуэлей на ножах я бы начал вести с поединка, состоявшегося в городе Плимут в штате Массачусетс 18 июня 1621 года. В этот день двое слуг, Эдвард Доти и Эдвард Лейчестер, встретились на дуэльной площадке с кинжалами в руках. До смертоубийства не дошло, хотя оба они были ранены — один в шею, а другой в ногу. Так как симпатии жителей городка были на их стороне, оба отделались символическим наказанием — соперников связали вместе и оставили лежать в таком виде на двадцать четыре часа. Но благодаря заступничеству их хозяев и мольбам самих незадачливых дуэлянтов даже и этот мягкий приговор был отменён уже через час. Их развязали, и они пообещали больше никогда не совершать столь пагубных поступков[825].
За исключением поселившиеся на Манхэттене голландцев, переселенцы из Европы — особенно приплывшие на «Мэйфлауэре» английские пуритане — за ножи хвататься не стремились и в приверженности дуэльным традициям замечены не были. Таким образом, ранний период истории Соединённых Штатов особого интереса для изучения культуры чести и традиции поединков не представляет. Поэтому мы спокойно уожем перенестись на несколько веков вперёд, в начало XIX столетия, на старый добрый американский Юг, знакомый нам по книгам Майн Рида, Марка Твена и Маргарет Митчелл. Именно здесь, на берегах Миссисипи, на холмах Озарка и у заболоченных байу Луизианы, более столетия процветала традиция решать столь волнующие гордых южан вопросы чести в поединках на ножах. Большинство исследователей сходится во мнении, что ножевая культура, как и культура чести, попали в Новый Свет на кораблях европейских переселенцев и что корни этой традиции надо искать на родине многих дуэльных культур — в Средиземноморье. Но принадлежала ли пальма первенства испанским мастерам навахи, мрачным сицилийским бригантам или куртуазным французским фехтовальщикам, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Слишком много культур и народов смешалось в этом огромном котле.
В начале XVI столетия в местах, где позже был возведён Новый Орлеан, высадились испанские мореплаватели. Принято считать, что первым появившимся на Миссисипи европейцем стал в 1540 году испанец Эрнандо де Сото. Но ещё задолго до него здесь побывали и другие его соотечественники. В числе предшественников де Сото можно назвать экспедицию Альвареса де Пинеда 1519 года, Панфило де Нарваэса и Альваро Нуньеса Кабеса де Вака, появившихся в этих местах в 1528 году, и, наконец, Луиса де Москосо, высадившегося на Миссисипи в 1640-х. Но всего через сорок лет после Москосо, в 1680 году, на этой территории уже безраздельно хозяйничали французы, проводившие колонизацию долины Миссисипи и объявившие эти земли собственностью французской короны[826].
7 мая 1718 года французская Миссисипская компания основала поселение, получившее название Да Нувель Орлеан, или Новый Орлеан. Об этих временах напоминает Французский квартал, расположенный в историческом центре Орлеана. В 1763 году, вскоре после окончания колониальной войны, известной как Семилетняя, которую Уинстон Черчилль как-то назвал «первой мировой», Новый Орлеан, согласно Парижскому договору, перешёл под юрисдикцию испанской короны[827].
Во время войны за независимость 1775–1783 годов испанский Новый Орлеан представлял собой стратегически важный порт, через который по Миссисипи шли тайные поставки помощи и вооружения повстанцам. В 1779 году граф Бернардо де Гальвес и Мадрид организовал в городе антианглийскую кампанию[828]. Под испанским контролем город оставался до 1801 года, когда он снова стал французским. В 1803 году Наполеон провернул сделку, вошедшую в историю как «Vente de la Louisiane» — «Луизианская покупка», и продал территории Луизианы вместе с Новым Орлеаном Соединённым Штатам[829].
В быстро растущий портовый город в поисках лучшей жизни устремились эмигранты со всего мира, среди которых было и немало испанцев. Кроме переселенцев из континентальной Иберии сюда прибывали пилигримы и из более отдалённых владений испанской короны. Так, например, в конце 1778 года у пристани Нового Орлеана пришвартовалось испанское судно «Santis-simo Sacramento» с переселенцами с Канар. Всего с этих принадлежавших Испании островов в Луизиану перебралось около двух тысяч человек[830]. Кроме Канар экспатриантов поставляли и другие испанские территории, такие как Балеарские острова. Именно с Балеар на одном из судов тогда ещё совсем зелёным юнгой приплыл в Новый Орлеан будущий легендарный фехтовальщик и бретёр дон Хосе, или, как его ещё называли друзья, Пепе, Юуйя, уроженец Порт Махон — столицы Менорки, одного из Балеарских островов[831].
Говорили, что никто в Новом Орлеане не владел палашом и саблей лучше, чем он. Со шпагой и рапирой он был неуязвим, а с винтовкой прослыл виртуозом. Из пистолета он мог выбивать монетки у друзей из пальцев или сбивать яйца с головы своего сына на дистанции в тридцать шагов. Этот самый выдающийся дуэлянт в городе мог сражаться с кем угодно и на любых условиях. Сохранились свидетельства о том, что он дрался на ножах боуи, когда соперники держались за противоположные концы шейного платка и не отпускали, пока один из них не падал мёртвым. При этом лучшей тактикой было позволить противнику вогнать нож в ваше левое плечо и затем потрошить его[832].
Так как в жилах Пепе текла испанская кровь, он, как и многие из его земляков, обладал врождённой способностью к владению ножом. Он мог сражаться на кинжалах в тёмной комнате или стоя рядом с соперником на большой бочке. Однажды дон Хосе заявил, что может убить своего противника, проткнув его на выбор в любую пуговицу жилета. Что он и сделал первым же ударом. Хотя те, кого Юуйя вызывал на бой, часто демонстрировали крайнюю предусмотрительность, мгновенно предлагая ему любые извинения на выбор, но, тем не менее, список его жертв был достаточно длинным[833].

 Рис. 3. Братья Читвуд из 23 пехотного полка Джорджии с ножами боуи и револьверами Кольта,31 августа 1861 г.
Рис. 3. Братья Читвуд из 23 пехотного полка Джорджии с ножами боуи и револьверами Кольта,31 августа 1861 г.
 Рис. 4. Лафкадио Хирн (1850–1904).
Рис. 4. Лафкадио Хирн (1850–1904).
 Рис. 5. Надгробная плита Хосе Юуйя на кладбище Сайт Винсен де Поль.
Рис. 5. Надгробная плита Хосе Юуйя на кладбище Сайт Винсен де Поль.
 Рис. 6. Свидетельство о смерти Хосе Юуйя (фрагмент). Новый Орлеан, 7 марта 1888 г.
Рис. 6. Свидетельство о смерти Хосе Юуйя (фрагмент). Новый Орлеан, 7 марта 1888 г.
 Рис. 7. Нож конфедератов найденный на месте битвы приПерривиле (Кентукки, 8 окт. 1862 г).
Рис. 7. Нож конфедератов найденный на месте битвы приПерривиле (Кентукки, 8 окт. 1862 г).
 Рис. 8. Мальчики с ножами. Истпорт, Мэйн. фот. Льюис Уикс Хайн, 1911 г.
Рис. 8. Мальчики с ножами. Истпорт, Мэйн. фот. Льюис Уикс Хайн, 1911 г.
 Рис. 9. Дуэль. Ножи привязаны к рукам платками, 1865 г.
Рис. 9. Дуэль. Ножи привязаны к рукам платками, 1865 г.
 Рис. 10. Кассиус М. Клэй [1810–1903).
Рис. 10. Кассиус М. Клэй [1810–1903).

 Рис. 12. Дуэль Джозефа Энтони и Джона Уилсона, 4 декабря Рис. 13. Грендисон Д. Ройстон.1837 г., рис. Джон Стиринг.
Рис. 12. Дуэль Джозефа Энтони и Джона Уилсона, 4 декабря Рис. 13. Грендисон Д. Ройстон.1837 г., рис. Джон Стиринг.
 Рис. 14. Нож, подаренный Резином Боуи Джессу Перкинсу в 1831 году.
Рис. 14. Нож, подаренный Резином Боуи Джессу Перкинсу в 1831 году.
 Рис. 15. Легендарный бой Билла Хикока против банды братьев МакКэндлас 16 декабря 1861 г, в котором он один расправился с восемью противниками.
Рис. 15. Легендарный бой Билла Хикока против банды братьев МакКэндлас 16 декабря 1861 г, в котором он один расправился с восемью противниками.
 Рис. 16. Владелец ранчо в Мексике, 1854 г.
Рис. 16. Владелец ранчо в Мексике, 1854 г.
 Рис. 17. Мексиканские кабальеро, 1850 г.
Рис. 17. Мексиканские кабальеро, 1850 г.
 Рис. 20. На этой карикатуре кандидат в президенты от демократической партии Джеймс Полк держит в руке классический бельдюк. Нью Йорк, 1884 г.
Рис. 20. На этой карикатуре кандидат в президенты от демократической партии Джеймс Полк держит в руке классический бельдюк. Нью Йорк, 1884 г.



 Рис. 22. Оправленный в серебро нож работы Дэниэла Сёлса, подаренный Резином Боуи драгунскому офицеру Г. У Фаулеру.
Рис. 22. Оправленный в серебро нож работы Дэниэла Сёлса, подаренный Резином Боуи драгунскому офицеру Г. У Фаулеру.
 Рис. 23. Солдаты Конфедерации тренируются в метании ножей боуи. Harper’s Weekly от 31 августа 1861 г.
Рис. 23. Солдаты Конфедерации тренируются в метании ножей боуи. Harper’s Weekly от 31 августа 1861 г.

 Рис. 26. Солдат армии Конфедерации И. Ф. Пауэлл, с ножом боуи. Между 1861 и 1865 гг.
Рис. 27. Лейтенант Хайрам Л. Хендли из девятого кавалерийского батальона Теннесси. Между 1861 и 1865 гг.
Рис. 26. Солдат армии Конфедерации И. Ф. Пауэлл, с ножом боуи. Между 1861 и 1865 гг.
Рис. 27. Лейтенант Хайрам Л. Хендли из девятого кавалерийского батальона Теннесси. Между 1861 и 1865 гг.

 Рис. 29. Охота на крокодила с ножом.
Рис. 29. Охота на крокодила с ножом.
 Рис. 30. Текст песни «Кентукийские охотники, или Полуконь, Полуаллигатор». Написана в 1821 г.
Рис. 30. Текст песни «Кентукийские охотники, или Полуконь, Полуаллигатор». Написана в 1821 г.

 Рис. 32. Нож в сапоге (фрагмент). Жан Батист Дебре, 1834–1839 гг.
Рис. 32. Нож в сапоге (фрагмент). Жан Батист Дебре, 1834–1839 гг.

 В 1939–1940 годах в советском журнале «Знамя» были опубликованы мемуары известного российского и советского военного деятеля, дипломата и писателя Алексея Алексеевича Игнатьева. В воспоминаниях, вышедших под названием «50 лет в строю», комбриг Игнатьев, как и подобает идеологически выдержанному советскому офицеру, клеймил кровавый царский режим, безжалостно обошедшийся с братским народом Финляндии. Среди основных злодейств, приписываемых им русскому самодержавию, были следующие бесчеловечные деяния: «Расформировать финляндские войска — им доверять нельзя, — лишить финнов права служить в русской армии и даже запретить мирному населению носить традиционные финские ножи — вот была политика «мудрых» царских правителей, оскорбивших национальное чувство этого трудового народа, если не навсегда, то надолго», — гневно писал Игнатьев[945].
Расформирование финских войск и запрет на службу в российской армии оставим на совести самодержца всея Руси. Но для чего понадобилось отнимать у миролюбивых и дружелюбных финских крестьян ножи? Воображение услужливо рисует нам картину, как усатые царские жандармы, глумливо щерясь, отбирали у растерянных жителей Суоми ножи-пуукко, чтобы им неповадно было откраивать детям хлебушек и вырезать немудрёные поделки из дерева. Итак, проникшись праведным гневом комбрига Игнатьева, обратимся к истории финнов и их ножей.
Финляндия. Страна озёр, лесов, снега, заводной финской полечки, ещё недавно гремевшей со всех экранов, и забавных персонажей фильмов «За спичками» и Особенности национальной рыбалки». Но ещё не так давно эти идиллические пасторальные места являлись ареной кровавых событий, вошедших в историю страны как «Hajyjen kausi» — «Время плохих людей», или, как чаще называют эту мрачную эпоху, «Puukkojunkkarikausi» — «Эра ножевых бойцов».
Эпицентром этого явления стала область Похьянмаа, или Южная Остроготния. Запад её омывают волны Ботнического залива, на востоке Похьянмаа граничит с Карелией, а на севере с Лапландией. Начиная с XII столетия Южная Остроботния входила в состав Шведского королевства. Её воинственные жители регулярно совершали набеги на соседних карелов, которые проводили ответные вылазки. Эти кровавые конфликты, уносившие сотни жизней с обеих сторон, были прекращены в 1595 году Тявзинским мирным договором, по которому вся Остроботния переходила под шведскую юрисдикцию. В 1809 году, после победы России в русско-шведской войне, Остроботния как часть Великого княжества Финляндского вошла в состав Российской империи.
В настоящее время Финляндия занимает одно из первых мест в Европе по количеству тяжких преступлений на душу населения и демонстрирует крайне высокий уровень убийств[946]. Похоже, что начало этой мрачной тенденции было заложено ещё двести лет назад, когда в одном из округов страны — в Южной Остроботнии, количество убийств неожиданно начало расти с головокружительной скоростью. Эта эпоха и прославилась в истории Финляндии как — Puukkojunkkarikausi) — Эра поножовщиков.
Эра поножовщиков продлилась более ста лет, с конца XVIII и до конца XIX столетия. За это время более двух тысяч жителей Южной Остроботнии пало под ножами земляков. Это немало, учитывая, что на переломе XVIII и XIX столетий население региона составляло всего восемьдесят тысяч человек[947]. Этот период чем-то напоминает эпоху Дикого Запада в Америке. Эпические подвиги поножовщиков Похьянмаа были запечатлены в устной традиции, и народные легенды пересказывали и воспевали подвиги самых известных бойцов на ножах. В конце XIX века эти сюжеты перекочевали в литературные произведения, а затем в пьесы и фильмы. Научные же работы практически не уделяли внимания эпохе пууккоюнкари. В результате это привело к тому, что история Эры поножовщиков долгие годы была покрыта туманом фольклора и мифов.
Большинство исследователей, изучавших этот феномен, сходятся во мнении, что на появление культуры ножевых бойцов оказали влияние три основных фактора: высокий уровень потребления алкоголя, суровый нрав местных жителей и недостаточное внимание, уделяемое воспитанию детей. Губернатор провинции Вааса Херман Варнхьелм в своём отчёте о состоянии провинции на 1824 год писал: «Характер здешних людей достаточно вспыльчив и независим, и поэтому с простыми людьми должно обращаться весьма справедливо, но не забывая при этом о строгой дисциплине»[948].
В этом же отчёт? губернатор упоминает о росте пьянства среди мужчин провинции и о низкой дисциплине у молодёжи. В 1802 году Хенрик Вегелиус. пастор из Вёро, описывал свою паству следующим образом: «В большинстве своём люди тут благонравны, хотя и несколько высокомерны и грубоваты и не позволяют оскорблять себя. Хотя в основном они простодушны, честны и искренни в речах своих, надёжны и верны в дружбе, но по сути, они всё же остаются дикими, грубыми и предаются пьянству и дракам»[949].
В 1800 году полицмейстер местечка Илмайоки Саломон Хандлес, характеризуя жителей Похьянмаа, отметил, что они горды, склонны к пьянству и любят пускать пыль в глаза[950]. Все позднейшие свидетельства выглядят подобным образом. В 1851 году некий Бекман описывал подчинённый ему приход Яласъярви. В своём отчёте он упомянул, что жителей Остроботнии от их более спокойных и смиренных соседей из Хяме отличают мужество и неукротимый дух. Также он отметил, что эти качества вкупе с их высокой практической смёткой, трудолюбием и усердием придают им некую особую, внутреннюю гордость, характерную именно для жителей этого региона. Далее Бекман упомянул, что природная вспыльчивость остроботнийцев часто подогревается крепкими спиртными напитками, в результате чего они становятся агрессивными и затевают драки, которые редко обходятся без кровопролития[951]. Губернатор провинции Херман Варнхьелм в своём отчёте подчеркивал разницу между жителями восточных провинций и их братьями из Остроботнии. Он утверждал, что, поскольку первые из них беднее, а почва их менее плодородна, то и люди там по своей природе медлительней, а также менее трудолюбивы и прилежны.
В 1939–1940 годах в советском журнале «Знамя» были опубликованы мемуары известного российского и советского военного деятеля, дипломата и писателя Алексея Алексеевича Игнатьева. В воспоминаниях, вышедших под названием «50 лет в строю», комбриг Игнатьев, как и подобает идеологически выдержанному советскому офицеру, клеймил кровавый царский режим, безжалостно обошедшийся с братским народом Финляндии. Среди основных злодейств, приписываемых им русскому самодержавию, были следующие бесчеловечные деяния: «Расформировать финляндские войска — им доверять нельзя, — лишить финнов права служить в русской армии и даже запретить мирному населению носить традиционные финские ножи — вот была политика «мудрых» царских правителей, оскорбивших национальное чувство этого трудового народа, если не навсегда, то надолго», — гневно писал Игнатьев[945].
Расформирование финских войск и запрет на службу в российской армии оставим на совести самодержца всея Руси. Но для чего понадобилось отнимать у миролюбивых и дружелюбных финских крестьян ножи? Воображение услужливо рисует нам картину, как усатые царские жандармы, глумливо щерясь, отбирали у растерянных жителей Суоми ножи-пуукко, чтобы им неповадно было откраивать детям хлебушек и вырезать немудрёные поделки из дерева. Итак, проникшись праведным гневом комбрига Игнатьева, обратимся к истории финнов и их ножей.
Финляндия. Страна озёр, лесов, снега, заводной финской полечки, ещё недавно гремевшей со всех экранов, и забавных персонажей фильмов «За спичками» и Особенности национальной рыбалки». Но ещё не так давно эти идиллические пасторальные места являлись ареной кровавых событий, вошедших в историю страны как «Hajyjen kausi» — «Время плохих людей», или, как чаще называют эту мрачную эпоху, «Puukkojunkkarikausi» — «Эра ножевых бойцов».
Эпицентром этого явления стала область Похьянмаа, или Южная Остроготния. Запад её омывают волны Ботнического залива, на востоке Похьянмаа граничит с Карелией, а на севере с Лапландией. Начиная с XII столетия Южная Остроботния входила в состав Шведского королевства. Её воинственные жители регулярно совершали набеги на соседних карелов, которые проводили ответные вылазки. Эти кровавые конфликты, уносившие сотни жизней с обеих сторон, были прекращены в 1595 году Тявзинским мирным договором, по которому вся Остроботния переходила под шведскую юрисдикцию. В 1809 году, после победы России в русско-шведской войне, Остроботния как часть Великого княжества Финляндского вошла в состав Российской империи.
В настоящее время Финляндия занимает одно из первых мест в Европе по количеству тяжких преступлений на душу населения и демонстрирует крайне высокий уровень убийств[946]. Похоже, что начало этой мрачной тенденции было заложено ещё двести лет назад, когда в одном из округов страны — в Южной Остроботнии, количество убийств неожиданно начало расти с головокружительной скоростью. Эта эпоха и прославилась в истории Финляндии как — Puukkojunkkarikausi) — Эра поножовщиков.
Эра поножовщиков продлилась более ста лет, с конца XVIII и до конца XIX столетия. За это время более двух тысяч жителей Южной Остроботнии пало под ножами земляков. Это немало, учитывая, что на переломе XVIII и XIX столетий население региона составляло всего восемьдесят тысяч человек[947]. Этот период чем-то напоминает эпоху Дикого Запада в Америке. Эпические подвиги поножовщиков Похьянмаа были запечатлены в устной традиции, и народные легенды пересказывали и воспевали подвиги самых известных бойцов на ножах. В конце XIX века эти сюжеты перекочевали в литературные произведения, а затем в пьесы и фильмы. Научные же работы практически не уделяли внимания эпохе пууккоюнкари. В результате это привело к тому, что история Эры поножовщиков долгие годы была покрыта туманом фольклора и мифов.
Большинство исследователей, изучавших этот феномен, сходятся во мнении, что на появление культуры ножевых бойцов оказали влияние три основных фактора: высокий уровень потребления алкоголя, суровый нрав местных жителей и недостаточное внимание, уделяемое воспитанию детей. Губернатор провинции Вааса Херман Варнхьелм в своём отчёте о состоянии провинции на 1824 год писал: «Характер здешних людей достаточно вспыльчив и независим, и поэтому с простыми людьми должно обращаться весьма справедливо, но не забывая при этом о строгой дисциплине»[948].
В этом же отчёт? губернатор упоминает о росте пьянства среди мужчин провинции и о низкой дисциплине у молодёжи. В 1802 году Хенрик Вегелиус. пастор из Вёро, описывал свою паству следующим образом: «В большинстве своём люди тут благонравны, хотя и несколько высокомерны и грубоваты и не позволяют оскорблять себя. Хотя в основном они простодушны, честны и искренни в речах своих, надёжны и верны в дружбе, но по сути, они всё же остаются дикими, грубыми и предаются пьянству и дракам»[949].
В 1800 году полицмейстер местечка Илмайоки Саломон Хандлес, характеризуя жителей Похьянмаа, отметил, что они горды, склонны к пьянству и любят пускать пыль в глаза[950]. Все позднейшие свидетельства выглядят подобным образом. В 1851 году некий Бекман описывал подчинённый ему приход Яласъярви. В своём отчёте он упомянул, что жителей Остроботнии от их более спокойных и смиренных соседей из Хяме отличают мужество и неукротимый дух. Также он отметил, что эти качества вкупе с их высокой практической смёткой, трудолюбием и усердием придают им некую особую, внутреннюю гордость, характерную именно для жителей этого региона. Далее Бекман упомянул, что природная вспыльчивость остроботнийцев часто подогревается крепкими спиртными напитками, в результате чего они становятся агрессивными и затевают драки, которые редко обходятся без кровопролития[951]. Губернатор провинции Херман Варнхьелм в своём отчёте подчеркивал разницу между жителями восточных провинций и их братьями из Остроботнии. Он утверждал, что, поскольку первые из них беднее, а почва их менее плодородна, то и люди там по своей природе медлительней, а также менее трудолюбивы и прилежны.
 Рис. 1. Мальчики Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 1. Мальчики Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 2. Молодые люди из Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 2. Молодые люди из Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 3. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
Рис. 3. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
 Рис. 4. Пууккоюнкари Юсси Канкаханпяйн. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 4. Пууккоюнкари Юсси Канкаханпяйн. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
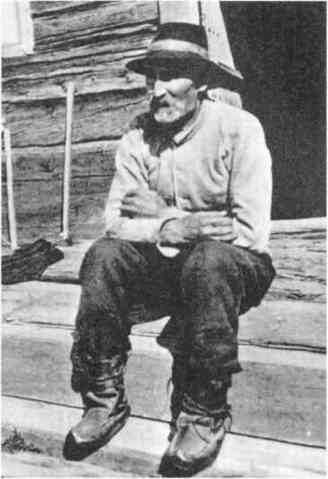 Рис. 5. Пууккоюнкари Юха Туомисиллан. один из людей Хирви-Кёсти. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 5. Пууккоюнкари Юха Туомисиллан. один из людей Хирви-Кёсти. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 6. Пууккоюнкари Хирви-Кёсти приговорённый за убийство к Сибирской каторге, 1865 г. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 6. Пууккоюнкари Хирви-Кёсти приговорённый за убийство к Сибирской каторге, 1865 г. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 7. Жених и невеста из Войри, Похьянмаа, 1870-е.
Согласно судебным материалам, в перечне событий, послуживших поводом к убийствам, первое место в рейтинге занимает так называемое «гуляние вокруг деревень». Этот местный обычай заключался в прогулках от деревни к деревне и от фермы к ферме. Почти всегда подобные прогулки совершались целыми бандами, и все эти посещения чужих ферм происходили без приглашения и одобрения хозяев. Любимым временем для «гуляния вокруг деревень» были выходные дни, особенно воскресенье, а также праздники. «Гуляние вокруг деревень» не являлось спонтанным и бесцельным шатанием — молодёжные банды целенаправленно бродили по приходу в поисках усадеб, где на тот момент происходили какие-либо массовые мероприятия, такие как свадьбы, аукционы, сбор налогов, танцы или похороны. Эрик Порнулл, сын фермера из Вёро, вспоминал, как 14 января 1821 года банда, членом которой он являлся, после танцев не разошлась по домам, а отправилась прошвырнуться, «как это было принято у фермерских сыновей, когда они собираются вместе». В 1817 году Матти Иссо-Ампуйя, батрак из Сойни, объяснял, что сборище после похорон, которое закончилось убийством, было следствием народного обычая гулять субботним вечером вокруг соседних ферм, особенно после посещения какого-либо заведения, где продают алкоголь[976].
Рис. 7. Жених и невеста из Войри, Похьянмаа, 1870-е.
Согласно судебным материалам, в перечне событий, послуживших поводом к убийствам, первое место в рейтинге занимает так называемое «гуляние вокруг деревень». Этот местный обычай заключался в прогулках от деревни к деревне и от фермы к ферме. Почти всегда подобные прогулки совершались целыми бандами, и все эти посещения чужих ферм происходили без приглашения и одобрения хозяев. Любимым временем для «гуляния вокруг деревень» были выходные дни, особенно воскресенье, а также праздники. «Гуляние вокруг деревень» не являлось спонтанным и бесцельным шатанием — молодёжные банды целенаправленно бродили по приходу в поисках усадеб, где на тот момент происходили какие-либо массовые мероприятия, такие как свадьбы, аукционы, сбор налогов, танцы или похороны. Эрик Порнулл, сын фермера из Вёро, вспоминал, как 14 января 1821 года банда, членом которой он являлся, после танцев не разошлась по домам, а отправилась прошвырнуться, «как это было принято у фермерских сыновей, когда они собираются вместе». В 1817 году Матти Иссо-Ампуйя, батрак из Сойни, объяснял, что сборище после похорон, которое закончилось убийством, было следствием народного обычая гулять субботним вечером вокруг соседних ферм, особенно после посещения какого-либо заведения, где продают алкоголь[976].
 Рис. 8. Известный пууккоюнкари Юха Хухтамяйн Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 8. Известный пууккоюнкари Юха Хухтамяйн Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 9. Пууккоюнкари старик Йюлинен, из парней Анска, бывший владелец Кескикюля. Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 9. Пууккоюнкари старик Йюлинен, из парней Анска, бывший владелец Кескикюля. Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 10. Оружие пууккоюнкари. Национальный музей Финляндии.
Рис. 10. Оружие пууккоюнкари. Национальный музей Финляндии.

 Рис. 14. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
Рис. 14. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
 Рис. 15. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
Рис. 15. Кадр из фильма Похьялайсия, 1925 г.
 Рис. 16. Алавиеский союз молодёжи. Похьянмаа, 1917 г.
Рис. 16. Алавиеский союз молодёжи. Похьянмаа, 1917 г.
 Рис. 17. Молодёжь из Исокюро, Похьянмаа, 1900 г.
Рис. 17. Молодёжь из Исокюро, Похьянмаа, 1900 г.
 Рис. 18. Финские иммигранты на острове Эллис в Нью-Йорке. Начало XX в.
Рис. 18. Финские иммигранты на острове Эллис в Нью-Йорке. Начало XX в.
 Рис. 19. Финские иммигранты в Клинтоне, Индиана, 1910–1912 гг.
Рис. 19. Финские иммигранты в Клинтоне, Индиана, 1910–1912 гг.
 Рис. 20. Антти Раннанярви и Антти Исотало. 1868-69 гг.
Рис. 20. Антти Раннанярви и Антти Исотало. 1868-69 гг.
 Рис. 21. Легендрнный Антии Истаало, Алахярмя, 1910 г. Самули Паулахарью.
Рис. 21. Легендрнный Антии Истаало, Алахярмя, 1910 г. Самули Паулахарью.
 Рис. 22. Мужчины из Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 22. Мужчины из Хярмя. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 23. Антти Исотало. Кадр из фильма «Десять парней из Хярмя», 1950 г.
Рис. 23. Антти Исотало. Кадр из фильма «Десять парней из Хярмя», 1950 г.

 Рис. 25. Ножедел из Хярмя, один из основателей известной династии, Юха (Йоханнес) Раннанярви (1873–1931). Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 25. Ножедел из Хярмя, один из основателей известной династии, Юха (Йоханнес) Раннанярви (1873–1931). Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 26. Парни из Хярмя на отдыхе. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
Рис. 26. Парни из Хярмя на отдыхе. Harman aukeilta. Самули Паулахарью, 1932 г.
 Рис. 27. Суд над хулиганами-чубаровцами, 1926 г.
Рис. 29. Хулиганская тактика — удар ножом в почку. Россия, 1930-е.
Рис. 27. Суд над хулиганами-чубаровцами, 1926 г.
Рис. 29. Хулиганская тактика — удар ножом в почку. Россия, 1930-е.
 Рис. 28. Ударная группа по борьбе с хулиганством, Россия, 1920-е.
Рис. 28. Ударная группа по борьбе с хулиганством, Россия, 1920-е.

 Из всех народных дуэльных культур греческая традиция поединков на ножах относится к наименее изученным. Длительное время игнорирование культуры народной чести являлось общей тенденцией для большинства этнографов, фольклористов, социологов и культурологов. Но даже на этом общем безрадостном фоне и с учётом ничтожного количества работ, посвящённых традиции народных дуэлей, Греция стоит особняком. Если говорить точнее, речь пойдёт не о материковой части страны, а об Ионических островах, где эти дуэли и процветали.
Происхождение этих поединков чести покрыто мраком, и о том, как и когда они появились на древней земле Эллады, мы лишь можем делать осторожные предположения. Можно предложить множество версий и теорий, но все они не выходят за рамки спекуляций. Так, например, учитывая, что Ионические острова длительное время находились под протекторатом Венеции, нельзя исключить влияние венецианской традиции. Путешественник Тертиус Кендрик, побывавший на Ионических островах в начале XIX века, отмечал, что «рядом с городом Форт Абрахам, с правой его стороны, расположена деревня Мандучио, жители которой имеют обыкновение носить длинные и острые ножи: обычай, очевидно доставшийся им от венецианцев»[1028]. Но давайте попытаемся рассмотреть и другие возможные факторы, предположительно способствовавшие появлению на этих греческих островах культуры дуэлей на ножах.
Итак, версия первая. В июле 1823 года известный английский поэт-романтик, автор «Чайльд-Гарольда» Джордж Ноэл Гордон Байрон на собственные средства приобрёл судно, оружие и продовольствие, нанял и снарядил несколько сотен солдат и отплыл в охваченную революцией Грецию на помощь к повстанцам, ведущим неравный бой с армией Османской империи. В 1824 году, незадолго до смерти, тяжело больной Байрон написал стихотворение «Песнь Сули», более известное как «Ода сулиотам»:
Из всех народных дуэльных культур греческая традиция поединков на ножах относится к наименее изученным. Длительное время игнорирование культуры народной чести являлось общей тенденцией для большинства этнографов, фольклористов, социологов и культурологов. Но даже на этом общем безрадостном фоне и с учётом ничтожного количества работ, посвящённых традиции народных дуэлей, Греция стоит особняком. Если говорить точнее, речь пойдёт не о материковой части страны, а об Ионических островах, где эти дуэли и процветали.
Происхождение этих поединков чести покрыто мраком, и о том, как и когда они появились на древней земле Эллады, мы лишь можем делать осторожные предположения. Можно предложить множество версий и теорий, но все они не выходят за рамки спекуляций. Так, например, учитывая, что Ионические острова длительное время находились под протекторатом Венеции, нельзя исключить влияние венецианской традиции. Путешественник Тертиус Кендрик, побывавший на Ионических островах в начале XIX века, отмечал, что «рядом с городом Форт Абрахам, с правой его стороны, расположена деревня Мандучио, жители которой имеют обыкновение носить длинные и острые ножи: обычай, очевидно доставшийся им от венецианцев»[1028]. Но давайте попытаемся рассмотреть и другие возможные факторы, предположительно способствовавшие появлению на этих греческих островах культуры дуэлей на ножах.
Итак, версия первая. В июле 1823 года известный английский поэт-романтик, автор «Чайльд-Гарольда» Джордж Ноэл Гордон Байрон на собственные средства приобрёл судно, оружие и продовольствие, нанял и снарядил несколько сотен солдат и отплыл в охваченную революцией Грецию на помощь к повстанцам, ведущим неравный бой с армией Османской империи. В 1824 году, незадолго до смерти, тяжело больной Байрон написал стихотворение «Песнь Сули», более известное как «Ода сулиотам»:
 Рис. 1. Мужество сулиотских женщин. Альфонс Мари де Невиль, 1865 г.
Рис. 1. Мужество сулиотских женщин. Альфонс Мари де Невиль, 1865 г.
 Рис. 2. Горец Крита.
Рис. 2. Горец Крита.
 Рис. 3. Сулиоты, А. Риксен, 1915 г.
Рис. 3. Сулиоты, А. Риксен, 1915 г.
 Рис. 4. Жители острова Закинф. Андре Грассе де Сен-Совер, 1799 г.
Рис. 4. Жители острова Закинф. Андре Грассе де Сен-Совер, 1799 г.
 Рис. 5. Житель континентальной Греции. Рис. 6. Горцы Греции. Андре Грассе де Сен-Совер, 1799 г.
Рис. 5. Житель континентальной Греции. Рис. 6. Горцы Греции. Андре Грассе де Сен-Совер, 1799 г.
 Рис. 7. Критская семья, Фредерик Буассон
Рис. 8. Греческий разбойник Хаджи Абиид, 1893 г.19111.
Рис. 7. Критская семья, Фредерик Буассон
Рис. 8. Греческий разбойник Хаджи Абиид, 1893 г.19111.
 Рис. 9. Повстанцы братья Мантакас, Крит. Фредерик Буассон, 1911 г.
Рис. 9. Повстанцы братья Мантакас, Крит. Фредерик Буассон, 1911 г.
 Рис. 10. Заключённые британской тюрьмы на острове Закинф. Многие из них осуждены за дуэли на ножах. Greece of the twentieth century Перси Фальк Мартин, 1913 г.
Рис. 10. Заключённые британской тюрьмы на острове Закинф. Многие из них осуждены за дуэли на ножах. Greece of the twentieth century Перси Фальк Мартин, 1913 г.
 Рис. И. Мужчины на улице Андрицайны, Греция (фрагмент). Фредерик Буассон, 1903 г.
Рис. И. Мужчины на улице Андрицайны, Греция (фрагмент). Фредерик Буассон, 1903 г.

 В XVI–XVII столетиях дуэли являлись бичом Франции, уносившим тысячи жизней, подобно эпидемиям чумы. Так, по данным из разных источников, только в годы царствования Генриха IV — с 1589 по 1610 год, что составляет немногим более 20 лет, на дуэлях, по разным оценкам, сложили головы от четырёх до восьми тысяч дворян. Роберт Болдвик склоняется к цифре четыре тысячи, с ним солидарен Ричард Коэн, писавший, что в среднем в неделю на дуэлях погибали четыре-пять человек. Учитывая население Франции той эпохи, по масштабам это сравнимо с потерями в Первой мировой войне. Дж. Кирнан считает эти цифры заниженными и оценивает масштаб дуэльных «потерь» в восемь тысяч жизней, хотя Кевин Макалир считает нужным ограничиться семью. Так или иначе, но масштабы жертв дуэльной эпидемии потрясают[1072]. Были и особо печально прославившиеся дуэлянты, неутомимо пополнявшие эту мрачную статистику, такие, например, как некий шевалье д'Андрьё, которому приписывали семьдесят два убийства на дуэлях, совершённые им ещё до достижения тридцатилетнего возраста. Этот милый юноша имел привычку заставлять своего поверженного противника перед смертью отречься от Бога, после чего с чувством выполненного долга перерезал ему горло[1073]. Эгертон Кастл писал: «Во второй половине XVI века, когда дуэли лишились законного статуса, Францию охватил чудовищный приступ помешательства на дуэлях, которые за сто восемьдесят лет обошлись стране в сорок тысяч бессмысленно потерянных жизней, сорок тысяч отважных дворян, убитых в поединках, возникавших, как правило, по самым пустяковым поводам»[1074].
Было предложено немало объяснений этому пагубному поветрию, постигшему Францию, в том числе и пресловутая «furia francese» — «галльская ярость». Как писал один из французских историков: «Мы предрасположены к поединкам в силу национального характера, потому и дерёмся на дуэлях»[1075].
История сохранила для нас сотни описаний поединков задиристых галльских дворян, а также и материалы связанных с дуэлями судебных дел. Во множестве специализированных работ, посвящённых дуэлям, подробно описаны поединки, уже ставшие хрестоматийными, такие, например, как бой Жарнака и ла Шантеньре, имевший место 10 июля 1547 года и породивший печально известный «удар Жарнака». Немало работ посвящено нашумевшей дуэли неутомимого бретёра де Бутвиля с де Бёвроном в 1627 году, стоившей Бутвилю головы, или не менее известному поединку-вендетте герцога де Гиза с графом де Колиньи на Пляс-Руаяль в 1643 году.
К сожалению, история народных «point d'honneur» — дел чести, в отличие от дуэлей знати, не балует нас описаниями «плебейских» поединков, и, более того, за редким исключением упоминания о подобных противоборствах вплоть до конца XIX столетия практически не встречаются. Свидетельств о проходивших во Франции поединках на кинжалах или ножах катастрофически мало, и все они являются раритетом или даже скорее курьёзом. Так, например, сохранилось описание проходившей в 1612 году дуэли некоего Жака Гальо: «Парировав первый удар, ответчик рассёк запястье и кисть несчастного, перерезав ему нервы на руке и заставив выронить шпагу, что позволило ему нанести укол своей жертве, защищавшейся кинжалом в левой руке. Затем ответчик нанёс ему удар по левой руке, который заставил того выпустить оружие, бросился на него и, несмотря на просьбы о милосердии, нанёс пять или шесть ударов кинжалом»[1076].
Но как мы видим из приведённого отрывка, начинался этот поединок как обычный бой на шпагах и кинжалах, поэтому его сложно классифицировать как дуэль на ножах. Уже несколько ближе к рассматриваемой нами теме стоит совершенно не типичная для аристократов той эпохи дуэль на ножах, имевшая место в 1651 году. В ходе этого поединка один из участников дуэли, граф де Карне, пытался броситься за шпагой. Его предупредили о необходимости вернуться и встретиться с противником лицом к лицу, а когда он проигнорировал предупреждение, то получил удар ножом в спину. Хотя удар в спину считался достойным порицания при любых обстоятельствах и, кроме того, являлся тяжким нарушением дуэльного кодекса, тем не менее в этом случае мы можем отнести этот бой именно к дуэлям на ножах[1077].
Во Франции, как и в большинстве стран Европы, кинжалы считались типичным оружием убийц. Поль де Монборше называл кинжалы «подлыми», так как их могли пустить в ход неожиданно, исподтишка, даже не позволив противнику встать в стойку, как это, например, и произошло на дуэли барона Монморенси-Галло с маркизом д'Аллегре в сентябре 1592 года. Франсуа де Монморенси-Галло, учтиво приподнял шляпу, чтобы отсалютовать Кристофу д'Аллегре, который на это коротко ответил: «Умри!» — и ударил галантного противника ножом. В результате этого ранения 22 сентября 1592 года барон скончался[1078].
История сохранила для нас и курьёзные дуэли, доведённые до абсурда. Двое соперников влезли в бочку и там изрезали друг друга ножами. Два других задиры при решении вопроса, кому пройти первому, схватились за левые руки и закололи друг друга кинжалами[1079]. А вот какую историю о дуэли на кинжалах в своей книге «The sword through the centuries» донёс до нас Альфред Хаттон. Граф Мартиненго был великим воином и обладал репутацией, созданной его подвигами. Но в то же время он был жестоким и беспринципным задирой. Как-то раз у него возникли разногласия с неким господином из Брешии, принадлежавшим к высшему обществу города, и он неоднократно пытался вызвать его на бой. Но вельможный синьор не был склонен вступать в какие-либо поединки. Отчаявшийся граф решил убить соперника любым доступным способом. Он нанял пару солдат, и они втроём среди бела дня ворвались в дом того господина, отыскали его в кабинете, убили без всяких церемоний, тихо вышли, сели на приготовленных лошадей и, прежде чем родственники убитого успели их задержать, бежали в Пьемонт. После этого вряд ли стоит удивляться тому, что некоторые родственники покойного брешианца настойчиво искали встречи с графом.
Одному из них, некоему итальянскому капитану, посчастливилось встретиться с ним, хотя, как показали дальнейшие события, повезло относительно. Встреча эта произошла на мосту через реку По, который, кажется, как будто специально был создан для событий такого рода. Случилось так, что рука этого капитана была искалечена в одном из сражений, поэтому он поставил условие, что для уравнивания шансов они должны встретиться, держа по два кинжала каждый. Кроме этого, на левых руках соперники должны были иметь «повязки Жарнака» — то есть защитное снаряжение в виде полосок брони без каких-либо сочленений, которые настолько ограничивали подвижность руки, что двигать ей можно было только от плеча. Эта защита нечасто применялась в поединках, и спокойно можно было отказаться, но граф был из тех, кто не боится ни бога, ни чёрта, поэтому он ответил: «Да пусть надевает свой брассард». Как показали дальнейшие события, это и в самом деле не имело большого значения, по крайней мере, для графа, так как после нескольких выпадов, вольтов и уклонов он вонзил один из своих кинжалов точно в сердце противника и весело продолжил путь, а этот инцидент, кроме прочего, укрепил его репутацию[1080].
У Хаттона мы находим и другую любопытную историю. Сир де ла Рок, господин старше шестидесяти, и виконт д'Алемань, молодой человек лет тридцати, были близкими соседями, и это соседство стало причиной ссоры. Так случилось, что они были совладельцами нескольких деревень, что мы понимаем как равные права сеньоров, и изначально ссора завязалась не между ними самими, а между их слугами — судебными приставами. Одну из таких сцен нам представляет Шекспир в «Ромео и Джульетте». Слуги двух враждующих кланов, Монтекки и Капулетти, встречаются на улице и затевают ссору, в которую им бы не стоило ввязываться. После небольшой предварительной перепалки Грегори спрашивает Самсона: «Вы ищете ссоры, синьор?», а тот отвечает: «Если вы её ищете, синьор, то я к вашим услугам».
Так случилось и с нашими приставами: они встретились в одной из деревенек для решения каких-то служебных дел и повздорили, так как каждый из них настаивал, что именно у него преимущество в решении спорного вопроса. Поскольку оба они не были аристократами и не имели привилегии на ношение мечей, их конфликт вылился в оскорбления, о которых оба должным образом и каждый в своей интерпретации сообщили своим хозяевам.
Де ла Рок вооружился двумя кинжалами и, встретив своего противника на улице Абэ, обратился к нему: «Сир, вы молоды, а я стар. Если наш поединок будет проходить на рапирах, ваше преимущество окажется несомненным. Поэтому выберите один из этих кинжалов и дайте мне сатисфакцию за нанесённое оскорбление». Д’Алемань принял этот учтивый вызов. В секунданты ла Рока они взяли Сира де Винса и юного Салернеса в качестве секунданта д’Алеманя. Соперники выехали из города и направились к сухому рву, затем секунданты отошли в сторону, чтобы наблюдать за ходом событий. «Дайте мне левую руку», — воскликнул ла Рок обратившись к д’Алеманю. Они взялись за руки и сразу же пустили кинжалы в ход. Старший из дуэлянтов нанёс своему противнику удар в корпус, в ответ получил кинжал по рукоятку в горло и упал мёртвым к ногам соперника[1081].
И, конечно же, нельзя не вспомнить известного «кинжальщика» начала XVII столетия, скромного школьного учителя из Ангулема Франсуа Равальяка, вошедшего в историю благодаря тому, что 14 мая 1610 года он заколол ножом короля Франции Генриха IV. За пятнадцать лет до этого несчастного дня, 27 декабря 1595 года, многострадальный монарх уже пережил одно покушение, когда некий студиоз из клермонского иезуитского колледжа попытался воткнуть ему кинжал в горло, но, поскольку в этот момент король наклонился, удар пришёлся в верхнюю губу[1082].
В XVI–XVII столетиях дуэли являлись бичом Франции, уносившим тысячи жизней, подобно эпидемиям чумы. Так, по данным из разных источников, только в годы царствования Генриха IV — с 1589 по 1610 год, что составляет немногим более 20 лет, на дуэлях, по разным оценкам, сложили головы от четырёх до восьми тысяч дворян. Роберт Болдвик склоняется к цифре четыре тысячи, с ним солидарен Ричард Коэн, писавший, что в среднем в неделю на дуэлях погибали четыре-пять человек. Учитывая население Франции той эпохи, по масштабам это сравнимо с потерями в Первой мировой войне. Дж. Кирнан считает эти цифры заниженными и оценивает масштаб дуэльных «потерь» в восемь тысяч жизней, хотя Кевин Макалир считает нужным ограничиться семью. Так или иначе, но масштабы жертв дуэльной эпидемии потрясают[1072]. Были и особо печально прославившиеся дуэлянты, неутомимо пополнявшие эту мрачную статистику, такие, например, как некий шевалье д'Андрьё, которому приписывали семьдесят два убийства на дуэлях, совершённые им ещё до достижения тридцатилетнего возраста. Этот милый юноша имел привычку заставлять своего поверженного противника перед смертью отречься от Бога, после чего с чувством выполненного долга перерезал ему горло[1073]. Эгертон Кастл писал: «Во второй половине XVI века, когда дуэли лишились законного статуса, Францию охватил чудовищный приступ помешательства на дуэлях, которые за сто восемьдесят лет обошлись стране в сорок тысяч бессмысленно потерянных жизней, сорок тысяч отважных дворян, убитых в поединках, возникавших, как правило, по самым пустяковым поводам»[1074].
Было предложено немало объяснений этому пагубному поветрию, постигшему Францию, в том числе и пресловутая «furia francese» — «галльская ярость». Как писал один из французских историков: «Мы предрасположены к поединкам в силу национального характера, потому и дерёмся на дуэлях»[1075].
История сохранила для нас сотни описаний поединков задиристых галльских дворян, а также и материалы связанных с дуэлями судебных дел. Во множестве специализированных работ, посвящённых дуэлям, подробно описаны поединки, уже ставшие хрестоматийными, такие, например, как бой Жарнака и ла Шантеньре, имевший место 10 июля 1547 года и породивший печально известный «удар Жарнака». Немало работ посвящено нашумевшей дуэли неутомимого бретёра де Бутвиля с де Бёвроном в 1627 году, стоившей Бутвилю головы, или не менее известному поединку-вендетте герцога де Гиза с графом де Колиньи на Пляс-Руаяль в 1643 году.
К сожалению, история народных «point d'honneur» — дел чести, в отличие от дуэлей знати, не балует нас описаниями «плебейских» поединков, и, более того, за редким исключением упоминания о подобных противоборствах вплоть до конца XIX столетия практически не встречаются. Свидетельств о проходивших во Франции поединках на кинжалах или ножах катастрофически мало, и все они являются раритетом или даже скорее курьёзом. Так, например, сохранилось описание проходившей в 1612 году дуэли некоего Жака Гальо: «Парировав первый удар, ответчик рассёк запястье и кисть несчастного, перерезав ему нервы на руке и заставив выронить шпагу, что позволило ему нанести укол своей жертве, защищавшейся кинжалом в левой руке. Затем ответчик нанёс ему удар по левой руке, который заставил того выпустить оружие, бросился на него и, несмотря на просьбы о милосердии, нанёс пять или шесть ударов кинжалом»[1076].
Но как мы видим из приведённого отрывка, начинался этот поединок как обычный бой на шпагах и кинжалах, поэтому его сложно классифицировать как дуэль на ножах. Уже несколько ближе к рассматриваемой нами теме стоит совершенно не типичная для аристократов той эпохи дуэль на ножах, имевшая место в 1651 году. В ходе этого поединка один из участников дуэли, граф де Карне, пытался броситься за шпагой. Его предупредили о необходимости вернуться и встретиться с противником лицом к лицу, а когда он проигнорировал предупреждение, то получил удар ножом в спину. Хотя удар в спину считался достойным порицания при любых обстоятельствах и, кроме того, являлся тяжким нарушением дуэльного кодекса, тем не менее в этом случае мы можем отнести этот бой именно к дуэлям на ножах[1077].
Во Франции, как и в большинстве стран Европы, кинжалы считались типичным оружием убийц. Поль де Монборше называл кинжалы «подлыми», так как их могли пустить в ход неожиданно, исподтишка, даже не позволив противнику встать в стойку, как это, например, и произошло на дуэли барона Монморенси-Галло с маркизом д'Аллегре в сентябре 1592 года. Франсуа де Монморенси-Галло, учтиво приподнял шляпу, чтобы отсалютовать Кристофу д'Аллегре, который на это коротко ответил: «Умри!» — и ударил галантного противника ножом. В результате этого ранения 22 сентября 1592 года барон скончался[1078].
История сохранила для нас и курьёзные дуэли, доведённые до абсурда. Двое соперников влезли в бочку и там изрезали друг друга ножами. Два других задиры при решении вопроса, кому пройти первому, схватились за левые руки и закололи друг друга кинжалами[1079]. А вот какую историю о дуэли на кинжалах в своей книге «The sword through the centuries» донёс до нас Альфред Хаттон. Граф Мартиненго был великим воином и обладал репутацией, созданной его подвигами. Но в то же время он был жестоким и беспринципным задирой. Как-то раз у него возникли разногласия с неким господином из Брешии, принадлежавшим к высшему обществу города, и он неоднократно пытался вызвать его на бой. Но вельможный синьор не был склонен вступать в какие-либо поединки. Отчаявшийся граф решил убить соперника любым доступным способом. Он нанял пару солдат, и они втроём среди бела дня ворвались в дом того господина, отыскали его в кабинете, убили без всяких церемоний, тихо вышли, сели на приготовленных лошадей и, прежде чем родственники убитого успели их задержать, бежали в Пьемонт. После этого вряд ли стоит удивляться тому, что некоторые родственники покойного брешианца настойчиво искали встречи с графом.
Одному из них, некоему итальянскому капитану, посчастливилось встретиться с ним, хотя, как показали дальнейшие события, повезло относительно. Встреча эта произошла на мосту через реку По, который, кажется, как будто специально был создан для событий такого рода. Случилось так, что рука этого капитана была искалечена в одном из сражений, поэтому он поставил условие, что для уравнивания шансов они должны встретиться, держа по два кинжала каждый. Кроме этого, на левых руках соперники должны были иметь «повязки Жарнака» — то есть защитное снаряжение в виде полосок брони без каких-либо сочленений, которые настолько ограничивали подвижность руки, что двигать ей можно было только от плеча. Эта защита нечасто применялась в поединках, и спокойно можно было отказаться, но граф был из тех, кто не боится ни бога, ни чёрта, поэтому он ответил: «Да пусть надевает свой брассард». Как показали дальнейшие события, это и в самом деле не имело большого значения, по крайней мере, для графа, так как после нескольких выпадов, вольтов и уклонов он вонзил один из своих кинжалов точно в сердце противника и весело продолжил путь, а этот инцидент, кроме прочего, укрепил его репутацию[1080].
У Хаттона мы находим и другую любопытную историю. Сир де ла Рок, господин старше шестидесяти, и виконт д'Алемань, молодой человек лет тридцати, были близкими соседями, и это соседство стало причиной ссоры. Так случилось, что они были совладельцами нескольких деревень, что мы понимаем как равные права сеньоров, и изначально ссора завязалась не между ними самими, а между их слугами — судебными приставами. Одну из таких сцен нам представляет Шекспир в «Ромео и Джульетте». Слуги двух враждующих кланов, Монтекки и Капулетти, встречаются на улице и затевают ссору, в которую им бы не стоило ввязываться. После небольшой предварительной перепалки Грегори спрашивает Самсона: «Вы ищете ссоры, синьор?», а тот отвечает: «Если вы её ищете, синьор, то я к вашим услугам».
Так случилось и с нашими приставами: они встретились в одной из деревенек для решения каких-то служебных дел и повздорили, так как каждый из них настаивал, что именно у него преимущество в решении спорного вопроса. Поскольку оба они не были аристократами и не имели привилегии на ношение мечей, их конфликт вылился в оскорбления, о которых оба должным образом и каждый в своей интерпретации сообщили своим хозяевам.
Де ла Рок вооружился двумя кинжалами и, встретив своего противника на улице Абэ, обратился к нему: «Сир, вы молоды, а я стар. Если наш поединок будет проходить на рапирах, ваше преимущество окажется несомненным. Поэтому выберите один из этих кинжалов и дайте мне сатисфакцию за нанесённое оскорбление». Д’Алемань принял этот учтивый вызов. В секунданты ла Рока они взяли Сира де Винса и юного Салернеса в качестве секунданта д’Алеманя. Соперники выехали из города и направились к сухому рву, затем секунданты отошли в сторону, чтобы наблюдать за ходом событий. «Дайте мне левую руку», — воскликнул ла Рок обратившись к д’Алеманю. Они взялись за руки и сразу же пустили кинжалы в ход. Старший из дуэлянтов нанёс своему противнику удар в корпус, в ответ получил кинжал по рукоятку в горло и упал мёртвым к ногам соперника[1081].
И, конечно же, нельзя не вспомнить известного «кинжальщика» начала XVII столетия, скромного школьного учителя из Ангулема Франсуа Равальяка, вошедшего в историю благодаря тому, что 14 мая 1610 года он заколол ножом короля Франции Генриха IV. За пятнадцать лет до этого несчастного дня, 27 декабря 1595 года, многострадальный монарх уже пережил одно покушение, когда некий студиоз из клермонского иезуитского колледжа попытался воткнуть ему кинжал в горло, но, поскольку в этот момент король наклонился, удар пришёлся в верхнюю губу[1082].
 Рис. 1. Франсуа Равальяк.
Рис. 1. Франсуа Равальяк.
 Рис. 2. Апаши, начало XX в.
Рис. 2. Апаши, начало XX в.
 Рис. 3.4. Татуировки, наносившиеся заключёнными бириби — французских военных тюрем в Северной Африке.
Рис. 3.4. Татуировки, наносившиеся заключёнными бириби — французских военных тюрем в Северной Африке.
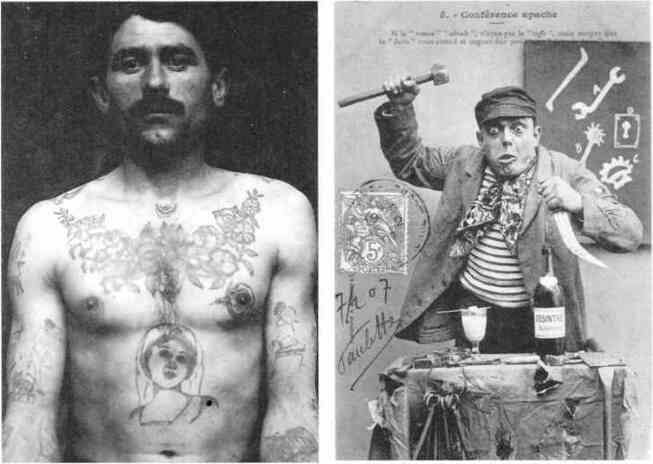 Рис. 5. Татуировки, наносившиеся заключёнными бириби — французских военных тюрем в Северной Африке.
Рис. 6. Гротескное изображение апаша с кинжалом и бутылкой абсента. Из цикла открыток «Конференция апашей», начало XX в.
Рис. 5. Татуировки, наносившиеся заключёнными бириби — французских военных тюрем в Северной Африке.
Рис. 6. Гротескное изображение апаша с кинжалом и бутылкой абсента. Из цикла открыток «Конференция апашей», начало XX в.
 Рис. 7. Перстни апашей. 1911 г.
Рис. 7. Перстни апашей. 1911 г.
 Рис. 8. Револьвер апашей с кастетом и клинком.
Рис. 8. Револьвер апашей с кастетом и клинком.
 Рис. 9. Апаш Антон Отто Краузер. Criminal Man. Чезаре Ломброзо, 1911 г.
Рис. 10. Амели Эли по прозвищу Золотой шлем, за сердце которой сражались предводители банд апашей Жозеф Пленьер и Доминик Лека. (Около 1900 г).
Рис. 9. Апаш Антон Отто Краузер. Criminal Man. Чезаре Ломброзо, 1911 г.
Рис. 10. Амели Эли по прозвищу Золотой шлем, за сердце которой сражались предводители банд апашей Жозеф Пленьер и Доминик Лека. (Около 1900 г).
 Рис. 11. Известный апаш и лидер банды Орту, Жозеф Пленьер. (1876–1922).
Рис. 11. Известный апаш и лидер банды Орту, Жозеф Пленьер. (1876–1922).
 Рис. 12. Король Бельвильских апашей, лидер банды Пупанкур, корсиканский сутенёр, Доминик Франсуа Эжен Лека (1874-около 1907).
Рис. 12. Король Бельвильских апашей, лидер банды Пупанкур, корсиканский сутенёр, Доминик Франсуа Эжен Лека (1874-около 1907).
 Рис. 13. Ограбление с использованием метода папаши Франсуа. Comment Se Defendre. Жорж Дюпа, 1922 г.
Рис. 13. Ограбление с использованием метода папаши Франсуа. Comment Se Defendre. Жорж Дюпа, 1922 г.
 Рис. 14. Французский апаш с татуировкой ножа кра-кра на левом предплечье.
Рис. 14. Французский апаш с татуировкой ножа кра-кра на левом предплечье.




 Рис. 20. «Аутентичное оружие апашей». Эжен Вильод, 1912 г.
Рис. 20. «Аутентичное оружие апашей». Эжен Вильод, 1912 г.
 Рис. 21. Парижские апаши учатся защищаться от ножа с помощью трости. Начало XX в.
Рис. 21. Парижские апаши учатся защищаться от ножа с помощью трости. Начало XX в.

 Рис. 23. Оборона от ножа с помощью трости. Comment Se Defendre. Жорж Дюбуа, 1922 г.
Рис. 23. Оборона от ножа с помощью трости. Comment Se Defendre. Жорж Дюбуа, 1922 г.
 Рис. 24. Мадлен Дюбуа с ножом спрятанным в газете. Comment Se Defendre. Жорж Дюбуа, 1922 г.
Рис. 24. Мадлен Дюбуа с ножом спрятанным в газете. Comment Se Defendre. Жорж Дюбуа, 1922 г.

 Началась эта история пять столетий назад, в XVII веке, когда высадившиеся на побережье Северной Америки голландские переселенцы основали на континенте колонии — Новые Нидерланды и Новый Амстердам. Как и в любой эмиграции, первыми к берегам земли Обетованной прибыли пассионарии. Вместе со своими фарфоровыми курительными трубками, кафтанами, чулками, башмаками с пряжками и войлочными шляпами они привезли на берега Гудзона голландскую манеру пить без меры и модную в то время в Голландии традицию поединков на ножах.
Правительство голландских поселений полностью отдавало себе отчёт в опасности злоупотребления алкоголем и кровавых последствиях этой пагубной привычки и заблаговременно попыталось принять превентивные меры. Так, в 1638 году губернатор Новых Нидерландов Кифт и городской совет постановили: «Ежедневное питьё вызывает множество бед и пороков и потому с этого момента всем лицам запрещается продавать и держать дома какое-либо вино под угрозой штрафа в 25 гульденов, за исключением лавок, где вино может покупаться по справедливой цене и разливаться в умеренных количествах»[1126].
Но, видимо, это не возымело должного действия и особо не сократило незаконный оборот алкоголя, так как спустя несколько лет, 11 июля 1642 года, государственный совет в назначении наказаний за драки в тавернах последовал примеру Генеральных штатов. В преамбуле к закону в мрачных тонах была обрисована сложившаяся ситуация: «Каждый день мы в избытке слышим о несчастных случаях, по большей части вызванных ссорами, выхваченными ножами и драками, а также множеством таверн и дешёвых баров. Никто не может использовать нож, а тем более наносить ранения другому лицу под угрозой штрафа в 50 гульденов или каторжных работ в цепях с неграми»[1127].
Судя по дошедшим до нас документам, поединки на ножах были типичным явлением для всех голландских поселений. Так, например, упоминания о подобных дуэлях нередко встречаются в судебных делах Форта Нассау, предшественника современного городка Олбани. Согласно архивным записям, во время случавшихся там поединков на ножах человека признавали виновным в умышленном убийство только в том случае, если смерть наступала в результате колющего удара ножом. Но если же речь шла лишь о порезах, то всё ограничивалось обвинением в убийстве по неосторожности[1128]. Легендарный губернатор Петер Стайвесант, правивший Новыми Нидерландами с 1647 года, за участие в поединках на ножах обычно приговаривал дуэлянтов к шести месяцам тюрьмы[1129].
В это же время на другом континенте, в далёкой Африке, появилась ещё одна голландская колония. В 1652 году мореплаватель Ян ван Рибек под патронажем Голландской Ост-Индской компании, в Столовой бухте, вблизи от мыса Доброй Надежды, основал Капскую колонию. Столицей её стал город Капстад, позже переименованный в Кейптаун[1130]. К сожалению, единственным свидетельством о дуэлях на ножах в этой голландской колонии, которое мне удалось найти, стала гравюра известного датского художника XVIII столетия Йоханнеса Рача, являющаяся одной из иллюстраций к известному Атласу ван Столка. На этой гравюре с видом Кейптауна, датированной 1762 годом, на переднем плане мы видим дуэль на ножах с участием двух голландцев. Один из дуэлянтов, одетый как матрос, высоко поднятой в типично испанской манере рукой защищает лицо и голову, в то время как его противник левой рукой прикрывает живот и сердце.
Началась эта история пять столетий назад, в XVII веке, когда высадившиеся на побережье Северной Америки голландские переселенцы основали на континенте колонии — Новые Нидерланды и Новый Амстердам. Как и в любой эмиграции, первыми к берегам земли Обетованной прибыли пассионарии. Вместе со своими фарфоровыми курительными трубками, кафтанами, чулками, башмаками с пряжками и войлочными шляпами они привезли на берега Гудзона голландскую манеру пить без меры и модную в то время в Голландии традицию поединков на ножах.
Правительство голландских поселений полностью отдавало себе отчёт в опасности злоупотребления алкоголем и кровавых последствиях этой пагубной привычки и заблаговременно попыталось принять превентивные меры. Так, в 1638 году губернатор Новых Нидерландов Кифт и городской совет постановили: «Ежедневное питьё вызывает множество бед и пороков и потому с этого момента всем лицам запрещается продавать и держать дома какое-либо вино под угрозой штрафа в 25 гульденов, за исключением лавок, где вино может покупаться по справедливой цене и разливаться в умеренных количествах»[1126].
Но, видимо, это не возымело должного действия и особо не сократило незаконный оборот алкоголя, так как спустя несколько лет, 11 июля 1642 года, государственный совет в назначении наказаний за драки в тавернах последовал примеру Генеральных штатов. В преамбуле к закону в мрачных тонах была обрисована сложившаяся ситуация: «Каждый день мы в избытке слышим о несчастных случаях, по большей части вызванных ссорами, выхваченными ножами и драками, а также множеством таверн и дешёвых баров. Никто не может использовать нож, а тем более наносить ранения другому лицу под угрозой штрафа в 50 гульденов или каторжных работ в цепях с неграми»[1127].
Судя по дошедшим до нас документам, поединки на ножах были типичным явлением для всех голландских поселений. Так, например, упоминания о подобных дуэлях нередко встречаются в судебных делах Форта Нассау, предшественника современного городка Олбани. Согласно архивным записям, во время случавшихся там поединков на ножах человека признавали виновным в умышленном убийство только в том случае, если смерть наступала в результате колющего удара ножом. Но если же речь шла лишь о порезах, то всё ограничивалось обвинением в убийстве по неосторожности[1128]. Легендарный губернатор Петер Стайвесант, правивший Новыми Нидерландами с 1647 года, за участие в поединках на ножах обычно приговаривал дуэлянтов к шести месяцам тюрьмы[1129].
В это же время на другом континенте, в далёкой Африке, появилась ещё одна голландская колония. В 1652 году мореплаватель Ян ван Рибек под патронажем Голландской Ост-Индской компании, в Столовой бухте, вблизи от мыса Доброй Надежды, основал Капскую колонию. Столицей её стал город Капстад, позже переименованный в Кейптаун[1130]. К сожалению, единственным свидетельством о дуэлях на ножах в этой голландской колонии, которое мне удалось найти, стала гравюра известного датского художника XVIII столетия Йоханнеса Рача, являющаяся одной из иллюстраций к известному Атласу ван Столка. На этой гравюре с видом Кейптауна, датированной 1762 годом, на переднем плане мы видим дуэль на ножах с участием двух голландцев. Один из дуэлянтов, одетый как матрос, высоко поднятой в типично испанской манере рукой защищает лицо и голову, в то время как его противник левой рукой прикрывает живот и сердце.
 Рис. 1. Вид Кейптауна. Иоханнес Рах. 1762 г. (Атлас ван Стояка).
Рис. 1. Вид Кейптауна. Иоханнес Рах. 1762 г. (Атлас ван Стояка).
 Рис. 2. Концентрационный лагерь Сан Маурицио Канавезе, в котором содержали солдат армии Королевства Обеих Сицилий, отказавшихся принести присягу королю Виктору Эммануилу, 1860-е.
Рис. 2. Концентрационный лагерь Сан Маурицио Канавезе, в котором содержали солдат армии Королевства Обеих Сицилий, отказавшихся принести присягу королю Виктору Эммануилу, 1860-е.
 Рис. 3. Концентрационный лагерь Сан Маурицио Канавезе.
А вскоре Пьемонт предпринял следующий шаг, и в августе 1863 года был принят закон номер 1409, известный благодаря инициировавшему его политику Джузеппе Пика как «Legge Pica». Закон этот позволял создание военных трибуналов в тех провинциях, которые, согласно королевскому указу, были отнесены к «in stato di brigantaggio» — «бандитским режимам». Военные трибуналы, назначаемые генералами, командовавшими различными зонами, состояли из президента трибунала в звании полковника или подполковника, пяти судей — двух высших офицеров и трёх капитанов — и четырёх секретарей. Уже через несколько дней после принятия «Legge Pica» практически весь юг был объявлен «бандитской территорией»[1139]. В наши дни это, очевидно, назвали бы «введением режима контртеррористической операции». Придание югу статуса «главного террориста» развязало правительству руки и облекло геноцид в легитимную форму. Эти трибуналы, ранее использовавшиеся исключительно для рассмотрения преступлений, совершённых военнослужащими, получили дополнительные полномочия, и военный министр, Алессандро Делла Ровере, создал ещё восемь трибуналов к уже имеющимся четырём. Предоставление солдатам права расстреливать любого «разбойника», пойманного с оружием, и приводить в местные советы всех подозреваемых стало причиной концентрации чрезмерной власти в руках военных и ограничения личных свобод значительной части итальянцев. Как следствие, новорожденное Королевство Италия стало для многих крестьян символом военной диктатуры. В 1863 году 2901 крестьянин предстал перед судом, и 261 из них были приговорены к смерти или длительным тюремным срокам. В 1864 перед судом предстали уже 4523 человека, и было вынесено 822 приговора, а в 1865 году 3242 задержанным было вынесено 1035 обвинительных приговоров[1140].
Рис. 3. Концентрационный лагерь Сан Маурицио Канавезе.
А вскоре Пьемонт предпринял следующий шаг, и в августе 1863 года был принят закон номер 1409, известный благодаря инициировавшему его политику Джузеппе Пика как «Legge Pica». Закон этот позволял создание военных трибуналов в тех провинциях, которые, согласно королевскому указу, были отнесены к «in stato di brigantaggio» — «бандитским режимам». Военные трибуналы, назначаемые генералами, командовавшими различными зонами, состояли из президента трибунала в звании полковника или подполковника, пяти судей — двух высших офицеров и трёх капитанов — и четырёх секретарей. Уже через несколько дней после принятия «Legge Pica» практически весь юг был объявлен «бандитской территорией»[1139]. В наши дни это, очевидно, назвали бы «введением режима контртеррористической операции». Придание югу статуса «главного террориста» развязало правительству руки и облекло геноцид в легитимную форму. Эти трибуналы, ранее использовавшиеся исключительно для рассмотрения преступлений, совершённых военнослужащими, получили дополнительные полномочия, и военный министр, Алессандро Делла Ровере, создал ещё восемь трибуналов к уже имеющимся четырём. Предоставление солдатам права расстреливать любого «разбойника», пойманного с оружием, и приводить в местные советы всех подозреваемых стало причиной концентрации чрезмерной власти в руках военных и ограничения личных свобод значительной части итальянцев. Как следствие, новорожденное Королевство Италия стало для многих крестьян символом военной диктатуры. В 1863 году 2901 крестьянин предстал перед судом, и 261 из них были приговорены к смерти или длительным тюремным срокам. В 1864 перед судом предстали уже 4523 человека, и было вынесено 822 приговора, а в 1865 году 3242 задержанным было вынесено 1035 обвинительных приговоров[1140].
 Рис. 4. Расстрел бригантов, 1860-е.
Рис. 4. Расстрел бригантов, 1860-е.
 Рис. 5. Сицилийский бригант Николо Аккорси, конец 1870-х.
Рис. 5. Сицилийский бригант Николо Аккорси, конец 1870-х.
 ◄ Рис. 6. Легендарная бригантесса (разбойница) Микелина де Чезаре (1841–1868).
◄ Рис. 6. Легендарная бригантесса (разбойница) Микелина де Чезаре (1841–1868).
 Рис. 7. Карабинеры ведут бригантов.
Рис. 7. Карабинеры ведут бригантов.
 Рис. 8. Охотничья команда позирует у тела застреленного бриганта из Оргозоло Джузеппе Лоддо (Ловику). Нуоро, Сардиния, 1899 г.
Рис. 8. Охотничья команда позирует у тела застреленного бриганта из Оргозоло Джузеппе Лоддо (Ловику). Нуоро, Сардиния, 1899 г.
 Рис. 9. Печально известный «Legge pica», или закон против бригантажа № 1409, от 15 августа 1863 г.
Рис. 9. Печально известный «Legge pica», или закон против бригантажа № 1409, от 15 августа 1863 г.
 Рис. 10. Премия выписанная префектом калабрийскогогорода Катандзаро, за головы членов банды Сейнарди 17 ноября 1876 г.
Рис. 10. Премия выписанная префектом калабрийскогогорода Катандзаро, за головы членов банды Сейнарди 17 ноября 1876 г.
 Рис. 11. Берсальер позирует с убитым бригантом. Сентябрь 1863 г.
Рис. 11. Берсальер позирует с убитым бригантом. Сентябрь 1863 г.
 Рис. 12. Охотничья команда, переодетая в горцев, в составе бригадира Суласа, и карабинеров Руи и Порку. Нуоро, Сардиния, 1899 г.
Рис. 12. Охотничья команда, переодетая в горцев, в составе бригадира Суласа, и карабинеров Руи и Порку. Нуоро, Сардиния, 1899 г.
 Рис. 14. Италия изгоняет бригантов. 18 июля, 1861 г.
Рис. 14. Италия изгоняет бригантов. 18 июля, 1861 г.
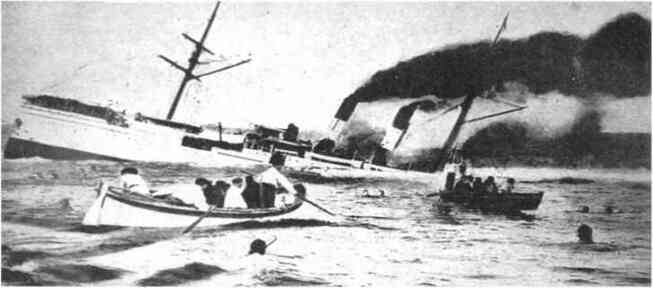 Рис. 15. Катастрофа Сирио, 4 августа 1906 г.
Рис. 15. Катастрофа Сирио, 4 августа 1906 г.
 Рис. 16. Итальянские эмигранты в порту Неаполя, 1903 г.
Рис. 16. Итальянские эмигранты в порту Неаполя, 1903 г.
 Рис. 17. Район Маленькая Италия, Нью-Йорк, 1900-е.
Рис. 17. Район Маленькая Италия, Нью-Йорк, 1900-е.
 Рис. 18. Итальянские торговцы фруктами, 1900-е.
Рис. 18. Итальянские торговцы фруктами, 1900-е.
 Рис. 19. Дэвид Хеннеси, шеф полиции Нового Орлеана (1858–1890).
Рис. 19. Дэвид Хеннеси, шеф полиции Нового Орлеана (1858–1890).
 Рис. 20. Мафиози Джузеппе Эспозито.
Рис. 20. Мафиози Джузеппе Эспозито.
 Рис. 22. Толпа атакует окружную тюрьму Нового Орлеана, в которой содержатся сицилийцы, 14 марта 1891 г.
Рис. 22. Толпа атакует окружную тюрьму Нового Орлеана, в которой содержатся сицилийцы, 14 марта 1891 г.
 Рис. 21. Торговцы фруктами. Маленькая Италия, Нью-Йорк, 1900-е.
Рис. 21. Торговцы фруктами. Маленькая Италия, Нью-Йорк, 1900-е.
 Рис. 23. Детектив Дж. Петросино (слева), инспектор Кэри и инспектор МакКэферти сопровождают убийцу мафии (второй слева) Петто Быка (Томазо Петто), 1903 г.
Рис. 23. Детектив Дж. Петросино (слева), инспектор Кэри и инспектор МакКэферти сопровождают убийцу мафии (второй слева) Петто Быка (Томазо Петто), 1903 г.
 Рис. 24. Праздник в Маленькой Италии. Нью-Йорк, около 1912 г.
Рис. 24. Праздник в Маленькой Италии. Нью-Йорк, около 1912 г.
 Рис. 25. Итальянские эмигранты учат английский в Хартфорде, Коннектикут, 1900-е.
Рис. 25. Итальянские эмигранты учат английский в Хартфорде, Коннектикут, 1900-е.
 Рис. 26. Дуэль на кинжалах. Перси Маккуард, 1895 г.
Рис. 26. Дуэль на кинжалах. Перси Маккуард, 1895 г.
 Рис. 27. Школа бокса. Лондон, 1788 г.
Рис. 27. Школа бокса. Лондон, 1788 г.

 На протяжении многовековой истории народных дуэлей ужесточение законодательства и другие суровые меры, предпринимаемые правительствами для обезоруживания своих строптивых граждан, предпочитавших решать дела чести, скрещивая ножи в поединках, порождали диковинные и экзотические образцы дуэльного оружия и новые, не менее удивительные типы дуэлей, порой принимавшие самые причудливые формы. Так, одним из самых необычных видов дуэльного оружия, вызванного к жизни неутомимой фантазией мексиканских блюстителей чести конца XIX — начала XX столетия, стали «кучийос де запатерос», или «чаветас», — сапожные ножи, служившие для подрезания краёв кожи при изготовлении обуви. У них было короткое мощное лезвие, формой напоминающее полумесяц или ноготь, и короткая рукоятка, прятавшаяся в ладони. Специфическая форма «чаветас» предполагала скорее режущие, чем колющие удары[1232].
Так как эти ножи представляли собой самый заурядный и широко распространённый рабочий инструмент, их без проблем можно было приобрести в любой жестяной лавке, а кроме того, задержанный всегда мог сослаться на необходимость ношения «чаветы» для использования в ремесле. Возможно, именно этим и объясняется такое непропорциональное количество сапожников среди обвиняемых в поножовщинах. В Мехико-сити, в тюрьме Белем, где немало заключённых трудилось в качестве сапожников, именно этот тип ножа держал пальму первенства в драках и даже в самоубийствах[1233].
Другое, не менее причудливое дуэльное оружие было в ходу у голландских крестьян XIX столетия и представляло собой самую заурядную монету, известную как «дуббелтье». Дуббелтье изготавливались из сплава латуни и серебра и внешне напоминали старые английские шиллинги и шестипенсовики. Гладкие края этой мелкой монетки, равной двум стиверам, или десяти центам, были остры, как у ножа, и благодаря этому своему качеству, дуббелтье частенько использовались в поединках в качестве оружия. Голландские дуэлянты зажимали эту монету между костяшками пальцев и резали ею лица противников[1234].
На протяжении многовековой истории народных дуэлей ужесточение законодательства и другие суровые меры, предпринимаемые правительствами для обезоруживания своих строптивых граждан, предпочитавших решать дела чести, скрещивая ножи в поединках, порождали диковинные и экзотические образцы дуэльного оружия и новые, не менее удивительные типы дуэлей, порой принимавшие самые причудливые формы. Так, одним из самых необычных видов дуэльного оружия, вызванного к жизни неутомимой фантазией мексиканских блюстителей чести конца XIX — начала XX столетия, стали «кучийос де запатерос», или «чаветас», — сапожные ножи, служившие для подрезания краёв кожи при изготовлении обуви. У них было короткое мощное лезвие, формой напоминающее полумесяц или ноготь, и короткая рукоятка, прятавшаяся в ладони. Специфическая форма «чаветас» предполагала скорее режущие, чем колющие удары[1232].
Так как эти ножи представляли собой самый заурядный и широко распространённый рабочий инструмент, их без проблем можно было приобрести в любой жестяной лавке, а кроме того, задержанный всегда мог сослаться на необходимость ношения «чаветы» для использования в ремесле. Возможно, именно этим и объясняется такое непропорциональное количество сапожников среди обвиняемых в поножовщинах. В Мехико-сити, в тюрьме Белем, где немало заключённых трудилось в качестве сапожников, именно этот тип ножа держал пальму первенства в драках и даже в самоубийствах[1233].
Другое, не менее причудливое дуэльное оружие было в ходу у голландских крестьян XIX столетия и представляло собой самую заурядную монету, известную как «дуббелтье». Дуббелтье изготавливались из сплава латуни и серебра и внешне напоминали старые английские шиллинги и шестипенсовики. Гладкие края этой мелкой монетки, равной двум стиверам, или десяти центам, были остры, как у ножа, и благодаря этому своему качеству, дуббелтье частенько использовались в поединках в качестве оружия. Голландские дуэлянты зажимали эту монету между костяшками пальцев и резали ею лица противников[1234].
 Рис. 1. Дуэль каменщика и скульптора. Йост Амман, 1588 г.
Рис. 1. Дуэль каменщика и скульптора. Йост Амман, 1588 г.

 Рис. 4. Американская парикмахерская в Ричмонде. Айра Кроу, 1861 г.
Рис. 4. Американская парикмахерская в Ричмонде. Айра Кроу, 1861 г.
 Рис. 5. Рабы с ножами, 1861 г.
Рис. 5. Рабы с ножами, 1861 г.
 Джеймс (Джим] Боуи (1796–1836).
Джеймс (Джим] Боуи (1796–1836).
 Нож подаренный Джимом Боуи известному актёру Эдвину Форресту. Общая длина 43 см, 1820-е.
Нож подаренный Джимом Боуи известному актёру Эдвину Форресту. Общая длина 43 см, 1820-е.
 «Арканзаская зубочистка». Общая длина 41 см, вторая половина XIX в.
«Арканзаская зубочистка». Общая длина 41 см, вторая половина XIX в.

 Мексиканские боевые ножи.
Общая длина от 27 до 33 см, начало XX в. (© Hermann Historica).
Мексиканские боевые ножи.
Общая длина от 27 до 33 см, начало XX в. (© Hermann Historica).
 Дуэль на ножах, или, Поясная дуэль (Baltesspannarna). Йохан Петер Молин, 1859 г. (фрагмент).
Дуэль на ножах, или, Поясная дуэль (Baltesspannarna). Йохан Петер Молин, 1859 г. (фрагмент).
 Дуэль на ножах, или, Поясная дуэль (Baltesspannarna). Йохан Петер Молин, 1859 г. (© Bengt Oberger).
Дуэль на ножах, или, Поясная дуэль (Baltesspannarna). Йохан Петер Молин, 1859 г. (© Bengt Oberger).
 Легендарное оружие ножевых бойцов Похьянмаа — Хярмян пуукко. Обшая длина 150 и 215 мм. (© А. Мак].
Легендарное оружие ножевых бойцов Похьянмаа — Хярмян пуукко. Обшая длина 150 и 215 мм. (© А. Мак].
 Дуэль на ножах на острове Закинф. Lettres sur la Morée et les îles de Cerigo, Hydra et Zante, Антуан-Лоран Кастеллан, 1808 r.
Дуэль на ножах на острове Закинф. Lettres sur la Morée et les îles de Cerigo, Hydra et Zante, Антуан-Лоран Кастеллан, 1808 r.
 Житель Корфу. За поясом виден генуэзский нож. Жак Грассе де Сен-Совер, 1788 г
Житель Корфу. За поясом виден генуэзский нож. Жак Грассе де Сен-Совер, 1788 г
 Горец-сулиот с Корфу. Луи Дюпре, около 1810–1820 rr.
Горец-сулиот с Корфу. Луи Дюпре, около 1810–1820 rr.
 Дуэль апашей Лека и Пленьера за сердце Амели Эли (постановочная фотография), начало XX в.
Дуэль апашей Лека и Пленьера за сердце Амели Эли (постановочная фотография), начало XX в.
 Апаши, чума Парижа. Le Petit Journal, 20 октября 1907 г.(© J-E Lalliard).
Апаши, чума Парижа. Le Petit Journal, 20 октября 1907 г.(© J-E Lalliard).
 Оружие апашей, 1905 г.
Оружие апашей, 1905 г.
 Дуэль Гюстава Уаю и Альфреда Лиссе. Le Petit Journal L'Illustre, июль 1933 г. (© J-F. Lalliard)
Дуэль Гюстава Уаю и Альфреда Лиссе. Le Petit Journal L'Illustre, июль 1933 г. (© J-F. Lalliard)
 Эмигранты с ножами прорываются к лодкам. «Крушение Сирио». Le Petit Journal, 19 августа 1906 г.
Эмигранты с ножами прорываются к лодкам. «Крушение Сирио». Le Petit Journal, 19 августа 1906 г.
 Лубочное изображение бригантов в национальных костюмах, 1860-е.
Лубочное изображение бригантов в национальных костюмах, 1860-е.
 Бой Даниэля Мендозы и Ричарда Хэмфриса. Хэмпшир, 9 января 1788 г.
Бой Даниэля Мендозы и Ричарда Хэмфриса. Хэмпшир, 9 января 1788 г.
 «Папские войска застали бригантов врасплох». Эмиль Жан Орас Верне, 1831 г.
«Папские войска застали бригантов врасплох». Эмиль Жан Орас Верне, 1831 г.
 «Сражающиеся негры». Аугустус Эрл, 1822 г.
«Сражающиеся негры». Аугустус Эрл, 1822 г.
 «Бой на бритвах». Джулиан Бинфорд, 1941 г.
«Бой на бритвах». Джулиан Бинфорд, 1941 г.
 Капоэйристов отправляют на порку. Фредерико Гильерме Бриггс, около 1832 г.
Капоэйристов отправляют на порку. Фредерико Гильерме Бриггс, около 1832 г.

 «Не пытайся меня надуть, эта чёрная девчонка моя!». Ноты, 1897 г.
«Не пытайся меня надуть, эта чёрная девчонка моя!». Ноты, 1897 г.
 Дуэль «енотов» на бритвах. The Chicago Record-Herald, 7 декабря 1902 г.
Дуэль «енотов» на бритвах. The Chicago Record-Herald, 7 декабря 1902 г.

 «Летите, дрозды, летите». Ноты, 1897 г.
«Прощай, милый, я ухожу от тебя». И у женщины и у ребёнка в карманах опасные бритвы. Ноты, 1885 г.
«Летите, дрозды, летите». Ноты, 1897 г.
«Прощай, милый, я ухожу от тебя». И у женщины и у ребёнка в карманах опасные бритвы. Ноты, 1885 г.
 Каталина де Эраусо. Франциско Пачеко, 1630 г.
Каталина де Эраусо. Франциско Пачеко, 1630 г.
 Критская женщина из Кносса со свадебным ножом за поясом, XX в.
Критская женщина из Кносса со свадебным ножом за поясом, XX в.
 Ломбардская сперада, 1901 г.
Ломбардская сперада, 1901 г.
 Наваха за подвязкой. «La Copla», Хулио Ромеро де Торрес, 1927 г.
Наваха за подвязкой. «La Copla», Хулио Ромеро де Торрес, 1927 г.
 Coltello dell’Amore (нож любви), общая длина 8 см. (© Consigli).
Coltello dell’Amore (нож любви), общая длина 8 см. (© Consigli).


 Coltello dell’Amore (нож любви), общая длина 22 см. (© Consigli).
Coltello dell’Amore (нож любви), общая длина 22 см. (© Consigli).
 Garter knives — ножи американских проституток и фото их владелиц, конец XIX в.
Garter knives — ножи американских проституток и фото их владелиц, конец XIX в.
 Моряки дерутся в таверне, XIX в.
Моряки дерутся в таверне, XIX в.
 Моряки дерутся на ножах недалеко от Байонны. Cassell's history of England, 1909 г.
Моряки дерутся на ножах недалеко от Байонны. Cassell's history of England, 1909 г.
 Рис. 6. Парикмахерская в Иллинойсе, 1920 г.
Рис. 6. Парикмахерская в Иллинойсе, 1920 г.
 Рис. 7. «Енот, у которого была бритва». Обложка нотной тетради, 1885 г.
Рис. 7. «Енот, у которого была бритва». Обложка нотной тетради, 1885 г.
 Рис. 8. «Преступное фаду». Театральная афишка, нач. XX в.
Рис. 8. «Преступное фаду». Театральная афишка, нач. XX в.
 Рис. 9. Негр с ножом. Георг Лёвенштерн, Рио де Жанейро, 1827 г
Рис. 9. Негр с ножом. Георг Лёвенштерн, Рио де Жанейро, 1827 г
 Рис. 10. Местре Бимба (Мануэль душ Рейш Машаду, 1900–1974).
Рис. 10. Местре Бимба (Мануэль душ Рейш Машаду, 1900–1974).
 Рис. 11. Загадочная бритва-сабля из замка Зигмаринген. The Book of the Sword, Ричард Ф. Бёртон, 1884 г.
Рис. 11. Загадочная бритва-сабля из замка Зигмаринген. The Book of the Sword, Ричард Ф. Бёртон, 1884 г.
 Рис. 12. Дагомейская бритва. The Uncivilized Races, or Natural History of Man, Джон Дж. Вуд, 1870 г.
Рис. 12. Дагомейская бритва. The Uncivilized Races, or Natural History of Man, Джон Дж. Вуд, 1870 г.
 Рис. 13. Лампарина. Каликсто Кордейро, Cosmos, 1906 г.
Рис. 14. Ричард Ф. Бёртон, (1821–1890).
Рис. 13. Лампарина. Каликсто Кордейро, Cosmos, 1906 г.
Рис. 14. Ричард Ф. Бёртон, (1821–1890).

 Рис. 15. Фадист, карикатура. Альберто Пиментель, 1904 г.
Рис. 16. «Фаду с навахой за подвязкой». Театральная программка нач. XX в.
Рис. 15. Фадист, карикатура. Альберто Пиментель, 1904 г.
Рис. 16. «Фаду с навахой за подвязкой». Театральная программка нач. XX в.

 Среди множества ритуалов, типичных для культуры народных дуэлей, один стоит особняком — шрамирование. Эта традиция встречается во многих мировых культурах в разнообразных формах и ипостасях и во все эпохи, вероятно, начиная с неолита. В зависимости от культурной интерпретации и символической нагрузки этот ритуал мог рассматриваться как знак доблести или унижения и как символ причастности к какой-либо социальной группе, сообществу, конфессии или этносу — как своеобразная тамга, оберег и в сотне других трактовок и толкований. Так, например, порезы лица как часть обряда оплакивания описывает греческий автор Менандр. Когда в 576 году византийские послы присутствовали при оплакивании Дизабула, главы Западного тюркского каганата, то Турксанф, «гегемон» тюрков, предложил послам порезать себе щёки в знак траура, «чтобы кровью, а не слезами почтить память погибшего воина»[1281]. В наши дни этот архаичный обряд, известный в определённых субкультурах как «скарификация», переживает ренессанс.
Ещё в античности во многих обществах и культурах голова и лицо несли важную сакральную нагрузку и являлись одними из символов мужской чести. Так, например, одним из самых тяжёлых оскорблений для мужчины считалось оттаскать его за бороду[1282]. Законодательства многих стран и разных эпох определяя компенсацию за ранение, увеличивали сумму виры при нанесении ущерба внешности. Ещё Платон предлагал ввести за нанесение раны, обезобразившей лицо, такую же компенсацию, как за неизлечимое ранение[1283]. Не обошли обезображивание вниманием и ранние европейские судебники. Ломбардские законы устанавливали для ранений лица такую же виру, как за усечение конечностей. А в законах Бургундии компенсация за повреждение лица была в три раза выше, чем за ранение любой другой части тела[1284]. Аналогичные наказания были предусмотрены и судебниками других стран. Например, в датирующихся XIII веком Ливонских правдах вира за рану на лиц£ составляла шесть марок, при том что ранения на теле оценивались всего в три марки. Что характерно, даже синяк под глазом обходился обидчику в те же шесть марок, то есть дороже, чем тяжкое ранение в любую другую часть тела[1285].
Шрамирование лица в народных дуэльных культурах относилось к так называемым негативным ритуалам, которые в первую очередь подразумевали унижение противника. Традицию ритуального шрамирования мы находим во многих народных дуэльных культурах Нового времени. Так, например, свидетельство о существовании подобного ритуала мы встречаем в 1614 году у Сервантеса в новелле «Ринконете и Кортадильо», рассказывающей об организованном преступном сообществе Севильи XVII столетия:
«В это время показался Чикизнаке, и Мониподьо справился у него, покончено ли с заказанной ему раной в четырнадцать стежков.
«Какой раной? — переспросил Чикизнаке. — Не тому ли купцу, что живет на перекрестке?»
— «Да-да, ему», — подтвердил кавальеро.
«Дело обстоит следующим образом, — отвечал Чикизнаке. — Вчера вечером я поджидал купца у дверей его дома; он пришел еще до молитвы. Подхожу, прикинул глазом лицо, и оказалось, что оно очень маленькое; совершенно невозможно было уместить рану в четырнадцать стежков; и вот, будучи не в состоянии сдержать свое обещание и выполнить данную мне деструкцию, я…» «Ваша милость, вероятно, хотели сказать, инструкцию», — поправил кавальеро. «Совершенно верно, — согласился Чикизнаке. — Увидев, что на таком непоместительном и крошечном личике никак не уложить намеченное число стежков, не желая терять время даром, я нанес одному из слуг этого купца такую рану, что, по совести сказать, первый сорт!» «Семь стежков раны хозяина, — сказал кавальеро, — я всегда предпочту четырнадцатистежковой ране его слуги. Одним словом, вы не сделали того, что было нужно. Впрочем, что тут разговаривать — не такой уж большой расход те тридцать эскудо, которые я вам дал в задаток. Имею честь кланяться, государи мои!»[1286].
Среди множества ритуалов, типичных для культуры народных дуэлей, один стоит особняком — шрамирование. Эта традиция встречается во многих мировых культурах в разнообразных формах и ипостасях и во все эпохи, вероятно, начиная с неолита. В зависимости от культурной интерпретации и символической нагрузки этот ритуал мог рассматриваться как знак доблести или унижения и как символ причастности к какой-либо социальной группе, сообществу, конфессии или этносу — как своеобразная тамга, оберег и в сотне других трактовок и толкований. Так, например, порезы лица как часть обряда оплакивания описывает греческий автор Менандр. Когда в 576 году византийские послы присутствовали при оплакивании Дизабула, главы Западного тюркского каганата, то Турксанф, «гегемон» тюрков, предложил послам порезать себе щёки в знак траура, «чтобы кровью, а не слезами почтить память погибшего воина»[1281]. В наши дни этот архаичный обряд, известный в определённых субкультурах как «скарификация», переживает ренессанс.
Ещё в античности во многих обществах и культурах голова и лицо несли важную сакральную нагрузку и являлись одними из символов мужской чести. Так, например, одним из самых тяжёлых оскорблений для мужчины считалось оттаскать его за бороду[1282]. Законодательства многих стран и разных эпох определяя компенсацию за ранение, увеличивали сумму виры при нанесении ущерба внешности. Ещё Платон предлагал ввести за нанесение раны, обезобразившей лицо, такую же компенсацию, как за неизлечимое ранение[1283]. Не обошли обезображивание вниманием и ранние европейские судебники. Ломбардские законы устанавливали для ранений лица такую же виру, как за усечение конечностей. А в законах Бургундии компенсация за повреждение лица была в три раза выше, чем за ранение любой другой части тела[1284]. Аналогичные наказания были предусмотрены и судебниками других стран. Например, в датирующихся XIII веком Ливонских правдах вира за рану на лиц£ составляла шесть марок, при том что ранения на теле оценивались всего в три марки. Что характерно, даже синяк под глазом обходился обидчику в те же шесть марок, то есть дороже, чем тяжкое ранение в любую другую часть тела[1285].
Шрамирование лица в народных дуэльных культурах относилось к так называемым негативным ритуалам, которые в первую очередь подразумевали унижение противника. Традицию ритуального шрамирования мы находим во многих народных дуэльных культурах Нового времени. Так, например, свидетельство о существовании подобного ритуала мы встречаем в 1614 году у Сервантеса в новелле «Ринконете и Кортадильо», рассказывающей об организованном преступном сообществе Севильи XVII столетия:
«В это время показался Чикизнаке, и Мониподьо справился у него, покончено ли с заказанной ему раной в четырнадцать стежков.
«Какой раной? — переспросил Чикизнаке. — Не тому ли купцу, что живет на перекрестке?»
— «Да-да, ему», — подтвердил кавальеро.
«Дело обстоит следующим образом, — отвечал Чикизнаке. — Вчера вечером я поджидал купца у дверей его дома; он пришел еще до молитвы. Подхожу, прикинул глазом лицо, и оказалось, что оно очень маленькое; совершенно невозможно было уместить рану в четырнадцать стежков; и вот, будучи не в состоянии сдержать свое обещание и выполнить данную мне деструкцию, я…» «Ваша милость, вероятно, хотели сказать, инструкцию», — поправил кавальеро. «Совершенно верно, — согласился Чикизнаке. — Увидев, что на таком непоместительном и крошечном личике никак не уложить намеченное число стежков, не желая терять время даром, я нанес одному из слуг этого купца такую рану, что, по совести сказать, первый сорт!» «Семь стежков раны хозяина, — сказал кавальеро, — я всегда предпочту четырнадцатистежковой ране его слуги. Одним словом, вы не сделали того, что было нужно. Впрочем, что тут разговаривать — не такой уж большой расход те тридцать эскудо, которые я вам дал в задаток. Имею честь кланяться, государи мои!»[1286].
 Рис. 1. Испанская шебека. Жан Бужон, 1826 г.
Рис. 1. Испанская шебека. Жан Бужон, 1826 г.
 Рис. 2. Проститутке распарывают лицо ножом. La vita infelice della meretrice (Несчастная жизнь блудницы). Джузеппе Мария Мителли. 1692 г.
Рис. 2. Проститутке распарывают лицо ножом. La vita infelice della meretrice (Несчастная жизнь блудницы). Джузеппе Мария Мителли. 1692 г.
 Рис. 3. Сфреджиати. L'uomo Delinquente. Чезаре Ломброзо, Турин, 1897 г.
Рис. 3. Сфреджиати. L'uomo Delinquente. Чезаре Ломброзо, Турин, 1897 г.
 Рис. 4. Надгробие Франческо 'Чиччо' Скарпелли [Фред Скотти).
Рис. 4. Надгробие Франческо 'Чиччо' Скарпелли [Фред Скотти).
 Рис. 5. Различные типы сфреджо. Usi е costumi dei camorristi. Абель де Блазио, 1897 г.
Рис. 5. Различные типы сфреджо. Usi е costumi dei camorristi. Абель де Блазио, 1897 г.
 Рис. 6. Шрамы от ножа на лице гаучо.
Рис. 7. Чарли Лучано (1817–1962).
Рис. 8. Улпьфонс Габриэль Капоне (1899–1947).
Рис. 6. Шрамы от ножа на лице гаучо.
Рис. 7. Чарли Лучано (1817–1962).
Рис. 8. Улпьфонс Габриэль Капоне (1899–1947).
 Рис. 9. Мензурные ранения.
Рис. 10. Осмотр ранений после мензура. «Beim flicken». Кристиан Вильгельм Аллерс, 1902 г.
Рис. 9. Мензурные ранения.
Рис. 10. Осмотр ранений после мензура. «Beim flicken». Кристиан Вильгельм Аллерс, 1902 г.
 Рис. 11. Уильям (Билли) Чарльз Хилл (1911–1984). Фото 1952 г.
Рис. 11. Уильям (Билли) Чарльз Хилл (1911–1984). Фото 1952 г.
 Рис. 12. Мензурные ранения.
Рис. 12. Мензурные ранения.
 Рис. 13. Студенты после мензура.
Рис. 13. Студенты после мензура.
 Рис. 14. Немецкие студенты с мензурными ранениями на лице — большая часть ударов приходилась в левую сторону, 1903 г.
Рис. 15. Генерал Эрнст Кальтенбруннер на Нюрнбергском процессе. На лице хорошо видны мензурные шрамы, полученные на студенческих дуэлях.
Рис. 14. Немецкие студенты с мензурными ранениями на лице — большая часть ударов приходилась в левую сторону, 1903 г.
Рис. 15. Генерал Эрнст Кальтенбруннер на Нюрнбергском процессе. На лице хорошо видны мензурные шрамы, полученные на студенческих дуэлях.

 В 90-е годы минувшего столетия синтез трёх основных факторов — голливудской киноиндустрии, субкультуры комиксов и феминистического движения — породил новый экранный женский образ. Яркими представителями этого амплуа стали, например, девушка-киллер из культового фильма Люка Бессона «Никита» или школьница-убийца Того Юбари из другой знаковой ленты — «Убить Билла» — хрупкие, большеглазые, затянутые в школьную форму или в коктейльные платья. Но ни субтильное сложение, ни высокие каблуки, ни маникюр совершенно не мешали экранным феям одним ударом хладнокровно отправлять в нокаут сотни злодеев-мужчин с комплекцией борцов сумо. Другими представительницами нового тренда стали персонажи из популярного в своё время сериала «Ксена, принцесса-воин» о похождениях угрюмой мужеподобной воительницы с телом тренера по бодибилдингу Также можно вспомнить культовый в определённых кругах фильм «Солдат Джейн», где коротко стриженная тестостероновая героиня Деми Мур, обутая в армейские ботинки и затянутая в камуфляжную форму, поигрывая бицепсами, демонстрировала своё мужское начало восторженно застывшим у экранов поклонницам. Эмпирический опыт, элементарная логика и здравый смысл подсказывали большинству зрительниц, что все эти героические деяния являются не более чем вымыслом сценаристов и популярным клише. Но, тем не менее, не одна доверчивая домохозяйка из числа поклонниц жанра, принявших эпические подвиги экранных героинь за чистую монету, пала жертвой искренней веры в собственную неуязвимость и всесилие. Результатом рухнувших при столкновении с жестокой реальностью иллюзий кроме разочарования становились солнечные очки, прикрывавшие под глазом радужные следы неудачной борьбы с мировым злом, и больничные койки.
Увы, но тургеневская девушка с томиком Вольтера в одной руке и шпагой в другой, хладнокровно стряхивающая с клинка соперника-мужчину, — это не более чем миф. Любимый, тщательно оберегаемый и культивируемый, но всего лишь миф. Приходится признать, что большинство романтических историй о грозных дуэлянтках, наводивших ужас на мужчин, не имеют под собой реальной основы. В действительности прецеденты, в которых изящная дама в кружевах в открытом и честном бою нанизывала на шпагу оскорбителя-мужчину, легко пересчитать по пальцам.
Взглянем на нашумевшие дамские «point d'honneur» — дела чести. Например, можно вспомнить один из первых в истории Европы женских поединков, когда в 1650 году неподалёку от Бордо на дуэли сошлись две сестры из знатного гасконского рода[1343], или бой за сердце Ришелье между графиней де Полиньяк и маркизой де Несль в 1721 году[1344]. Можно упомянуть и не менее известный поединок между двумя мексиканскими сеньоритами, Мартой Дюран и Хуаной Луной, имевший место в апреле 1900 года[1345]. Но есть один важный нюанс — в этих прославленных поединках, как и во многих других, дамы сражались исключительно с дамами.
В 90-е годы минувшего столетия синтез трёх основных факторов — голливудской киноиндустрии, субкультуры комиксов и феминистического движения — породил новый экранный женский образ. Яркими представителями этого амплуа стали, например, девушка-киллер из культового фильма Люка Бессона «Никита» или школьница-убийца Того Юбари из другой знаковой ленты — «Убить Билла» — хрупкие, большеглазые, затянутые в школьную форму или в коктейльные платья. Но ни субтильное сложение, ни высокие каблуки, ни маникюр совершенно не мешали экранным феям одним ударом хладнокровно отправлять в нокаут сотни злодеев-мужчин с комплекцией борцов сумо. Другими представительницами нового тренда стали персонажи из популярного в своё время сериала «Ксена, принцесса-воин» о похождениях угрюмой мужеподобной воительницы с телом тренера по бодибилдингу Также можно вспомнить культовый в определённых кругах фильм «Солдат Джейн», где коротко стриженная тестостероновая героиня Деми Мур, обутая в армейские ботинки и затянутая в камуфляжную форму, поигрывая бицепсами, демонстрировала своё мужское начало восторженно застывшим у экранов поклонницам. Эмпирический опыт, элементарная логика и здравый смысл подсказывали большинству зрительниц, что все эти героические деяния являются не более чем вымыслом сценаристов и популярным клише. Но, тем не менее, не одна доверчивая домохозяйка из числа поклонниц жанра, принявших эпические подвиги экранных героинь за чистую монету, пала жертвой искренней веры в собственную неуязвимость и всесилие. Результатом рухнувших при столкновении с жестокой реальностью иллюзий кроме разочарования становились солнечные очки, прикрывавшие под глазом радужные следы неудачной борьбы с мировым злом, и больничные койки.
Увы, но тургеневская девушка с томиком Вольтера в одной руке и шпагой в другой, хладнокровно стряхивающая с клинка соперника-мужчину, — это не более чем миф. Любимый, тщательно оберегаемый и культивируемый, но всего лишь миф. Приходится признать, что большинство романтических историй о грозных дуэлянтках, наводивших ужас на мужчин, не имеют под собой реальной основы. В действительности прецеденты, в которых изящная дама в кружевах в открытом и честном бою нанизывала на шпагу оскорбителя-мужчину, легко пересчитать по пальцам.
Взглянем на нашумевшие дамские «point d'honneur» — дела чести. Например, можно вспомнить один из первых в истории Европы женских поединков, когда в 1650 году неподалёку от Бордо на дуэли сошлись две сестры из знатного гасконского рода[1343], или бой за сердце Ришелье между графиней де Полиньяк и маркизой де Несль в 1721 году[1344]. Можно упомянуть и не менее известный поединок между двумя мексиканскими сеньоритами, Мартой Дюран и Хуаной Луной, имевший место в апреле 1900 года[1345]. Но есть один важный нюанс — в этих прославленных поединках, как и во многих других, дамы сражались исключительно с дамами.
 Рис. 1. Каталина де Эраусо (1592–1650).
Рис. 2. Кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова, она же, Александр Александров (1783–1866).
Рис. 1. Каталина де Эраусо (1592–1650).
Рис. 2. Кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова, она же, Александр Александров (1783–1866).
 Рис. 3. Мадемуазель де Бомон, она же, шевалье д'Эон. Лондон, 1777 г.
Рис. 3. Мадемуазель де Бомон, она же, шевалье д'Эон. Лондон, 1777 г.
 Рис. 4. Женщины дерутся за панталоны. Джон Смит, первая половина XVIII века.
Рис. 4. Женщины дерутся за панталоны. Джон Смит, первая половина XVIII века.



 Рис. 5. Свадебные ножи, XVII в. (British Museum, Лондон).
Рис. 5. Свадебные ножи, XVII в. (British Museum, Лондон).
 Рис. 6. Свадебные ножи. Нюрнберг, 1581 г.
Рис. 6. Свадебные ножи. Нюрнберг, 1581 г.
 Рис. 8. Свадебные танцоры. Генрих Альдегревер, 1538 г.
Рис. 8. Свадебные танцоры. Генрих Альдегревер, 1538 г.
 Рис. 9. Молодая критянка со свадебным ножом.
Рис. 9. Молодая критянка со свадебным ножом.
 Рис. 10. Критянка в мужском костюме,
Рис. 10. Критянка в мужском костюме,
 Рис. 11. Креолка из Перу.
Хуан де ла Круз Кано и Ольмедийя, 1778 г.
Рис. 11. Креолка из Перу.
Хуан де ла Круз Кано и Ольмедийя, 1778 г.
 Рис. 12. Лола Монтес (Элизабет Джилберт), 1851 г.
Рис. 12. Лола Монтес (Элизабет Джилберт), 1851 г.
 Рис. 13. Интерьер Севильской табачной фабрики, Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 13. Интерьер Севильской табачной фабрики, Гюстав Доре, 1865 г.
 Рис. 14. Сперада.
Рис. 14. Сперада.
 Рис. 15. Лучия, героиня романа Алессандро Мандзони, «Обручённые». Худ. Франческо Гонин, 1840 г.
Рис. 16. Императрица Мексики Шарлотта Бельгийская (1840–1927), в своей спераде.
Рис. 15. Лучия, героиня романа Алессандро Мандзони, «Обручённые». Худ. Франческо Гонин, 1840 г.
Рис. 16. Императрица Мексики Шарлотта Бельгийская (1840–1927), в своей спераде.
 Рис. 17. Спадини-шпильки для сперады.
Рис. 17. Спадини-шпильки для сперады.
 Рис. 18. Шпильки для сперады.
Рис. 18. Шпильки для сперады.
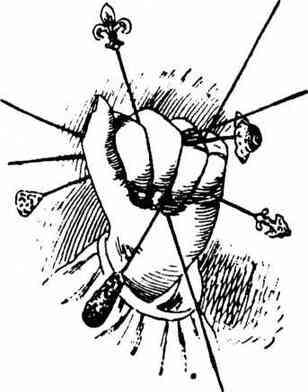 Рис. 19. Шляпные булавки — оружие женщин. The Caledonia advertiser, май-июнь 1904 г.
Рис. 19. Шляпные булавки — оружие женщин. The Caledonia advertiser, май-июнь 1904 г.
 Рис. 20. Проститутки сражаются на ножах. Пауль Баллуриан, 1900-е.
Рис. 20. Проститутки сражаются на ножах. Пауль Баллуриан, 1900-е.
 Рис. 21. Суфражистка владеющая джиу-джитсу. Карикатура, 1910 г.
Рис. 21. Суфражистка владеющая джиу-джитсу. Карикатура, 1910 г.

 Образ моряка с детства ассоциируется у нас с бравыми парнями с открытыми обветренными лицами, в клёшах и бескозырках, горланящими песни в портовых тавернах с бутылкой рома в руке, ловко взбирающимися по вантам и высматривающими землю из «вороньего гнезда». Просоленные и загорелые морские волки, которым сам чёрт не брат. Однако была у этой мужественной и романтической профессии и менее светлая сторона. Нельзя забывать о том, что история мореплаваний состоит не только из захватывающих приключений и экзотических островов с сокровищами, но также из многомесячных изматывающих переходов, скудного питания, тяжёлой работы, хронического недосыпания и болезней. Усугублялось всё это ещё и тем, что жизнь моряков на судне была ограничена небольшим пространством корабельного трюма и им долгими месяцами приходилось видеть одни и те же смертельно надоевшие лица товарищей по команде. Отсутствие на борту женщин, долго сдерживаемые негативные эмоции, сексуальное и психологическое напряжение вызывали фрустрацию, неврозы и депрессии, что нередко приводило к конфликтам. Как правило, моряки выпускали пар в прибрежных тавернах, но иногда портовые пристани разделяли месяцы пути, поэтому поножовщина на борту судов была нередким явлением. Психологические проблемы, с которыми сталкивались моряки, разрушали социальные связи внутри команды — мужчины, страдающие от депрессии, были не лучшей компанией. Многие моряки совершенно переставали себя контролировать. Подобное положение дел в сочетании с тем, что всем им до смерти надоело ежедневно в течение долгих месяцев плавания видеть одни и те же лица, приводило к тому, что рушилось любое подобие товарищества и забывалось о хороших манерах. Жизнь в пространстве столь ограниченном, что невозможно было пройти, чтобы не натолкнуться на кого-нибудь из членов команды, вскрывала многие недостатки товарищей, с которыми моряки делили стол и кров. «Нет такого места, где вы лучше узнаете человека, — как-то заметил ирландский моряк Патрик Мид, — чем на одном из этих судов»[1402].
Образ моряка с детства ассоциируется у нас с бравыми парнями с открытыми обветренными лицами, в клёшах и бескозырках, горланящими песни в портовых тавернах с бутылкой рома в руке, ловко взбирающимися по вантам и высматривающими землю из «вороньего гнезда». Просоленные и загорелые морские волки, которым сам чёрт не брат. Однако была у этой мужественной и романтической профессии и менее светлая сторона. Нельзя забывать о том, что история мореплаваний состоит не только из захватывающих приключений и экзотических островов с сокровищами, но также из многомесячных изматывающих переходов, скудного питания, тяжёлой работы, хронического недосыпания и болезней. Усугублялось всё это ещё и тем, что жизнь моряков на судне была ограничена небольшим пространством корабельного трюма и им долгими месяцами приходилось видеть одни и те же смертельно надоевшие лица товарищей по команде. Отсутствие на борту женщин, долго сдерживаемые негативные эмоции, сексуальное и психологическое напряжение вызывали фрустрацию, неврозы и депрессии, что нередко приводило к конфликтам. Как правило, моряки выпускали пар в прибрежных тавернах, но иногда портовые пристани разделяли месяцы пути, поэтому поножовщина на борту судов была нередким явлением. Психологические проблемы, с которыми сталкивались моряки, разрушали социальные связи внутри команды — мужчины, страдающие от депрессии, были не лучшей компанией. Многие моряки совершенно переставали себя контролировать. Подобное положение дел в сочетании с тем, что всем им до смерти надоело ежедневно в течение долгих месяцев плавания видеть одни и те же лица, приводило к тому, что рушилось любое подобие товарищества и забывалось о хороших манерах. Жизнь в пространстве столь ограниченном, что невозможно было пройти, чтобы не натолкнуться на кого-нибудь из членов команды, вскрывала многие недостатки товарищей, с которыми моряки делили стол и кров. «Нет такого места, где вы лучше узнаете человека, — как-то заметил ирландский моряк Патрик Мид, — чем на одном из этих судов»[1402].
 Рис. 1. Голландский матрос с ножом в руке. Победа над флотами Франции и Испании в заливе Виго 23 октября 1702 г.
Рис. 1. Голландский матрос с ножом в руке. Победа над флотами Франции и Испании в заливе Виго 23 октября 1702 г.
 Рис. 2. Брабантский матрос. Бернар Пикар, 1695–1730 гг.
Рис. 2. Брабантский матрос. Бернар Пикар, 1695–1730 гг.
 Рис. 3. Американский моряк с револьвером, 1861–1865 гг.
Рис. 3. Американский моряк с револьвером, 1861–1865 гг.
 Рис. 4. Поединок моряков. Morosophie, Гийом Ла Перьер, 1553 г.
Рис. 4. Поединок моряков. Morosophie, Гийом Ла Перьер, 1553 г.
 Рис. 5. Дуэль между испанскими моряками, 1860 г.
Рис. 5. Дуэль между испанскими моряками, 1860 г.
 Рис. 6. Моряки отдыхают на палубе судна. Река Джеймс, Вирджиния, 9 июля 1862 г.
Рис. 6. Моряки отдыхают на палубе судна. Река Джеймс, Вирджиния, 9 июля 1862 г.

 Рис. 7. Юный моряк на борту судна
Рис. 8. Монитор «Nahant». Нью Хемпшир, 1864-65 гг.
Рис. 7. Юный моряк на борту судна
Рис. 8. Монитор «Nahant». Нью Хемпшир, 1864-65 гг.
 Рис. 9. Моряк с ножом. Корнелис Дюсарт, около 1695 г.
Рис. 9. Моряк с ножом. Корнелис Дюсарт, около 1695 г.
 Рис. 10. Голландский матрос. Бернар Пикар 1695–1730 гг.
Рис. 10. Голландский матрос. Бернар Пикар 1695–1730 гг.
 Рис. 11. Костюмы моряков разных стран. Абрахам де Брюйн, 1581 г.
Рис. 11. Костюмы моряков разных стран. Абрахам де Брюйн, 1581 г.
 Рис. 12. Американский Рис. 13. Бой на борту судна Массачусетс. Эдвард Харт, 1897 г. моряк, 1861–1865 гг.
Рис. 12. Американский Рис. 13. Бой на борту судна Массачусетс. Эдвард Харт, 1897 г. моряк, 1861–1865 гг.
 Рис. 14. Драка матросов. Ян Люйкен, 1682 г.
Рис. 15. Голландский моряк. Корнелис Дюсарт, около 1695 г.
Рис. 14. Драка матросов. Ян Люйкен, 1682 г.
Рис. 15. Голландский моряк. Корнелис Дюсарт, около 1695 г.
 Рис. 16. Матросы на галере. М. Схайп, 1649 г.
Рис. 16. Матросы на галере. М. Схайп, 1649 г.
 Рис. 17. Тренировочный бой на борту судна Ньюарк, 1891 г.
Рис. 17. Тренировочный бой на борту судна Ньюарк, 1891 г.
 Рис. 18. Тренировка по фехтованию на борту линейного корабля Британия. В. Томас, 1860 г.
Рис. 18. Тренировка по фехтованию на борту линейного корабля Британия. В. Томас, 1860 г.
 Рис. 19. Английский моряк дерётся с четырьмя американцами. Лондон, 1781 г.
Рис. 19. Английский моряк дерётся с четырьмя американцами. Лондон, 1781 г.
 Рис. 20. Прибивание руки к мачте ножом, XVI–XVII вв.
Рис. 21. Нож моряка. Пьемонт, XIX в.
Рис. 20. Прибивание руки к мачте ножом, XVI–XVII вв.
Рис. 21. Нож моряка. Пьемонт, XIX в.