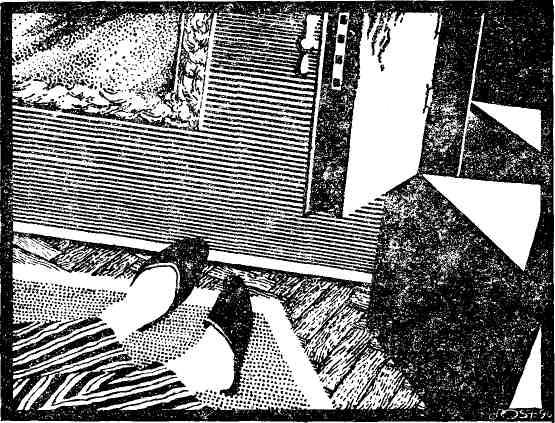Поединок. Выпуск 17

ПОВЕСТИ
Анатолий Ромов
ЧЕЛОВЕК В ПУСТОЙ КВАРТИРЕ
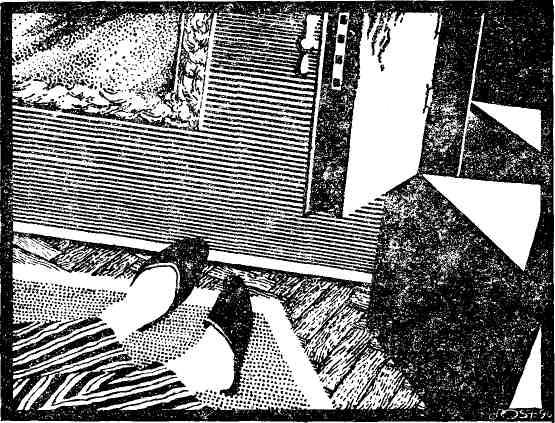
1
Пассажирам крупнотоннажного рейсового дизель-электрохода БМП
[1] «Академик Медников», стоявшего на линии Гавр — Ленинград, — а ими в основном были иностранцы — в этот раз повезло. Весь путь от Гавра море было спокойным, и, хотя только начался май, солнце пекло так, что большинство пассажиров с самого утра выбиралось на палубу. Временное население «Академика Медникова», ощущая, что наконец-то началось лето, дружно загорало в шезлонгах.
В списках пассажиров был Джон Пайментс, подтянутый человек неопределенного возраста — впрочем, опытный взгляд подметил бы, что ему никак не меньше пятидесяти — с несколько тяжеловатым подбородком, короткими седыми усиками и небольшой родинкой у основания породистого, но перебитого когда-то носа. В графе «профессия» в судовом списке значилось «кинопродюсер». В круиз этот спокойный пассажир отправился без попутчиков, к общению не стремился, но, не отставая от молодежи, вместе с любителями воздушных ванн с утра забирался в шезлонг и лежал под солнцем до самого обеда.
В семь утра одиннадцатого мая «Академик Медников» подходил к Ленинграду. Большинство пассажиров спали, матросы из вахтенной команды швабрили променандеки
[2]. Вахтенный штурман, увидев в бинокль, как из порта вышли два катера, лоцманский и таможенный, приказал застопорить ход и опустить трап. Дождавшись, пока таможенники, пограничники и лоцман поднимутся в штурманскую рубку, дал малый ход.
Через час десять минут «Академик Медников» ошвартовался у второго причала Ленинградского морского пассажирского порта. Начавшийся в девять утра завтрак для пассажиров заканчивался в одиннадцать; сегодня он проходил оживленно, под смех и шутки — в окна салона можно было любоваться не приевшейся серо-зеленой пустыней, а открывающимися за портом бульварами и домами Васильевского острова. За двухдневную стоянку желающим предлагалось несколько экскурсий, об этом было объявлено по судовой трансляции. У столика при выходе из салона миловидная девушка Люся, или Люси, — администратор пассажирской кают-компании — записывала всех желающих.
Джон Пайментс встал поздно и спустился к завтраку, когда салон был почти пуст. С видимым удовольствием съев два яйца всмятку, тосты с джемом и выпив кофе, он некоторое время сидел, с интересом разглядывая портовые причалы. Наконец встал; проходя к выходу, с улыбкой кивнул администратору. Люси улыбнулась в ответ, кивок Пайментса она поняла как отказ участвовать в групповых экскурсиях — и не ошиблась.
2
Силина Юлия Сергеевна, двадцать девять лет, незамужняя, следователь по особо важным делам. Работаю в следственном отделе прокуратуры уже около трех лет. Вот и все, что я могу сказать о себе. В день, когда поступило сообщение об убийстве пенсионера Лещенко А. П. на Двинской улице в Ленинграде и о похищении его нумизматической коллекции, дежурила я. Убийство произошло около двенадцати дня во вторник одиннадцатого мая, вызов из районного УВД был принят мною в этот же день около двух часов дня, точнее — в тринадцать часов сорок пять минут. Выехали в рафике городской прокуратуры. Выезд был спешным, с некоторыми сидящими в машине я не успела даже поздороваться. Помню, я тогда подумала: если кто-нибудь посмотрел бы на бригаду со стороны, вряд ли он принял бы меня за старшую, внешность у меня не очень серьезная. Описать себя я не могу, да и женщине сделать это трудно, если не невозможно, дальше «худощавой блондинки среднего роста» мои потуги не пойдут. В дороге пытаюсь вспомнить все, что сообщили об убийстве. Были упомянуты ножевые ранения, значит, смерть насильственная. Убитый жил один и был владельцем крупной коллекции монет, состоявшей на государственном учете. Похищена только часть; так как коллекция представляет немалую ценность, пока я точно даже не знаю какую, к месту происшествия вызван эксперт-нумизмат из Эрмитажа для определения размеров ущерба. Разглядывая мелькающую за окнами машины набережную Фонтанки, думаю, что вызов эксперта кстати, я не сильна в нумизматике, да и вообще — впервые сталкиваюсь с подобным хищением.
3
Выйдя в город, Пайментс взял такси и подъехал к Финляндскому вокзалу. Войдя в зал пригородного сообщения, сначала подошел к кассе, взял билет до Удельной и обратно и только после этого принялся изучать расписание. Затем, выйдя на привокзальную площадь, у окошечка темно-синих «Жигулей» пригнулся. Улыбнулся толстяку с щегольскими баками, спросил по-русски с легким акцентом:
— Довезете до Ланской? Не обижу.
Толстяк молча кивнул: садитесь. Доехав до Ланской, Пайментс сел на электричку в последний вагон и сошел на следующей остановке, в Удельной.
4
Убитый лежал навзничь на ковре, подогнув руку, на вид это был очень немолодой человек, под семьдесят, в белой рубашке и пижамных брюках. Присев, я разглядела у левого плеча бурое высохшее пятно, такое же пятно заметила у пояса. Кровь вверху слева, под лопаткой, и внизу справа, у поясницы. Похоже, кто-то нанес Лещенко два точных удара ножом сзади, в сердце и печень; смерть в этом случае наступает мгновенно. Осмотрев тело, я занялась исследованием сейфа. Система оказалась старой, с цифровым набором. Дверца открыта, сейф пуст, на полу свалены в беспорядке обшитые сукном доски-поддоны с лунками; убитый, по всей видимости, хранил на этих досках монеты, запирая их под бронированную дверь.
Подошел оперуполномоченный Гуров, кивнул на средних лет мужчину у двери, сообщил:
— Сурков, инженер Кировского завода, сосед с верхнего этажа. Обнаружил убитого. Говорит, торопится, опаздывает на работу. Близких, насколько я понял, у хозяина квартиры не было. Приходила домработница, ее телефона и адреса никто не знает, соседи с убитым общались редко. Сейчас подойдет эксперт из Эрмитажа, может, он что-то расскажет? Кстати, одна соседка, ее фамилия Станкевич, утверждает, что видела, как кто-то пытался проникнуть в квартиру Лещенко. Станкевич живет в квартире напротив. Сурков на восьмом этаже. Есть еще уборщица Фоченова и другая соседка, они тоже что-то видели. Все они подождут у себя, я их предупредил.
— Очень хорошо, я допрошу Станкевич и Суркова, а вы остальных.
Сурков, к допросу которого я приступила минут через тридцать у него в квартире, рассказал следующее: около часа дня он спускался по лестнице и заметил, что дверь в квартиру Лещенко приоткрыта. Это показалось ему подозрительным, Сурков хорошо знал нумизмата, знал его осторожность, привычку запирать дверь даже тогда, когда тот выходил выбрасывать мусорное ведро. Позвонив в дверь, он несколько раз позвал соседа по имени-отчеству; не услышав ответа, вошел в квартиру и увидел убитого. Сурков утверждал, что квартира в этот момент была пуста, кроме него и убитого там никого не было. Заметив открытый сейф и пустые поддоны, Сурков понял, что совершено ограбление, вызвал соседей и позвонил в милицию.
5
Сойдя с электрички в Удельной, Пайментс спустился с платформы и, обойдя здание станции, остановился, оглядывая пустой пристанционный сквер. Вскоре, кажется, он нашел то, что искал, — небольшую скамейку у коротко обрезанного кустарника. Подошел к ней, сел, хотел было посмотреть на часы, но тут же удовлетворенно хмыкнул. К скамейке подошел маленький худощавый человек с аккуратной бородкой. Сел, кашлянул, спросил:
— Вы меня узнали?
Угол рта Пайментса дернулся:
— Узнал. Хотя бородка выглядит не очень натурально.
— Это на всякий случай. Я уверен, хвоста нет, но на всякий случай. На каком языке будем говорить?
— На каком угодно.
Бородач поерзал, криво усмехнулся:
— Думаю, лучше на русском. Видите ли, у меня… то есть у нас все математически рассчитано.
— Не беспокойтесь, у меня тоже все математически рассчитано.
Бородач незаметно сунул руку в карман джинсов, вынул серебряный кружочек, пришлепнул к колену, отнял ладонь.
— Рубль восемнадцатого века. Единичная.
Пайментс не спеша полез в карман куртки, достал лупу, платок, тщательно протер линзу. Взял монету, принялся изучать — то отводя, то приближая лупу. Хмыкнул:
— Похожа на подлинную.
Бородач скривился:
— Перестаньте. Неужели мы будем подсовывать фальшивку, если речь пойдет о коллекции? Вам жизни не хватит, чтобы вывезти все монеты.
— Хорошо. Сколько?
— Сейчас — десять тысяч. Как аванс. Остальные со следующей монетой. Если все будет хорошо.
— Сколько всего?
— Тридцать тысяч.
— Ого. Дороговато.
— Дороговато — отдайте монету, и расходимся.
Пайментс достал бумажник, аккуратно вложил в него монету, сунул бумажник во внутренний карман. Помедлив, из другого достал две увесистые пачки банкнот, положил на скамейку между собой и бородачом.
Надорвав склейки, бородач принялся перелистывать зеленые бумажки, не поднимая пачки со скамейки. Этим он занимался довольно долго, наконец, вытянув из-за спины висящую на ремне кожаную сумку, положил обе пачки, застегнул молнию.
— Порядок. Осталось договориться о следующей встрече.
— Все просто. В следующий круиз — или открытка из Клайпеды, или звонок. Место встречи прежнее. Могу быть не я. Но условные фразы те же.
Дождавшись, пока бородач уедет с первой же электричкой, Пайментс пошел к шоссе. Остановился у обочины, осмотрелся: вокруг никого не было, только за деревьями проходили машины. У самого шоссе кустилась пышная акация с молоденькими, еще свежими листочками. Пайментс незаметно вошел в густую купу, присел на корточки, достал зеркальце. Около пяти минут он занимался тем, что пытался приладить зеркальце среди веток. Наконец ему это удалось: укрепив маленький прямоугольник, он чуть пригнул голову, разглядывая исподлобья собственную шевелюру. Досадливо кхекнув, ощупал голову — стрижка была идеально ровной, но Пайментс все же наметил двумя пальцами то, что ему было нужно. Взялся за темные с сединой волоски, потянул, раздался легкий треск — и над левым ухом обнажился белый квадратик, кусочек гладко выбритого черепа. Морщась, Пайментс поднес к глазам отделившуюся от идеальной прически накладку. Перевернул — на коже с остатками клея виднелась аккуратно выдавленная ниша-кружок. Все так же морщась, Пайментс достал бумажник, вынул монету. Примерил — монета поместилась, даже остался зазор. Достал платок, два тюбика, один со смывкой, другой с клеем, и приступил к операции, которая заняла около сорока минут. Сначала осторожно смазал кожу вокруг ниши и выбритый кусочек черепа клеем. Затем тщательно смыл частичку клея с пальцев. Затем долго примерялся — то поднося накладку к выбритому месту, то отводя. Наконец плотно прижал фальшивый кусок шевелюры к черепу. Около десяти минут всматривался, трогал и разглаживал пальцами отдельные волоски. В конце концов удовлетворенно скривился. Спрятал зеркальце, бумажник, тюбики, клей, прислушался. Выбрался из кустарника, оглянулся — вокруг было так же пустынно. Выждав интервал в движении машин, перешел на другую сторону шоссе и взял такси.
6
На вид Ядвиге Михайловне Станкевич около шестидесяти: лицо, состоящее из множества округлостей и припухлостей и очень живое, выдает женщину разговорчивую.
— Я убирала и вдруг услышала шум на площадке. Потом кто-то стал кричать.
— В котором часу это было?
— Примерно около одиннадцати. У нас подъезд тихий, и вдруг такой шум. Конечно, я подошла к двери и посмотрела в глазок.
— Что увидели?
— Увидела молодого человека у двери Лещенко.
— Вы уверены, что это был именно молодой человек?
Станкевич смотрит недоуменно, я поясняю:
— Изображение в дверном глазке выглядит искаженно.
— Конечно, в глазок не очень разглядишь… Но я видела совершенно точно: это был молодой человек. Я имею в виду — мужчина. Лет тридцати — тридцати пяти, высокий… И голос у него был соответственный, уверенный такой.
— Вы могли бы описать внешность этого человека?
— Такой… Без усов и бороды.
— Этого мало, Ядвига Михайловна. Попробуйте описать его волосы, глаза, нос, рот, подбородок.
— Волосы короткие.
— Светлые? Темные?
— Да нет, такие — средние. Глаза не разглядела… И остального не разглядела, глазок не увеличивает… Знаете, как в зеркале смеха, лицо искривленное… Но мне показалось, это был… да, довольно интересный молодой человек. Одет он был в такую куртку… Да, в спортивной такой курточке, светлой, и в брюках, тоже спортивных, синих, вроде джинсов. Лещенко сначала не открывал, потом, когда тот снова стал стучать, спросил из-за двери, что ему нужно. А молодой человек как заорет: «Оставьте в покое Елизавету! Она у вас, пустите меня!»
— Елизавету?
— Да, Елизавету… — В глазах Станкевич мелькает сомнение, она повторяет: — По-моему, Елизавету.
— По-вашему или точно?
— Или — Екатерину. Точно не помню, честное слово… Женское имя, но точно не помню. И все-таки, скорей, Елизавета…
— Что было дальше?
— Лещенко что-то ответил, кажется, сказал, что у него нет никакой Елизаветы и он ее не знает. Тогда молодой человек снова заорал: «Она у вас! У вас!» И забарабанил в дверь. После этого дверь открылась. На цепочке, конечно. Арвид Петрович всегда ставил дверь на цепочку, даже если соседи стучались. Открыл дверь, и опять: что вам нужно? А тот: хочу видеть Елизавету, она у вас… Я еще подумала: ну и Арвид Петрович… В таком возрасте, недаром говорят: в тихом омуте… Они так препирались, препирались… Правда, уже тише, я почти ничего не слышала. И в это время позвонил телефон. В квартире Лещенко, он у него громкий, я иногда даже у себя слышу… Лещенко сказал: «Подождите», прикрыл дверь и ушел.
— Ушел, чтобы переговорить по телефону?
— Не знаю, не слышала. Наверное, переговорить, почти сразу после того, как он ушел, звонки прекратились. Потом Лещенко впустил молодого человека в квартиру, дверь закрылась, и все стало тихо. Я продолжила уборку, ну а потом… — Станкевич всхлипнула, закрыла глаза, выдавила: — Потом… этот кошмар… Господи, я такого никогда не видела. Вы не представляете… Живешь с человеком, здороваешься, видишь много лет — и вот… Когда Сурков позвонил, я даже не представляла, что такое может случиться. Ведь они потом говорили очень мирно… Если бы я знала? Если бы я только знала! — Провела рукой по лбу. — Сурков позвонил, я открыла, смотрю, он весь бледный, что, думаю, с ним, на него вроде не похоже… Тут же стоит Галя, моя соседка, Галина Николаевна… — Кивок в сторону круглой, похожей на колобок женщины, с которой разговаривает Гуров. — А дверь в пятьдесят первую открыта, у меня прямо как молния… Сразу же екнуло, знаете: что-то с Арвидом Петровичем… И тишина, тишина, знаете… А Сурков — с Лещенко, говорит, несчастье, милицию надо вызывать, убили… Я даже не поняла, как убили, я же только что слышала, как он разговаривал… Вошли в квартиру, смотрю — Арвид Петрович… — Станкевич закрыла глаза, побледнела. — Нет, я не могу. Простите, Юлия Сергеевна…
— Ядвига Михайловна, вы сказали, у Лещенко не было знакомых женщин? Я вас правильно поняла?
— Какие там женщины? Он же вообще отшельник. К нему только домработница приходила, старушка, два раза в неделю. Зовут Анна Юрьевна.
7
Вернувшись в Ленинград на такси и подойдя в агентстве «Интурист» к окошечку, Пайментс вздохнул:
— Я должен срочно вылететь в Лондон.
Кассирша улыбнулась:
— На ваше счастье, есть один билет. Будьте добры, ваш паспорт, туристскую карту.
— Пожалуйста. — Пайментс протянул документы, кассирша внимательно изучила их. Подняла брови:
— Вы в морском круизе? Простите, это формальность, но я должна связаться с морагентством и согласовать продажу авиабилета с ними. Вы позволите?
— Пожалуйста. Я подожду?
— Подождите, я скоро.
Подойдя минут через пять, Пайментс спросил:
— Как?
— Все согласовано. — Кассирша оформила билет, протянула. — Улетаете в семнадцать сорок пять по московскому времени. В аэропорту должны быть за два часа до вылета, оформив предварительную визу. Предупреждаю, в случае возврата билета с вас будет удержано двадцать пять процентов.
8
Продолжая осмотр квартиры Лещенко, я попросила Гурова:
— Надо срочно выяснить адрес и телефон некой Анны Юрьевны, она приходила к Лещенко убирать квартиру. Затем установить личность женщины, которая, возможно, была как-то связана с этим молодым человеком В джинсах и с Лещенко. Может быть, и с нумизматикой. Зовут эту женщину предположительно Елизавета, возможно также, Екатерина или похожее имя. Судя по всему, у Лещенко было немного знакомых женщин, так что работа несложная.
— Хорошо, будем устанавливать всех женщин, связанных с Лещенко. Совсем забыл сказать, сейчас подойдет наш внештатный консультант, Уваров. Он знал Лещенко гораздо лучше. Насколько я понял, они дружили.
— Уваров?
— Уваров Константин Кириллович, внештатный консультант Эрмитажа, его мы и предлагаем в качестве эксперта. Как только я узнал о несчастье, я ему сообщил. По телефону.
Довольно скоро в квартиру вошел человек лет шестидесяти, моложавый, в тонком свитере и куртке, чем-то напоминающий тренера. Ровный загар, нос с горбинкой, волевой подбородок. Серые, глубоко запавшие глаза смотрят изучающе, лицо напряжено, ходят желваки. Мне показалось, он хочет напасть на меня.
— Где Арвид Петрович?
Так как я не сразу нахожу, что ответить, человек качает головой, шепчет:
— Это правда? — Спохватывается. — Моя фамилия Уваров.
— Силина, следователь прокуратуры.
— Простите, нервы. — Уваров платком утирает пот. — Что с Лещенко? Он что… убит?
— Да, Константин Кириллович, Лещенко убит.
— Здесь?
— Здесь, в этой квартире, около двенадцати часов дня. Мы очень надеемся, что вы поможете нам.
— Конечно. Пожалуйста, я к вашим услугам.
Проходим к креслам, садимся друг против друга.
— Вы хорошо знали Лещенко? — спрашиваю я.
— Хорошо ли я его знал? Да, конечно, мы были друзьями.
— Что вы можете сказать о нем?
— Замечательный был человек. Просто замечательный. Скромный, честный, добрый.
— У него были близкие? Наследники?
— Нет, он жил один. Наследников тоже не было — насколько я знаю.
— Простите, Константин Кириллович, были ли у покойного близкие ему женщины? Или — женщина?
— Арвид Петрович был немолодым человеком. Кроме того, он был фанатиком, неисправимым, упорным фанатиком собирательства, фанатиком в лучшем смысле этого слова. Нет, женщины его не интересовали. Единственная женщина, которая к нему приходила, — старушка домработница.
— Кстати, вы знаете ее адрес?
— Точного адреса я не знаю, кажется, живет где-то на Охте.
— Может быть, все-таки какая-то женщина у Лещенко была, но он скрывал это от вас?
— Зачем же ему было это скрывать? Наоборот, он рассказал бы мне об этом. Да и… Лещенко не чувствовал себя одиноким. У него были монеты, они скрашивали ему одиночество.
— В таком случае уточню: не было ли у него знакомых по имени Елизавета или Екатерина?
— Нет, никогда о таких не слышал.
— Может быть, с похожим именем?
— Не похожим — ничего не знаю о такой. Собственно, почему вы об этом спрашиваете?
— Есть показания свидетелей, слышавших, что это имя употреблялось в связи с Лещенко.
— Что, именно Екатерина или Елизавета?
— Да, или похожее имя.
— Странно. Никогда не слышал…
— Теперь и мне это кажется странным. — Вспоминаю показания Станкевич. Нет, подозревать ее в неискренности у меня нет оснований.
— Видите ли, в этом отношении… — Уваров медлит. — В этом отношении многие не понимали Арвида Петровича.
— В каком именно «отношении»?
— Я имею в виду… как бы это выразиться, ну, скажем, в отношении к жизни. Нет, в двух словах это не объяснишь.
— И все-таки попробуйте, Константин Кириллович.
— Попробую, Юлия Сергеевна, скажите честно — вы разбираетесь в нумизматике?
— Признаться, не очень, ко надеюсь на вашу помощь.
— Попробую помочь, если смогу. Видите ли, к коллекционерам монет, нумизматам, люди испытывают устойчивое предубеждение. Мол, все они миллионеры, сидят на золотых мешках, шагу не сделают без выгоды для себя. И никто не вспомнит о простой вещи — для кого же, в конце концов, собирает свои монеты коллекционер? Для себя? Да нет же. В конечном счете все его, как выражается молва, «богатства» перейдут обществу. Естественно, я имею в виду настоящих коллекционеров. Коллекционер бережлив в расходах, часто отказывает себе в самом необходимом, чтобы приобрести ту или иную монету. Видите ли, настоящая большая коллекция — это своего рода симфония. Иногда для совершенства этой симфонии не хватает всего одной ноты, одной-единственной монеты — и как же трудно бывает эту ноту подобрать. И композитор, то есть собиратель, готов на все. А пересуды идут, и то, что человек не вечен, — забывается. И вот — нет Арвида Петровича. Без всякого преувеличения могу сказать: это был маэстро, непревзойденнейший маэстро нумизматики. — Уваров замолчал, сцепив пальцы. Может быть, он прав в отношении женщин. Но не могла же Станкевич выдумать эту Елизавету.
— Константин Кириллович, вы хорошо знаете окружение Лещенко?
— В общем, да.
— Нет ли среди его знакомых человека лет тридцати, высокого, худощавого, шатена с короткой стрижкой? Одевается этот человек, скорее всего, по-спортивному, в куртку и джинсы.
— Этот человек связан с нумизматикой?
— Не знаю.
Уваров задумался. Если бы он мог вспомнить этого человека, многое стало бы легче.
— Арвид Петрович очень неохотно знакомился с людьми. Общался он в основном с нумизматами. По описанию же — таких среди нумизматов немного. Скорее, описанный человек напоминает фарцовщика.
— Попробуйте все-таки вспомнить, Константин Кириллович, может быть, был кто-то похожий?
— Скажу одно: постоянных знакомых с такими данными у Лещенко не было.
— Может быть, он говорил вам о каком-нибудь новом знакомстве?
— Новом знакомстве? Подождите…
Терпеливо жду.
— Вы знаете, не ручаюсь за подробности, но мне кажется… Неделю примерно назад… Лещенко говорил мне о чем-то подобном.
— О знакомстве?
— Да, о знакомстве. Кажется, какой-то человек предлагал Лещенко посмотреть какую-то монету. К Арвиду Петровичу часто обращались с подобными просьбами. Но это было мельком, в разговоре упомянулось и тут же забылось.
— Константин Кириллович, нужно ли говорить, как это важно? Попробуйте вспомнить, что это был за человек?
— Юлия Сергеевна, честное слово, больше ничего не помню.
— Лещенко упоминал его имя?
— Имя упоминал, но я его не помню. То ли Виктор, то ли Владимир, но не ручаюсь ни за то, ни за другое.
— Этот человек был ленинградцем? Или приезжим? В разговоре это сразу чувствуется.
— Скорее, ленинградцем.
— Молодым? Старым? Об этом тоже можно сказать.
— Думаю, молодым, старого человека Арвид Петрович назвал бы по отчеству.
— А что это была за монета?
— Не знаю. Но наверняка монета представляла интерес — иначе не возникло бы и этого разговора.
Пытаюсь выжать из Уварова что-то еще, касающееся Виктора-Владимира, но в конце концов понимаю — ничего нового Константин Кириллович вспомнить не может. Меняю тему:
— О других знакомствах Лещенко не упоминал?
— Если не считать меня, постоянно к нему заходили только два человека — Сурков и Долгополов.
— Сурков?
Уваров с интересом смотрит на меня:
— Да, Сурков, а что?
— Он живет в этом доме?
— Здесь, на восьмом этаже.
Любопытно. Во время допроса Сурков не сказал мне, что близко знаком с Лещенко.
— Сурков нумизмат?
— Поостерегся бы назвать его этим словом. Интересуется монетами, не более того.
— Уточните, пожалуйста. Что значит «интересуется»?
— Держит дома около трехсот монет, не представляющих серьезного интереса.
— Кто такой Долгополов?
— Есть такой Эдуард Долгополов. Работает, кажется, в системе торговли.
— Тоже нумизмат?
— Да, Долгополов — из средних собирателей, таких обычно называют «на подхвате».
— Сколько ему лет?
— Около тридцати.
— Что вы можете сказать о нем?
— Почти ничего… Извините, но я стараюсь избегать общения с людьми типа Долгополова.
Смотрю на Уварова; поняв значение моего взгляда, он качает головой:
— Нет, Юлия Сергеевна, Долгополов категорически не подходит под ваше описание «высокого шатена». Долгополов брюнет, ниже среднего роста, довольно худой.
— Где он живет?
— Кажется, на Петроградской стороне.
— У вас нет его телефона?
— У меня нет, но телефон Долгополова наверняка есть у Лещенко, они общались часто.
— Чем же было вызвано такое частое общение?
— Не хочу давать оценок, вы сами увидите, кто такой Долгополов. Знаю одно: никакой дружбы здесь не могло быть, скорее, такому человеку, как Лещенко, нужен был помощник, и Долгополов добровольно взял на себя роль личного секретаря Арвида Петровича. Думаю, не без выгоды для себя. Очень даже не без выгоды.
— Сурков? Что связывало с Лещенко его?
— Наверное, близкое соседство. Не нужно забывать, при всей осторожности Арвид Петрович был человеком одиноким. Ну и, конечно, сосед, которому всегда можно позвонить, попросить зайти, поневоле становится частым гостем.
— Константин Кириллович, когда вы в последний раз видели Лещенко?
— Вчера. Зашел к нему около двух, я всегда захожу днем. Заходил.
— Он был здоров? Уточняю, он был в своем обычном, нормальном состоянии?
— Да, в самом обычном. Мы поговорили, выпили кофе, я посидел и ушел.
— Может быть, у Лещенко были какие-то подозрения, опасения?
— Никаких.
— После этого вы ему не звонили?
— Нет.
— Сегодня утром? В одиннадцать.
— Нет, и утром не звонил. Все утро я работал у себя в мастерских, дозвониться оттуда сложно.
— Дело в том, что кто-то позвонил Лещенко сегодня в одиннадцать утра, и мне очень важно выяснить, кто это был. Наверняка вы знаете многих ленинградских нумизматов. Просто людей, как-то связанных с Лещенко. Если представится возможность узнать что-то об этом звонке, а также о высоком шатене и упомянутом вами Викторе-Владимире — пожалуйста, сообщите мне.
— Обязательно сообщу.
9
Оформив визу и взяв на «Академике Медникове» багаж, за два часа до вылета Пайментс уже стоял у стойки регистрации международной секции Пулковского аэровокзала. После оформления документов подождал, пока его багаж будет досмотрен на таможенном пункте. Получив квитанцию, сел в кресло в зале ожидания.
Потом, когда объявили посадку, пройдя вслед за инспектором в комнату для досмотра, кинопродюсер дал таможенникам возможность тщательно осмотреть одежду, белье, обувь. Досмотр производился быстро, но тщательно. Промяв напоследок швы, простучав и проверив шилом каблуки, инспектор Белков сказал со вздохом:
— Простите, господин Пайментс, вы отлично знаете, это наша работа. — Придирчиво оглядев туриста, протянул язычок для обуви. Ловко вдев ноги в мокасины, Пайментс кивнул:
— Ну что вы, я прекрасно понимаю. Извините, я могу пройти к самолету?
— Да, конечно.
В семнадцать сорок пять по московскому времени «Боинг» с Пайментсом на борту, поднявшись в воздух с Ленинградского аэродрома, взял курс на Лондон.
10
Поднявшись к районному прокурору, я первым делом доложила о результатах выезда на квартиру Лещенко. Выслушав меня предельно внимательно, Игорь Данилович, как только я кончила, покачал головой:
— Знаете, Юлия Сергеевна, это ваше дело уже сейчас можно считать нашумевшим.
— Нашумевшим в каком смысле?
— В том, что мне только что звонили из УКГБ. Кажется, у вас с ними есть общие фигуранты. Причем очень серьезные фигуранты.
— Интересно.
— Им тоже интересно. Собственно, поэтому я и пригласил вас к себе. Мне звонил начальник отдела УКГБ полковник Сергей Кононович Красильщиков, ну и… выразил горячее желание с вами пообщаться. Причем пообщаться как можно скорей. Вы как?
— Н-ну… пожалуйста. Пусть приезжают.
— Видите ли, Юлия Сергеевна, — Теплов замялся. — Я понимаю, гора не должна идти к Магомету, дело ведете вы, и все такое прочее, но у них там вроде собрался целый синклит, они обещают носить вас на руках, выдать вам массу ценных сведений. Короче, внизу вас уже ждет машина, черная «Волга».
Вообще этика и правила ведения дела обязывают всех, кто имеет к нему отношение, не вызывать следователя к себе, а самому являться сюда, в прокуратуру. Помедлив, я спросила:
— Вы хотите сказать, я должна поехать о УКГБ?
— Н-ну… если вам не трудно.
Ладно, подумала я, иногда можно и отступить от правил.
Спустившись вниз, я действительно увидела черную «Волгу» УКГБ. Услышав мою фамилию, водитель тут же подтвердил, что ждет именно меня, и без лишних слов отвез в «серый дом» на Литейный.
Поднявшись на третий этаж в здании УКГБ, я вошла в указанный в пропуске кабинет. Сидящие за большим столом трое мужчин при моем появлении встали и, как только я протянула им руку, представились по очереди.
Первым назвал себя начальник отдела Сергей Кононович Красильщиков; насколько я поняла, по должности он в этой группе был старшим. Выглядел Красильщиков лет на сорок, был крепок, мускулист, моложав. Единственное, что вносило в его облик диссонанс, — очки с большой диоптрией, которые он то и дело поправлял средним пальцем. Второй, представившийся полковником госбезопасности Русиновым, позже, при разговоре я узнала, что его зовут Владимир Анатольевич, выглядел несколько старше Красильщикова. Русинов был среднего роста, с блеклыми, спрятанными в веках голубыми глазами, сединой и курносым носом. Но, несмотря на эту прозаическую внешность, мне показалось, что в этом человеке есть что-то глубоко спрятанное. Он наверняка женат и, вообще, в личном плане у него все в порядке. Усмехнувшись этим банальным, чисто женским рассуждениям, приказала себе: не отвлекайся. Третий, представившийся майором Игнатьевым, был полным, невысоким блондином; судя по его отлично сшитому костюму и со вкусом подобранному галстуку, он был не лишен щегольства. После того как я села, Красильщиков сказал:
— Юлия Сергеевна, прежде всего от всей нашей троицы прошу у вас прощения за то, что мы почти силой притащили вас к нам.
— Сергей Кононович, о чем вы. Делаем одно дело.
— Именно. Да и потом, посмотрите, — Красильщиков кивнул на несколько ящиков, набитых видеокассетами. — Все эти материалы, насколько я понимаю, могут иметь самое прямое отношение к вашему делу. Везти их к вам, согласитесь, было бы несколько громоздко. Значит, вы нас прощаете?
— Конечно.
— Спасибо. Теперь к делу. Вы случайно не слышали о так называемой фирме «Поддельный Фаберже»? У нас, в Ленинграде?
— Краем уха. Насколько я понимаю, это то самое дело, по которому задержано около двадцати человек? Но большинство в бегах? Правильно?
— Правильно. Значит, вы должны были слышать и о чуть более ранних делах. Например, о таинственно пропавших коллекциях живописи недавно умерших Корнелина и Гродненского. Одиноких пенсионеров, их наследником должно было стать государство.
Конечно, об этих пропажах я слышала, поскольку коллекции оценивались в какие-то астрономические суммы. И знала, что этими нашумевшими делами, которые в ленинградских правоохранительных органах условно называются «антикварной группой дел», занимаются в нашем городе на самом высшем уровне. Но Красильщикову я лишь сказала скромно:
— Слышала, но опять по тому же принципу: было что-то где-то. Не больше.
— Надо бы упомянуть о взломе музея города, — тихо сказал молчавший до этого Игнатьев. — И похищении коллекции картин, фарфора и антиквариата Пинегина, за месяц до этого конфискованной у него в пользу государства.
— Наверняка Юлия Сергеевна слышала и об этом, — сказал Красильщиков. — Ведь дело о конфискации опротестовано нашей прокуратурой.
— Да, я знаю, эта конфискация была проведена незаконно, — подтвердила я. — Причем Пинегина успели поставить об этом в известность, так что вряд ли он причастен к похищению.
— Ладно, не будем морочить Юлии Сергеевне голову деталями, — вступил в разговор Русинов. — Сергей Кононович, может быть, покажем нашей гостье кое-что из материалов?
— Охотно. — Вставив в видеомагнитофон одну из кассет, Красильщиков нажал кнопку. На экране возникло изображение стоящих на столе изделий из старинного фарфора; фарфор сменился тесно составленными антикварными мелочами, антиквариат — золотыми украшениями, судя по виду, весьма древнего происхождения, украшения, в свою очередь, — монетами, монеты — картинами. По мере того как сменялось изображение, Красильщиков давал короткие пояснения: — Это коллекция петровского фарфора, из собрания императорской семьи… Это антикварные изделия фирмы Фаберже… Это подлинный Фаберже… Это поддельный… Новгородские золотые украшения, найденные при раскопках и похищенные из Эрмитажа… Китайские резные фигурки из амальголита, тринадцатый век… Китайская перегородчатая эмаль того же времени… Нидерландские дукаты русского производства первых лет чеканки… А это живопись, вся из частных коллекций и запасников… Здесь лишь небольшая часть похищенных полотен, то, что удалось пока обнаружить… — Выключая магнитофон: — Как, Юлия Сергеевна, впечатляет?
— Впечатляет, и очень, — призналась я.
— Все эти предметы — вещдоки по возбужденным недавно делам, связанным с хищением, подделкой и переправкой за рубеж антиквариата, ювелирных изделий, произведений искусства в Ленинграде. Нами вкупе с ГУВД и прокуратурой замечено: все преступные операции, так или иначе связанные с антиквариатом, в нашем городе ведутся мощной и хорошо организованной преступной группой. Причем эта группа имеет устойчивые выходы на зарубежных клиентов, методично переправляя туда требуемый «товар». Группа, по нашим наблюдениям, имеет хорошо разработанную иерархическую структуру, здесь есть свои сбытчики, свои наводчики, свои «вышибалы», свои охранники, есть даже своя подпольная мастерская по изготовлению ювелирных подделок «под Фаберже», которые не без успеха сбываются на Западе. В деятельность группы входит выявление в городе всех крупных коллекций антиквариата, монет, живописи, других произведений искусства, естественно, с целью похищения. Нами для того, чтобы найти и задержать всех участников группы, а также их зарубежных соучастников, давно уже предпринимаются самые серьезные меры. Но увы… — Красильщиков вздохнул, разглядывая стол. — Увы, пока нам удалось задержать лишь так называемую мелкую шушеру. «Шестерок». Никаких выходов на руководство преступной группой, на «головку», у нас нет.
— Шестерки, естественно, берут всю вину на себя, — добавил Игнатьев, — понимая, что, если они выдадут верхушку, им несдобровать. В любом случае, будут ли они после этого признания отбывать наказание или не будут.
Я посмотрела на Красильщикова:
— Сергей Кононович, а вы уверены, что убийство Лещенко может быть связано с «антикварной группой»?
— Юлия Сергеевна, тот же вопрос я могу задать вам. Кстати, у вас не возникло ощущения, что это дело так или иначе связано с расчетом сбыть коллекцию за рубеж?
— Сергей Кононович, я уже задавала себе этот вопрос. Без сомнения, коллекция представляет международный интерес, но по моим материалам никаких признаков, говорящих об участии в деле иностранцев или о попытке сбыть коллекцию за границу пока нет. Для меня, как для следователя, налицо лишь убийство и ограбление. Причем, по показаниям свидетелей, оно было, скорее всего, совершено подданным СССР.
Я коротко рассказала о том, что мне удалось узнать на Двинской. Русинов посмотрел на Красильщикова и Игнатьева. Сказал:
— Судя по всему, этот «шатен в джинсах» наверняка не был иностранцем. Вы пока на него не вышли?
— Веду поиски, есть какие-то следы, но пока никто не задержан.
— Ясно, — Русинов снова обменялся коротким взглядом с Игнатьевым. — Из ГУВД нам сообщили, что в показаниях свидетелей фигурировала фамилия некоего Долгополова. Правильно?
— Правильно. Насколько я поняла, этот Долгополов был кем-то вроде добровольного секретаря убитого.
— Случайно вы не успели его допросить?
— Нет. Но я вызвала его повесткой на завтра, на десять утра.
— Понятно. — Русинов замолчал, покосившись на Красильщикова. Тот вздохнул:
— Видите ли, Юлия Сергеевна, этот Долгополов давно уже попал в наше поле зрения. Установлены и даже зафиксированы его устойчивые контакты с иностранцами, а также с крупными ленинградскими фарцовщиками и иными преступными элементами. Работая экспедитором Ленгораптекоуправления, Долгополов ведет довольно широкий образ жизни, постоянно посещает лучшие рестораны, вроде «Астории», «Тройки», «Европейской», «Прибалтийской». Но, во-первых, для его задержания материала у нас маловато, во-вторых, мы рассчитывали, что Долгополов поможет нам зацепиться за кого-то еще. Ну и, как говорится, проморгали. Поскольку сегодня утром Лещенко, являющийся в некотором роде патроном Долгополова, был убит. Но это еще не все.
— Не все? — сказала я.
— Да, не все. Игорь Григорьевич, будьте добры, ту кассету, помните?
Найдя в одном из ящиков нужную кассету, Игнатьев вставил ее в видеомагнитофон и включил аппарат. На экране возникли короткие, смонтированные «встык» и явно снятые скрытой камерой планы летнего Ленинграда «с участием» двух людей: молодого невзрачного блондина, одетого во все «фирменное», и иностранца средних лет. Вот блондин идет по Невскому проспекту; вот этот же блондин с безучастным видом стоит около входа в ресторан «Баку»; вот к стоящему возле «Баку» блондину подходит мужчина лет пятидесяти, внешне очень похожий на иностранца; затем они, что-то коротко сказав друг другу, исчезают в дверях ресторана. Дав мне возможность насладиться зрелищем этой пары внутри ресторана, Игнатьев по знаку Красильщикова выключил видеомагнитофон.
— Юлия Сергеевна, вы никогда не видели этих людей? — спросил Красильщиков.
— Никогда.
— Понятно. Тот, кто помоложе, — упомянутый Долгополов. Иностранец — некто Джон Пайментс, по нашим данным, известный лондонский маршан
[3], коллекционер, участник аукционов «Сотби» и «Кристи», не раз приезжавший в Ленинград и проявлявший устойчивый интерес к приобретению антиквариата, монет, картин и других произведений искусства. То, что вы видели, снято в прошлом году; именно тогда в наше поле зрения попали оба, Долгополов и Пайментс. Ну а сегодня… Игорь Григорьевич, может, продолжите?
— С удовольствием, вернее, с неудовольствием, — сказал Игнатьев. — Сегодня утром этот Пайментс прибыл в Ленинград на круизном теплоходе «Академик Медников». Отказавшись от участия в экскурсии, вышел в город. Где он был и что делал, неизвестно, но примерно час тому назад Пайментс, как нам сообщили с КПП Пулковского аэропорта, вылетел в Лондон, прервав свой довольно дорогостоящий круиз. Я на всякий случай связался с Ленаптекоуправлением, ну и… там мне сообщили: экспедитор Долгополов утром, то есть как раз тогда, когда Пайментс вышел в город, отпросился домой. Якобы в связи с болезнью матери. И до сих пор не пришел. Конечно, все это может быть совпадением, но… сами понимаете.
— Понимаю, — тихо сказала я.
Красильщиков улыбнулся:
— Юлия Сергеевна, не будем больше отнимать ваше время. Скажу лишь, что все перечисленные здесь дела по «антикварной группе» нам по понятным причинам пришлось либо забрать к себе, либо тесно подключиться к ним. С тем же самым предложением я выхожу сейчас к вам. Думаю, это дело нам нужно с вами вести в самом тесном контакте. Как вы считаете?
— Сергей Кононович, я в этом убеждена.
— Отлично. В таком случае мы смотрим на вас с надеждой и рекомендуем в помощники Владимира Анатольевича Русинова. Прошу любить и жаловать. Владимир Анатольевич у нас большой знаток и любитель искусства и вообще признанный специалист именно по этой части.
Русинов покачал головой:
— Ох, Сергей Кононович, вгоняешь ты меня в краску. Специалист, любитель, ценитель, то, се… — Улыбнулся. — Не слушайте, Юлия Сергеевна, все это шутки. Но вообще, думаю, мы сработаемся.
— Я тоже так думаю.
На работу я вернулась так же, как приехала: на черной «Волге», которую вел молчаливый предупредительный шофер.
11
На следующее утро, придя в прокуратуру, я узнала: повестки Долгополову и Михеевой, приходившей к Лещенко раз в неделю, вручены под расписку, свидетели обещали прийти. Довольно скоро в мой кабинет вошел прокурор-криминалист Яновский, положил передо мной материалы: фотографии, заключения различных экспертиз, протоколы. Я всмотрелась: на фотографиях были изображены монеты, части шкафа и сейфа, следы пальцевых отпечатков. Яновский заметил:
— Один след, на входной двери, опознать не удалось. Отпечаток мы отослали в Информационный центр МВД.
После ухода Яновского я посмотрела на часы — ого, уже одиннадцать. Долгополова, которого я вызывала к десяти, все еще нет. Найдя на перекидном календаре его телефоны, позвонила сначала домой — никто не подходит. На работе же мне сообщили, что со вчерашнего дня Долгополов находится в командировке в Зеленогорском районе Ленинградской области. Путешествует по области Долгополов один, используя служебную машину, рафик серого цвета № 23-62 ЛЕО. Цель командировки — сбор у населения и в лесхозах различных лекарственных трав и растений. Выяснив это, я тут же набрала номер Русинова, чтобы сообщить ему эту новость. Как мне показалось, Русинов отнесся к моему сообщению довольно флегматично; тем не менее он обещал принять по своим каналам все необходимые меры для розыска Долгополова. Сразу же после моих переговоров с Русиновым в кабинет вошла вызванная повесткой Михеева. Я ожидала увидеть старушку, но Анна Юрьевна оказалась еще крепкой пожилой женщиной, небольшого роста, с приятным лицом — и совершенно глухой. Впрочем, поговорив с ней, я убедилась, что Михеева, если произносить слова медленно, распознает их по движению губ. Начинаем говорить: отвечает она главным образом жестами и отдельными словами, напоминающими мычание: «да», «нет», «не знаю», «да, наверное», «понимаю». Выяснилось, что Михеева глуха от рождения, всю жизнь
прожила одна, родственников у нее нет. К Лещенко она ходит уже около трех лет, каждый понедельник, и всегда днем. На вопрос, знает ли она кого-нибудь из знакомых Лещенко, Михеева показала палец и промычала:
— Эдик… Эдик…
— Эдуард Долгополов?
— Да, Эдик… Маленький…
Михеева охотно отвечала на все мои вопросы, но, кроме сообщения о том, что Эдик часто бывал, ничего интересного из разговора с ней я так и не вынесла. По ее словам, никого, кроме Долгополова, она у Лещенко не встречала.
12
Спустившись в служебный гараж и взяв дежурную «Волгу», полковник госбезопасности Русинов доехал до Кронверкской набережной и знакомым путем прошел в Петропавловскую крепость, к Екатерининской куртине. Именно в этом старинном каземате размещались мастерские реконструкции города, в которых работал старинный приятель Русинова Уваров, назначенный, как Русинов уже знал, экспертом по исследованию обстоятельств, связанных с убийством Лещенко и похищением его нумизматической коллекции. Уварова Русинов нашел быстро; увидев знакомого, реставратор слез с высокой табуретки.
— Владимир Анатольевич, вот уж не ожидал. — Пожал руку. — Забываете, нехорошо. Как здоровье?
— Не забываю, Константин Кириллович, просто такая уж пошла работа. Здоровье терпимо, да вот времени почему-то не остается.
— Понимаю. По делу?
— По делу. Вы знаете, конечно, о Лещенко? Силина мне сказала, вы ее консультируете?
Сняв нарукавники, Уваров положил их на стол.
— Консультирую. К сожалению, консультирую. Представляете, каково мне сейчас этим заниматься? Арвид Петрович для меня был… Да что говорить, вы ведь знаете.
— Знаю. — Русинов отлично понимал, что значит для человека, тем более для человека немолодого, смерть близкого друга.
Уваров кивнул:
— Присаживайтесь, раз уж пришли. Сварим кофе, обсудим, что надо. Меня ведь работа тоже заела, но полчасика для вас всегда выкрою.
Чтобы проверить правильность своего предположения, Русинову нужно было задать Уварову только один вопрос — о наличии в коллекции Лещенко монет середины восемнадцатого века, времени царствования императриц Екатерины и Елизаветы.
— Спасибо, Константин Кириллович, — сказал Русинов. — Честно говоря, сейчас не до кофе, во-первых, я на секунду, во-вторых, сам попал в консультанты, что вам должно быть понятно.
— Еще бы не понятно, Владимир Анатольевич. Такие коллекции просто так не пропадают. И все-таки присядьте, любые вопросы задавать на бегу не годится. — Придвинул кресло, сел сам. — Слушаю.
— Я давно уже не слышал ничего о Лещенко, но, насколько я знаю, Р о с с и ю он не собирал?
— Россию? — Уваров посмотрел в узкое окошечко под потолком кельи. — Россию… Да нет, отдельные монеты у него были. Но собственно Россией, как темой, Арвид Петрович не интересовался. Вас занимает именно это? Русские монеты?
— Да, в частности, ну, скажем, монеты середины и конца восемнадцатого века.
— Середины и конца восемнадцатого… Нет, вроде ничего такого у него не было.
— Из похищенных, насколько я знаю, одна антика?
— Антика и около пятидесяти уникальных монет, единичных, но среди них ни одной русской. У вас какие-то соображения?
Русинов встал, решив пока не говорить о своей догадке.
— Да нет, с соображениями подожду. Вы ведь знаете, моя забота простая — предотвратить вывоз, вот я и ищу намеки.
— Понятно. Если эти намеки появятся с моей стороны, нумизматической, сообщу сразу.
Простившись с Уваровым, Русинов вышел из Трубецкого бастиона и, пройдя арку в крепостной стене, остановился у моста, ведущего к шхуне «Кронверк». Вспомнил: Лещенко, которого Русинов хорошо знал, Р о с с и ю действительно не собирал, они с ним даже как-то говорили об этом. И все-таки слишком уж ложится все одно к одному, подумал Русинов. Сначала Пайментс и его неожиданный отлет, затем спор о Екатерине-Елизавете, который вел некий «шатен в джинсах».
Вернувшись в УКГБ, Русинов сделал все для того, чтобы в посольство СССР в Лондоне срочно ушел телекс:
«Послу СССР в Лондоне, атташе по культуре. Согласно полученным данным, есть вероятность вывоза из СССР одной или нескольких монет, представляющих большую коллекционную ценность. Возможно, среди них есть монета с профилем одной из русских императриц, Екатерины или Елизаветы. Просим срочно проверить появление таких монет на аукционах «Сотби» или «Кристи» и приостановить продажу».
13
Жесткое сиденье патрульной машины подо мной вздрагивает, отзываясь на каждую выбоину. Мы едем в Купчино, к дому Лагина. В кузове кроме меня и Русинова группа захвата ГУВД — четверо, все в гражданском, кроме светловолосого, резкого в движениях лейтенанта, устроившегося рядом с водителем. В машине тихо. Еще раз читаю полученный час назад телекс:
«Прокуратура гор. Ленинграда. Яновскому. На ваш запрос сообщаем: присланный след пальца идентичен отпечатку пальца Лагина Виктора Александровича, 32 лет, жителя Ленинграда, ул. Белградская, 9, кв. 171, ранее судимого (ст.ст. 109-1, 148, 154 УК РСФСР), отбывавшего наказание в…»
О Лагине, на квартиру которого мы едем, кроме справки из ИТК, пока мало сведений: отец в длительной командировке, Лагин живет с матерью, в квартире нет телефона. Выяснить остальное не было времени. После очередного поворота, может быть, для того, чтобы разрядить обстановку, Русинов делает осторожное движение локтем, дотрагивается до меня. Смотрю на него, и он поводит подбородком, показывая на лежащую на моих коленях папку. Понимаю: просит показать фотографию Лагина. Раскрыв папку, рассматриваю вместе с ним приложенные к делу фото: вид спереди, сбоку, сзади. Отмечаю: лицо не лишено привлекательности, даже на этих невыразительных снимках видно некое понятное только женщине мужское самодовольство — в сведенных к переносице бровях, в подбородке с ямочкой, в изгибах рта. Лицо одновременно острое и тяжелое: нависшие брови, по-особому выступающий прямой нос, нижняя губа больше верхней, чуть выпяченный подбородок. Вспоминаю все, что прочла о Лагине в характеристике НТК и в деле. Тридцать два года, русский, родился в Ленинграде, окончил восемь классов, потом ПТУ краснодеревщиков. В ПТУ занимался в секции бокса, после ПТУ сразу пошел в армию, отказавшись от полагающейся рабочему его специальности отсрочки. В армии несколько раз привлекался к дисциплинарной ответственности за драку, после армии вернулся в Ленинград, жил у матери. Работал резчиком по дереву в артели, затем перешел в фирму «Заря», в бригаду по циклевке паркета. В это же время был замечен в связях со спекулянтами, промышляющими среди нумизматов, первое задержание — за перепродажу монет и денежных знаков. Задержан, предупрежден, по молодости отпущен под честное слово. В дальнейшем в сговоре с преступной группой пошел на ряд преступлений, обдуманных и жестоких. То, чем он занимался, называется на языке валютчиков и спекулянтов «взиманием долгов». Долги, сделанные нумизматами во время спекуляции монетами, иконами, валютой, взимались угрозами и силой, под страхом избиения или применения холодного оружия. Из ИТК вышел пять лет назад. После предъявления фотографий Станкевич подтвердила, что именно Лагин стучал в квартиру Лещенко. Опознала фотографию и Фоченова, видевшая Лагина выходившим из подъезда Лещенко. Кроме того, Лагина зовут Виктор, значит, почти наверняка это тот самый Виктор-Владимир, о котором мне рассказывал Уваров. Русинов говорит тихо:
— Не подарок.
— Согласна, не подарок.
На Белградской улице сидящий рядом с водителем лейтенант оборачивается. Русинов показывает глазами: номера домов! Понятно, нас не должны увидеть из окон. Водитель тормозит у дома пять, выходим. Идем, стараясь держаться ближе к стенам; впереди лейтенант, чуть отступив — трое из группы захвата, за ними мы с Русиновым, Вот дом девять, длинный, девятиэтажный, блочный.
Войдя во двор, Русинов кивает лейтенанту:
— Сходите за понятыми?
— Конечно, товарищ полковник.
Русинов незаметно трогает ладонью место с левой стороны, под ремнем, и я понимаю: он проверяет пистолет. У остальных распахнуты пиджаки, и это мне тоже понятно: стоит сделать движение рукой — и пистолеты в ладонях.
— Пошли, сразу занимайте точки.
Останавливаемся на третьем этаже, у квартиры сто семьдесят один; ребята прижимаются к стенам по обе стороны двери. Русинов нажимает кнопку звонка. Звонит несколько раз, наконец раздаются слабые шаркающие шаги, кто-то останавливается за дверью. Тихий женский голос спрашивает:
— Кто там?
— К вам представители официальных органов! Пожалуйста, откройте!
Дверной глазок темнеет, нас рассматривают, Русинов повторяет строго:
— Прошу открыть!
Дверь распахивается, за ней пожилая женщина; на плечах серая шаль, седые волосы гладко забраны назад, глубоко посаженные светлые глаза напряжены. Растерянно смотрит, убирает ладонью выбившиеся волосы, щурится:
— А… что случилось?
— Ваш сын дома? Прошу говорить правду, это в ваших интересах. Где ваш сын?
От взгляда женщины мне становится не по себе: кажется, в нем какая-то боль. Наконец она отводит глаза:
— Не знаю, дома его нет.
— Прошу пропустить, вынуждены осмотреть квартиру. — Русинов делает знак группе захвата, женщина сторонится. Пока ребята проверяют обе комнаты, ванную, кухню, туалет, осматриваю прихожую. Богатой квартиру не назовешь, но все чисто и прибрано, каждая вещь на своем месте: вешалка, зеркало, полки для обуви, литография под стеклом. В открытую дверь входит Балуев с понятыми, мужчиной средних лет и молодой женщиной; один из группы захвата, высокий рыжеволосый парень, подходит к Русинову:
— Квартира пуста, товарищ полковник. Следов ухода не обнаружено.
Русинов поворачивается к хозяйке:
— Вы — Лагина Надежда Васильевна? Ваш сын — Лагин Виктор Александрович?
— Да.
— Ваш сын подозревается в серьезном преступлении.
— В каком?
— В ограблении и убийстве.
— Этого не может быть. Виктор не мог сделать ничего плохого.
Сколько подобных слов мне уже приходилось выслушивать, если б она знала. Говорю:
— Будем рады, если это не так. Где сейчас ваш сын?
— Не знаю.
Вступает Русинов:
— Надежда Васильевна, запирательством и неправдой вы только повредите вашему сыну. Где он сейчас?
Хозяйка квартиры поправляет шаль, вижу, пальцы чуть дрожат:
— Я действительно не знаю, где он.
Я достаю постановление на обыск, киваю на понятых:
— Вынуждены обыскать квартиру, вот разрешение прокурора, ознакомьтесь.
— Пожалуйста, не возражаю.
Говорю как можно мягче:
— Где бы мы могли поговорить, Надежда Васильевна?
— Где угодно. — Кутается в шаль. — Пройдемте в комнату, пожалуйста, вот сюда.
Садимся за журнальный столик, Лагина хмурится, я молча раскладываю бумаги. Киваю в сторону подоконника — там стоят деревянные маски: лесовик с бородой, чертик с рожками, девушка со звездами вместо глаз.
— Красивая работа. Сын? Можете не отвечать, Надежда Васильевна, я спросила просто так.
— Да, это сделал сын.
— Давно он этим занимается?
— Давно. С детства.
— Кажется, ваш сын закончил художественное училище?
— Окончил. — Пытается крепиться, но по-прежнему в ее глазах отчаяние и растерянность. — Не нужно об этом. Спрашивайте по делу, я отвечу.
— Надежда Васильевна, вы работаете?
— Да, раньше работала в Профтехиздате корректором, сейчас беру работу на дом.
— Ваш сын оказался в квартире, где произошло преступление. Тяжкое преступление — убийство и ограбление. Оказался он там именно в момент, когда все это случилось. Вашего сына видели несколько свидетелей. Убит известный нумизмат, Арвид Петрович Лещенко, живущий на Двинской улице. Вы знаете этого человека?
— Нет, первый раз слышу.
— Ваш сын оказался в квартире убитого именно в момент убийства. Так просто, само собой, этого случиться не могло.
Молча, лишь изредка вытирая слезы ладонью, Лагина начинает плакать. Вид плачущей женщины должен вызывать жалость, но сейчас я смотрю безучастно. Ей жаль сына, единственного, неповторимого, но разве убитый Лещенко не был таким же, единственным, неповторимым, как ее сын? Но его нет, его убили, и у меня есть множество оснований считать, что сделал это ее сын, Лагин.
— Надежда Васильевна, успокойтесь, я ведь хочу помочь вам.
Послушно кивает, достает платок, вытирает слезы.
— Спрашивайте, я все отвечу.
— Когда вы последний раз видели сына? — Так как Лагина медлит, добавляю: — Не нужно ничего скрывать, Надежда Васильевна, мы же договорились?
— Вчера. — Неожиданно закусывает губу, всхлипывает. — Он не мог этого сделать, клянусь, не мог, Юлия Сергеевна! Поверьте!
— Надежда Васильевна, мы с вами как раз и должны установить это. Вчера, то есть одиннадцатого мая. В какое время?
— Утром. Примерно в девять утра. Он позавтракал и ушел. И все. Больше я его не видела. Пропал…
— Он ночевал дома?
— Да, хотя пришел поздно.
— Вы не помните — он не был чем-то взволнован, возбужден?
— Мне кажется, он был спокоен… Впрочем… Сейчас мне уже кажется, он был не в себе. — Внезапно Лагина пригибается ко мне, смотрит в глаза. — Я вам все расскажу, Юлия Сергеевна, все. Только выслушайте меня. Пожалуйста, выслушайте.
— Конечно, Надежда Васильевна, я слушаю.
Начинает говорить горячо и тихо, почти шепотом, не обращая внимания на мою реакцию, глядя куда-то мимо:
— Виктор… Виктор очень сильный и талантливый. Очень. Но бывает — жизнь складывается неудачно. Он очень скрытный, понимаете… Когда это случилось с ним… Двенадцать лет назад, после армии… Поймите — он был очень нервным, одаренным мальчиком. Муж у меня инженер-нефтяник, редко бывает дома, он и сейчас на Камчатке. И вот — Виктор попал в эту компанию. Наверное, он хотел утвердиться. Доказать, что он сильный. Он и боксом занимался для этого. Но он художник, понимаете — по натуре художник. И вот все вместе… Желание утвердиться, неординарность привели к этому. Я однажды спросила его, еще тогда: Виктор, зачем? И он ответил: мама, ты не поймешь этого. Я отстаиваю справедливость. Он понимал все искаженно, но тюрьма… Заключение… Оно повлияло на него, он вышел другим. Совсем другим, клянусь вам, честное слово! В лучшую сторону! Вы верите мне?
— Да, я верю вам, Надежда Васильевна. — Собственно, другого я ответить не могла.
— Спасибо, Юлия Сергеевна. Спасибо. В лучшую сторону после освобождения, это бывает редко. Но он… Но он многое понял. Ну вот, а потом… Он начал работать, резчиком по дереву. Ах, как он работал в то время, какие вещи делал. Я верила, верила — можно будет все начать сначала. Ну и… Он встретил женщину. Но лучше бы этого не было.
— Почему?
— Не могу объяснить почему. Не могу, и все-таки знаю — она может принести только горе. Я ведь мать, я все чувствую.
Женщина?.. Екатерина-Елизавета? Неужели горячо? Лагина молчит, собираясь с мыслями, я стараюсь не перебивать ее. Она продолжает:
— Так вот, сначала мне казалось, это к лучшему. Мне казалось, Виктор скорее придет в себя, скорее забудет весь этот ужас. Я даже поощряла это, когда в первый раз поняла, что он встретил ее. А потом…
— Простите, Надежда Васильевна, кого именно «ее»? Вы видели эту женщину?
— Я уже говорила, Виктор очень скрытный. К тому же последнее время, когда он ее встретил, он стал чаще бывать в Лугове. Ну а последнее время, я уже сказала… Я его почти не видела здесь, в Ленинграде.
Кстати, почему у Лагина дом под Зеленогорском? Откуда?
— В Лугове — это ваш дом? Личный?
— Нет. Виктор заработал этот дом собственными руками. Сразу после прихода из колонии он решил, что теперь будет жить за городом. Поехал в Лугово, много сделал для тамошнего колхоза. Практически один построил им клуб, переоборудовал здание правления, ну и за это они выделили ему участок. Он построил дом.
— Он что, там прописан?
— Нет, прописан он здесь. Этот дом оформлен как мастерская.
Лугово. Небольшой поселок на берегу залива примерно в часе езды от Ленинграда. Поселок — в Зеленогорском районе, туда же сегодня уехал Долгополов. Любопытно. Хорошо, выясним это потом, сейчас для меня важнее женщина, которую встретил Лагин.
— Значит, ваш сын встретил женщину? Вы ее знаете?
— В том-то и дело, что не знаю. Я видела ее только один раз, и то случайно. Приехала в Лугово, без предупреждения, она была там. Когда я появилась, она тут же уехала.
— Но ее имя и фамилию вы должны были знать?
— В том-то и дело, Виктор нас не представил, а когда я попробовала его спросить — отмолчался. Знаю только, что она работает то ли барменшей, то ли официанткой в ресторане.
14
Перед тем как отправиться в Лугово, мы с Русиновым связались с УКГБ города. На запрос о Долгополове дежурный сообщил: пока никаких следов экспедитора в Зеленогорском или Лужском районах не обнаружено, туда направлена оперативная группа. Русинов передал в УКГБ составленное с моих слов описание внешности официантки или барменши, работающей в одном из ленинградских ресторанов, и попросил выяснить ее личность. Я подумала, официантка, скорей всего, может вывести нас на канал связи с иностранцами.
Когда мы сели в машину, Русинов бросил водителю:
— В Лугово.
Пока машина ехала по Ленинграду, я вдруг вспомнила: Уваров. Лагин связан с нумизматами, Уваров может знать Лагина и его окружение. К тому же именно Уваров слышал от Лещенко о некоем Викторе. Посмотрела на Русинова:
— Владимир Анатольевич, я подумала: эксперт Уваров может что-нибудь знать о Лагине? Это в мастерских реконструкции, в Петропавловской крепости, нам, в общем, по пути?
— Юлия Сергеевна, я с ним уже общался. Но думаю, если с Уваровым поговорите вы — это не помешает. — Русинов кивнул водителю: к Петропавловской.
Машина въехала в крепость, остановилась у бастиона. Я вышла, пообещав Русинову не задерживаться, не без труда открыла дубовую дверь; сразу же пахнуло холодом. Под светом тусклой лампочки на гранитных стенах виднелась влага. Спустилась по витой чугунной лестнице вниз — и попала в узкий коридор. Нижняя часть стен была заштукатурена и покрыта масляной краской, вверх, к своду подземелья, уходили сырые камни. Постучала в первую дверь — на ней был вырезан большой крест и висела табличка «Мастерская». Открыла и увидела темное помещение, свет в которое проникал через узкие окна-бойницы. Прямо передо мной в одной из ниш, опустив голову и держа в руке крест, стоял ангел. В глубине зала, за рядом стульев, над столиком горела лампа; сидящий там Уваров подчищал то ли икону, то ли просто доску. Увидев меня, поднял голову:
— Юлия Сергеевна, я нужен?
— Честно говоря, да. Вы никогда не слышали такую фамилию — Лагин?
— Лагин… Лагин… — Подождав, пока я сяду в кресло, Уваров взгромоздился на табурет. — Признаться, нет. Кто это? Вы садитесь удобнее, придвигайтесь к стене, кресло довольно шаткое.
— Спасибо. — Я придвинулась к стене. — Лагин — человек, как-то связанный с Лещенко, по крайней мере в последние дни. Помните, вы говорили о некоем Викторе или Владимире, предлагавшем Лещенко какую-то монету?
— Очень хорошо помню.
— Лещенко как будто недавно с ним познакомился?
— Да, недавно. Этот Виктор или Владимир, насколько я понял по словам Арвида Петровича, предлагал ему то ли какую-то сделку, то ли просил о консультации. Уточнять я тогда не стал, сами понимаете, это мне было ни к чему.
— Так вот, установлено: в день убийства, а именно в одиннадцать утра, в квартиру Лещенко пытался проникнуть и в конце концов проник некто Виктор Лагин, ранее судимый. Этот Лагин был связан с ленинградскими нумизматами, вернее, с преступной группой спекулянтов монетами.
Уваров некоторое время молчал, будто изучал щели среди камней.
— Лагин… Если так, я должен был о нем слышать. У нас в Ленинграде земля слухом полнится. Наверное, это было давно?
— Связи Лагина с преступной группой действительно зафиксированы давно, около двенадцати лет назад, до осуждения. Но ведь он снова занялся монетами.
— Наверное, занялся очень осторожно. Что-то не припомню такого имени.
— Именно этот Лагин искал у Лещенко некую Екатерину или Елизавету, помните, я вам говорила?
— Помню. Я специально расспросил нескольких знакомых. Насколько я понял, такой женщины среди знакомых Лещенко и людей, знавших его, нет.
— Может быть, среди знакомых Лещенко была женщина, работающая в одном из ленинградских ресторанов?
Уваров кашлянул, с сомнением покачал головой.
— Ресторанов?
— Да. Ей около двадцати пяти лет, темноволосая, глаза синие, привлекательная внешность?
— Вряд ли. Я о такой не слышал, да и… Я уже говорил, Юлия Сергеевна, Арвид Петрович был немолодым человеком, его интересовали только монеты.
15
Когда мы ехали в Лугово, я вдруг поймала себя на том, что думаю о Русинове. Поймет меня лишь женщина, и то не всякая, а та, которая не замужем и стоит на пороге тридцатилетия. Когда тебе тридцать и ты не замужем, надо или делать вид, что все в порядке, или бить во все колокола. Так вот: я еще не решила бить во все колокола, но близка к этому. Будучи трезвой до безумия, до отвращения к себе, я и сейчас, когда мне почти тридцать, все-таки жду принца. В роли принца в моей жизни уже побывало несколько человек, и, хотя не нужны мне никакие принцы, обойдусь, тем не менее я этого принца жду. Это особое состояние, я сама над ним смеюсь — но это факт. Ну вот, а теперь я думаю о Русинове и думаю только потому, что узнала: он не женат. И не просто думаю, все мои мысли заняты им. И конечно, я пытаюсь убедить себя, что думать об этом не надо, что это пустое, что, как всегда, все это пройдет и забудется…
В Лугово мы приехали примерно через час. Поселок был небольшой, около тридцати домов, расположенных вразброс в густом сосновом бору, метрах в ста от залива.
Мы опросили многих жителей поселка, но, кроме отрывочных и не очень точных сведений, ничего о Лагине не узнали.
Мне показалось, что председатель местного сельсовета Валерий Иванович Кайлов, грузный, с заплывшими глазами, на все наши вопросы отвечал не очень охотно. В любом случае он всем своим видом дал понять, что не позволит обойти себя по кривой и не скажет лишнего. Когда я спросила, не видел ли он сегодня Лагина, а также машину РАФ Ленаптекоуправления, председатель криво улыбнулся:
— Ничего о Лагине не могу сказать. Ну просто ничего. А вот машину РАФ, кажется, кто-то видел.
16
Мы обошли поселок и оказались в конце концов на заросших соснами дюнах. Справа, за полуразрушенными сараями, виднелся темно-серый залив, все пространство под соснами занимала прошлогодняя поросль вереска и черники, почва была песчаной, влажной; если машина стояла долго, следы должны остаться наверняка. Не просто следы, а ясные, четкие отпечатки. Пройдя сараи, видевший РАФ юноша по имени Андрей остановился. Русинов мельком осмотрел землю, спросил:
— Здесь?
— Как будто.
Русинов довольно долго ходил под соснами, постепенно отдаляясь. Присел, крикнул, обернувшись:
— Андрюша, посмотри, здесь стояла машина?
— Как будто здесь.
— Я следы нашел. Если здесь, это те самые.
Подойдя, я вгляделась: под примятым вереском четко отпечатались протекторы. Зашумела и затормозила машина, из остановившегося рядом газика вышел Балуев с фотоаппаратом, присел рядом. Русинов вздохнул:
— Я вижу, но, кажется, других не будет. Снимайте пока.
— Хорошо, Владимир Анатольевич.
Пока Русинов ходил рядом в поисках других следов, наш эксперт Балуев старательно щелкал фотоаппаратом, а потом начал делать слепки. Я посмотрела на часы: шесть вечера. Теперь имеет полный смысл остаться и подождать Лагина.
17
Уже половина одиннадцатого, но за стволами сосен еще виден начинающийся за дорогой залив, с другой стороны — темнеющий подлесок. Мы с полковником сидим в машине, сзади группа захвата. Впереди — за соснами — дом Лагина, сзади — шоссе. Вот прошла машина; гул мотора на несколько секунд отбрасывает голоса ночи, уходит, и снова наступает хрупкая тишина. Ждем мы часа четыре, я уже начинаю подумывать, что ждем зря, но тут Русинов осторожно трогает меня за локоть. Точно, шаги, легкое поскрипывание подошв по песку: впереди, в просвете сосен, мелькнул мужской силуэт. Иногда кусты полностью скрывают идущего, иногда он почти выходит на открытое пространство. Вот до него уже метров десять, вот пять. Подойдя почти вплотную к машине, человек останавливается. Он стоит прямо передо мной: тяжеловатый подбородок с ямочкой, нижняя губа больше верхней, взгляд с прищуром, худощав, жилист, одет в потертую кожаную куртку, такие же потертые джинсы. Черты лица имеют сходство с теми, которые я тщательно изучила по фотографии. Попробуй пойми, может быть, пистолет у него в куртке, может быть, засунут за пояс. Вот человек резко повернулся, подошел к машине:
— Если вы ждете меня, я не скрываюсь.
Мы все выходим, Русинов спрашивает:
— Лагин Виктор Александрович?
— Лагин Виктор Александрович, совершенно верно.
— Вы задержаны.
Оглянувшись, Лагин увидел вставшего сбоку Балуева, повел подбородком:
— Понял. Что делать? Наручники будете надевать или как?
— Если не будете делать глупостей, с наручниками подождем. Пока вы только подозреваемый.
18
К допросу я приступила сразу же, как только мы прошли в дом Лагина.
— Лагин, может быть, вы все расскажете откровенно?
Смотрит на меня с интересом, будто изучает, увидел в первый раз, не понимает, зачем я здесь сижу.
— С удовольствием. Только не знаю, о чем говорить откровенно? Подскажите.
— Думаю, отлично знаете.
— Так подскажите. Вообще, я не знаю даже, с кем разговариваю. Извините, вы очень приятная женщина, хотелось бы знать ваше имя, а? — Лагин сказал это без всякого вызова, мне пришлось сухо ответить:
— Силина Юлия Сергеевна, следователь Ленинградской прокуратуры.
— Очень приятно. Как вы уже знаете, я Лагин. Зовут Виктор. Не в чем мне чистосердечно признаваться, Юлия Сергеевна, честное слово. Поверьте, я бы с удовольствием. Вины за собой не чувствую, вот в чем дело. Объясните хоть, в чем подозреваете?
Ведь знает, в чем подозревается, я отлично вижу это по его глазам. Есть такое выражение: «отвечает, как пишет»; именно так отвечает сейчас Лагин, даже легкость есть в ответах, будто действительно не чувствует за собой никакой вины. Мелькнуло: да, такой подследственный не подарок. Кроме того, мать Лагина наверняка покрывала сына, когда я спросила об иностранцах. Связаться с иностранцами для такого человека, как Лагин, легче легкого.
— Объясню. Вы подозреваетесь в причастности к убийству Лещенко Арвида Петровича, жителя Ленинграда. Знаете такого?
— Знаю. А вот то, что он убит, слышу в первый раз.
Снова точный ответ, как по протоколу. Показывает мне, что ему ничего не известно.
— Напрасно, вы прекрасно знаете, что Лещенко убит. Этому есть много доказательств, но я все еще надеюсь на вашу откровенность. Поэтому спрашиваю прямо: признаете ли вы свою причастность к убийству Лещенко Арвида Петровича.
— Нет, не признаю. Интересно, где и как его убили?
Продуманный ответ. Ответить надо так же продуманно.
— И это вы отлично знаете. Есть неопровержимые доказательства, что вы находились в квартире Лещенко в момент убийства.
— Когда же он наступил, этот момент?
Решил четко придерживаться выбранной линии поведения, делает вид, что ничего не знает. Здесь у меня преимущество, я ведь знаю об оставленном отпечатке пальца и свидетельстве Станкевич, а Лагин нет.
— Мы вернемся еще к этому вопросу. Сейчас надо выяснить главное. Итак, вы отказываетесь признать свою причастность к убийству Лещенко?
Усмехнувшись, Лагин косится исподлобья, будто наблюдает за мной со стороны.
— И причастность отказываюсь признать, Юлия Сергеевна. Не причастен я к этому убийству никаким боком.
Никто из знавших нумизмата людей не называл имени Лагина, не описывал его примет. Единственное: Уваров сказал, что слышал от Лещенко о некоем Викторе, с которым тот познакомился. Вот и ограничусь сегодня этой задачей: выясню, как Лагин познакомился с убитым. Шуршу протоколом допроса, спрашиваю скучным голосом:
— Вы давно знакомы с Лещенко?
Кажется, не насторожился, по крайней мере, отвечает спокойно:
— Недавно.
— Это не ответ, Лагин, назовите точную дату. Что значит «недавно»? Вчера? Позавчера?
— Точную дату не помню, гражданин следователь. Я ведь не с невестой знакомился.
— Где вы познакомились?
— В сквере у Казанского собора. На толкучке нумизматов, она тогда там была.
По логике Лагин должен был увиливать, всячески затемнять момент знакомства, если это его беспокоит. Он же называет не подъезд, не квартиру без свидетелей, не подворотню, а толкучку нумизматов у Казанского собора.
— Кто вас познакомил с Лещенко?
— Никто, я сам подошел.
— Не знали Лещенко и подошли сами?
— Я разве сказал, что я его не знал? Я с ним не был знаком, но не знать Лещенко… Лещенко знает весь Ленинград, в смысле — все, кто занимается монетами.
— Кто-нибудь видел, как вы разговаривали с Лещенко?
— Откуда я знаю? Народ кругом толкался, мне как-то не до этого было.
— Зачем вы решили с ним познакомиться?
— Дело было.
— Что же это было за дело?
— Как будто не догадываетесь, Юлия Сергеевна. Монета. Решил ему монетку одну показать, русский рубль 1742 года. Он же мастак. Монетка любопытная, давно у меня лежала, друг подарил после армии, Савостиковым его звали.
— Повторите, как называется монета?
— Русский рубль 1742 года. Серебряный.
Жаль, рядом нет Уварова. Мне это ничего не говорит.
— Кто такой Савостиков?
— Савостиков Геннадий Леонидович, коллекционер. Да он умер, царство ему небесное.
— Отчего же он умер?
— Да он пожилой уже был. В больнице умер.
— Хорошо, оставим Савостикова. Где вы находились вчера, утром одиннадцатого мая, между двенадцатью и часом дня?
Я ожидала предъявления безупречного алиби, но то, что я услышала от Лагина, застало меня врасплох:
— Вчера утром, одиннадцатого числа, между двенадцатью и часом дня, я находился в Ленинграде на Двинской улице, в доме номер четырнадцать, квартире номер пятьдесят один.
Я настолько растерялась, что вынуждена была переспросить:
— То есть вы хотите сказать: вы были в квартире Лещенко?
— Да, Юлия Сергеевна, именно так: я был в квартире Лещенко.
Лагин сознательно отказался от алиби. Почему?
— Что вы там делали?
— Назад хотел взять эту самую монетку. Взял ее у меня Лещенко, а отдать забыл. Вернее так: я дал ему подлинную монету, а он говорит — она фальшивая. Ну и… пришлось обратиться. Пришел я к нему, позвонил. Старичок не хотел меня сначала пускать, но потом впустил.
— Впустил — и что?
— Ничего. Впустил, открыл сейф, достал мой рубль. Да, говорит, юноша, извините, глаза уже не те, монета действительно подлинная. Можно она полежит еще день у меня? Говорит, я ее атрибутирую — и приходите за деньгами. Я подумал, подумал — куда он денется.
— Сколько вам должен был заплатить Лещенко за эту монету?
— Неважно.
— И все же?
— Да не думайте, это все официально бы делалось, через музей. Ну, десять тысяч. По каталогу она стоит двенадцать.
— Значит, вы ушли, оставив монету Лещенко?
— Все верно.
— А Лещенко?
— А что Лещенко? Проводил меня до двери, и все. А что должно быть еще?
— Еще должно быть то, что Лещенко после вашего ухода нашли убитым.
— Говорю же, когда я уходил, он был жив, не трогал я вашего Лещенко.
— И коллекцию не похищали?
— Коллекцию? Да вы смеетесь. Ее, во-первых, не унесешь.
— Вы взяли только античные монеты, хранившиеся в сейфе.
— Не брал я никаких античных монет. Ушел, и все.
— Взяли, Лагин. Взяли, и цель у вас была вполне определенная: передать похищенные монеты иностранцам, с которыми вы связаны.
— Какие еще иностранцы? Вы что, гражданин следователь? Не знаю я никаких иностранцев!
— Знаете, только тщательно скрываете эту связь.
— Какую еще связь? Я вам признался как на духу: у Лещенко вчера я был, хотел вернуть свою монету. Остального, о чем вы говорите, знать не знаю.
Ловлю взгляд стоящего за спиной Лагина Русинова. Понимаю, полковник дает понять: с такими темпами допрос может затянуться надолго. Что ж, кажется, на сегодня его можно заканчивать. Интересно, конечно, что это за монета, серебряный рубль 1742 года, но в монетах я понимаю слабо и вряд ли справлюсь с этим без помощи Уварова. По крайней мере, я выяснила главное: все ответы Лагина тщательно продуманы, значит, в какой-то степени лживы.
19
Утром позвонил Русинов:
— Юлия Сергеевна, вам уже сообщили, что знакомая Лагина — некто Шахова? Шахова Марина Андреевна, проживающая на Лиговке, дом тридцать восемь.
— Нет. Кто ее опознал?
— Мать Лагина, по фото. Эта Шахова работает официанткой в ресторане «Тройка». Кроме того, у меня есть информация, что Лагина и Долгополова не один раз видели вместе.
— Спасибо, Владимир Анатольевич, приму к сведению.
Положив трубку, подумала: крайне важно, если я хочу, чтобы следующий допрос Лагина увенчался успехом, привлечь к нему Уварова. Пусть Уваров сидит и слушает все, что будет говорить Лагин. Уваров может молчать, может задать пару вопросов, но это будет мой тыл, во всем, что касается нумизматики, я должна чувствовать себя уверенно. Ведь от того, как я спрошу Лагина, зависит многое, может быть, даже все. Кроме того, надо встретиться с Сурковым и, конечно, поговорить с Шаховой. Причем сделать это так, чтобы узнать хоть что-то о коллекции и возможном местопребывании Долгополова. Нет, вызывать Шахову в прокуратуру я не буду, просто зайду в ресторан «Тройка». Я уже собралась идти к Уварову в Петропавловскую крепость, когда позвонил Русинов:
— Юлия Сергеевна, я разговаривал с Константином Кирилловичем Уваровым, у него есть интереснейшие соображения. Свяжитесь с ним.
— Как раз собираюсь это сделать.
— Никаких особых новостей нет?
— Пока нет, Владимир Анатольевич. Как только будут, сообщу.
20
Уварова я застала в келье: вооруженный лупой, он сидел на высокой табуретке над заменявшей стол каменной доской. Когда я вошла, ловко съехал с табуретки, одновременно отодвинув в сторону старинную рукопись и заложив за ухо инструмент, напоминавший длинную иглу с рукояткой. Усадив меня на некое подобие скамейки с резной спинкой, сел напротив на низенький сундучок.
— Весь вечер вчера прождал вашего звонка, звонил сам — бесполезно. Что-нибудь случилось?
— Ничего не случилось, Константин Кириллович, просто тот, кого мы искали, пришел домой довольно поздно, только и всего. Сами знаете, что такое задержание, знакомы с этим.
Уваров уставился в угол, будто что-то потерял на вытертых временем каменных плитах.
— Молодой человек по фамилии Лагин?
— Лагин, совершенно верно.
— Вчера я попробовал навести о нем справки. Действительно, некоторые коллекционеры знают этого юношу. И что с ним? Он задержан?
— Задержан, но причастность к убийству Лещенко категорически отрицает. Но не скрывает, что у него нет алиби.
Эксперт встал, повернулся к подслеповатому оконцу кельи.
— Интересно. Как я понимаю, вы приехали утром?
— Нет, вчера в три часа ночи. — А ведь я должна поделиться своим открытием с Уваровым. Должна, обязана. — Константин Кириллович…
Уваров обернулся:
— Да? Слушаю, Юлия Сергеевна.
— У меня появились кое-какие мысли, я хотела даже вам позвонить вчера ночью, но не решилась.
— Почему, позвонили бы — в три часа ночи я как раз просматривал последнюю справочную литературу. Вот… — тронул лежащий на столе толстый том в суперобложке. — Очень интересная книга, определитель русской серебряной монеты Дьячкова и Узденникова. Посмотрите, это любопытно.
Я взяла книгу, перелистала страницы. Фотографии монет, гравюры с изображением значков, таинственные буквы глаголицы, колонки описаний. Ничего не понимая, все же сказала:
— Да, в самом деле интересно.
— Именно здесь я нашел подтверждение моих сомнений по поводу женщины, которую искал ваш молодой человек.
Услышав это, я поневоле уставилась на один из значков, изображающих всадника с копьем на крылатом коне.
— Здесь?
— Здесь, Юлия Сергеевна, не улыбайтесь. Похоже, ваш молодой человек искал не женщину, а монету.
Не женщину, а монету. Ну конечно, Лагин требовал у Лещенко вернуть монету, именно монету. Слова Уварова предугадывают мое открытие — о монете, открывающей не только дверь квартиры, но и сейф. Еще не зная, что имеет в виду Уваров, подумала: важно, что этот мой вывод подтверждает сейчас эксперт-специалист.
— Знаете, Константин Кириллович, это очень важно.
— Что именно важно?
— То, что Лагин искал монету. Но мне нужно подтверждение, официальное подтверждение, что это было именно так.
— Подтверждение в этой самой книге, у вас в руках. Видите ли, у нумизматов свой язык, непосвященному их разговор вообще может показаться тарабарщиной. Свидетельница, слышавшая, как Лагин настойчиво требовал вернуть ему какую-то Елизавету или Екатерину, точно она не помнит, подумала, что речь шла о женщине. А на самом деле… Разрешите? — Уваров взял книгу, перелистал страницы. — Вот, эта мысль мелькнула у меня сразу, когда я услышал о фразе: «Отдайте мне мою Елизавету», но я хотел ее проверить. Видите? Вот что требовал отдать ему Лагин, вот эту «Елизавету», вот она. — Он показал фотографию монеты с женским профилем. — Так называемая «Елизавета», монета достоинством в один рубль с профилем императрицы Елизаветы, отчеканена в 1758 году, конечно же речь шла не о женщине, а о монете, и о монете редчайшей, видите индекс — тире, совмещенное с двоеточием? Это предпоследняя степень редкости, но есть и последняя, которая обозначается двумя буквами — «ЕД» и означает «единичная», иначе, монет существует всего несколько штук, адрес, как правило, хранится в тайне. Вот видите, еще одна «Елизавета», также достоинством в один рубль, но отчеканенная в 1742 году, у нее именно этот индекс — «ЕД».
Я вгляделась в фотографию. Вполне может быть, что это тот самый русский рубль 1742 года, о котором говорил Лагин.
— Простите, Константин Кириллович, за наивный вопрос: эта «Елизавета», конечно, монета ценная?
— К монетам такого класса слово «ценная» не очень подходит. У монеты есть госцена, если вы откроете последний каталог, там проставлена стоимость, двенадцать тысяч рублей. Но цена эта проставлена чисто номинально, если такие монеты и появляются в продаже — они выставляются на аукционы. Допустим, если бы на аукционе «Сотби» появилась одна из четырех «Елизавет» 1742 года, во что я не верю, она бы ушла за сумму, в десятки, если не в сотни раз превышающую номинальную плату. Вы говорите, Лагин сам назвал эту монету?
— Сам. Он сказал, что эта монета, русский рубль 1742 года, послужила поводом для его знакомства с Лещенко.
— Что значит «поводом»?
— Он отдал эту монету Лещенко для консультации.
— Он что, утверждает, что был владельцем монеты?
— Утверждает. По его словам, около двенадцати лет назад эту монету подарил ему некто Савостиков. Вы слышали такую фамилию?
Уваров с сомнением покачал головой:
— Слышал, но… Во-первых, исключено, чтобы у Савостикова могла оказаться подлинная «Елизавета» 1742 года, во-вторых, даже если это и так, он никогда не п о д а р и л бы ее Лагину. Никогда. Тем более двенадцать лет назад. Но у вашего юноши серьезная осведомленность, Савостиков действительно был крупным коллекционером.
— Был?
— Лет пять назад он умер от инфаркта, но дело не в этом. Дело совсем не в этом. — Уваров снова стал рассматривать угол кельи, будто надеялся что-то там найти. — Вы сказали, что у вас есть какие-то соображения?
— Да. Я считаю, Лагин действительно дал эту монету Лещенко для консультации. — Я помедлила, но Уваров только пробурчал:
— Так, так… я слушаю…
— Они договорились о каком-то определенном сроке, но Лагин раньше срока стал ломиться в квартиру Лещенко с требованием вернуть монету. Лещенко был вынужден его впустить и даже открыть сейф, в котором хранилась монета. Об остальном можно догадываться.
Уваров долго сидел, шевеля губами, будто что-то подсчитывая.
— Стройная система. Очень стройная. Но есть в ней одно «но».
— Какое?
— О Лагине я услышал только, от вас, судить о его действиях не могу, поэтому буду рассматривать события со своей точки зрения. Так вот, если бы у Лещенко появилась такая монета, пусть лишь предложенная на консультацию, пусть на короткий срок, пусть возможная подделка, он обязательно сказал бы об этом мне. Обязательно. Даже сомнение, даже слабая надежда, что он откроет одну из «Елизавет» 1742 года здесь, в Ленинграде, было бы для него событием. Только подумать — «Елизавета» семьсот сорок второго года. Но он почему-то сказал мне лишь о знакомстве с Виктором, о том же, что тот предложил ему на консультацию «Елизавету» с индексом «ЕД», даже не упомянул. Чем это объяснить?
— Может быть, он хотел сначала проверить подлинность монеты? Убедиться, что она настоящая?
— Насколько я понял, монета у Арвида Петровича лежала около недели, время достаточное, чтобы убедиться, подлинник это или подделка. Да и вообще, Арвид суеверием не отличался, сглазу не боялся, какой смысл ему это скрывать, тем более от меня?
— Может быть, это была другая монета, и Лагин нарочно темнил?
— Может быть. Кроме того, есть еще одно сомнение насчет того, что Лещенко открыл сейф, когда Лагин вошел в квартиру. Не уверен, что Лещенко положил бы неатрибутированную, то есть непроверенную, монету в сейф. Самое для нее место в шкафу, на верхнем планшете.
— То есть у вас есть уже несколько сомнений, а может набраться и больше?
— Безусловно. Понимаете, Юлия Сергеевна, со многим, что я от вас услышал, можно спорить, хотя в целом версия интересная. Но она требует тщательной проработки. Тщательной.
— Вы согласны помочь мне в этой проработке?
— Согласен не то слово. Обязан.
— Я хочу попросить вас присутствовать на следующем допросе, вы не против?
— Отчего же, помогу, чем смогу.
21
Выйдя из Петропавловской крепости, я решила пройтись до прокуратуры пешком. Двинулась по любимому маршруту: вдоль Кронверкского пролива к стрелке Васильевского острова, мимо здания Биржи, Ростральных колонн, Адмиралтейства. Идти было легко, погода стояла солнечная,
но не жаркая, большинство прохожих было уже без плащей. Я люблю эти дни — по ленинградским понятиям пока еще весна, в тени холодок, но ясно, вот-вот наступит лето. Я старалась думать именно об этом, о предстоящем лете. Усмехнулась: хорошо, когда есть с кем провести лето. Когда до прокуратуры оставалось минуты две хода, перешла улицу и увидела Русинова — он шел в нескольких метрах впереди. Подумала: идет легко и пружинисто. Сколько ему лет — за сорок пять? Да, наверное, около сорока пяти, может, чуть больше, но пятидесяти нет наверняка. Кажется, идет туда же, куда и я, в прокуратуру. Точно. Поневоле прибавила шагу. Русинов увидел меня, остановился:
— Это судьба, Юлия Сергеевна. Я ведь к вам.
— Очень приятно. — Улыбнулась. — Идемте?
Не сдвинулся с места.
— Давайте будем честными, вам очень хочется сидеть в своем кабинете? — Так как я промолчала, добавил: — Видите кафе наискосок? Почему бы не зайти туда, оно наверняка пустое?
Это кафе я хорошо знала, и знала, что там сейчас пусто, и очень хотела зайти туда с Русиновым, но безразлично кивнула:
— Зайдем, делу от этого хуже не станет.
— Вы правы, делу хуже не станет.
Мы взяли два кофе и пирожные, сели за столик у окна, и я рассказала о своих выводах, которые сейчас показались мне не такими убедительными.. Русинов долго молчал, наконец вежливо улыбнулся:
— Идея умышленного отказа от алиби. А что, интересно. Только…
— Да, только?
— Что касается вывоза коллекции каким-то другим путем, сомневаюсь. И по очень простым причинам. Во-первых, три тысячи монет сразу вывезти сложно. Во-вторых, судя по почерку, преступники не новички и разбираются в тонкостях. Вряд ли они отдадут сразу всю коллекцию. Ведь понимают: одна монета, проданная Пайментсу даже за десятую часть стоимости в валюте, обогатила бы их. Согласны?
— Согласна, Владимир Анатольевич. Сказывается некомпетентность.
— Дело не в этом, вы прекрасно ведете расследование. Что же до нумизматики, у вас теперь целых два консультанта. Константин Кириллович и я. Он сообщил свое мнение по поводу слова «Елизавета»?
— Сообщил.
— Честно говоря, чуть-чуть обидно. К выводу, что имелась в виду не женщина, а монета, я пришел еще вчера и тоже мог перед вами отличиться.
— Но почему-то мне об этом не сказали.
— Колебался. — Замолчал. — Вы не могли бы еще раз повторить, что вам говорил Лагин по поводу рубля 1742 года? Насколько я понял, он утверждает, что этот рубль ему подарил коллекционер по фамилии Савостиков?
— Да, Савостиков Геннадий Леонидович.
— Лагин утверждает, монета была подлинной?
— Подлинной. Так он говорит.
— Зачем же он отдал ее Лещенко для консультации? По его версии? И не только по его, но и по вашей?
— Ну… может быть, хотел уточнить стоимость? Просто продать?
— Если бы он хотел «просто продать», он бы и продал, сразу же получив деньги. Нет, здесь в показаниях Лагина явный провал. Потом возникает какая-то путаница. Лещенко якобы сказал, по словам Лагина, что монета фальшивая, а потом вдруг переменил мнение. Не похоже все это на такого знатока, как Арвид Петрович.
— Именно поэтому я попросила Константина Кирилловича присутствовать на следующем допросе Лагина. Думаю, он поможет разобраться в этих тонкостях.
— Безусловно. Жаль, нет в живых самого Савостикова, с его помощью было бы легче понять эту механику. У меня для вас тоже есть новости. Допрошен Сурков, он категорически отвергает какую бы то ни было связь с иностранцами.
— Отвергать мало.
— Мало, но ведь его связь с иностранцами нужно еще доказать. Доказательств нет. И еще: проверка показала, что и у Шаховой никаких контактов с иностранцами не наблюдалось. И вообще, на работе она характеризуется положительно.
— Тем не менее она уже год встречается с Лагиным.
— Верно. Вот я и подумал: с одной стороны, эта Шахова действительно может быть ангелом, с другой — в тихом омуте черти водятся.
— Согласна. Я как раз и собираюсь изучить ее ближе.
Русинов тронул чашку:
— Простите, Юлия Сергеевна, забыл спросить, что, если нас увидит ваш муж? Поймет ли он, что мы говорим о деле?
— Владимир Анатольевич, у меня нет мужа.
Сделал вид, что занят размешиванием кофе. Посмотрел в упор:
— В самом деле?
— В самом деле.
— И никогда не было?
— Никогда не было. — Меня начали злить это, но Русинов не сразу понял.
— Такая красивая женщина и… — посмотрел на меня. — Простите. Поделом, старый дурень, называется, сделал комплимент. Что мне теперь делать, а?.. Вот что, не будем как цапля и журавль, помните сказку? Вернемся к Шаховой. Я давно не был в ресторанах, обедаю главным образом на службе. Что за ресторан «Тройка»? Где-то слышал, там хорошая кухня.
— Да, туда ходят вкусно поесть. В «Тройку», насколько я знаю от вас, часто заходил Долгополов. Шахова же самым тесным образом связана с Лагиным. Поэтому, может, поговорим с ней вместе — прямо там, на работе?
22
В этот же день атташе Посольства СССР в Великобритании по культуре и искусству Андрей Долженков, молодой и подающий надежды дипломат, сидел в холле представительства аукциона «Сотби» на Стрэнде в Лондоне и изучал только что выложенные на стол проспекты, в которых перечислялись экспонаты ближайшего аукциона. Наконец он заметил в самом углу последней страницы вкладыш — вставленный в каталог глянцевый лист с коротким объявлением: «Елизаветинский рубль. Русская монета XVIII века, первой половины (1742). Начальная стоимость — 100 000 фунтов стерлингов». Под текстом темнела крохотная фотокопия монеты, на которой можно было все-таки разобрать профиль императрицы Елизаветы. Долженков достал блокнот, тщательно переписал объявление, быстро вышел на улицу и взял такси.
Вскоре из Лондона в Москву ушел телекс:
«На аукционе «Сотби» выставлена для продажи монета «Елизаветинский рубль 1742 года» с профилем императрицы Елизаветы. Начальная стоимость — 100 000 фунтов стерлингов».
23
Изучив сообщение, Русинов около часа сидел, разглядывая видневшиеся в окне крыши. Наконец вырвал листок из блокнота, набросал короткий текст.
В телексе, который вскоре ушел в Лондон, значилось:
«Монета «Елизаветинский рубль 1742 года» вывезена из СССР незаконным путем. Просим немедленно приостановить продажу монеты. Работникам посольства необходимо срочно добиться осмотра монеты, сфотографировать ее и тщательно переписать все замеченные дефекты и царапины на аверсе, реверсе и гурте. Результаты осмотра и фотографию монеты просим немедленно телеграфировать».
24
Стройная, гибкая, с огромными синими глазами, она приблизилась к нашему столику и посмотрела на Русинова. Владимир Анатольевич, в своей куртке и джинсах, а тем более в паре со мной, выглядел завзятым прожигателем жизни. Сейчас, перед ужином, ресторан «Тройка» был почти пуст; кроме нашего было занято всего два столика. Губы Марины Шаховой вздрогнули:
— Что желаете?
На официантке была строгая синяя юбка, белоснежный передник, наколка. На вид Шаховой можно было дать не больше двадцати, хотя я знала, что ей двадцать пять. Может быть, она и увлекалась золотом и камнями после работы, но сейчас никаких украшений на ней не было. Мать Лагина была права: в ее красоте, в наигранной наивности синих глаз пряталось что-то настораживающее. Русинов улыбнулся:
— Хотим выпить кофе.
Нет, эта девочка никуда от меня не уйдет. Только бы установить, что она знает Долгополова. Конечно, я могла бы сразу представиться и спросить, знает ли она, во-первых, Долгополова, во-вторых, Лагина, но мне хотелось некоторое время посмотреть на подругу Лагина со стороны. Смерив Русинова взглядом, Шахова ответила нейтрально:
— Пожалуйста, я слушаю.
Да, в ней есть все, чтобы нравиться мужчинам. Стройность, легкость, уверенность в себе. Но главное, в ней есть какая-то тайна, что-то, закрытое для других, — это чувствуется во всем: в глазах, в манере говорить, в каждом движении.
— Гренки с сыром есть?
— Да, есть. — Я смотрела, как Шахова быстро записывает в блокнот заказ; красивые руки, длинные пальцы, ухоженные ногти, ручка «Паркер», плавно плывущая над блокнотом. — Все?
— Все, если не считать кофе со сливками. — Русинов закрыл меню.
— Хорошо, сейчас я все принесу.
Я поняла не только Лагина, но и Русинова, который непроизвольно посмотрел ей вслед. У мужчин в этот момент бывает довольно глупый вид, но я его простила. Повернувшись, Владимир Анатольевич поймал мой взгляд — и покраснел:
— Я выглядел глупо, да, Юлия Сергеевна?
— Она действительно хороша. Я вот о чем: как вы думаете, она знает Долгополова?
— Долгополов здесь бывал, она его обслуживала. И не раз. Значит, она его знает.
— Железная логика. Официантка не обязана знать клиентов. Короче, вместе, вне обслуживания, их никто не видел?
— Не знаю. У меня таких данных нет.
Я хотела только одного: установить, что посредником, познакомившим Лагина и Лещенко, был Долгополов. Если бы я была твердо уверена, что Марина Шахова и Эдуард Долгополов знакомы, многое встало бы на свои места. Треугольник Лещенко — Долгополов — Лагин в таком случае замкнулся бы.
— Жаль, — сказала я. — Но если мы найдем свидетелей, которые подтвердят, что Долгополов и Шахова знакомы, я буду счастлива.
Подойдя, Марина Шахова осторожно поставила на стол кофейник, кувшинчик со сливками, накрытую салфеткой тарелку с гренками и ушла. Сделав вид, что занята кофе, я заметила уголком глаза: остановившись в проходе, официантка что-то коротко сказала метрдотелю, тот невозмутимо кивнул, тут же исчез.
— Владимир Анатольевич, кажется, нас засекли.
Не поднимая головы, Русинов покосился:
— Не может быть.
— Может, и причина простая: у Марины Шаховой заряженность на проверку. Она наверняка видела вас когда-нибудь в форме.
— Я никогда не бывал здесь. Да я и вообще не хожу в форме.
— Это не имеет значения. Ничего, мы свое дело сделали, сейчас наша задача красиво уйти. Сможем?
— Лично я — постараюсь. А вам советую остаться. И поговорить с Шаховой с глазу на глаз, как женщина с женщиной.
— Хорошо. И неплохо было бы, чтобы у Суркова и Михеевой взяли показания, знают ли они Лагина.
— Вас понял, Юлия Сергеевна.
Русинов ушел, сделав это еще более красиво, чем я ожидала; примерно минут через пятнадцать, выскользнув из-за портьеры и сделав дружелюбное лицо, Марина Шахова занесла над блокнотом «Паркер»:
— Что-нибудь еще?
— Спасибо, ничего. Посчитаете?
— Конечно. — Шахова смотрела на меня, как полагается хорошо подготовленной официантке. — Два двадцать четыре.
Я положила на скатерть два рубля, придавила их мелочью. Если бы она призналась, что знает Долгополова! Если бы!
— Большое спасибо. Кофе был замечательным. Вы ведь Марина Шахова?
Взяв деньги, Шахова улыбнулась, но на этот раз улыбка оказалась нарочито деревянной.
— Совершенно верно, я Марина Шахова. Простите, что-то не так?
— Нет, все так.
— Вам что-то нужно?
— Меня зовут Силина, Юлия Сергеевна Силина, я следователь городской прокуратуры.
— Очень приятно.
— Марина, я хотела бы поговорить с вами.
— Пожалуйста. Вы хотите прямо здесь?
В глазах официантки что-то мелькнуло, но уже через секунду они стали чистыми, как лесное озеро. Никакой реакции, никакого удивления. Да, скорей всего, она догадалась, зачем я пришла. Значит, она уже все продумала. Жаль.
— Я готова, товарищ следователь, где?
— Лучше в каком-нибудь служебном помещении.
— Даже не знаю, куда вас пригласить. Может быть, в кабинете метрдотеля?
— Если это удобно.
— Удобно. — Шахова кивнула, мы прошли за портьеру; пропустив меня в пустой кабинет, официантка показала на кресло:
— Прошу, садитесь. — Дождавшись, пока я сяду, села сама. — Слушаю вас, Юлия Сергеевна.
Пытаясь найти общий язык, я улыбнулась. Шахова, помедлив, улыбнулась в ответ. Улыбка у нее действительно была замечательной. Наивная, обворожительная улыбка первоклассницы. Да, в ней есть тайна, есть, никуда не денешься. И наверняка она нарасхват, любой ресторан может гордиться такой официанткой.
— Я слушаю.
— Вас не интересует, почему я хочу с вами поговорить?
— Интересует, но… Я привыкла не быть любопытной. Но если вы так хотите — почему? Что-нибудь по работе?
— Нет, не по работе.
— Тогда что же?
— Как давно вы видели Виктора Лагина?
Я ожидала увидеть в ее взгляде удивление, испуг, тревогу, ну, по крайней мере, простое любопытство — но глаза Марины Шаховой были спокойны.
— Виктора Лагина? Виктора Лагина. Напомните, кто это?
Или она говорит искренне, или это старый, хорошо проверенный трюк: мол, за день приходится видеть столько людей, что всех просто невозможно запомнить. Может быть, она и знает Виктора Лагина, может быть, даже встречалась с ним, но точно вспомнить не в состоянии. Строя ответы таким образом, свидетель в дальнейшем всегда может отказаться от показаний.
— Так вы напомните?
— Виктор Александрович Лагин, тридцати двух лет, если вам это сможет помочь.
— Знаете, в конце смены все в глазах разбегается. Их столько, честное слово, вы даже представить не можете. Виктор Лагин… Кажется, все-таки я с таким встречалась. Но точно сказать не могу.
Выйдя на улицу, я была вынуждена признать: схватку с Мариной Шаховой я проиграла. Ладно, не будем падать духом, завтра я вызову официантку в прокуратуру, кроме того, у меня всегда в запасе испытанное средство — очная ставка с Лагиным. Не откладывая, я послала Шаховой вызов на завтра в прокуратуру.
Вечером позвонил Русинов. Он сообщил, что допросил Суркова и Михееву, они официально подтвердили, что не знают Лагина. Помедлив, сказал еще одну новость: свидетелей, могущих подтвердить факт знакомства Шаховой и Долгополова, найти так и не удалось.
25
На официальный допрос ко мне в прокуратуру Шахова пришла к десяти утра, но разговора с ней у меня снова не получилось. Как и вчера, официантка продолжала утверждать, что не может вспомнить, встречалась ли она с человеком по фамилии Лагин. Может быть, и встречалась, но точно она не помнит. Сколько я ни старалась, я так и не смогла настроить Шахову на доверительный разговор. Отпустив официантку, я созвонилась с Уваровым и поехала в ИВС.
После того как конвоир ввел Лагина, тот посмотрел на меня, на Уварова — и молча сел. Хороший признак: Лагин не знает Уварова в лицо и не подозревает, кто он такой. Значит, не сможет откорректировать ответы. Надеясь втайне, что на поведении Лагина скажется время, проведенное в ИВС, я нарочно долго раскладывала бумаги. Стала заполнять протокол, спросила, не поднимая глаз:
— Ну что, Лагин, все продумали?
— Не понимаю, Юлия Сергеевна. Что я должен был продумать?
Посмотрев на Лагина, увидела в его глазах ту же насмешливую уверенность, с которой он разглядывал меня в Лугове. А также — искреннее удивление, недоумение, как можно его в чем-то подозревать. Хорошо, пусть хитрит, пусть притворяется невинным — вопросы должны быть точными и бить по главным направлениям.
— Лагин, знаете ли вы Эдуарда Васильевича Долгополова? Работника Ленаптекоуправления?
— Первый раз слышу.
— Есть показания свидетелей, неоднократно видевших вас вместе с Долгополовым.
— Не знаю, с кем и кто меня там видел. Человека, о котором вы спрашиваете, я не знаю, вот и все. А видеть меня могли, видеть никто не запрещает.
— Пытаетесь запутать следствие, Лагин. Долгополов, именно Эдуард Долгополов познакомил вас с Лещенко.
Уголки глаз дрогнули — но лицо неподвижное, почти каменное:
— Ничего подобного. С Лещенко я познакомился сам.
— Почему вы скрываете факт знакомства с Долгополовым?
— Ничего я не скрываю, гражданин следователь. Не знаю я этого Долгополова, ну что вы в самом деле? Не знаю, и все. С Лещенко я познакомился сам, причину знакомства указал, все открыл как на духу. Готов отвечать на любые вопросы, спрашивайте.
— Спрошу. Итак: с какой целью вы хотели познакомиться с Лещенко?
— Я хотел показать ему монету, чтобы он оценил ее.
— Какую монету?
— Рубль 1742 года.
— Как у вас оказалась эта монета?
— Мне подарил ее коллекционер Савостиков.
— Когда?
— Давно. Я только пришел из армии.
— В каком году конкретно?
— Считайте сами — двенадцать лет назад.
— Вы знаете, сколько стоит эта монета?
— Знаю. Двенадцать тысяч.
— И Савостиков просто так подарил вам эту монету?
— Тут есть одна тонкость, Юлия Сергеевна. Савостиков был уверен, что это подделка. Фальсификат.
Интересно. Это как раз то, чем интересовался Русинов.
— А на самом деле?
— Видите ли… Я сам сначала думал, что это подделка. Но потом, недавно, достал монету, смотрю — жутко похожа на подлинник.
Я незаметно покосилась на Уварова — тот сидит спокойно, только что-то подрисовывает в блокноте. Лагин вздохнул:
— Просто жутко. Кому показать? Лещенко, конечно. Вот и все. Я и показал.
— И что же Лещенко?
— Старик сразу же сказал, что это подлинник и, возможно, он купит монету. Но попросил оставить — на время. Я позвонил через два дня, он: простите, молодой человек, ошибся, можете забрать монету, это явная подделка.
Уваров сидел так же спокойно. Лагин потер лоб:
— Вообще-то я знаю, Лещенко человек честный, но тут закралось сомнение, ведь сначала он сказал, что это подлинник. Обидно стало, но хорошо, думаю, проверим. Взял у него монету, прихожу домой, смотрю — монета-то не моя. Действительно, фальшивка, самая настоящая фальшивка, но главное — не моя.
Уваров сказал раздельно:
— Как вы это определили?
— А что тут определять? Свою монету я знаю как облупленную. Каждую отметинку, зазубринку, характер чеканки. А тут смотрю, совершенно другая монета, подсунул старик липу.
Уваров хмыкнул:
— Сомневаюсь, чтобы Лещенко кому-нибудь мог подсунуть липу.
— Да я сам удивился, подумал еще: вот тебе и честный. Покрутил я этот кругляшок, вечером ничего делать не стал, а утром — к нему. Час, наверное, ломился, он не пускал. Я ему: Арвид Петрович, отдайте монету по-хорошему, а он — отдал же я вам монету, что вам еще нужно?
Лагин говорил, воодушевляясь, почти увлеченно, и я подумала: до чего же все точно размечено, не придерешься.
— А потом?
— А что потом? Потом он меня все-таки впустил.
— Странно. То не хотел пускать, то вдруг впустил.
— Не знаю уж, почему он меня впустил. Совесть ли заговорила, или что.
— Что было дальше?
— А что дальше? Впустил он меня, открыл сейф — да, говорит, вот ваша монета, это действительно подлинник, я его у вас покупаю.
— Так и сказал — покупаю? — тихо спросил Уваров.
— Да, так и сказал. Хотите, можете забрать, хотите оставляйте, но считайте, монету я купил. Покупку оформим через музей, чтобы не было претензий.
Лагин смотрел на Уварова, будто ждал решения своей участи. Уваров сказал так же тихо:
— Это была ваша монета? На этот раз?
— Да, на этот раз была моя. Все метки, царапины, просечки, от и до. Свою монету я знаю.
Уваров кивнул: «у меня все». Я продолжила:
— Вы забыли одну деталь.
— Какую?
— Никто не звонил Лещенко по телефону, — прежде чем он вас впустил?
— По телефону… — Лагин помедлил. — Действительно, звонили.
— Кто, вы не знаете?
— Откуда же я знаю? Лещенко мне не сообщал.
— Вы слышали, что он говорил?
— Извините — чужих разговоров не подслушиваю.
— Что-то вы могли услышать. Обрывки слов, фраз?
— Я ничего не слышал.
— Значит, вы убедились, что это ваша монета, а потом?
— Я подумал: вряд ли старик второй раз обманет, да и потом, это же подлинник, они все на учете. Ну и ушел.
— Ушли — все?
— Ушел, и все.
— В какое время дня это было?
— Ну… примерно около двенадцати.
— Удивительно. Медэкспертиза показала, что как раз около двенадцати Лещенко были нанесены два смертельных ранения колюще-режущим предметом.
— Не знаю. Может быть, они и были нанесены, но меня при этом не было.
— Кем же они были нанесены? Ведь в квартире вас было только двое?
— Как будто двое.
— Кто же мог нанести Лещенко эти два удара колюще-режущим предметом, кроме вас, Лагин?
— Не знаю, гражданин следователь. Я эти удары не наносил.
— Хорошо, допустим. Что вы делали потом, выйдя от Лещенко?
— Поехал домой.
— На Белградскую улицу?
— Нет, в Лугово. — Лагин разглядывал меня все с той же уверенной усмешкой.
— Гладкая версия. Очень гладкая. И все-таки изложу свою версию, хотите послушать?
— Отчего же не послушать, послушаем.
— Она почти такая же, как ваша, но с некоторыми дополнениями. Вы действительно познакомились с Лещенко и показали ему монету. Допускаю даже, что это был тот самый рубль 1742 года. Однако, и это дополнение первое, познакомились с Лещенко вы не сами, вас познакомил Эдуард Долгополов. Тот самый Долгополов, связь с которым вы так тщательно скрываете.
— Ничего я не скрываю. Я его не знаю на самом деле.
— Знаете, отлично знаете, это могут подтвердить многие. Вас видели сидящими вместе в кафе, выходящими, также вместе, из ресторана. Заранее сговорившись с Долгополовым, вы пришли к Лещенко и стали требовать у него монету. Лещенко не хотел пускать вас в квартиру, но в это время по телефону позвонил Долгополов. Не знаю, о чем говорили Долгополов и Лещенко, но подозреваю: Долгополов заранее незаметно для Лещенко положил монету в сейф и, так как Лещенко сообщил ему по телефону о вашем требовании, сказал, что монета, которую вы хотите получить, в сейфе. Лещенко открыл сейф, увидел монету и впустил вас в квартиру. Вы хладнокровно убили его, забрали монеты из сейфа и ушли. Затем одну или несколько из похищенных монет вы передали иностранцу, получив от него соответствующее вознаграждение. После этого решили улететь из Ленинграда и с этой целью приобрели в Зеленогорске билет на самолет Ленинград — Сочи. — Я достала из папки склеенные клочки авиабилета и показала Лагину. — Но потом справедливо решили, что увезти похищенную коллекцию на самолете будет трудно, если не невозможно. Поэтому вы выработали другой план — передали коллекцию Долгополову, который позавчера утром специально приехал для этого в Лугово. Есть свидетели, видевшие его машину; есть слепки и фотографии следов, оставленных протекторами этой машины. Пожалуйста. — Я протянула Лагину пачку фотографий. Он молча просмотрел их, вернул мне. — Факты, Лагин, неоспоримые факты подтверждают ваше участие в преступлении. Поэтому единственное, что вам остается, — признаться в содеянном. Другого пути нет.
Некоторое время Лагин сидел, что-то обдумывал. Наконец поднял глаза, мне на секунду стало не по себе, в этих глазах стояла стальная решимость.
— Факты… Нет, Юлия Сергеевна. Не вижу я никаких неоспоримых фактов. Коллекции я не брал, иностранцам ничего не передавал, Лещенко не убивал, вот и весь сказ. Следы машины — и что? Человека, о котором вы спрашиваете, я не знаю, мало ли зачем его машина приезжала в Лугово?
— И билет на самолет вы не покупали?
— Покупал, ну и что? Человек не имеет права купить билет на самолет? Тем более я не улетел.
Лагин смотрел не мигая. Мне показалось, следующий вопрос будет к месту:
— Скажите, Лагин, вы знаете Марину Андреевну Шахову?
Лагин сцепил руки, заложил их за затылок, потянулся. Покачал головой:
— Юлия Сергеевна, запрещенный прием. Ну при чем тут Марина Шахова?
— Так вы знаете ее?
— Знаю, ну и что? С Мариной Шаховой я встречаюсь больше года, можете считать, это моя невеста. Удовлетворены?
— Удовлетворение здесь ни при чем, дело в факте вашего знакомства. — Сказав это, подумала: без очной ставки не обойтись. Нужно лишь выбрать момент, когда она принесет наибольшую пользу.
Лагин скривился:
— При чем тут факт нашего знакомства? Ко всему, о чем здесь говорилось, Марина Шахова не имеет никакого отношения. Оставим Шахову. Так вот: если вы думаете, что я изменю показания, — напрасно. Лещенко я не убивал, перед законом я чист, от милиции не скрывался. Можете допрашивать хоть каждый день, хоть два раза, буду стоять на своем. Все.
После того как Лагина увели, я посмотрела на Уварова.
— Константин Кириллович? Ваше мнение?
Эксперт держал перед собой раскрытый блокнот; лист был испещрен контурами «Елизаветы». Вздохнул:
— Мнения-то у меня и нет. Все, что касается нумизматики, запутано до последней степени. И в то же время как будто чисто. Я так и не смог понять, была ли эта самая «Елизавета» подлинной или фальшивой, но, скорее всего, она была фальшивой. Это что касается нумизматики.
— А в остальном?
— В остальном у вашего Лагина все сходится.
— У моего Лагина… Константин Кириллович, вы видите, какую он выдвигает версию?
— Вижу.
— И что скажете? Это же липа, сплошная липа.
Уваров долго молчал. Наконец тяжело вздохнул, встал.
— Жаль Арвида Петровича. Жаль. Не хочу вас огорчать, Юлия Сергеевна, но, кажется, вы ничего не сможете с этой версией поделать. Если вам будет нужна моя помощь, звоните. Помните, я не сплю до поздней ночи. Сам же я сейчас позвоню Владимиру Анатольевичу, мне нужно уточнить с ним кое-что. Потом позвоню вам.
— Спасибо.
Уже после ухода Уварова я сказала себе:
— Нет, я смогу что-то поделать с версией Лагина. Смогу. Увидите, смогу.
Чуть позже позвонил Русинов. Он только что поговорил с Уваровым и подтвердил: в показаниях Лагина о «Елизавете» он, как и Уваров, видит много неясного.
26
Вечером я лежала у себя в квартире на Арсенальной набережной и прислушивалась, к темноте. Тихо. Только слышно, как с Невы ползет низкий глухой звук. Пароходный гудок, я хорошо знаю его тембр. На потолок ложатся тени, я думаю о Лагине. Иногда мне кажется, что многое, что он говорит, правда. Нет, все-таки он что-то скрывает. Значит, это лишь исполнитель, винтик, четко выполнивший свою функцию. О судьбе коллекции позаботятся другие. Не исключено, что ее попытаются, как предположил Русинов, вывезти за границу по частям. Каждая из трех тысяч похищенных монет имеет высочайшую аукционную цену. Лагин же, что там ни говори, для меня не просто подозреваемый; если мои выводы верны, он единственный участник преступной группы, находящийся — пока — в распоряжении следствия. Может быть, Лагина лучше освободить, установив за ним наблюдение? Но ведь тогда не останется никакой реальности, вещественности, связывающей следствие и преступников. Но дело даже не в этом, ведь если Лагин на самом деле убийца — я просто не имею права выпускать его на свободу. Он убьет еще кого-нибудь.
Когда у женщины ничего не получается, она начинает ныть. Так вот, сейчас я ныла, я говорила сама себе, что бездарна, что, допрашивая Лагина, лишь убедилась в собственной беспомощности. Так тебе, неудачница, так, ничего не добившаяся в личной жизни. Мало того, что ты неудачница, ты еще и бездарный следователь. Совершенно бездарный. Ты допрашивала Суркова, Михееву, всех соседей Лещенко, но так и не узнала ничего нового. Ты ничего не смогла добиться даже от хрупкой синеглазой Марины Шаховой. Официантка по-прежнему твердит, что не помнит, когда и где встречалась с Лагиным, сам же Лагин отказывается говорить на эту тему. Теперь я почти уверена, ничего не принесет и очная ставка Шаховой и Лагина.
Наверное, я еще долго лежала бы так, продолжая ныть если бы не услышала где-то совсем близко легкий шорох. Сначала мне показалось, что скребется мышь. Вот снова у самой двери возник, уполз в сторону и застыл слабо-настороженный, протяжный звук. Вот опять. Нет, это не мышь. Я выросла в деревне и знаю, как скребутся животные. Но если это не мышь — тогда кто? Привстав, накинула халат, сунула ноги в шлепанцы. Пошла к двери, прижалась к ней вплотную и затаила дыхание. Несколько секунд все было тихо. Показалось? Нет, не показалось, я явственно услышала чье-то дыхание. Кто-то стоял с той стороны двери, прислушиваясь — так же, как и я. Кажется, женщина, дыхание легкое, мужчины так не дышат. Интересно, кому это понадобилось — стоять вот так и прислушиваться? Если подруга — почему она не позвонит? Если злоумышленница — почему она бездействует? Да и потом, что может найти злоумышленница в квартире следователя прокуратуры? Я осторожно повернула ключ, распахнула дверь — и увидела Марину Шахову. Она трясла головой. Что с ней? На ее лице страх, почти ужас. Глаза раскрыты, губы дрожат. Я хотела спросить, почему она стоит вот так, не нажимая звонка, но Марина быстро поднесла палец к губам. Ничего не понимая, я смотрела на нее в упор, пока не поняла, что она хочет только одного — войти. Втащила ее в дверь, замок щелкнул, но Марина тут же прижалась ухом к двери.
— Что с вами? И — как вы узнали мой адрес?
Лицо Марины сморщилось, она умоляюще подняла палец:
— Я вас выследила… Тише, пожалуйста. Я послушаю.
— Что послушаете?
— Сейчас… Пожалуйста, тише…
— Подождите, я зажгу свет.
Марина выпрямилась, прижалась к моему уху, зашептала:
— Нет, нет, пожалуйста, не зажигайте… Пожалуйста, я вас очень прошу, не зажигайте… Если узнают, что я у вас была… Если только узнают… Вы не представляете…
— Кто узнает?
— Пожалуйста, Юлия Сергеевна, ну пожалуйста… Я вас очень прошу… Вы не представляете, чего мне стоило прийти… Если узнают, это все, вы понимаете, все.
Завтра по этому поводу мне придется объясняться в прокуратуре. Марина отстранилась, я увидела, как она дрожит: крупно, судорожно, с перекошенным от страха и в то же время безучастным лицом. Я хорошо знаю, что такое настоящий страх, так вот, эта дрожь, крупная, безостановочная, и означает настоящий страх, панику. Неподдельный ужас, не дающий человеку опомниться.
— Снимите хотя бы плащ.
Мне показалось, эти слова немного ее успокоили, по крайней мере, она перестала дрожать, кивнула:
— Да, да, плащ. Конечно, плащ. Сейчас. Только посмотрите, не стоит ли кто-нибудь под окнами, хорошо?
— Но кто может стоять?
— Пожалуйста, Юлия Сергеевна. Я только посмотрю. — На ее лице снова возник ужас, панический ужас.
— Хорошо, хорошо. Конечно, посмотрите.
— Вы не будете зажигать свет?
— Не буду.
— Я быстро. — Марина медленно двинулась в комнату, подошла к окну, выходящему на Неву. Я остановилась рядом. Отсюда, со второго этажа, все внизу выглядело обычным. Шли поздние прохожие, горел фонарь, освещавший часть комнаты, изредка проезжали машины. Чтобы успокоить Марину, я хотела спросить, закрыть ли шторы, но она, будто предугадав мои слова, подняла руку. Постояв некоторое время и убедившись, что ничего подозрительного внизу нет, повернулась. На Марине был легкий синий плащ, туфли на высоком каблуке и почти никакого грима. Длинные волосы зачесаны и собраны сзади в пучок. Нахмурилась, сказала одними губами:
— Извините.
— Ничего. Закрыть шторы?
— Не нужно. Пожалуйста, не нужно. Могут заметить.
— Кто?
— Неважно. Могут заметить, и все. Я сниму плащ?
— Конечно.
— Только сначала… — закусив губу, она нагнулась, сняла туфли. — Туфли сниму, а то стучат, ничего?
— Ну конечно. Подождите, я принесу тапочки.
— Я босиком.
— Перестаньте. — Я повела Марину в прихожую, заставила сунуть ноги в тапочки, сама сняла плащ, заметив, что ее плечи все еще дрожат, провела на кухню. Глаза давно привыкли к темноте, я хорошо видела лицо Марины, на нем все еще жил страх, хотя выражение ужаса, безучастной покорности судьбе прошло. Молча, движением руки усадила гостью на табуретку, шепнула:
— Сидите, я сварю кофе.
— Зачем, не нужно.
— Сидите. — Нашла турочку, плеснула воды. — Вы любите крепкий? Да не молчите, кофе вам сейчас не помешает. Крепкий?
— Да. Если можно.
— Можно. — Я следила, как закипает вода. Сейчас я пыталась сосредоточиться, представить, что именно заставило Марину так испугаться. Что-то связанное с убийством Лещенко? С Лагиным? Может быть, с коллекцией? Расспрашивать девушку в таком состоянии бесполезно, я могу только насторожить ее, пусть все расскажет сама. Высыпала кофе, размешала, проследила, пока поднимется пена, разлила по чашкам. Поставила сахар, дождавшись, пока Марина возьмет чашку, отхлебнула вместе с ней, спросила:
— Ну как?
— Очень вкусно. — Делая вид, что пробует кофе, Марина подняла глаза, явно ожидая моих вопросов. Я промолчала. — Вы не спрашиваете, почему я пришла?
— Не спрашиваю.
— Знаете, я была дурой…
— Дурой?
— Да, когда говорила, что не помню о знакомстве с Виктором. Я все помню. Все. Каждую деталь. До мелочи.
— Давно вы с ним познакомились?
— Год назад. Это был май, я очень хорошо помню, как мы познакомились.
— Где это произошло?
— В кафе «Север».
— Почему же вы не хотели говорить, что знаете Лагина?
— Боялась ему повредить. Дура. Ведь если бы я сразу призналась вам, я бы с самого начала знала, что с ним. С самого начала.
Она закусила большой палец, стала раскачиваться в темноте — будто забыв, что я сижу рядом. Ну конечно, допрашивая Марину, я ничего не говорила ей об убийстве Лещенко и об аресте Лагина. Впрочем, я допускала, что она с самого начала знает об этом. Но ведь она могла этого и не знать. Могла.
— Неужели вы на самом деле не знали? Вы думали, я спрашиваю вас о Лагине просто так?
Марина остановилась, вынула палец изо рта, удивленно посмотрела на меня.
— Что? А-а. Нет, конечно. — Взяла чашку, сделала большой глоток. — Я понимала, что с Виктором что-то случилось. Но думала сначала — он просто уехал и сообщит мне.
— Почему вы так думали?
— Так. К этому все шло. — Вдруг заплакала, жалобно заскулила, расплескивая кофе. — А теперь… теперь… Вы даже не представляете… — Она скулила в темноте, кофе лился на стол.
Я взяла ее за руку, поставила чашку.
— Успокойтесь. Ну, Марина? Успокойтесь. Что случилось?
— Н-ничего… — она продолжала, молча плакать. — Я узнала это только вчера от его матери. Господи, как все ужасно… Как ужасно.
— Что вы узнали?
— Что Виктор арестован, ну и… что он обвиняется в убийстве. Он не убивал. Честное слово, не убивал. Он не мог этого сделать, не мог.
— Почему вы так думаете?
— Я не думаю, я знаю! Знаю! — Она посмотрела на меня, закрыв чашку ладонью. Я вдруг увидела, как в ее глазах пляшут бесенята. — Виктор не убивал, запомните это! Раз навсегда запомните! — Теперь она смотрела, будто испугавшись только что сказанного.
— Кто же тогда это сделал?
На секунду в глазах мелькнуло сомнение. Провела рукой по лбу, сказала растерянно:
— Не знаю, честное слово, не знаю. Только знаю, что это не Виктор. — Вдруг посмотрела в упор, будто хотела выискать во мне какой-то изъян, дефект, в котором сейчас должно быть ее спасение.
— Почему?
— Потому что это не Виктор. — Опустила голову, осторожно потрогала языком верхнюю губу. — Не спрашивайте больше об этом, Юлия Сергеевна! Не спрашивайте. Скажу только… — Замолчала.
— Да — скажу только? Продолжайте, Марина.
— Скажу только: теперь я понимаю, Виктор сам хотел, чтобы вы его арестовали.
— Зачем?
— Я ведь просила, Юлия Сергеевна, не спрашивайте об этом. Вы не представляете, они… Они способны на все. Они могут сейчас, прямо сейчас, войти сюда, в эту квартиру, убить нас с вами, уйти — и никто ничего не узнает. — Марина говорила слишком серьезно, поэтому я решила не переубеждать ее. — Если бы они знали, что я здесь, они бы так и сделали.
— Вы думаете, они не знают?
— Во всяком случае, по ощущению — мне удалось пройти незаметно.
Хорошо, приму правила ее игры, Но буду задавать вопросы по всем линиям.
— Вы считаете, именно они убили Лещенко?
Я следила за ее лицом: сейчас, в свете уличного фонаря, оно было освещено наполовину. Вот Марина чуть повернулась, луч, будто нарочно подчеркивая беспомощность лица, выхватил из темноты несколько разрозненных, не связанных друг с другом точек.
— Неужели вы не понимаете, как только я скажу что-то по этому поводу, сразу подпишу себе приговор. Сама, собственными руками.
Надо ее успокоить, во что бы то ни стало успокоить, но в то же время я должна задавать вопросы.
— Я это понимаю. Понимаю, Марина.
Она повернулась, посмотрела пристально. Сказала тихо:
— Честное слово? Ну вот, тогда — это они. О господи, Юлия Сергеевна, конечно, это они. Вы знаете, когда я вас увидела в первый раз… Тогда, утром, в «Тройке»… Я возненавидела вас. Не знаю почему, но я готова была… Просто не знаю, что я готова была сделать.
— Я вам не понравилась?
— Это не то слово. Да и дело не в этом.
— Я подала какой-то повод?
— Нет, повода не было. Просто я сразу поняла, что вы пришли из-за Виктора. Я уже чувствовала, с ним что-то случилось. Ну вот. А потом, когда узнала, что с Виктором… Что его арестовали, что он обвиняется в убийстве… Я вдруг поняла, что я одна на всем белом свете. Одна, совершенно одна. И никто мне не поможет. Никто, вы понимаете? Поэтому я и пришла, мне просто не к кому больше идти, да и… Вы женщина, вы поймете. Знаете, когда все в жизни не ладится, когда не можешь встретить человека и вдруг его находишь — это становится чем-то… Каким-то особым счастьем. В это трудно поверить. Вот так и случилось, когда я встретила Виктора… Не думала, не гадала… И вот — теперь это мое счастье исчезло. Растаяло, ушло сквозь пальцы.
— Что, этому помешали они?
Опять ее лицо распалось на несколько частей.
— Поверьте, я в самом деле их не знаю.
— Они связаны с Долгополовым?
Некоторое время она будто вслушивалась в эту фразу. Повернулась настороженно:
— При чем тут Долгополов?
— Ни при чем?
По привычке дернула плечиком, отвернулась:
— Может, и при чем. Но Долгополов мелкая сошка.
— Долгополов ведь знает Лагина? Марина?
— Знает, и что из этого? Поймите, дело совсем не в Долгополове. — Отвернувшись, она стала рассматривать улицу, я видела теперь только часть ее щеки. — Юлия Сергеевна, я вас очень прошу, не говорите Виктору о том, что я приходила.
— Почему?
— Если вы ему скажете, вы сделаете очень плохо для всех. Для него, для меня, для вас. Вы не скажете ему?
— Но как я могу не говорить, если я должна вести расследование? Ведь я должна выяснить все до конца? Если, как вы говорите, Лагин действительно не виноват, это в его же интересах.
— И все-таки я вас очень прошу, не говорите ему. Вы ничего этим не добьетесь, только испортите все. Обещаете, что вы ничего ему не скажете?
Во мне снова возникло ощущение несерьезности всего, что происходит, ощущение, что мы с Мариной играем в какую-то игру.
— Хорошо, я не буду говорить Лагину о вашем приходе, но использовать то, что узнала, от вас, я просто обязана.
— Юлия Сергеевна, милая, золотая, вы не понимаете, насколько это серьезно. Я уже жалею, что пришла к вам. — Вздохнув, она встала, поежилась, шагнула к двери.
— Вы куда?
— Н-не знаю. Домой, наверное.
— Вы можете остаться у меня. Себе я постелю здесь, вас положу в комнате.
— Нет, нет, спасибо. — Она смотрела на меня в упор, и я поняла: она еле сдерживается, чтобы не заплакать. — Не сердитесь, я ворвалась без спроса, но все-таки мне сейчас стало легче.
— Может быть, все-таки останетесь?
— Нет, спасибо. — Она вдруг поцеловала меня и пошла к выходу. В темноте быстро сняла тапочки, надела туфли, натянула плащ.
— Знаете, чем дольше Виктор будет у вас, тем лучше.
— У нас? Но почему?
— Так. Можно я сама открою дверь?
— Конечно. Но объясните…
Марина дернула плечом, усмехнулась, осторожно повернула ключ, надавила на ручку.
— Этого не объяснишь.
— Марина, но подождите..
— Спасибо, Юлия Сергеевна. — Щелкнул замок, я прислушалась, но шагов Марины по лестнице не услышала.
27
После того как мы сели, Русинов положил на край стола свой «дипломат». Вздохнул, достал большой фотоотпечаток, глянул мельком и положил передо мной. На листке размером сорок на шестьдесят сантиметров изображены лицевая и оборотная стороны монеты; фото качественное, на каждой стороне можно легко разглядеть любую деталь. На лицевой я увидела знакомый профиль Елизаветы, на оборотной — вычеканенный двуглавый орел и дата: 1742.
— Это и есть «Елизавета», Юлия Сергеевна. Вчера из Лондона получен телекс: монета, сдана на аукцион «Сотби», он состоится сегодня в двенадцать дня, начальная цена — сто тысяч фунтов. Это значит, окончательная цена может быть раза в три больше.
— «Елизавету» все-таки вывезли?
— Убежден, вывезли, но пока это не доказано. Монету, которую вы видите на снимке, сдали анонимно. По всем вопросам дирекция аукциона должна связываться с неким Флаэрти, доверенным лицом владельца.
— Но ведь ясно, ее вывез Пайментс.
— Видите ли… В мире несколько «Елизавет», многие из них давно и, так сказать, законно находятся за пределами СССР. Продажу этой монеты удалось пока приостановить, но мы должны представить фирме «Сотби» доказательства, что именно эта «Елизавета» была около недели назад незаконно вывезена из страны.
— Что… это сложно?
— Да. Главное, мы понятия не имеем, кому в СССР эта монета могла принадлежать раньше. Это надо выяснить.
— Но… ведь установлено: она принадлежала Савостикову.
— Вчера вместе с Уваровым мы были у председателя секции нумизматики Домбровского. Савостикову, как рассказал Домбровский, принадлежала лишь очень искусная подделка «Елизаветы». По всей видимости, он действительно подарил эту подделку Лагину. Домбровский подтвердил, Лагин и Савостиков были тесно связаны. А вот какую монету Лагин передал Лещенко? Полная загадка. Собственно, поэтому я и пришел к вам. Когда вы будете допрашивать Лагина?
— Хотела сделать это сегодня.
— Теперь посмотрите вот сюда, на реверс.
Он взял карандаш, тронул кривой, похожий на саблю след, огибающий двуглавого орла. — Видите? Характерная царапина, идущая по краю реверса. Хорошо, видно, это большой и достаточно глубокий след. Если нам удастся доказать, что у монеты, еще неделю назад находившейся в СССР, была точно такая царапина, мы сможем официально потребовать у фирмы «Сотби» конфисковать монету. Об этой царапине можно узнать у Лагина.
— Вы считаете?
— Почему не попробовать?
— Хорошо. — Я вспомнила ночной визит Марины. — Владимир Анатольевич, знаете, ко мне сегодня ночью приходила Марина Шахова.
— Марина Шахова?
— Она самая. Пришла ко мне домой, кого-то страшно боялась, даже не позвонила в дверь. Я случайно услышала, как она стоит под дверью. Призналась, что уже год встречается с Лагиным и любит его. На остальные вопросы отвечать отказалась, посидела и ушла.
— Кого она боится, не
сказала?
— Нет. По ее словам, эти люди могут ее убить.
— Любопытная информация. Спасибо. — Помолчал, встал. — Фотографию «Елизаветы» оставляю вам, покажите ее Лагину. — Улыбнулся. — Целиком надеюсь на вас, Юлия Сергеевна, поэтому буду сидеть и ждать звонка.
28
Я протянула Лагину фотоотпечаток «Елизаветы»:
— Посмотрите, не она?
Лагин вглядывался долго, наконец усмехнулся:
— Она самая. Мой кругляшок.
— Уверены.
— Уверен.
Значит, Русинов прав. Лагин действительно какое-то время был владельцем подлинной «Елизаветы». Хорошо, этим можно будет заняться потом.
Закончив допрос, я сняла трубку, набрала номер Русинова, услышала его голос:
— Русинов слушает.
— Владимир Анатольевич, это я. Мы поговорили.
— Прекрасно. Жду с волнением.
— Он опознал монету.
— Сам, без нажима?
— Сам, без нажима.
29
Когда мы с Русиновым вошли в «Тройку», в пустом холле скучал швейцар. Кажется, ленинградцы окончательно сняли плащи: судя по единственной куртке на вешалке, работы у гардеробщика не было. В прошлый раз, когда мы были здесь с Русиновым, этот приземистый человек с лихо закрученными вверх усами не дежурил, значит, не знает, кто я. Я посмотрела на Русинова, он кивнул: постою в стороне. Подошла к швейцару, мой взгляд он встретил равнодушно, спросила:
— Шахова Марина здесь?
— Шахова? — Кажется, этим вопросом он хотел показать, что не обязан знать всех. Русинов с отсутствующим видом стоял в стороне, но наверняка все слышал.
— Да, Марина Шахова. Я с ней разминулась.
— Не знаю. Машины ее я не видел, а так кто ее знает.
Метрдотель изобразил удивленное раздумье:
— Марина Шахова? Но ведь она в отпуске. Разве вы не знаете?
Этим «разве вы не знаете» он подчеркнул наше заочное знакомство. Русинов посмотрел на меня, я спросила?
— Давно она в отпуске?
— Со вчерашнего числа. Два дня.
30
Женщине, стоявшей в проеме, наверняка было не меньше пятидесяти, но как умело она это скрывала. Стройная, худая, ни одного грамма лишнего веса. Цвет волос, грим, одежда соответствуют примерно двадцатилетней, уж никак не больше. Выдают отдельные приметы, понятные только женщине, в целом же — ни к чему не придерешься. Ясно, она тратит на это не менее четырех часов в сутки. Когда-то Ольга Николаевна наверняка была красива, но я с удивлением отметила, что Марина на нее не похожа. Единственное — те же широко расставленные темно-синие глаза.
Ольга Николаевна повертела повестку.
— Да, Марина действительно ушла в отпуск. С ней ничего не случилось?
— Насколько мне известно, с Мариной все в порядке, по крайней мере, вчера с ней было все в порядке.
— Да, да… Вы ее видели?
— Видела. Простите, сейчас Марина дома?
— Нет, уехала.
— Давно?
— Вчера.
Вчера поздно вечером Марина была у меня. Куда же она уехала и на чем?
— Она сказала, куда едет?
— В Сочи. Сказала, хочет там отдохнуть.
— Самолетом, поездом? На машине?
— Мне она сказала, что взяла билет на поезд.
— Значит, вчера вечером поездом Марина уехала в Сочи?
— Да, именно так. — Хозяйка квартиры отодвинулась. — Что же я держу вас на лестнице! Ради бога, проходите. Вот сюда, в гостиную.
— Если вы не против. Я очень хотела бы с вами поговорить.
После долгого и довольно безрезультатного разговора Ольга Николаевна вдруг сказала:
— У Марины есть тайная связь.
— Тайная связь?
— Да, тайная связь, Юлия Сергеевна, иначе я это не называю.
— Тайная связь с кем?
— Юлия Сергеевна, я выкладываю вам все про свою дочь, но это лишь потому, что я в отчаянии. Просто в отчаянии. Не знаю, с кем тайная связь. Естественно, с мужчиной, но с кем, сколько ему лет, кто он, дочь до сих пор так и не удосужилась мне сказать.
— А… давно длится эта тайная связь?
— Лет пять.
Что-то новое. Ведь Лагин познакомился с Мариной Шаховой около года назад. Впрочем, ведь он вполне мог скрывать эту связь. Вполне. И открыть ее для всех совсем недавно, именно около года назад.
— Почему вы думаете, что именно пять лет?
— Юлия Сергеевна, есть множество примет, по которым мать узнает о связи дочери. Тем более о т а к о й связи.
— Как понять — т а к о й?
Ольга Николаевна посмотрела на меня, нахмурилась, обдумывая ответ. Наконец сказала:
— После школы Марина хотела попасть в медицинский институт, поступила даже на подготовительные курсы… А потом… Потом все было заброшено. И… у моей дочери появились деньги, источник которых она назвать отказалась. Простите, Юлия Сергеевна, вы говорите, Марина нужна вам в качестве свидетельницы?
— Да, нужна. Я веду следствие по одному делу, но… Именно то, что вы сейчас говорите, может помочь мне.
— Хорошо, пожалуйста, если это поможет. Так вот, у нее появились деньги. Мы всегда жили довольно скромно, и вдруг Марина ни с того ни с сего дала мне пятьсот рублей. Как она выразилась, на хозяйство. Я пыталась выяснить, откуда эти деньги, но так ничего и не узнала. Потом пошло: дорогие туалеты, французские духи, стереофоническая система, мебель, все, что вы видите вокруг. Два года назад она купила машину. «Жигули» восьмой модели.
Мелькнуло: хоть я и не нашла Марину, встреча с ее матерью принесла много нового. Главное из этого нового — версия, что знакомство Лагина и Марины произошло не год назад, как утверждают оба, а значительно раньше. Не менее важно то, что Лагин все это время не просто встречался с Мариной, а практически содержал ее, дарил дорогие подарки вплоть до машины. Значит, страх Марины возник не на пустом месте, может быть, кто-то, вернее всего сообщник Лагина и Долгополова, действительно угрожает Марине. Если так, ясно, почему Марина в испуге прибежала ко мне, а потом уехала из Ленинграда. Впрочем, не исключено, что все, что делает Марина, — инсценировка, входящая в общий, тщательно разработанный кем-то план. В любом случае поиск Марины Шаховой наряду с поиском Эдуарда Долгополова выходит на первое место. Нужно срочно звонить Русинову, беседу же с Ольгой Николаевной можно заканчивать. Проверить только, на месте ли машина. Да, еще — узнать адреса ближайших подруг Марины.
Простившись с Шаховой, я из телефона-автомата позвонила в УКГБ и попросила Русинова срочно выяснить, не было ли на одном из ушедших вчера из Ленинграда поездов пассажирки, похожей по описанию на Марину Шахову. Сразу же после этого позвонила одной из подруг Марины — Ире Уклеевой. Женский голос, как потом оказалось — бабушки, долго выяснял, кто я, зачем звоню и почему Ирочка нужна следователю прокуратуры. Наконец, удовлетворив любопытство, голос пообещал передать оставленный мною телефонный номер, как только Ирочка вернется из библиотеки.
В прокуратуре я прежде всего зашла в буфет, пообедала, потом поднялась к себе и занялась привычной писаниной. Это не очень приятное занятие было прервано звонком Русинова. Новости оказались неутешительными: по сообщениям поездных бригад, ни в одном из поездов, уехавших вчера поздно вечером из Ленинграда, не было девушки, по словесному портрету и описанию багажа похожей на Марину Шахову. Не было похожей пассажирки также ни на одном из самолетов, улетевших вчера ночью из Ленинграда. Я попросила Русинова помочь мне принять все меры к розыску Марины Шаховой, на что он, хмыкнув, ответил, что давно уже это сделал, И дал совет: если у меня нет достаточных оснований для ареста Лагина, лучше всего будет отпустить его.
31
Переговорив с Русиновым, я поехала в ИВС и попросила снова вызвать на допрос Лагина. Подследственного привели почти сразу же; устроившись на стуле, Лагин некоторое время бесстрастно изучал стену над моей головой. Если он действительно хотел увидеть Марину, он обязательно об этом спросит, должен спросить. Я уже решила — скрывать от Лагина ничего не буду, попробую поговорить начистоту. Так как я молчала, делая вид, что раскладываю бумаги, Лагин не выдержал первым. Поднял голову, посмотрел изучающе:
— Ну что, Юлия Сергеевна?
— Что — что?
— Где же Марина?
— Марина! — Я подравняла листки. — Почему вы о ней спрашиваете?
— Как почему? Вы же сами сказали?
— Я сказала… — Кажется, Лагин действительно очень хочет увидеть Марину. — Мне кажется, вам не терпится ее увидеть?
— Так вы же сами предложили очную ставку? Проверить расхождения, все такое?
— Я действительно хотела проверить расхождения. Хотела, но не вышло. Марины нет.
— То есть как нет?
— Так, нет. Она пропала, ведутся поиски.
Лагин прищурился. Сейчас он то ли пытался понять, не обманываю ли я его, то ли изображал неведение.
— Ведутся поиски?
— Именно ведутся. Может быть, вы, Лагин, подскажете, где можно найти Марину Шахову?
Лагин вымученно улыбнулся, похоже, он не играл.
— Слушайте, Юлия Сергеевна, не шутите. Как это можно пропасть? Что она, в лесу, в горах? В пропасть упала, потерялась? Да я с удовольствием бы подсказал, но откуда я знаю? — Кажется, теперь Лагин поверил, что я говорю правду. Или — очень искренне изобразил эту веру? — Что… вы это серьезно?
— Серьезно, Лагин, серьезней некуда. Это случилось вчера. Всем сказала, что едет в Сочи, взяла отпуск, я была у ее матери, по ее словам, Марина ушла с вещами. Мы запросили аэропорт, бригады поездов, но выяснилось: даже отдаленно похожей на Марину Шахову пассажирки там не было. Любопытная история? Может быть, просветите — как такое могло случиться?
Лагин сцепил руки, о чем-то думал. Вздрогнул.
— Я? Вы что, серьезно думаете, что я могу что-то знать? Юлия Сергеевна, вы объясните, ради бога, что с Мариной? Что?
— Лагин, хватит. Пока вы не перестанете ломать комедию, я ничего не буду вам объяснять. И еще одно. Не понимаю, почему вы не сообщаете, что знаете Марину Шахову давно. Около пяти лет.
— Да вы что, Юлия Сергеевна? Как это около пяти лет? Да я в самом деле только год назад с ней познакомился.
— Неправда. Вы познакомились раньше. Хотите очную ставку?
Это была проверка. Лагин застыл.
— Очную ставку? Пожалуйста, любую очную ставку. С кем, интересно?
— С матерью Марины Шаховой.
— С матерью? Да я ее никогда не видел.
— И не знаете?
— И не знаю.
Мое уязвимое место. Мать Марины, по ее собственным словам, сама тоже никогда не видела человека, с которым, как она выразилась, у ее дочери «около пяти лет длится т а й н а я с в я з ь».
— Ну да, не видели, не слышали, не знаете.
— Почему, слышать слышал.
— Что же вы слышали?
— Ничего. Просто слышал, что у Марины есть мать. И все.
Или Лагин тщательно следит за собой, или говорит правду. Вдруг то, о чем я думала уже давно, сейчас, именно сейчас оформилось в четкую мысль: что, если допустить, что Лагин говорит правду? А вот что: если допустить, что Лагин говорит правду, пятилетняя тайная связь Марины могла быть не с ним, а с кем-то еще. Сама по себе эта мысль довольно обычна. Но только сейчас я поняла, как многое она может изменить. Очень многое. Если допустить, что Лагин действительно не знал, и не знает об этой тайной связи Марины, — этот факт вообще все переворачивает. Конечно, Лагин все еще что-то скрывает, недоговаривает, но теперь я вынуждена пересмотреть отношение к его показаниям. Может быть, даже подумать: действительно ли он связан с преступниками?
— Хорошо, Лагин, на сегодня разговор окончен. Вас же… Вас же прошу основательно пересмотреть свое поведение.
32
Девушка, ожидавшая меня у двери в мой кабинет, была невысокой, мне показалось, она вся состоит из округлостей. Увидев меня, девушка повернулась, и ощущение чего-то округлого до завершенности усилилось. Все в облике девушки было круглым: лицо, скрытые очками глаза, пухлые щеки, дергающиеся губы. Несмотря на это, лицо ее не лишено привлекательности. Но что с ней? Красные глаза, красный взбухший нос. Кажется, она только что плакала. Я достала ключ, вопросительно посмотрела на девушку; крепко прижимая к груди сумку, она стала всхлипывать, дергая уголками губ. Выдавила:
— Мне нужно Юлию Сергеевну Силину. Это вы?
— Это я. Простите, вас как зовут?
— Ира Уклеева. Подруга Марины Шаховой.
— Ира Уклеева? — Я открыла дверь. — Очень приятно. Проходите, садитесь.
Ира Уклеева прошла в комнату, села на стул, все еще крепко прижимая к груди сумку. Всхлипнула, сказала, глядя в пространство и не ожидая ответа:
— Вы звонили мне, да?.. Вы знаете, мне бабушка передавала… В-вы в-ведь следователь?..
— Следователь. Но что случилось?
— По-моему, Марину… Марину… — Она вдруг зарыдала, закрыв лицо руками. — Это я виновата, я… Я ей дала ключ… Какая я дура… Если б я знала, что Ванда… Что Ванда…
— Какая Ванда? Подождите, успокойтесь! — Налила из графина воды, протянула Ире, та стала пить, стуча по стеклу зубами. — Подождите, какая Ванда? Расскажите все по порядку.
— С-сейчас… — Ира Уклеева поставила стакан, некоторое время сидела молча. Наконец, посмотрев на меня теми же невидящими глазами, стала делать движения — отодвигая от себя сумку. — Знаете, кажется, Марину убили. В-возьмите это. Возьмите.
— Что это?
— Сейчас… увидите…
Я открыла молнию, достала из сумки мятую шерстяную юбку, кофту, нижнее белье, колготки. На кофте и колготках виднелись темные пятна, похожие на кровь.
— Ира, объясните, где вы это взяли?
Ира снова зарыдала, выдавливая вместе с плачем:
— Где… Где… В квартире Ванды, вот где… В квартире Ванды…
33
На Малую Охту, на Гранитную улицу, где живет Ванда Лавецкая — в ее квартире сегодня утром Ира Уклеева нашла окровавленные вещи Марины, — я приехала вместе с оперативно-следственной группой и Русиновым. Как объяснила Ира, вчера вечером Марина пришла к ней с двумя сумками и попросила позвонить знакомым девушкам и попросить, как она сказала, «переночевать на несколько дней». Ира предложила переночевать у себя, но Марина решительно отказалась, сказав: «Здесь найдут». Стали звонить, и одна из подруг Иры, Ванда Лавецкая, ушла ночевать к родителям, отдав Марине ключи от собственной однокомнатной квартиры. Сегодня, собравшись на Гранитную, Ира позвонила, но на звонок никто не отозвался. Обеспокоенная, она поехала туда, позвонила в дверь условным звонком — и увидела, что замок сорван и дверь открыта. В квартире разгром: кровать сдвинута с места, постель перевернута, рядом с кроватью валяются две пустые сумки Марины, вещи из них свалены рядом, на кровати скомканное и окровавленное нижнее белье, юбка и кофта.
При входе в квартиру я осмотрела дверь: она была чуть приоткрыта, со шпингалета с внутренней стороны сорвано гнездо для запора.
Войдя вместе с другими, увидела уютную, хорошо обставленную однокомнатную квартиру. Пока работала опергруппа, вошел Русинов; по его словам, соседи, которых он спросил, в один голос утверждают, что все было тихо, никто не слышал, как взламывали дверь.
Без сомнения, в вещах Марины что-то искали, причем искали в спешке; вещи, вынутые из сумок, были, скорее, даже не разбросаны, а просто сложены несколькими беспорядочными кучками.
Уже вернувшись в прокуратуру, я подумала о Лагине. Вот кому непросто будет сообщить о смерти Марины. Кроме того, Лагина я должна освободить не только по просьбе Русинова, но и по закону: срок его задержания истек, доказательств вины Лагина у меня нет.
Позвонив в лабораторию, я узнала: группа крови на простыне и белье в квартире шестнадцать по Гранитной улице совпадает с группой крови Марины Шаховой.
34
Уваров отодвинул фолиант, вынул из глаза монокль, улыбнулся:
— За консультацией?
— За консультацией.
— Садитесь. — Усадил в старинное кресло с резной деревянной спинкой, отодвинул яркую лампу. — Рассказывайте, что нового? Есть что-то обнадеживающее?
Я пыталась понять, что кажется мне сейчас наиболее важным. Конечно, я хотела бы знать, почему Лагин вдруг, ни с того ни с сего решил показать хранящуюся у него ценную монету Лещенко. Ведь с этим поневоле связываются другие вопросы. Почему Лагин не сделал этого раньше? Почему монета казалась ему в одном случае поддельной, в другом — настоящей? Будучи выражена в деньгах, разница стоимости фальшивки и настоящей монеты составляет несколько тысяч, может быть, десятков тысяч рублей. Наиболее вероятно: Лагин вдруг заинтересовался долгие годы хранившейся у него без движения монетой, потому что ему понадобились деньги. Или дело в другом: Лагин сам признался, что всегда считал «Елизавету» поддельной, но потом вдруг, по какой-то причине, достав монету и изучив ее, в д р у г понял, что она подлинная? Почему именно «вдруг»? Теперь все эти вопросы стали связываться у меня с Мариной. Может быть, именно Марина имела какое-то отношение к происходившим с монетой переменам? Может быть, Лещенко и был той «тайной связью», о которой мне рассказала Ольга Николаевна Шахова? Все это промелькнуло в секунду.
— Не знаю, что считать новым. Простите, Константин Кириллович, вы никогда не слышали такого имени — Марина Шахова?
— Марина Шахова… Что-то ужасно знакомое, где-то я слышал это имя. Причем слышал несколько раз. Но где — не могу вспомнить.
— Может быть, в связи с Арвидом Петровичем?
— Где-то я это имя, безусловно, слышал, но знаю точно, оно никак не может быть связано с Лещенко. Вы не просветите, кто это? Замужняя женщина? Девушка?
— Девушка, причем очень красивая девушка. Из-за этой девушки, Марины Шаховой, я и пришла к вам.
— Пока даже не могу вспомнить, где слышал это имя. Может быть, что-то говорил Долгополов. — Уваров поморщился. — Признаюсь, я старался с ним не сталкиваться, но поневоле приходилось. Уверяю, если даже Долгополов говорил Арвиду Петровичу о девушках, тот всегда, понимаете, всегда, как правило, пропускал это мимо ушей. Кто вообще эта девушка? Откуда она?
— Работает официанткой в ресторане «Тройка». Вернее, работала. Около года она была связана с задержанным по подозрению в убийстве Лещенко Лагиным.
— Связана с Лагиным. Так. А почему — «работала»? Что, уже не работает?
— Вчера она ушла в отпуск, а потом… Есть подозрение, что сегодня ее убили. Окровавленные вещи Шаховой нашли на квартире подруги. Тело ищут, но пока поиски ни к чему не привели. Факт смерти еще не установлен, но, скорей всего, ее уже нет в живых. Я хотела вас спросить именно о связи с Мариной Шаховой: могла ли такая девушка — красивая, двадцатипятилетняя, работающая официанткой, могла ли она всерьез разбираться в монетах?
Уваров задумался.
— Видите ли, Юлия Сергеевна, если говорить честно, во всем Ленинграде не так много людей, всерьез разбирающихся в монетах.
— Вы хорошо помните допрос Лагина, тот, на котором вы присутствовали? Тот момент, когда Лагин пытался объяснить, почему именно он вдруг решил показать ценную монету, которая у него хранилась, Лещенко. Помните? Хотелось бы знать, не было ли в этом объяснении какого-либо несоответствия? Лагин сказал, что всегда считал монету поддельной, но, достав ее, усомнился в этом.
— Помню этот момент. Скажу так: здесь прежде всего следует решить, насколько компетентен в нумизматике сам Лагин. Вообще же его объяснения именно в этом месте похожи на правду. Человек, в собственности которого находится монета такой ценности, даже если он подозревает, что она поддельная, обычно назубок знает все ее приметы. Изучить монету проще простого, достаточно взять лупу и часа два тщательно разглядывать монету со всех сторон. Так вот, как правило, владелец, подозревающий, что в его монете может быть заключено целое состояние, обычно совершает такие осмотры не раз, не два и даже не три, а гораздо чаще. Поневоле он запоминает мельчайшие неровности рельефа, шероховатости, царапинки, изъяны своей монеты. Если вдруг допустить, что, в очередной раз взглянув на монету, он заметит какие-то изменения — естественно, он сразу поймет, что это другая монета.
— Значит, такое могло случиться с Лагиным, Константин Кириллович? Кто-то мог подменить монету, положив вместо фальшивой настоящую? Какой в этом мог быть смысл?
— Не знаю. Может быть, никакого смысла не было.
— Тем не менее, Константин Кириллович, мне очень хотелось бы знать ваше мнение: могла ли Марина Шахова, именно Марина Шахова, в принципе сделать это?
— Во-первых, о Марине Шаховой я первый раз слышу. Во-вторых, то, что официантка может разбираться в монетах, исключено. Мое мнение: либо здесь что-то скрывает Лагин, может быть, даже не скрывает, а путает, либо… — Уваров замолчал.
— Да — либо?
— Не знаю.. Думаю все же, ваша девушка не имеет к этому отношения. Но есть один человек, единственный в такой ситуации, который мог бы это сделать. Единственный. Он достаточно понимает в монетах, а связи у него… Даже я позавидовал бы этим связям. Это Эдуард Долгополов.
— Это очень важно, Константин Кириллович. Как эксперт вы могли бы подтвердить, что Долгополов, именно Долгополов, мог затеять подмену принадлежащей Лагину монеты, пусть нелогичную?
— Безусловно.
35
В этот день в силу обстоятельств мне опять пришлось вызвать Лагина на допрос. Я прибегла ко всем ухищрениям: задавала каверзные вопросы, ставила ловушки, несколько раз неожиданно меняла тему. Нет, все мои ухищрения не действовали. Лагин стоял на своем. Наконец, задаю вопрос о «Елизавете»:
— Согласно вашим показаниям, эта монета пробыла у вас около двенадцати лет?
— Ну, около двенадцати. Мне подарили ее после армии, я же сказал.
— Сказали, Так вот, когда вам ее подарили, куда вы ее поместили?
— Положил у матери, в ящик секретера. Потом… потом отбывал наказание.
— А монета? Оставалась там же?
— Там же.
— Вас не волновало, что кто-то может ее похитить? Подменить?
Слово «подменить» я произнесла будто между прочим, мельком. Как я и ожидала, скрытого смысла Лагин не заметил, впрочем, может быть, не показал, что заметил?
— Подменить на фуфель, вы это имеете в виду?
На фуфель. На фальшивку. Ну да, Лагин считает, что в конце концов монета, его монета, оказалась настоящей.
— Да, на фуфель?
— Что вы, Юлия Сергеевна. Мама бы не дала, да и потом — там запор с секретом.
— А потом, когда вернулись из заключения, где хранилась монета?
— Сначала там же, у мамы. Потом у меня, в Лугове.
— Давайте еще раз: как хорошо вы знаете свою монету? До какой зазубрины?
— Сказал ведь уже, Юлия Сергеевна. Знаю, конечно. Вы третий раз уже об этом спрашиваете.
— Вы могли бы сейчас все-таки перечислить особенности штампа монеты, неровности рельефа, царапины, дефекты?
С сожалением покачал головой:
— Я ведь уже говорил, Юлия Сергеевна. Про большую царапину сказал, но до такой степени не помню. Ведь сколько эта монета провалялась без движения? Вы же сами знаете — двенадцать лет.
Я могла бы поклясться, что взгляд Лагина сейчас был совершенно искренним. Призвав на помощь весь свой опыт, попыталась понять, нет ли в этом взгляде и в этих словах какой-то фальши. Фальши не было. Что ж, если так, я прихожу к важному выводу: «Лагин действительно мог не заметить, что ему подменили монету, теперь я почти уверена, что это могла сделать Марина — по наущению Долгополова. Момент, чтобы выяснить это, неплохой, очень даже неплохой.
— Двенадцать лет — большой срок, так, Лагин?
— Ну, большой.
— Почему вдруг вы заинтересовались монетой — именно сейчас, Лагин? Что вас толкнуло на это?
Лагин явно колебался, прежде чем ответить. Вздохнул:
— Если откровенно, Юлия Сергеевна, деньги были нужны.
— Неточный ответ.
— Почему же неточный?
— Потому, что неточный. Деньги нужны всегда. Думаю, вам в данном случае понадобились не просто деньги, а большие деньги. Может быть, вам посоветовала показать монету на консультацию Марина Шахова?
Поднял глаза. Браво, Юлия Силина. Про себя я называю это «поймать на противоходе». Что бы Лагин ни сказал сейчас, я знаю точно: попытка продать монету Лещенко не обошлась без Марины. Взгляд Лагина выдал это.
— При чем тут Марина, Юлия Сергеевна? Я сам это решил, сам, понимаете?
— Понятно, только понимаю по-своему: вы не хотите впутывать в эту историю Марину. А зря. К сожалению, она уже впутана в эту историю, и, кажется, впутана довольно сильно.
— Что значит впутана? Объясните, что вы хотите сказать?
— Объясню чуть позже. Попробуйте вспомнить, Лагин, как именно вы познакомились с Мариной Шаховой?
— Это что, необходимо?
— Необходимо.
— Пожалуйста. — Сцепил руки на колене, закатил глаза. — Кафе «Север», вечер. Май прошлого года, естественно. Зашел туда просто так, музыку послушать. Там всегда трется кто-то из знакомых. Ну и ребята говорят: вон, девочка сидит в углу, нравится? Я посмотрел — да, думаю, девочка что надо.
— Подождите, Лагин. Вы сказали — «ребята говорят». Кто именно вам это сказал?
Прищурился:
— Ну, Долгополов сказал. А что? Это имеет значение? Эдика же знают все, он только и делает, что ходит по треугольнику «Руно» — «Север» — «Пингвин».
Долгополов. Мне не хватало именно этого звена, теперь круг замкнулся.
— Что было дальше? Вы подошли к Марине?
— Нет, зачем? Я же ее не знал. Подошел Долгополов. У него язык подвешен, а потом уже я.
— Подошел — и что?
— Ничего. Там было свободное место, я сел.
— Понятно. Значит, так вы познакомились с Мариной Шаховой.
— Да, так я познакомился с Мариной Шаховой. Удовлетворены? — Похоже, свободное место за этим столиком было оставлено заранее, и позаботился об этом Долгополов.
— Вполне. Но хочу перейти к следующей теме.
— Пожалуйста, с моим удовольствием.
— На предыдущих допросах вы утверждали, что утром одиннадцатого мая, в момент, когда вошли в квартиру Лещенко, там никого не было? Это так?
— Да, именно так.
— Вы в этом уверены?
— Уверен. Да и кто там мог еще быть?
— Не знаю. Может быть, ваш сообщник?
Усмехнулся:
— Опять вы, Юлия Сергеевна. Не было у меня никакого сообщника, не было и быть не могло. Я хотел только одного — чтобы старик отдал мне монету. Понимаете? Монета мне была нужна, больше ничего.
— Хорошо, допустим. Все-таки постарайтесь вспомнить: может быть, когда вы вошли в квартиру, там был еще кто-то? Не было ли у вас ощущения, что, когда вы вошли, второй человек, который был там, спрятался?
— Где там прятаться? На кухне?
— Почему бы и нет? На кухне, в ванной, в туалете?
— Не знаю. Раньше я думал, что мы там были вдвоем, а теперь… Не знаю. Все может быть. Может, кто-то и спрятался. Ну и что?
— Вы понимаете, что этот факт будет свидетельствовать в вашу пользу?
— Что ж тут не понимать, Юлия Сергеевна, это и ежу ясно. Скажу одно: я рассказал правду, лишнего наговаривать не буду. Того, кто спрятался в этой квартире, я не видал, ощущения, что там кто-то есть, тоже не было, а там — вам решать.
Сказав это, Лагин повернул голову, стал рассматривать часть забора за зарешеченным окном. Все. Для меня последний допрос подозреваемого окончен, остается только сообщить о случившемся с Мариной Шаховой. Лагин напомнил мне об этом сам: не поворачиваясь и продолжая разглядывать забор, сказал глухо:
— Вы обещали что-то объяснить про Марину, Юлия Сергеевна?
— Обещала.
— Я не понял, кто ее там и куда впутал? Что вы имели в виду?
— С Мариной плохо, Виктор Александрович.
Повернулся, смерил меня взглядом:
— Ну и почести, уже Виктор Александрович. Что значит «плохо»?
— Приготовьтесь к худшему.
— К худшему? Что случилось?
— Есть серьезные основания считать, что Марина Шахова убита.
Лицо Лагина застыло, длилось это довольно долго, потом задергались уголки глаз:
— Убита? Марина?
— Виктор Александрович, факт еще не установлен, тело не найдено, но… Я была с опергруппой на месте происшествия.
— И… когда это все случилось?
— Судя по оставшимся следам, вчера.
— Где?
— На Гранитной улице, на квартире ее подруги.
Лагин вдруг пригнулся, вцепился в свитер, лицо его исказилось, он заорал изо всех сил:
— Кому Марина-то мешала? Кому? Вы можете мне сказать, кому она мешала? Кому-у? Кому-у-у?
Заглянул конвоир, я показала ладонью: все в порядке. Лагин затих, бессмысленно разглядывая пол. Выдохнул почти беззвучно:
— Понимаете, без Марины… Без Марины все теряет смысл.
— Что «все»?
— Все. Жизнь. Без Марины ничего нет, пустота. Не понимаю только, что им Марина-то далась? Не понимаю.
Мы надолго замолчали; первой решилась нарушить тишину я:
— Виктор Александрович, я вынесла постановление об изменении меры пресечения и о вашем освобождении. Как следователь, считаю ваше дальнейшее пребывание в ИВС излишним.
Поднял голову:
— Излишним?
— Вы понимаете, о чем я говорю? Вы освобождены. Я очень сожалею, что вы подверглись такому испытанию, и, если вам достаточно моих слов, я рада, что все кончилось хорошо.
— Значит, я освобожден?
— Освобождены.
— Простите, Юлия Сергеевна, я, наверное, тоже должен радоваться?
— Не знаю, Виктор Александрович, может быть, и должны. Я, со своей стороны, сожалею о случившемся, вы можете быть рады.
— Да, да, я рад. Рад, что освобожден. Когда можно идти?
— Примерно через час. Я предупрежу начальника ИВС и поставлю подписи — свою, начальника следственного отдела и прокурора. После этого вы свободны. Естественно, вы должны дать подписку о невыезде.
— Я, наверное, должен сказать «спасибо»?
— Не знаю, Виктор Александрович. Это ваше личное дело. О своем сожалении я уже сказала.
Усмехнулся:
— Спасибо, Юлия Сергеевна. Вы были великолепны. Впрочем, мне кажется, я тоже буду великолепен. Извините за черный юмор, и все-таки — огромное вам спасибо.
— Не стоит.
Оставив Лагина в комнате, я вышла на улицу. Подумала: все, лето наступило, конец мая. Над городом стоит вечернее солнце, ленинградцы куда-то спешат. Лагин сейчас выйдет из ИВС, я же, следователь, ведущий дело Лещенко, останусь ни с чем. С пухлой папкой, с горой исписанных листков.
36
На следующий день, когда я сидела в прокуратуре и оформляла материалы по делу, позвонил Русинов. В его голосе чувствовалось напряжение.
— Юлия Сергеевна, найден Долгополов.
— Когда?
— Сегодня утром. Он мертв. Сейчас за вами заедет наша машина, жду вас.
— Где хоть его нашли?
— В лесу около Репино, в машине Ленаптекоуправления. Подъезжайте.
— Хорошо, сейчас буду.
Русинов встретил меня во дворе здания УКГБ. В углу двора среди прочих машин я увидела пустой серый рафик с надписью по всему борту: «Ленаптекоуправление». Номер — 23-62, тот самый. Около машины стоял Русинов, рядом переминался с ноги на ногу маленький капитан милиции. Увидев нас, капитан сказал:
— Товарищ полковник, может быть, письменно изложить?
Русинов поздоровался со мной, сказал тихо:
— Не может быть, а обязательно. Попрошу вас составить подробный отчет, но сначала повторите, если не трудно, как все было, в общих чертах. Заодно познакомьтесь, это следователь прокуратуры Юлия Сергеевна Силина. Юлия Сергеевна, это участковый из Зеленогорского района, капитан Пиняев.
Капитан поправил фуражку.
— Видите ли, в этот лес у нас никто не ходит. Там у нас с прошлого года свирепствует клещ, вход местному населению и туристам запрещен. Ну вот. А сегодня утром ребятишки из поселка Репино на автобус опоздали. Они в школу в Зеленогорск обычно на автобусе ездят, а сегодня опоздали. Пошли через лес, им что клещ, так, только плакат деревянный. Ну и, чтоб дорогу сократить, пошли через бурелом. Смотрят, машина, заглянули через стекло — мертвец. Побежали домой, отец их сразу же позвонил мне. Я на мотоцикл, туда. Вот и все. — Пиняев посмотрел на Русинова. — Владимир Анатольевич спрашивает, не было ли в последние дни в наших краях иностранцев. Нет, не видел. И другие не видели, а то бы я знал.
— Спасибо, — сказал Русинов. — Может быть, что-то даст осмотр машины.
Он достал платок, осторожно взялся за ручку двери, открыл. Внутри было довольно чисто, лишь вглядевшись, можно было заметить на сиденье бурые пятна.
— Осмотр был проведен, — добавил Пиняев. — Я вызвал из Зеленогорска опергруппу. Приехал следователь райпрокуратуры, криминалист, судмедэксперт, все как полагается. Зафиксировали все точно. Убили его дней пять назад, ножом сзади, медэксперт нашел три ранения. Убили и оставили в машине. Ну а насчет остального, отпечатков и прочего, протоколы ведь все у вас, Владимир Анатольевич?
— Верно, протоколы у меня.
Капитан посмотрел на Русинова, тот кивнул:
— Хорошо, идите составлять отчет. — Закрыл дверцу: — По примерным подсчетам, Долгополова убили в тот же день, когда он ждал кого-то в Лугове. И тогда туда приехали мы. В Лугове Долгополов был утром, Лагина же мы взяли вечером.
— Хотите сказать, это мог сделать Лагин? — спросила я.
— Почему бы и нет? — не глядя на меня, сказал Русинов. — Такой вариант я бы не исключал.
Я понимала, Русинов прав: Лагин вполне мог убить Долгополова. Если так, постановление об освобождении я вынесла явно преждевременно. Попыталась убедить себя: нет, если бы Лагин убил Долгополова, он вел бы себя на допросах совершенно по-другому. Собственно, а почему по-другому?
Поднявшись на третий этаж, Русинов открыл дверь своего кабинета, усадил меня за стол, раскрыл папку. Сверху лежали приготовленные для вклейки свежие фотоотпечатки: общий вид машины в зарослях; милиционеры около машины, силуэт мертвого Долгополова на сиденье водителя — сквозь стекло. Я стала рассматривать фото, пытаясь найти в них ответ на собственные сомнения. Вот дверь машины раскрыта, хорошо видно мертвое тело, скрючившееся на сиденье; вот крупные планы лица Долгополова; фото тела в морге; участок спины с ножевой раной. Похоже, Долгополов убит так же, как и Лещенко, умелыми ударами в спину, только кто это сделал? Неужели я просчиталась и это действительно Лагин? Непохоже, но и преступление в целом непохоже на все, что мне встречалось раньше. Что же — снова выписывать постановление об аресте Лагина? Нет, не стоит. Не нужно впадать в панику, пусть я даже просчиталась. Лагин никуда не денется, за ним установлено наблюдение; может быть, он действительно выведет нас на остальных участников преступной группы. В том, что они существуют, нет никакого сомнения, об этом говорит убийство Марины. Кто они, я пока не знаю, но то, что Долгополова обнаружили в зарослях около Репино, совсем не значит, что он не был участником этой группы. Посмотрела на Русинова.
— Владимир Анатольевич, вы ведь видели убитого?
— Видел. Я осматривал тело перед отправкой в морг.
— Что он из себя представляет физически? По моему разумению, это человек невысокого роста, худощавый?
— Все верно, крупным его не назовешь.
— Как вы считаете, мог Долгополов нанести два смертельных удара ножом Лещенко?
Русинов замолчал, перебирая фотографии. Его ответ для меня был очень важен: если Долгополов мог нанести такие удары, моя версия подтверждается. Поколебавшись, Владимир Анатольевич сказал:
— Не знаю, Юлия Сергеевна. Умение ударить ножом, как правило, не зависит от физических качеств.
Именно это я хотела услышать от Русинова. Такой ответ означал, что он не против вывода: убийца Лещенко — Долгополов. То же, что смертельные ранения ножом часто наносят довольно тщедушные с виду люди, я знала давно. Русинов спрятал папку в шкаф, запер на ключ, проводил меня к двери, но выйти я не успела. В комнату заглянул какой-то взмыленный молодой человек в штатском, которого Русинов тут же спросил:
— Что с Лагиным?
— Кажется, пока он ушел из-под нашего наблюдения.
— Вы что, с ума сошли?
— Д-да… Это еще неточно, Владимир Анатольевич, может, объявится в Лугове. Просто наша группа его упустила здесь, в Ленинграде.
— Поздравляю. Кто вел наблюдение?
— Перов и Горелов. Последний раз видели они Лагина уходящим с работы. Потом…
— Потом растаял, можете не объяснять. Где он исчез?
— В Гостином дворе. Сами знаете, сколько там выходов.
— Знаю. Прекрасная оперативная работа, ничего не скажешь.
— Они не виноваты, Владимир Анатольевич. Не за куртку же его держать.
Хмыкнув, Русинов пропустил меня в коридор. Растерянный молодой человек, обменявшись со мной взглядом, сказал тихо:
— Может, найдут еще, Владимир Анатольевич? Они ребята хваткие.
Русинов запер дверь, спрятал ключ в карман, посмотрел в глубь коридора.
— Может быть, только зла у меня на вас не хватает. Выделить еще двух… нет, трех людей и докладывайте каждый час — мне или дежурному.
37
Русинов стоял у окна своего кабинета, когда на столе осторожно звякнул селектор. Подошел, нажал кнопку:
— Слушаю.
— Владимир Анатольевич, на ваше имя поступила «молния» из Москвы, — доложила секретарша. — Я занесу?
Секретарша принесла телеграмму. Русинов надорвал наклейку, прочел:
«Ленинград, Русинову. «Елизавета» с царапиной на реверсе была коллекции академика Двинкова Москве, после смерти Двинкова побывала коллекциях москвичей Панова, Штернберга, Мажейко, Заева, Чанейшвили. Из коллекции Чанейшвили пропала невыясненных обстоятельствах. Настоящее время след потерян. Шеленков».
Положил телеграмму на стол.
— Спасибо. Вот что, Галя, срочно пошли запрос на паспортные данные Чанейшвили… Как же его… Да, Чанейшвили Гурама Джансуговича. И попробуйте дозвониться, выясните, где он сейчас работает.
38
Светло как днем, хотя уже одиннадцать вечера. Отсюда, из окна моей кухни, хорошо видно всю набережную, разлив Невы, ползущий по фарватеру к морю лихтер. Его опознавательные огни кажутся лишними: начались белые ночи. Вдруг вспомнились слова Лагина: о том, что Лещенко убит, он слышит в первый раз. Но вдруг он действительно слышал об этом впервые? Дальше — поведение Лагина на допросах. Почему-то он бурно реагировал на сообщение о смерти Марины. Если он играл, зачем ему было наигрывать отчаяние? Бессмыслица. Хорошо, согласна, в поведении Лагина было несколько темных пятен. Например, почему он скрывал знакомство с Долгополовым? Почему признался в этом после того, как выяснил, что Долгополов пока не арестован? Впрочем, здесь отгадка может быть самой простой: боялся очной ставки. Но ведь все равно я провела бы очную ставку, даже если бы Лагин продолжал упорствовать. Еще одно темное место: то, как Лагин отреагировал на вопрос, давно ли он знает Марину. Ведь подтвердил же, что познакомился с ней год назад. Подтвердил, но, когда я сообщила о пятилетнем знакомстве, не пытался даже выяснить, почему мать Марины назвала именно эту цифру, пять лет. Должен же Лагин был понять, что мать Марины имела в виду его предшественника… Должен… Ведь это должно было задеть его за живое — если у него действительно есть какое-то чувство к Марине. Впрочем, может быть, я слишком много требую от Лагина. Может быть. Безусловно, Лагин многое от меня скрыл. Многое. Но я упорно возвращаюсь к одной и той же мысли: что если допустить, что все-таки Лагин не виноват? Преступник хорошо знал Лещенко, иначе тот не пустил бы его к себе в квартиру. Кого же хорошо знал Лещенко? Долгополова — раз, Уварова — два, Уваров отпадает, он эксперт. Отпадает… Собственно, а почему отпадает? И вообще, что я знаю об Уварове? Только то, что он был экспертом. Хорошо, оставим Уварова, пойдем дальше. Этот человек должен был хорошо разбираться в монетах. Опять возникает Уваров с его прекрасным знанием нумизматики. Дальше: именно этого человека так панически боялась Марина Шахова. Можно добавить: этот человек первый кандидат на загадочную пятилетнюю связь с Мариной. Значит, этого человека знали Лещенко, Марина Шахова, Долгополов и, похоже, Лагин? Так что же, человеком, убившим Лещенко и оставшимся на короткое время в пустой квартире, был Уваров? Ерунда, этот вариант исключается. Уваров сделал многое, чтобы помочь следствию.
Вдруг неожиданно, только сейчас, понимаю: Лагин мог никуда не исчезать и не уезжать, его просто убили. Конечно, Лагин должен стать очередной жертвой, после Марины Шаховой и Долгополова. Сыграв свою роль, он стал лишним. Осознав это, я вдруг ощущаю бессилие. Полное бессилие. Если Лагин убит, круг действительно замкнется. Для того чтобы как-то отвлечься, решаю заварить кофе, насыпаю зерна, включаю кофемолку. В первые секунды раздается потрескивание, которое издают размолотые кофейные зерна, потом оно прекращается. Но я держу палец на кнопке, забыв, что мощный мотор гоняет сейчас только кофейную пыль. Наверное, я долго сидела бы так, прислушиваясь к ровному жужжанию, если бы не телефонный звонок.
Сняла трубку:
— Алло? Алло, вас слушают.
В трубке потрескивание. Я повторила:
— Алло? Говорите или перезвоните, ничего не слышно! Алло?
Решила бросить трубку, но тихий голос сказал:
— Юлия Сергеевна, это я, Марина. Слышите меня?
— Марина? Марина Шахова?
— Я так рада, что вы дома. Мне просто повезло. Вы хорошо меня слышите?
— Но… где вы? Откуда звоните?
— Я здесь, недалеко от вас, звоню из телефонной будки.
Марина жива и, судя по голосу, с ней ничего не случилось. Впрочем, голос вещь обманчивая. Все это промелькнуло в секунду.
— Заходите. Вы… одна?
— Я одна и… Пока мне ничего не угрожает. Вы только откройте заранее дверь, хорошо? И не зажигайте свет.
— Конечно. — Сразу раздались гудки, я положила трубку. Пошла в прихожую, повернула ключ, приоткрыла дверь. Услышала шаги на лестнице: легкие, быстрые. Марина. Впустив ее, закрыла дверь. Марина тут же прислонилась к створке, откинулась. То ли она старалась успокоить дыхание, то ли слушала, нет ли за дверью шагов.
— Извините, Юлия Сергеевна… Не сердитесь.
— Марина… — Я не знала, что ей сказать. — Я рада, что вижу вас.
Сделав шаг вперед, Марина криво улыбнулась, стала расстегивать пуговицы. Бледная, под глазами круги, уголки губ дергаются. В остальном же все безукоризненно: волосы гладко забраны и стянуты сзади, легкий запах хороших духов. Тот же синий плащ, те же туфли на высоком каблуке.
— Раздевайтесь, проходите. Сейчас я сделаю кофе. Вы хотите есть?
Уселась в кресло, обняла плечи руками.
— Нет. То есть хочу, но сейчас не до этого. Кофе выпью, но есть не буду. — Уголки губ продолжают дергаться.
Я наконец поняла: ее просто трясет. Пошла на кухню, быстро вскипятила воду, сварила кофе. Подождав, пока осядет пена, разлила кофе по чашкам, принесла в комнату. Так как Марину по-прежнему трясло, сказала тихо:
— Пейте. Ну, Марина! Остынет. И успокойтесь. Вас всю трясет. Что случилось?
— Не знаю, что со мной. Просто ужас какой-то. — Поставила чашку, обняла руками плечи, закрыла глаза. — Вы спрашивайте. Спрашивайте, все равно что, только
спрашивайте.
— Во-первых, что случилось на Гранитной? У Ванды Лавецкой?
— Вы уж меня извините… за эту историю. Получается, я инсценировала убийство. У меня не было другого выхода. Просто не было. У меня неожиданно пошла носом кровь, но я сделала все это по многим причинам. Во-первых, из-за Виктора. Сначала я не понимала, чего он хочет. Не понимала и пыталась понять… а потом, когда поняла… Мне нужно было понять, что лучше, чтобы он остался у вас или вышел. И все-таки, конечно, лучше было, чтобы он вышел. Лучше, конечно же лучше… Я знала, если будут считать, что я убита, это ему поможет. Но я сделала это не только из-за Виктора. Не только.
— Из-за чего же еще?
— Не думайте, что я трусиха. Я совсем не трусиха. Но знаете, все эти дни я просто в какой-то панике. Поймите только одну вещь — этот человек может все. Он всесилен. И не знает жалости. Совершенно не знает жалости.
— Какой человек? О ком вы говорите?
— Я не могу назвать его имени. Все, вроде бы уже выдала его, а имени назвать не могу. Не могу, и все. Так и кажется, подпишу себе смертный приговор. — Повернулась, — Смешно?
— Совсем не смешно.
— И мне не смешно. Страшно. Вот и сейчас, когда я сижу у вас, страшно. Я не буду пока называть его имени, хорошо? Потом скажу, но пока не буду? Юлия Сергеевна?
— Ну… пожалуйста.
— Этот человек… Этот человек закабалил меня. Опутал, связал по рукам и ногам. Растворил в своих делах. Превратил в ничтожество. И вот теперь, теперь я за все расплачиваюсь. За все. Ну вот… Когда я решила, про себя решила: все, хватит, с его властью покончено, я поняла: как только он узнает об этом, он меня убьет. Ведь он хозяин. Хозяин Ленинграда, понимаете? А узнает он очень быстро. Может быть, быстрей, чем я сама подумаю об этом. Понимаете?
— Не понимаю.
Вздохнула.
— Понять это трудно, пока не увидишь его.
Надо ее успокоить. Во что бы то ни стало успокоить, ее снова начинает трясти.
— Подождите, Марина, кто же бесшумно вышиб дверь на Гранитной? Сами вы не могли бы это сделать.
— Один поклонник. Я позвонила, сказала — потеряла ключ.
— По-моему, вы просто дали себя запугать. Неужели вы действительно так боитесь?
— Действительно. Поймите, у него все рассчитано, а главное, куплено. Была куплена я, был куплен Долгополов. У него еще полно людей. Которые все сделают, что он скажет. У него есть охранники, есть убийцы. Он может купить все, понимаете, все… А я… То, что я решила, на его языке называется изменой, измены же он не прощает. Мне важно было дождаться, когда выйдет Виктор. Ну вот, я и рассчитала, пусть думает, что я убита. Так верней.
— Вы познакомились с ним пять лет назад?
— Мама сказала? Да, Юлия Сергеевна, я познакомилась с ним пять лет назад и стала его любовницей. Стала — а что оставалось делать? Я была девочкой, а он — элегантный, обаятельный, умный, интеллигентный… А потом… Я же говорю, он сначала влюбил меня в себя, осыпал подарками, а потом — растворил в своих делах. И все. Все, конец, Понимаете, конец? — Марина посмотрела на часы. — Без четверти. В одиннадцать я должна позвонить Виктору. Если его не будет — это все.
— Что значит «все»?
— Я объясню. Я вам все объясню, Юлия Сергеевна, только разрешите глоток кофе?
— Конечно. Может быть, подогреть?
— Ничего. — Взяла чашку, отхлебнула. — Но даю слово, когда… Когда он меня попросил об этом, о монете, я не знала, что он решил убить Лещенко. — Повернулась. — Вы верите мне, Юлия Сергеевна? Я ничего не знала об убийстве, он сказал мне только, подмени монету… Честное слово. Я ведь не знала, для чего это.
— Подменить монету? Какую? Вздохнула, откинулась в кресле:
— Серебряный рубль. С профилем Елизаветы. Я не знала, что это… Что все это лишь для того, чтобы подставить Виктора. Если бы я знала, неужели бы я это сделала? Неужели? Юлия Сергеевна, скажите — разве я сделала бы это?
— Значит, Долгополов познакомил вас с Лагиным по инициативе этого человека? Кажется, это произошло в «Севере»?
— В «Севере». Кому же еще было знакомить меня с Виктором, как не Долгополову. Ему было приказано. Впрочем, как и мне.
— И… вы согласились?
— Попробовала бы я не согласиться. К тому времени я уже безнадежно влипла, как муха в бумагу, понимаете? Хорошо, я могу сейчас отдать ему машину, гараж, бриллианты, но ведь все эти пять лет я практически жила на его содержании. Где я возьму эти деньги? Где?
— Значит, Долгополов познакомил вас с Лагиным. Дальше?
— Дальше ничего. Я стала встречаться с Виктором. Мне было сказано: тебя познакомят с юношей, постарайся влюбить его в себя. И все, больше ничего. Пока — ничего. Юлия Сергеевна, клянусь, когда я познакомилась с Виктором, с н и м у меня уже год ничего не было. Клянусь. Только деловые отношения. Понимаю, я в ваших глазах мерзавка, потаскуха, что угодно, но… Но так уж получилось. Понимаете, так уж получилось.
Нет, я не могла ее понять. Не могла, поэтому сказала тихо:
— Вы доносили ему на Лагина? Своему хозяину?
Откинулась в кресле. Вздохнула:
— Да. Вернее, первые полгода, потом… Потом я просто полюбила Виктора. По-настоящему полюбила, впервые в своей жизни. Вы должны понимать, что это может значить для женщины.
— Тем не менее вы подменили монету.
— Да, подменила! Но это была последняя просьба, которую я согласилась выполнить! Последняя! После этого я решила про себя — все!
— Может быть, вы наконец назовете его имя?
— Назову. Сейчас. Соберусь с силами и назову. — Закинула голову, глубоко вздохнула. — Уваров. Константин Кириллович.
Я смотрела на Марину. Нет, она не поворачивалась. Что-то сдвинулось — и вдруг все стало на свои места. Все, абсолютно все. Уваров. Конечно же Уваров. Но ведь он в свое время раскрыл какое-то хищение? Ну и что. Неизвестно, что это было за хищение и что обнаружится, если поднять дело. Уваров. Нет, все-таки это выше моего понимания. Выше. Но как, оказывается, все просто… Как все просто. Хозяин Ленинграда — Уваров.
— Значит, это… Уваров? — спросила я.
— Понимаю, вам трудно в это поверить. Наверняка он обкрутил вас вокруг пальца. Это он умеет.
Я постаралась вспомнить все, о чем говорила с Уваровым. Уваров действительно обкрутил меня вокруг пальца, практически он знал с моих слов все, что происходит. Марина шевельнулась в кресле.
— Он попросил меня подменить монету и сказать Виктору, чтобы тот продал ее через Долгополова. Виктор давно не видел монеты, поэтому, когда достал ее и понял, что она настоящая — клюнул. Но только… Только Уваров не учел одного: с Виктором шутки плохи.
— Что вы хотите этим сказать?
— Ничего. Когда Виктор узнал, что Лещенко убит, он понял, что его подставили. Но не знал кто, он ведь не был знаком с Уваровым. Я тоже сначала не знала, что и как. Только потом поняла: Виктор хочет выйти на свободу, узнать, кто это, — и рассчитаться.
Теперь понятно, почему Лагин порвал авиационный билет. Почувствовав неладное, он от кого-то узнал, что коллекция похищена, и сначала решил улететь. Но передумал. Он решил предъявить свой счет. Конечно, он рисковал, ведь я могла и не выписать постановление о его освобождении. Но, с другой стороны, куда он мог улететь? Его все равно объявили бы в розыск.
— От кого Лагин рассчитывал узнать, кто это? От вас?
— Обо мне он еще ничего не знал. Нет, он рассчитывал узнать это от Долгополова.
От Долгополова, конечно, поэтому Лагин и скрыл от меня, что знаком с экспедитором. Лагину было важно, чтобы Долгополова не арестовали, иначе он ничего не узнал бы.
— Он ничего не узнал от Долгополова, — тихо сказала Марина. — Зато узнал от меня. Будьте уверены, я позаботилась. — Вздохнула, мельком взглянула на часы. — Да, Юлия Сергеевна, я все рассказала, в том числе и про себя. Все, от и до. Юлия Сергеевна, сейчас они убьют друг друга. Виктор и Уваров. Господи, что же делать… Что же делать?
— Почему они должны убить друг друга?
— Я вам не сказала главного: Виктор нашел коллекцию, монеты, которые Уваров взял из сейфа Лещенко. Мы с Виктором договорились, что я ему позвоню, а если его не будет — значит, он уже вызвал Уварова.
— Куда?
— Виктор скажет Уварову, что коллекция у него, предложит поделиться. Но с условием: чтобы тот был один, без охранников. Уваров приедет, и тогда произойдет расчет.
— Как понимать «расчет»?
— Не знаю, Юлия Сергеевна, это мужское дело. Убьют друг друга, я же сказала. Просто я знаю, что у Уварова есть пистолет, а у Виктора нет.
— И… где все это должно произойти?
— Точного адреса не знаю, но думаю — недалеко от Лугова, там есть дача на берегу залива, такая зеленая дача, в ней живет один художник, друг Виктора.
Я сняла трубку, быстро набрала номер, услышала:
— Дежурный по УКГБ слушает.
— Говорит следователь прокуратуры Силина. Запишите, пожалуйста: найден след коллекции, похищенной у Лещенко. Сейчас она должна быть у Лагина. Вы поняли, у Лагина?
— Да, я понял, у Лагина.
— По моим данным, Лагин скрывается сейчас с коллекцией недалеко от Зеленогорска, у поселка Лугово, в зеленой даче на берегу залива, это дача одного из художников. Туда же для переговоров с Лагиным должен подъехать некто Уваров, сотрудник мастерских реконструкции, зовут Константин Кириллович, повторите.
— Уваров Константин Кириллович, сотрудник мастерских реконструкции.
— Все верно. Уваров должен встретиться с Лагиным, если уже не встретился. На всякий случай пошлите группу захвата по адресу Уварова, если он там, пусть его задержат. Но, скорее всего, Уваров на даче под Зеленогорском, поэтому вторая группа захвата должна срочно выехать туда. Действуйте осторожно, постарайтесь взять их с поличным. Учтите, оба вооружены, наибольшую опасность представляет Уваров, вам ясно? Он может быть не один, а с охраной.
Положив трубку, посмотрела на Марину.
— Где Лагин нашел коллекцию?
— В мастерских реконструкции, в Екатерининской куртине, в Петропавловке, там есть тайники. Я узнала об этих тайниках случайно. Подслушала, когда Уваров говорил об этом. Ночью, по телефону, какому-то клиенту. Ну и сейчас все рассказала Виктору.
— И… давно Лагин нашел коллекцию?
— В девять вечера. Не знаю, как он попал в эти мастерские, но он позвонил мне и сказал — коллекция у него. Сказал, если в одиннадцать его не будет, значит, расчет наступил. — Повернулась, прижалась лбом к моей руке, зашептала: — Юлия Сергеевна, умоляю, давайте поедем туда… Ну пожалуйста, миленькая, пожалуйста… Я сойду с ума, честное слово, я сойду с ума, не выдержу. Поедем, а? Пожалуйста, поедем, Юлия Сергеевна. Пожалуйста.
— Марина… Я просто не имею права ехать туда с вами.
— Вы даже не понимаете, что там может быть… Даже не понимаете…
— Подождем. Вы ведь слышали, туда поехала опергруппа.
Затихла. Я тронула ее плечо, она выдохнула почти беззвучно:
— Я не могу, Юлия Сергеевна. Просто не могу.
— Потерпите. Пожалуйста, Марина. Ну? Я вас прошу.
— Хорошо. Хорошо, я потерплю.
Наступившая тишина была ломкой, неполной: ее прерывали то еле слышное тиканье часов, то вздохи холодильника, то капающая из крана вода. Несколько раз внизу проехала машина. Марина сидела, уставившись в стену, ссутулившись, зажав ладони между коленями; она явно не могла больше ни о чем говорить. Я пыталась сообразить, как быстро сможет опергруппа доехать до Лугова. Марина права, сидеть вот так, в ожидании неизвестности, трудно, почти невыносимо, гораздо легче было бы поехать вслед за опергруппой. Но теперь уж ничего не поделаешь, придется ждать. Так, в полном молчании, мы просидели около двадцати минут; наконец раздался телефонный звонок. Я сняла трубку:
— Да? Вас слушают.
— Юлия Сергеевна, это я, Русинов. Простите, вы сегодня видели Уварова?
— Сегодня нет, но…
— Подождите. При любом контакте с ним будьте осторожны, убийца Лещенко — он. Почему вы молчите?
— Я уже знаю об этом.
— Знаете?
— Да. У меня сидит Марина Шахова, она все рассказала.
— Вы знаете, что подвергаетесь опасности? Можете меня подождать, я приеду с оперативной машиной?
— Конечно.
— На всякий случай никому не открывайте, кроме меня. Адрес?
— Адмиралтейская набережная, три, квартира восемьдесят.
— Выезжаем, ждите.
Положила трубку, посмотрела на Марину — лицо ее было таким же застывшим. Тишина наступила ненадолго, через минуту снова позвонили. Я сняла трубку, сказала «Алло?» — но трубка молчала. Стараясь сдержаться, несколько раз повторила монотонно: «Алло, вас не слышу… Алло?.. В чем дело, говорите?.. Вас не слышу…» Казалось, в трубку кто-то дышит; наконец, я услышала:
— Алло… Юлия Сергеевна… Юлия Сергеевна, это вы? Алло… Юлия… Сергеевна… — Голос с той стороны провода казался каким-то булькающим, плывущим, он то поднимался, то падал вниз — именно поэтому я не сразу узнала, кто говорит.
— Да, это я. Кто у телефона?
— Юлия Сергеевна… это… Лагин… простите… что… что… пришлось исчезнуть… — Бульканье.
— Лагин? Вы где? Лагин?
Марина кинулась ко мне, стала вырывать трубку, закричала в голос:
— Пустите! Отдайте сейчас же! Отдайте трубку! Слышите! Отдайте, вы не смеете держать! Отдайте!
Пришлось отбросить ее в сторону — иначе я просто не удержала бы трубку. Марина упала на пол, тут же вскочила, бросилась ко мне с перекошенным лицом; укрыв трубку телом, я заорала:
— Да не мешайте, черт вас возьми! Сядьте! Связь прервется, вы что, не понимаете! Сядьте!
Это остановило ее; повернувшись спиной, я сказала в трубку:
— Лагин? Слышите меня?
— Да… Юлия Сергеевна, я… нашел коллекцию…
— Где?
— В Петропавловке. Я же вам… говорил… что я… не виноват… Я ее… нашел… она здесь…
— Что с вами? Вы ранены?
— Немного… Вы не волнуйтесь, я… в порядке… Пришлите… кого-нибудь… А то… Коллекция…
— Вы в Лугове — где? Можете назвать адрес?
— Лугово… восемнадцать… Зеленая дача… Около магазина…
— Где Уваров?
— Здесь… рядом…
— Рядом? Он… жив?
— Кажется, жив… Юлия Сергеевна… Я ведь не зря… сказал… что буду великолепен… Помните?
— Лагин! Лагин, постарайтесь продержаться. Слышите?
В трубке стояла тишина, только булькало. Я нажала на рычаг, набрала номер УКГБ:
— Дежурный? Это следователь Силина. Передайте по рации группе, выехавшей в Лугово: Лагин и Уваров находятся по адресу: Лугово, восемнадцать, зеленая дача около магазина, оба ранены. Вы поняли? Вызовите «скорую».
39
Местонахождение зеленой дачи под Лугово нам показали два рафика «скорой помощи» и желтый милицейский уазик, стоявшие на взморье. Русинов въехал на дюну и затормозил у самой дачи. Стены и окна строения были обуглены, похоже, здесь только что кончился пожар. Дежуривший у ограды сержант, увидев мое удостоверение, кивнул:
— Здесь произошло, товарищ следователь.
Вместе с Русиновым и Мариной мы подошли к самой ограде, остановились. Из двери дачи, пятясь задом, санитары вынесли носилки. Марина дернулась вперед, потом прижалась ко мне; вглядевшись, я с трудом поняла, что это Уваров. Лицо эксперта казалось почерневшей взбухшей маской, глаза заплыли, губы превратились в месиво. Подошедший к нам Красильщиков сказал:
— Уцелевших боевиков Уварова мы взяли в стороне. Сидели в черной «Волге». Похоже, по приказу шефа. Ничего зрелище? Ведь Лагин достал взрывчатку. Не пойму только, как он ухитрился так избить Уварова — с простреленным легким.
Марина затряслась у меня на плече, я поняла — она плачет. Только сейчас я заметила: за открытыми дверями второй «скорой» на носилках лежит Лагин. Врач взялся за двери, я спросила:
— Что с ним?
— По поверхностному осмотру, огнестрельное ранение. Задето легкое, большая потеря крови. Я поеду? — Не услышав ответа, захлопнул заднюю дверцу, прошел к кабине, сел. Обе «скорые помощи» уехали. Русинов повернулся к Красильщикову:
— Сергей Кононович, коллекцию нашли?
— Нашли. Вон она, в машине. Но главное, как вы сами понимаете, не в коллекции. А в Уварове.
Мы подошли к уазику; здесь, дожидаясь нас, курили участники опергруппы. Один из них, немолодой капитан КГБ, показал глазами на переднее сиденье — там лежал плоский черный «кейс-атташе». Я подняла крышку: портфель был набит монетами до отказа. Пригнулась, призвала на помощь, все свои познания, постаралась сосредоточиться. Взяла одну из монет — римская. Нет, все-таки я кое-что изучила за это время: вот бигатус, рядом серебряный статор. Вот тетрадрахма, монета с профилем Цезаря, с парусником, с быком. Без всякого сомнения, это антика.
40
Уваров смог давать показания лишь через две недели. Так как встать и двигаться бывший эксперт еще не мог, допросы приходилось проводить в больничной палате.
На допросах Уваров рассказал все. Он признал, что был хозяином, главой «антикварной мафии». Показания Уваров давал спокойным голосом, глядя мне в лицо и изредка раздвигая в усмешке вспухшие губы. Трудно сказать, почему он был таким откровенным — ведь ждать снисхождения он мог лишь с большой натяжкой. Впрочем, может быть, именно поэтому Уваров и старался ничего не скрывать? Знал, что обречен, и, утешая свое тщеславие, старался оставить о себе хоть какую-то, но память? Увы, я знала по опыту: часто мрачная и темная память, которую можно оставить после себя, становится для безнадежных, закоренелых преступников чем-то вроде спасительной соломинки. А может быть, он выторговывал себе жизнь, надеясь на снисхождение.
Дома Уваров деньги и ценности не хранил, для этого у него были свои тайники. В стенах Екатерининской куртины и на купленной на чужое имя даче было обнаружено валюты и драгоценностей, в том числе и монет, на общую сумму около трех миллионов долларов. Уваров дал подробные показания о связях с иностранными «клиентами», в том числе и с Пайментсом. Это помогло, в частности, дать ориентировку «Интерполу» и полностью перекрыть пути вывоза антиквариата и произведений искусства из Ленинграда на Запад. Правда, Русинов при этом пошутил мрачно: перекрыть «пока».
41
Окончательный итог всему мы вместе с Русиновым подвели в том самом кафе, за тем же самым столиком у окна, который я про себя прозвала «нашим». Русинов начал с того, что спросил:
— Давайте выясним, Юлия Сергеевна, как все-таки вы меня обошли?
— Владимир Анатольевич, наоборот, вы меня обошли. Я подсчитала, по времени вы определили, кто такой Уваров, первым. И потом, для меня ведь это было как обухом по голове, вы же шли к этому планомерно.
— Не очень планомерно. Началось, конечно, с того, что я попросил московских друзей выяснить, не мелькала ли где-нибудь эта самая «Елизавета» с царапиной. Как я знаю уже сейчас, выяснить это было чудовищно трудно, но в конце концов удалось докопаться: эта монета входила в коллекцию покойного академика Двинкова. Когда умер Двинков, «Елизавета» прошла через несколько рук, но после собрания некоего Чанейшвили, москвича, бывшего начальника управления одного из министерств, след ее терялся. Чанейшвили, у которого два взрослых сына и дочь-школьница, распустил слух, что монету мог взять кто-то из их друзей, если не они сами. Но выяснилось, что в свое время Чанейшвили был осужден за злоупотребления. Уваров входил в круг подозреваемых мною лиц чисто теоретически, но все же я решил поинтересоваться тем крупным процессом о хищениях на заводе «Рембыттехника», на котором он в свое время был экспертом. Оказалось, курировал в то время этот завод не кто иной, как Чанейшвили. Получается, Чанейшвили дал Уварову взятку именно этой монетой. Юлия Сергеевна, очень прошу вас, подытожьте все с самого начала.
— Проверяете мое умение логически мыслить?
— Нет, просто хочу послушать ваш голос. — Сказав это, Русинов довольно твердо посмотрел мне в глаза.
Я вдруг поняла, что меня страшно интересует гуща на дне чашечки. Подумала: как такая трезвая женщина, как я, будет бросаться в омут? А ведь я только и мечтаю о том, чтобы броситься в омут. Но ничего ведь не будет, абсолютно ничего. Мы не те люди. Подняла голову, увидела глаза Русинова; он сказал тихо:
— Мне сорок семь, вам двадцать девять. Трудно вам, Юлия Сергеевна? Да? Или — просто Юлия?
Я нахмурилась:
— Не знаю. Пожалуйста, если вы хотите, просто Юлия.
— Хочу. Тогда я просто Владимир. Трудно?
— Трудно. — Я улыбнулась. — Но я все-таки попробую.
Артур Макаров
ПЯТЬ ЛЕТНИХ ДНЕЙ

Ранним летним утром одинокое такси выехало с Садового кольца на набережную правее Крымского моста. Зевающий таксист, сбавив ход, обогнал медленно ползущую поливочную машину, и сидевший позади пожилой человек с очень загорелым лицом под выцветшей жокейской шапочкой попросил, озираясь:
— Еще подальше… Там, знаете, справа на углу универмаг. Так мне напротив.
Лицо таксиста выражало одно сонное презрение. Прибавив газу, он проскочил два светофора, лихо развернулся и притормозил на другой стороне.
— Все?
— Да, здесь… Спасибо большое!
Подав деньги, пассажир вышел, извлек из машины связанные вместе сачок и удилище, подхватил пластмассовое ведерко.
И поблагодарил еще раз:
— Спасибо, всего хорошего.
— Это ты в такую рань встал, чтобы воду мерить? — мрачно спросил таксист.
— Кто рано встает, тому Бог дает, — улыбнулся рыболов. — Конечно, может, и смешно, а к пенсии прибавка и интерес большой. Не пробовали удить?
— Мне такая рыба с банановым соусом в горло не полезет, хоть ты еще стольник кинь! — последовал ответ. — И так жизни нет, а еще дурью мучиться…
Такси сердито рвануло с места, покатило по набережной, а рыболов подошел к гранитному парапету и начал развязывать удилище.
Грязная вода в реке маслянисто лоснилась, желтое солнце поднялось еще невысоко, и белесое небо снова обещало очень жаркий день.
В затененной комнате на тумбочке у тахты негромко заворковала телефонная трубка гонконговского происхождения. Она успела издать несколько трелей, пока ее на ощупь не нашла рука молодого человека с разлохматившимися кудрями. Подняв трубку, он встал, голышом вышел на балкон, а телефонный шнур, извиваясь, тянулся за ним.
— Да, — отозвался уже на балконе и присел на табуретку. — Да нет, проснулся, чего ты… А сколько щас? Ну… Ну… Я не нукаю, я слушаю. Так… Во сколько? Наверно, успеем… Нет, успеем, успеем. Да чего ты жмешь, я понял — в семь сорок… Нормальное настроение. Ну, давай…
Гудки отбоя длились и длились, пока, ссутулившись, он сидел, глядя в никуда, и золотое распятьице на груди перестало качаться, повиснув на тонкой цепочке.
Вернувшись в комнату и положив трубку, посмотрел на продолжавшую спать женщину и, нагнувшись, потащил с нее простыню:
— Киска, подъем! Встряхнись бюстом… Ну? Время уже!
Жмурясь, киска потянула на себя сползающую простыню, быстро забормотала:
— М-мм… Ну лялечка, ну котинька, еще чутинку посплю, самую крошечку, миленький!
— Давай, давай, не тяни резину, пора, говорю!
— Ну солнышко, ну капельку, умойся пока…
Покачав головой, солнышко взяло с тумбочки стоявший подле боржомной бутылки недопитый стакан и выплеснуло его содержимое на грудь страдалицы.
— Ох, ё-о!.. — подскочив, села и откинулась к стенке она. — Да ты что, охренел, да? Ну, придурок костлявый, придурок и есть… Еще лыбится, как трамвай на повороте, спирохета!
— Не возникай, охрипнешь, — он бесстрашно бросил ей на колени стакан, посмотрел на заспанное, разгневанное лицо с остатками расплывшейся тонировки вокруг глаз и золотыми блестками на скулах и рассмеялся.
Через некоторое время на пустынную улицу из глубины двора спешно вышла очень пристойная парочка, и на лице женщины не было даже следов косметики, волосы туго забраны в скромную, «учительскую» прическу, а его шевелюра приведена в соответствие с костюмом, на лацкане которого уместился значок общества «Знание».
— Тут мы тачку не схватим… На проспект надо.
Оглядевшись, он взял ее за руку, подтянул, они заспешили вдоль домов, и ее каблучки отстукивали все чаще и чаще.
Добежав до угла, остановились; движение на проспекте едва началось, но проползший троллейбус не привлек их внимания, как и рафик с несколькими седоками.
Когда вдали показался красный «жигуленок», молодой человек резко выскочил на проезжую часть, замахал рукой, и машина сбавила ход.
А еще попозже одинокий рыболов на пустынной набережной оглянулся на журчание шин — красные «Жигули», расплескивая натекшую от поливки воду, подкатили к краю тротуара. Хлопнули дверцы, машина отъехала, и двое молодых людей перебежали дорогу, направляясь к дому солидной постройки на другой стороне.
Лифт поднялся на шестой этаж, стоя в нем, оба молчали с серьезным видом, но, когда подошли к обитой двери с блестящими шляпками гвоздей и он, вздохнув, позвонил, лица их вдруг приняли выражение радушного оживления. Такими их увидел открывший дверь плотный старик в шерстяном тренировочном костюме, и его румяная физиономия озарилась улыбкой.
— Ба! Боря, Валечка… Ранние гости! Прошу, прошу.
Они вошли, и Боря приложил руку к сердцу:
— Алексей Захарович, ради Бога, извините за ранний визит! Но мы, знаете…
— Нам сегодня к сестренке в лагерь надо успеть, вы уж извините, а Боря, говорит, обещал что-то взять, и мы без звонка, нигде двушки не найти, — встряла и затараторила Валя.
— Ну, какое рано! — развел руками хозяин. — Я после сна прошелся, знаете, ходьба, оказывается, полезнее бега, да мне бегать и никак, так я пешочком свою дистанцию мерю, и не жарко пока… Прошу! — указал он в глубь квартиры. — Завтракали? Успели? Не то чайку, кофеек растворимый… Яишенку, а? С помидорами.
Явно зная расположение квартиры и направляясь в дальнюю комнату, Боря отозвался:
— Ну, стоит ли затруднять… Мы потом на дачу, так я решил часть записок забрать и там посидеть, поработать. А если кофе, так она соорудит, вы не беспокойтесь.
В большой комнате царил старомодный уют, громоздкий рояль, застланный скатертью, служил как бы столом, и чего только не стояло на нем; одну из стен занимали застекленные фотографии, на многих из них красовался Алексей Захарович разного возраста, непременно в военной форме. И по знакам различия прослеживалось его продвижение по службе.
— Это хорошо, что про мою заботу помните, — хозяин подошел к письменному столу, положил руку на пухлую папку. — Всё тут, всё-о, и все святая правда, без прикрас, как на духу, а то теперь писаки всякое льют, это я не о вас, Борис, вам от меня будет благодарность великая, увидите!
Борис украдкой взглянул на часы, поспешив заверить с возможной убедительностью:
— Я ведь не из-за чего-нибудь, Алексей Захарович, мне самому очень интересно. Живые страницы, можно сказать, мы только в школе проходили, а тут голая правда… Валюта, ты давай на кухню, сообрази кофейку. Иди, иди.
— Да, там чайник на плите, в холодильник загляни, дочка, я после сам помогу. — Алексей Захарович раскрыл папку и, сев в кресло, взял со стола и надел очки. — Мы прошлый раз до шестидесятой дошли? Та-ак… Вот она, — отлистав страницы, он хлопнул по рукописи. — Волынская операция! Ложный штурм по фронту и глубокий обходной маневр… Можете представить — конница участвовала!
В очень чистой кухне Валя налила и поставила на газ чайник, на столике в вазе стояло печенье, она взяла одно, разломила и, бросив в рот половинку, лениво жевала, глядя в окно.
— …и неверно, будто штрафники составляли ударную силу! — полемизировал с кем-то, сидя за столом, Алексей Захарович. — Лично я им не доверял, безответственный разгильдяй, он всегда и во всем разгильдяй… А на главном направлении действовал у меня полковник Рязанцев, можно сказать, слуга царю, отец солдатам. Умница! Ну, про царя это я словами поэта…
— Я понимаю, понимаю, — уверил Борис. И опять взглянул на часы. — Вы мне сегодня страниц двадцать дайте, а в понедельник просмотрим, что получилось.
— Я дам, дам… Ты сюда смотри, вот: против нас противник сосредоточил до шести тысяч пехоты при поддержке тяжелых танков типа «тигр» и самоходные орудия «фердинанд». Левый фланг у него был прикрыт надежно, я провел разведку боем на правом и прояснил обстановку…
Молодой человек снова прервал воодушевленное чтение:
— Извините, Алексей Захарович, я ей скажу, чтобы мне покрепче… Вам — как?
— Что? — взглянул над очками старик. — А-а… Да мне ложечку, много не надо. Там сгущеночка открытая в холодильнике, так мне со сгущеночкой.
— Я сейчас…
Быстро ступая, Борис прошел коридором, подошел к кухне и, приоткрыв дверь, сказал шепотом:
— Замри здесь, не высовывайся! Поняла?
— Гена…
— Замри, я сказал!
Верхняя часть кухонной двери была застекленной, и Валя, встав сбоку, смотрела через стекло. Она видела, как он обернулся из прихожей на дальнюю комнату, взглянув на часы, взялся за замок, повернул и потянул на себя. И сразу в дверь ворвались с лестничной площадки трое безликих, промелькнули, исчезли в коридоре.
Борис с бледным, обострившимся лицом задержался, глядя им вслед, затем быстро шагнул к кухне.
— Пошли! Скорее! Ну?!
Полуоткрыв рот с прилипшими крошками печенья, Валя тупо смотрела на него, одними губами беззвучно выругавшись, Борис схватил ее за руку, потащил, и, пока волок к выходу, она слышала из дальней комнаты звуки какой-то возни, сдавленное мычание и хрип.
Он вытащил ее на лестницу, дверь за ними захлопнулась, и оба заспешили вниз по ступеням, забыв о лифте.
Лица двоих обтягивали маски из чулок, лицо третьего снизу до глаз закрывала черная повязка, а очень светлые, холодные глаза не выражали ничего.
Рот Алексея Захаровича был заткнут кляпом, руки скручены веревкой, и плотный малый в блестящей куртке, подталкивая коленом, вывел его в коридор и распахнул дверцу чулана.
— Сюда, Валёк?
— Язык, пасс-суда! Туда… Шевелись!
Тесный чулан был загроможден всяким хламом, Алексей Захарович втиснулся спиной, осел на картонный ящик, и тот прогнулся под ним. Грабитель в куртке закрыл дверь, задвинул защелку и вернулся в комнату.
Работали сноровисто и быстро. На руках у двоих были обычные кожаные перчатки, у того, что с повязкой, — тонкие, резиновые. Присев у стола, он открыл одну дверцу тумбочки, вторая оказалась запертой, и тогда он достал из кармана связку отмычек.
Послышались какие-то звуки из коридора. Один из тех, кто был в маске, рывшийся в шкафу, прислушался и подошел к дверце чулана. Она вздрагивала под тупыми толчками, и задвижка на ней шевелилась.
— Ну? — открыв дверь, он угрожающе поднял кожаный кулак. — Угостить тебя, дед?
— У-ухршш… Ушш-оо… — хрипел старый человек. Лицо его побагровело, из выпучившихся глаз катились слезы. — О-охр-р…
Продолжая держать кулак над его головой, грабитель другой рукой выдернул кляп, и Алексей Захарович жадно втянул воздух.
— Н-ах… Хх-ха… Сердце… Я не буду кричать… Сердце… Таблетки у кровати… Нитро… глицерин…
— Стой здесь! — Тот, в повязке, стоявший, как оказалось, рядом, теперь неспешно пошел в другую комнату и, взяв со столика у кровати стеклянную колбочку с белыми таблетками, вернулся назад.
— Сколько тебе? Одну, две? — он встряхнул колбочку, высыпая таблетки на ладонь.
— Од… Одну… Не надо рот… Я не буду… Рот не надо… — тяжко дышал Алексей Захарович.
— Ешь. — Желтая, в резине рука бросила в открытый рот таблетку, старик судорожно дергался, глотая, и тут же в рот вновь сунули кляп.
— Все! Закрывай… «Скорая» уехала. Работать надо.
Рослый грабитель принес из прихожей пустой чемодан, когда проходил мимо дверцы чулана — она слабо дергалась и за ней слышался натужный хрип.
Через некоторое время в прихожей стояли два чемодана, кожаный баул и объемистая брезентовая сумка.
Тот, что-был с повязкой, вернулся в большую комнату, подойдя к окну и встав сбоку у портьеры, глянул вниз. За палисадником перед домом остановилась светлая «Волга». Он подождал, пока машина медленно тронулась, и вышел в прихожую.
— Нарик подъехал. Двигаем.
Руки в перчатках поднялись к лицам, зашуршали стягиваемые маски. Входная дверь распахнулась. Закрылась.
Ограбленная квартира не являла никаких следов разгрома. Только осталась незакрытой одна тумба стола и завернут угол ковра в другой комнате. В наступившей тишине можно было расслышать, как тикают старинные напольные часы, а больше не доносилось никаких звуков, и оставалась недвижной белая дверца чулана в коридоре.
Рыболов на набережной подсек, но поклевка сорвалась, и по воде побежали круги. Покачав головой, он быстро подмотал леску, сменил наживку и снова забросил.
Движение стало оживленным, позади него то и дело проносились машины, но он следил только за поплавком, белеющим внизу.
С проходившего мимо почти пустого речного трамвая раздались сигналы точного времени, и голос диктора оповестил: «Московское время — восемь часов тридцать минут».
В вагоне вообще было жарко, а к тому же его угораздило попасть в одно купе с грудным ребенком, и тяжелая духота настоялась запахом мокрых пеленок.
Ребенок на некоторое время затих, изредка издавая постанывания, его мать, устало прикрыв глаза и раскачиваясь, монотонно тянула:
— А-а-а-ай, поскорее засыпай.
Не то волки прибегут и Сашуленьку сожрут…
За тонкой стенкой, у которой он сидел, в смежном купе, бушевала разудалая компания. Громко бубнили голоса, кто-то то и дело порывался запеть, послышался вскрик и стеклянное звяканье.
Ребенок напротив дернулся, открыл глаза и опять закричал.
И тогда Баскаков вышел в коридор.
Здесь было несколько прохладнее. У окна справа рассеянно наблюдал пейзажи голый до пояса толстяк в полосатых пижамных штанах, а дверь веселого купе слева шумно отодвинулась, и, явно преодолевая чьи-то усилия ее задержать, оттуда вышла женщина. Баскаков отметил ее бледность, и то, как дрожат пальцы, поправляющие растрепавшиеся волосы, ему даже почудился призыв о помощи в ответном взгляде, и поспешил отвернуться.
— Сколько осталось до Москвы, не скажете? — спросил толстяк проходившего мимо проводника.
— Если нагоним опоздание, то будем вовремя, — последовал ответ.
— Если нагоним, — растерянно повторил толстяк и посмотрел на Баскакова. — А вовремя — это когда?
— В десять тридцать, — пояснил Баскаков.
Краем глаза он заметил, как из левого купе вышли двое, встали вплотную к женщине, и один попытался ее обнять, но его рука сразу была отброшена. Попытки не то грубого ухаживания, не то насильственного завлечения в купе продолжились, Баскаков снова встретил взгляд, теперь уже явно просивший о помощи, и опять отвернулся.
— Просто поразительно, сколько стало опозданий, аварий и всяких взрывов на железной дороге, — сказал толстяк. — Не находите? И самолеты падают один за другим… Непонятно, что у нас происходит.
— А может, все это и раньше было, — предположил Баскаков. — Происшествия были, а информации не было.
— Значит, вы тоже считаете, будто так называемая гласность на пользу обществу? — обрадовался толстяк.
— Я считаю, что наличие информации, безусловно, ему на пользу.
— Но люди нервничают, боятся… Это вредно отражается на здоровье и настроении, согласитесь.
Баскаков был готов согласиться, но сзади что-то происходило — раздался молящий возглас:
— Боже мой, да отстаньте от меня наконец!
Обреченно вздохнув, он повернулся и шагнул к соседнему окну.
— Слушайте, юноши, может, стоит успокоиться?
— А ты что, козел, несчастья ищешь? — сразу отреагировал один.
— Да нет, просто надоели ваши игры.
— Покурить не хочешь? Так выйди в тамбур, — предложил второй. — Как раз прикурить поднесем.
— Вообще я стараюсь с утра не курить. Но если компания хорошая, можно и подымить.
Едва начав двигаться в сторону тамбура, Баскаков проклял свою отзывчивость, но двое сразу последовали за ним, шли, дыша в затылок, и оставалось поскорее разрешить инцидент.
Как только Баскаков оказался на площадке, чья-то рука сзади попыталась обхватить, надавливая на горло, и, резко двинув локтем назад и попав, куда надо, он с разворотом стряхнул с себя обмякшего противника и, легонько подбросив левой подбородок второго, лишь обозначил тычок в солнечное сплетение.
— Не стоит продолжать, верно? — спросил, глядя в его растерянное лицо. Рядом никак не мог разогнуться другой, пытался втянуть воздух широко разинутым ртом. — Проветритесь тут как следует, и чтобы в дальнейшем все тихо, без детских криков на лужайке.
Когда Баскаков возвращался, его встретили испуганно-вопрошающие глаза, и он невольно отметил:
— Веселые у вас приятели.
— Они мне не приятели. Один сосед по купе, а сегодня из другого вагона объявился второй. Даже место ухитрился поменять… У вас есть сигареты?
— Да, пожалуйста.
Она отвернулась к окну, затем опять поглядела на него.
— Тогда, может быть, вместе? Мне будет спокойнее.
— Хорошо. Только идемте в тот тамбур.
Баскаков шел за ней, разглядывая высокую шею под узлом волос, в грохоте тамбура подождал, пока она встанет к окну, и щелкнул зажигалкой.
— Прошу.
— Спасибо…
— Не стоит. Тоже из отпуска?
— Разве похоже? — усмехнулась она. — Из служебной командировки… Семь дней в замечательном городишке, где главное достижение цивилизации — новая гостиница с уже прочно обосновавшимися тараканами. А в магазинах все по талонам.
— Но, может, хоть съездили удачно, — предположил он.
— Вполне. В том смысле, что нашла нужный завод. К сожалению, там даже не слыхали слова «дизайнер».
— А дизайнер — это вы.
— Как это вы угадали?
Она часто затягивалась, лицо было печальное, и Баскаков чувствовал себя не слишком уверенно, хотя ему очень нравилась эта женщина.
— Ничего, — сказал, чтобы что-нибудь сказать. — Зато скоро дома, и все образуется.
— Дома? — она взглянула почти враждебно. — Конечно, дома… Вы когда-нибудь жили в коммуналке?
— Н-нет, не приходилось.
— И не дай Бог. Гостиница с тараканами — это место обетованное в сравнении с моей средой обитания, — она смяла окурок о металл двери. — Ладно, все! Довольно канючить. Знаете, мне, в общем, не свойственно, просто…
— Я понимаю: ретивые попутчики и все прочее, — поспешил успокоить Баскаков. И, заметив, что она держит окурок в пальцах, сказал: — Дайте я выброшу… Давайте.
Открыв межвагонную дверь, выбросил окурки в щель на стыке перехода и вернулся в тамбур.
— Кажется, мы все-таки нагоняем опоздание, — она глядела в окно. — Если вам надо идти, то идите… А я еще постою. Только опять разорю на курево.
— Да о чем речь… Я бы пригласил в свое купе, но там выдающееся по вокальным данным дитя. И неутомимое.
— Я слышала… — она взяла сигарету. — Очень неловко представляться самой, но меня зовут Еленой Григорьевной. Можно просто без отчества.
— Это я должен извиниться, — поспешил возразить он. — Баскаков Андрей Сергеевич. Сергеевич, наверное, тоже лишнее.
— Вот и познакомились, — снова усмехнулась Елена Григорьевна. — И спасибо за помощь… Как вы думаете — они угомонились? Я, дуреха, там сумку оставила, не станут же они в паспорт лезть… Все домогались, где живу.
— Вряд ли полезут, но сумку без присмотра бросать не стоило, — он помолчал. — А где вы живете?
— В Кунцеве.
Ему показалось, что ответила нехотя.
— Мне на Юго-Запад, и можно проехать через вас. Это, в общем, по пути.
— И опять — попутчик… Нет, я вам буду очень благодарна. Так мне спокойнее.
За окошком грохотал встречный состав. Поезд все набирал и набирал ход, видимо, машиниста тоже беспокоило отставание от графика.
Пока ехали в такси по Садовому кольцу, оба молчали. Елена Григорьевна нарушила это молчание на Бородинском мосту.
— В общем-то нелепое здание, архитектура нелепая, — сказала, глядя на гостиницу «Украина». — Но как-то вписалось и даже смотрится в ансамбле…
— Мне нравятся высокие дома. И широкие улицы.
— А где вы отдыхали?
— В Гагре.
— Я там была один раз. Не совсем там, а рядом.
— В Пицунде?
— Да. В пансионате. Еще во времена замужества.
Таксист взглянул на нее в зеркало заднего вида, и Баскаков это заметил.
И снова молчали, пока не приблизились к Кунцеву и Елена Григорьевна не стала указывать дорогу. «Здесь направо… теперь налево… Сейчас прямо и снова налево… Там чуть дальше будет поворот… Вот здесь… И к тому корпусу».
Когда остановились, Баскаков вышел первым, и, взяв свою сумку с сиденья, но продолжая сидеть, она спросила:
— Вы не хотите записать мой телефон?
Таксист снова взглянул на нее.
— Хочу…
— У нас нет телефона. Если найдете чем и на чем, то запишите мне ваш.
Он записал на листке из записной книжки, оторвал и протянул ей.
— Первый домашний, второй рабочий. Лучше по рабочему, с девяти до шести… Спасибо за предложение.
— Не стоит.
Елена Григорьевна вышла из машины, и только сейчас Баскаков отметил, что они почти одного роста.
— Ну что же, до свиданья, — кивнула она. — Я вам очень признательна.
— Всего хорошего.
Держась очень прямо, она прошла к подъезду старой пятиэтажки, и дверь с разбитым стеклом закрылась за ней.
— Теперь на Юго-Запад… Улица Волгина, — откинулся на заднем сиденье Баскаков.
— Во дают! — оценил, отъезжая, таксист. — Сразу тебе и не замужем и телефон, прямо щас готова… Чирик отдам, что сегодня позвонит, увидишь! Разгорелась.
— Тебе подстричься надо, — сказал Баскаков. — Подстрижешься, помоешься и приходи обсуждать. А пока крути молчком, я тишину люблю.
В этом управлении ГУВД веяния нового выразились в том, что часть собравшихся на оперативку сотрудников была в цивильной одежде, остальное проходило по-старому. Так же сидел за своим столом начальник управления Железняков, и как обычно разместились по обе стороны другого, перпендикулярного к начальственному стола его подчиненные.
— Так что же, Захидов, мы это дело в навечные зачислим? — вопрошал Железняков стоявшего в некотором замешательстве сотрудника. — Сейчас со сроками сами знаете как… Перестройка! А преступничку на это начхать. Он по-прежнему желает гулять на свободе, причем заметно активизировался. В общем, если не справляетесь — так и скажите, честно, здесь все свои!
— Мы справимся, товарищ полковник, — катая на скулах желваки, уверил Захидов. — К концу недели…
— В среду! — прервал полковник. — В среду, в это время прошу доложить… Все, садитесь. Что у нас по кафе, Самсонов? Тоже глухо?
— Наоборот, громко, — поднялся с места Самсонов. —
Даже очень громко, я бы сказал.
— Это как понять?
— Мы вышли на грабителей… Ими оказались четыре сотрудника милиции. Все похищенное хранилось у них.
— Уже интересно жить, — невесело констатировал Железняков. — Просто большой подарок к моему юбилею… Признались?
— А куда им деваться? Думаю, все закончим быстро.
Полковник переложил лежавшие на столе бумаги справа налево, придвинул к себе папку, открыл и захлопнул.
— Значит, это… Самсонов. Вы еще поработайте с ними, чтобы полная ясность и… как полагается. Я пока доложу по инстанции.
— Товарищ полковник, мне кажется, что они обязательно должны отвечать по закону соответственно совершенному преступлению, — напористо сказал Самсонов. — Тем более что все у нас двигается в сторону полной демократизации. Я так считаю.
— А кто против? — оглядел собравшихся полковник. — Только, знаете, опыт подсказывает, что не бывает движения в одну сторону. А моя бабка говаривала, что когда кажется — креститься надо… Вот я и перекрещусь, посоветуюсь, поставлю в известность. Меня от этого не убудет, А вы — работайте, раз порадовали результатом… Певцов! Что по Фрунзенской набережной?
— Прошли всего сутки, товарищ полковник… Жена позвонила с дачи, никто не отвечал, она разволновалась, приехала. Нашла мужа в подсобке, связанного и уже неживого… Врачи определили остановку сердца. Вчера уточнили с ней список похищенного, в числе прочего именное оружие, список у вас на столе. Скончавшийся — Гриднев Алексей Захарович, генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского Союза, через месяц исполнилось бы семьдесят шесть лет…
— Тут, я вижу, два пистолета, — заметил Железняков, просматривая список.
— Револьвер системы «наган» и, судя по описаниям Гридневой, пистолет калибра шесть тридцать пять.
— У них и видео было? — удивился полковник, читая. — Вот здесь… так… меховые шубы, ордена… кольца-брошки, и — вот: видеодека неустановленной системы.
— Сын и невестка за границей. Недавно прислали, стояла нераспакованной.
— И какие наметки?
Певцов слегка пожал плечами:
— Ну ведь сутки всего… Жили обособленно, из дома на дачу, жена в основном там. Приходила раз в неделю женщина, убиралась. Ее проверяем.
— Ясно. Ясно, что пока глухо… А ведь там — оружие, и вообще дерзко совершено. И квалифицированно, судя по справкам, — полковник обвел взглядом собравшихся. — Что-то я давно Баскакова не вижу… Еще купается?
— Так точно, — подтвердил Певцов. — Послезавтра должен на работу выйти.
— Послезавтра должен, значит, сегодня может приехать… Найдите, оповестите и подключите. В том смысле, что пусть этим займется, а вы помогайте.
— Вас понял. Ко мне — все?
— Все. Все и вся по этому делу, и как можно расторопнее! Ну и что же, что сутки прошли? И не всего сутки, а уже сутки! Я бы на вашем месте обязательно так рассуждал.
Двое молодых людей, те самые, что вчерашним утром первыми навестили покойного Гриднева, встретились у кафе «Лира» на Пушкинской площади. Их опять-таки не сразу можно было узнать, поскольку она принарядилась в ультрамодные фирмовые вещи и обильно навела макияж. И он был разодет не без шика, кудри прижал клетчатой, «а ля Кэш» повязкой и нацепил серьгу в левое ухо.
— Приветик… Какие дела? А то я к Томке намылилась.
— Перетерпите. Надо заскочить к… Ну, туда. Хочу вместе.
Она взглянула испытующе.
— Я думала, развязал узелок… Нет?
— А ты думай меньше… Твое хобби другое! — раздраженно огрызнулся кавалер. — Идем сюда.
— Ты что, на кругленьких?
— Бубусь подвез… И туда докинет.
За рулем новой «девятки» сидел юнец с нежным личиком над мощной шеей. На руке, державшей баранку, желтело массивное кольцо.
— Привет, Зинон… Благоухаешь полегоньку?
— Бубусик, солнышко, вижу, опять экипажик новье? У Луситы для тебя что-то есть…
— Пусть себе в задницу вставит! Ее с месяц как менты пасут, а она на людей выходит, тварь… Куда едем, Тубик?
— В Бибирево.
— Ох, е-опс… Тогда накинешь на бензин, пупсик не фраер.
— А железки забыл?
— Ладно, — включил скорость Бубусь. — Пупсик шутит, но там ждать не станет. Оттуда тачек навалом.
Баскаков в одних плавках разбирал разбросанные подле чемодана вещи, а мать, стоя на пороге комнатки, говорила без умолку.
— …девочке нужны витамины, нужен свежий воздух, солнце, движение, наконец, ей просто необходимо внимание! А Зоя занята собой, и хотя в ее возрасте это естественно, но кто будет думать о ребенке? Эгоизм никого не доводил до добра, теперь созревают быстро, через восемь — да что я? — через пять-шесть лет Лика способна будет предъявить счет и по-своему станет права… Андрей!
— Да, мама…
— Что за манера, я с тобой говорю!
— А я хочу скорее убрать барахло и влезть в ванну… Но все слышал: Лике нужны витамины, свежий воздух, солнце, движение… Наконец, ей просто необходимо внимание. Так? Я согласен со всем абсолютно и хотел взять ее с собой… Мне не доверили. А тебе — доверяют. Вот возьми и побудь с внучкой, предоставь необходимое. Деньги я дам.
— Зачем такой меркантилизм? — ужаснулась Серафима Ильинична. — Для Лики я не считаюсь с затратами. Но всю жизнь не покладая рук я работаю и вправе иметь…
— Зоя вправе, ее родители вправе, ты вправе… У меня прав нет, и поэтому я иду в ванну, — разогнулся Баскаков.
Его тело было очень загорелым, на фоне загара слева под ребрами косым зигзагом выделялся белый шрам.
— Подожди, я тебя прошу…
— Я хочу скорее под душ и вообще не могу говорить с тобой в неглиже, это неприлично, согласись. И тоже очень прошу: если будут звонить с работы — то я еще не приехал. Чао, бамбина, сорри!
Боком проскочил мимо, оттолкнувшись, вылетел в броске в коридор и с кувырком через голову стал у двери в ванную комнату.
— Но если ты очень нужен? — всплеснула руками мать.
— Там я всегда нужен, верно… Но я еще в отпуске, а мой поезд не нагнал опоздание.
Она была готова продолжить, но из ванной уже раздалось шипение сильно пущенной воды.
Японскую видеодеку подсоединили к обычному телевизору, и поэтому изображение шло черно-белым, да и качество записи было совсем не ахти. Но те двое, что находились в одной из комнат запущенной двухкомнатной квартиры, с упоением следили за деяниями Рэмбо, разносившего небольшой американский городишко в отместку злосердечному шерифу.
В комнате было душно и накурено, пахло не убранной со стола едой и спиртным, и поэтому третий обитатель квартиры, подойдя к порогу и иронично понаблюдав происходящее на экране, вернулся в другую комнату, сел и, положив ноги на подлокотник соседствующего дивана, углубился в чтение «Огонька».
По худому, смугловатому лицу можно было заметить, насколько чтение занимало его, один раз сверкнули в полуулыбке крепкие широкие зубы, и только светлые глаза не меняли своего холодно-бесстрастного выражения.
Зазвонил стоявший на полу телефон, он взял трубку:
— Ну?
— Вроде бы гости, — сказал голос в трубке. — Лох с путаной… Когда подменишь?
— Погуляй, погуляй еще. Не замерзнешь, погодка теплая.
Повесив трубку, встал и вышел в прихожую. Из соседней комнаты доносились звуки взрывов и автоматные очереди, он подошел вплотную к входной двери, медленно отодвинул задвижку и замер.
Звонок жалобно вякнул над притолокой, и в квартиру вошли Зина с Геной. Стоя у них за спиной, впустивший усмешливо спросил:
— Что это так загорелось, соколик? Без звонка прямо в гости, и с барышней… Или звон есть?
— Нет, что ты, — попытался улыбнуться Гена. — Все тихо, все путем… Поговорить надо. Здорово!
— Плывите сюда, — так и не заметив протянутой руки, хозяин прошел в недавно оставленную комнату, сел на диван и откинулся. — Ну?
Гена тоже сел в кресло, тоже отвалился было к спинке, но сразу выпрямился, а его спутница вольно расположилась в другом кресле, сразу приняв эффектную позу.
— Я это… насчет доли хочу, — начал Гена. Ему никак не удавалось прямо взглянуть в лицо сидящего напротив, и он все больше нервничал. — Получился мизер, а я ведь сколько дело готовил, рассчитывал сам с другими людьми, но раз Монгол вас так обрисовал, думаю, ладно, пускай… А получил не по курсу. Нет, ну верно, Валёк… И двое мы были с ней!
— Все? — спросил Валёк. Верхняя губа слегка дернулась, когда было произнесено его имя. — Не по делу чирикаешь, фарцмагон. Тебе за наколку не доля, а процент положен, но раз на присутствие напросился и хату открыл — решили дать. А что с ней, так с подзабора можно и кодлу набрать для храбрости, это твои дела.
— Но ведь…
— А нам надо линять поскорей, — продолжил Валёк, не обращая внимания на попытку возразить. — Ты голдовое и камушки за пятнашку сдать обещал, так? Я за срочность пятёру с тебя снимаю, а десять штук жду. Когда?
Лицо Гены взмокло, серьга в ухе дрожала.
— Ну… Раз такой расклад… К субботе справлюсь.
— Не пляшет! Пять — завтра, а пять — сегодня. Беги и принеси!
Со всхлипом вдохнув, Гена хотел что-то сказать, но ничего не сказал и встал.
И Валёк встал. Улыбнулся, придавил рукой плечо вознамерившейся подняться девицы и радушно предложил:
— Посиди, посиди… Отдохни. — И подтолкнул Гену к двери. — Она останется, — объяснил, выйдя в прихожую. — Нам бегать да искать ни к чему. А без любви скушно, сам знаешь. И ты шустрей поторопишься. Верно?
— Не дело, Валёк, — нашел мужество запротестовать Гена. — Мы же с ней вроде…
— Значит, под чужих за зеленые — дело, а под своих и по дружбе нельзя? — сощурился Валёк. — Обижаешь, кирюха… Паш-шел!
Входная дверь открылась, Гена как ошпаренный выскочил на площадку и услышал, как щелкнул замок.
Вернувшись в комнату, Валёк наклонился к Зине:
— Ну что, лялечка, устроим забег в ширину?
Обедали, как обычно, на кухне. Собственно, обедала, и со вкусом, Серафима Ильинична, а Баскаков пил кофе, обреченно выслушивая непременные наставления.
— …и ты неправильно поступаешь, разговаривая с ней, как со взрослой. Она ребенок! В ее возрасте вопросы закономерны, это пора вопросов, но нельзя отвечать на них с грубой прямотой, это пагубно отразится на ее мировоззрении…
— Ну, положим, на моем мировоззрении пагубно отразились ваши красивые сказки.
— Но зато ты вырос человеком и достиг прочного положения, а неустройство в быту зависит только от тебя. Я, разумеется, не в претензии, что ты здесь живешь, но давно можно было поставить вопрос на работе о новой жилплощади, — Серафима Ильинична покончила со вторым, отставила тарелку и налила себе чай. — И ты ничего не ешь, у тебя будет сужение пищевода, увидишь! Один кофе дуешь.
— Говорят, что ножом и вилкой человек копает себе могилу, — отшутился Баскаков. — Когда Певцов звонил — ничего не просил передать?
— Нет. Он назвался, спросил о моем здоровье, и я чувствовала себя очень неловко, бормоча, что тебя еще нет и ты сегодня должен звонить.
— Зато сделала сыну подарок, — он стянул с холодильника газету, повертел, поискал глазами программу. — Ну-ка, что у нас сегодня по ящику… О! Да нынче футбол… Все, спасибо, пей чай без меня, я поплыл к месту.
Войдя в комнату и включив телевизор, сел напротив прямо на коврик перед диваном, со стены над телевизором на него смотрела светловолосая девочка лет шести. Постепенно нагрелся и засветился экран, проявились двигающиеся фигурки футболистов, возник и усилился звук: «…в который раз оправдывается старая истина: если атакует и не забивает одна команда, в ее ворота забивает другая. Весь первый тайм атаковали автозаводцы, а не прошло и пяти минут во втором, как первая атака гостей завершилась удачно. Итак, один-ноль! Вот по краю проходит Агашков…»
Зазвонил телефон.
— Мам, подойди! — крикнул Баскаков. — Ты слышишь?
— Слышу, слышу, иду, — заспешила из кухни Серафима Ильинична, — если тебя, врать не буду, учти… Алло-о! Андрея Сергеевича… А кто его просит? Что? Какая Елена Григорьевна, он еще не приехал.
— Стоп! — он взметнулся и прыгнул к телефону. — Дай мне, я здесь… Да, Лена, да! — Мать, поджав губы, отошла и уселась на диване. — Нет, как раз ждал отчего-то… Скорее — надеялся. Что? Ну, о чем вы, я рад… Что? Неважно слышно, но я понял и вполне способен быть там через… — он взглянул на часы, — через тридцать минут… Нет, нет, ничего переносить не будем, я этого не переживу! И уже еду, слышите? Все.
— И что же это значит? — трагически спросила Серафима Ильинична. — Кто такая Елена Григорьевна?
— Консультант нашего министра по вопросам защиты окружающей среды… Где мой серый костюм?
— Ты наденешь новый костюм? — ее глаза округлились. — Понима-аю… Еще не виделся с дочерью, мы не поговорили всерьез, я вру сослуживцам, что тебя нет, а появляется какая-то Елена Григорьевна — Лена! — и ты опрометью бежишь на свидание!
— Я не бегу, я лечу… А где моя синяя рубашка? Та, с короткими рукавами… Есть, нашел! Певцов опять объявится, увидишь. Так ты скажи, что звонил и буду завтра во второй половине дня… Слышишь?
— И не подумаю! — категорично отозвалась она. — А когда ты вернешься?
— Хорошо бы наутро, закричали трудящиеся. — Он спешно переодевался у шкафа. — Но надежды могут не сбыться… Так что не жди, только не закрой дверь на цепочку.
— Нет, это ни на что не похоже!
— Это похоже на дивный сон. — Он выдвигал и задвигал ящики стола. — Так, сигареты есть, зажигалка есть, платок? Платок есть. Ага — бумажник… Все! — Баскаков приблизился к матери, чмокнул ее в лоб и пошел к выходу. — Привет из дальних лагерей, целую крепко, ваш Андрей… Асталависта!
Стоя сбоку от вестибюля станции метро «Кропоткинская», Елена Григорьевна увидела, как по другую сторону бульвара притормозил «Москвич»-фургон, как выскочил из него Баскаков и «Москвич» уехал.
Баскаков перешел бульвар, на ходу поворачиваясь кругом, и, оглядываясь, прошел мимо ступеней, затем начал подниматься к вестибюлю.
Она обошла строение и встала с другой стороны, позади трех подростков, самозабвенно смакующих мороженое.
Баскаков опять огляделся, взглянул на часы и спустился ниже.
Елена Григорьевна стояла, наблюдая, как он прошелся взад-вперед, опять посмотрел на часы, снова медленно поднялся наверх, остановился, осмотрелся и даже топнул ногой от досады. Тихо засмеявшись, она подошла к нему, дотронулась до локтя, но, когда он обернулся, на ее лице не было улыбки.
— Давно меня не заставали врасплох, — сказал Баскаков, внимательно глядя на нее. — Ишь как подошла… Только что? А то мне казалось, что вы где-то здесь, а я не вижу.
— Чуть было не ушла в последний момент. — Елена Григорьевна взяла его под руку и повела в глубь бульвара. — Как-то стыдно за себя стало. Не стыдно, а… неловко. С утра на помощь напросилась, к концу дня — на встречу. Но вернулась домой, и хоть вой от пустоты. Позвонила подружке, той еще нет, тоже в командировке… И — никого. Пошла бродить, а на людях совсем расклеилась. Увидела автомат и позвонила.
— А трудящиеся это очень высоко оценили! — сказал Баскаков. Посмотрел на женщину и плотнее прижал ее руку. — Знаете, мне свойственна такая шутливая ерепень, не обращайте внимания поначалу, ладно? Это от некоторой зажатости… Я очень рад, что позвонили. Действительно — очень.
— Ну и хорошо. Мы сейчас…
Он остановился и осторожно развернул Елену Григорьевну к себе лицом.
— Мы сейчас пойдем в одно место и там посидим. Я не гурман и стараюсь держать форму, но три чашки кофе за день маловато даже для такого аскета, как я. И надо отметить знакомство. Принято?
— Ну… Я не против.
— Тогда — вперед и выше! Идемте. И улыбайтесь, поскольку жизнь прекрасна.
Нестеснительно расталкивая толпившихся у ресторана и по возможности ограждая Елену Григорьевну, Баскаков добрался до дверей. Приоткрыв створку, бросил надутому швейцару:
— Вениамин Павлович предупредил? Нас двое.
— Да будто бы… Я спрошу, — зашевелился привратник.
— Не стоит беспокоиться, мы сами.
Уже в первом зале стало ясно, что сегодня — битком. Баскаков посмотрел влево, вправо и увидел у стойки бара монументальную фигуру.
— Так, Лена, нам туда…
Метрдотель едва глянул сверху вниз, когда его окликнули:
— Вениамин Павлович, здравствуйте.
— Добрый вечер, мест нет.
Елена Григорьевна взглянула на Баскакова, а тот улыбнулся и тихо позвал:
— Веня…
Привычная мина недоступной солидности на лице мэтра дала трещину.
— Вот как… — Он растерянно покивал головой. — Бывает, но редко… — Затем обозрел Елену Григорьевну и улыбнулся: — Милости просим! Прошу за мной.
В следующем зале Вениамин Павлович усадил их за столик на двоих у стены, сам включил настольную лампу, забрал у соседей и подал меню. Потрепал по плечу Баскакова, опять улыбнулся Елене Григорьевне и, отойдя, остановил спешащего официанта.
— Столик на двоих, красивая женщина и серый костюм… Обслужи по люксу.
— Ладно…
Отойти официант не успел, его крепко придержали за локоть.
— Мои гости, ты понял? — спросил Вениамин Павлович. — Пусть Егоровна особые запасы потрясет… И займись вплотную, твои столы другие обслужат.
«Девятка» вошла в поворот чересчур резво, ее слегка занесло, и поспешно отвернувший слева «Запорожец» длинно засигналил.
— Что вопишь, дешевка, лапоть, халява! — высунувшись в окошко, отозвался Бубусь. — Ох, связался я с тобой… И как ты меня наколол? На секунду в гнездо заскочил.
— Кончай трёкать, не за так связался, — хмуро напомнил Гена. Он как-то совсем усох и сутулился больше обычного. — А застанем его?
— Всегда в норке, крыса… Я нарочно не звякнул, не любит, когда прямо к нему. Всегда свиданку назначает, чтоб прощупать что почем.
— А далеко еще?
— До Вашингтона и направо… Не потей, приехали уже.
Визгнув тормозами, машина свернула в колодец двора и стала. Гена открыл дверцу, но Бубусь спросил:
— Ты куда?
— Вместе пойдем.
— У тебя совсем крыша течет? — Бубусь покрутил пальцем у виска. — Меня бы пустил, а с двумя и разговаривать не станет… Давай припас.
Гена посидел, тупо глядя перед собой, затем молча вынул из-под рубашки плоский пакетик.
— Кончай гноиться, не кину, — усмехнулся Бубусь, забирая пакет, и вышел.
Легко взбежав по обшарпанной лестнице на третий этаж, позвонил три раза у двери, обитой металлом.
— Кого надо?
— Я от Ашота Суреновича, записку привез.
За дверью долго гремели засовами, наконец открыл низкорослый человек в старой тюбетейке на лысой голове, сказал укоризненно:
— Я всегда прошу сначала звонить. Существует порядок.
— Значит, с меня процент сверху, — предложил Бубусь. — Здесь станем базарить?
Человек в тюбетейке выглянул на лестницу и вернулся обратно.
— Хорошо, проходите. Но я ограничен временем.
Когда Елена Григорьевна смеялась, лицо становилось совсем молодым, и вообще она сейчас мало походила на печальную женщину в поезде. А Вениамин Павлович явно подпал под ее обаяние, и Баскаков с удовольствием наблюдал обоих.
— …ему говорят: оценка снижена за нечистый выход из сальто в замок… А он в скандал: выход был — класс, это у ловитора скользкие руки, этот нижний — алкаш, весь дрожит, я с ним работать не могу! А нижний-то — я… А еще Аркашке арбуз бросил.
— Какой арбуз? — прыснула Елена Григорьевна. — Просто арбуз?
— Если б просто… Он в конце номера должен был мяч бросать. А Аркаша у него одну девочку… Ну, словом, до этого подъел его Аркашка. Так вот они работают, Андрей кричит «Ап!» — и тот ловит. Соленый арбуз, вот такущий, только сок зашипел во все стороны! Зрители — наповал, а Аркашке только улыбаться, хотя вся рожа заляпана…
— Да вы, оказывается, еще и хулиган, — с ласковой усмешкой посмотрела она на Баскакова.
— Это все в прошлом, училище давно было. Затем я резко переквалифицировался.
— В кого?
— В нынешнее качество. — Баскаков мельком глянул на метрдотеля, и тот понял предостережение. — Он еще порасскажет, поразоблачает меня… А я ненадолго отлучусь позвонить.
— Возьми ключи от директорского, — полез в карман Вениамин Павлович. — Только сейф не ковыряй и со стола ничего не стащи.
— Спасибо, что напомнил.
В тесном кабинетике Баскаков присел к телефону, набрал номер, подождал.
— Мама? Все в порядке, я в кругу сугубо ответственных лиц, пьем боржом и кефир, чтим моральный кодекс… Хорошо, помню. А ты возьми записную книжку и прочти телефон Алексея Корнилова. Жду. — В нетерпении барабаня пальцами по настольному стеклу, разглядывал под ним томную красотку в очень условном купальнике. — Как? Нет, этот я знаю, он сменился, ниже прочти… Сорок восемь? Спасибо… Да, позвоню, не волнуйся. Все! — Нажал рычаг, быстро набрал снова, — Алло, Алексей? Ф-фу, отлегло… Здравствуй. Боялся не застать… Сегодня. Честное слово, сегодня! Леша, тут, понимаешь, образовалось такое, что, может быть, стану просить об укрытии… Ключ, как всегда, под ковриком? Спасибо, друг…
Ночью жара таки разразилась грозой, опустевшие улицы шумно прополаскивал ливень. За открытой балконной дверью протяжное глухое ворчанье в очередной раз разродилось гулким ударом грома, слепящая вспышка ярко высветила окна в доме напротив.
Горящий торшер кругом света захватывал голову медвежьей шкуры на полу, блестели белые клыки и навсегда раскрытые стеклянные глаза.
— Дай мне сигарету, — попросила Елена.
Завернувшись в простыню, она сидела, прислонившись к стене. Баскаков потряс пачку, выудил сигарету.
— Последняя… — И поднес прикурить.
— Спасибо. Роскошное жилье… То есть обычная квартира, но выглядит шикарно, каждая вещь и на месте и со вкусом.
— Какой хозяин, такое жилье. Многие считают его не от мира сего. В городе редко, то в лес умотает, то в горы… Бродит, охотится. Вот таких зверюшек привозит.
— Ты его тоже с циркового училища знаешь?
— Не-ет… Алексей — литератор. Что-то пишет, куда-то сдает. А я училище кончил и вскоре с цирком завязал… Были обстоятельства.
— И кто теперь?
Баскаков посмотрел в потолок.
— Изыскатель… Что-то вроде этого.
— А путь и далек и долог и нельзя повернуть назад, да?
— Назад нельзя, это точно, — он приподнялся на локте. — Эй, эй! Это ведь последняя… Дай хоть по-цыгански покурить.
— Как это?
— Вот так: дохни… — он открыл рот.
Засмеявшись, Елена затянулась, пустила ему в рот струю дыма, и Баскаков, передохнув, изобразил блаженство на лице.
— Еще?
— Конечно…
Она затянулась, нагнулась к нему, и он обнял ее и привлек к себе…
…Баскаков открыл глаза и, когда звонок повторился, резко сел на тахте.
— Кто это? — спросила Елена. — Хозяин?
— Нет, Алексей бы сначала по телефону… Я посмотрю, — он пошел к двери. — Сюда никто не войдет, не бойся… Там в ванной халаты есть.
Пока шел в прихожую — позвонили еще раз. Он открыл — за дверью стоял Певцов.
— Привет!
— Приве-ет… Как это ты меня?
— Ты же матери звонил, телефон сюда спрашивал… Остальное дело техники. Можно войти?
— Ну давай… Нет, сюда, на кухню, — направил Баскаков. — А я думал, ты мне товарищ.
— Я тебе друг, кретин! Запросто мог вчера отловить, а ждал до утра… Причем сначала заехал к мамане, нашел в куртке корочки, вот, — он положил на стол удостоверение. — А потом смотал к нам за сбруей. — Щелкнул кейс, и на стол легла навесная кобура с пистолетом. — Поясняю кратко: шеф велел найти, чтоб возглавил — ограбление отставного генерала на Фрунзенской, хозяин умер в подсобке с пробкой во рту, кроме прочего взяли два ствола. Теперь моя легенда… Я тебя вызвонил еще там, на отдыхе, и ты отзывчиво прилетел утром, хотя билет был на вечер. Начальство будет очень довольно. За все с тебя чашка кофе и бутерброд.
— Ладно. Спасибо, Игорь, — оценил Баскаков. — Сейчас, накину одежку.
— Да уж хватит в плавках бегать, Аполлон!
Оставшись один, Певцов открыл холодильник, присел перед ним, достал огурец и, откусив, сел на место.
И вошла Елена в большом, не по росту халате Корнилова.
— Извините… Здравствуйте. Я думала, Андрей здесь.
— Он… вышел. Здравствуйте, — Певцов посмотрел на кобуру на столе. Она глядела туда же.
Певцов встал, наклонил голову с четким пробором.
— Певцов Игорь… Игорь Васильевич. Я товарищ Андрея по службе.
— В таких случаях принято говорить «очень приятно». Меня зовут Елена Григорьевна.
Баскаков появился с пиджаком под мышкой, застегивая манжет на рукаве, сразу все понял и не стал ничего объяснять. Навесил оружие, закрепил ремешок, натянул пиджак.
— Лена, нам всем, если можно, кофе… И что-нибудь пожевать типа бутербродов. Мы пока выйдем, чтобы не мешать, а ты позовешь.
Баскаков разгуливал по квартире, словно примеривающийся к обмену клиент, и, хорошо зная эту манеру, Певцов молча ждал за письменным столом. Вернувшись в большую комнату, Баскаков постоял перед стеной с фотографиями и, глядя на ту, где Гриднев был запечатлен в кругу смеющихся солдат, спросил не оборачиваясь:
— Все отработано тщательно?
— Да, и следов никаких… Знаешь, они его заперли, а нитроглицерин оставили. Но руки были связаны, вот в чем дело… Хотя пробирка лежала открытая. Может, собственноручно давали?
— А что? Гуманные ребята, чистоделы… Получается, он им сам открыл, Игорек!
— Получается…
— А где вдова?
— На даче. Говорит, что не может здесь быть. Но она ничего существенного не дала.
— Все равно поехали на дачу, — упрямо мотнул головой Баскаков. — Это где?
— Архангельское. Там полно отставников.
Баскаков еще раз посмотрел на фотографию и пошел из комнаты.
Когда «Волга» вырулила на набережную и развернулась, Баскаков сказал:
— Стоп! Я на минутку…
Певцов и шофер смотрели, как он подошел к рыболову в линялой жокейской кепочке и встал рядом.
— Чего это он? — спросил шофер.
— Видимо, хочет дать совет, на кого ловить, — предположил Певцов. — Появилось солнце, значит, на муху не берет, надо червяка.
— А-а-а… — шофер закрыл рот, покосился на него и отмахнулся: — Да ну вас… Все вам хаханьки!
Очень загорелый рыболов, видимо, привык к любопытствующим и отвечал доброжелательно.
— …Да всякий день ловлю. Утром, знаете, здесь — тут рядом труба, из нее льет, а рыбка кормится… А после обеда во-он туда, к мосту, перехожу.
— Позавчера утром тоже здесь ловили?
— Это в воскресенье? Ловил… Утро тихое было, — рыболов рассмеялся. — Мне еще таксист смешно про банановый соус сказал… Мол, дурью я мучаюсь.
— Тем утром никого здесь не видели? Или там, напротив.
— Так я туда спиной, — удивился рыболов. — А здесь утром только пробегают иногда, кто трусцой… А после всякие ходят.
— Понятно. Извините.
— Стойте! — позвал рыболов.
Баскаков сразу вернулся.
Рыболов двинулся от парапета к краю тротуара.
— Вот тут лужица была… Поливочная проходила и налила. Так подъехала машина, и парень с девушкой вышли… Пошли как раз напротив.
— Какая машина, как они выглядели? — быстро спросил Баскаков.
— Ну, машина «Жигули», а выглядели… Обыкновенно… — Припоминая, рыболов стал серьезным. — Он такой высокий, худой… Горбился слегка. А деваха симпатичная вроде. Другого не вспомню.
— Во сколько все было?
— Да как раз в полвосьмого, наверно… Я приехал, закинул, и подъехали они.
— Спасибо большое. Удачи вам.
— К черту! Это, извините, присловье такое.
Пелагея Николаевна Гриднева до их появления занималась закруткой компота и так и продолжала занятие, отвечая на вопросы и изредка отирая слезы.
— …Он сказал «к обеду приеду», а все нет и нет. Я звонить, от соседей, — никого! Ну, думаю, едет… А он, мой бедный, уж в чуланчике страдал, связанный…
— Пелагея Николаевна, кто у вас бывал последнее время? — спросил Певцов.
Баскаков сидел у перил террасы, задумчиво глядя в сад.
— Так спрашивали уже… И никто не бывал. Саша, племянник, месяц назад домой проездом гостил и к себе в Воронеж уехал. А так осенью мы своих в отпуск ждали, вот компоты готовлю. В этой… В Уганде работают.
— А домработница ваша… которая убираться приходит, к ней не захаживали знакомые?
— Диля? Татарка она… Десять лет приходит, нет — одиннадцатый уже. Какие знакомые? Она в нескольких домах убирается, в нашем в трех квартирах. Покойный сослуживец моего рекомендовал. Диля монетку найдет и покажет, смеется, это моя, говорит, раз упала. Только сперва покажет…
— Этот молодой человек… Ну, высокий, худой такой — он кто вам будет?
— А-а, Боря? — Гриднева отерла лицо фартуком. — Так ведь Алексей Захарович книгу писал. Про себя, про войну, как все было и где воевал… Боря ему помогать взялся, насчет грамотности и литературы поправлять. Они с Валей и сюда разок приезжали, я их вареньем угощала…
Певцов с изумлением смотрел на Баскакова, а тот, слушая, кивал головой.
— Он что, писатель? Откуда Алексей Захарович его взял?
— Кажется, на улице познакомились… А не писатель он, журналист, — Пелагея Николаевна отодвинула банку. — Где-то наверху такая карточка есть, оставлял при знакомстве… Принесть?
— Да, пожалуйста. Если вас не затруднит.
Женщина ушла, и Певцов достал сигареты, протянул пачку Баскакову.
— Вот что значит цирковое училище! Но ведь ты не в чародеи готовился, как я помню… Откуда?
— От верблюда… Боря и Валя! Милые крошки. Хотел бы я с ними познакомиться. Очень! Фу, что за гадость ты куришь… «Пегас».
— Вернемся в город, раздобуду тебе блок «Мальборо», погонами клянусь! Пусть мой бюджет от этого получит пробоину… Думаешь, горячо, да?
— Посмотрим…
Гриднева возвратилась, неся в пухлой красной руке белый кусочек картона.
— Вот, на столе лежала… Я все, как было, оставила и так хранить стану. Словно он еще живой, а уж нету его. — Слезы опять потекли по ее лицу.
— Афанасьев Борис Владимирович, журналист, — прочитал Баскаков. — И ни телефона, ни адреса. Скромненько эдак, простенько… Ничего, Боря, даст Бог, перевидимся еще!
Часть обратной дороги молчали, вернее, упорно молчал Баскаков, а Певцов все косился на него, не мешая размышлять. Но при подъезде к Волоколамскому шоссе не выдержал:
— О чем мечтаешь, отец-командир? Поделись, если есть чем.
— На душе гадко… Завез ее домой, оставил и уехал. Ты бы видел эту квартирку!
— Домишко старый, верно…
— Домишко! Не в этом дело… Плохо, когда своего угла нет. Ну куда я мог? К маменьке? Так сам там на птичьих правах… Хоть комнату снимай.
— А может, оно и к лучшему? — осторожно предположил Певцов. — Встретились и разошлись, бывает…
— Оно бывает, — тяжко посмотрел на него Баскаков, — что осел по небу летает… Дай трубку, деятель. Набери к нам… Гвасалия? Нодар, мне срочно нужен Афанасьев Борис Владимирович, журналист… Где работает, в какой редакции, если свободный художник, то адрес и вообще все данные. Прокрути сверхсрочно и сразу свяжись со мной… Да, все правильно. Жду!
— Ты думаешь… — начал Певцов.
— Думаю. Визитка исполнена тушью, от руки. Энтэо подтвердит, уверен. Мог он и с потолка имя-фамилию взять, а мог и знакомца журналиста иметь. Проверим, нас не убудет.
— А сейчас что?
— А сейчас у нас коллекционеры и ювелиры. В скупках оповещены, но ведь и надомники есть… Ты Сафина помнишь?
— Это по делу «Японца»? Помню.
— Он мне должен. А я незлопамятен, но незабывчив. Гриша, мы в центр едем, в район Пятницкой.
— Вас понял, — пошевеливая баранку, отозвался шофер. — Бу сде.
Поднимаясь по лестнице, Певцов провел пальцем по исчирканной стене.
— Ты не знаешь, откуда у нас такая тяга к похабщине?
— От необычайно высокой культуры души и тела, — пояснил Баскаков. — Вот его бункер. — Ну-ка, кто в тереме живет?
Звонить пришлось трижды.
— Кто там? — наконец спросили из-за двери.
— Я не знаю ваш нынешний пароль, но моя фамилия Баскаков.
— Кто-кто?
— Не тяните время, обдумывая, Руфат Талгатович, меня вы не забыли.
Человек в тюбетейке открыл дверь, однако не спешил освободить проход.
— Я не люблю, когда ко мне приходят вдвоем. И, согласно правам, могу вообще не впустить.
— Можете. Но не стоит. У меня очень мало времени, мой друг подождет внизу, а вы проведите, куда пожелаете, я не задержу.
Руфат Талгатович пожевал губами и отступил в глубь квартиры.
— Проходите… Один.
Они вошли в полутемную кухню, и хозяин прислонился спиной к высокому подоконнику, стекло в окне наличествовало лишь в верхнем переплете, остальные были забиты фанерой.
— Что вам надо?
— Почти ничего. — Баскаков вынул блокнот, вырвал листок и положил на стол. — Здесь список кое-каких вещиц, которые я ищу. Если дадите искреннюю справку, не предлагал ли кто нечто подобное, я дам честное слово, что забуду две ваши ошибки по недавнему делу и забуду ваш адрес. Но если пойму, что темните… Словом, я считаю обмен взаимовыгодным.
Сафин молчал, и молчал долго.
Баскаков повернулся и пошел из кухни.
— Подождите… Заберите вашу бумажку, — не отходя от окна, сказал Сафин.
Баскаков вернулся, сунул листок в карман.
— Вчера один юноша случайно встретил меня на улице и кое-что предложил. Вы знаете — я ничего ни у кого не беру… И у него не взял. И даже не видел. Но он обрисовал два кольца, браслет и, по-моему, зубное золото. Одно кольцо с красным камнем.
— Кто такой? Фамилия? Имя? Кликуха?
Сафин тихо хихикнул:
— Я мальчиков никогда не любил… Пупсиков-бубусиков модных. Даже имени не спрашивал… Я девочек люблю. Иди, начальник… И помни, ты обещал! А я все сказал.
— Все?
Сафин молчал.
Баскаков понял, что это действительно все, и пошел прочь из темной квартиры.
Нодар Гвасалия стремительно шел по длинному, устланному ковровой дорожкой коридору издательства и читал таблички у дверей. Заглянув в нужную комнату, увидел мужчину и женщину за противоположными столами и еще один стол, пустой.
— Будьте любезны, мне нужен Борис Владимирович.
Мужчина не отреагировал, а женщина подняла лицо в квадратных очках.
— Он у ответственного. Во всяком случае, сказал, будто идет туда.
— Благодарю вас.
На входе в приемную ответственного секретаря Гвасалия столкнулся с коренастым мужчиной и отступил.
— Прошу вас.
— Да проходите!
— Нет, прошу.
Мужчина вышел, а Гвасалия спросил ему в спину:
— Борис Владимирович?
Тот обернулся.
— Да… А вы кто?
— Отойдем на минуточку, — Гвасалия огляделся, увидел холл с креслами и показал рукой: — Вот сюда.
— Ну, отошли, — Афанасьев отошел и сел. — Теперь сели. И — что?
— Моя фамилия Гвасалия. Я из Управления внутренних дел. Показать документ?
— Допустим… А при чем здесь я?
— Хочу выяснить, нет ли среди ваших знакомых молодого человека следующей наружности: высокий, худой, несколько сутулый…
Афанасьев тихо засмеялся:
— Наша милиция не перестает радовать… С какой стати я за здорово живешь стану рассказывать о своих знакомых? Это раз… А два заключается в том, что, окажись у меня таковой, вы начнете о нем расспрашивать… А я ни о ком никаких справок не даю. Ясненько?
— Предельно. — Гвасалия встал, глядя сверху вниз сказал: — Теперь для абсолютного понимания ситуации: произошло, можно сказать, убийство, и у покойного в доме обнаружена ваша визитная карточка. Вы это обдумайте, потому что вас обязательно вызовут.
— Постойте, — приподнялся и снова сел Афанасьев. — Какая карточка? У меня никогда не было карточек… Я могу посмотреть?
— Я сказал: вас вызовут и предъявят. Просто времени мало, и я рассчитывал на содействие. Сожалею, что ошибся.
— Да погодите же! Сядьте… — Афанасьев облизал губы. — Ну… Однажды меня попросили достать кассеты для видео. Кто и что несущественно… Как я с ним познакомился — тоже. Мне их продал некий Гена, и он похож на ваше описание. Это все.
— Нет, не все. Думаю, вы знаете фамилию или где его найти, должны знать, — Гвасалия дотронулся до руки Афанасьева. — Лучше сказать, Борис Владимирович, уверяю вас.
— Только не вздумайте мне угрожать! — отдернулся и вскипел Афанасьев. — Не те времена, дорогуша, совсем не те… И покажите-ка документ.
Гвасалия сунул руку в верхний карман пиджака.
— Прошу.
Афанасьев раскрыл удостоверение.
— Да, похожи… Ну и что? Возьмите… Мы виделись два раза, и он звонил сам. Где-то был его телефон, но я выбросил… Больше года прошло!
— Как вы познакомились? Борис Владимирович, право, неразумно хоть что-то скрывать. Я надеюсь, что вы ни при чем и всего лишь стесняетесь или просто нас не любите. И то и другое можно понять. Но мой непосредственный начальник очень торопится, а когда он захочет встретиться с вами… В общем, он — не подарок. Проще сказать мне.
Афанасьев опять попробовал вскипеть, но голос его дрожал.
— Да идите вы, знаю я вас! Ну девушка, девушка одна познакомила, Космынина Зина, раза три перевиделись, и все… Поймите, если вы мужчина!
— Я грузин, значит, безусловно, мужчина, — очень серьезно ответил Гвасалия. — Дайте ее телефон, и я не стану вас больше задерживать.
«Волга» с Баскаковым и Певцовым шла по набережной Москвы-реки, когда прерывисто зажужжала рация.
— Я «Озон», прием, — ответил Баскаков.
И раздался искаженный, сопровождаемый шумами и потрескиваниями голос Гвасалия:
— «Озон», я «Радуга»: Афанасьев знает юношу по имени Гена, давно не встречал, координат не имеет… Познакомила Космынина Зинаида Федоровна, — Певцов уже достал блокнот, ручку, записывал, — установлен адрес: Ташкентская улица, дом десять, корпус два, квартира тридцать пять…
— У-у, это другой край, — сразу среагировал Гриша и взглянул в боковое зеркальце.
«Волга» с ходу заложила крутой вираж, развернулась через осевую и пошла в обратном направлении.
— …работает дежурной стройуправления сутки через двое, сегодня на работе отсутствует. Как слышите? Прием.
— «Радуга», я «Озон», слышу вас хорошо. Космынина Зинаида Федоровна, Ташкентская, десять, корпус два, квартира тридцать пять. Выезжаю на место… Вам следовать космодром, находиться на связи. Как поняли? Прием.
— «Озон», я «Радуга». Следовать космодром, находиться на связи. Вас понял. Отбой.
Баскаков положил рацию и повернулся к Певцову:
— А?
— Сработала твоя версия! — радостно оценил Певцов. — Сработала… Теперь бы Зинулю повидать.
— И Гену, — напомнил Баскаков. — И тогда возникнет некая ясность.
— Некая?
— Некая. Если Зина и Гена его скрутили и вынесли багаж, то, считай, завтра утром можно победно рапортовать. Очень удачно складывается… Слишком!
— Слушай, а этот паучок сказал что-нибудь? — поинтересовался Певцов. — Ювелир этот.
— Сафин? Сказал и не сказал… Ребусом! Про мальчиков-игрунчиков, пупсиков-бубусиков. Все время в голове держу и ничего не сплетается пока.
В помещении, где обычно работали четверо, сейчас были двое; на полках вдоль стены стояли яркие модели сельскохозяйственных машин: поворачиваясь влево-вправо, тихо жужжал вентилятор на соседнем столе.
Елена отложила линейку, сняла телефонную трубку, набрала номер.
— Долгушин слушает! — раздался ответ. — Алло! Слушаю вас.
— Будьте любезны Андрея Сергеевича.
— Он вышел. Кто говорит, что передать, я записываю.
Она молчала в нерешительности.
— Алло! Не молчите, прошу вас… Я все передам.
— Скажите, что звонила Ванина Елена Григорьевна… Я на работе, телефон двести тридцать девять — шестнадцать — двадцать четыре.
— Двести тридцать девять — шестнадцать — двадцать четыре. Ванина Елена Григорьевна. Вас понял, обязательно передам.
— Спасибо.
Крупная блондинка, разбиравшая папки у стеллажа, подошла сзади, положила ей руки на плечи, нагнулась к уху.
— У-у, Ленок, сама звонишь и голосок жалобный… Действует год дракона, не иначе! Я думала, ты навеки законсервировалась.
— Я сама думала… А оказывается, очень хочется жить. Очень!
Дверь тридцать пятой квартиры отворила сухонькая женщина с усталым лицом, рукава закатаны по локоть.
— Здравствуйте. Зина дома?
— Дома, проходите… Вон там ее комната.
В кухне варится что-то с капустой, открытая дверь в ванную демонстрирует стирку, стены коридорчика увешаны всяким. За дверью прямо играет тихая музыка.
И за этой дверью — уголок рая. Кожаный диван, кожаные кресла, стереосистема «Акаи», низкий столик с хрусталем, фарфоровые чашки, бутылка ликера «Парадиз». И в креслах полулежат две дивы.
— Зина?
— Ну-у… — начала лениво распрямляться одна из них, неся чашку на стол.
Два шага вперед, и Баскаков подсел на широкий кожаный подлокотник.
— Так где же ты была, хорошая моя, позавчера, в воскресенье, часов в восемь утра?
— А-а-а-а!! — Чашка с кофе опрокинулась на колени, Зина закричала так страшно, что подруга вскочила и бросилась к двери, но проход загораживал Певцов.
А в коридоре за ним, па пороге ванной застыла маленькая женщина, с мокрого белья в ее руке капало на пол.
Баскаков вошел в кабинет, и Железняков поднял голову от бумаг.
— Вы меня вызывали? Здравствуйте.
— А-а, пропащий! Говорят — вышел, работает, а я его не вижу, не слышу и не в курсе всего. С возвращением… И рисуй обстановку. Это дело на контроле.
Баскаков, склонив голову набок, посмотрел на начальство.
— Это дело на контроле с воскресенья семнадцатого числа. Сегодня у нас вторник девятнадцатого… Я вышел на работу с утра и сейчас пятнадцать двадцать девять. Даже переодеться не успел, видите костюм? А он у меня единственный. Только-только доставлен первый объект, с ним занимаются… Так мне что — вполне туманную обстановку рисовать или можно работать дальше?
Во взгляде Железнякова были и интерес, и даже некоторое удовольствие.
— Не хватало мне тебя, Баскаков, ой как не хватало! Все как положено: докладывают, делятся, так, мол, и так, даже совета просят, помощи… А тебя вызвал поинтересоваться и сразу — р-раз! — с размаху в ухо получил. И опять интересно жить и трудиться.
— Павел Харитонович, просто я считаю бессмысленным делиться предположениями и домыслами. Будут факты — предъявлю.
— Вы мне поскорее преступников предъявите, Баскаков. И будет славно… Идите, работайте.
Стремительно пройдя к себе, Баскаков вошел в первую комнату, и поднявшийся с места Долгушин доложил:
— Товарищ майор, только что был на связи Баранов. В квартире на Масловке никого не обнаружено… Одни следы пребывания. Они произвели осмотр, возвращаются сюда.
— Хорошо. То есть следовало ожидать, я имею в виду… И — отставить официальность!
— Слушаюсь! Еще вот, Андрей Сергеевич, — протянул листок Долгушин, — звонили в четырнадцать десять.
— Угу… — Он прочел, снял пиджак, повесил на стул и сел к телефону. — Знаешь, Саша, не сочти за подлость, расстарайся чайку погорячей. И покрепче.
— Сей секунд… У машинисток индийский со слониками видел. Они вас любят.
— Давай!
Баскаков набрал номер.
— Здравствуйте. Можно попросить… Лена, ты? Конечно, узнал. Слу-ушай… Я в замотке, собственного носа не вижу, и по протяженности она непредсказуема. Будет окно хоть на час — сразу позвоню или заеду… Как куда? Позвоню на работу, а заеду домой. Что? Ах, оставь, правильно сделала, что позвонила… Да. Да. И я очень хочу увидеть тебя… Очень!
Посидел, крепко зажмурившись, встряхнул головой и вышел в соседнюю комнату.
Зинаида Космынина с распухшим от слез лицом стонала перед столом Певцова. Позади нее расположился Гвасалия.
— …они что хотите могут, им все нипочем… Гена его боится, жалеет, что связался… и я говорила-а-а, говорила ему-у…
— Тише, спокойнее, слезы горю не в помощь. — Певцов подвинул по столу бланк с записями, и Баскаков, нагнувшись, читал. — Значит, как он ушел, вы его больше не видели?
— Да-а… А они со мной… Они мне такое устроили… Трое… Домой не пускали… О-о-ой!
— Спокойно, Космынина, спокойно! Если было покушение на вашу честь, значит, в общих интересах, чтобы мы как можно скорее задержали и наказали насильников. Правда?
— Да-а-а… Что?
— Гена по этому адресу постоянно проживает? — потряс бланком Баскаков.
— Та-ам, да… На Лесной…
— И пупсики-бубусики его навещают?
Заплаканные глаза расширились.
— Вы его тоже… Тоже взяли?
— Кого? Ну, кого — быстро! — Баскаков сел перед ней на корточки, его лицо стало очень неприятным.
— Вы же сказали… Бубуся.
— Это ты сказала! Говори дальше, себе на пользу. Фамилия? Имя? Где найти? Он — кто? Деловой? Фарца? Ну!
— О-ой, не знаю… Да везде он… Дима… У «Космоса»… «Дружба»… Кафе в Доме туриста… Там всегда тусуется… Голубо-ой…
Баскаков выпрямился и кивнул Гвасалия:
— Нодар, ты со мной… Работай, Певцов, «мы поехали. На Лесную я Долгушина отправлю… И кого бы с ним?
— Пусть Баранов поедет. Он шустрый, и ребята у него ничего.
Баскаков и Гвасалия вышли в комнату рядом, где Долгушин из термоса разливал чай по стаканам.
— Ай да Саша, — Баскаков взял один, отхлебнул. — М-м, горячо, вкусненько… Сейчас бери Баранова с его группой и жми на Лесную. Жуков Геннадий, все у Певцова… Если дома нет — затаитесь и ждите. Связь постоянно! Плесни еще… Спасибо. Готов, Нодар?
— Я всегда готов, Андрей Сергеевич.
— Не умрешь от скромности, генацвале… И аккуратней, Долгушин, без особого шика!
— Не беспокойтесь, Андрей Сергеевич, который год в школу ходим.
Баскаков, обжигаясь, торопливо допил чай, ощупал кобуру под плечом, сдернул со стула пиджак и пошел к двери, натягивая его на ходу.
В торце Центрального Дома туристов, выходившего на улицу 26 Бакинских Комиссаров, в левом углу за стеклянными стенами с плетеной металлической сеткой расположилось заведеньице, где бойко торговали соками и ядовито-розовым мороженым из автоматов два молодца в белых рубашках. Все столики здесь были заняты, и, купив мороженое, Гвасалия перешел к другому углу, в «Кулинарию».
В ее помещении слева от входа разместилась стойка кафе, и народу хватало. Входили, выходили, как бы бесцельно прохаживались, изредка переглядываясь или вдруг перебрасываясь фразой-двумя, юркие разномастные мальчики и подмалеванные девочки из начинающих.
Из «Волги», втиснувшейся между туристскими «Икарусами», Баскаков видел, как Гвасалия вышел на улицу, постоял на углу, покончив с мороженым и обтерев руки платком, что-то спросил проходившего мимо юнца и вскоре скрылся из вида.
Гвасалия вернулся туда, где торговали мороженым. Встал у стойки, подождал, пока рядом окажутся только алчущие лакомства детишки, и спросил у продавца:
— «Мальборо» в захоронке не найдешь?
— Откуда? У халдеев за углом спроси… Или у привратников.
— А Бубуся не видел?
— Да недавно возникал. — Продавец глянул по столикам. — Вон Миня сидит, значит, и Бубусь недалеко.
Щуплый подросток в широких розовых шальварах и балахонистой кофте сидел с застывшей улыбочкой на бледном лице, синие глаза были слегка подведены, на тонких запястьях сцепленных рук блестели браслеты.
Вскоре помещение заполнила группа голоногих туристов, послышалась немецкая речь. И хотя их фигуры заслоняли Миню, Гвасалия заметил, как тот посмотрел в сторону входа, поднялся и вышел.
Наблюдавший из машины Баскаков опять увидел Гвасалия и перенес внимание на двоих юнцов впереди него, огибающих угол здания.
Бубусь и Миня прошли мимо «Березки» и входа в гостиницу, миновали прозрачные стены ресторанного вестибюля и завернули в широкий проезд-тоннель, где стояло несколько машин.
Гвасалия нагнал их, когда Бубусь открывал дверцу «девятки».
— Подожди, Бубусь, к тебе дело есть.
— Дело? — удивленно распахнулись красивые, в густых ресницах глаза. — Какие дела, дорогой, ты вывеской ошибся… Мы не деловые, мы сознательные.
— Гена привет передал, — подошел ближе Гвасалия. — Он…
— И-я-аа!!
С пронзительным выкриком сломавшись в пояснице, Бубусь развернулся на опорной ноге, а другая, описав дугу, смаху ударила Гвасалия в голову. В последний момент и скорее инстинктивно тот успел подставить ладонь, но сильный удар все равно сбил его на асфальт.
— Миня, в тачку! Миня, сучка, садись!
Подпрыгнув, Бубусь двумя ногами попытался попасть в лицо Гвасалия, но он рывком откатился в сторону.
— Стоять! — приказал вбежавший в сумрак тоннеля Баскаков. Дуло пистолета взглянуло на Бубуся, на Миню, опять на Бубуся. — Руки, ну!
— Не станет он, слышишь? — пятясь к машине, крикнул Бубусь, поводя вскинутыми в боевой стойке руками. — Не выстрелит… Беги!
Гвасалия уже заходил Бубусю за спину, а Миня быстрым шепотом уверил Баскакова:
— Все, начальник, все… Я — стою. И ни при чем, просто подружка его. Не надо!
Гвасалия сверху вниз быстро охлопал очень крепкое под одеждой тело Бубуся, и тот с кривой улыбкой на девичьем личике позволил ему это, улыбаясь даже тогда, когда из нагрудного кармана извлекли плоский пакетик.
Баскаков забрал у Гвасалия найденное, развернул плотную бумагу. На его ладони лежали два кольца и бесформенный, сплющенный кусочек золота.
— Это не зубное, — медленно произнес Баскаков, поднося зажатый в пальцах желтый металл к нежному лицу с сузившимися от ненависти глазами. — Он эту звезду не придумывал себе, как некоторые, он ее своей и чужой кровью добыл… Слышишь?
— Только не надо меня лечить, мусор. Все равно вас скоро развесим, как в Венгрии вешали… Твари!
Светлые «Жигули» третьей модели стояли с раскрытым капотом на Лесной улице, мужчина в безрукавке замасленными руками менял очередную свечу. Сидящий в салоне Баранов увидел остановившееся наискось через улицу такси, подождал, пока выйдет пассажир, вгляделся. Пассажир вошел в арку дома, такси отъехало, и Баранов сказал в рацию:
— Похожий объект прибыл. Направляется к вам. Как поняли?
— Вас понял, объект прибыл, — ответила рация, — Находитесь в готовности.
Менявший свечу посмотрел на Баранова и быстро сделал несколько оборотов ключом. Накинул провод, вложил ключ в сумку, отер тряпкой руки и захлопнул капот. А потом сел в машину.
Через окно лестничной клетки дома в том же дворе Долгушин и его напарник увидели сутулого молодого человека, проходившего от арки к подъезду. Как раз в этом подъезде была квартира, в которой жил Геннадий Жуков, и Долгушин был уверен, что это именно тот, кого они ждут.
— Он? — спросил напарник.
— Оч-чень похоже, — отозвался Долгушин. — Сообщи «Озону».
Гена поднялся на свой этаж, не сразу попав ключом в скважину, отворил дверь. В прихожей сбросил кроссовки и, не надевая тапочек, в одних носках зашел в кухню. Достал из холодильника бутылочку «Пепси», сдернул крышечку об угол стола, прямо из горлышка звучными глотками отпил половину и с бутылкой в руке побрел в комнату.
Вошел и застыл на пороге.
— Привет, фраерок, — сказал Валёк. Он сидел у окна, портьера была слегка отодвинута, для обзора двора. — Засек клиентов на улице? По твою персону клиенты, я так рассуждаю.
— Какие клиенты… — заикнувшись, протянул Гена. — А ты как… Зачем?
— Так ведь должок за тобой. А я тороплюсь. Придется разобраться.
Баранов и его напарник одновременно увидели «Волгу», показавшуюся в конце улицы. Машина завернула в арку дома, где жил Геннадий Жуков, и остановилась там, не въезжая во двор.
Баскаков включил рацию:
— «Эфир», я «Озон», как слышите? Прием.
— «Озон», слышу вас хорошо, — отозвался Баранов.
— «Эфир», я «Озон», продолжайте наблюдение, — Баскаков отключился и включил рацию снова. — «Космос», я «Озон», доложите обстановку, прием.
— «Озон», я «Космос», — Долгушин смотрел на окно и балкон квартиры в третьем этаже дома напротив, — Объект прибыл на место минут пятнадцать назад…
— Один?
— Один.
— «Космос», слушай меня: продолжать наблюдение, выхожу на место… В случае моего отсутствия через пять минут — выходить на объект самим. Как поняли?
— «Озон», вас понял, продолжать наблюдение, в случае отсутствия через пять минут — выходить самим… «Озон»! Разрешите поддержать ваш выход! — с тревогой попросил Долгушин.
— «Космос», вас понял. Исполняйте приказ! — Баскаков отложил рацию. — Гриша, я пошел. Держи связь с Певцовым, ларевидери…
— Ни пуха, Андрей Сергеевич!
Баскаков прошел до подъезда, держась ближе к стене дома, прыжками через ступеньку поднялся на площадку третьего этажа, около двери перевел дыхание. И нажал кнопку звонка.
Его должно было насторожить то обстоятельство, что Жуков открыл сразу, с началом звонка, и без всяких вопросов. Глядя в бледное лицо хозяина квартиры, Баскаков решил, будто тот собрался уходить, и не насторожился.
— Жуков Геннадий?
— Да. А вы… откуда?
Вопрос был нелеп, и Баскаков едва сдержал улыбку.
— Очень рад встрече.
Он вошел, а Гена отступил назад, и, по его взгляду поняв свою ошибку, Баскаков попытался среагировать, но не успел. Правая рука дернулась к левой подмышке, ноги согнулись для толчка с разворотом, но Валёк стоял сзади, выдвинувшись из-за двери, и рука с кастетом опустилась на затылок Баскакова. Попытка развернуться несколько ослабила удар, но и только. Он осел на пол, упираясь руками в шероховатость паласа и опершись спиной о стену, разгибал ноги, пытаясь встать, и это ему удалось.
Валёк усмехнулся и коротко ударил сбоку в подбородок.
— Ты его… Не надо. Уйдем… — лепетал Гена, глядя на лежавшего.
— Уйти хочешь? Куда? — удивился Валёк. — Ты же дома, зачем уходить?
Баскаков зашевелился, подтянув руки к груди, оперся на них и, медленно отжавшись, подставил колено и начал подниматься. Ноги едва держали обмякшее тело, но он все-таки распрямился и развернулся, шатаясь.
Сильный удар снова отбросил его, Баскаков сполз по стене и затих.
— Видел, сявка, что значит дух? — спросил Валёк вконец обомлевшего Гену. — Ему лежать бы и лежать, а он все нас взять норовит… Боец! А ты, гнида, порчь! Через тебя завалились, точно…
Резкий удар снизу в живот согнул Жукова пополам, и, пока он с разинутым ртом пытался восстановить дыхание, Валёк шагнул за порог, прислушался и мягко побежал по ступенькам наверх.
А Гена, сипло втягивая воздух, отер рукой слюну и, согнувшись, тоже выбрел на лестничную площадку. Хватаясь за перила руками, медленно начал спускаться.
Снизу послышались звуки торопливого взбегания по лестнице, и рядом оказались двое. Долгушин схватил его за отворот куртки.
— Где?! Где Баскаков, сволочь? Возьми его, Сева! Ну смотри, ну смотри, если… Ну смотри!
Приговаривая на бегу, Долгушин взлетел маршем выше и с пистолетом в руке вскочил в квартиру. Перепрыгнул ноги лежавшего Баскакова, повернул ствол в кухню, в коридор, быстро продвинулся в комнату, развернулся, держа пистолет наготове обеими руками, и, лишь убедившись, что кругом никого, вернулся в прихожую.
— Андрей Сергеевич! Андрей…
Баскаков замычал, открыл невидящие глаза и потряс головой.
— М-м… — Его руки искали опоры, и Долгушин встал на колени, помог ему сесть. — Саша… ты…
— Я, Андрей Сергеевич, я. Как вы?
— Саша… Взяли… Взяли их?
— Взяли. Одного. Жукова.
Очень косившие до этого глаза Баскакова стали более осмысленными.
— Значит… ушел… — он густо сплюнул красным, и на подбородке остался яркий потек… — Ушел, деловой… Я упустил… обормот…
— Ничего, — Долгушин забросил его руку себе на шею. — Ничего, возьмем… Поднимайтесь, сможете? Ну, вместе… Как там у вас — ап!
На светящемся экране телевизионного монитора, сменяя одна другую, демонстрировались фотографии молодого человека с очень решительным лицом. Анфас, профиль слева, профиль справа…
Полковник Железняков комментировал:
— …Сомов Валентин Степанович, 1960 года рождения, город Ростов-на-Дону. В 1979 году был осужден за разбойное нападение сроком на шесть лет в колонии особого режима. Освобожден в 1985 году. Он же Гришин Алексей Игнатьевич. Место постоянной прописки — город Железноводск Ставропольского края. Клички: «Соболь», «Волына», «Валёк». По имеющимся данным, подозревается в нескольких особо дерзких ограблениях на территориях Северо-Осетинской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, а также в Краснодарском и Ставропольском краях…
Железняков оглядел собравшихся в его кабинете сотрудников управления.
— Вот такой гость пожаловал в столицу и ушел, можно сказать, из наших рук благодаря самоуверенной халатности майора Баскакова…
Кое-кто посмотрел на того, чью фамилию назвал полковник. Виновный сидел в углу между Певцовым и Долгушиным, он так и не успел сменить костюм, багровое пятно под левой скулой почти не выделялось на фоне загара.
— …В нашей работе излишняя самостоятельность и так называемая храбрость являются помехой делу. В основе должны лежать взаимострахуемые коллективные действия, и никак иначе! — Теперь Железняков взглянул в дальний угол. — Поэтому есть мнение Баскакова от ведения дела освободить, поручив дальнейшую работу капитану Певцову.
Певцова словно подбросило, так быстро он распрямился, вставая.
— Товарищ полковник, считаю это мнение ошибочным! Практически менее чем за сутки Баскаков вышел на преступников, а принял дело, по сути, в мертвой точке. И ни я, никто из нас не возьмет на себя ответственность заменить Андрея Сергеевича, поскольку такая подмена пусть и станет воспитательной акцией начальства, но принесет один вред вместо пользы…
— Разрешите дополнить? — Долгушин встал рядом с Певцовым.
— Ну, попробуйте.
— Основная вина за исход операции лежит на нашей группе… На мне, — поправился Долгушин. — Этот Сомов пришел и ушел через чердачные помещения. Квартал старый, мы были просто обязаны предусмотреть такую возможность. Обязаны…
— Ясно, что обязаны, ясно, что не предусмотрели, и совсем ясно, что оба выгораживаете своего… Баскакова, — Железняков покачал головой. — Хотел сказать «своего любимчика», да язык не повернулся, стало стыдно за вас. Садитесь! А вы, Баскаков, доложите, как намерены действовать дальше. Конкретно!
Было заметно, что разбитый рот мешает Баскакову говорить внятно, произносимые слова звучали с легким пришепетыванием:
— В настоящий момент по этому делу задержаны трое. Возвращена часть пропавших ценностей, хотя доля их от объема похищенного невелика… Стал известен главный объект розыска и намечены действия по его обнаружению. Работа продолжается. У меня — все.
— Предельно конкретно и оч-чень обстоятельно! — оценил Железняков и тяжело вздохнул.
Пока он бесцельно перекладывал бумаги перед собой, собравшиеся молчали, и никто не смотрел в его сторону. Хотя несколько человек переглянулись украдкой.
А Баскаков продолжал стоять.
Наконец полковник опять посмотрел на него с выражением некоторой безысходности.
— Ну что же, продолжайте дело, Баскаков. Надеюсь, что случившееся явится для вас уроком, очень надеюсь… Хотя совсем не уверен! Все свободны, благодарю.
День опять пришел жарким и душным, три вентилятора безнадежно пытались создать хоть какую-то видимость движения воздуха.
— Тут вот еще что, — Певцов отхлебывал чай, заглядывая в блокнот на коленях. — Космынина показала, что, пока деловые с ней баловались, услышала, как один сказал про жару: «Нет, у нас на Баксане полегче…» Читал?
— Читал, — кивнул Баскаков. — Так и получается: Железноводск, Баксан, окурки сигарет — все Северный Кавказ… Во сколько ваш рейс, Долгушин?
— Шестнадцать сорок… Черт, позавтракать не успел, а пообедать тем более не выйдет! Дую чай, как этот… Зато хоть посплю в самолете.
— Ох, не надо про поесть, — предложил Баранов. И абсолютно нелогично продолжил: — Сейчас бы окрошки холодной!
— Отобедать недурно, — согласился Баскаков. И потрогал желвак на щеке. — Зубы ноют, а есть все равно охота… Где сейчас хорошо и быстро едят? У кооператоров?
— У меня дома хорошо едят, — сообщил Гвасалия. — Как раз тетя приехала, и Тамрико рада будет… Нет, верно, Андрей Сергеевич!
— Спит и видит твоя Тамрико, когда к ней такая орава нагрянет, — предположил сидящий поодаль Сахнов. — Мечтает и ждет.
— Ты грузинских хозяек совсем не знаешь, — возмутился Гвасалия. — Гость еще руки моет, а уже хачапури готово, пока садится за стол — готовы цыплята, а зелень, сыр, лобио — давно на столе, сразу можно вино разливать. У нас так.
— И ни слова про холодное кахетинское! — предложил Певцов. — Душа стонет… Этот Валёк, Сомов этот, он что — только за долгом к Жукову шел? Рисковый гражданин.
Баскаков задумчиво разминал сигарету.
— Мог за долгом. А мог иметь намеренье прибрать его. Но не прибрал. Ни его, ни меня…
Зазвонил телефон, и на звонки ответил сидевший рядом Калугин.
— Калугин слушает! — И зажал трубку ладонью. — Это вас, Андрей Сергеевич. Голос женский.
— Повесишь, я там возьму.
Баскаков вышел в соседнюю комнату, плотнее прикрыл дверь за собой.
— Да! Ну, здравствуй… Извини пожалуйста, но вчера несколько вырубился в связи с обстоятельствами… Кто — обстоятельства? Они, понимаешь, не слишком прогнозируются, вот в чем дело… Очень хочу, и совсем не знаю когда. Полное наличие отсутствия времени…
Она опять звонила с работы, и блондинка за соседним столом изо всех сил делала вид, будто занята своим делом. Правда, Елене было все равно.
— …но какое-то время на сон тебе разрешается? Уже хорошо… Ну так я хочу его разделить… Почему, в конце концов, есть жилье у меня… Да. Да. Да. Во сколько? Хорошо, я позвоню.
Подруга не смогла долго выдержать стороннюю позицию и с досадой отложила чертеж.
— Все-таки дура ты, Ленка! Ну чего сама вешаешься? Знаешь, как он на тебя смотреть будет? Тьфу!
— Лишь бы смотрел, — глядя в стол, сказала Елена. — Лишь бы смотрел.
Шкуру медведя отодвинули в сторону, и теперь он скалил зубы на низкий стол у тахты. На столе стояли приборы, несколько бутылок вина, рядом с кругом белого сыра соседствовала разнообразная зелень.
В соседней комнате Корнилов кончал укладывать объемный рюкзак, два чемодана и дорожная сумка стояли поодаль.
Из кухни вышел полноватый человек с полотенцем вокруг талии вместо передника и кухонным ножом в руке, спросил:
— Николаич, ты правильно думаешь — они любят перец, как ты?
— Правильно думаю. Каждое блюдо должно быть таким, как полагается. Так что не надо скидок.
— Что не надо класть? Я не понял.
— Все надо класть. Все, что считаешь нужным. И я буду класть… Вот только куда?
— Привяжи к мешку, пусть сами бегут, — засмеялся кухаривший и ушел к плите.
Перезвон над дверью вскоре отвлек Корнилова. Отворив, он отошел в сторону, пропуская гостей, а Баскаков представил:
— Проходи, знакомься. Это Алексей Николаевич… А это — Лена.
— Здравствуйте…
— Здравствуйте, здравствуйте, закричала толпа… Ну-ка, — Корнилов за руку ввел ее в комнату, развернул к окну. — Ни-че-го! Понимаю отшельника, презревшего схиму… Привет, отшельник!
— Привет.
— Вижу следы жизни, — Корнилов дотронулся до щеки Баскакова. — Как это ты прошляпил?
— Да уж прошляпил… Еще кто-то есть? И вещи в сборе.
— Они в сборе наконец… Хасан! Можно тебя отвлечь? Иди сюда.
Хасан появился без полотенца и без ножа, широко улыбаясь гостям.
— Теперь совсем можно. Маленький огонь сделал. Здрассте!
— Вот, представляю: Нагалиев Хасан, хозяин дальних гор. Приехал забрать меня на свадьбу сына. Так что через два часа… — Корнилов посмотрел на часы. — Нет, уже через полтора мы отбываем. Поэтому милости просим к столу! — он с поклоном согнул руку кренделем. — Даму поведу я… Хватайтесь, Лена! Рука не слишком честная, но надежная.
Елена рассмеялась и взяла его под руку.
Теплые потоки с улицы высоко вздымали легкую занавеску над балконной дверью, и она, колыхаясь, плавала в воздухе, словно пласт ночного тумана.
— …Я спросила, что у тебя с лицом, ты засмеялся, сказал — «следы жизни» и дальше расспрашивать не дал. Из-за меня не дал, я поняла. Но у тебя и здесь страшный след, — Елена осторожно потрогала его тело, — и на спине… Я смотрю, и мне жутко. Прости, что об этом говорю, но я понимаю твою бывшую жену: все время ждать и все время бояться… Ужасно! И ужасна зависимость от этого страха. Унизительна. Разве нет?
Лежа на спине, Баскаков глядел в потолок, где в светлом пятне темнели очертания перекрестий торшера.
— Знаешь, странно, что он родился в Ростове.
— Кто?
— Один человек… У нас первые гастроли как раз там были. Отработали три дня. На четвертый после представления вышли и решили до общежития пешочком пройтись… Наскочила шпана, слово за слово, у них ножи, и их много. Меня с Веней врачи кое-как откачали, заштопали, а Аркашка погиб. И нету нашего трио… Как я их возненавидел тогда!
— Тогда? А сейчас?
— Сейчас нет, это очень мешает. И не только… Но вот ты сказала, что понимаешь Зою. А как быть мне? Хотим того или не хотим, но если профессия всерьез, она диктует образ жизни. И с этим ничего не поделаешь. Я не умею и не хочу ничего другого, никаких высоких идеалов, пойми, просто не хочу другого. То ли привык, то ли вжился, но это — мое…
— Обязательно ловить мерзавцев?
— Я так не рассуждаю, поскольку не все мерзавцы. У многих — просто тоже способ жизни по ряду причин, и мы теперь знаем, сколько респектабельных и увенчанных наградами граждан поступали хуже. И потом, как известно, преступники есть продукт общества. И если преступность растет, значит, у общества не все в порядке, согласись.
— Наверно… Даже наверняка.
— Кстати, этот, что родился в Ростове, учился на филфаке, со второго курса ушел или выгнали. Какая-то история, разрешенная таким образом при участии партбюро и общественности… Не все способны терпеть, когда по ним ходят. И у каждого свой кодекс… А я обязан во всем руководствоваться общепринятым…
— Мне кажется, ты себя упрощаешь с одной стороны и идеализируешь — с другой. Ты не можешь относиться к ним с пониманием… В конце концов, понять — это действительно значит простить.
— Простить — не для меня. А понять… — он приподнялся и посмотрел на нее. — Слушай, ты пришла философствовать? Мне представлялось, что начальные намерения были иными.
— Они были. И есть. Но где-то я прочла, что любовь — это еще и беседа… — Осекшись, Елена резко отвернула лицо и схватила зубами подушку.
— Что такое? — Баскаков лбом прислонился к ее щеке. — Ну вырвалось громкое слово, ничего… Ночью это бывает. Сам боюсь высокого штиля, но ближе тебя у меня нет сейчас никого.
Она обняла его так крепко, как только могла.
— А мне хватит. Знаешь, мне этого хватит. Даже слишком…
Железноводск для столичного жителя был совсем не город, а так, нечто вроде очень раскинувшегося поселка. Преобладали в основном одноэтажные дома и домишки, вокруг каждого сад, ветки деревьев гнулись под тяжестью абрикосов, яблок и слив. В этом году урожай фруктов выдался отменным.
Милицейский уазик прополз переулком, выехал на более широкую улицу и покатил, набирая скорость.
— У вас там, наверно, этих нет в хозяйстве? — похлопав по рулю, спросил сержант-водитель сидевшего рядом Баранова. — Не пустят «козлика» рядом с Кремлем раскатывать.
— Всякие есть, — рассеянно отозвался Баранов. — Случается такая запарка, на чем ездишь, не видишь.
— Конечно, раз столица! Все к вам тянутся, и с хорошим и с худым, где есть что взять — туда и едут. Бывают у нас разные чепе, так все одно с вашими не сравнить.
Уазик подкатил к райотделу милиции, и, пройдя недавно окрашенным коридором с зелеными стенами и ярко-желтыми дверями, Баранов вошел в кабинет начальника.
Грузный майор с одутловатым лицом сидел за столом, рядом стоял молоденький лейтенант в новеньком, необмятом кителе.
— Ну, как съездили? — спросил майор. — Садитесь к окну, прохладнее… Чаю хотите?
— Нет, спасибо… Съездил впустую. Там одна бабка старая, не понять, что бормочет. А соседи, они соседи и есть: не видели, не слышали, ничего не знаем.
— Я же говорил — второй год про него не слыхали, — как бы даже обрадовался майор. — Но зато вот, познакомьтесь, — он кивнул на лейтенанта, — участковый Привальцев… Так он утверждает, будто Минасяна видели вчера утром.
Баранов взглянул на Привальцева, и тот, еще более вытянувшись, заговорил, обращаясь то к нему, то к майору.
— Так точно, видели! Трое соседей и еще двое в кафе… Его не было, не было, а вдруг появился и снова пропал. То есть пока не обнаружил я его…
— А Минасян не иначе этого Гришина корешок, — пояснил начальник райотдела. — Три ходки в места отдаленные, та-акой резвый, мерзавец, намучились с ним! Правда, с год как у нас не художничает. Верно, Привальцев?
Лейтенант вздрогнул и подтвердил:
— Так точно! Я, в общем, недавно, но знаю, что за ним чисто.
— А скажите… — начал было Баранов.
Загудевший на столе аппарат связи прервал его, и майор переключил рычажок.
— Балбошин слушает!
— Балбошин?! — закричала рация. — Бекоев беспокоит… Наш москвич просит вашего, он где?
— Здесь он, здесь, сейчас… Это Пятигорск, — пояснил Балбошин.
Но Баранов уже подскочил к столу и нагнулся над динамиком.
— Баранов на связи!
— Долгушин говорит, — оповестил динамик. — Анатолий Петрович, выезжай срочно! Два часа назад всплыли вещи из квартиры Гриднева… Слышишь меня?
— Слышу, слышу! Еду… В Москву депешу отбил?
— Спрашиваешь! Жду тебя, понял?
— Понял хорошо, выезжаю!
Баранов посмотрел на начальника райотдела.
— Ну, хозяева дорогие… Мне срочно в Пятигорск, сами слышали! Требуется резвый транспорт.
— Это сделаем, — тяжело поднялся майор. — Кого бы с вами? Ага — ГАИ! Лучше не придумаешь… Сейчас.
— Товарищ майор, я добегу, — с готовностью предложил Привальцев. — Пока телефон… за углом же, а?
— Дуй!
Мигая синим проблесковым фонарем, мчалась по шоссе машина ГАИ, громко включая сирену при обгоне тяжелых рефрижераторов и трайлеров.
Старший лейтенант за рулем с увлечением демонстрировал мастерство вождения, а Баранов то и дело поглядывал на спидометр — стрелка на нем дрожала на отметке 160.
МОСКВА ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МОСГОРИСПОЛКОМА УПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА БАСКАКОВУ ДОСТОВЕРНЫМ ДАННЫМ ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НОГАЙЦЕВА НЕЛЛИ САМСОНОВНА КУПИЛА МЕХОВУЮ ШУБУ И КОЖАНОЕ ПАЛЬТО ОПИСАНИЯМ ИДЕНТИЧНЫЕ ПОХИЩЕННЫМ КВАРТИРЫ ГРИДНЕВА АДРЕС НОГАЙЦЕВОЙ УСТАНОВЛЕН НА СВЯЗИ ПОСТОЯННО ДОЛГУШИН…
Самолет шел на посадку в предутренней мгле, под хвостовым оперением ярко вспыхивал опознавательный фонарь.
Чиркнули по бетону колеса, подпрыгнули, снова ударились о покрытие полосы, и справа и слева от окошек тяжелой машины побежали огни ограждения.
Долгушин и Баранов издали увидели своих в толпе пассажиров: в куртках, с кейсами Баскаков и Певцов походили на двух командированных, хотя отличие все-таки было.
— Привет, орлы…
— С прибытием, как долетели?
— Здравствуй…
— О-о, да ты здесь посвежеть успел… Здорово!
На площадке перед аэровокзалом, несмотря на раннее время, царила обычная сутолока большого аэропорта.
— …Ногайцева живет почти на окраине. Отдельный дом, не ее, а матери, но сейчас она там одна, — рассказывал Долгушин. — По ощущению — не скупщица, и по справкам тоже… Но здешние коллеги прояснят. Правда, попозже, они тут с самого ранья не очень, строго к девяти появляются, если особого пожара нет.
— Зато гостиницу приличную сообразили, — сообщил Баранов. — Вода идет, а в буфете даже позавтракать можно… Нам сюда, Андрей Сергеевич, во-он машина стоит, это полковника здешнего, водитель всю дорогу сопел, недоволен, что рано подняли.
Баскаков остановился и посмотрел на Певцова.
— Тогда ну его, а, Игорек? Знаешь, зудит внутри прямо сейчас к этой даме нагрянуть. Побеседовать.
— Пять часов утра, Андрей, — удивился Певцов. — Как скажешь, конечно, но не попрет она нас? Имеет право.
— Правда, Андрей Сергеевич, — поддержал Долгушин. — Рано, и, потом, местные заахают, что с ними не пообщались, не привлекли.
— А мы к девяти успеем, раз они аккуратисты. Ты подстрахуешь, в случае чего, объяснишь, будто моемся-бреемся с дороги, а Долгушин нам дорогу покажет. Пошли!
— Так хотя бы машину возьмите, — предложил Баранов. Было заметно, что он обижен отставкой.
— Обойдемся, пускай досыпает, — отходя к стоянке такси, отозвался Баскаков. — Потратимся разок, а то привыкли за государственный счет.
Дом посреди большого ухоженного сада оказался весьма солидным сооружением, да и внутренняя обстановка не оставляла сомнений в изрядном достатке хозяев. В кухне, например, наличествовал финский гарнитур, а минский холодильник оказался последней модели.
Сама Нелли Ногайцева, женщина лет тридцати приятной наружности, разговаривала с непрошеными визитерами облаченная в бирюзового цвета спортивный костюм, на пальцах посверкивали кольца. Первое смущение постепенно покидало ее.
— Что предложили, то и купила… Бабство наше подвело, решила знакомой похвастаться, показала, — она криво усмехнулась, — а та взяла и стукнула.
— Тогда два вопроса, — сказал Певцов. Он не без удовольствия разглядывал хозяйку, и было похоже, что та тоже выделяла его из троих. — Почему ваша знакомая стукнула, это раз. И где вы познакомились с продавцом.
— Так по этим вещам, оказывается, розыск объявлен. У них в комке описание есть, она там и работает… А предложили купить на базаре, когда я у самошвейников шмотки глядела. Очень просто.
— Предложили на базаре, а покупали где? — спросил Долгушин.
Баскаков сидел отвернувшись, глядя в открытое окно, за которым на ветру лепетала листва.
— Здесь, дома… Он сюда принес, — Ногайцева снова усмехнулась. — Интересно, какой он, да? Черный, худой, думаю — армянин, а там черт разберет, у нас тут национальностей, как шерсти на собаке.
— Он один был?
— Один. — Она встала и подошла к плите. — Угощу вас кофе. И сама с вами выпью, хотя рано еще завтракать… Ой, у меня подружка такую книжку где-то раздобыла, ну не книжку, а перепечатку с нее… Так в ней один дед из-за бугра голодать советует и диету особую для здоровья и красоты. Ну ничего нельзя! Ни масла, ни мяса, соль и сахар — яд, и кофе тоже. Фамилию забыла… А я пью, и ничего.
— Его фамилия Брэгг, — повернулся на стуле Баскаков. И Нелли с джезве в руке полуобернулась к нему. — Когда вы должны с ними встретиться?
Латунная посудинка стукнулась донышком о решетку плиты.
— С кем?..
— С ними, с ними, с теми, кто вещи вам продал! Кстати, как назывался тот, сероглазый, приятной наружности?
— Валентином… О-ой, дура я, дура!
Ногайцева вернулась на место и тяжело опустилась на стул. Певцов взял джезве из ее руки, взглянув на Баскакова, поставил на плиту. И Долгушин смотрел на Баскакова.
— Сигарету хотите? — предложил тот, и женщина молча кивнула. — Пожалуйста… Это я не только из любезности, а чтобы самому подымить. И вы милиции рассказать рассказали, поскольку от факта не отопрешься, да рассказали не все. Не соврали, а умолчали. А вот нам уже пришлось врать! И поэтому слегка засмущались, заболтали про кофе, про Брэгга, про диету, неловко стало. А имя он настоящее назвал, смотрите-ка… Кольцо — изумруд в брильянтиках — предлагал?
— Да.
— Понятно, вы кольца любите. Когда ждете?
— Сегодня…
— Когда, я спрашиваю!
— В… десять.
Трое мужчин одновременно посмотрели каждый на свои часы.
— Семь сорок две, — сказал Баскаков. — Вторая калитка есть?
— Сзади… К соседям.
— Долгушин, перекроешь тот вход. Мы с Певцовым останемся тут. Нелли Самсоновна будет вести себя хорошо, за это забудем, как она хотела нас обмануть, и ничего не расскажем местным товарищам… Как, поладили, Нелли Самсоновна?
Ногайцева молча кивнула.
— И прекрасно. Идите отдохните… Вот сигареты, у меня есть еще. Ближе к десяти приглашу сюда, на всякий случай. И не бойтесь, в обиду не дадим…
Бирюзовый костюм исчез в проеме двери, и Долгушин начал было:
— Андрей Сергеевич, может быть, все-таки…
— Не успеем, Саша. Они могут заранее объявиться, пронаблюдать. Скорее всего, так и сделают… Нет, не успеем! И справимся сами, — лицо Баскакова вдруг приобрело несвойственное ему выражение жесткости, даже жестокости. — Второй раз я его не выпущу, ни-ни-ни… Иди на место. С Богом. Господи, прости мою душу грешную.
Глядя, как выходит Долгушин, Певцов машинально ощупал кобуру под курткой. Баскаков похлопал его по колену и улыбнулся:
— Еще есть время, Игорек. А дойдет до козырей, так не спеши, очень прошу. Стреляй по ногам.
«Волга»-такси медленно проехала тенистым кварталом, свернула за угол и двинулась узкой улочкой, уходившей слегка вниз, к перекрестку. У одной из калиток сидел на скамеечке дремлющий старичок в панаме, еще дальше высокая женщина в брючном костюме подошла к краю тротуара и взмахнула рукой.
Такси прошло мимо.
— Огибай квартал, — сказал Валёк. Он сидел рядом с мордастым водителем, челюсти его двигались, пережевывая жвачку.
— Да не, чисто все, — ответил водитель. — Нарик отсемафорил.
— Ты давай рули, — предложил Валёк. — А почему сипишь? Простыл?
— Вчера взял на грудь больше порции… Холодная была, под винтом, и перелил.
— Пьянствование водки ведет к гибели человеческих жертв.
— Чево? — изумился мордастый.
— Был у меня один клиент, любил излагать научно… Это значит — пить вредно, петя!
— А-а-а… Слыхали такое.
«Волга» обогнула квартал, снова выехала на узкую покатую улицу. Старик продолжал дремать, женщина в брючном костюме опять взмахнула рукой.
— Стоп! — приказал Валёк. И вышел.
— Вроде все тихо… — Только вот так, вблизи, становилось ясно, что женщина — не женщина, а мужчина. — Я с тобой?
— Ты мимо. Я сам.
Баскаков стоял сбоку от окна кухни, а Певцов около входной двери. Ногайцева сидела у стола там же, где два часа назад.
Баскаков глянул на часы: ровно десять.
Отворилась калитка, и на выложенную кирпичом дорожку ступил Валёк. Не доходя нескольких шагов до крыльца, остановился.
— Нелли!
Баскаков взглянул на женщину и показал рукой: отвечай. И сразу понял, что она не может: ее сковал страх.
Валёк стоял и смотрел на дом, не переставая жевать. Затем резко повернулся и уверенно пошел к калитке.
А Баскаков выпрыгнул из окна.
— Стой! — Он выстрелил в воздух.
Валёк рванулся, открылась и закрылась калитка, Баскаков это увидел на бегу. Из дома выскочил Певцов. На улицу они выбежали один за другим, но такси уже сорвалось с места, дверца захлопнулась на ходу. В заднем стекле виднелась кудлатая прическа, и, когда, припав на колено, Певцов выстрелил, Баскаков крикнул:
— Не стреляй, там женщина!
Они опять побежали, но такси уходило намного быстрее и скоро скрылось за поворотом.
Далеко позади, безнадежно отставая, бежал Долгушин.
В самом конце переулка из ворот выдвинулся капот синего «Москвича» новой модели. И Баскаков сделал рывок. Подбежав к машине, он распахнул левую дверь, ввалился на сиденье и прерывисто бросил:
— Друг… милый… выручай… Уходят бандиты… Одолжи машину… Сейчас я удостоверение…
— Н-не надо… Я вам верю… Верю я вам, — водитель, молодой человек, смотрел на пистолет, потом перевел взгляд на пистолет подоспевшего Певцова и стал вылезать. — Только как же… Как же потом?
— Певцов — за руль! Вернем… Слышишь? Вернем обязательно! Жми, Игорь, жми, дорогой… Ну!!
«Москвич» взял с места так, что завизжали покрышки.
— Это что же? А? — К молодому человеку подбежала женщина.
— Да вот… Сказали: бандиты уходят… Сказали — вернут.
— Господи! Ну за что я живу с дураком? Они сами бандиты, видал ты теперь машину во снах, идиот!
Умел водить Певцов, не откажешь. «Москвич» мчался на большой скорости, обходил лесенкой, влево — рывок — вправо. Догонял очередную машину и опять: влево — рывок — вправо.
Улица вела из города и переходила в подобие шоссе.
— Не видно их, — процедил Певцов.
— Жми!
На лице Баскакова застыла усмешка. Глядя только вперед, он на ощупь достал сигарету, вставил в эту усмешку, утопил зажигалку на панели, прикурил.
«Москвич» приближался к развилке.
— Куда?
— Направо!
— Отрицательные обычно работают налево, — заметил Певцов.
— Ходу, давай ходу! Сбереги остроумие дамам. Дорога пошла на подъем, и на гребне Баскаков торжествующе выкрикнул:
— Видишь?!
На обочине стояла брошенная «Волга»-такси.
Совсем недалеко, за узкой полосой сжатого поля, зеленела стена неубранной кукурузы, и в эти заросли вбегали двое. Голова третьего мелькала в зарослях.
Баскаков выскочил первым, пробегая мимо такси, поддал ногой брошенный кудлатый парик и выбежал на поле.
Певцов быстро догонял его, и оба сначала не расслышали выстрелов, просто увидели фонтанчики пыли. Но три следующих раздались громче, и Певцов, подпрыгнув, заковылял косо, присел и лег на бок.
— Что?! — обернулся Баскаков. И бросился назад, упал на колени рядом. — Что, Игорь, что?
— Ничего… Нога, — между ощупывающими ногу пальцами Певцова проступала кровь. — Не в кость… Ничего.
— Тогда извини… Перетянешь? — Баскаков выпрямился.
— Сделаем. Аккуратней, Андрюша…
Баскаков нырнул в кукурузу, под ногами пружинила влажная, скользкая тропа, сломанные стебли хлестали по лицу. Выскочив вскоре на пахоту, позади которой виднелись два недостроенных коттеджа за бетонными заборами, Баскаков не учел вязкости почвы и споткнулся. Падая, увидел, как из ложбинки впереди поднялась темная фигура, сверкнул видный даже на ярком свету огонек, и еще в падении сам выстрелил. Фигура опрокинулась, дернулась и замерла.
Пробегая мимо, Баскаков отметил мордастое лицо и устремился дальше, хорошо различая следы на пахоте, ведущие к одному из коттеджей.
До бетонного забора оставалось метров тридцать, не больше, когда над забором появилась голова и щелкнул выстрел. Баскаков прыгнул в сторону, вперед и опять в сторону.
Еще две пули попали туда, где он только что был.
— Умеешь стрелять? Уме-ешь…
Двадцать метров до забора.
Вперед — влево… Выстрел! Вперед — вправо… Выстрел. Последняя пуля слышно пропела рядом с виском.
Снова выстрел! В метре впереди маленьким взрывом взлетела земля.
— Умеешь стрелять?
Он поднял пистолет, держа его двумя руками, четырежды подряд нажал на курок, и там, где на фоне яркого солнца темнела круглая голова, по кромке забора разлеталась бетонная крошка.
На ходу достав обойму, Баскаков перезарядил пистолет.
До забора оставалось метров десять, пять, два и — вот он, забор.
Баскаков подпрыгнул, уцепился, перемахнул, падая, ощутил, как ожгло скулу, перекатился несколько раз, все время держа в поле зрения недалекую фигуру стрелявшего, не поднимаясь и не целясь, навскидку, выпустил пулю. Тот осел и привалился к забору.
Баскаков вскочил и глазами и дулом пистолета обвел пространство двора и пустые окна коттеджа. Никого.
Привалившийся к забору не шевелился, над его левой бровью темнело аккуратное пятнышко. Это застывал не Сомов, не Валёк, не тот, кто был сейчас ему нужен больше всех и всего на свете.
— Сомов! — яростно крикнул Баскаков. — Ты здесь, Сомов! Где? Выходи!
Крикнул от беспомощной злости, понимая, что тот мог и должен был уйти куда-то туда, в поля за строениями. Но Валёк вышел из-за ближнего угла, со стороны солнца, и виделся очень большим на ярком, слепящем фоне.
Они медленно пошли навстречу друг другу.
— Брось оружие! Конец. Бросай!
Баскаков не слышал выстрелов, просто понял, что тот стрелял дважды, и тогда выстрелил сам.
Валёк лежал, смежив веки, и оттого, что не оказалось на лице ледяных глаз, оно смотрелось очень юным и совсем неопасным. А рубашка на груди мокро темнела, набухшее пятно расплывалось все шире.
Кругом было пусто и тихо. Припекало уже изрядно, и над бетонной площадкой перед коттеджем дрожал нагретый воздух.
— М-мм… М-ма-ах… — Сомов застонал, дрогнули веки на посеревшем лице.
Баскаков всмотрелся в это лицо, потом разогнулся, переложил бумажник в брючный карман, сбросил куртку и вложил пистолет в кобуру.
Если б не мягкая пахота, было бы еще ничего. Если бы не ноющая боль в висках, было бы сносно совсем.
Голова Сомова свисала у правого плеча, одна нога перекинута через левую руку, другая болталась сзади.
Стена кукурузы постепенно приближалась, но оставшееся пространство давалось все труднее.
Баскаков упал на колени, медленно сбросил тяжелое тело и достал мятую пачку.
— Не донесешь… Все равно… кончусь… — прохрипел раненый.
— Лежи, лежи. Отдыхай. Потом еще тебя мент покатает.
— Дай… покурить.
— Перебьешься.
— Тогда… пристрели…
— Дерьмо ты, понял? Дерьмо!
Баскаков отшвырнул сигарету и начал взваливать на себя очень грузную ношу.
Сомов застонал и затих.
Сидя на водительском месте и опершись спиной о левую закрытую дверцу, Певцов через открытую правую глядел на стену несжатой кукурузы. Там что-то мелькнуло, зашевелились стебли, и нечто бесформенное выдвинулось на поле.
Баскаков брел
спотыкаясь, сильно припадая то на одну, то на другую ногу, его шатало из стороны в сторону. Но он шел.
Певцов зажмурился, крепко потер лицо, и оно было очень счастливое, когда опять взглянул на поле.
Баскаков и его ноша приближались, хотя были еще далеко, на середине поля. Баскаков что-то кричал и даже взмахнул рукой. Певцов оглянулся. За недалеким гребнем на дороге показался столб пыли, через гребень перевалила машина и помчалась вниз, за ней вторая.
На белом халате врача проступали обширные пятна пота, и было видно, что под халатом до брючного ремня голое тело. Круглое лицо под белой шапочкой тоже взмокло, и на нем читалось выражение озабоченности.
— Ну, что? Как? — спросил Долгушин.
Он встал со скамьи в коридоре, а Баскаков, Баранов и двое сотрудников из местных остались сидеть.
— Ваш в полной норме. Отдохнет, полежит и вскоре выпишем. Думаю, даже можно транспортировать, если есть нужда… А другой был очень плох.
— Был? — переспросил Баскаков. — А как сейчас?
— Пулю извлекли, и ранение… удачное, определим так. Но потерял много крови, консервант не помогает, нужна свежая донорская кровь. Будем перевозить в городскую больницу. Думаю, что спасем, — врач слегка развел руками. — Не все зависит от нас.
— От вас зависит отправить его как можно скорее, — сказал Баскаков.
— Придет машина — отправим.
— Когда? Когда он даст дуба? — резко спросил Баскаков. — Мы его заберем. Я отвезу его сам, — он тяжело встал. — Куда надо идти?
— Но вы же ранены тоже… И очень устали. Вам необходим покой…
— Раз нет времени, не будем впустую сотрясать эфир! Он мне крайне нужен, поймите. — Скрашивая начальную резкость, Баскаков попытался улыбнуться врачу. — Выгляжу я не очень, но это чисто внешнее, поверьте… Так куда идти?
— Никуда. Сядьте, — сердито предложил врач. — Сейчас его привезут.
— Хорошо, но только, пожалуйста, побыстрее…
Самолет шел в безбрежном голубом пространстве, и далекие внизу облака казались заснеженной поверхностью огромного озера.
Баскаков сидел у окна, рядом спала девочка лет десяти, за ней подремывала толстая мама.
Он видел обширное многолюдное помещение, слышались знакомые звуки, но где это и что происходит было не разобрать. А он очень старался, потому что сквозь шевелящуюся толпу кто-то пробивался навстречу и даже различалась фигура, но никак не проявлялось лицо…
Девочка зашевелилась, толкнула соседа коленом, и, сразу открыв глаза, Баскаков бросил правую руку к левой подмышке.
В салоне шипели воздухоподатчики, большинство пассажиров спало. Баскаков взглянул на часы: стрелки показывали девятнадцать двадцать.
Он опять закрыл глаза, и как бы из тумана снова выделился знакомый зал аэровокзала, и обычная суета в нем продолжалась все так же. Но та, чье лицо раньше он не мог различить, уже прошла сквозь толпу, подходила все ближе, улыбаясь ему, и он тоже улыбнулся в ответ.
Валентин Машкин
НАГИЕ НА ВЕТРУ
Я знаю все, но только не себя.
Франсуа Вийон

За поздним временем он отложил отъезд до утра. Но на следующий день, едва забрезжил рассвет, он был уже на ногах и спешил умыться, принять душ и позавтракать, чтобы пораньше оказаться на месте происшествия. Инспектор криминальной полиции Тони Найт отличался редкой добросовестностью.
На ветровом стекле его старенького «шевроле» прикорнула большая яркокрылая морфо. Движением руки он согнал красавицу бабочку и сел за руль. Машина стояла впритык к тротуару. Гараж под домом был на ремонте — меняли асфальтовый настил. Дом к числу фешенебельных не принадлежал — четырехэтажный, без лифта, но все же не развалюха какая-нибудь, гараж, во всяком случае, имелся.
«Шевроле» промчал полупустыми утренними улицами, пересек мост через канал и, еще больше разогнавшись, заспешил по Межамериканскому шоссе среди холмов, обступивших столицу. Для спешки основания были — до города Давид, возле которого случилась авария, часов шесть езды.
Собственно говоря, автомобильные аварии — дело дорожной полиции, причем не столичной, конечно, а Давида, но тут был особый случай. Местный инспектор, осмотревший вчера поздно вечером сгоревшую легковушку, заметил, что на кевларе — пулезащитном покрытии протекторов имеются царапины, да такие, будто там пули чиркнули. К тому же погибший водитель оказался русским перебежчиком. Так что к расследованию решили подключить Центральное управление криминальной полиции.
В машине Тони кондиционера не было, и он ехал, опустив все стекла в салоне. Март в тропиках — месяц жаркий.
Холмы остались позади, дорога легла на равнину, сельва обступила шоссе, и встречный ветер пах жаркой и пряной сыростью.
Тони Найт вспомнил вдруг о недавнем визите к врачу — и привычное с детства благоухание тропического леса стало отдавать запахом тления. Он отогнал неприятные мысли. Принялся думать о дорожном происшествии. Странно уже то, что на попавшем в аварию «фольксвагене» покрышки были с кевларом. Гангстеры — те, понятное дело, иногда используют это пулезащитное средство. Но зачем оно понадобилось русскому? Может быть, опасался мести КГБ? Найт и верил и не верил страшным историям о советской агентуре, регулярно появлявшимся в газетах и журналах, особенно в американских. Скорее, все же не очень верил. Не доверял он болтовне газетчиков. Слишком хорошо знал, что даже об уголовных делах они городят бог знает что. А уж когда заходит речь о политике, тут болтовня сплошь и рядом становится злонамеренной. Сколько грязи, например, вылили американские журналисты на голову незабвенного генерала! А ведь великий был человек. Честный, добрый. Страной руководил, не в пример многим другим центральноамериканским правителям, думая не о личном благе, а об интересах народа.
Однако от фактов не уйдешь: кевлар на протекторах, да еще и форсированный мотор в придачу — парень определенно кого-то боялся.
В придорожных кафе Найт не останавливался — расспросы о «фольксвагене» и его покойном владельце оставил на обратную дорогу. Машину он гнал немилосердно, не столько потому, что торопился, сколько из-за жары: скорее бы уж приехать! Крыша салона раскалилась. Рубашка на спине намокла от пота и неприятно липла к телу. Но вот наконец и цель его поездки! Возле перевернутого «фольксвагена» стояла полицейская машина и маячили какие-то фигуры. Ну, охрану они на ночь тут оставляли, какого-нибудь сержанта, это ясно. А кто там еще? Он свернул на обочину, вышел, с удовольствием разминая ноги после долгой езды, и направился к покореженному автомобилю.
Стоявшие там люди — их было двое — обернулись в его сторону. Один был в полицейском мундире. Другой — в штатском. Тот, что в штатском, сказал по-английски:
— Мистер, здесь нет ничего интересного. Поезжайте своей дорогой.
«Принял меня за янки», — понял Найт, ничуть тому не удивившись. Белобрысые волосы, выцветшие голубые глаза он унаследовал от отца-американца. Он его никогда не знал. Тот работал лоцманом на канале. У него была американская семья. Но местные девушки, которым он морочил голову, об этом не подозревали. Мария-Анхелика, мать Тони, узнала, что ее возлюбленный женат, слишком поздно — когда надо было решать, оставлять ребенка или нет. Она оставила, вопреки яростному сопротивлению Джерри Найта. Тот сразу порвал с ней какие бы то ни было отношения. А вскоре и вообще убрался из страны — к себе на родину, в Соединенные Штаты. Мария-Анхелика все же дала сыну отцовскую фамилию. Имя он, правда, получил местное — Антонио. Но в школе это имя переделали на американский манер: он стал Тони — и остался им на всю жизнь. Тони Найта отнюдь не радовало, что он похож на янки. Американцев он не терпел.
На ходу доставая из нагрудного кармана рубашки служебное удостоверение, он недовольно проворчал:
— Может, тут и нет ничего интересного, но заняться этим делом — моя прямая обязанность.
— Сеньор Найт? — сообразил наконец человек в штатском и добавил, постаравшись улыбнуться как можно сердечнее столичному коллеге: — Мы ждали вас.
Низкорослый щуплый человечек в штатском оказался инспектором криминальной полиции города Давида. Он разом взял быка за рога.
— Следы на кевларе от пуль. Это подтвердил эксперт. Я посчитал необходимым выехать сюда, вам навстречу, чтобы сообщить об этом.
Значит, все-таки следы от пуль! Выходит, Центральное управление криминальной полиции потревожили не зря.
— И вот еще что, — продолжал инспектор из Давида, — погибший насквозь пропитан наркотиками и алкоголем.
На обратной дороге Найт потолкался в придорожных кафе и барах, нашел кое-кого, кто видел погибшего русского, когда еще до начала погони тот останавливался, чтобы перекусить, выпить чашку кофе или бутылку кока-колы. Именно что кофе и кока-колы! Никто не заметил, чтобы он выпил хоть бутылку пива, не говоря уже о более крепких напитках. Да и выглядел русский вполне трезвым.
Свидетелей погони найти не удалось.
За полтора месяца до этих событий Вадим Осташев отправился в иммиграционный отдел столичной полиции, просить о политическом убежище. Стояла середина февраля. Самый разгар сухого сезона. Но день выдался пасмурный. Только что прошел короткий, но сильный дождь. В мокром асфальте оловянно отсвечивало низкое серое небо. На душе у Осташева кошки скребли. Он был как в лихорадке. Правильно ли он поступает? Он чуть было не повернул назад — в отель. Замедлил шаг. Остановился. Закурил. Выкурил три сигареты подряд. Потом все же побрел дальше. Нет, Аманда права. Права, черт побери! Принятое решение — разумно. И других нет.
Осташев не любил Москвы, не любил России, как он говорил, не желая называть ее Советским Союзом. Ничего на родине он не любил — так ему, во всяком случае, казалось.
И не то чтобы он был убежденным врагом. Неудовольствия его жизнью в родной стране в общем-то не шли дальше обывательского брюзжания, порою, впрочем, небезосновательного: очереди, дефицит…
Он не понимал, что корни его неудовлетворенности — в нем самом, в сугубо личных обстоятельствах его жизни.
Он с детства, со школьных лет жил как бы с неохотой. И в те годы совсем уж не был в состоянии уразуметь, что не все вокруг скверно, скучно, серо, а плохо именно ему, ибо мать умерла, а отец груб и жаден. Постоянные домашние неурядицы расшатывали нервы, да и наследственность, наверное, была не из лучших. Мальчишка рос бледным, задерганным, апатичным. Сторонился сверстников, не занимался спортом, не участвовал в самодеятельности. Бродил по улицам один, неосуществимые фантазии копошились в голове, лениво толклись пустячные и унылые мысли, иногда — мысли о прочитанном: он много читал, жадно, без разбора, книги заменяли реальную жизнь.
В студенческие годы все больше усиливалась его отъединенность от окружающих. Жизнь шла мимо, стороной. Ему самому это было в тягость. Он попытался «войти в жизнь», занявшись спортом — автогонки. Завелись приятели, девушки. Но к последнему курсу, когда одолели учебные заботы, он спорт забросил, друзей порастерял — опять один.
С работой ему повезло поначалу. Попал в академический Институт Латинской Америки — редкая удача для начинающего историка-латиноамериканиста. Защитился рано — в двадцать семь. Однако дальше началась пробуксовка: годы шли, близился четвертый десяток, уже и докторская была готова, а к защите все не допускали и не допускали. А диссертация — историографическая, анализ работ советских латиноамериканистов, каждый год появлялись новые труды, рассмотрение которых приходилось добавлять к диссертации, и этому не видно было конца.
Сейчас, шагая по мокрому асфальту, Вадим Осташев с горечью и острой обидой вспоминал последний перед отъездом в загранкомандировку разговор с завсектором. «Вы еще молоды, — сказал ему тот. — Есть люди постарше. Петров, например». — «Но у него докторская еще в чернильнице!» — возмутился Осташев. «Ничего, напишет». — «Значит, опять ждать?!» — «Да, с защитой придется погодить, — спокойно ответил завсектором и, помолчав, добавил: — Скажу вам откровенно — дело не только в вашей относительной молодости. Вы не участвуете в общественной жизни. Совсем почти не участвуете. И это оборачивается против вас».
«Удивительно еще, как за границу выпустили», — зло подумалось Осташеву. В командировку его послали на два месяца — чтобы он поработал в местных архивах над статьей о первооткрывателе Панамского перешейка Родриго де Бастидасе.
В архивах он трудился напряженно, с присущим ему усердием. Вечерами жадно впитывал в себя чужую, незнакомую жизнь, казавшуюся ему чрезвычайно привлекательной. Однажды на субботней вечеринке у местного коллеги он свел знакомство с Амандой Ронсеро, журналисткой, обладавшей, как ему вскоре стало ясно, необычайно широкими связями. Когда он посетовал как-то, что до сих пор остается неопубликованной его историографическая монография — основа будущей докторской диссертации, она вызвалась помочь напечатать эту работу в издательстве Панамериканского института истории и географии. Сначала он, естественно, отказался. Но она развертывала перед ним все новые сверкающие перспективы, и он заколебался. Аманда умела убеждать. Этому умению немалым подспорьем служила ее красота. Осташев безнадежно влюбился. Впрочем, «безнадежно» — не то слово. Он был обнадежен юной дамой и не обманут в своих ожиданиях. Тропическая красавица заняла вакуум, созданный неудачной женитьбой. Вадим был уверен, что Наталья ему изменяет. Прямых доказательств измен не имелось, косвенных же — хоть отбавляй. Жена, расфрантившись, частенько исчезала из дома, возвращалась поздно, от нее попахивало вином — «была у подруги», «была на девичнике» и прочие небылицы. Он подумывал о разводе. Ревность придавливала глыбой, лишала сна, мешала работе, окрашивала бытие в черный цвет. Напрасно он повторял слова Ларошфуко «В ревности больше себялюбия, чем любви», напрасно говорил себе, что давно уже не любит Наталью, что лишь оскорбленное самолюбие мучит его, — ничего не помогало. Значит, развод? Вот только осуществить его непросто. Жена никогда не согласилась бы на размен их однокомнатной квартиры на две комнаты в общих квартирах. Уйти к другой женщине? Не было такой женщины, к которой хотелось бы уйти. Не было… до Аманды.
Дождь, вдруг опять припустил. Осташев ускорил шаг. Вот и серая громада полицейского управления. Не останавливаясь, он решительным шагом прошел в подъезд — так бросаются в холодную воду: быстрее, быстрее, а то передумаешь!
Тони Найт был недоучкой. И винил в том отца. Еще бы! Где уж матери-одиночке, брошенной на произвол судьбы ветреником янки, дать сыну достойное образование! Из университета ему пришлось уйти со второго курса. Недоучившийся юрист стал сыщиком.
Впрочем, дело свое он любил. Он открыл в себе способность к быстрому и четкому анализу фактов и этой способностью гордился. «У Найта аналитическое мышление», — признавало даже начальство, вообще-то не слишком склонное воздавать должное способным подчиненным, которые, «перехвали их только, тут же начинают мечтать о начальственных должностях».
Гордился Найт и своей интуицией. Конче, молодой приятельнице, которой он, сорокадвухлетний мужчина, казался кладезем мудрости, Тони втолковывал: «Интуиция — во многом пока что загадочное явление человеческой психики. Что-то вроде озарения, понимаешь? Вдруг начинает говорить твой внутренний голос, подсказывает решение задачи с двумя, а то и с тремя неизвестными. Фактов мало, а решение уже вырисовывается. Чудо? Наверняка нет. Интуицией — уникальным даром природы, моя милая! — обладают люди, умеющие накапливать знания, набираться опыта. Это оборачивается в конце концов способностью к безошибочным догадкам о скрытой сути событий и явлений».
Интуиция заставляла Тони Найта сомневаться в гибели русского. Что-то тут было не так.
Вернувшись в столицу, Найт затребовал досье на Вадима Осташева. В папке было всего несколько листов бумаги и фото, на котором был изображен лобастый мужчина с рассеянным взглядом. Отпечатков пальцев, к сожалению, не имелось. Не с чем было сравнить те отпечатки, что сняли с пальцев погибшего в катастрофе.
Осташев, как узнал Тони Найт, устроился на работу в Панамериканский институт истории и географии. «Что ж, потолкуем с его начальством», — решил инспектор.
Непосредственным начальником Осташева — заведующим отделом, в котором тот пристроился, — оказался американец. Некто Фил Виктори. Он предложил называть себя просто Филом, хотя ему было уже под семьдесят. Иссушенный прожитыми годами, слегка согбенный, он старался живостью движений, бодростью и ясностью взгляда возместить возрастные потери, вызвать из небытия приметы утраченной молодости. Он стремительно вышел из-за письменного стола навстречу Найту, коротким жестом указал гостю на кресло, сам опустился в кресло напротив.
— Значит, мы соотечественники? — спросил он по-английски после того, как они представились друг другу.
Найт отнюдь не считал себя американцем. Однако возражать не стал. Неопределенный кивок, которым он ограничился, вполне мог сойти за знак согласия. Пусть этот Виктори считает его соотечественником — авось по-откровеннее будет.
— Я к вам по поводу Вадима Осташева, — сказал он тоже по-английски.
Показалось ему или нет, что взгляд старика стал на секунду холоден и цепок?
— Ну, что я вам могу сказать? О том, как он погиб, вы знаете лучше меня.
— Зато я не знаю, например, любил ли он выпить? Злоупотреблял ли наркотиками?
Тень сомнения мелькнула в рачьих глазах американца. Он явно определял про себя границы своей откровенности в этом разговоре.
— Прошу вас, будьте со мной чистосердечны до конца, — сказал Найт. И слукавил: — Хочется побыстрее закрыть это дело. Оно в общем-то ясное. Обычная автомобильная катастрофа.
— Да, да, — закивал головою Виктори. — Предельно ясное. Предельно.
Голосу его тем не менее не хватало убежденности.
— Так вот насчет спиртного и наркотиков… — вернулся к своему вопросу Тони Найт. — Баловался ими русский?
— Наркотиков не употреблял, насколько я знаю. Пьяницей не был. Пил, как все мы, в пределах нормы… Не хотите ли, кстати, стаканчик виски?
«Выпьем в интересах дела», — решил, соглашаясь, инспектор.
Виски, внесенное секретаршей, уменьшило настороженность ученого мужа. Он стал рассказывать, над чем работал в институте Осташев.
— Мой погибший коллега готовил к изданию книгу об исследованиях советских латиноамериканистов.
Вот как? Найт был удивлен.
— Не думал я, что такая тема представляет интерес для вашего института.
Старик хохотнул.
— В первозданном виде рукопись, конечно, никуда не годилась. Осташев работал над ней еще в России. А я предложил ему переделать ее. Сделать, акцент на нездоровом интересе русских к Латинской Америке. Подчеркнуть, что широкое развитие советской латиноамериканистики — свидетельство экспансионистских планов Кремля.
Заведующий отделом опять хохотнул и горделиво посмотрел на собеседника. Каков, мол, я хват? Но горделивость во взоре разом сменилась скорбью, когда американец тоном сожаления добавил:
— Теперь мне придется заканчивать работу над рукописью.
— Вы выступите как соавтор?
— Нет. Зачем? Соавторство русского с американцем сделало бы книгу менее убедительной.
Разговор покрутился еще немного вокруг личности перебежчика. Ничего для себя интересного инспектор на этот раз не услышал. Перед тем как проститься, он спросил:
— Женщинами Осташев не увлекался?
Возникла пауза, заминка какая-то. Виктори нехотя процедил сквозь вставную челюсть:
— За юбками он не бегал… Одна дамочка у него, правда, была. Аманда Ронсеро.
Это имя стало точкой в конце разговора.
Подойдя к окну, американец задумчиво смотрел вслед инспектору, направлявшемуся к машине, поставленной чуть поодаль от входа в институт. Ничего определенного об обстоятельствах гибели Вадима Осташева Виктори не знал, но догадывался о многом — доходили до него кое-какие туманные слухи, циркулировавшие в местной американской колонии.
— Вы просто сумасшедший!
— Конечно… Надеюсь, во всяком случае. — И, отвечая на озадаченный взгляд Аманды, Осташев пояснил: — Творческий человек не может быть абсолютно нормальным. Вспомните Фрейда.
Аманда Ронсеро покачала головой. Недоумевая? Иронизируя?
— Да в конце концов, — добавил Вадим Осташев, — абсолютно нормальны только идиоты.
Молодая женщина прыснула со смеху. Продолжая смеяться, она взяла своего собеседника под руку.
— Ну, хорошо. Вы меня уговорили. Пойдемте.
Это было в день их знакомства. Сумасшедшим Аманда Ронсеро назвала Осташева, когда он предложил ей сбежать в самом начале вечеринки у одного из местных историков. Сбежать, не обращая внимания на приличия. Смелость в общении с женщинами была Вадиму не свойственна. Обычно он был, скорее, скован. Но в тот вечер что-то на него нашло. От яркой красоты Аманды совсем потерял голову. Да и чувствовал к тому же, что и ей он небезразличен.
Итак, они сбежали. Погуляли по городу, посидели в ночном клубе. Вечер закончился в гостиничном номере Осташева. И началось, и покатило! Роман закрутился всерьез, стремительный и безрассудный.
«Вот оно — настоящее чувство», — говорил себе вечный неудачник в сентиментальных исканиях. Все шло восхитительно до одного раннего утра, когда после бессонной ночи, проведенной в ночных клубах и кабаре, они добрались наконец до отеля. Несмотря на усталость, Аманда возжелала ласк. И была яростно неутомима. Это Осташева отнюдь не отталкивало, но он был шокирован другим — пресытившись, женщина принялась высказывать мысли, напрочь зачеркивающие само понятие «любовь». Любовь придумана трубадурами, говорила она. Есть только чувственность во всем многообразии ее проявлений.
— Где граница между нормой и патологией? — вопрошала эмансипированная дама и отвечала: — Четкой границы нет! Представления о нормальном и о так называемых извращениях в разных странах различны. Даже в одной и той же стране эти представления не раз менялись. В античные времена секс обожествлялся. — Она хихикнула. — Ты ведь историк, должен знать о древнегреческом боге Приапе, о славном божке маленького роста, но с большим фаллосом, всегда находящимся в состоянии эрекции. — Она снова хихикнула, и глаза ее блеснули, когда она взглянула на любовника. — Приап был одним из самых популярных богов у древних греков. Из празднеств в его честь — празднеств, допускавших большие вольности — родилось высокое искусство театральной комедии. Фаллический культ был развит и у других народов древности — у римлян, индусов, египтян. Это христианство изобрело понятие стыда и предало секс проклятию. Секс был изгнан из литературы, из изобразительного искусства. Он стал презираем… Ты слушаешь меня?
— Да-да, — промямлил Осташев.
— Надеюсь, ты со мной согласен?
Ему не приходилось об этом задумываться. И он не слишком просвещен в подобных вопросах. Так он ей и сказал.
— Тогда я буду просвещать тебя дальше, — улыбнулась Аманда. — Эпоха Возрождения повела было борьбу с христианскими табу, но началась контрреформация, и эта благородная борьба пошла на убыль. Лишь начиная с восемнадцатого века — в Западной Европе, во всяком случае — секс был восстановлен в своих правах и в жизни и в искусстве.
По потолку ползла муха. Осташев уныло наблюдал за ней, с неудовольствием слушая разглагольствования своей подруги. Отчего-то на ум пришло высказывание любимого им Ларошфуко: «Человек истинно достойный может быть влюблен, как безумец, но не как глупец».
В центре города небоскребы топорщатся над крышами приземистых домишек. В одном из таких домов — в два этажа — снимала квартиру Аманда Ронсеро.
Поставив машину у подъезда, Тони Найт вышел и остановился выкурить сигарету — не известно, любит ли молодая женщина, чтобы в ее квартире дымили. По тротуарам двигался людской поток. Люди в основном смуглые, черноволосые, иные с раскосинкой от примеси индейской крови — дети тропиков.
Подруга Вадима Осташева тоже оказалась смуглой и черноволосой, но смуглость была нежно-оливковой, а смоляные кудри легки и пушисты. Из-под высокого чистого лба смотрели глаза цвета безоблачного неба. Алые припухлые губы казались чувственными и зовущими. Грудь — как у Софи Лорен. Словом, знойная красавица. Понятно, чем она так пленила этого русского! Хотя что-то в ней Найта отталкивало. Настороженно-напряженный взгляд? Холод ее голоса? О погибшем друге она говорила неохотно. Отвечала на вопросы — и не более того. Да, он был человек славный, она его любила. Нет, врагов у него не было. Нет, о форсированном моторе она слышит впервые, о кевларе на протекторах тоже ничего не знает.
На следующий день Найт опять увидел Аманду Ронсеро. Случайно. Он застрял в пробке у светофора. От нечего делать глазел по сторонам. Вдруг он увидел подругу Осташева, выходящую из бара под руку с шефом местного отделения РУМО — разведывательного управления министерства обороны США. (Он выдавал себя за коммерсанта, однако в полиции были отлично осведомлены о подлинном характере его деятельности, к которой относились достаточно терпимо — из-за давнего постоянного присутствия американских войск по обоим берегам межокеанского канала.) Женщина закатисто смеялась. Видно, Берни Рот чем-то очень ее рассмешил. Сейчас в ней не было и тени скорби по погибшему другу.
Еще не зная, зачем он это делает, Тони Найт достал из «перчаточного ящика» машины свой «Кэнон» и сфотографировал парочку подле «зодиак-форда» американца. Опять сработала интуиция?
Пробка начала рассасываться. «Шевроле» Найта медленно двинулся вместе с плотным потоком автомобилей. Инспектор оглянулся на парочку, теперь садившуюся в «зодиак-форд». Еще раз щелкнул фотоаппаратом. Странные знакомые у этой дамочки. Надо бы с ней разобраться.
У кого лучше всего узнать всю подноготную журналистки? У кого-нибудь из ее коллег, конечно! Тони так и поступил. Один его старый знакомец-газетчик рассказал, что ее родители умерли рано, девчонка, едва успевшая окончить школу, стала содержанкой богатого старика. Вскоре она упросила своего покровителя оплачивать ее учебу в университете. Закончила факультет журналистики. Престарелый любовник устроил на работу в газету. Тут она его бросила. Ему на смену пришли молодые любовники.
— Вертятся возле нее и американцы, — закончил свой рассказ знакомец Найта и спросил, лукаво сощурившись: — А чем она, собственно, тебя так заинтересовала? — И поскольку Тони лишь неопределенно пожал плечами, журналист ответил самому себе: — Чертовски привлекательная женщина! Цветение плоти. Цветение, но не чрезмерное обилие плоти! Зато изобилие женственности, просто буйство какое-то женственности!
Когда-то, еще в детстве, Вадим нашел среди оставшихся от деда бумаг крошечный «Карманный блок-нотъ» (так гласила полустершаяся надпись, черными печатными буквами перечеркнувшая обложку наискосок). Блокнот был чист, заполнены лишь первые две странички. Там был текст, предназначенный, как бы сейчас сказали, для аутотренинга. Вот что там было написано барочным, вычурным почерком начала века:
«У меня сильная воля. Никто не может противиться моему влиянию.
Я господин моих собственных действий.
Я никогда не буду возбужден, смущен и не впаду в отчаяние.
Я твердо решил иметь успех и уверен, что добьюсь его.
Я никогда не приму поспешного необдуманного решения.
У меня никогда не будет сожаления после принятого мною решения.
Мне удадутся все мои предприятия. Я не могу не успевать в них.
Я никогда ничего не сделаю наполовину.
У меня твердая воля».
Эти заклинания так поразили юное воображение Осташева, что он скопировал их, занес в свой собственный блокнот, куда записывал чужие мудрые изречения, а также мысли, которые приходили ему в голову и казались значительными.
Рядом с дедовским «текстом для аутотренинга» он пометил, что Аристотель считал избыточность какого-либо свойства характера разрушающей его истинную природу. Мудрец древности был за золотую середину. Так, например, мужество он определял, как «середину между страхом и дерзновением», благоразумие — как «нечто среднее по отношению к наслаждению».
Руководствуясь наставлениями Аристотеля, Вадим сделал к дедовским заклинаниям такую поправку:
«Я хочу иметь твердую, сильную волю в сочетании с разумной уступчивостью».
Только все это осталось областью благих намерений. Осташев рос человеком слабовольным, нерешительным, склонным то к эйфории, то к отчаянию. Правда, сам себе он не казался таким уж слабодушным. Но ведь известно, что никого человек не способен обманывать столь изощренно и ловко, как самого себя.
Решившись остаться за границей, он отнюдь не обрел желанного довольства жизнью. Противоречивые чувства раздирали его. Неприятный осадок, к примеру, оставил первый же разговор с новым начальником — суетливым Филом Виктори — об издании монографии о советской латиноамериканистике. Требование американца придать работе антисоветский характер ошеломило Осташева. Не для того он «выбрал свободу», чтобы подличать! Однако на решительные возражения он не решился.
— Посмотрим, — промямлил, — что тут можно сделать.
Неуклюжий, мешковатый, он потерянно сидел перед заведующим отделом, а тот, благосклонно покивав головой, заметил:
— Сделать можно многое. Можно сделать настоящий научный бестселлер!
— Постараюсь, — против воли согласился Осташев.
После этого разговора он отправился не к себе в отель, а к Аманде — за утешением. Он застал ее за странным занятием. Она сидела перед трельяжем и словно бы примеряла к лицу различные улыбки: то так улыбнется, то эдак.
— Ты что? — удивился Осташев. — Чем это ты занята?
Взглянув на него через плечо, Аманда Ронсеро хладнокровно ответила:
— Тренируюсь.
— То есть… как это? — не понял он.
— Очень просто, — женщина снисходительно улыбнулась своими пунцовыми от природы губами (макияжа она не делала, «краски на таком лице, как мое, — говорила она, — все равно что штукатурка на мраморе»). — Очень просто, милый друг. Жизнь — театральное действо, в котором мы все — актеры. А коли так, нужно иметь пригодную на каждый случай улыбку, нужно уметь смеяться и плакать, когда это необходимо. Я все отрабатываю перед зеркалом — и смех и слезы.
После таких откровений у Вадима Осташева пропало желание обсуждать с приятельницей неприятную беседу с Филом Виктори.
Местное секретное отделение РУМО занимало весь последний — двадцать второй — этаж здания, расположенного по соседству с домом, где был бар, у входа в который Тони Найт видел Аманду Ронсеро в обществе Берни Рота.
Сегодня начальник отделения был один. Он выбрался из своего серого «зодиак-форда», вошел в просторный холл здания, в котором размещалось множество офисов коммерческих — американских в основном — компаний, и поднялся на лифте на самый верх. На лестничной площадке была одна-единственная дверь. Сбоку к стене прилепилась неброская медная дощечка. «Экспорт цитрусовых» — кратко значилось на ней. Рот приблизился к двери, в которой имелся обычный по виду смотровой глазок. Но это был вовсе не глазок, а окуляр специальной, соединенной с замком камеры, с помощью инфракрасных лучей сравнивающей рисунок сетчатки глаза посетителя с теми изображениями сетчатки, что заложены в памяти электронного охранного устройства. Шеф отделения американской военной разведки приставил глаз к окуляру. Замок чуть слышно щелкнул, и дверь автоматически отворилась.
Несмотря на столь совершенную автоматику (подобная система может ошибиться лишь единожды из миллиона проверок личности), в коридоре на всякий случай и днем и ночью дежурил охранник. Кивнув ему, Рот прошел к себе. Был он выше среднего роста, подтянутый, поджарый, с чеканным лицом человека решительного и волевого. Он не знал сомнений, занимаясь своим ремеслом. И не то чтобы он был каким-то исчадием ада — вовсе нет, человек он был обычный, не лишенный даже доброты и известного обаяния, но он свято верил в цели американской внешней политики, считал, что цель оправдывает средства.
Осторожный стук в дверь раздался тотчас же, едва Берни Рот уселся за стол у себя в кабинете. Вошел офицер безопасности отделения.
Рот выжидательно посмотрел на него.
— Да, сэр, — отвечая на немой вопрос шефа, кивнул головой офицер. — Есть новости… Разрешите? — он подошел к видеомагнитофону, стоявшему на столике в углу кабинета, вставил кассету. — Сегодняшняя запись.
— Садитесь. — Рот приглашающим кивком указал на кресло.
На экране замелькали кадры, показывающие, как Тони Найт фотографирует шефа отделения в обществе Аманды Ронсеро. Найт не мог, разумеется, знать, что вокруг здания, где разместилась служба американской разведки, и в ближайших окрестностях установлены съемочные телекамеры. С их помощью «рыцари плаща и кинжала» следили, не проявляет ли кто чрезмерного интереса к их здешней штаб-квартире.
Экран погас. Офицер выключил видеомагнитофон, заметив:
— Остальное не представляет интереса.
— Зато чрезвычайный интерес представляют эти кадры. — Видно было, что Рот неприятно удивлен увиденным. — Зафиксируйте их на фотобумаге!
— Непременно. — Тоном ответа офицер дал понять, что сделал бы это и без распоряжения начальства.
— И выясните, что это за тип.
Для офицера настала минута маленького торжества. На его мясистом дубоватом лице исправного службиста появилась самодовольная усмешка.
— Уже выяснено, шеф. Я взял на себя смелость показать эту запись одному из наших особо доверенных лиц в местной полиции. Оказалось, что этот тип — сыщик. Зовут его Тони Найт.
— Американец? — удивился Рот.
Пренебрежительно махнув рукой, офицер ответил:
— Полукровка. Отец работал раньше лоцманом на канале. Сына никогда не признавал.
— Необходимо установить, какого черта он меня фотографировал.
И еще раз офицер безопасности получил возможность блеснуть компетентностью.
— Найт, — доложил он, — занимается делом об исчезновении Вадима Осташева. Я полагаю, что сыщик сделал снимок, увидев подружку этого русского в вашей компании, Он за ней, наверное, следил.
Вот это сообщение уже по-настоящему встревожило шефа, что было заметно по тому, как закаменело его лицо.
— Час от часу не легче! — Он поднялся из-за стола. Нервно прошелся по кабинету. Потом остановился перед офицером безопасности (тот сейчас же встал, покинув удобное кресло). Глядя на него в упор, приказал: — Это расследование нужно прекратить! Нажмите на все пружины в полиции.
— Будет исполнено. — Тон у офицера был уверенный. Судя по всему, он не сомневался, что ему удастся выполнить распоряжение начальства. Для такой уверенности были основания. Многие здешние полицейские самого высокого ранга учились в Соединенных Штатах — в полицейской академии. Некоторых из них РУМО удалось привлечь к сотрудничеству.
На подоконнике целовались голубки. Они терлись клювами, воркуя нежно и призывно. Вадим Осташев о досадой взмахнул рукой, прогоняя птиц.
За окном отеля «Интернасьональ» в утренней дымке лежал прекрасный город, раскинувшийся на побережье Тихого океана. Город казался Осташеву прекрасным, несмотря на многочисленные кварталы нищеты. Даже эти кварталы были тут, в экзотических тропиках, дьявольски живописны!
Прошло совсем немного времени с тех пор, как он обосновался в этой маленькой столице крошечной центральноамериканской страны с населением всего в два миллиона человек. Зато, говорил он себе, какие это два миллиона! — люди сплошь веселые, сердечные.
В общем, все было бы чудесно, если б… Если б — как-то признался себе Вадим — впереди его ждало возвращение домой, в Россию. Он понял то, чего не понимал раньше: здесь, за границей, можно с удовольствием прожить месяц, год, пяток лет, но при одном условии — при условии, что знаешь, что ты тут временно, в командировке. Стоит же исчезнуть этому ощущению временности здешнего бытия, и моментально наваливается тоска, та самая проклятая ностальгия, о которой прежде доводилось только читать и слышать от других. Чуждый быт из привлекательного своей незнаемостью разом становится для тебя неприемлемым, холодно-отстраненным.
Осташеву все еще нравился город, нравились люди, но все сильнее он себя чувствовал чужим. Он чувствовал себя так, будто попал на спектакль, пьеса интересная, но нет ей конца, и никак не покинешь зрительный зал. Его не оставляло ощущение невзаправдашности нынешнего своего существования. Жизнь, настоящая жизнь проходила мимо — там, по ту сторону океана.
Отойдя от окна, Вадим Осташев с ногами забрался на тахту и с помощью аппарата дистанционного управления включил цветной телевизор. Передавали старый американский вестерн. Далекий от подлинной жизни. Но не более далекий, подумалось Вадиму, чем его здешнее житье-бытье.
Скоро придет гость. Незваный. Это Аманда настояла, чтобы он его принял.
Гость — звали его Иван Петрушев — вскоре объявился. Корреспондент радиостанции «Свобода» был невелик росточком, лицо собрано в морщины, на голове жесткий ежик темных волос.
— Мы мелкие служащие, люди маленькие, — такими были его первые слова после взаимного обмена приветствиями.
Осташев вопросительно приподнял бровь.
— Я к тому, — пояснил Петрушев, — что навязался к вам со своим интервью. Да ведь не по своей воле набивался на встречу. Распоряжение начальства.
— Вы что же, ради меня тащились аж из Мюнхена? — Вадим знал, что именно там, в Западной Германии, находится радиостанция «Свобода», вещающая на русском языке, но существующая на американские деньги.
Морщины на лице корреспондента пришли в движение, изобразив иронию.
— Нет. — Во взгляде, который он бросил, читалось: «Слишком велика была бы честь!» — Нет, конечно. Я из вашингтонского отделения нашей радиостанции. Иногда вот, как сейчас, выполняю задания не только в Соединенных Штатах, но и в Латинской Америке.
Ирония журналиста не понравилась Вадиму Осташеву. Он грубовато спросил:
— И давно вы работаете на вашингтонские власти?
— На вашингтонские власти я не работаю, — сухо ответил Петрушев. — Наша фирма американская, верно. Но фирма частная. В отличие, скажем, от «Голоса Америки».
— Бросьте. Отличие — чисто формальное.
Морщины снова пришли в движение. На этот раз — с неудовольствием. Ведь сказать правду он все равно не мог.
— Отличие не формальное, — настаивал он, хотя убежденности в его словах не слышалось. — К тому же, являясь частной американской фирмой, мы, по сути дела, — голос русского зарубежья.
«Голос ЦРУ вы», — неприязненно подумал Вадим, но спорить не стал. Вопрос свой, давно ли Петрушев работает на радиостанции, он тоже не стал повторять. Не хочет говорить, ну и не надо. Судя по возрасту, он, вполне возможно, из гитлеровских приспешников. К фашизму Осташев относился резко отрицательно.
Раскрыв свой «Ухер», корреспондентский западногерманский магнитофон, радиожурналист приступил к интервью. Вопросы, которые он задавал, били в одну точку: «Что вы думаете о слабости и нединамичности советской экономики?», «Что вы можете сказать о нарушениях прав человека?». И прочее в том же духе. Вадим старался уходить от ответов. Сам себе удивляясь, сказал даже несколько слов в защиту преданной родины.
Морщины на лице Петрушева выражали недоумение. Интервью явно не задалось. Тогда он перешел к вопросам иного рода. Его интересовало, что знает Осташев о деятельности Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора.
Это уж был откровенный сбор информации не для радиостанции, а непосредственно для ЦРУ, и Осташев отрубил:
— Ничего не знаю!
Он и вправду ничего не знал, но и знай хоть что-нибудь — не ответил бы.
Опечаленный неудачей (не справился с заданием! — начальство не похвалит), Петрушев холодно простился.
Встреча с представителем «голоса русского зарубежья» оставила по себе такое впечатление, будто он искупался в лохани с грязной водой. Но тут горькая мысль пронзила все его существо: «А я-то многим ли лучше? Тоже перебежчик. Тоже в общем-то предатель». Ему стало не по себе. Внутренне знобко, неприютно. Все они, эмигранты, — словно нагие на ветру. Крутят их чуждые ветры, вертят как хотят. И нет им покоя, нет довольства жизнью, нет счастья.
На улицах, прокаленных жгучим солнцем, кипел карнавал. Гремели оркестры. Двигались толпы танцующих людей. На мужчинах — белые рубашки навыпуск и сплетенные из пальмовой соломки сомбреро, тоже белые, с черным кантом, с узкими полями. На женщинах — те же национальные сомбреро, которые здесь называют «монтуно», и белые польеры — платья, сшитые по моде прошлого века, их извлекают из чемоданов лишь по случаю карнавальных торжеств.
Весело в городе. Но на душе у Тони Найта, шагавшего по тротуару к стоянке машин, было сумрачно. Только что состоялся разговор с начальством.
— Закрывайте это дело о гибели перебежчика! — потребовал шеф. — Тут все ясно. Обычная автомобильная катастрофа.
— Обычная ли? — возразил Найт. Он рассказал о своих сомнениях. Показал фото Верни Рота в обществе Аманды Ронсеро.
Шеф, толстомясый, с животом, нависавшим над широким кожаным поясом форменных брюк, откинулся в кресле, с неудовольствием глянув на инспектора. Помедлив, взял в руки фотографию, посмотрел на нее без интереса. Брюзгливо бросил:
— Ну и что? О чем это говорит? Да это и вовсе никакого отношения к делу не имеет!
— Как знать, — заметил инспектор. Он решил схитрить: — Можно ведь предположить и такое: Осташева с помощью Ронсеро завербовали американцы, русское КГБ узнало об этом и решило не откладывать месть в долгий ящик, наказав его заодно и за бегство на Запад.
Сам он не очень-то верил в эту версию. Но высказать ее стоило, чтобы иметь возможность продолжить расследование. Шеф должен клюнуть на столь многообещающее направление поиска!
Нет, не клюнул.
— Повторяю еще раз: закрывайте дело! — сказал он и встал, давая понять, что разговор окончен.
Проталкиваясь сквозь толпу, охваченную карнавальным весельем, Тони Найт с недоумением размышлял над тем, почему высказанная им версия — версия, сулившая сенсационный финал! — была отвергнута
шефом. Уж не американцы ли приложили тут руку? Но тогда именно они причастны к исчезновению Осташева! Такое подозрение уже давно смутно шевелилось в сознании Найта. Нет, он не оставит расследование. Продолжит его на свой страх и риск.
Решение, принятое инспектором, объяснялось не только его профессиональной добросовестностью. Он с презрением и ненавистью относился к РУМО, ЦРУ и прочим спецслужбам США. Как и большинство его соотечественников, он был убежден, что гибель в авиакатастрофе незабвенного генерала подстроена американской разведкой. Генерал не устраивал Вашингтон. Потому что проводил самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Потому что отстранил от власти местных богатеев. Начал аграрную реформу. И — самое главное — повел борьбу за возвращение межокеанского канала под национальный суверенитет.
Может быть, сыграла свою роль и его личная неприязнь к американцам, рожденная злобой к папаше, испарившемуся в туманных северных далях.
Была и еще одна причина, толкавшая его на продолжение расследования. Толкавшая бессознательно, помимо его воли. Недавно Тони узнал, что смертельно болен. Конча, верная подружка, выведала у врача, что у него рак. С тех пор Найт жил с постоянным сознанием малости и быстротечности отпущенного ему времени. В таком состоянии он не был склонен прислушиваться к недвусмысленным указаниям начальства закрыть дело о гибели Вадима Осташева. Дело, довести которое до конца он считал своим долгом.
Центральный проспект — главная торговая улица этого торгового города торгового государства. Торгового уже в силу того хотя бы, что расположено оно на перешейке между двумя океанами, соединенными каналом.
Как всегда, на Центральном проспекте было людно. Вадим Осташев бежал сюда от одиночества. Невмоготу стало сидеть в отеле, а к Аманде тоже что-то не тянуло. Он медленно брел вдоль нескончаемой вереницы витрин, ломившихся от товаров. Импортных в основном. Покупателей в магазинах совсем немного, да и то в большинстве своем туристы-янки. Местные, за редким исключением, живут небогато. Сейчас он лучше понимал это, чем в первые дни по приезде. Ему вспомнилось, как ровно месяц назад он шел здесь просить убежища. То было четырнадцатого февраля, в день Святого Валентина — покровителя влюбленных. В магазинах народу толклось побольше, чем сегодня: люди, связанные сентиментальными узами, обменивались подарками. А он в тот день рвал все свои узы, все связи с прошлым. И снова, как тогда, его обдало ознобом, несмотря на жару.
Тяжелые и стремительные — подобно артиллерийским снарядам — проносились автобусы. Их стереофонические клаксоны распугивали прохожих мелодиями Рубена Бладеса и Оскара де Леона, популярных местных композиторов. Осташев не раз слышал эти мелодии в барах, в кабаре. Они оставляли его равнодушным. Чужая музыка, чужой мир. Он остановился, невидящим взглядом уставившись на витрину обувного магазина, кокетливо названного «Стук каблучков». Опять приступ ностальгии? Тоска по родине мучит постоянно, это верно. Но дело не только в этом. Дело еще и в том, понял Вадим, что он страдает эмигрантским комплексом неполноценности. Ведь он не такой, как все здесь. Он на многое в жизни смотрит иначе. Иначе думает, иначе чувствует. Его не волнуют местные политические события. Почти совсем не трогает здешнее национальное искусство. Он не живет интересами того общества, в котором оказался. Он сам по себе. Но такая искусственная изоляция всегда ущербна и болезненна.
Проспект вывел его на площадь Пятого мая — к парку «Тысяча дней». Ну, что ему, к примеру, до тысячи дней, в течение которых либералы и консерваторы подстреливали друг друга! А для местных это время — памятное, вон и парк даже так назвали.
Он прошел мимо. Еще один парк — «Святой Анны», здесь рабочие по традиции устраивают митинги, до чего ему, Вадиму Осташеву, тоже нет никакого дела. Впереди в голубой океанской глади равнодушно отражался белый силуэт Президентского дворца.
По второму кругу объезжал Тони Найт придорожные кафе и бары подле города Давида. Показывал не только фото Осташева, но и фотографию Берни Рота с Амандой Ронсеро, садившихся в «зодиак-форд». Опрос дал результат: нашлись люди, видевшие в тот день и Осташева и Рота — каждого по отдельности.
А в одном баре произошел вот какой разговор:
— Этот гнался за этим. — Бармен ткнул пальцем в изображение Берни Рота и затем Осташева.
— А поподробнее нельзя, приятель?
— Можно. — Бармен, тщедушный юноша с невыразительно-красивым лицом, с любопытством таращил на инспектора глаза-маслины. Любитель детективной литературы, не иначе. Рад, что оказался полезным сыщику, — Значит, так, — начал свой рассказ молодой человек, — Вот этот янки сидел за стойкой вместе с приятелем. Тут входит другой янки… они ведь все американцы, верно?
Найт отмолчался.
— Входит, значит, другой янки, увидел этого типа за стойкой, повернулся и тут же улепетнул. А тип этот сует мне деньги за выпитый кофе — и за ним. Я, конечно, заинтересовался, что бы это значило. Подскочил к двери, смотрю, а тот уже отъезжает на «фольксвагене». Мой клиент и его приятель плюхаются в «форд» и трогают следом. По шоссе обе машины помчались на предельной скорости. Прямо автогонки!
В надежде, что бармен вспомнит что-нибудь еще, Тони Найт заказал вторую чашку кофе, добавив:
— Да сделай покрепче, приятель. Кофе, к твоему сведению, должен быть крепким, как проклятие или богохульство.
— А еще, — расплылся в улыбке любитель детективной литературы, — еще он должен быть черным, как ночь, горячим, как любовь, и сладким, как поцелуй… Приятным, одним словом, как чтение детективного романа.
— То, что я только что выпил, этим требованиям не отвечает.
— Виноват, исправлюсь, — засмеялся юноша.
И он исправился — принесенный им кофе был выше всяких похвал. Но ничего интересного больше из него вытянуть не удалось. Берни Рот, по его словам, с ним ни о чем не разговаривал, вопросов никаких не задавал.
— Впрочем, постойте! — хлопнул себя по лбу бармен. — Совсем забыл! Он же полюбопытствовал, не останавливался ли около бара «фольксваген».
Это подтверждало, что Рот искал Осташева и, увидев его, поехал за ним отнюдь не по наитию.
От бара, где происходил этот разговор, до места катастрофы было километров сорок. Ни одного придорожного кафе на этом отрезке шоссе, ни одной заправочной станции. Авария произошла совсем уже в пустынной местности — плотные стены леса по краям, ни жилья, ничего.
Обстоятельства автокатастрофы по-прежнему оставались неизвестными.
«Лезть с женщиной в психологические дебри, чтобы выяснить отношения, — бесполезное дело. Женщины понимают только поступки — не слова. Только из твоих поступков, если они их затрагивают, эти алогичные существа способны делать хоть какие-то выводы», — думал Осташев, вспоминая свои отношения с женой. Он многократно пытался вразумить Наталью, отвадить ее от эскапад, от вечерних таинственных исчезновений. Но отвадить — словами, и только словами. «А надо было мне, — размышлял он, — завести роман, это встревожило бы Наталью, и, глядишь, она взялась бы за ум».
Этим не слишком приятным мыслям он предавался, лежа в постели. Было десять утра, но вставать не хотелось. Вчера на субботней вечеринке у Фила Виктори он слишком увлекся шотландским виски и сейчас чувствовал себя разбитым. Слабый человек, он попытался утопить в вине свои разочарования.
Они были многочисленны, эти разочарования. Западный образ жизни при ближайшем рассмотрении казался вовсе не таким привлекательным, как прежде. Да и в личном плане дела обстояли неблестяще. Угнетала необходимость подличать, переделывая монографию. Печалило, что он ошибся в Аманде, которая, как он теперь понимал, вовсе не любит его. Так, нашла минутная блажь на дамочку. Иногда, впрочем, у него мелькало смутное подозрение, что не дамская прихоть толкнула знойную красавицу к нему в объятия. Какого черта она и по сей день столь старательно строит из себя влюбленную? Старательно, но неубедительно. Ее отработанные улыбочки и нежные взгляды его не обманывали. Осташев был человек довольно проницательный.
Собственно говоря, в то утро он и о Наталье-то вспомнил, подумав сперва об Аманде. Два неудачных его увлечения. Не везет ему в любви. И не умеет он обращаться с женщинами, держать их в руках.
Вздохнув, Осташев сел в постели. Пора вставать. Договаривались с Амандой поехать на пляж. Рвать свою связь с ней он не собирался. Пусть все идет, как идет. Лучше такая приятельница, чем никакой.
Он неторопливо оделся, привел себя в порядок, вышел на улицу. На «фольксваген» взглянул, как всегда, с удовольствием. Сравнительно недорогая машина, но отличная!
Материально Вадим Осташев устроился на новом месте неплохо. Весьма солидная зарплата. Получен аванс за монографию. Но относительное личное благополучие не заслоняло от него удручающую картину местных социальных контрастов. Конечно, он и раньше о них знал. Но прочувствовал полностью, только оказавшись не туристом, не командированным, а постоянным жителем зарубежья. На окраинах этого красивого зеленого чистенького города уродливо горбились «брухас» — лачуги из гнилых досок и ржавой жести. Слонялись по улицам безработные, бродили полуголодные дети. Генерал, пока его не убрали американцы, успел многое сделать для страны, но для простых людей жизнь все же оставалась нелегкой.
Осташев порою ловил себя на том, что его тянет к местным левым. Вот уж никогда бы он не подумал, в бытность свою в Москве, что дело обернется подобным образом! Но здесь многое виделось в ином свете. Направляясь на «фольксвагене» к Аманде, он вспомнил рассказ одного своего московского знакомца. Тот был командирован ненадолго в Латинскую Америку. Ужаснулся увиденным контрастам и несправедливостям и по возвращении подал заявление о вступлении в партию. Когда-то эта история насмешила Вадима. Теперь она не казалась ему такой уж смешной.
Недужилось Тони Найту. С утра слабость была такая, что он еле встал. Но встал, черт побери! Заставил себя встать, потому что давно решил не сдаваться до конца, хотя победа над ним этой страшной болезни и была предрешена. Стоит сдаться, и все, что останется увидеть в жизни, — больничная койка.
За завтраком заглянула ненадолго Конча — последняя по счету и вообще, видно, последняя из его подружек. Старый холостяк, он до сих пор пользовался успехом у девиц. К Конче, юной, статной, умной и преданной, он относился по-особому. Иногда он даже думал, что его последняя любовь стала первой настоящей. Так бывает. Слишком легко давались победы в прошлом — не успевал увлечься всерьез. Зато последнее чувство было дорого вдвойне.
Конча, которая, по просьбе Тони, сама и выведала у врача, что у ее приятеля рак, старалась теперь видеться с ним почаще. Она больше не заговаривала о его болезни. Держалась весело, как ни в чем не бывало. Крепкие духом, они стоили друг друга.
Торопясь в университет, где она училась на пятом курсе, Конча завтракать не стала. Ограничилась чашкой кофе. Осторожно отхлебывая обжигающий напиток, поинтересовалась:
— Что новенького по делу об этом русском?
Он рассказал. Девушке явно понравилось, что Тони продолжает расследование, несмотря на распоряжение начальства.
— Ты не похож на других полицейских, — сказала она таким тоном, что это было равнозначно похвале: «Молодец!»
По дороге на работу Найт — в который раз — задумался над странным противоречием: человек, погибший в «фольксвагене», был напичкан наркотиками и насквозь пропитан алкоголем, а все утверждали, что Вадим Осташев не злоупотреблял ни тем, ни другим, да и выглядел он абсолютно трезвым в тот день. Но если погиб не Осташев, то кто же?
Еще вчера Тони Найт начал просматривать перечень происшествий по стране в день катастрофы и в предшествующие дни. Сегодня он продолжит эту работу. Быть может, она подскажет ответ на вопрос «кто же?».
У себя в кабинете инспектор сразу же принялся читать сводку происшествий. Убийства, грабежи, изнасилования… А вот это уже интересно! В канун автокатастрофы из тюрьмы бежал некто Марьяно Лейва, бандит и убийца. Ночью в одном городишке он залез в аптеку и накачался наркотическими препаратами (то, что это был именно он, подтверждали отпечатки пальцев). На рассвете, разбив окно, проник в бар и крепко выпил, после чего следы его затерялись.
Затерялись ли? Найт распорядился сравнить отпечатки пальцев Марьяно Лейвы и человека, сгоревшего в «фольксвагене».
Результат сверки подтвердил его интуитивные подозрения. Отпечатки оказались идентичными. Оставалось только гадать, как Лейва очутился за рулем пострадавшей машины и куда делся Осташев.
Берни Рот полагал, что русский постепенно укореняется в местной жизни, между тем как тот все больше сожалел о своем бегстве на Запад. Аманда Ронсеро догадывалась об этом, но помалкивала. Сообщение такого рода не обрадовало бы шефа. Он, того гляди, обвинил бы ее, Аманду, в переменах в умонастроении перебежчика: мол, недостаточно старалась, небрежно, дескать, отнеслась к своим обязанностям, не приложила должных усилий, чтобы полностью опутать молодчика.
Наконец Рот решил, что настала пора приступить к операции, ради которой Аманде Ронсеро и было поручено склонить Осташева к предательству. Молодая женщина давно работала на РУМО. Шпионские гонорары дополняли журналистские, обеспечивая безбедное существование. Она поставляла сведения о здешних политиках, о закулисных историях, политической жизни, о переговорах властей с важными зарубежными визитерами. Выполняла различные поручения — нечистоплотного характера чаще всего, такое уж это дело — сотрудничество с американской разведкой. По натуре холодная, безразличная ко всему на свете, она окончательно зачерствела в этих неблаговидных занятиях.
Зачем американцам понадобился Осташев, она не знала. Хозяева далеко не обо всем ее информировали. Да она и не стремилась знать больше того, что ей положено: излишнее знание в таких делах к добру не приводит.
Теперь ей предстояло узнать правду о задуманной операции. Без ее помощи Рот обойтись не мог.
Они встречались обычно не в здании, где разместилось отделение РУМО, и не у нее дома. Встречи проходили на конспиративной квартире. Так легче скрывать причастность Ронсеро к американской военной разведке. Впрочем, несколько раз ей доводилось бывать и в местной штаб-квартире. Возле нее-то и сфотографировал их с Ротом инспектор Тони Найт.
Конспиративная квартира находилась в обычном жилом доме, шестиэтажном, заселенном людьми среднего достатка. Ее хозяином и единственным обитателем был американец — вдовец, бывший морской пехотинец, пенсионер, справедливо посчитавший, что в Центральной Америке, где доллар котируется высоко, ему на его пенсию прожить легче, чем в Соединенных Штатах. Денежки от РУМО были нелишним приработком.
Когда в его квартире возникала нужда, ему сообщали об этом телефонным звонком, и он отправлялся в бар, или прогуляться, либо куда еще.
Берни Рот приехал за четверть часа до назначенной встречи. Дверь открыл своим ключом. В гостиной сразу же включил кондиционер — жарко. Прошел в ванную, чтобы ополоснуть лицо холодной водой. Причесываясь, не без удовольствия посматривал в зеркало на свое мужественное моложавое лицо. Морщин нет. Седина едва начинает пробиваться. Хорош! Подсознательно он весь был в ожидании встречи с молодой красивой женщиной. Встречи наедине. Но рассудком он понимал, что проку от этого уединения никакого. Он никогда не решится преступить границу чисто служебных отношений. Сотрудник РУМО (тем более его ранга) должен быть подобен монаху. Не один уже подпортил себе карьеру из-за того, что завел шуры-муры, находясь за кордоном. Чаще всего в подобных случаях из-за границы отзывают — и не жди больше хорошего назначения!
Звонок. Пришла! Он поспешил отворить дверь. Улыбка, которой он приветствовал Аманду Ронсеро, была лучиста и нежна. Но она увяла, когда они расположились в креслах у журнального столика и начальник отделения приготовился начать деловой разговор.
Аманда, агент внештатный, малосведущий во внутренних правилах РУМО, недоумевала, чего это ее шеф не воспользуется их уединением, мужчина он видный и крепкий на вид, несмотря на свои пятьдесят с хвостиком.
Своими безоблачными глазами-озерами она кокетливо обволакивала шефа. Безуспешно! Старый сухарь сидел с каменным лицом. Вот он полез в чемоданчик. Достал какую-то папку.
Заскучав, Ронсеро равнодушно скользнула взглядом по знакомой ей комнате. Гостиная, типичная для человека среднего достатка, к тому же не обладающего особым вкусом. На стенах, окрашенных светло-серой масляной краской, две репродукции картин каких-то американских маринистов. Два деревянных кресла, в которых они сидят. Стол. Журнальный столик. Несколько стульев. И все.
Берни Рот раскрыл папку.
— Взгляните, — он протянул ей фотографию.
На фото человек в военной форме с трудом поднимал нечто, смахивающее на мину или артиллерийский снаряд. Рядом лежал раскрытый рюкзак, готовый принять в свое нутро это «нечто».
— Что за штуковина у него в руках? — спросила Ронсеро.
— О портативных ядерных зарядах слышали?
Аманда Ронсеро кивнула. Ей попадались на глаза сообщения телеграфных агентств о ранцевых атомных минах, взятых на вооружение американскими частями специального назначения. В случае войны коммандос должны будут проникать на вражескую территорию, размещать мины на аэродромах, возле командных пунктов и других важных объектов и затем, удалившись на безопасное расстояние, приводить взрывные устройства в действие с помощью радиоаппаратов дистанционного управления.
— А что за форма на этом парне? — задала она еще один вопрос.
— Форма кубинская.
— Я думала, такие штуковины есть только у вас, американцев.
Начальник отделения ответил не сразу.
— Если они есть у нас, значит, и у русских есть нечто подобное. Во всяком случае, логично предположить такое. Ведь верно? А раз так, «карманные атомные бомбы» вполне могут оказаться у кубинцев.
— Выходит, эта фотография?..
— Липа, — подтвердил американец. Ему приходилось быть откровенным. — Форма напялена на нашего человека. Мина, разумеется, тоже наша.
— Что я должна сделать с фотографией? — Аманда Ронсеро щепетильностью не страдала. Никаким подлогом смутить ее было невозможно.
На вопрос Аманды Рот ответил с полной невозмутимостью:
— Вы опубликуете у себя в газете эту фотографию. В сопроводительной статье сообщите читателям, что снимок сделан на Кубе агентами американской разведки. Ну а шефу своему — главному редактору скажете, что, раздобыли фото у ваших друзей-американцев. Намекнете, что эти друзья заинтересованы в преднамеренной утечке информации. Он клюнет на такое. В конце концов, сенсация, да еще какая! Слава, увеличение тиража газеты…
— …а значит, и увеличение доходов, — подхватила Ронсеро. — Шеф клюнет. Вы правы. — Она взяла у американца папку, куда вернулся снимок. — Все? — спросила она взглядом. — Можно идти?
Оказалось, что нет, разговор не окончен.
— Это фото вы покажете Осташеву.
— А это зачем?
Несообразительность агента вызвала у Рота улыбку.
— А затем, что он подтвердит достоверность того, о чем вы расскажете в своей статье. Вы сошлетесь в статье на интервью, которое у него взяли. Дескать, русский перебежчик слышал от своих соотечественников на Кубе о существовании складов ранцевых ядерных мин и специальных подразделений, обученных обращению с ними.
Аманда Ронсеро обмерла. Согласится ли Вадим?. Она сомневалась в этом. Однако своих сомнений ничем не выдала. Не стоит прежде времени нарываться на выговор за плохую работу с перебежчиком. Да, может, еще и удастся уломать его, кто знает?
Она покивала головой:
— Так вот для чего понадобилось сманивать Осташева. Теперь понятно. А я-то все думала, на кой черт он нужен.
— Он очень нам нужен, дорогая Аманда. — Он позволил себе сказать «дорогая», любезность с дамами не запрещена даже сотрудникам РУМО. — Ваша статья вызовет бурю. И не только в местной — в мировой прессе! Вот тут-то Осташев и выступит на пресс-конференции, которую мы ему соберем. Подольем, так сказать, масла в огонь.
Аманде Ронсеро все больше становилось не по себе. Дело оказалось серьезнее, чем она предполагала, а уверенности в готовности Осташева к сотрудничеству у нее не было. Но ей оставалось только одно — ответить как можно увереннее:
— Постараюсь сделать все, что в моих силах.
Округлое невыразительное лицо Вадима Осташева — лицо, где все было мясисто: нос, губы, щеки — приобрело вдруг несвойственную ему выразительность, отразив растерянность вперемежку с гневом и злостью, когда «любимая» осчастливила его сообщением о роли, которую ему наметил Берни Рот.
Впрочем, имя Рота упомянуто не было. Это было бы неосторожно: пусть шапочно, но Осташев все же был знаком с американцем, их представили друг другу на каком-то приеме, начальник отделения РУМО назвался коммерсантом.
Однако то, что она в данном случае представляет американскую разведку, Аманда Ронсеро не скрыла. Да и как это можно скрыть, говоря об операции такого рода?
— Нет! — с откуда-то взявшейся решительностью отрезал Вадим. — На меня не рассчитывай. Так и передай своим хозяевам.
Резко повернувшись на вращающемся кресле к трельяжу (разговор происходил в квартире у Ронсеро), Аманда придала лицу сердитое и обиженное выражение: мол, и глядеть ей не хочется на неразумного любовника. Сама же внимательно через зеркало следила за Осташевым. Вот она потянулась рукой к верхней пуговице кофточки, расстегнула ее, взялась за вторую пуговицу, всем своим видом показывая, что ее мучит удушье от переживаемого волнения. Высокая грудь притворщицы начала тяжело вздыматься.
Но спектакль разом прекратился, стоило Осташеву язвительно усмехнуться:
— Соблазнить меня, что ли, надумала? Затащить в постель и там все-таки уговорить?
Он встал.
— Прощай, Аманда.
Она молчала, все еще отвернувшись от него, уставившись в зеркало теперь уже невидящим взглядом.
— Прощай, — повторил он. — Пришел конец нашему роману. — Последнее слово этой фразы он выговорил с горькой усмешкой.
Тогда она стремительно повернулась к нему и сказала, как плюнула:
— Дурак!
Осташев направился к двери.
— Стой! Да стой же, тебе говорят!
Он остановился. Бросил из-за плеча хмурый взгляд.
— Мой бедный миленький дружочек, — издевательски протянула — почти пропела — женщина. — Тебе невдомек, как ты запутался? Ты не понимаешь, что у тебя нет выбора?
— О чем ты? — буркнул Осташев. Нехотя так. Неприветливо. Но внутренне уже настораживаясь, напрягаясь.
Он медленно обернулся к бывшему предмету нежной страсти.
— Слышал, как говорят: «Кто много знает, долго не живет»? — голос милейшей дамы звучал сухо, жестко. Это была неприкрытая угроза. — А ты сегодня узнал от меня очень много. Слишком… — она подчеркнула это слово, — слишком много.
И он испугался. Как тут не испугаться? Американские спецслужбы шутить не любят. Наслышан об этом. Читал не раз. Страх потом увлажнил лицо. Тыльной стороной ладони он вытер его со лба.
— Ну, ладно… — протянул он.
— Согласен? — радостно вскинулась Аманда.
— Сегодня я тебе не отвечу, — не сразу откликнулся он. — Дай мне подумать.
— Сколько времени тебе нужно на размышления? — деловито осведомилась Ронсеро. — Учти — долго мы ждать не можем.
— Дай мне… ну, хотя бы три дня.
Три дня… Она решила рискнуть: дать ему эти три дня. Под свою ответственность. Лучше явиться к Роту с такой новостью, чем с отказом проклятого русского.
— Хорошо. Мы подождем. Но помни: твое «нет» будет равносильно… ты понял чему?
Осташев утвердительно мотнул головой и не прощаясь вышел.
Он брел по улице, истязая себя мыслью, что всю жизнь сам себе ставил палки в колеса, что всю жизнь бежал от жизни, на ходу безуспешно пытаясь понять самого себя. Понял, кажется, слишком поздно.
По вылинявшему от зноя небу лениво тащилось одинокое кучевое облако, ослепительно белое, но с розовым — от солнечного подсвета — брюшком. Глядя на него из окна своего гостиничного номера, Осташев подумал: «Я тоже одинок. Опять одинок».
Опять? Словечко пришло на ум так, по привычке. Он понял уже, что там, дома, он и на сотую долю не был столь одинок, как ныне. Там, дома, его одиночество во многом было искусственным, он сам был в нем повинен. Здесь же все было остро чужим, и никогда своим он здесь не будет. Да и не надо ему быть своим на чужой, неприветливой земле, образ жизни которой для него — он это осознал — полностью неприемлем!
Домой! Эта неотступная мысль стала фоном всего, о чем бы он ни размышлял. Он понимал, конечно, что вернуться в Советский Союз непросто. Пустят ли его обратно? Он совершил предательство, он очень виноват перед родиной. Но он твердо решил добиваться… нет, не прощения — разрешения вернуться. А там будь что будет! Начать дома новую жизнь, как бы трудно она ни складывалась. Зато впереди, в перспективе — настоящая жизнь, а не это его нынешнее прозябание, все круче затягивающее воронкой в бездну подлости.
Если бы в этой стране было советское посольство, он, не раздумывая больше, немедленно отправился бы туда. Но посольства не было. Из-за давления Соединенных Штатов дипломатические отношения так и не были установлены.
Но в соседней стране советское посольство имелось. Туда и решил пробираться Осташев. Вчера, сразу после разговора с Амандой, оглушившей его предложением американской разведки, он отправился в консульство этой страны, испросил туристскую визу и получил обещание, что назавтра во второй половине дня ему вернут документы уже оформленными. Слава богу, в этих маленьких банановых республиках не существовало сложностей с получением виз. Вадим Осташев надеялся, что американцы не пронюхают об этом его визите. По дороге в консульство он «проверялся», никто вроде бы за ним не следил.
Вчера же в автомастерской, где обслуживали его «фольксваген», он распорядился покрыть шины пулезащитным кевларом и поставить на машину форсированный мотор — так, на всякий случай: вдруг придется уходить от погони американских агентов, чем черт не шутит. Покинуть страну на автомобиле он надумал, полагая, что в аэропорту скорее привлечет к себе внимание американцев. «Постарайтесь закончить работу завтра к обеду», — распорядился Осташев в мастерской. «Нет, это невозможно», — покачал головой механик. «Заплачу вдвое», — пообещал Вадим. «Будем работать всю ночь», — сдался механик.
Осташев взглянул на часы. Пора обедать — и в консульство!
Туда он отправился на такси. Благо здесь, как шутили местные острословы, такси больше, чем манговых деревьев. Сошел за два квартала. Неторопливо побрел, останавливаясь у витрин, незаметно оглядываясь: слежки нет, Аманда и ее компания, видимо, уверены, что ему некуда деться.
Документы уже были готовы. Уложив их в карман своего легкого, из какой-то невесомой ткани пиджака, он отправился в мастерскую и забрал машину. Теперь — в путь.
Наверное, все сошло бы благополучно, если б он знал, где находится отделение РУМО. Он этого, разумеется, не знал, и случилось так, что он проехал мимо него. Телекамеры засекли спешащий «фольксваген». Офицер безопасности, поколебавшись, решил доложить об этом начальнику: как-никак речь шла о человеке, интересующем РУМО. Он направился к кабинету шефа.
— Осташев? — удивился Берни Рот. — Странно. Ронсеро докладывала, что после обеда они собираются вдвоем на пляж. (Так оно и было, но Вадим позвонил Аманде и сказал, что его срочно вызывают в институт.) Что-то мне это не нравится, — продолжал начальник отделения. — Куда он собрался? Пожалуй, стоит за ним проследить. — Он встал. — Поедете со мной! — приказал офицеру безопасности.
Пока происходил этот разговор, пока они спускались вниз, Осташев уехал довольно далеко. Он радовался, что удалось тронуться в путь уже сегодня: истекали всего только первые сутки из трех, испрошенных на размышление. Его не скоро хватятся!
«Зодиак-форд» американца резко стронулся с места. «Фольксвагена» впереди видно не было. Но Берни Рот не раздумывая погнал машину вперед, решив никуда не сворачивать с магистрали, ведущей к мосту через канал — к единственному выезду из города в той стороне, куда подался Осташев. Ну а если он не собирается покидать столицы, если он просто разъезжает по городу по каким-то своим делам, то и бог с ним, следить в таком случае не стоит.
Однако выяснилось, что Осташев все-таки выехал за городскую черту. Полицейский, дежуривший у въезда на мост, ненадолго задержал «фольксваген».
— Оштрафовал я вашего приятеля за превышение скорости, — осклабился полицейский, ловко пряча в карман форменной куртки долларовую бумажку.
Резвый «зодиак-форд» на полной скорости помчался по шоссе, миновав мост. По пути попадались «фольксвагены», но того, за которым шла охота, не было.
— Куда он запропастился? — недоумевал Рот. — Его таратайка намного тихоходнее моей.
— Может, свернул на какую-нибудь боковую дорогу? — предположил офицер безопасности.
Начальник отделения с неудовольствием скосил глаза на подчиненного.
— Нужно было не копаться, когда камеры засекли Осташева, а немедленно доложить мне по телефону, — резко сказал он, срывая зло на зависящем от него человеке, хотя в глубине души отдавал себе отчет в том, что больше всего опростоволосился он сам: не следовало оставлять русского без надзора.
Они доехали почти до Давида, так и не встретив Осташева. Отчаявшись, решили больше не торопиться. Остановились у придорожного бара — выпить по чашке кофе. Вот тут на них и наткнулся Вадим. Надо же было такому случиться! Он было свернул на проселочную дорогу, но она оказалась совершенно непроезжей, и пришлось вернуться на шоссе.
Обгоняя все встречавшиеся на пути машины, Вадим Осташев уходил от погони. Аманда как-то раз на приеме в американском посольстве познакомила его с Берни Ротом. Тот отрекомендовался коммерсантом. Ладный, крепко сбитый американец с волевым лицом привлек внимание Осташева: ему, человеку слабому, всегда нравились сильные люди. На том же приеме в разговоре с Филом Виктори Вадим кивком показал его, заметив с улыбкой: «Такому бы молодцу скакать по прерии с лассо, притороченным к седлу, а он на тебе, коммерсантом заделался». — «Коммерсантом? — с иронией переспросил Виктори. — Что ж, можно считать и так. — Он замялся, потом все же не удержался от искушения блеснуть своей осведомленностью: — Только его бизнес — особого рода: политические секреты». Поэтому сейчас, наткнувшись в баре на американца, Осташев опрометью бросился вон, с разгону плюхнулся в «фольксваген» и вырулил со стоянки. На шоссе он оглянулся. Американцы (оказалось, что их двое) гнались за ним. Не зря он поставил форсированный мотор! Нажав на акселератор, Осташев резко оторвался от преследователей. Шоссе петляло. Поворот. Еще поворот. «Зодиак-форд» остался далеко позади, а потом и вовсе исчез из вида. Но было ясно: с шоссе надо съезжать, американцы найдут способ перехватить его, в каком-нибудь из городков по пути у них наверняка есть свой человек. Он свернул на проселок, проехал по ухабистой немощеной дороге примерно с километр и остановился. У него был слабый мочевой пузырь, в минуты волнения возникало непреодолимое желание облегчиться. Он пристроился под могучей неохватной сейбой с широкой кроной, надежно защищавшей от солнца. «Доехать до ближайшего города и там поменять машину на наемную? — размышлял он. — Или рискнуть и на знакомом американским агентам, но быстроходном «фольксвагене» пробираться кружным путем к границе?» Это было последнее, что он успел подумать. Неожиданный удар, нанесенный сзади, оглушил его.
Он не чувствовал, как его перевертывают на спину, обшаривая карманы, не видел, как человек, ударивший его, разворачивает «фольксваген», чтобы вырулить на шоссе.
Первое, что он увидел, постепенно приходя в себя, была темная зелень листвы над головой. Он не мог понять, где вдруг оказался. С трудом повел головой в сторону. Увидел проселок. Вспомнил все и сразу схватился за карман пиджака, ища бумажник. Пусто!
Отчаяние придало силы. Он с трудом приподнялся, сел. Да вот он, бумажник, валяется рядом! Лихорадочно схватил его. Документы целы! Исчезли только деньги. Их там было немного, так, мелочь на дорожные расходы. Человек осторожный и предусмотрительный, он всегда, когда при нем бывали более или менее солидные суммы, упрятывал деньги в кармашек легких пляжных шорт, которые в таких случаях надевал под брюки вместо трусов.
Кармашек шорт, когда он добрался до него дрожащей рукой, оказался полон. Осташев вздохнул с облегчением. Деньги тут могут все — эту истину он твердо усвоил за время недолгого своего пребывания за границей. Значит, ничто еще не потеряно.
Пошатываясь, он встал. Побрел вдоль дороги. Вскоре ему попался родничок, в котором он промыл рану. Она, к счастью, лишь чуть-чуть кровоточила.
Впереди показался поселок. Осташев ускорил шаг. Найдется ли там врач?
Щедрый гонорар избавил Осташева от расспросов. Доктор почел за благо не приставать с расспросами к пациенту, который явно не был расположен к разговорам. Больше того, сельский врач — за дополнительный гонорар — сразу же согласился доставить непонятного иностранца в соседний город.
Там Осташев нанял машину.
Захваченный зрелищем, Тони Найт даже наклонился в кресле вперед, не отрывая глаз от экрана телевизора. Передавали репортаж с пресс-конференции, которую Вадим Осташев устроил в соседней стране. Значит, он все-таки жив, этот чертов русский! И какую увлекательную историю он рассказывает! Вот, стало быть, почему американцы проявляли к нему свое небезопасное внимание: готовилась крупная политическая провокация.
Вспыхнула привычная злость на янки. И одновременно возникло сожаление: ведь американцы будут опровергать заявление Осташева, и, возможно, многие поверят этим опровержениям. Другое дело, если бы он, Тони Найт, мог дополнить слова русского рассказом о своем расследовании. История тогда обрела бы вполне убедительные очертания.
Но начальство никогда не разрешит предать гласности добытые сведения.
Репортаж закончен. Тони Найт встал. Взволнованно заходил по комнате. А может быть, черт с ним, с этим начальством? Ну, выгонят его с работы… Так ли уж много он теряет? Жить осталось совсем немного, он это знал. Небольших сбережений вполне достаточно, чтобы и без работы дотянуть до неизбежного конца.
Он решительно снял трубку. Набрал номер знакомого газетчика.
Жарким был конец этого мая. В пепельном мареве стояло здание Международного торгового центра, видное Осташеву со скамейки, на которой он сидел. Синее — без облачка — линялое небо с длинным мазком инверсионной самолетной полосы отражалось в параллелепипедах прудов, геометрически прочертивших Краснопресненский парк.
Жарко было, как там — в стране между двух океанов. Но все прочее — иное. По-русски радостно кричали, перекликались ребятишки на автодроме, где кружили миниатюрные электромобили, сшибались, застревали, катили вновь. На детской площадке с выпиленными из пеньков зверями, с крутыми горками и невысокими качелями веселилась мелюзга, и возле нее хлопотали или безмятежно восседали на скамейках всякие, конечно, но больше русоволосые мамаши, одетые в привычные для глаза москвича одежды. Даже джазовая музыка, разносившаяся далеко окрест из домика с игральными автоматами, казалась не западной, а здешней, потому что звучала меж вековых лип и сосен этого старого парка, разбитого в начале прошлого века хозяевами городской усадьбы Студенец. А еще вспомнилось: раньше, до парка, в XVIII веке, тут располагалась усадьба других владельцев — Гагаринские пруды. С тех далеких времен — вместе с прудами-каналами — сохранился памятник-колонна в честь героев Отечественной войны 1812 года.
Вадим Константинович посмотрел на постамент памятника, где на белом камне был выложен и барельеф — мечи в окружении лавровых венков, и окончательно почувствовал себя дома.
РАССКАЗЫ
Владимир Гоник
КРАЙ СВЕТА

За стеной у соседей плакал ребенок: заунывный звук сочился, не умолкая, мучительный, как зубная боль. Надя морщилась и горестно вздыхала, Лукашин понуро молчал в твердом отчетливом сознании своей вины; его мучил стыд за то, что жена вынуждена здесь жить.
Тайга окружала долину, в которой лежал поселок, вокруг теснились высокие сопки, дома россыпью карабкались вверх по склонам и то сбивались в крутые извилистые переулки, то разбредались по каменистым пустырям.
Улицы в городке рано пустели, по вечерам тускло светились окна, тишина окутывала дворы, пыльные улицы, задворки — стоило глянуть вокруг, и было понятно, как прочно городок отрезан от всего мира: за сопками угадывалось обширное безлюдное пространство дальних гор и тайги.
Лукашин уже был женат однажды — давно, в молодости, коротко и несчастливо. Первая жена не выдержала кочевой жизни, дальних гарнизонов, неустройства, и с тех пор до встречи с Надей он жил один; Лукашин помнил долгие унылые вечера, скуку, казенный запах общежитий.
В одиночестве его спасла давняя страсть: Лукашин с детства собирал спичечные этикетки. Увлечение возникло и окрепло по причине застенчивости, бойкие и уверенные в себе люди нужды в таких пристрастиях не имеют.
Больше всего он любил в тишине и при свете лампы перебирать и раскладывать этикетки. В этом занятии, случалось, он проводил часы напролет, забыв о времени, и мнил себя вполне счастливым.
Научно его увлечение именовалось филуменией, но люди в подавляющем своем большинстве этого не знали и улыбались снисходительно, пожимали плечами.
С Надей они познакомились на юге. Лукашин даже дышать забыл, когда увидел ее впервые. Она ненароком оказалась рядом, его подмывало отдать ей честь, козырнуть, словно старшему по званию. Она заговорила с ним первая, от испуга он отвечал по уставу, словно начальству — «так точно, никак нет» — язык присох. Наконец он сам рискнул с ней заговорить и сиплым от волнения голосом пробормотал: «Разрешите обратиться?»
И даже когда она согласилась выйти за него замуж, он не мог поверить, что это всерьез: рядом с ней он казался себе тусклым и заурядным — офицер из захолустья, Ваня-взводный, каких по гарнизонам пруд пруди.
По правде сказать, Лукашин так и не привык к жене. Да и как поверить своему счастью, если в глубине души убежден, что произошла ошибка: не могла ему достаться такая женщина!
«Что она нашла во мне?» — думал он, убежденный в том, что удача его незаслуженна и случайна.
Скажи ему кто-нибудь, что жена его обыкновенная женщина, такая, как все, он лишь усмехнулся бы в ответ. Сослуживцы посмеивались над ним: прочная незыблемая влюбленность в собственную жену казалась всем нелепой причудой.
Но имелась одна беда, с которой было не совладать: Надя не могла здесь жить. Впрочем, Лукашин понимал ее: разве могла такая женщина жить в забытой Богом глуши? Он был убежден, что она достойна другой жизни — праздника, блеска столиц… Лукашин даже удивлялся, что она поехала с ним сюда.
Кривые горбатые улочки петляли в распадках среди сопок. Весной по улицам бежали мутные глинистые потоки, летом за каждой машиной клубилась плотная, похожая на густой дым пыль, долго таяла, оседая на дома и деревья, частые ветры заволакивали пространство между горами серо-желтой мглой.
Дом был старый, рассохшийся, темные унылые коридоры, шкафы с рухлядью, устоявшийся запах супов, котлет, нескончаемой стирки, сырости…
Первые месяцы Надя терпеливо ждала его изо дня в день. Лукашин рвался к ней постоянно, как влюбленный школьник, и улучив свободную минуту, спешил домой со всех ног. И даже открыв ключом дверь, он не верил, что жена его ждет.
Надя коротала время в четырех стенах — выйти было некуда — и не выдержала в конце концов, заплакала; Лукашин пообещал ей подать рапорт о переводе. Она ждала, а он тянул, медлил, пока, наконец, она не заставила его написать рапорт при ней.
— Отдал? — спрашивала она всякий раз, когда он возвращался домой.
Лукашин виновато прятал глаза, молчал и понуро качал головой. Надя пристально всматривалась в лицо мужа в немом усилии понять, что происходит, а он отмалчивался в полном сознании своей кромешной вины.
Так тянулось три месяца из шести, что они жили вместе.
Под вечер прибыл нарочный, пришлось ехать в штаб, где дежурный известил его о командировке. В часть Лукашин приехал уже поздно, однако его встретили, отвели в дом для приезжих.
В комнате с четырьмя кроватями Лукашин оказался вторым жильцом: третий день здесь жил балетмейстер военного ансамбля песни и пляски, лысоватый штатский, одетый щеголевато и небрежно, как и положено артисту.
В строгой казенной обстановке штатский среди военных выглядел странно и даже неуместно, как голый среди одетых. Вторую неделю он ездил по частям в поисках дарований, перед ним целые дни напролет пели и плясали, в лице его проглядывало недовольство и внятное пресыщение. Держался он покровительственно, как человек с широкими полномочиями; вид у него был такой, что стоит ему захотеть, и Лукашину тоже придется петь перед ним и плясать.
— Что, подполковник, по службе приехали? — спросил он без особого интереса.
— По службе, — ответил Лукашин.
В комнату вошел дневальный, доложил, что звонит командир части, спрашивает, прибыл ли инспектирующий. Лукашин вышел к телефону и, когда вернулся, балетмейстер спросил:
— Так вы с инспекцией? — он вынул из портфеля бутылку и поставил на стол. — Посидим?
Вышло так, что до сих пор он был против, но с инспектором может себе позволить.
— Спасибо, завтра трудный день, — отказался Лукашин и стал укладываться.
Он уже лежал, когда сосед выпил стакан и обиженно сказал:
— Я бы тоже мог в Большом театре работать!
Он как-будто жаловался на судьбу, которая уготовила ему странствия в поисках плясунов.
— Выбрали кого-нибудь? — спросил Лукашин.
— Сырой материал. Я с ними еще наплачусь. Не танцуют, а мебель двигают, — он что-то обиженно доказывал, но Лукашину и так было ясно, что с танцами в стратегической авиации обстоит из рук вон плохо, у балетмейстеров имелись все основания для недовольства.
Лукашин проснулся среди ночи. В комнате
горел свет, сосед в одежде спал на кровати и был бледен, точно всю ночь плясал и устал, не хватило сил раздеться; Лукашин погасил свет.
На следующий день он с утра наблюдал учебные полеты, вечером сам должен был лететь с одним из экипажей.
Незадолго до полночи на разведку погоды улетел командир полка, через тридцать минут он сообщил на СКП — стартово-командный пункт, что облачности нет, полная видимость, безветрие.
Вскоре полковник приземлился, Лукашин стал одеваться: белье, теплая куртка из синей водоотталкивающей ткани и такие же брюки, называемые в просторечии колготками, меховые сапоги, шлемофон… Поверх одежды он натянул капку, оранжевый спасательный жилет.
Около двух часов ночи они с командиром полка подъехали к самолету. Экипаж построился и после доклада все заняли свои места, в тускло освещенном носовом фонаре появился штурман-навигатор, в одном из прозрачных выпуклых шарообразных блистеров, выступающих с двух сторон фюзеляжа, маячил КОУ, командир огневых устройств, именуемые обычно просто стрелком, в хвостовом фонаре копошился радист, а в верхнем блистере была видна голова второго штурмана, его чаще называли оператором; лишь майор первый пилот и командир экипажа поджидал Лукашина под самолетом у лесенки, опущенной из люка.
Погода благоприятствовала полету: с востока на запад через все небо широким светлым и туманным полем тянулся Млечный Путь, даже маленькая и бледная звезда Алькор в ковше висящей низко на севере Большой Медведицы была отчетливо видна.
Затененные фонари светлыми многоточиями уходили в темноту по обе стороны взлетной полосы. Командир полка пожал Лукашину руку, сел за руль и покатил в сторону стартово-командного пункта. Лукашин по лесенке забрался в люк и занял кресло второго пилота, который на этот раз не летел.
На плоскостях вспыхнули навигационные огни — справа зеленый, слева красный, на киле белый, самолет по дорожкам вырулил на полосу, они получили разрешение на взлет, и двигатели взревели, набирая обороты.
— Держать газ! — приказал майор, команда относилась к Лукашину, который занимал кресло второго пилота.
— Держу газ, — ответил Лукашин, удерживая левой рукой сектор газа, называемый обычно РУД — регулятор управления двигателями. Он дождался, пока двигатели набрали обороты, и сказал. — Режим взлета.
Самолет тронулся с места, Лукашин следил за скоростью, после ста тридцати километров в час он начал отсчитывать вслух: сто пятьдесят!.. сто восемьдесят!..
Все, кто находился сейчас на командном пункте, видели, как огромная машина, сотрясая землю, с гулом мчится вперед.
— Внимание: двести пятьдесят! — Лукашин сделал паузу и сообщил. Двести девяносто! — он глянул вниз и сказал. — Отрыв.
Самолет быстро набирал высоту.
— Убрать шасси! — приказал майор, и это тоже относилось к Лукашину, обычно шасси убирал второй пилот.
Левой рукой Лукашин нажал и повернул кнопку на пульте в проходе между сиденьями: на приборной доске зажглось табло: «Шасси убраны».
После взлета они выполнили маневр и легли на боевой курс. Лукашин на инспекциях не вмешивался в действия экипажа, но сейчас заметил как бы невзначай:
— Командир, строевые огни…
Майор с досадой в голосе приказал погасить синие строевые огни: полет был одиночным. Лукашин понял состояние майора: начать полет с замечания считалось плохой приметой.
— Ничего, командир, это не замечание, — успокоил его Лукашин. Он и сам не любил зануд, ставящих каждое лыко в строку.
Первые минуты шел обычный радиообмен, в шлемофонах стояла толчея голосов, эфир казался перенаселенным; позже они набрали высоту, после четырех тысяч метров надели кислородные маски, а когда ушли от аэродрома на триста километров, майор доложил на землю:
— Я — полсотни седьмой, на борту порядок. Отход. Прошу конец связи.
Им разрешили, майор поднял руку и нажал кнопку вверху над проходом на пульте радиостанции: с первого канала они перешли на второй, общий.
Сразу стало тихо, в гражданском эфире в этот поздний час царил покой, глухая ночь окутывала небо. Только откуда-то издали тихо, но отчетливо донесся разговор летчиков Аэрофлота:
— Миша, ты куда?
— В Магадан. А ты?
— В Крым.
— Завидую.
— Полетели вместе…
— Я не прочь, пассажиры не пустят.
— В Крыму сейчас благодать, — с усмешкой заметил Лукашин. — Бархатный сезон. Может, махнем?
— В Крыму хорошо, но нам туда не надо, — сдержанно ответил майор, который не знал, как держать себя с этим подполковником: инспекторы попадались разные.
Они летели над океаном. Внизу вели ночной лов сейнеры, шли, посвечивая топовыми огнями, танкеры и сухогрузы, но чем дальше, тем безлюднее становился океан — ночная пустыня без единого огонька.
Еще помнились залитые светом города, бессонные порты, гавани, поселки на островах, но там, внизу, позади — так далеко, что их как бы и не было, лишь воспоминания нетвердо держались в памяти.
Вшестером они летели в ночном небе. Отчетливо горели над ними звезды, до которых, казалось, рукой подать. В полумраке слабо светились приборы, свет навигационных огней с двух сторон проникал в кабину — справа зеленый, слева красный, лица в их освещении выглядели прихотливо и странно.
Они летели сквозь холод и мрак, за бортом внятно помнилась ледяная мглистая пустота. Одинокий самолет в ночном небе был, словно островок жизни, оторвавшийся от земли.
После трех часов полета им предстояла заправка в воздухе, с другого аэродрома, расположенного далеко в стороне, летел заправщик, в назначенном месте они должны были встретиться.
Радиообмен они начали с расстояния в восемьсот километров и время от времени вызывали друг друга на связь. За пять минут до встречи первый штурман доложил майору:
— Командир, подходим к району заправки.
Они зажгли синие строевые огни, экипаж почувствовал безотчетную тревогу, хотя им не раз уже приходилось заправляться в воздухе. Через две минуты доложил второй штурман, следивший за бортовым радаром:
— Командир, они слева. Курс шестьдесят, удаление сорок.
Танкер летел под углом в шестьдесят градусов к их курсу на расстоянии сорока километров, они быстро сближались. Не прошло и минуты, второй штурман доложил снова:
— Слева двадцать, — он переждал вдох и выдох и сообщил: — слева десять.
И почти сразу же раздался голос прапорщика, командира огневых установок:
— Командир, я их вижу!
В сплошной черноте перемигивались два прерывистых красных огня: на глаз не понять было — далеко ли они, близко ли и стоят на месте или движутся.
Вскоре можно было различать навигационные огни, майор вышел на связь:
— Пятьсот тридцатый, я полсотни седьмой, вас вижу. Разрешите подход справа?
— Полсотни седьмой, я пятьсот тридцатый, подход разрешаю, — отозвался командир заправщика.
Оба самолета опустились до установленной высоты в шесть тысяч шестьсот метров и стали сближаться; сейчас их вела аппаратура межсамолетной навигации. На самолетах, кроме проблесковых маяков и навигационных огней, горели синие строевые огни, яркие белые фары освещали пространство между плоскостями; штурман танкера включил дополнительную ручную фару.
— Выпускной шланг! — скомандовал майор пилоту заправщика.
Из правой плоскости танкера выполз шланг, поток воздуха сбивал его в сторону, однако страхующий трос удерживал.
— Шланг выпустил, к работе готов, — сообщил командир заправщика.
— Иду на сцепку, — ответил майор.
Он подвел самолет так, что левое крыло наложилось на шланг, стрелок, наблюдавший из прозрачного блистера, тотчас доложил:
— Командир, крыло на шланге вправо, — прапорщик увидел, как шланг попал в захват, и добавил: — шланг в захвате.
Майор дал команду на танкер, стрелок заправщика стал подтягивать трос.
— Метка пошла, — доложил прапорщик, следя за движением размеченного по метрам шланга; он стал вслух отсчитывать длину. — Пять… три… полтора… один… Контакт!
Сработал автомат, патрубок шланга вошел в горловину бака. Оба самолета шли на автопилотах, по команде майора начали перекачивать горючее.
Они, как альпинисты в связке, шли глухой ночью в небе над океаном: две гигантские машины на огромной скорости летели борт о борт, соединенные шлангом.
Для пилотов заправка в воздухе давно уже стала привычной, хотя для постороннего в этом заключалось нечто странное и непостижимое: две машины вылетали с отстоящих далеко друг от друга аэродромов, встречались через несколько часов в назначенном месте, обозначенном лишь цифрой на карте, соединялись на лету шлангом и летели рядом так, будто ими управлял один человек.
Они шли в сцепке двадцать минут, пока длилась заправка.
— Готово, — сказал Лукашин, потому что за топливной автоматикой обычно следил второй пилот.
Подача топлива прекратилась, они отдали шланг.
— Спасибо за харч, — поблагодарил майор командира заправщика.
— На здоровье, — ответил тот, и самолеты разошлись.
— Спина взмокла, — майор вытер лицо и шею.
— Вернемся, попаримся, — пообещал Лукашин.
— В каком смысле? — заинтересовался майор. — Баню мне устроите?
— Ничего, командир, все нормально, — успокоил его Лукашин.
Спокойно, даже сонливо они летели дальше, время от времени выходили на связь, чтобы доложить земле, что на борту порядок; шел четвертый час полета.
То было странное существование: ровное устойчивое движение, тугой мерный баюкающий гул, слабое фосфоресцирующее свечение приборов, затененная подсветка штурманских столиков, полумрак кабины, отделенной стеклом и металлом от холодной пустоты ночи — куда они летели, зачем?
Ему случалось летать в полнолуние, когда небо было залито лунным светом, свет лежал на облаках, на фюзеляже и плоскостях, и машина несла сияние луны сквозь ночь.
Он летал в кромешной черноте новолуния, когда ночь плотно окутывала машину и землю, и лишь крупные яркие звезды отчетливо висели во мраке над головой.
Лукашин вспомнил о лежащем в кармане кителя рапорте, который остался на базе, и почувствовал сожаление: рано или поздно рапорт придется отдать в штаб.
Когда-то Лукашин летал на перехватчиках — давно, сразу после училища. В те годы он успел пожить в разных местах между заливом Петра Великого и Пенжинской губой.
Он летал над Анадырем, над бухтой Провидения, над островами и далеко над открытым океаном, где встречал американцев, барражирующих вдали от своих баз; их операторы прослушивали все пространство и нередко выходили на чужой частоте в эфир.
«Ваня, как дела?» — обращались они с сильным акцентом. Как правило, им отвечали: «Еще не родила», а некоторые без затей посылали их подальше — так далеко, куда даже на сверхзвуковом истребителе нельзя было долететь.
Ему нравилось летать в стратосфере, где небо даже днем было темным, в стерильной чистоте сияло солнце, под которым плоскости сверкали так, что казалось, будто они горят.
Скорости он не чувствовал. Ему казалось, он висит высоко над огромным глобусом, который медленно вращается, плавно уходили назад знакомые очертания береговой линии, проплывали далеко внизу, и только быстрота, с какой менялись места, говорила о скорости.
Появлялись, исчезали мысы, заливы, острова, между которыми там, внизу были дни пути, — он проходил их в считанные минуты.
Истребитель пронзал пустоту на границе с космосом, темное забрало шлема защищало глаза от слепящего солнца; Лукашин летел один вдали от земли и словно сам по себе, в полном одиночестве, лишь голос в шлемофонах связывал его с землей.
Вся планета, окутанная голубым дымом, проплывала под ним — изгибы материка и океан, гладкая бескрайняя равнина с округлым туманным горизонтом, неоглядно раздвинутым высотой.
Позже врачи запретили ему летать на перехватчиках, пришлось переучиваться на бомбардировщик, и теперь он инспектор, почти пассажир. Но почему же иногда, изредка ему снится один и тот же сон: он летит в стратосфере, и далеко внизу плывет кромка материка, за которой начинается неоглядная светлая равнина — океан?
Лукашин взглянул на майора: тот сосредоточенно сидел в кресле, хотя машина шла на автопилоте и можно было расслабиться.
На вид майору можно было дать лет двадцать восемь, члены экипажа выглядели и того моложе, кроме, разве что прапорщика-стрелка. На земле, особенно в штатском, они и вовсе казались юнцами, и Лукашин завидовал — им еще летать и летать.
Он услышал, как штурман-навигатор доложил майору:
— Командир, через десять минут будем на месте.
Это было то место, ради которого они летели в такую даль. Оно ничем не отличалось от прочих мест в небе над океаном, но для них оно было одно-единственное: они проделали весь путь, чтобы сюда попасть.
Теперь нельзя было мешкать. Мягко открылись створы люка, массивная балка плавно вывела ракету из чрева машины; на пульте зажглась надпись: «Ракета висит».
Они по порядку проверили исправность всех систем ракеты — давление масла, температуру, обороты и прочее — экипаж наперебой докладывал майору, в шлемофонах стоял галдеж, голоса перебивали друг друга, так что казалось, идет общий спор и каждый старается перекричать остальных. Неожиданно установилась тишина.
— Двигатель ракеты на форсаж, — сказал майор как бы без адреса, но Лукашин знал, что команда относится к нему: он сидел в кресле второго пилота.
— Двигатель ракеты на форсаж, — как эхо, повторил он и нажал кнопку на пульте перед собой.
— Стрелку по нулям, — приказал майор, имея в виду ИКО — индикатор кругового обзора.
Штурман еще раз проверил курс, и теперь нужно было установить самолет строго горизонтально.
— Командир, режим, — попросил старший лейтенант, штурман-навигатор.
— Есть режим, — отозвался майор, выровнял самолет и после короткой паузы сказал. — Режим — горизонт.
Автопилот строго следил за курсом, высотой и уровнем, на приборной доске вспыхнуло табло: «Ракета готова».
— Командир, разрешите отцеп, — попросил штурман.
Майор помолчал, будто собирался с духом, и ответил:
— Отцеп разрешаю.
Они почувствовали толчок: освобожденный от груза самолет стал взбухать. Сидящий в прозрачном хвостовом фонаре радист увидел падающую вниз ракету, в темноте ярко пульсировало пламя двигателя. Ракета провалилась на километр-два, потом зависла на мгновение и, набирая скорость, ушла.
Дело было сделано, они легли на обратный курс: оставалось лишь долететь и приземлиться. Они достали пищевые пакеты, которые стрелок получил перед вылетом, и принялись за еду.
Ночь была на исходе. Звезды меркли, небо на востоке стало сереть, бледный холодный свет проступил там из темноты, и самолет уходил на запад, где еще длилась ночь. Они словно торопились — прочь от наступающего дня, но рассвет настигал их: радисту, второму штурману и стрелку, имевшим задний обзор, открылся на востоке ледяной блеск, который рос и разливался над горизонтом.
Лукашин вспомнил о рапорте, который дожидался его на базе. Конечно, Наде здесь невмоготу, да и не к лицу такой женщине жить на краю земли, ему и самому за все годы осточертела глушь.
Ему до одури надоели сырые бараки, общежития, коммуналки, общие кухни, дворовые туалеты, смертная гарнизонная скука, пустые магазины, вечная неустроенность, чемоданы…
Сослуживцы то один, то другой переводились на запад, получали квартиры, а иные ухитрялись попасть в большие города и даже в столицы. Надя права, он отдаст рапорт, вернется и сразу отдаст, начальство знает, поможет. Вот только летать на новом месте не придется, комиссия не пропустит, и никого не уговоришь — отлетался.
Впрочем, город стоит того, большой хороший город, театры, парки, отдельная квартира, устроенная жизнь. И если уж на то пошло, необязательно летать, так даже спокойнее — не служба, мечта.
Лукашин напряженно озирался. Похоже, он в последний раз встречает рассвет над океаном, столько их было, и вот последний.
Позади небо выглядело студеным — бледно-зеленое, похожее на пронизанную солнцем морскую воду, наверху оно становилось зелено-голубым, с высотой голубело, а ближе к зениту набиралось сини, которая чем дальше на запад, тем больше сгущалась и впереди по курсу становилась ночной темью. Туда они летели.
Лукашин подумал, что уедет и никогда больше этого не увидит последний полет, прощание…
Над материком еще прочно держалась ночь, за спиной занимался день. Рассвет на огромном расстоянии с севера на юг вкрадчиво подбирался к кромке материка.
«Что ж, — думал он, — никакой трагедии, рано или поздно все спускаются на землю».
Он сидел в кресле второго пилота, погруженный в раздумья, самолет устойчиво шел на автопилоте, экипаж коротал время.
Впоследствии Лукашину казалось, что он дремал, когда в шлемофонах неожиданно послышался озабоченный голос прапорщика-стрелка:
— Командир, что-то у нас с правым движком!
Все быстро повернули головы: правый двигатель дымился, черный дым таял в бледном размытом свете раннего утра.
Майор и Лукашин тотчас вскинули головы и одновременно глянули вверх: на среднем щитке над проходом, рядом с панелью топливной автоматики находились контрольные лампы пожарной сигнализации. И сразу, на глазах, словно от их взглядов, на силуэтной схеме зажглась лампа.
Горел правый двигатель. Майор действовал быстрее, чем Лукашин успел подумать:
— РУД на стоп! — скомандовал командир экипажа, и Лукашин левой рукой быстро отвел сектор газа до упора назад, отключив правый двигатель. Обесточить сеть!
Едва они вырубили ток, сработал пожарный автомат, выбросивший в горящий двигатель пену из трех баллонов.
Лукашин и первый пилот напряженно смотрели на сигнальную лампу, никто из экипажа не проронил ни слова. Контрольная лампа продолжала гореть.
Они еще не верили до конца в то, что произошло: обычный учебный полет внезапно превратился в смертельную опасность. К этому трудно было привыкнуть, в голове не укладывалось.
Быстро, без раздумий они сделали то, что полагалось, но сами еще не верили, что это всерьез: слишком неожиданно все случилось.
Да, в глубине души каждый из них не верил, что это всерьез, хотя надеяться, что как-нибудь обойдется, было нельзя: они летели на горящей цистерне с горючим. И все же они надеялись — все вместе и каждый порознь.
Внешне майор выглядел спокойным. Он посматривал то на секундомер, то на сигнальную лампу: вторую очередь противопожарной системы нужно было включать вручную через двадцать пять секунд после первой, и майор следил, чтобы не прозевать. Наконец, правой рукой он быстро нажал кнопку на панели в проходе между сиденьями: в двигатель пошла пена из оставшихся трех баллонов.
Экипаж терпеливо ждал, пока пена окажет действие, но пожар продолжался, контрольная лампа по-прежнему горела.
— Сигнал бедствия, — напомнил Лукашин первому пилоту.
— Знаю, — неохотно ответил майор: всем казалось, пока сигнал бедствия не подан, еще есть надежда.
Майор ждал, не двигался, было похоже, он забыл, что делать, и мучительно пытается вспомнить; наконец, он резко, с досадой подбросил указательным пальцем тумблер на щитке системы опознавания, расположенном слева от него на борту: теперь на экранах локаторов, просматривающих небо, рядом с меткой от самолета должна была появиться вторая метка, означающая, что самолет терпит бедствие.
— Командир, надо прыгать, — сказал Лукашин.
Майор и сам знал, но, как все в экипаже, не верил, что это окончательно и бесповоротно. В каждом из них теплилась надежда, каждый не верил, что нужно бросить машину; казалось, стоит повременить, и все образуется. И в то же время они знали, что медлить нельзя.
— Экипажу приготовиться покинуть самолет, — приказал майор.
Считанные секунды их одолевали сомнения. Каждый отчетливо ощутил холод и пустоту за бортом, ледяной обжигающий поток воздуха — сейчас им надо было оставить кабину, ее спасительное тепло и защиту, но уже в следующее мгновение, повинуясь приказу, они плотно застегнули шлемофоны и привязные ремни, поставили ноги на педали сидений и сняли предохранительные чехлы с рычагов катапультирования.
— Экипажу покинуть самолет! — приказал майор.
Они рванули скобы — распахнулись аварийные люки: первый штурман, стрелок и радист провалились вниз, второго штурмана заряд вместе с сидением выстрелил вверх.
Из штурманского фонаря сквозь образовавшееся отверстие в пилотскую кабину с силой ударил поток холодного воздуха.
— Давай, майор, — сказал Лукашин.
— Почему я? — спросил пилот.
— То есть, как? — не понял Лукашин.
— Я — командир экипажа. Прыгаю последним.
— Ну давай поговорим о субординации. Самое время.
— Вы должны прыгать…
— Имей в виду: ящик пишет, — напомнил Лукашин.
Связь между членами экипажа осуществляло СПУ, самолетное переговорное устройство, канал первого пилота находился под неусыпным присмотром бортового магнитофона, который записывал все разговоры. Он помещался в хвосте, куда перед вылетом ставили САРП, самолетный автоматический регистрирующий прибор, именуемый в обиходе «черным ящиком».
САРП фиксировал режим полета и располагался в бронированном сейфе, которые должен был уцелеть в любых переделках — при пожаре, взрыве, падении и даже на дне моря, откуда он мог подавать радиосигналы.
— Я — инспектор, старший в полете. И по званию, — Лукашин поверх маски глянул пилоту в глаза. — Выполняйте приказ!
— Есть, — нехотя ответил пилот.
Он со злостью откатился на сидении назад, поднял колени, левую руку согнул и прижал к телу, правой взялся за скобу.
Несколько секунд он не двигался, словно раздумывал, стоит ли прыгать, потом резко рванул скобу: Лукашин услышал выстрел, и майор улетел вверх.
Дико завыл и ударил сразу со всех сторон ветер; тугой поток воздуха бился в тесноте кабины, трепал провода, ремни, тесемки, бешено кидался на стенки и рвал все, что можно было сорвать.
«Пора», — подумал Лукашин. Он застегнул потуже ремешок шлемофона, снял ноги с педалей и вместе с сидением отъехал назад, потом снял чехол со скобы и сел поудобнее в исходное положение.
Одно движение, выстрел и ты, уповая на судьбу, — что еще остается летишь прочь; приятного мало, если учесть скорость, высоту и океан внизу ледяная вода, ни дна, ни берегов.
Вылетаешь перед неумолимо надвигающимся килем, который с крейсерской скоростью режет пространство, опережаешь его на мгновение — он проходит под тобой, как гигантский нож.
А потом долго спускаешься, поглядывая вниз, как бы выбирая место попригляднее, хотя что выбирать? — внизу вода без конца и без края. И надо еще надуть из баллончика резиновую лодку, и спасибо, если повезет с погодой, а заштормит, каково тогда?
Времени на раздумья не осталось, в любое мгновение самолет мог взорваться, но Лукашин медлил, ему казалось, он не все сделал.
Взгляд машинально скользнул вверх, Лукашин не поверил глазам: сигнальная лампа погасла.
Это было неправдоподобно, но она погасла. У него даже мелькнула мысль, что она и раньше не горела, всем лишь показалось; от такой мысли можно было свихнуться.
На вид двигатель выглядел сейчас вполне невинно — ни дыма, ни огня. Он мог даже сойти за исправный, жаль только, запустить нельзя: после пожара запускать двигатель запрещалось.
Можно было лишь гадать, почему угас пожар: сбил ли его встречный поток воздуха или запоздало подействовала пена, впрочем, сейчас это значения не имело.
До аэродрома оставался час полета. Лукашин подумал, что можно дотянуть — с риском, но можно. По крайней мере, стоит попытаться. Вместе с сидением он проехал вперед, сунул ноги в ремни на педалях.
Он летел один. Связь не работала, генератор они отключили в начале пожара, аварийное питание радиостанции включалось с места первого пилота.
Особенно донимал ветер. Встречный поток со свистом врывался спереди и снизу, из штурманского фонаря, где в полу зиял аварийный люк, и сверху, куда катапульта выстрелила первого пилота; в кабине царил ледяной холод, Лукашин почувствовал, как окоченел.
Он летел один в растерзанной кабине без связи с землей, один в сумеречном рассветном небе, он вообще был один на свете, скованный мучительным холодом; ветер пронизывал его тело насквозь.
Бесчувственными руками Лукашин сжимал штурвал, время от времени бросал исподлобья подозрительный взгляд наверх: сигнальная лампа пока не загоралась.
Она могла вспыхнуть в любой момент, и тогда в лучшем случае он успеет лишь прыгнуть. Но может и не успеть: вспышка, и только рваные куски металла разлетаются во все стороны, а потом долго и беспорядочно сыплются к далекой воде.
Он подумал, ему и без пожара долго не протянуть, окоченеет на ветру, а если долетит, не сможет посадить.
Пространство постепенно наполнялось светом. Блекли и таяли звезды, внизу разрастался холодный серый блеск, в котором угадывалась вода.
Вскоре стало светло, горизонт раздвинулся, открылась даль, и стал явным океанский простор. И там, вдали, на краю окоема, Лукашин увидел прерывистую и как бы повисшую в воздухе темную полосу: то был высокий, поднимающийся над водой скалистый берег материка.
Лукашин вспомнил, что впереди, чуть в стороне от курса есть маленький гражданский аэродром, грунтовая площадка среди гор, окруженная лесом. Аэрофлот имел там по расписанию два рейса в неделю, десятиместный биплан прилетал из районного центра, и начальник порта каждый раз гонял по летному полю стадо коз и стаю собак.
Нечего было и думать садиться там на тяжелой машине, в то же время он знал, что может не долететь.
Его одолевали сомнения. Он напряженно размышлял, то ли садиться, то ли тянуть дальше, площадка была слишком мала, не хватит даже на часть пробега, но продолжать полет было слишком рискованно.
Пока он раздумывал, берег рос над водой, надвигался, самолет быстро съедал остающееся пространство.
Лукашин начал снижение. За спиной на востоке всходило солнце, лучи его окрасили висящее впереди облако; вздрагивая всем корпусом, самолет стремительно проходил облака, прошивал насквозь, словно нанизывал одно за другим.
Он пробил последнее облако, побережье открылось, и хотя он ожидал, это случилось внезапно, берег возник вдруг, освещенный солнцем и покрытый тенями облаков: заросшие лесом склоны, распадки, высокие прибрежные скалы, округлые вершины сопок — горная страна, обрывающаяся в океан; хребты тянулись из глубины суши и с большой высоты отвесно рушились в воду.
Лукашин снизился над долиной и принялся искать площадку. Он увидел ее далеко внизу, маленький пятачок на дне распадка, с таким же успехом можно было садиться на футбольное поле.
Он продолжал снижаться, заложил вираж и с высоты четырехсот метров стал заходить на посадку. После маневра, когда самолет вышел на посадочную прямую, Лукашин нажал и повернул кнопку на пульте в проходе между сиденьями; он почувствовал толчок, вышли шасси.
Лукашин понимал, что без аварии не обойдется, и сбросил в воздухе горючее, чтобы самолет не вспыхнул после удара. Потом он выпустил закрылки на двадцать градусов, и когда скорость упала до трехсот сорока километров, выпустил их полностью. За пятьсот метров до поля он стал выбирать точку выравнивания и увидел, что мешает лес: садиться приходилось с перелетом.
Тем временем ясный день входил в силу, затоплял мир светом и разгорался в небе и на земле. День был так погож и чист, что казалось, нигде нет печалей, темных мыслей, бед и горестей — нигде, ни у кого.
Вершины деревьев уже почти касались фюзеляжа, близился обрез леса. Площадка была так мала, что садиться следовало не мягко, с подлета, а сразу, едва кончится лес, и как можно резче — грубым ударом, чтобы выгадать хоть несколько метров пробега.
Перед последними деревьями он выравнял самолет на три точки и убрал РУД — регулятор управления двигателями — на стоп. Самолет быстро проваливался, терял высоту, но и поле неслось навстречу, впереди его оставалось все меньше, почти ничего.
Самолет ударился колесами о землю, в ту же секунду Лукашин левой рукой резко рванул красные спаренные рычажки аварийного торможения, а правой нажал расположенную на борту возле форточки кнопку тормозного парашюта.
Он почувствовал сильный рывок, тряску и лихорадочно подумал: «Сел». Схваченные намертво тормозами колеса рвали грунт, зарывались вглубь, от нагрузки покрышки, должно быть, лопнули и висели лохмотьями. Неподвижные колеса, как тупые лемехи, вспахивали землю, оставляя широкие извилистые борозды.
Машину несло вперед, где на краю поля стояли какие-то постройки, то ли склады, то ли сараи, он пытался отвернуть в сторону, но машина не слушалась, и тогда он в безнадежной изнурительной борьбе с ней издал короткий надсадный стон и с мучительной от дикой тряски гримасой судорожно нажал слева в проходе кнопку, убирая шасси.
Самолет с силой ударился днищем о землю, похожий на крупное животное, подстреленное на бегу, — подломились ноги, он упал и, уже обезноженный, продолжал, содрогаясь, яростно биться о землю и рваться вперед, как бы в неукротимом желании доползти до какой-то обозначенной перед ним черты.
Над полем висела тишина. Самолет лежал на земле, как огромная выброшенная на берег рыба. Было пустынно, ни один звук не нарушал покоя, только струйки мягких кедровых иголок после удара с легким шелестом текли с веток на землю.
Лукашин обессиленно сидел, истерзанный ремнями безопасности, одежда висела клочьями, тело болело так, будто его долго и старательно били, из носа сочилась кровь, и не было сил пошевелиться.
Он неподвижно сидел, прикованный ремнями к сиденью, у него даже не было сил отстегнуть их; он ни о чем не думал, придавленный смертельной усталостью, в то же время он испытывал облегчение и сонливый покой.
Над полем разгорался чистый просторный день — над окрестным лесом, над широким распадком, над вершинами сопок, ясный, безмятежный, солнечный день.
К полудню за ним прилетел вертолет. Ему сказали, что в море всех подобрали, весь экипаж, все живы, обошлось. Лукашин вспомнил о рапорте и решил, что завтра отдаст.
Вечером он сидел за столом, и при свете лампы осторожно брал пинцетом спичечные этикетки и разглядывал сквозь лупу.
— Ты отдал рапорт? — неожиданно спросила Надя.
Лукашин ждал и боялся этого вопроса. Он качнул головой, испытывая гнетущее чувство вины, — нет, мол, не отдал.
— Почему?
— Я отдам, — торопливо пообещал он и помолчал, собираясь духом. — Я хотел еще раз слетать.
— Как? — не поняла она и смотрела на него с недоумением, ждала объяснений.
— Надя, это в последний раз. Вернусь, отдам рапорт.
На другой день, когда Лукашин пришел домой, Надю он не застал. Он тотчас все понял и второпях выбежал из дома.
Выбраться из поселка можно было двумя способами: морем и по воздуху. Через перевал к океану вела ухабистая дорога — сто километров гор и тайги, в конце деревянный причал, куда изредка подходили каботажные суда. А за околицей поселка лежал маленький аэродром, грунтовая площадка в лесу, вроде той, на которую он вчера посадил самолет.
Задыхаясь, Лукашин бежал со всех ног в страхе опоздать. Десятиместный самолет стоял на поле, рядом с ним урчал бензозаправщик, пассажиры в ожидании толпились у кромки поля.
Лукашин подбежал к жене, струйки пота стекали по его запорошенному пылью лицу.
— Надя!.. — Лукашин хотел сказать, чтобы она не уезжала, что он отдаст рапорт и сделает, как она скажет, но умолк и лишь утирался ладонью, размазывая по лицу грязь.
Жена казалась спокойной, только побледнела немного, он молча смотрел на нее, изнывая от любви.
— Я достаточно ждала, — объявила она ровным холодным голосом.
— Я все сделаю! — торопливо произнес он. — Завтра я отдам рапорт.
— Ты уже обещал, — она взяла чемодан и добавила тем же рассудительным тоном. — Я буду ждать тебя у родителей.
Бензозаправщик развернулся и покатил на другой конец поля. Пассажиры один за другим потянулись к самолету.
Лукашин неподвижно стоял, не веря, что она улетит. Он стоял, пока Надя шла к самолету, пока длилась посадка, пока самолет выруливал, чтобы начать разбег, стоял, когда самолет взлетел и, сделав круг, лег на курс, и позже, когда рокот мотора, угасая, катился по склонам окрестных гор.
Вскоре стало пустынно и тихо. Лукашин медленно побрел назад. Он вернулся домой, лег и не двигался, обессиленный и разбитый. Даже о спичечных этикетках не вспомнил, они дожидались его на столе.
И вот полгода уже он живет один. Каждую свободную минуту он думает о жене, она снится ему по ночам, но рапорт он до сих пор не отдал.
Рапорт лежит у него в кармане, что ни день Лукашин решает зайти в канцелярию и отдать, но, решив, раздумывает и откладывает до следующего полета.
Из последнего письма Лукашин узнал, что Надя подала на развод. На улице лежит снег, стойкая незыблемая тишина окутывает сопки, тайгу и дома, снег внятно скрипит в тишине под ногами.
Лукашин приходит домой, в свою голую казенную комнату, садится, не раздеваясь, и сидит в оцепененье, погруженный в раздумья. Позже он вспоминает, что вечером у него вылет, раздевается и ложится. Лететь предстоит в ночь, надо было выспаться.
Николай Александров
ДЖИХАД НА ЭКСПОРТ

1
— Заруба, стой! Да подожди же ты, черт!.. Николай, остановись!
Зеленый, с желтыми зубчатыми пятнами костюм и грохающие по ступеням давно не знавшие гуталина ботинки мелькнули и понеслись по лестничным пролетам. Майор с синими чекистскими погонами безуспешно пытался догнать контрразведчика.
— Заруба! — крикнул он истошно куда-то вверх. — Буду жаловаться председателю…
Топот прекратился, и через перила на майора уставилась раскрасневшаяся физиономия с пронзительно голубыми глазами.
— Ну, жалуйся! — С перил будто бы обессиленно скользнул кулак Зарубы размером с добрую брюкву. — Чего тебе?
— В среду играем с милицией. Ты не забыл? Другого хавбека на твое место нет — учти!
— Ага. — И тотчас топот запыленных, на толстой подошве ботинок раздался пролетом выше.
В кабинет Плетнева он не вошел, а влетел. С размаху плюхнулся на стул и, торопясь и сбиваясь, заговорил. Слова прорывались сквозь учащенное дыхание, басовитые, емкие, весомые.
— «Локатор», Михалыч, заговорил… Три недели молчал, а поди ж ты…
Плетнев теребил тонкими пальцами узел галстука — будь он в цивильном или в отлично пошитой подполковничьей форме, галстук мешал ему всегда.
— «Локатор», говоришь? Ты был у скалы?
Подобного вопроса Зарубе можно было и не задавать — всякую свободную и несвободную минуту он старался оказаться у этой скалы, будто специально обращенной гладкой параболической стороной в запредельную сторону. Река, по которой проходит граница, к весне становится широкой от горной ледниковой воды, и перекричать ее трудно, а тут будто специально придуманная для общения через границу скала-«локатор», доставляющая пограничникам массу забот.
— Случайно… Из погранотряда ехал, ну и…
— Кто? Бобо? Опять старый Хасан суру пел?
— Суру? Не похоже… Вот послушайте… — Заруба выдернул из кармана небольшой магнитофон, похожий на те, что журналисты суют под нос интервьюируемым, и щелкнул крохотной, почти невидимой кнопочкой — Плетнев склонил голову, поглядывая на медленно вращающийся валик кассеты.
Из динамика послышался сперва птичий гомон, потом ухо различило мерный рокот воды, перекатывающей гальку, и лишь потом заунывные, тягучие звуки старческого голоса, ведущего таджикскую мелодию. Пел старик здорово, то поднимаясь до высоких нот, то переходя на низкие.
— Так… так… — приговаривал отлично владеющий всеми местными диалектами Плетнев. — Приветы передает… Какому-то Халилу, Расиму, Давлатмаду.
— Кто такие? Не знаю… Не из проводников ли случайно?
— Вряд ли. Наверное, мойщики золота. Знакомые. Сегодня, кстати, опять на Пяндж выходили. Тянет их, понимаешь, на нашу сторону…
— А еще чего вещает? — спросил Заруба.
— Говорит: спасибо за посылку… материал хороший, но, кроме зеленых отрезов, надо бы прислать и красного… Книжек осталось всего семь штук… На русском кораны просит больше не присылать — идут плохо, а на таджикском еще штук двадцать…
Мелодия неожиданно кончилась, и свист птиц превратился в пронзительный клекот.
— Михалыч, слушай! Сейчас с той стороны запоют… Слышно, правда, похуже — у них там скала чуток вбок направлена. Вот, сволочи, чего придумали! Телефон воздушный, дрена вошь! Во! Начинает!
Из динамика понеслась ослабленная расстоянием, но все же различимая без труда мелодия. С того, закордонного берега вещал молодой веселый голос.
— Чего он поет, душман-то? — не вытерпел Заруба.
— Тихо! — грозно замахнулся на него Плетнев и приложил палец к губам. — Цыц!
Плетнев еще ниже склонился к динамику, и пальцы его застыли возле узелка галстука.
— Прокрути еще разок! Вот с этого места…
Заруба послушно пощелкал кнопочками и долго вглядывался в лицо начальника.
— Поздравляю, товарищ майор! — без тени улыбки произнес Плетнев и удовлетворенно припечатал широкую ладонь к полированной столешнице. — Веселенькая будет ночка!
— Что такое?
— Если этот душман не врет, сегодня переход… Говорит, и кораны будут, и тряпье.
— Кто, интересно? Знакомый, нет?
— Еще как знакомый — Рустямов… Помнишь? Ну не красней, не красней… Не твоя вина, что тогда упустили, — ты ж первую неделю как прибыл… Стало быть, повар решил возвращаться! Хорошо… Сколько он там пробыл?
— По нашим сведениям, в Афгане две недели, пока караван собрали, да в Пакистане почти полгода. Сперва — Толукан, потом — Пешавар.
— Да-да, — неопределенно заметил Плетнев, задумчиво глядя в окно. — Толукан и Пешавар… Думаешь, случайно? Черта с два! И там и там резиденции Башира. «Инженер» не только, выходит, оппозицию сколачивает, но еще и против нас решил работать. Готовили они его, что ль? Как думаешь?
Заруба принялся скрести ногтем плохо выбритую щеку.
— За полгода хорошо не подготовишь. Разве экстерн какой придумали…
— Ладно, — подвел итог разговору Плетнев, — поднимай всех на ноги… Башир человечек не простой — почитай, вторая фигура в исламской партии, заместитель самого Хекматиара. Не шиш с редькой! А с магнитофоном-то ты молодец. Ничего не скажешь! Где они пойдут, как думаешь?
— А тут и думать нечего — одна у них дорога… «Салям алейкум» прямиком к дому Хасана идет.
— Да, это ущелье, пожалуй, самое удобное — что камней, что изгибов вдосталь. Значит, так — контролировать каждый чих. От самой границы до кишлака. Делимся на две группы: часть, которая пойдет с тобой — я думаю, восьми ребят хватит? — в кишлак. Я же… — Плетнев сделал многозначительную паузу, которую Заруба не решился нарушить. — Нет, неправильно: тебе все вместе с группой захвата, а трое со мной к ущелью. Связь на восьмом канале. — Подполковник сбросил на спинку стула щегольской темно-синий пиджак и, раскрыв шкаф, начал облачаться в выгоревшую пятнистую, как и у майора, пограничную форму.
2
Ветер теребил неприбитый лист железа на крыше, и в прореху заглядывала какая-то необычайно яркая на южном небосклоне звезда. В плечо Зарубы ткнулось что-то теплое и шершавое и принялось теребить плотный ремень бронежилета. Он протянул руку и отвел в сторону пахнущую молоком и навозом голову теленка. Животное боднуло непокорно воздух и снова ткнулось мордой в плечо.
— Молчат? — шепотом спросил сидевший на ящике Кривцов.
Заруба посмотрел на висевшую на ржавом гвозде рацию, угадываемую лишь по рубиново тлеющему индикатору, и промолчал. Кривцову не сиделось, он все время возился, ворочался, стараясь удобнее устроиться. Конечно, телятник, место для наблюдения за домом Хасана не самое лучшее, но другого все равно нет: кишлак маленький, и каждый человек на виду. Тут, по крайней мере, тепло. Не то что у Плетнева, сидящего сейчас на макушке горы со своими ребятами и визуально «ведущего» по прибору ночного видения «ходоков». «Ветерок у них там, наверное, будь здоров, — поморщился Заруба. — Ничего, сидят не жалуются…» Минут сорок уже прошло с последнего сообщения — граница пересечена, трое мужчин, один «Калашников», движутся по запланированному коридору, ожидаемое время появления из «Салям алейкума» — час-полтора.
— Не расслабляться, ребята, — шепотом передал по цепочке Заруба примостившимся кто как мог ребятам из группы захвата. — Проверить предохранители автоматов.
— Предохранители… нители… тели… — понеслось по цепочке.
Лейтенант Кривцов не утерпел, поднялся с ящика и прижался лбом к щели — через улицу горели в ночи окна хижины Хасана.
— Ждет, — вполголоса выдохнул Кривцов и тяжело вздохнув, опустился на ящик. — Эх, житуха… Сейчас бы под теплый бочок, да на минуточек шестьсот… Никола, слышь, а чего этот Рустямов за кордон махнул?
— Сдуру, — огрызнулся Заруба. — Вроде тебя был.
— Молодой, что ли? — не обиделся лейтенант и посмотрел на Зарубу с уважением: о нем, несмотря на сравнительно небольшой срок службы в этих местах, уже ходили легенды — шутка ли, семерых духов «сделал» лично и трех с его подачи задержали другие.
— Сорок два ему. Поваром в Душанбе работал. Слыхал про «альчики»? Нет? Азартная игра такая. Двадцать тысяч продул и рванул через границу, только мы его и видели. А ты почему не знаешь? Ты же тогда был здесь, это у меня первая неделя была…
— В отпуск к матери ездил.
— А… Там он сразу попал в оборот, его сам Башир заприметил и переправил в Пакистан. В школу вроде… Ей Мирахмат заведует — его заместитель. Искусник, черт его дери. Разведкой у них занимается, с какими-то европейцами якшается. Вот они нашего повара там, и обрабатывали с этими самыми Смитами и Джонами.
— А теперь, выходит, заброска?
— Типун тебе на язык. Если так, то он вооружен, а у тебя, у меня и у всех ребят по одной головушке. Стучи, стучи по дереву!
На бревенчатой стене, обмазанной глиной, что-то тихонько пискнуло, как мышь, и замигал красный индикатор. Заруба нашарил в темноте наушник и прижался к нему.
— Второй, приготовиться: они на подходе. Очень насторожены, часто оглядываются. Впереди с автоматом. Повар посередке. Осталось метров шестьсот. Как понял?
— Порядок, — прошептал Заруба и, снова отстранив тянущегося к нему теленка, встал с корточек. — Подъем! Тихо, без шума! За один лишний звук убью.
То тут, то там из темноты начали появляться, словно
грибы, сферические шлемы. Совершенно беззвучно офицеры вытянулись в цепочку возле дверей телятника. Заруба приник к щели. Улица по-прежнему была пустынна и тиха. За высоким дувалом, как и раньше, светились окна хижины Хасана. Заруба уж решил отойти от щели и проверить еще раз экипировку группы, но тут послышался скрип, дверь дома приоткрылась, и на крыльце появился сам старик. Он подслеповато приложил к глазам руку и долго всматривался в темноту. Где-то взбрехнула собака, за ней другая, и тотчас кишлак заполнился многоголосым лаем. Хасан одернул полосатый халат и медленно сошел со ступенек. Через секунду-другую ворота в заборе отворились, и старик нетвердой походкой прошел на улицу. Посмотрев сначала направо, он медленно повернулся всем корпусом в другую сторону и вперился взглядом в направлении гор. Замерев, он долго слушал ночную тишину, разрываемую последними взбрехиваниями успокаивающихся собак.
— Должны бы уж появиться, — жарко зашептал на ухо Зарубе Кривцов.
— М-м-м-м… — промычал тот в ответ, не спуская взгляда с ворот.
Ни Заруба, ни сопящий рядом Кривцов не успели заметить, как, словно из придорожной пыли, едва освещаемой тусклым фонарем, возникло трое людей. Двое в каких-то странноватых одеяниях, с тюрбанами на головах, в долгополых рубахах навыпуск поверх широких коротких штанов, заправленных в резиновые сапоги. У того, кто стоял ближе к Хасану, за плечом угадывался обернутый, дулом к земле автомат. Старик торопливо закланялся, что-то едва слышно забормотал и, прикладывая руки к груди, толкнул задом ворота. Двое афганцев, а за ними и высокий черноволосый мужчина в спортивном костюме с «дипломатом» в руках растаяли в темноте двора.
В глубине телятника звонко брякнуло железо по железу.
— Тихо, черти! — выкатил грозно глаза Заруба.
— Это не мы, товарищ майор, — зашептал кто-то в темноте. — Теля цепью по ведерку…
— Подержать не можете? — не сумел сразу погасить раздражение Заруба. — Тихо! — Он снова приник глазом к щели.
Один за другим в хижину Хасана прошли афганцы, затем не спеша тот черноволосый в спортивном костюме с чемоданчиком, а сам Хасан долго стоял на крыльце, придирчиво изучая тишину и мрак ночи. Приоткрыв дверь внутрь, он что-то гортанно крикнул на таджикском, и через некоторое время на крыльце появилось некое странное существо, все закутанное в разноцветные, поблескивающие в свете фонаря одеяния.
— Кажись, баба, — тягуче удивился Кривцов.
— Не возьму в толк, зачем ему понадобилось выставлять на улицу свою ханум? Мешает разговору или рассмотрению даров, а?
— Черт их разберет…
— А может, и за улицей поглядывать — вот невезуха…
— А собака-то у него есть?
— Днем бегала. Визгливая, сволочь! — Заруба протянул руку и наугад повел по стене, нащупывая рацию. Щелкнув клавишей, он вполголоса произнес: — Я — второй! Гости дома. Замыкаем кольцо вокруг Джалки. Повторяю: кольцо! Как поняли?
Сквозь шорох эфира донесся ослабленный расстоянием голос пограничного офицера, докладывающего о том, что команда принята.
Заруба на мгновение представил себе, как вокруг кишлака тихо поднимаются с земли, выкарабкиваются из-за камней, вылезают из кустов ребята из пограничного отряда и медленно начинают сжимать оцепление.
— Патрон в патронник! — почти не таясь, скомандовал Заруба. — По одному к дувалу. Да маскируясь, пригибаясь, бегите. Марш!
Заруба, согнувшись в поясе, придерживая бьющий по бедру автомат, первым ринулся через улицу. За ним, вытянувшись цепочкой, устремились остальные. Один за другим они беззвучно исчезали в узкой полоске густой, как чернила, тени. Заруба, провожая легким шлепком ладони по спинам, подталкивал офицеров — те прыжком вскидывались на почти двухметровую глиняную сыплющуюся стену и, взмахнув в воздухе ногами, переваливались во двор старого Хасана.
— Первый, второй, третий… — За стеной охнула старушка и, тихонько причитая, осела на землю, увидев похожих на шайтанов, в арбузообразных огромных шлемах людей, перескакивающих дувал. — Четвертый… пятый…
С пятым вышла неувязка. Грузный, неуклюжий Талыбов завис над дувалом — лежа животом на стене, он замер в равновесии, не в состоянии ни упасть вовнутрь, ни вывалиться обратно наружу. Тяжелый бронежилет, надетый поверх куртки, делал его еще более неловким. Точный пинок Зарубы помог ему свалиться туда, куда было надо. Рывок, подтягивание — и наконец сам Заруба, запачкав штаны побелкой, спрыгнул на какую-то грядку.
— Что с бабкой? — сразу же спросил он.
— Норма. Как увидела — зажала от испуга рот ладонью и молчок… Тут псина какая-то еще крутилась, как бы не затявкала.
— Где она? — озираясь, покрутил головой Заруба.
— Вон под ящиком сидит. Ловкая стерва! Ишь глазищами водит!
— Я ей повожу — пусть только пискнет! Все к дому! Двое к двери, по трое к окнам. Оружие наизготовку. Ждать команды.
Пробравшись через кусты, Заруба осторожно приблизился к небольшому окну в толстой стене хижины. Гости сидели за столом и с наслаждением тянули зеленый чай из пиал. Хасан начал «прилаживать на полу коврик — дело шло к утру, наступало время намаза.
— Где «спортсмен»? — зашептал на ухо вездесущий Кривцов. Ничто, наверное, в жизни не могло убить в нем любопытства и любовь задавать всякие относящиеся и не относящиеся к делу вопросы.
Сейчас, при свете люстры, «спортсмена», как окрестил его Кривцов, было видно преотлично. Это на самом деле, как и ожидалось, был Рустямов. Заруба впервые видел его «живьем». На фотографиях, которые были сделаны перебежчиком за месяц до перехода для какой-то своей надобности, он выглядел куда хуже. Тогда он отличался поразительной худобой, и лишь глаза в глубоких провалах глазниц сверкали сквозь глянец фотоснимка пронзительными буравчиками. Теперь он казался вполне респектабельным — пополнел, отрастил густые пышные усы, волнами курчавилась шевелюра.
— Ишь, разъелся на пакистанских харчах, — съязвил Заруба и тотчас засвистел, задрав голову к небу, утренней радостной пичугой. С той стороны дома и от двери ответили.
Набычившись, Заруба отошел на шаг в сторону и головой вперед, ломая шлемом стекло, стреляя холостыми в потолок, с треском и грохотом ввалился в комнату. Звучно ударила встречная автоматная очередь с противоположной стороны комнаты, но это стрелял не афганец, рывком бросившийся из зоны поражения под окно, забыв на столе свой автомат, а кто-то из своих. Приглядываться к его лицу и опознавать было некогда, да и трудно: по лицу потоком текла кровь, видимо, ребята порезались о стекло. Треск сломанной и сорванной с петель двери довершил картину полного разгрома.
— Свой я, свой, граждане… Я советский! — Скорчившийся на полу старый Хасан истошно вопил, высоко задрав к потолку зад и обхватив руками голову.
Заруба ринулся к седобородому афганцу и, отбросив в сторону автомат, к которому тот тянулся, со всей силы впечатал сверху вниз кулаки в его спину — афганец, охнув, повалился навзничь. Перевернув его на живот, сведя за спиной руки, Заруба рванул на нем одежду. Хватило единого взмаха, чтобы с медвежьей яростью разорвать грязноватую кацавейку, долгополую рубаху и майку — одежда чулком завернулась вокруг торса мужчины, надежно спеленав его руки, обнажив худую, с выпирающими лопатками спину.
У другого окна втроем пеленали молодого «ходока». И только Рустямова все происходящее, похоже, никаким образом не касалось — он только немного отошел в сторону и стоял почти спокойно, прижавшись к беленной известью стене.
Заруба жестом подозвал Кривцова и приказал обшарить карманы обмякшего проводника. То, что афганцы лишь проводники, а главная фигура — повар, не вызывало никакого сомнения. Видимо, он действительно был важной птицей в расчетах Башира, раз ему дали сразу двоих.
— Где «дипломат»? — крикнул через комнату Заруба. Рустямов, по-прежнему прижавшийся спиной к стене, не проявлял признаков беспокойства. — Где атташе-кейс?
— Под курапчей, — указал тот на, громоздящиеся от пола до потолка атласные, сложенные одно на другое одеяла, покрывала, подушки и матрасы. — Кажется, где-то примерно посередине лежит.
Заруба повернулся к стене, на которую указал Рустямов, и тотчас за его спиной раздался грохот опрокидываемого шкафа, в воздух взвилась пыль пересохшей глины и побелки, зазвенела бьющаяся посуда и хрусталь. Там, где только что преспокойно стоял Рустямов, за оседающей пылью образовался пролом в непрочной стене хижины.
«Странно, — подумал Заруба, — обычно таджики делают стены своих домов куда прочнее… Разве что специально? Вот сволочь!» — К кому относилось последнее, Заруба и сам не знал. Он единым прыжком преодолел провал и вывалился на улицу, успев крикнуть ребятам из группы лишь одно слово: «Держать!» В подобном предупреждении, правда, не было абсолютно никакого смысла: проводники, обмотанные обрывками собственной одежды, с «браслетками» на запястьях, уже никуда не могли деться. Сам же владелец конспиративки, как и раньше, лежал на коврике, изредка поглядывая из-под пальцев на происходящее в комнате.
«Оцепление! — пронеслась в голове Зарубы мысль. — Ребята не предупреждены… Может натворить дел! Эх, рацию бы сейчас…» Но она осталась где-то там, в саду, подвешенная к высохшему сучку дерева.
Проломленная Рустямовым стена выходила не в сад, а на улицу. Этого, конечно, никто предусмотреть не мог. Кому могло прийти в голову, что стена не прочная, а, словно в китайской фанзе, почти бумажная.
«Куда он мог деться? — решал Заруба, кидая взгляды то влево — там простирался длинный проулок без малейших признаков присутствия живого, то вправо, где затоптанный проселок через какую-нибудь сотню метров упирался в полувысохшее русло горной речушки. — Не мог же он с ходу махнуть через забор чужой усадьбы?» На побеленной стене соседнего дувала не было ни следов обуви, ни царапины, ни соскоба.
С реки послышался всплеск. Тотчас откликнулась на звук собака, завыв, залаяв, запричитав в ночи от страха и тревоги. Заруба вприпрыжку понесся в ту сторону, ему показалось, что сквозь шум потоков воды, перекатывающих по руслу белую гальку, до него долетел еще один всплеск. Так оно и есть. За рекой маячила знакомая спина, обтянутая спортивной джинсовкой.
«Ерунда! Господи, какая ерунда! — думал на бегу Заруба, бросаясь в доходящую до колен холодную воду. — Кто мог предположить, что он ринется в сторону «Салям алейкума», куда пограничники должны выдвинуться в последнюю очередь, — это путь к границе… А он рванул не вглубь, а назад… Чемодан! Где он? Голову на отсечение — в курапче его нет… Что в нем?»
В ботинках хлюпала вода. Под ногами скрипели камни. Бронежилет всем своим весом больно врезался в плечи, мешал набрать воздуха в стянутую ремнями грудь. Рывок — расстегнуты ремни с боков, еще рывок — сдернуты ремни на плечах, отцепились «липучки», и «броник», грохнув толстыми титановыми пластинами по валунам, летит в чахлый, выжженный прошлогодним солнцем и высушенный ветром кустарник. Тотчас туда же упала предохранявшая от пуль голову тяжеленная «сфера». Расстояние между бегущими стремительно начало сокращаться. Заруба уже отчетливо различал ярко-желтую нитяную строчку шва на спине Рустямова.
— Стой! Стрелять буду! — заорал изо всех сил Заруба. Сдернув с плеча «Калашников», он резко сдвинул рычаг и без дополнительных предупреждений пустил длинную очередь намного выше головы беглеца. Тот споткнулся и рухнул плашмя наземь, и сразу же из-за камня оглушительно рявкнул пистолетный выстрел. Пуля просвистела где-то рядом. Заруба согнулся и сделал еще один стремительный рывок вперед. Теперь их разделяло никак не больше трех метров.
— Брось оружие! — приказал Заруба.
В ответ услышал лишь какой-то сдавленный смех.
Продвинувшись по-пластунски на метр, Заруба лежал по другую сторону огромного валуна, за которым спрятался Рустямов. Прогремел очередной пистолетный залп — по щеке скользнули, рассекая кожу, каменные осколки.
«Твою мать, — выругался про себя Заруба. — Теперь я за себя не отвечаю».
Он рывком бросил свое тело в воздух, совершил весьма замысловатый пируэт, со всей силой впечатывая толстые сбитые каблуки тяжелых ботинок во что-то мягкое.
— Все… — хрипло раздалось снизу, из полузадушенного, раздавленного тела. — Сда… юсь…
Заруба, не вставая с распластанного Рустямова, принялся шарить по земле. Пистолет, еще сохранивший тепло чужих ладоней, лежал в пожухлой траве. Это была какая-то неизвестная Николаю марка — браунинг не браунинг, зауэр не зауэр… Черт его разберет…
— Где чемодан? — он схватил лежащего за волосы и с силой вдавил его лицо в каменное крошево.
— Подо мной, — с каким-то грудным клекотом и хрипом произнес повар.
Заруба встал на колени и провел рукой под лежавшим. Выдернуть «дипломат» оказалось трудной задачей — он был намертво прижат к земле обмякшим телом.
— Подъем! — скомандовал Заруба, и сам испугался своего голоса, таким он был чужим и страшным.
Однако команда его не произвела на Рустямова абсолютно никакого действия, он лишь вяло пошевелил кистями, схваченными за спиной наручниками.
— Не могу, — невнятно, будто угасая, пробормотал Рустямов. — Спина… Позвоночник…
— Что спина? — не понял Заруба. — Я же стрелял в воздух… — про мощное приземление каблуками вперед он совсем забыл.
Перевернув поверженного на спину, Заруба освободил «дипломат» и откинул крышку — внутри лежали деньги, много денег. Перехваченные банковскими лентами сияли свеженькие десятирублевки. Между пачек перекатывались толстенькие латунные бочонки патронов. Стопками громоздились брошюрки с одним лишь словом на обложке: «ДЖИХАД».
— Джихад? — прочитал вслух Заруба. — Любопытно. Значит, объявили нам «священную войну»? Так, Рустямов?
— Так… — подтвердил бессильно лежавший на земле, вращающий глазами «ходок». — Я готов дать показания…
— А куда ты денешься, — беззлобно, почти равнодушно изрек Заруба, глядя на приближающиеся со стороны кишлака пятнистые фигурки пограничников.
— Мужики, — заорал он, и по ущелью пронеслось многоголосое эхо. — Рация есть? Сообщите первому: сюда нужен следователь и врач. — уже себе под нос недовольно добавил: — Ишь, джихад объявили, бисовы дети. А с Зарубой почему не посоветовались?
3
— Заруба, стой! Да подожди же ты, черт… Николай, остановись!
Заруба пропустил вперед себя по лестнице процессию — согбенно прошли афганские проводники в сопровождении молодых солдат-пограничников, затем, тоже под конвоем, весь замотанный бинтами, измазанный йодом Рустямов — и дождался щеголеватого, с иголочки одетого майора.
— Чего тебе, Власенков? — спросил, облокотившись на перила, Заруба.
— Ты не забыл, что в шесть играем с горотделом милиции? Учти, мне вместо тебя ставить некого…
— В шесть? — он поднял на майора слезящиеся, готовые тотчас закрыться голубые, цвета майорских погон, глаза.
— В шесть! — охотно подтвердил Власенков. — Так я тебя заявляю?
— Давай присядем на подоконник — ноги не держат… — Они сели. — Повтори, пожалуйста, с кем и когда мы играем. — Заруба с облегчением отвалился к стене.
— Как с кем? — начал было майор, сбиваясь и путаясь, в который раз повторять про полуфинальную встречу местных динамовских команд, но с удивлением обнаружил, что рассказывает все это совершенно впустую — его собеседник спал, по-детски сомкнув губы и простодушно посапывая.
АНТОЛОГИЯ «ПОЕДИНКА»
Владимир Зазубрин
ЩЕПКА
Повесть о Ней и о Ней

I
На дворе затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь.
На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку. А глаза в пол.
В подвале отец Василий поднял над головой нагрудный крест.
— Братья и сестры, помолимся в последний час.
Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся книзу, череп лысый, круглый — просвирка заплесневевшая. Стал в угол. С нар, шурша, сползали черные тени. К полу припали со стоном.
В другом углу, синея, хрипел поручик Снежницкий. Короткой петлей из подтяжек его душил прапорщик Скачков. Офицер торопился — боялся, не заметили бы. Повертывался к двери широкой спиной. Голову Снежницкого зажимал между колен. И тянул. Для себя у него был приготовлен острый осколок от бутылки.
А автомобили стучали на дворе. И все в трехэтажном каменном доме знали, что подали их для вывозки трупов.
Жирной, волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнущие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую, серебряную пластинку. Несколько человек — сверкающую звезду. Остальные — пустоту черную. У священника язык лип к небу, к губам. Губы лиловые, холодные.
— Во имя отца и сына…
На серых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты.
Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены. Но дрожали. А стены неподвижны — в них несокрушимая твердость камня.
На коменданте красная фуражка, красные галифе, темно-синяя гимнастерка, коричневая английская портупея через плечо, кривой маузер без кобуры, сверкающие сапоги. У него бритое румяное лицо куклы из окна парикмахерской. Вошел он в кабинет совершенно бесшумно. В дверях вытянулся, застыл.
Срубов чуть приподнял голову.
— Готово?
Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул:
— Готово.
И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков, с острым стеклянным блеском были неспокойны.
У Срубова и у других, сидевших в кабинете, глаза такие же — и стеклянные, и сверкающие, и остротревожные.
— Выводите первую пятерку. Я сейчас.
Не торопясь набил трубку. Прощаясь, жал руки и глядел в сторону.
Моргунов не подал руки.
— Я с вами — посмотреть.
Он первый раз в Чека. Срубов помолчал, поморщился. Надел черный полушубок, длинноухую рыжую шапку. В коридоре закурил. Высокий грузный Моргунов в тулупе и папахе сутулился сзади. На потолке огненные волдыри ламп. Срубов потянул шапку за уши. Закрыл лоб и наполовину глаза. Смотрел под ноги. Серые деревянные квадратики паркета. Их нанизали на ниточку и тянули. Они ползли Срубову под ноги, и он сам, не зная для чего, быстро считал:
— …Три… семь… пятнадцать… двадцать один…
На полу серые, на стенах белые — вывески отделов. Не смотрел, но видел. Они тоже на ниточке.
…Секретно-оперативный… контрревол… вход воспр… бандитизм… преступл…
Отсчитал шестьдесят семь серых, сбился. Остановился, повернул назад. Раздраженно посмотрел на рыжие усы Моргунова. А когда понял, — сдвинул брови, махнул рукой. Застучал каблуками вперед. Мысленно твердил: «…Манти-менты… санти-менты… санти…»
Злился, но не мог отвязаться.
— …Санти-менты… менты-санти…
На площади лестницы часовой. И сзади этот зритель, свидетель ненужный. Срубову противно, что на него смотрят, что так светло. А тут ступеньки. И опять пошло.
— …Два… четыре… пять…
Площадка пустая. Снова:
— …Одна, две… восемь…
Второй этаж. Новый часовой. Мимо, боком.
Еще ступеньки.
Еще.
Последний часовой. Скорее. Дверь. Двор. Снег. Светлее, чем в коридоре.
И тут штыки. Целый частокол. И Моргунов, бестактный, лепится к левому рукаву, вяжется с разговором.
Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях. Пытались петь хором. Но пел каждый отдельно.
— Со свя-ты-ми упо-ок-о-о-о…
Женщин только пять. А мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели:
— Со свя-ты-ми… свят-ты-ми…
Комендант тоже надел полушубок. Только желтый. В подвал спустился с белым листом-списком.
Тяжелым засовом громыхнула дверь.
У певших нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец. Визг только кошачий. Священник, прислонясь к стене, тихо заикался:
— …упо-по-по-о-о…
И громко портил воздух.
Комендант замахал бумагой. Голос у него сырой, гнетущий — земля. Назвал пять фамилий — задавил, засыпал. Нет сил двинуться с места. Воздух стал как в растревоженной выгребной яме. Комендант брезгливо зажал нос.
Длинноусый есаул подошел, спросил:
— Куда нас?
Все знали — на расстрел. Но приговора не слышали. Хотели окончательно, точно. Неизвестность хуже.
Комендант суров, серьезен. Так вот прямо, не краснея, не смущаясь, глаза в глаза уставил и заявил:
— В Омск.
Есаул хихикнул, присел.
— Подземной дорогой?
Полковнику Никитину тоже смешно. Согнул широкую гвардейскую спину и в бороду:
— Хи-хи…
И не видел, что из-под него и из-под соседа генерала Треухова ползли по нарам тонкие струйки. На полу от них болотца и пар.
Пятерых повели. Дверь плотно загородила выход. Лязгнул люк во двор. Шум автомобилей яснее. И был похож он на стук комьев мерзлой земли в железную дверь подвала. Запертым показалось, что их заживо засыпают.
— Ту-ту-ту-ту-ту. Фр-ту-ту. Фр-ту-ту.
Капитан Боженко встал у стены. Подбоченился. Голову поднял. Под потолком слабенькая лампочка. Капитан подмигнул ей.
— Меня, брат, не найдут.
И на четвереньках под нары.
Из угла поручик Снежницкий показывал всем синий мертвый язык. От коменданта Скачков его спрятал. А себе горло не перерезал. Вертел в руках стекло и не решался.
Маленький огненный волдырек на потолке неожиданно лопнул. Гной из него черной смолой всем в глаза. Тьма. В темноте не страх — отчаяние. Сидеть и ждать невозможно. Но стены, стены. Кирпичный пол. Ползком с визгом по нему. Ногтями, зубами в сырые камни.
Срубову и пяти выведенным показалось, что узкий снежный двор накаленный добела металлический зал. Медленно вращаясь на дне трехэтажного каменного колодца, зал захватил людей и сбросил в люк другого подвала на противоположном конце двора. В узком горле винтовой лестницы у двоих захватило дыхание, закружились головы — упали. Остальных троих сбили с ног. На земляной пол скатились кучей.
Второй подвал без нар изогнут печатной буквой Г. В коротком крючке каменной буквы, далеком от входа, мрак. В длинном хвосте — день. Лампы сильнее через каждые пять шагов. На полу все бугорки, ямки видны. Никогда не спрятаться. Стены кирпичными скалами сошлись вплотную, спаялись острыми четкими углами. Сверху навалилась каменная пустобрюхая глыба потолка. Не убежать. Кроме того, конвоиры — сзади, спереди, с боков. Винтовки, шашки, револьверы, красные, красные звезды. Железа, оружия больше, чем людей.
«Стенка» белела на границе светлого хвоста и неосвещенного изгиба. Пять дверей, сорванных с петель, были приставлены к кирпичной скале. Около пять чекистов. В руках большие револьверы. Курки — черные знаки вопросов — взведены.
Комендант остановил приговоренных, приказал:
— Раздеться.
Приказание, как удар. У всех пятерых дернулись и подогнулись колени. А Срубов почувствовал, что приказание коменданта относится и к нему. Бессознательно расстегнул полушубок. И в то же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом. Овладел собой с усилием. Посмотрел на коменданта, на других чекистов — никто не обращал на него внимания.
Приговоренные раздевались дрожащими руками. Пальцы, похолодевшие, не слушались, не гнулись. Пуговицы, крючки не расстегивались. Путались шнурки, завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:
— Живей, живей.
У одного завязла в рубахе голова, и он не спешил ее высвободить. Раздеться первым никто не хотел. Косились друг на друга, медлили. А хорунжий Кашин совсем не раздевался. Сидел скорчившись, обняв колени. Смотрел отупело в одну точку на носок своего порыжевшего порванного сапога. К нему подошел Ефим Соломин. Револьвер в правой руке за спиной. Левой погладил по голове. Кашин вздрогнул, удивленно раскрыл рот, а глаза на чекиста.
— Че призадумался, дорогой мой? Аль спужался?
А рукой все по волосам. Говорит тихо, нараспев.
— Не бойсь, не бойсь, дорогой. Смертушка твоя еще далече. Страшного покудова ще нету-ка. Дай-ка я те пособлю курточку снять.
И ласково и твердо-уверенно левой рукой расстегивает у офицера френч.
— Не бойсь, дорогой мой. Теперь рукавчик сымем.
Кашин раскис. Руки растопырил покорно, безвольно. По лицу у него слезы. Но он не замечал их. Соломин совсем овладел им.
— Теперь штаники. Ниче, ниче, дорогой мой.
Глаза у Соломина честные, голубые. Лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе редкой бахромой. Раздевал он Кашина как заботливый санитар больного.
— Подштаннички…
Срубов ясно до боли чувствовал всю безвыходность положения приговоренных. Ему казалось, что высшая мера насилья не в самом расстреле, а в этом раздевании. Из белья на голую землю. Раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Грязный пол, пыльные стены, подвал. А может быть, каждый из них мечтал быть председателем Учредительного собрания? Может быть, первым министром ревставрированной монархии в России? Может быть, самим императором? Срубов тоже мечтал стать Народным Комиссаром не только в РСФСР, но даже и МСФСР. И Срубову показалось, что сейчас вместе с ними будут расстреливать и его. Холод тонкими иглами колол спину. Руки теребили портупею, жесткую бороду.
Голый костлявый человек стоял, поблескивая пенсне. Он первым разделся. Комендант показал ему на нос:
— Снимите.
Голый немного наклонился к коменданту, улыбнулся. Срубов увидел тонкое интеллигентное лицо, умный взгляд и русую бородку.
— А как же тогда я? Ведь я тогда и стенки не увижу.
В вопросе, в улыбке наивное, детское. У Срубова мысль: никто никого и не собирается расстреливать. А чекисты захохотали. Комендант выронил папиросу.
— Вы славный парень, черт возьми. Ну ничего, мы вас подведем. А пенсне-то все-таки снимите.
Другой, тучный, с черной шерстью на груди, тяжелым басом:
— Я хочу дать последнее показание.
Комендант обернулся к Срубову. Срубов подошел ближе. Вынул записную книжку. Записывать стал не вдумываясь в смысл показания, не критикуя его. Был рад отсрочке решительного момента. А толстый врал, путался, тянул.
— Около леска, между речкой и болотом, в кустах…
Говорил, что отряд белых, в котором он служил, закопал где-то много золота. Никто из чекистов ему не верил. Все знали, что он только старается выиграть время. В конце концов приговоренный предложил отдалить его расстрел, взять его проводником, и он укажет, где зарыто золото.
Срубов положил записную книжку в карман. Комендант, смеясь, хлопнул голого по плечу:
— Брось, дядя, вола крутить. Становись.
Разделись уже все. От холода терли руки. Переступали на месте босыми ногами. Белье и одежда пестрой кучей. Комендант сделал рукой жест — пригласил.
— Становитесь.
Тучный в черной шерсти завыл, захлебнулся слезами. Уголовный бандит с тупым, равнодушным лицом подошел к одной из дверей. Кривые волосатые ноги с огромными плоскими ступнями расставил широко, устойчиво. Сухоногий ротмистр из карательного отряда крикнул:
— Да здравствует советская власть!
С револьвером против него широконосый, широколицый, бритый Ванька Мудыня. Махнул перед ротмистром жилистым татуированным матросским кулаком. И с сонным плевком через зубы, с усмешкой:
— Не кричи — не помилуем.
Коммунист, приговоренный за взяточничество, опустил круглую стриженую голову, в землю глухо сказал:
— Простите, товарищи.
А веселый с русой бородкой, уже без пенсне, и тут всех рассмешил.
Стал, скроил глупенькую рожицу.
— Вот они какие, двери-то на тот свет — без петель. Теперь буду знать.
И опять Срубов подумал, что их не будут расстреливать. А комендант, все смеясь, приказал:
— Повернитесь.
Приговоренные не поняли.
— Лицом к стенке повернитесь, а к нам спиной.
Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.
Пока наконец голые поняли, чего хотят от них одетые, Срубов успел набить и закурить потухшую трубку. Сейчас повернутся и — конец. Лица у конвоиров, у коменданта, у чекистов с револьверами, у Срубова одинаковы — напряженно-бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него озабочено не более, чем то нужно для обыденной, будничной работы. Срубов глаза в трубку, на огонек. А все-таки заметил, как Моргунов, бледный, ртом хватал воздух, отвертывался. Но какая-то сила тянула его в сторону пяти голых, и он кривил на них лицо, глаза. Огонек в трубке вздрогнул. Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный с звонким визгом вздохнул в последний раз. Срубов подумал: «Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?»
Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.
В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:
— Святый боже, святый крепкий…
Глаза у него лезли из орбит. Срубов вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляла им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи с глазами-изюминками, надувшимися от жару. Отец Василий упал на колени:
— Братцы, родимые, не погубите…
А для Срубова он уже не человек — тесто, жаворонок из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы:
— Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит.
Его грубая твердость толчок и другим чекистам. Мудыня крутил цигарку:
— Дать ему пинка в корму — замолчит.
Высокий, вихляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задребезжал стеклом в рассохшейся раме:
— Святый боже, святый крепкий…
Ефим Соломин остановил:
— Не трожьте батюшку. Он сам разденется.
Поп замолчал — мутные глаза на Соломина. Худоногов и Боже отошли.
— Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.
Соломин ласков.
— В лопотине-то те, дорогой мои, чижеле. Лопотина, она тянет.
Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрав на колени полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный репсовый подрясник.
— Оно этто ничё, дорогой мой, что раздеем. Вот надоть бы тебя ще в баньке попарить. Когды человек чистый да разначищенный, тожно ему лекше и помирать. Чичас, чичас всю эту бахтерму долой с тебя. Ты у меня тожно, как птаха, крылышки расправишь.
У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.
— В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казним. А казнь, дорогой мой, дело великая.
Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и стаскивая брови, спокойно щурился от дыма.
— Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.
Срубов услышал и разозлился еще больше.
Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад — глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая, женщина, — крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер.
А с папироской, рассердивший Срубова, не захотел повертываться спиной.
— Я прошу стрелять меня в лоб.
Срубов его обрезал:
— Системы нарушить не могу — стреляем только в затылок. Приказываю повернуться.
У голого офицера воля слабее. Повернулся. Увидел в дереве двери массу дырочек. И ему захотелось стать маленькой, маленькой мушкой, проскользнуть в одну из этих дырок, спрятаться, а потом найти в подвале какую-нибудь щелку и вылететь на волю. (В армии Колчака он мечтал кончить службу командиром корпуса — полным генералом.) И вдруг та дырка, которую он облюбовал себе, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер. Зрачок у него в правом открытом глазу был такой же широкий и неровный, как новая дырка в двери от пули, пробившей ему голову.
У отца Василия живот — тесто, вывалившееся из квашни на пол. (Отец Василий никогда не думал стать архиереем. Но протодьяконом рассчитывал.)
За ноги веревками потащили и этих в темный загиб. Все они — каждый по-своему — мечтали жить и кем-то быть. Но стоит ли об этом говорить, когда от каждого из них осталось только по три, по четыре пуда парного мяса?
Следующую пятерку не приводили, пока не была засыпана кровь и не убраны трупы. Чекисты крутили цигарки.
— Ефим, как жаба, ты завсегда веньгашься с ними? — квадратный Боже спрашивал. Соломин тер пальцем под носом.
— А че их дражнить и на них злобиться? Враг он когды не пойманный. А тутока скотина он бессловесная. А дома, когды по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчея потом-то.
Расстреливали пятеро — Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Алексей Боже, Наум Непомнящих. Из них никто не заметил, что в последней пятерке была женщина. Все видели только пять парных окровавленных туш мяса.
Трое стреляли как автоматы. И глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти непроизвольно. Ждали, пока приговоренные разденутся, встанут, механически поднимали револьверы, стреляли, отбегали назад, заменяли расстрелянные обоймы заряженными. Ждали, когда уберут трупы и приведут новых. Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась жгучей злобой. Тогда они матерились, лезли с кулаками, с рукоятками револьверов. И тогда, поднимая револьверы к затылкам голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убить наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и напиться до потери сознания. Но не было сил. Кто-то огромный, властный заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого.
Так стреляли Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих.
Один Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легко. Он знал твердо, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как необходимо резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нему открытыми затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал, что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал.
(В конце концов для нее не важно, кто и как стрелял. Ей нужно только уничтожить своих врагов.)
После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыханья — дурнящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.
В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:
— Тащи!
Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор…
Тащили. Тащили.
Подошел комендант.
— Машина, товарищ Срубов. Завод механический.
Срубов кивнул головой и вспомнил снопоогненный зал двора. Вертится зал, перекидывает людей из подвала в подвал. А во всем доме огни, машины стучат. Сотни людей заняты круглые сутки. И тут ррр-ах-рр-ррр-ах. С гулким лязгом, с хрустом буравят черепа автоматические сверла. Брызжут красные непрогорающие опилки. Смазочная мазь летит кровяными сгустками мозга. (Бурят или буравят ведь не только землю, когда хотят рыть артезианский колодец или найти нефть. Иногда ведь приходится проходить целые толщи камня, жилы руд, чтобы добуриться или добуравиться до чистой земли, необходимо пройти стальными сверлами костяные пласты черепов, кашеобразные трясины мозгов, отвести в сточные трубы и ямы гейзеры крови.) Кровью парной, потом едким человечьим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилием таращат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьется земляной пол. Желто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать. Завод.
— Ррр-ах-ррр-ррр-ах!
Тащили.
— А-ах-и-и. В-и-н-и!
— Имею ценное показание. Прекратите расстрел.
Трах-ах-рр.
Тащили.
— Ну, раздевайся. Раздевайся. Становись. Повернись.
— А-а-а-а. О-о-о.
Р-а-ахах.
Тащили.
— Да здравствует государь император. Стреляй, красная сволочь. Господи, помилуй. Долой коммунистов. Пощадите. Пострелял и вас, краснорожие.
Ррр-ррр.
Тащили.
— Невинно погибаю. У-у-у.
— Брось.
Ррр.
Тащили.
Умоля-я-ю.
Ррр-у-у-ххх.
Тащили.
Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих мертвенно-бледные, устало расстегивающие полушубки с рукавами, покрасневшими от крови. Алексей Боже с белками глаз, воспаленными кровавым возбуждением, с лицом, забрызганным кровью, с желтыми зубами в красном оскале губ, в черной копоти усов. Ефим Соломин с деловитостью, серьезной и невозмутимой, трущий под курносым носом, сбрасывающий с усов и бороды кровяные запекшиеся сгустки, поправляющий захватанный козырек, оторвавшийся наполовину от зеленой фуражки с красной звездой. (Но разве интересно Ей это? Ей необходимо только заставить убивать одних, приказать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар — Ее гневная сила, хозяйка здесь Она — жестокая и прекрасная.) И Срубов, закутанный в черный мех полушубка, в рыжий мех шапки, в серый дым незатухающей трубки, почувствовал Ее дыхание. И от ощущения близости той новой напряженной энергии рванул мускулы, натянул жилы, быстрее погнал кровь. Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство — радость. И если нужно будет, то он не колеблясь сам станет лепить пули в затылки приговоренных. Пусть хоть один чекист попробует струсить, отступиться, — он сейчас же уложит его на месте. Срубов полон радостной решимости.
Для Нее и ради Нее.
Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил топкие аристократические губы, иронизировал:
— Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду.
Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.
— Раздевайся, гад.
— Дайте холуя.
Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвертывался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.
— Тьфу! Не продыхнешь. Белье-то како обгадил.
Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди и ни шагу. Заявил с гордостью:
— Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.
Отхаркался и Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было так же жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевок. Срубов ему строго:
— Не нервничать.
И властно и раздраженно:
— Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.
Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков. Он так и не перерезал себе горла. И уже голый все держал в руках маленький осколок стекла.
Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к «стенке». Соломин взял ее под руку:
— Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, туто-ка друга баба.
Голая женщина уступила одетому мужчине, С дрожью в холеных ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.
Другая — высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она совсем детским голосом и немного заикаясь:
— Если бы вы зн-знали, товарищи… жить, жить как хочется…
И синевой глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза — угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами. А глаза у всех неотрывно на все. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.
Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре… Но Та, которую любил Срубов, которой сулил, была здесь же. (Хотя, конечно, какое бы то ни было противопоставление, сравнение Ее с синеглазой немыслимо, абсурдно.) А потому — решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков — в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся
Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической.
Браунинг в карман. Отошел назад. В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане все покраснело. Все, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лампы. Чекисты во всем красном. А в руках у них не револьверы — топоры. Трупы не падают — березы белоствольные валятся. Упруги тела берез. Упорно сопротивляется в них жизнь. Рубят их — они гнутся, трещат, долго не падают, а падая, хрустят со стоном. На земле дрожат умирающими сучьями. Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят. Искры огненные от ударов.
Окровавленными зубами пены грызет кирпичные берега красная река. Вереницей плывут белоствольные плоты. Каждый из пяти бревен. На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распоряжается, командует.
А потом, когда ночь, измученная красной бессонницей, с красными воспаленными глазами, задрожала предутренней дрожью, кровавые волны реки зажглись ослепительным светом. Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке — земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан.
Трр-ах-ррр-ух-ррр.
Размыты, разрушены стены подвала. Затоплены двор, улицы, город. Жгучая лава льется и льется. На недосягаемую высоту выброшен Срубов огненными волнами. Слепит глаза светлый, сияющий простор. Но нет в сердце страха и колебаний. Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно вглядывается в даль. В голове только одна мысль — о Ней.
II
Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно сгущалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилась парным молоком.
На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко-синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.
И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, в черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.
Подвал издыхает или кашляет:
— Тащи-т-и-и.
И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокроты или слюной тягучей, кроваво-сине-желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как по мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынущие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, и хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво-черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище, сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам притыкались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дроже кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно-злобно, испуганно:
— Чека… Из Чека… Чека свой товар вывозит…
И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живыми, человечьими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов — Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке — в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим, но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.
— Каб того высокого, красивого, в рот-то которого стреляли, да спарить с синеглазой — ладный бы плод дали.
Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: «О ком это он?» Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:
— Зачем тебе их, Ефим?
Тот светло улыбнулся.
— Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету-ка их.
Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик.
Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.
— Поп-то расписался… А генерал-то…
Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.
— Таких веселых, как в пенснях, завсегда лекше бить. А уж которы воют…
Это Наум Непомнящих. Боже и согласен и нет.
Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.
Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устали. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово — допинг.
До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку — чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки — крови не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью — тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из-за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Болтал замутненную жидкость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло — красного ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту и опять в памяти — допинг.
Только когда выпил и прошелся по кабинету — заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник.
И сейчас же с письменного стола нахально стала пялиться бронза безделушек, стальной диван брезгливо поднял тонкие гнутые ножки. Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел — разозлился.
— Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал.
Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. «Ишь жмется, аристократ. На вот тебе». Нарочно сапоги не снял. Растянулся и каблуками в ручку. На пепельно голубой обивке грязь, кровь и снежная мокрота. Четверть, стакан рядом на пол поставил. А самому хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянеющем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы почти пьяные, почти бессвязные мысли: «Почему, собственно, белая сорочка Маркса?»
Ведь одни из них — поумереннее и полиберальнее — хотели сделать Ей аборт, другие — пореакционнее и порешительнее — кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодовитую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.
Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человечьего пота, в которой письменный стол весь в бумагах — чистых и исписанных, в бутылках — пустых и непочатых со спиртом, с водкой, в нагайках — ременных, резиновых, проволочных, резиново-проволочно-свинцовых, в револьверах, в бебутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бебуты и на стенах и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната пьяная или с похмелья набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с проволокой, со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на клочья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.
Колчаковская контрразведка — еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный — тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.
Ну, вот вам и белая сорочка Маркса, брезгливый диван, чопорная чистота безделушек на столе.
Ну да, да, да, да, да… Да… Да… Да… Но… Но и но…
Сладко пуле — в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.
А Она не идея. Она — живой организм. Она — великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.
Да… Да… Да…
Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.
Но для меня Она — баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровяная лапа, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов — много их присосалось — в подвалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи Р.
В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек, ночей, дней — стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.
И в подвалах № 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В № 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра — головы арестованных, колбасами — колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровито шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух, безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.
И крысы же в подвале № 1, где уже убраны трупы, с визгом, с писком в драку, лижут, выгрызают из земляного пола человечью кровь. И языки их острые, маленькие, красные, жадные, как языки огня. И зубы у них острые, маленькие, белые, крепче камня, крепче бетона.
Нет крыс только в подвале № 2. В № 2 не расстреливают и не держат долго арестованных, туда сажают только на несколько часов перед расстрелом.
И в сыром тумане мороза, в мути рассвета на белом трехэтажном доме красными пятнами вывеска — черным по красному написано: «Губернская Чрезвычайная Комиссия». Ниже в скобках лаконичнее, понятнее (Губчека). А раньше золотом по черному: «Вино. Гастрономия. Бакалея. Иннокентий Пшеницын».
И, сотрясая улицы, дома и кладбище, везет чекистов с железными лопатами последний серый грузовик в кроваво-черном поту крови и нефти. Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит.
III
Ночами белый каменный трехэтажный дом с красивым флагом на крыше, с красной вывеской на стене, с красными звездами на шапках часовых вглядывался в город голодными блестящими четырехугольными глазами окон, щерил заледеневшие зубы чугунных решетчатых ворот, хватал, жевал охапками арестованных, глотал их каменными глотками подвалов, переваривал в каменном брюхе и мокротой, слюной, потом, экскрементами выплевывал, выхаркивал, выбрасывал на улицу. И к рассвету усталый, позевывая со скрипом чугунных зубов и челюстей, высовывал из подворотни красные языки крови.
Утрами тухли, чернели четырехугольные глаза окон, ярче загоралась кровь флага, вывески, звезды на шапках часовых, ярче кровавые языки из подворотни, лизавшие тротуар, дорогу, ноги дрожащих прохожих. Утрами белый дом навязчивей, настойчивей металлическими щупальцами проводов щупал по городу дома с пестрыми вывесками советских учреждений.
— Говорят из Губчека. Немедленно сообщите… Из Губчека. В течение двадцати четырех часов представьте… Губчека предлагает срочно, под личную ответственность… Сегодня же до окончания занятий дайте объяснение Губчека… Губчека требует…
И так всем. И все дома с пестрыми вывесками советских учреждений, большие и маленькие, каменные и деревянные, растопыривали черные уши телефонных трубок, слушали внимательно, торопливо. И делали так, как требовала Чека, — немедленно, сейчас же, в двадцать четыре часа, до окончания занятий.
А в Губчека — люди, вооруженные винтовками, стояли на каждой площадке, в каждом коридоре, у каждой двери и по дворе, люди в кожаных куртках, в суконных гимнастерках, френчах, вооруженные револьверами, сидели за столами с бумагами, бегали с портфелями по комнатам, барышни, ничем не вооруженные, красивые и дурные, хорошо и плохо одетые, трещали на машинках, уполномоченные, агенты, красноармейцы батальона ВЧК курили, разговаривали в дыму комендантской, прислуга из столовой на подносе разносила по отделам жидкий чай в рыжих глиняных стаканах с конфетами из ржаной муки и патоки, посетители в рваных шубах (в Чека всегда ходили в рванье. У кого не было своего — доставали у знакомых) робко брали пропуски, свидетели нетерпеливо ждали допроса, те и другие боялись из посетителей, из свидетелей превратиться в обвиняемых и арестованных.
Утрами в кабинете на столе у Срубова серая горка пакетов. Конверты разные — белые, желтые, из газетной бумаги, из старых архивных дел. На адресах лихой канцелярский почерк с завитушками, с росчерком, безграмотные каракули, нервная интеллигентская вязь, старательно выведенные дамские колечки, ровные квадратики шрифта печатных машинок. Срубов быстро рвал конверты.
— Не мешало бы Губчека обратить внимание… Открыто две жены. Подрыв авторитета партии… Доброжелатель.
— Я, как идейный коммунист, не могу… возмутительное явление: некоторые посетители говорят прислуге — барышня, душечка, тогда как теперь советская власть и полагается не иначе, как товарищ, и вы, как… Необходимо, кому ведать сие надлежит…
Срубов набил трубку. Удобнее уселся в кресле. Пакет с надписью — «совершенно секретно», «в собственные руки». Газетная бумага. Разорвал.
«Я нашел вотку в 3-ай роти командер белай Гат…»
Дальше на белом листе писчей бумаги рассуждения о том, что сделал в Сибири Колчак и что делает советская власть. В самом конце вывод: «…и поетому ево (командира роты) непрямено унистожит, а он мешаит дела обиденения рабочих и хрестьяноф, запричаит промеж крастно армейциф товарищетская рука пожатию. Врит политрук Паттыкин.»
Срубов морщился, сосал трубку.
Акварелью на слоновой бумаге черный могильный бугорок, в бугорок воткнут кол. Внизу надпись: «Смерть кровопийцам чекистам…»
Брезгливо поджал губы, бросил в корзину.
«Товарищ председатель, я хочу с вами познакомица, потому что чекисты очень завлекательныя. Ходят все в кожаных френчах с бархатными воротниками, на боку завсегда револьверы. Очень храбрые, а на грудях красные звезды… Я буду вас ожидать…»
Срубов захохотал, высыпал трубку на сукно стола. Бросил письмо, стал смахивать горящий табак. В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошел Алексей Боже. Положил большие красные руки на край стола, неморгающими красными глазами уставился на Срубова. Спросил твердо, спокойно:
— Севодни будем?
Срубов понял, но почему-то переспросил:
— Что?
— Контрабошить.
— А что?
Четырехугольное плоское скулистое лицо Боже недовольно дернулось, шевельнулись черные сросшиеся брови, белки глаз совсем покраснели.
— Сами знаете.
Срубов знал. Знал, что старого крестьянина с весны тянет на пашню, что старый рабочий скучает о заводе, что старый чиновник быстро чахнет в отставке, что некоторые старые чекисты болезненно томятся, когда долго не имеют возможности расстреливать или присутствовать при расстрелах. Знал, что профессия кладет неизгладимый отпечаток на каждого человека, вырабатывает особые профессиональные (свойственные только данной профессии) черты характера, до известной степени обусловливает духовные запросы, наклонности и даже физические потребности. А Боже — старый чекист, и в Чека он был всегда только исполнителем — расстреливателем.
— Могуты нет никакой, товарищ Срубов. Втора неделя идет без дела. Напьюсь, что хотите делайте.
И Боже, четырехугольный, квадратный, с толстой шеей и низким лбом, беспомощно топтался на месте, не сводил со Срубова воспаленных красных глаз.
У Срубова мысль о Ней. Она уничтожает врагов. Но и они Ее ранят. Ведь Ее кровь, кровь из Ее раны этот Боже. А кровь, вышедшая из раны, неизбежно чернеет, загнивает, гибнет. Человек, обративший средство в цель, сбивается с Ее дороги, гибнет, разлагается. Ведь она ничтожна, но и велика только на Ее пути, с Ней. Без Нее, вне Ее она только ничтожна. И нет у Срубова жалости к Боже, нет сочувствия.
— Напьешься — в подвал спущу.
Без стука в дверь, без разрешения войти, вошел раскачивающейся походкой матроса Ванька Мудыня, стал у стола рядом с Боже.
— Вызывали. Явился.
А в глаза не смотрит — обижен.
— Пьешь, Ванька?
— Пью.
— В подвал посажу.
Щеки у Мудыни вспыхнули, как от пощечины. Руки нервно обдергивали черную матросскую тужурку. В голосе боль обиды.
— Несправедливо эдак, товарищ Срубов. Я с первого дня советской власти. А тут с белогвардейцами в одну яму.
— Не пей.
Срубов холоден, равнодушен. Мудыня часто заморгал, скривил толстые губы.
— Вот хоть сейчас к стенке ставьте — не могу. Тысячу человек расстрелял — ничего, не пил. А как брата укокал, так и пить зачал. Мерещится он мне. Я ему — становись, мой Андрюша, а он — Ваньша, браток, на колени… Эх… Кажну ночь мерещится…
Срубову нехорошо. Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберешь. Ванька пьет. Боже пьет, сам пьет. Почему им нельзя? (Ну да, престиж Чека. Они почти открыто. Да. Потом, вообще, имеет ли права Она? И что знает Она? А, Она? И вот взаимоотношения, роль нрава. Хаос. Хаос. Замахал руками.)
— Идите, пейте. Нельзя же только так открыто.
А когда дверь закрылась, уткнулся в письмо, чтобы не думать, не думать, не думать.
«Я человек центральный, но… тем более он ответственным работник… Керосин необходим Республике… и выменивать полпуда картошки на два фунта керосина для личного удовольствия…»
И одни за другим поплыли заявления о двух фунтах соли, фунте хлеба, полфунте сахару, десяти фунтах муки, трех гвоздях, пары подошв, дюжины иголок, которые кто-либо у кого-либо выменял, купил (тогда как теперь советская власть и разрешается все приобретать только по ордерам с соответствующими подписями, за печатью, с надлежащего разрешения). А если все это было получено по ордеру, то указывалось на незаконность выписки самого ордера, неправильность выдачи.
Три-четыре дельных указания — контрразведчик скрывается под чужой фамилией, систематически расхищается пушнина со склада Губсовнархоза, каратель пролез в партию. И опять доброжелатели, зрячие, видящие, нейтральные, посторонние, независимые. В шорохе бумаги — угодливый шепоток. Они любили «довести до сведения кого следует». Они подобострастно брали Срубова за рукав, тащили его к своей спальне, показывали содержимое ночных горшков (может быть, человек пьяный был и, может быть, доктора могут исследовать и установить). Они трясли перед ним грязное белье свое, чужое, своих родных, родственников, знакомых. Как мыши, они проникали в чужие погреба, подполья, кладовки, забирались в помойки, и все время заискивающе улыбались или корчили рожи благородных блюстителей нравственности и все кивали головками и спрашивали:
— А как, по-вашему, это? А как это? А? Ничего? Не попахивает контрреволюцией? А вот посмотрите сюда? А вот здесь подозрительно. Нет? А?
В конце концов они спокойно отходили в сторону и равнодушно заявляли, что это их не касается, что их нравственный долг только довести до сведения того, кому «ведать сие надлежит».
Срубов наискось красным карандашом накладывал резолюции. Подписывался размашисто двумя буквами А. С. Рвал пакеты. Читал нетерпеливо, быстро, через строчку. На его имя приходили больше анонимки, пустячные мелкие заявления добровольных осведомителей. Серьезные сведения, донесения секретных агентов — непосредственно в агентурное отделение товарищу Яну Пепелу.
Срубов не кончил. Надоело. Встал. По кабинету крупными шагами из угла в угол. Трубка потухла, а он грыз ее, тянул. Липкая грязь раздражала тело. Срубов передернул плечами. Расстегнул ворот гимнастерки. Нижняя рубашка совершенно чистая. Вчера только надел после ванны. Все чистое и сам чистый. Но ощущение грязи не проходило.
Дорогой письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Удобные богатые кресла. Новые обои на стенах. Холодная, сверкающая чванная чистота. И Срубову неловко в своем кабинете.
Подошел к окну. По улице шли и ехали. Шли суетливые совработники с портфелями, хозяйки с корзинами, разношерстные люди с мешками и без мешков. Ехали только люди с портфелями и люди с красными звездами на фуражках, на рукавах. Тащились между тротуарами дорогой с нагруженными санками советские кони-люди.
Через всю эту движущуюся улицу от его кабинета тянулись сотни чутких нервов-проводов. У него сотни добровольных осведомителей, штат постоянных секретных агентов и вместе с каждым из них он подглядывает, подслушивает, хитрит. Он постоянно в курсе чужих мыслей, намерений, поступков. Он спускается до интересов спекулянта, бандита, контрреволюционера. И туда, где люди напакостят, наносят грязь, обязан он протянуть свои руки и вычистить. В мозгу но букве вылезло и кривой лестницей вытянулось иностранное слово (они за последнее время вязались к нему) а-с-с-е-н-и-з-а-т-о-р. Срубов даже усмехнулся. Ассенизатор революции. Конечно, он с людьми дела почти не имел, только с отбросами. Они ведь произвели переоценку ценностей. Ценное раньше — теперь стало бесценным, ненужным. Там, где работали честно живые люди, ему нечего было делать. Его обязанность вылавливать в кроваво-мутной реке революции самую дрянь, сор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление Ее чистых подпочвенных родников. И длинное это слово так и осталось в голове.
…Мудыня, Боже — оба закаленные фронтовики, верные, истинные товарищи. У обоих ордена Красного Знамени. Иван Никитич Смирнов знал их еще по восточному фронту и про них именно он сказал: «С такими мы будем умирать…» Но водка? А сам? И какое значение все мы — я, Мудыня, Боже, ну все, все… Да, какое значение имеем все мы для Нее?
И это письмо отца. Два дня как получил, а все в голове. Не свои, конечно, мысли у отца… Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой, но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное созданьице, на слезах его основать это здание. Согласился бы ты быть архитектором? Я, отец твой, отвечаю — нет, никогда, а ты… Ты думаешь на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья… Ошибаешься… Откажется будущее человечество от «счастья», на крови людской созданного…
Нетерпеливо кашлянул нетерпеливый Ян Пепел, Срубов вздрогнул. К столу подошел, в кресло сел, пригласил сесть Пепела машинально. Слушал и не слышал того, что говорил Пепел. Смотрел на него пустыми отсутствующими глазами.
Когда Пепел сказал, что было нужно, и поднялся, Срубов спросил:
— Вы никогда, товарищ Пепел, не задумываетесь над вопросом террора? Вам когда-нибудь было жаль расстрелянных, вернее, расстреливаемых?
Пепел в черной кожаной тужурке, в черных кожаных брюках, в черном широком обруче ремня, в черных высоких начищенных сапогах, выбритый, причесанный, посмотрел на Срубова упрямыми, холодными голубыми глазами. И свой тонкий с горбинкой правильный нос, четкий четырехугольный подбородок кверху. Кулак левой руки из кармана булыжником. Широкая ладонь правой на кобуре револьвера.
— Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философий.
Больше ничего не сказал. Не любил отвлеченных разговоров. Вырос на заводе. Десять лет над головой, под ногами змеями шипели ремни, скрипели зубы резцов, кружил голову крутящийся бег колеса. Некогда разговаривать. Поспевай повертывайся. Скуп стал на слова. Но приобрел ценную быстроту взгляда. Перенес в душу железное упорство машины. С завода ушел на войну, а с войны — в революцию на службу к Ней. Но рабочим остался. И на службе, в кабинете слышал шипящее ползанье приводных ремней, щелканье зубчатых колес жизни. В кабинете, как в мастерской, за столом, как за станком. Писал безграмотно, но быстро. Стружками летела бумага с его стола на стол машинистки. Трещал звонок телефона, хватал трубку. Одно ухо слушает, другое контролирует стук машинки. Перебой, остановка — кричит:
— Ну, пошла, пошла машина. Живо!
И в телефон кричит:
— Карошо. Слушаю.
На ходу распоряжения агентам, на ходу два-три слова посетителям. Быстро, быстро. Некогда сидеть, много думать у машины. На полном ходу завод.
Вот и сейчас, после Срубова, у себя посетителя схватил глазами как клещами, в кресло усадил — в тиски сжал. И пошел, потел вопросами, как молотками.
— Что? Благонадежность? Карошо. А советвласть сочувствуете? Вполне? Карошо. Но будем логичны до конца…
И Пепел написал на бумаге то, чего не хотел сказать при машинистке.
«Кто сочувствует советвласти, тот должен ее помогать давать. Будите у нас секретный осведомитель?»
Посетитель оглушен, бормочет полуотказ, полусогласие. А Пепел уже его заносит в список. Сует ему написанный на машинке лист — инструкцию секретным осведомителям.
— Согласны? Карошо. Прочтите. Дадим благонадежность.
Конечно, он ему и не думает доверять, как не доверяет десяткам других сотрудников. И работу каждого из них он обязательно проверяет, контролирует. За два с лишком года работы в Чека у него выработалась привычка никому не верить.
А в кабинет к Срубову шмыгающими, липнущими шажками, кланяясь, приседая, улыбаясь, заполз полковник Крутаев. Обрюзгший, седоусый, лысый, в потертой офицерской шинели, сел по одну сторону стола.
Срубов по другую.
— Я вам еще из тюрьмы писал, товарищ Срубов, о своих давнишних симпатиях к советской власти.
Полковник непринужденно закинул ногу на ногу.
— Я утверждал и утверждаю, что в моем лице вы приобретаете ценнейшего сотрудника и преданнейшего идейного коммуниста.
Срубову хотелось плюнуть в лицо Крутаеву, надавать пощечин, растоптать его. Сдерживался, грыз усы, забирал в рот бороду. Молчал, слушал.
Крутаев слащавой улыбкой растянул дряблые губы, вытащил из кармана серебряный портсигар.
— Разрешите? А вы?
Полковник привстал, с раскрытым портсигаром потянулся через стол. Срубов отказался.
— Сегодня я вам докажу это, идейный товарищ Срубов и проницательнейший предгубчека.
Срубов молчал. Крутаев руку в боковой карман шинели.
— Полюбуйтесь на молодчика.
Подал визитную фотографическую карточку. Одутловатое, интересное лицо, погоны капитана. Владимир с мечами и бантом.
— Ну?
— Брат моей жены.
Срубов пожал плечами.
— В чем же дело?
— А его фамилия, любезнейший товарищ Срубов.
— Кто он?
— Клименко. Капитан Клименко — начальник контрразведки армии.
Срубов не дал кончить.
— Клименко?
Крутаев доволен. Старческие тухнущие глаза замаслились хитрой улыбкой.
— Видите, можно сказать, родного брата не щажу.
Срубов записал подробный адрес Клименко. Фамилию, под которой он скрывался.
Уходя, Крутаев небрежно бросил:
— Да, уважаемый товарищ Срубов, дайте мне двести рублей.
— Зачем?
— В возмещение расходов на приобретение карточки.
— Ведь вы же ее у себя дома взяли.
— Нет, у знакомых.
— У знакомых купили?
Крутаев закашлялся. Кашлял долго. На лбу у него надулись синие жилы. Толстый лоб побагровел. Глаза заслезились, покраснели. У Срубова руки на мраморном пресс-папье. В голове — поднять, размахнуться и полковнику в висок. Тот, наконец, прокашлялся.
— Помилуйте, товарищ Срубов, у прислуги купил. Ровно за двести рублей.
Бросил на стол две сторублевки. Крутаев взял и подал руку. Срубов показал глазами на стену: «РУКОПОЖАТИЯ ОТМЕНЕНЫ».
Крутаев опять слащаво растянул губы. Расшаркался в низком поклоне. Стоптанными галошами, прилипая к полу, зашмыгал к двери. А Срубову все хотелось запустить ему в сгорбленную спину пресс-папье.
В раскрытую дверь из коридора шум разговора и топот — чекисты шли в столовую обедать.
Вечером было заседание комячейки. Мудыня и Боже, полупьяные, сидели, бессмысленно улыбались. Соломин, только что вернувшийся с обыска, сосредоточенно тер под носом, слушал внимательно. Ян Пепел сидел с обычной маской серого безразличия на лице. Ежедневно хитря, обманывая и боясь быть обманутым, он научился убирать с лица малейшее отражение своих переживаний, мыслей. Срубов курил трубку, скучал. Докладчик — политработник из батальона ВЧК, безусый парень говорил о программе РКП в жилищном вопросе.
Рядом в читальне беспартийные красноармейцы из батальона ВЧК играют в шашки, шелестят газетами, курят. А переводчица Губчека Ванда Клембровская играет на пианино. Красноармейцы прислушиваются, качают головами.
— Не поймешь, чего бренчит.
Звуки каплями дождя в стену, в потолок, глухой капелью по лестницам. Срубову кажется, что идет дождь. Дождь пробивает крышу, потолок, тысячами всплесков стучит по полу. Вспомнил Левитана, Чехова, Достоевского. И удивился: почему? И, уже уходя с собрания, понял: Клембровская играла из Скрябина.
IV
Руки прятали дрожь в тонких складках платья. Полуопущенные ресницы закрывали беспокойный блеск глаз. Но не могла скрыть Валентина тяжелого дыхания и лица в холодной пудре испуга.
А на полу раскрыты чемоданы. На кровати выглаженное белье четырехугольными стопочками. Комод разинул пустые ящики. Замки в них ощерились плоскими зубами.
— Андрей, эти ночи, когда ты приходишь домой бледный, с запахом спирта и на платье у тебя кровь… Нет, это ужасно. Я не могу, — Валентина не справилась с волнением. Голос ломался. Срубов показал на спящего ребенка:
— Тише.
Сел на подоконник, спиной к свету. На алом золоте стекол размазалась черная тень лохматой головы и угловатых плеч.
— Андрюша… Когда-то такой близкий и понятный… А теперь вечно замкнутый в себе, вечно в маске… Чужой… Андрюша, — сделала движение в сторону мужа. Неуклюже, боком опустилась на кровать. Белую стопку белья свалила на пол. Схватилась за железную спинку. Голову опустила на руки. Нет, не могу. С тех пор, как ты стал служить в этом ужасном учреждении, я боюсь тебя…
Андрей не отозвался.
— У тебя огромная, прямо неограниченная власть, и ты… Мне стыдно, что я жена…
Не договорила. Андрей быстро вытащил серебряный портсигар. Мундштуком папиросы стукнул о крышку с силой, раздраженно. Закурил.
— Ну, договаривай.
В стенных часах после каждого удара маятника хрипела пружина, точно кто шел по деревянному тротуару, четко стучал каблуками здоровой ноги, а другую, больную, шаркая, подволакивал. Маленький Юрка сопел на своей высокой постельке. Валентина молчала. Стекла в окнах стали серыми с желтым налетом. Комод, кровати, чемоданы и корзины оплыли темным опухолями. По углам нависли мягкие драпри теней, комната утратила определенность своих линий, расплывчато округлилась. Андрей видел только огненную точку своей папиросы. Другая такая же тыкалась ему в сердце, и сердце обожженное болело.
— Молчишь? Ну так я скажу. Тебе стыдно, что разная обывательская сволочинка считает твоего мужа палачом. Да?
Валентина вздрогнула. Голову подняла. Увидела острый красивый глаз папиросы. Отвернулась.
Андрей, не потушив, бросил окурок. Глаз закололо маленькой огненной булавкой с полу. Закололо больно, как и у Андрея сердце. Валентина закрыла лицо ладонями.
— Не обыватели только… Коммунисты некоторые…
И с отчаянием, с усилием, еле слышно последний довод:
— И мне надоело сидеть с Юркой на одном пайке. Другие умеют, а ты предгубчека и не можешь…
Андрей сапогом тяжело придавил папиросу. Возмутился. Захотелось наговорить грубостей, захотелось унизить, оплевать ее, оплевавшую и унизившую своей близостью. Срубову стало до боли стыдно, что он женат на какой-то ограниченной мещанке, духовно совершенно чуждой ему. Щелкнул выключателем. Чемоданы, вороха вещей, случайно сваленных в одну комнату. И сами так же. Потому чужие. Сдержался, промолчал. Стал припоминать первую встречу с Валентиной. Что повлекло его к этой слабенькой некрасивой мещанке? Да, да, она унизила его, оскорбила своей близостью потому, что она выдала себя совсем не за ту, какой была в действительности. Она искусно улавливала его мысли, желания, искусно повторяла их, выдавая за свои. Но разве потому только сходятся с женщиной, что ее убеждения, ее мысли тождественны убеждениям и мыслям того, кто с ней сходится? Пятый год вместе. Какая-то нелепость. Ведь было вот что-то еще, что повлекло к ней? И это что-то есть еще и сейчас, когда она уже решила окончательно уйти от него. Что было это что-то. Срубов не мог объяснить себе.
— Так ты, значит, уезжаешь навсегда?
— Навсегда, Андрей.
И в голосе даже, в выражении лица — твердость. Никогда ранее не замечал.
— Ну что ж, вольному воля. Мир велик. Ты встретила человека, и я встречу…
А самому больно. Отчего больно? Оттого, что уцелело это что-то по отношению к Валентине? Сын. Он общий. Обоим родной. И еще обида. Палач. Не слово — бич. Нестерпимо, жгуче больно от него. Душа нахлестана им в рубцы. Революция обязывает. Да. Революционер должен гордиться, что он выполнил свой долг до конца. Да. Но слово, слово. Вот забиться бы куда-нибудь под кровать, в гардероб. Пусть никто не видит. И самому чтоб — никого.
V
Срубов видел Ее каждый день в лохмотьях двух цветов — красных и серых. И Срубов думал.
Для воспитанных на лживом пафосе буржуазных революций — Она красная и в красном. Нет. Одним красным Ее не охарактеризуешь. Огонь восстаний, кровь жертв, призыв к борьбе — красный цвет. Соленый пот рабочих будней, голод, нищета, призыв к труду — серый цвет. Она красно-серая. И наше — Красное Знамя — ошибка, неточность, недоговоренность, самообольщение. К нему должна быть пришита серая полоса. Или, может быть, его все надо сделать серым. И на сером красную звезду. Пусть не обманывается никто, не создает себе иллюзий. Меньше иллюзий — меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд.
И еще думал:
— Разве не захватано, не затаскано это красное знамя, как затаскано, захватано слово социал-демократ? Разве не поднимали его, не прятались за ним палачи пролетариата и его революции? Разве оно не было над Таврическим и Зимним дворцами, над зданием самарского Комуча? Не под ним разве дралась колчаковская дивизия? А Гайдеман, Вандервальде, Керенский…
Срубов был бойцом, товарищем и самым обыкновенным человеком с большими черными человечьими глазами. А глазам человечьим надо красного и серого, им нужно красок и света. Иначе затоскуют, потускнеют.
У Срубова каждый день — красное, серое, серое, красное, красно-серое. Разве не серое и красное — обыски — разрытый нафталинный уют сундуков, спугнутая тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слезы, просьбы, расстрелы — расколотые черепа, дымящиеся кучки мозгов, кровь. Оттого и ходил в кино, любил балет. Потому через день после ухода жены и сидел в театре на гастролях новой балерины.
В театре ведь не только оркестр, рампа, сцена. Театр — еще и зрители. А когда оркестр запоздал, сцена закрыта, то зрителям нечего делать. И зрители — сотни глаз, десятки биноклей, лорнетов разглядывали Срубова. Куда ни обернется Срубов — блестящие кружочки стекол и глаз, глаз, глаз. От люстры, от биноклей, от лорнетов, от глаз — лучи. Их фокус — Срубов. А по партеру, по ложам, по галерке волнами ветерка еле уловимым шепотом:
— …Предгубчека… Хозяин губподвала… Губпалач… Красный жандарм… Советский охранник… Первый грабитель…
Нервничает Срубов, бледнеет, вертится на стуле, толкает в рот бороду, жует усы. И глаза его, простые человечьи глаза, которым нужны краски и свет, темнеют, наливаются злобой. И мозг его усталый требует отдыха, напрягается стрелами, мечет мысли.
«Бесплатные зрители советского театра. Советские служащие. Знаю я вас. Наполовину потертые английские френчи с вырванными погонами. Наполовину бывшие барыни в заштопанных платьях и грязных, мятых горжетах. Шушукаетесь. Глазки таращите. Шарахаетесь, как от чумы. Подлые душонки. А доносы друг на друга пишете? С выражением своей лояльнейшей лояльности распинаетесь на целых писчих листах. Гады. Знаю, знаю, есть среди вас и пролезшие в партию коммунистишки. Есть и так называемые социалисты. Многие из вас с восторженным подвыванием пели и поют — месть беспощадная всем супостатам… Мщение и смерть… Бей, губи их, злодеев проклятых. Кровью мы наших врагов обагрим. И, сволочи, сторонятся, сторонитесь чекистов. Чекисты — второй сорт. О подлецы, о лицемеры, подлые белоручки, в книге, в газете теоретически вы не против террора, признаете его необходимость, а чекиста, осуществляющего признанную вами теорию, презираете. Вы скажете — враг обезоружен. Пока он жив — он не обезоружен. Его главное оружие — голова. Это уже доказано не раз. Краснов, юнкера, бывшие у нас в руках и не уничтоженные нами. Вы окружаете ореолом героизма террористов, социалистов-революционеров. Разве Сазонов, Калшев, Балмашев не такие же палачи? Конечно, они делали это на фоне красивой декорации с пафосом, в порыве. А у нас это будничное дело, работа. А работы-то вы более всего боитесь. Мы проделываем огромную черновую, черную, грязную работу. О, вы не любите чернорабочих черного труда. Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью. И мясник для вас ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни. А палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным Малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение…»
Но до начала так и не досидел, вскочил, потел к выходу. Глаза, бинокли, лорнеты с боков, в спину, в лицо. Не заметил, что громко сказал — сволочи. И плюнул.
Домой пришел бледный, с дергающимся лицом. Старуха в черном платье и платке, открывавшая дверь, пытливо-ласково посмотрела в глаза:
— Ты болен, Андрюша?
У Срубова бессильно опущены плечи. Взглянул на мать тяжелым измученным взглядом, глазами, которым не дали красок и света, которые потускнели, затосковали.
— Я устал, мама.
На кровать лег сейчас же. Мать гремела в столовой посудой. Собирала ужин. Но Срубову хотелось только спать.
Видит Срубов во сне огромную машину. Много людей на ней. Главные машинисты на командных местах, наверху, переводят рычаги, крутят колеса, не отрываясь смотрят в даль. Иногда они перегибаются через перила мостков, машут руками, кричат что-то работающим ниже и все показывают вперед. Нижние грузят топливо, качают поду, бегают с масленками. Все они черные от копоти и худы. И в самом низу, у колес, вертятся блестящие диски-ножи. Около них сослуживцы Срубова — чекисты. Вращаются диски в кровавой массе. Срубов приглядывается — черви. Колоннами ползут на машину, мягкие красные черви, грозят засорить, попортить ее механизм. Ножи их режут, режут. Сырое красное тесто валится под колеса, втаптывается в землю. Чекисты не отходят от ножей. Мясом пахнет около них. Не может только понять Срубов, почему не сырым, а жареным.
И вдруг черви обратились в коров. А головы у них человечьи. Коровы с человечьими головами, как черви, — ползут, ползут. Автоматические диски-ножи не поспевают резать. Чекисты их вручную тычут ножами в затылки. И валится, валится под машину красное тесто. У одной коровы глаза синие-синие. Хвост — золотая коса девичья. Лезет по Срубову. Срубов ее между глаз. Нож увяз. Из раны кровью, мясом жареным так и пахнуло в лицо. Срубову душно. Он задыхается.
На столике возле кровати в тарелке две котлеты. Рядом вилка, кусок хлеба и стакан молока. Мать не добудилась, оставила. Срубов проснулся, кричит:
— Мама, мама, зачем ты мне поставила мясо?
Старуха спит, не слышит.
— Мама!
Против постели трюмо. В нем бледное лицо с острым носом. Огромные испуганные глаза. Всклокоченные волосы, борода. Срубову страшно пошевелиться. Двойник из зеркала следит за ним, повторяет все его движения. И он, как ребенок, зовет:
— Мама, мама.
Спит, не слышит. Тихо в доме. Шаркает больная нога маятника. Хрипят часы. Срубов холодеет, примерзает к постели. Двойник напротив. Безумный взгляд настороже. Он караулит. Срубов хочет снова позвать мать. Нет сил повернуть языком. Голоса нет. Только тот, другой, в зеркале беззвучно шевелит губами.
VI
Товарищ Срубова по гимназии, университету и по партийному подполью Исаак Кац, член Коллегии Губчека, подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубову, тому самому Павлу Петровичу, московскому чернобородому доктору в золотых очках, который приготовишку гимназистика Каца шутя трепал за рыжие вихры и звал Иком и которого Кац звал Павлом Петровичем.
И перед расстрелом, раздеваясь в сырой духоте подвала, Павел Петрович говорил Кацу:
— Ика, передай Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Я знаю, что люди способны ослепляться какой-либо идеей настолько, что перестают здраво мыслить, отличать черное от белого. Большевизм — это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа.
Голый чернобородый
доктор наклонил набок голову в вороненом серебре волос, снял очки в золотой оправе, отдал коменданту. Потер рука об руку, шагнул к Кацу.
— А теперь, Ика, позволь пожать твою руку.
И Кац не мог не подать руки доктору Срубову, глаза которого были, как всегда, ласковы, голос которого, как всегда, был бархатно мягок.
— Желаю тебе скорейшего выздоровления. Поверь мне как старому доктору, поверь так, как верил гимназистом, когда я лечил тебя от скарлатины, что твоя болезнь, болезнь всего русского народа, безусловно, излечима и со временем исчезнет бесследно и навсегда. Навсегда, ибо в переболевшем организме вырабатывается достаточное количество антивещества. Прощай.
И доктор Срубов, боясь потерять самообладание, отвернулся, торопливо, сгорбившись, пошел к «стенке».
А член Коллегии Губчека Исаак Кац, который был обязан сегодня присутствовать при расстрелах, едва удержался от желания убежать из подвала.
И в ночь расстрела доктора медицины Павла Петровича Срубова член Коллегии Губчека Исаак Кац телеграммой был переведен на ту же должность Члена Коллегии Губчека в другой город, в тот, где работал Андрей Срубов. И в первый же день своего приезда Исаак Кац сидел на квартире у Андрея Срубова и пил с Андреем Срубовым кофе. А мать Срубова, бледная старуха с черными глазами, в черном платье и в черном платке, варила кофе, вызывала сына из столовой и в темной прихожей шепотом говорила:
— Андрюша, Ика Кац расстрелял твоего папу, и ты сидишь с ним за одним столом.
Андрей Срубов ладонями рук ласково касался лица матери, шептал:
— Милая моя мамочка, мамунечка, об этом не надо говорить, не надо думать. Дай нам еще по стакану кофе.
И сам не хотел говорить, не хотел думать. Но Ика Кац считал неудобным не говорить и говорил. Говорил, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане, внимательно разглядывал свою руку, красноватую в рыжих волосах, в синих жилах, опуская рыжую кудрявую голову, наклонясь над дымящимся кофе, вдыхая его запах — крепкий, резкий, мешающийся с мягким запахом кипящего молока.
— Никак нельзя было не расстрелять. Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом — ОИБ. Мечтал о таких «оибах» по всей Сибири, хотел объединить в них распыленные силы интеллигенции, настроенной антисоветски. Во время следствия он их звал оибистами…
Говорил, а лица не поднимал от стакана. Срубов слушал, медленно набивал трубку, не смотрел на Каца, чувствуя, что ему не хочется говорить, что говорит он только из вежливости. Срубов убеждал себя, что расстрел отца был необходим, что он как коммунист-революционер должен согласиться с этим безоговорочно, безропотно. А глаза тянуло к руке, красными короткими пальцами сжимавшей стакан с коричневой жидкостью, к руке, подписавшей смертный приговор отцу. И, с улыбкой натянутой, фальшивой, с усилием тяжелым разжимая губы, сказал:
— Знаешь, Ика, когда один простодушный чекист на допросе спросил Колчака, сколько и за что вы расстреляли, Колчак ответил: «Мы с вами, господа, кажется, люди взрослые, давайте поговорим о чем-нибудь более серьезном». Понял?
— Хорошо, не будем говорить.
Срубова передернуло оттого, что Кац так быстро согласился с ним, что на его лице, бритом, красном, мясистом, с крючковатым острым носом, в его глазах, зеленых, выпуклых, было деревянное безразличие. И когда Кац замолчал, стал пить, громко глотая, у Срубова мысли быстро-быстро, одна за другой. Мысли как оправдание. Перед кем? Может быть перед Ней, может быть, перед самим собою. В глазах Срубова боль и стыд, и желание, страстное, непреодолимое — оправдываться. И если нет смелости вслух, то хотя бы про себя, мысленно оправдываться, оправдываться, оправдываться.
«Я знаю твердо, каждый человек, следовательно, и мои отец, — мясо, кости, кровь. Я знаю, труп расстрелянного — мясо, кости, кровь. Но почему страх? Почему я стал бояться ходить в подвал? Почему я таращу глаза на руку Каца? Потому что свобода есть бесстрашие. Потому что быть свободным значит, прежде всего, быть бесстрашным. Потому что я еще не свободен вполне. Но я не виноват. Свобода и власть после столетий рабства — штуки не легкие. Китаянке изуродованные ноги разбинтуй — падать начнет, на четвереньках наползается, пока научится по-человечьи ходить, разовьет свои культяпки. Дерзаний-то, замыслов-то, порывов-то у нее, может быть, океан, а культяпки мешают. Культяпки эти, несомненно, и у Наполеона были, и у Смердякова. И у кого из нас не изуродованные ноги? Учиться, упражняться тут, пожалуй, мало переродиться надо, кожей другой обрасти».
Кац кончил пить. Не опуская стакана, вслух подумал или сказал Срубову:
— Конечно, что говорить, плакать, философствовать. Каждый из нас, пожалуй, может и хныкать. Но класс в целом неумолим, тверд и жесток. Класс в целом никогда не останавливается над трупом — перешагнет. И если мы с тобой рассиропимся, то и через нас перешагнут.
А в это время в Губчека, в подвале № 3 дрожь коленок, тряска рук, щелканье зубов ста двенадцати человек. И комендант, у которого из-под толстого полушубка красные галифе, у которого розовое бритое лицо и в руках белый лист — список, приказывает ста двенадцати арестованным собираться и выходить с вещами. И дрожь, и тряска, и пересыхание глоток, и слезы, и вздохи, и стоны именно оттого, что приказано выходить с вещами. Сто двенадцать участвовали в восстании против советской власти, захвачены с оружием в руках и знают, что их всех расстреляют, думают, если выводят с вещами — выводят на расстрел. И вот сто двенадцать в черных, рыжих овчинах, пахучих шубах, полушубках, в пестрых собачьих, оленьих, козловых, телячьих дохах, пиджаках, в лохматых папахах, в длинноухих малахаях, в расшитых унтах, в простых катанках, сложив горой вещи в просторной комендантской, идут из подвала, из сырости, из мрака, от крыс, от колебаемых и сырых полок, от страха, от томления предсмертного, от дней полузабытья, от ночей бессонницы, идут в зрительный зал клуба Губчека и батальона ВЧК по светлым широким мраморным ступеням лестниц, по площадкам, на которых часовые, как изваянья, а воздух насыщен электрическим светом, нагрет сухим дыханием калориферов. Длинный, пестрый, стоголовый пахучий зверь с мягким шумом катанок и унтов послушно прополз за комендантом в третий этаж, пестрой шкурой накрыл все стулья зрительного зала.
На красном полотнище занавеса сцены надпись: «ОБМАНУТЫМ КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ».
По складам, с трудом разобрали и с затаенной радостной надеждой вздохнули, зашевелились, зашептали. Но в зеленых гирляндах сосновых веток по стенам другие надписи, страшные, пугающие, противоречащие:
«СМЕРТЬ ВРАГАМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». «СМЕРТЬ АНТАНТЕ И ЕЕ СЛУГАМ».
На пестрой шкуре дрожь, от дрожи складки. И шепот громче, взволнованнее.
— Сме-е-ерть… См… сме-сме-рть… сме-сме-смерть…
В зале запах пота, заношенного белья, портянок, кислых овчин, махорки. Комендант приказал открыть форточку. И пестрый лохматый зверь жадно раздул ноздри, захватил полную грудь свежей сырости тающего снега, крепкого хмеля первого холодного пота земли. Беспокойно, с тоской завозился зверь, затрещали, заскрипели стулья. Потянуло здорового, сильного к земле, захотелось впиться в ее черную грудь, припасть к ней большим, потным, мокрым, на работе взмокнувшим телом.
И Срубов и Кац, когда вошли в залу, увидели на лицах, в глазах арестованных крестьян серую тоску, поняли, что от безделья, от подвальной духоты, от тягостного ожидания смерти, что по земле, по работе она. Срубов быстро, упругими широкими шагами вышел на подмостки сцены. Высокий, в черной коже брюк и куртки, чернобородый, черноволосый, с револьвером на боку, на красном фоне занавеса, он стал как отлитый из чугуна. Смело посмотрел в глаза укрощенному, пестрому сильному зверю. Первое слово — обращение сказал с радостью укротителя, уверенного в победе:
— Товарищи…
Негромко, медленно, чуть нараспев. Как погладил по упрямой жесткой шерсти. Вызвал легкую щекочущую дрожь во всей пестрой шкуре. Как укротитель, спокойно открывающий клетку укрощенного зверя, Срубов спокойно объявил:
— Через час вы будете освобождены.
Радостью огненной, сверкающей блеснули сто двенадцать пар глаз. Взволнованно, радостно зарычал пестрый зверь. А из форточки непрерывным потоком хмель тающего снега. Сильнее, шире раздуваются ноздри, кружит головы весенний угар. И Срубов захмелел от хмельного дыхания близкой весны, от хмельной звериной радости ста двенадцати человек. Расперли грудь большие, набухшие радостью огненные клубы слов. Рассыпались солнечным, слепящим дождем искр по пестрой шкуре зверя, щелкая, подпаливая шерсть, забегали колющими красными, синими, зелеными огоньками.
— Товарищи, Революция — не разверстка, не расстрелы, не Чека.
В море огня мелькнула черная обуглившаяся фигура расстрелянного отца и исчезла, сгорела.
— Революция — братство трудящихся.
После концерта, спектакля освобожденный пестрый зверь с довольным ворчанием, с топотом, сотнями ног побежал в раскрытые ворота на улицу.
И радостью, беспричинной хмельной звериной радостью жизни опьянели чекисты. И в ту ночь невиданное увидел белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми у ворот и дверей.
Вышли за ворота с хохотом, с громкими криками сотрудники Губчека. Предгубчека мальчишкой забежал вперед, схватил горсть снегу, смял и Ваньке Мудыне в рожу. Ванька захлебнулся смехом, взвизгнул.
— Я вам сейчас, товарищ Срубов, председательскую залеплю.
Мудыню поддержал мрачный Боже. Срубову сразу в спину и шею два белых холодных комка. Срубов в кучу чекистов еще ком, и чекисты, как школьники, выскочившие на большую перемену на улицу, с визгом принялись лупиться снегом. Ком снега — ком смеха. Смех — снег. И радость неподдельная, беспричинная, хмельная, звериная радость жизни.
Срубова облепили, выбелили с головы до ног. Попало в лицо и неприкосновенным лицам — часовым.
Простились, разошлись усталые с мокротой за воротниками, с мокрыми покрасневшими горящими руками и щеками.
Срубов на углу пожал руку Каца, посмотрел на него прояснившимися, блестящими черными глазами.
— До свидания, Ика. Все хорошо, Ика. Революция — это жизнь. Да здравствует Революция, Ика.
И дома Срубов с аппетитом поужинал. И, вставая из-за стола, схватил печальную, черную женщину — мать, закружился с ней по комнате. Мать вырывалась, не знала, сердиться ей или смеяться, кричала, задыхаясь от бешеных туров неожиданного вальса.
— Андрей, ты с ума сошел. Пусти, Андрей…
Срубов смеялся.
— Все хорошо, мамочка. Да здравствует Революция, мамочка!
VII
Допрашиваемый посредине кабинета. Яркий свет ему в глаза. Сзади него, с боков — мрак. Впереди, лицом к лицу, — Срубов. Допрашиваемый видит только Срубова и двух конвоиров на границе освещаемого куска пола.
Срубов работал с бумагами. На допрашиваемого никакого внимания. Не смотрел даже. А тот волнуется, теребит хилые, едва пробивающиеся усики. Готовится к ответам. Со Срубова не спускает глаз. Ждет, что он сейчас начнет спрашивать. Напрасно. Пять минут — молчание. Десять. Пятнадцать. Закрадывается сомнение, будет ли допрос. Может быть, его вызвали просто для объявления постановления об освобождении? Мысли о свободе легки, радостны.
И вдруг неожиданно:
— Ваше имя, отчество, фамилия?
Спросил и головы не поднял. Будто бы и не он. Все бумаги перекладывает с места на место. Допрашиваемый вздрогнул, ответил. Срубов и не подумал записать. Но все-таки вопрос задан. Допрос начался. Надо говорить ответы.
Пять минут — тишина. И опять:
— Ваше имя, отчество, фамилия?
Допрашиваемый растерялся. Он рассчитывал на другой вопрос. Запнувшись, ответил. Стал успокаивать себя. Ничего нет особенного, если переспросили. Новая пауза.
— Ваше имя, отчество, фамилия?
Это уже удар молота. Допрашиваемый обескуражен. А Срубов делает вид, что ничего не замечает.
И еще пауза. И еще вопрос:
— Ваше имя, отчество, фамилия?
Допрашиваемый обессилен, раскис. Не может собраться с мыслями. Сидит он на табуретке без спинки. От стены далеко. Да и стену не видно. Мрак рыхлый. Ни к чему не прислониться. И этот свет в глаза. Винтовки конвойных. Срубов, наконец, поднимает голову. Давит тяжелым взглядом. Вопросов не задает. Рассказывает, в какой части служил допрашиваемый, где она стояла, какие выполняла задания, кто был командиром. Говорит Срубов уверенно, как по послужному списку читает. Допрашиваемый молчит, головой кивает. Он в руках Срубова.
Нужно подписать протокол. Не читая, дрожащей рукой, выводит свою фамилию. И только отдавая длинный лист обратно, осознает страшный смысл случившегося — собственноручно подписал себе смертный приговор. Заключительная фраза протокола дает полное право Коллегии Губчека приговорить к высшей мере наказания.
…участвовал в расстрелах, порках, истязаниях красноармейцев и крестьян, участвовал в поджогах сел и деревень.
Срубов прячет бумагу в портфель. Небрежно бросает:
— Следующего.
А об этом ни слова. Что был он, что нет. Срубов не любит слабых, легко сдающихся. Ему нравились встречи с ловкими, смелыми противниками, с врагом до конца.
Допрашиваемый ломает руки.
— Умоляю, пощадите. Я буду вашим агентом, я выдам вам всех…
Срубов даже не взглянул. И только конвойным еще раз, настойчиво:
— Следующего, следующего.
После допроса этого жидкоусого в душе брезгливая дрожь. Точно мокрицу раздавил.
Следующий капитан-артиллерист. Открытое лицо, прямой, уверенный взгляд расположили. Сразу заговорил.
— Долго у белых служили?
— С самого начала.
— Артиллерист?
— Артиллерист.
— Вы под Ахлабинным не участвовали в бою?
— Как же, был.
— Это ваша батарея возле деревни в лесу стояла?
— Моя.
— Ха-ха-ха-ха!..
Срубов расстегивает френч, нижнюю рубашку. Капитан удивлен. Срубов хохочет, оголяет правое плечо.
— Смотрите, вот вы мне как залепили. — На плече три розовых глубоких рубца. Плечо ссохшееся:
— Я под Ахлабинным ранен шрапнелью. Тогда комиссаром полка был.
Капитан волнуется. Крутит длинные усы. Смотрит в пол. А Срубов ему совсем как старому знакомому.
— Ничего, это в открытом бою.
Долго не допрашивал. В списке разыскиваемых капитана не было. Подписал постановление об освобождении. Расставаясь, обменялись долгими, пристальными, простыми человечьими взглядами.
Остался один, закурил, улыбнулся и на память в карманный блокнот записал фамилию капитана.
А в соседней комнате возня. Заглушенный крик. Срубов прислушался. Крик снова. Кричащий рот — худая бочка. Жмут обручи пальцы. Вода в щели. Между пальцев крик.
Срубов в коридор.
К двери.
ДЕЖУРНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Заперто.
Застучал, руки больно.
Револьвером.
— Товарищ Иванов, откройте! Взломаю.
Не то выломал, не то Иванов открыл.
Черный турецкий диван. На нем подследственная Новодомская. Белые, голые ноги. Белые клочки кружев. Белое белье. И лицо. Уже обморок.
А Иванов красный, мокро-потный.
И через полчаса арестованный Иванов и Новодомская в кабинете Срубова. У левой стены рядом в креслах. Оба бледные. Глаза большие, черные. У правой на диване, на стульях все ответственные работники. Френчи, гимнастерки защитные, кожаные тужурки, брюки разноцветные. И черные, и красные, и зеленые.
Курили все. За дымом лица серые, мутные.
Срубов посередине за столом. В руке большой карандаш. Говорил и черкал.
— Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабьей душонки.
Новодомской нехорошо. Холодные кожаные ручки сжала похолодевшими руками.
— Позволено стрелять — позволено и насиловать. Все позволено… И если каждый Иванов?..
Взглянул и направо и налево. Молчали все. Посасывали серые папироски.
— Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено.
Сломал карандаш. С силой бросил на стол. Вскочил, выпятил лохматую черную бороду.
— Иначе не революция, а поповщина. Не террор, а пакостничанье.
Опять взял карандаш.
— Революция — это не то, что моя левая нога хочет. Революция…
Черкнул карандашом.
— Во-первых…
И медленно, с расстановкой:
— Ор-га-ни-зо-ван-ность.
Помолчал.
— Во-вторых…
Опять черкнул. И также:
— Пла-но-мер-ность, в-третьих…
Порвал бумагу.
— Ра-а-счет.
Вышел из-за стола. Ходит по кабинету. Бородой направо, бородой налево. Жмет к стенам. И руками все поднимает с пола и кладет кирпич, другой, целый ряд. Вывел фундамент. Цементом его. Стены, крышу, трубы. Корпус огромного завода.
— Революция — завод механический.
Каждой машине, каждому винтику свое.
А стихия? Стихия — пар, не зажатый в котел, электричество, грозой гуляющее по земле.
Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности. Электричество тогда электричество, когда оно в стальной сетке проводов. Пар тогда пар, когда он в котле.
Завод заработал. В него. Ходит между машинами, тычет пальцами.
— Вот наша. Чем работает? Гневом масс, организованным в целях самозащиты…
Крепкими железными плиточками, одна к одной в головах слушателей мысли Срубова.
Кончил, остановился перед комендантом, сдвинул брови, постоял и совершенно твердо (голос не допускает возражений):
— Сейчас же расстреляйте обоих. Его первого. Пусть она убедится.
Чекисты с шумом сразу встали. Вышли, не оглядываясь, молча. Только Пепел обернулся в дверях и бросил твердо, как Срубов:
— Это есть правильно. Революция — никакой филозофий.
У Иванова голова на грудь. Раскрылся рот. Всегда ходил прямо, а тут закосолапил. Новодомская чуть вскрикнула. Лицо у нее из алебастра. Ничком на пол, без чувств. Срубов заметил ее рваные высокие теплые галоши (крысы изъели в подвале.)
Взглянул на часы, потянулся, подошел к телефону, позвонил:
— Мама, ты? Я иду домой.
За последнее время Срубов стал бояться темноты. К его приходу мать зажгла огонь во всех комнатах.
VIII
Срубов видел диво — Белый и Красный ткали серую паутину будней.
Его, Срубова, будней.
Белый тянул паутину от учреждения к учреждению, от штаба к штабу, клал узкие, крепкие петли вокруг белого трехэтажного каменного дома, стягивая концы в одно место, за город, в гнилой домишко караульщика губземотдельских огородов. Белый плел паутину ночами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает.
Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого — нить в нить, узел в узел, петлю в петлю, но концы стягивал в другое место — в белый трехэтажный каменный дом. Красный вил и днем и ночью, не прерывал работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает.
У Белого и у Красного напряженная торопливость работы, у каждого надежда на крепость своей паутины, расчет своей паутиной опутать, порвать паутину другого.
А именно в торопливости, напряженности, настороженности — в близкой путанице паутины своей и чужой — будни Срубова. Не спать неделями или спать, не раздеваясь, на стуле за столом, на столе, в санях, в седле, в автомобиле, в вагоне, на тормозе, есть всухомятку, на ходу, принять, встретить, опросить, проинструктировать десятки агентов, прочесть, написать, подписать сотни бумаг, еле держать голову, еле таскать ноги от усталости — будни. И так вот, не раздеваясь, засыпая за столом в кресле или ложась на час, на два на диван, в непрерывной грязной лавине людей, в белых горах бумаги, в сине-серых облаках табачного дыма Срубов работал восьмые сутки. (Вообще же служба в Чека красно-серое, серо-красное. Красный и Белый, Белый и Красный. И бесконечная путаница паутины — третий год.)
И вот когда все приготовления сделаны, все распоряжения отданы, паутина чужая прочно оплетена паутиной своей, когда сотрудники с ордерами, с мандатами посланы куда следует и сделают все, как следует и когда следует, когда в белом трехэтажном доме тихо и пусто (только в нижнем этаже оставлена рота батальона ВЧК), когда в ночь с восьмого на девятое нужно ждать результатов горячечной работы последней недели, когда до начала облавы, обысков, арестов осталось ровно два часа, когда хочется спать, глаза красны — раскрыть на столе папку черного сафьяна и одним пальцем рыться в стопках бумажных клочков, обрывков, перечитывать клочки, обрывки мыслей, подпирать рукой тяжелую голову, зевать, курить.
Большой лист графленой бумаги.
«Во Франции были гильотина, публичные казни. У нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни окружают смерть преступника, даже самого грозного, ореолом мученичества, героизма. Публичные казни агитируют, дают нравственную силу врагу. Публичные казни оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казненный как бы не уничтожается совсем.
Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватает свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно.»
Бланк — председатель Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр… Далее вырван неровный лоскут. На уцелевшей полоске записано:
«1. В 9 ч. в. свидание с Арутьевым.
2. Спросить завхоза, почему в этом м-це выдали тухлое сало.
3. Завтра общегородское собрание.
4. Юрасику на штанишки и чего-нибудь сладкого».
Подписанный протокол обыска. На чистом конце синим карандашом: «Террор необходимо организовать так, чтобы работа палача-исполнителя почти ничем не отличалась от работы вождя-теоретика. Один сказал — террор необходим, другой нажал кнопку автомата-расстреливателя. Главное, чтобы не видеть крови.
В будущем «просвещенное» человеческое общество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерии. Тогда не будет подвалов и «кровожадных» чекистов. Господа ученые, с ученым видом, совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонок начнут обращать их в ваксу, и вазелин, в смазочное масло.
О, когда эти мудрые химики откроют для блага человечества свои лаборатории, тогда не нужны будут палачи, не будет убийства, войн. Исчезнет и слово «жестокость». Останутся одни только химические реакции и эксперименты…»
Из блокнота.
1. Сдать в газету приказ о регистрации нарезного оружия.
2. Посоветоваться с Начосо.
3. Мысли о терроре систематически записывать. Когда будет время — написать книгу.
4. Поговорить с профессором Беспалых об электронах.
Обрывок глянцевитой бумаги для черчения. Чертеж автомата-расстреливателя.
На внутренней стороне использованного пакета мелко красными чернилами:
«Наша работа ч р е з в ы ч а й н о тяжела. Недаром наше учреждение носит название ч р е з в ы ч а й н о й комиссии. Бесспорно, и не все чекисты люди чрезвычайные. Однажды высокопоставленный приятель сказал мне, что чекист, расстрелявший пятьдесят контрреволюционеров, достоин быть расстрелянным пятьдесят первым. Очень мило. Выходит, так — мы люди первого сорта, мы теоретически находим террор необходимым. Хорошо. Примерно получается такая картина — существуют насекомые-вредители хлебных злаков. И есть у них враги — такие же насекомые. Ученые-агрономы напускают вторых на первых. Вторые пожирают первых. Хлебец целиком попадает в руки агрономов. А несчастные истребители больше не нужны и к числу спокойно кушающих белые булочки причислены быть не могут».
Но если голова тяжела, глаза красны и сон свинцом наваливается на плечи, на спину — сложить, закрыть черную папку грудью, лицом, бородой на нее и спать, спать, спать.
А за окнами в синем мраке шмыгающий топот ног, хруст льдинок невидимых лужиц, гул голосов, шорох толпы, гудящие волны идущих к заутрене. На соборной колокольне колокол, самый большой и старый, серо-зеленый от старости, черным железным языком лениво лизал медные серо-зеленые губы, ворчал: «О-о-о-мим-о-о-омим-о-о-омим…»
В кабинете табак, духота, яркий свет электрической люстры и дрожь непрерывная, звонкая дрожь молоточка телефонного звонка. К Срубову в оба уха ползли металлические мухи: «Ж-ж-ж-др-р-р-др-р-р-р-ж-ж-ж…»
Добились своего-разбудили. Голова еще тяжелей, веки слиплись. Горько, сухо во рту. Но мысль сразу верная, ясная — началось.
И началось. Левая рука не отпускает трубку от уха. По телефону донесения, по телефону — распоряжения. На столе карта города. Глаза на ней. Правая рука ставит крестики над захваченными районами, конспиративными квадратами, складами оружия, рвет, сечет короткими косыми черточками тонкую запутанную паутину Белого. У Срубова на губах горькая, ироническая усмешка.
Над городом сырая синь ночи, огни иллюминованных церквей, ликующий пасхальный звон, шуршащие шаги толп, поцелуи, христосование. Христос воскрес! И над городом с горькой усмешкой, со злыми глазами стоит Она — оборванная, полуголодная, властно, тяжело, босой ногой наступает на сусальную радость христосующихся, на белые сладкие пирамидки творога и куличей. Потухли горшки, плошки на церковных карнизах, заглох звон, затих шорох шагов, топот сбежавших, спрятавшихся по домам. Над городом молчание, напряженная тишина, жуть, и в черной синеве весенней ночи синева Ее зорких гневных глаз.
Срубов не усидел в кабинете. Отозвал с облавы Каца, усадил в свое кресло и на автомобиле помчался по городу. Торжествующим ревом с фырканьем, сверкая глазищами фонарей, заметался по улицам сильный стальной зверь. Но Белого не было. Белый забился на задворки, в темные углы, в подполье.
Остался в памяти арест главаря организации — караульщика губземотдельских огородов Ивана Никифоровича Чиркалова, бывшего колчаковского полковника Чудаева. Полковник держался гордо, спокойно. Не утерпел, съязвил:
— Христос воскрес, господин полковник.
И, сажая к себе в автомобиль, добавил:
— Эх, огородник, сажал редьку — вырос хрен.
Чудаев молчал, натягивая на глаза фуражку. Испуганные дамы в нарядных платьях, мужчины в сюртуках, сорочках. Соломин невозмутимо спокойный, шмыгающий носом, разрывающий нафталинный покой сундуков.
— Сказывайте, сколь вас буржуев. Кажинному по шубе оставим. Лишки заберем.
И еще, когда осматривал кучи отобранного оружия, гордо, радостно забилось сердце, крепкая красная сила разлилась по всем мускулам.
Остальное — ночь, день, улицы, улицы, цепочки, цепи патрулей, ветер в ушах, запах бензина, дрожь сиденья автомобиля, хлопанье дверцы, слабость в ногах, шум, тяжесть в голове, резь в глазах, квартиры, комнаты, углы, кровати, люди — бодрствующие, со следами бессонницы на серых лицах, заспанные, удивленные, спящие, испуганные, чекисты, красноармейцы, винтовки, гранаты, револьверы, табак, махорка и серо-красное, красно-серое и Белый, Красный и Красный, Белый. И после ночи, дня и еще ночи нужно было принимать посетителей, родственников арестованных.
Просили все больше об освобождении. Срубов внимателен и равнодушен. Сидит он, хотя и в кресле, но на огромной высоте, ему совершенно не видно лиц, фигур посетителей. Двигаются какие-то маленькие черные точки — и все.
Старуха просит за сына, плачет.
— Пожалейте, единственный…
Падает на колени, щеки в слезах, мокрые. Утирается концом головного платка. Срубову кажется ее лицо не больше булавочной головки. Кланяется старуха в ноги. Опускает, поднимает голову — светлеет, темнеет электрический шарик булавки. Звук голоса едва долетел до слуха:
— Единственный.
Но что он может сказать ей? Враг всегда враг — семейный или одинокий — безразлично. И не все ли равно — одной точкой больше или меньше.
Сегодня для Срубова нет людей. Он даже забыл об их существовании. Просьбы не волнуют, не трогают. Отказывать легко.
— Нам нет дела, единственный он у вас или нет. Виноват — расстреляем.
Одна булавочная головка исчезла, другая вылезла.
— Единственный кормилец, муж… пять человек детей.
Старая история. И этой так же.
Семейное положение не принимается в расчет.
Булавка краснеет, бледнеет. Лицо Срубова, неподвижно каменное, мертвенно-бледное, приводит ее в ужас.
Выходят, выходят черные точки-булавки. Со всеми одинаков Срубов — неумолимо жесток, холоден.
Одна точка придвинулась близко, близко к столу. И когда снова отошла, на столе осталась маленькая темная кучка. Срубов медленно сообразил — взятку сунул. Не спускаясь со своей недостигаемой высоты, бросил в трубку телефона несколько слов-ледышек. Точка почернела от испуга, бестолково залепетала:
— Вы не берете. Другие ваши берут. Случалось…
— Следствие выяснит, кто у вас брал. Расстреляем и бравших и вас.
Были и еще посетители — все такие же точки, булавочные головки. Во все время приема чувствовал себя очень легко — на высоте непомерной. Немного только озяб. От этого, вероятно, каменной белизной покрылось лицо.
Родные, родственники, близкие могли, конечно, униженно просить, дрожать, плакать, стоять в очереди с бедными узелками передач, передавать арестованным сладкие пасхи, сдобные куличи, крашеные яйца — белый трехэтажный каменный дом неумолим, тверд. Жесток, строго справедлив, как часовой механизм и его стрелки.
Родные могли еще приходить со сдобным и сладким, когда арестованные, сфотографированные с меловым номером на груди, уже прошли свой путь из подвала № 3 в тюрьму, из тюрьмы связанными в подвал № 2, из него в № 1 и, следовательно, на кладбище, когда на дворе в помойке дымились черновики их дел, уже сданных в архив (черновики, обрывки, выметенные за день из отделов, в Губчека всегда жглись), когда желтые, жирные, голохвостые крысы огрызали крепкими зубами, острыми красными язычками вылизали их кровь.
Белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми равнодушно скалил чугунные зубы ворот, высовывал из подворотни красные кровяные языки в белой слюне известки (в теплое время кровь, натекшую с автомобилей, увозящих трупы, всегда присыпали известью). Он не знает горя ни тех, кто работает в нем, ни тех, кого приводят в него, ни тех, кто приходит к нему.
IX
На заседании Коллегии окончательно выяснилась такая схема белогвардейской организации:
Группа А — пятнадцать пятерок, активнейшие строевые колчаковские офицеры, главным образом из числа служащих советских учреждений. Ее задача взять партшколу и артсклад. Группа Б — десять пятерок, бывшие офицеры, бывшие торговцы, мелкие предприниматели, лавочники, служащие в солдатах, несколько человек из комсостава Красной Армии. Задача — взять телеграф, телефонную станцию, Губисполком. Группа В — семь пятерок, сброд. Задача — вокзал.
После захвата назначенных пунктов и выделения достаточного количества постов для их охраны, соединение всех групп, ставка на переход некоторых красноармейских частей, атака Губчека, бой с войсками, верными советской власти.
Организация, кроме тридцати двух пятерок, имела много сочувствующих, помогающих, исполняющих вторые роли.
На заседании Коллегии Срубов чувствует себя очень хорошо. Он на огромной высоте. А люди — где-то далеко, далеко внизу. И с высоты именно он увидел, как на ладони, всю хитрую путаницу паутины Белого, разорвал ее. Срубов полон гордого сознания своей силы.
Следователь докладывает:
— …активный член организации, его задачей…
Слушали все внимательно. В кабинете совершенно тихо. У Каца насморк. Слышно, как он сдержанно сопит. Прерывисто мигает электрическая лампочка.
Следователь кончил. Молчит, смотрит на Срубова. Срубов ему вопрос:
— Ваше заключение?
Следователь трет руку об руку, поводит плечами, ежится:
— Полагаю, высшую меру наказания.
Срубов кивает головой. И ко всем:
— Имеется предложение — расстрелять. Возражения? Вопросы?
Моргунов покраснел, макнул усы в стакан с чаем.
— Ну, конечно.
— Стрельнули, значит?
Срубову весело. Кац, сморкаясь, подтвердил:
— Стрельнули.
— Следующего.
Следователь проводит рукой по черной щетине волос, начинает новый доклад.
— Поставщиком оружия для организации являлся…
— Этого как, товарищи?
Кац опустил голову, полез в карман за носовым платком. Пепел сосредоточенно закурил. Моргунов задумчиво помешивал ложечкой в стакане чай. Казалось, что никто ничего не слышал. Срубов помолчал. Потом громко решительно сказал за всех:
— Принято.
Фамилии, фамилии, фамилии, чины, должности и звания. Один раз Моргунов возразил, стал доказывать:
— По-моему, этот человек не виноват…
Срубов его остановил решительно и злобно:
— Ну, вы, миндаль сахарный, замолчите. Чека есть орудие классовой расправы. Поняли? Если расправы, так, значит, — не суд. Персональная ответственность для нас имеет значение безусловное, но не такое, как для обычного суда или Ревтрибунала. Для нас важнее всего социальное положение, классовая принадлежность. И только.
Ян Пепел, энергично подняв сжатые кулаки, поддержал Срубова.
— Революция — никакой философии. Расстрелять.
Кац тоже высказался за расстрел и стал усиленно сморкаться.
Срубов на огромной высоте. Страха, жестокости, непозволенного — нет. А разговоры о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном — чепуха, предрассудки. Хотя для людишек-булавочек весь этот хлам необходим. Но ему, Срубову, к чему? Ему важно не допустить восстания этих булавочек. Как, каким способом — безразлично.
И одновременно Срубов думает, что это не так. Не все позволено. Есть границы всему. Но как не перейти ее? Как удержаться на ней?
Бледнело лицо. Между бровей складки. Срубов не слушал докладчика-следователя. Думал, как остановиться на предельной точке дозволенного. И где она? На чем-то очень остром стоял одной ногой, другой и руками пытался сохранить равновесие. Удавалось с трудом. И только, кажется, уже к концу заседания обеими ногами стал устойчиво, твердо. Очень обрадовался, нашел способ удержаться на предельной черте. Все зависит, оказывается, от остроконечной, трехгранной пирамидки. Ее, конечно, присутствие и обнаружил у себя в мозгу. Она железной твердости и чистоты. Ее состав — исключительно критикующие и контролирующие электроны. Улыбаясь, погладил себя по голове. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка. Успокоился.
Под протоколом подписался первым. Четко, крупными кольцами с нажимом подписал Срубов, от «о» протянул тонкую ниточку и прикрепил ее к концу толстой длинной палки, заменившей букву «в». Вся подпись — кусок перекрученной деревянной стружки, нацепленной на кол. Члены коллегии на секунду замешкались. Каждый ждал, что кто-нибудь другой первый возьмет перо.
Ян Пепел решительно схватил ручку Срубова. Против слова «Члены» быстро нацарапал — Ян Пепел.
Срубов мрачно сдвинул брови. От белого листа протокола в лицо холод снежной ямы. Живому неприятно у могилы. Она чужая. Но она под ногами. Между фамилией последнего приговоренного и подписью Срубова — один сантиметр. Сантиметром выше — и он в числе смертников. Срубов даже подумал, что машинистка при переписке может ошибиться, поставить его в ряд с теми.
А когда собрались расходиться, внимание привлек стриженый затылок Каца. Невольно пошутил:
— Какой у тебя, Ика, шикарный офицерский затылок — крутой, широкий. Не промахнешься.
Кац побледнел, нахмурился. Срубову неловко. Не глядя друг на друга, не простившись, вышли в коридор.
X
Последний лист бумаги (последние вспышки гаснущего рассудка), положенный Срубовым в черную папку, был мятый, неровно оторванный, с кривыми узловатыми синими жилами строк.
«Если расстреливать всю Чиркаловскую — Чулаевскую организацию пятерками в подвале, потребовалось бы много времени. Чтобы ускорить, вывел больше половины за город. Сразу всех раздели, поставили на краю канавы-могилы. Боже просил разрешения разграфить (зарубить шашками) — отказали. Стреляли сразу десять человек из револьверов в затылки. Некоторые приговоренные от страха садились на край канавы, свешивали в нее ноги. Некоторые плакали, молились, просили пощадить, пытались бежать. Картина обычная. Но кругом была конная цепь. Кавалеристы не выпустили ни одного — порубили. Крутаев выл, требовал меня — «Позовите товарища Срубова! Имею ценные показания. Приостановите расстрел. Я еще пригожусь вам. Я идейный коммунист». И когда я подошел к нему, он не узнал меня, бессмысленно таращил глаза, ревел: «Позовите товарища Срубова!» Все-таки пришлось расстрелять его. Обнаружилось у него уж слишком кровавое прошлое, надоели заявления на него, да к тому же, все, что мог дать нам, он дал.
Но все же меня поразило, привело в восторг большинство этих людей. Видимо, Революция выучила даже умирать с достоинством. Помню, еще мальчишкой я читал, как в японскую войну казаки заставили хунхузов рыть могилы, сажали их на край и поочередно, поодиночке отрубали им головы. Меня восхищало это восточное спокойствие, невозмутимость, с которым ожидали смертельного удара. И теперь я прямо залюбовался, когда освещенная луной длинная шеренга голых людей застыла в совершенном безмолвии и спокойствии, как неживая, как ряд гипсовых алебастровых статуй. Особенно твердо держались женщины. И надо сказать, что, как правило, женщины умирают лучше мужчин.
Из ямы кто-то закричал: «Товарищи, добейте!» Соломин спрыгнул в яму на трупы, долго ходил по ним, переворачивал, добивал. Стрелять было все-таки плохо. Ночь была хотя и лунная, но облачная.
Когда луна осветила окровавленные лица расстрелянных, лица трупов, я почему-то подумал о своей смерти. Умерли они — умрешь и ты. Закон земли жесток, прост — родись, роди, умирай. И я подумал о человеке — неужели он, сверлящий глазами телескопов эфир вселенной, рвущий границы земли, роющийся в пыли веков, читающий иероглифы, жадно хватающийся за настоящее, дерзко метнувшийся в будущее, он, завоевавший землю, воду, воздух, неужели он никогда не будет бессмертен? Жить, работать, любить, ненавидеть, страдать, учиться, накопить массу опыта, знаний и потом стать зловонной падалью… Нелепость…
Возвращались мы с восходом солнца. Проходя к автомобилю, я наступил ногой на муравейник. Десятки муравьев впились мне в сапоги. Я ехал и думал: козявка и та вступает в смертельный бой за право жить, есть, родить. Козявка козявке грызет горло. А мы вот философствуем, нагромоздили разных отвлеченных теорий и мучаемся. Пепел говорит: «Революция — никакой философии». А я без «философии» ни шагу. Неужели это только так и есть… родись, роди, умри?»
XI
Потом была койка в клиниках для нервнобольных. Был двухмесячный отпуск. Было смещение с должности предгубчека. Была тоска по ребенку. Был длительный запой. Многое было за несколько месяцев.
И вот теперь этот допрос. Срубов худой, желтый, под глазами синие дуги. Кожаный костюм надет прямо на кости. Тела, мускулов нет. Дыхание прерывистое, хриплое. А допрашивает Кац. Лицо у него — круглый чайник. Нос — дудочка острая, опущенная вниз. Хочется встать и с силой ткнуть большим пальцем в ненавистную дудочку, заткнуть ее. И ведь сидит, начальство из себя разыгрывает за его же столом. Ручку белую слоновой кости схватил красной лапой, в чернилах всю вымазал. А допрос — пытка. Да хотя бы уж допрашивал. Куда там — лекцию читает: авторитет партии, престиж Чека. И все дудочкой кверху, кверху, как в самое сердце сует ее, ковыряет.
Рвет Срубов бороду. Зубы стискивает. Глазами огненными, ненавидящими Каца хватает. По жилам обида кислотой серной. Жжет, вертит. Не выдержал. Вскочил и бородой на него:
— Понял ты, дрянь, что я кровью служил Революции, я все ей отдал, и теперь лимон выжатый. И мне нужен сок. Понял, сок алкоголя, если крови не стало.
На мгновенье Кац, следователь, предгубчека, обратился в прежнего Ику. Посмотрел на Срубова ласковыми большими глазами.
— Андрей, зачем ты сердишься? Я знаю, ты хорошо служил Ей. Но ведь ты не выдержал?
И оттого, что Кац боролся с Икой, оттого, что это было, больно, с болью сморщившись, сказал:
— Ну, поставь себя на мое место. Ну, скажи, что я должен делать, когда ты стал позорить Ее, ронять Ее достоинство?
Срубов махнул рукой и по кабинету. Кости хрустят в коленях. Громко шуршали кожаные штаны. На Каца не смотрит. Стоит ли обращать внимание на это ничтожество? Перед ним встала Она — любовница великая и жадная. Ей отдал лучшие годы жизни. Больше — жизнь целиком. Все взяла — душу, кровь и силы. И нищего, обобранного отшвырнула. Ей, ненасытной, нравятся только молодые, здоровые, полнокровные. Лимон выжатый не нужен более. Объедки в мусорную яму. Сколько позади Ее на пройденном пути валяется таких, выпитых, обессилевших, никому не нужных. Видит Срубов ясно Ее, жестокую и светлую. Проклятия, горечь разочарования комком жгучим в лицо Ей хочет бросить. Но руки опускаются. Бессилен язык. Видит Срубов, что Она сама — нищая, в крови и лохмотьях. Она бедна, потому и жестокая.
Но инвалид, объедок еще жив и жить хочет. А мусорщик с метлой уже пришел. Вон сидит — дудочка кверху. Нет, он не хочет в яму. Его решили уничтожить. Не удастся. Он сумеет скрыться. Не найдут. Жить, жить… Пусть остается на столе фуражка. С хитрой ядовитой улыбкой к Кацу:
— Гражданин предгубчека, я еще не арестован? Разрешите мне выйти в клозет?
И в дверь. И по коридору почти бегом. А Кац, ставший опять Кацем, предгубчека, краснеет от стыда за минутную слабость. С силой крутит ручку телефона, справляется у начальника тюрьмы, есть ли свободная одиночка. Закуривает, ждет Срубова, твердо, спокойно подписывает постановление об его аресте.
Но Срубов уже на улице. На тротуарах людно и тесно. По середине дороги длинные костлявые ноги разбрасывал широко. Руками махал. Волосы на ветру торчком в разные стороны. Любопытные останавливались и показывали пальцами. Ничего не видел. Помнил только, что надо бежать. Несколько раз сворачивал за углы. Названия улиц, номера домов не играли роли. Важно было только скрыться. Задыхался, падал, вставал и снова дальше. Хлопали, открывались какие-то двери. Росла надежда, что побег удастся. Не догонят…
И вдруг неожиданно, как несчастье, черная непроницаемая стена загородила дорогу. А за спиной двойник. Он, оказывается, гнался все время следом. Не оглядывался — не видел. Теперь он доволен —
догнал. Вон ртом хватает воздух, как рыба, и рожу кривит.
Срубов не понимал, что он у себя на квартире стоит перед трюмо. Страха перед двойником не было на этот раз. Моментально решил его уничтожить. Топор от печки сам прыгнул в руки. Со всего размаха двойника по лицу. Насквозь — от правого глаза к мочке левого уха. А он, дурак, в последнюю секунду еще засмеялся, захохотал. Так с хохотом и рассыпался по полу сверкающими кусками.
Один враг уничтожен. Теперь стена. Напрасно воображают поставить его к ней. Расстрелять его никому не удастся. Он обманет всех. Пусть думают, что он раздевается, а он ее топором. Прорубит и убежит.
Сзади в дверях бледное испуганное лицо матери.
— Андрюша, Андрюша.
Осыпалась штукатурка. Желтый бок бревна. Щепки летят. Еще и еще сильнее. Топор соскочил с топорища. Черт с ним. Зубы-то на что. Зубами, когтями прогрызет, процарапает и убежит.
— Андрей Павлович, Андрей Павлович, что вы делаете?
Кто это тянет его за плечи. Надо посмотреть. Может быть, двойник опять поднялся с полу. Не насмерть его значит убил. Срубов пристально смотрит в глаза маленькому коренастому черноусому человеку. Ага, квартирант Сорокин. Обывателишка, в собесе служит. Надо держать себя с достоинством, подальше от этой дряни. Гордо поднял голову:
— Прошу, во-первых, не фамильярничать, не прикасаться ко мне грязными ручишками. Во-вторых, запомните, я коммунист и христианских имен, разных Андреев блаженных и Василиев первозванных или как там… Ну да, не признаю. Если вам угодно обращаться ко мне, то пожалуйста — мое имя Лимон…
Отчего-то сразу устал. Голова кружится. Сил нет. Угорел, что ли? Проехаться бы на автомобиле за город. Пожалуй, надо попросить этого обывателишку. Оказывается, согласен, даже рад. И мать тоже тут, улыбается, головой кивает.
— Прокатись, Андрюша, прокатись, родной.
В прихожей разрешил надеть на себя пальто. На голову самое легкое кепи. Чем легче, тем лучше. В дверях обернулся. Мать что-то плачет. Вся дрожит, трясется.
— Мама, не забудь сегодня Юрику на завтрак котлетку…
Ничего не ответила, плачет. Автомобиль двигался почему то не бензином, а конной тягой. Да и тащила его какая-то заморенная клячонка. Ну, все равно. Главное, чтобы сидеть. И Сорокин ничего, можно даже поговорить с ним.
— Сорокин, вы знаете, я ведь с механического завода. Рабочий. Двадцать четыре часа в сутки.
Все-таки сидеть трудно. Может быть, можно лечь? Надо спросить.
— Сорокин, кровать далеко? Я смертельно устал.
Ну и тип этот Сорокин. Чурбан с глазами. Молчит. Плохой кавалер — за талию сгреб, как медведь.
Из-за угла люди с оркестром, с развернутым красным знаменем. Оркестр молчит. Резкий, четкий стук ног.
В глазах Срубова красное знамя расплывается красным туманом. Стук ног — стук топоров на плотах (он никогда не забудет его). Срубову кажется, что он снова плывет по кровавой реке. Только не на плоту он. Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах. А плоты мимо, обгоняют его. Вдоль берегов многоэтажные корабли. Смешно немного Срубову, что сотни едущих, работающих на них с плотными красными лицами, с надувшимися напряженными жилами поднимают к небу длинные, длинные карандаши труб, чертят дымом каракульки на небесной голубой бумаге. Совсем дети. Те ведь всегда в тетрадках каракульки выводят.
Туман зловонный над рекой. Нависли крутые каменным берега. Русалка с синими глазами, покачиваясь, плывет навстречу. На золотистых волосах у нее красная коралловая диадема. Ведьма лохматая, полногрудая, широкозадая с ней рядом. Леший толстый в черной шерсти по воде, как по земле, идет. Из воды руки, ноги, головы почерневшие, полуразложившиеся, как коряги, как пни, волосы женщин переплелись, как водоросли. Срубов бледнеет, глаза не закрываются от ужаса. Хочет кричать — язык примерз к зубам. А плоты все мимо, мимо… Вереницей многоэтажные корабли.
Оркестр поравнялся с пролеткой Срубова. Загремел. Срубов схватился руками за голову. Для него ни стук ног, ни бой барабанов, ни рев труб — земля затряслась, загрохотал, низвергаясь, вулкан, ослепила огненная кровавая лава, посыпался на голову, на мозг черный горячий пепел. И вот, сгибаясь под тяжестью жгучей черной массы, наваливающейся на спину, на плечи, на голову, закрывая руками мозг от черных ожогов, Срубов все же видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан.
Плоты мимо, мимо корабли. Срубов собирает последние силы, стряхивает с плеч черную тяжесть, кидается к ближнему многоэтажному великану. Но гладки, скользки борты. Не за что уцепиться. Срубов соскочил с пролетки, упал на мостовой, машет руками, хочет плыть, хочет кричать и только хрипит:
— Я… я… я…
А на спине, на плечах, на голове, на мозгу черный пепел жгучей черной горой давит, жжет, жжет, давит.
И в тот же день.
Красноармейцы батальона ВЧК играли в клубе в шашки, играли, щелкали орехи, слушали, как Ванда Клембровская играла на пианино «непонятное».
Ефим Соломин на митинге говорил с высокого ящика.
— Товарищи, наша партия Рэ-Ка-Пы, наши учителя Маркса и Ленина — пшеница отборна, сортирована. Мы коммунисты — ничо себе сродна пшеничка. Ну, беспартийные — охвостье, мякина. Беспартийный — он понимат, чо куда? Никогды. По яво убивцы и Чека мол одно убийство. По яво и Ванька убиват, Митька убиват. А рази он понимат, что ни Ванька, ни Митька, а мир, что не убивство, а казнь — дела мирская…
А Ее с битого стекла заговоров, со стрихнина саботажа рвало кровью и пухло Ее брюхо (по-библейски — чрево) от материнства, от голода. И, израненная, окровавленная своей и вражьей кровью (разве не Ее кровь — Срубов, Кац, Боже, Мудыня), оборванная, в серо-красных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими гневными глазами.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Патрик Квентин
В СЕТЯХ

I
Всего за несколько дней до случившегося дети бежали перед ним по опушке леса среди молодых кленов и высоких папоротников.
По грунтовой дороге приближалась машина. Джон Гамильтон это слышал, и, наверное, Эмили Джонс услышала тоже, потому что она неожиданно крикнула:
— Враг!
И дети — все пятеро — бросились наземь и спрятались под листьями папоротника. Джон Гамильтон тоже упал на землю. Он знал эту игру. Он ее сам придумал. Он придумал большинство их игр. (Несостоявшийся папаша — так Линда называла его, когда хотела уколоть.) А эту игру он придумал тут, в этом лесу, когда однажды сказал Лерою Филипсу:
— Представь, что ты — зверь. И вдруг слышишь — идет человек. Ты бы вздрогнул и крикнул: «Враг!».
Эмили Джонс тут же это подхватила — она всегда первая все схватывала:
— Мы звери, звери! А люди — наши враги!
Было это давно, ранней весной, но с тех пор время от времени по сигналу Эмили они снова становились Зверями, а мир людей превращался в мир Врагов.
Лежа среди листьев папоротника, вдыхая свежесть зелени и влажный, отдающий грибами запах леса, Джон Гамильтон почти забыл о лежащем в кармане письме от фирмы «Рейнс и Рейнс» и о предстоящей схватке с Линдой. Дети отвлекли его. Как часто случалось и раньше, они снова сотворили свое маленькое чудо.
Шум приближавшейся машины становился все громче и громче. Джону Гамильтону видна была обутая в резиновый тапочек нога Энджел Джонс, высовывающаяся из папоротников. Тимми Морленд и Лерой Филлипс, хотя и сидели неподалеку, спрятались так, что их не видно. Слева он слышал приглушенное пыхтение Бака Риттера. Бак толстый, и ему всегда не хватает дыхания.
Приближавшаяся машина была, верно, просто случайной машиной из Стоунвиля и направлялась скорее всего в Арчертаун, или вверх по грунтовой дороге мимо его дома. Но сейчас она не была обычной машиной. Для Джона, чуткого как все художники к настроению окружающих, напряженность спрятавшихся детей, их увлеченность и вера — изменили все. Приближалась Опасность, угрожающая Неизвестность — Враг.
Наконец машину стало видно. Это был его собственный старый черный «седан», и за рулем сидела его жена.
На мгновение, пока машина скользнула мимо него, все приобрело для Джона неестественную значительность — как кадр, показанный на экране крупным планом. Линда была в машине одна, и все же она улыбалась — той предназначенной для посторонних улыбкой, которую он хорошо знал — прямой, открытой, простой, чтобы все видели, какой она прямой, открытый и простой человек. А слегка опущенные уголки рта указывали, что это откровенность, а не наивность и что ей свойственна также нью-йоркская искушенность и утонченность.
Он знал, что она ездила в Питсфилд укладывать волосы. Отправилась она вскоре после того, как он зашел за письмами на деревенскую почту, где мать Эмили и Энджел Джонс служила почтмейстером. Он нарочно позволил жене уехать, не сказав о письме Чарли Рейнса, чтобы дать себе эти несколько часов отсрочки.
Нелепо спрятавшись и наблюдая за ней, он представлял себе снова и снова ее сидящей под сушильным аппаратом, очаровательную Мадам Как-там-ее-зовут, ее естественность и ее особый шик-блеск, который так заметно поднимал ее над другими, хуже одетыми клиентками. С этой улыбкой она вышла из салона красоты, помахав всем на прощанье рукой. Но и сейчас, когда улыбка никому не предназначалась, она все-таки играла на ее лице. Конечно, Линда улыбалась для себя — ведь она и сама была частью своих зрителей.
И вдруг жалость к ней, которая так часто охватывала его в самые худшие минуты, жалость, — идущая, пожалуй, уже не от любви, а только от понимания, — поглотила и затопила его. «Линда! — подумал он, и спазм сжал горло. — Бедная Линда».
Иллюзия освобождения, возникшая благодаря детям и их игре, рухнула. Он снова ощутил свое бремя.
Машина скрылась из вида. На мгновение все стихло, лишь листья папоротника слегка покачивались и мерцали в лучах вечернего солнца.
Тут прозвучал таинственно завывающий голос Эмили:
— Друзья-звери! Бурундуки, сурки, бобры, белки — о друзья лесные звери, слушайте! Опасность миновала! Враг скрылся!
И она выпрыгнула из папоротника, и все остальные дети повскакивали на ноги следом за ней — Бак, толстый и раскрасневшийся, Тимми Морленд — тощий и подтянутый, как фокстерьер, Лерой, чьи белые зубы блестели на фоне золотисто-коричневой кожи. Энджел Джонс, всегда озабоченная, как выглядит ее одежда, принялась старательно отряхивать веточки, приставшие к джинсам.
Она обернула к Эмили свое круглое пухленькое личико, которое портит лишь вечное стремление взять верх над старшей сестрой:
— Дурацкая игра! Ведь это вовсе не Враг! То была миссис Гамильтон! И это всем известно.
— Ну и что же, дурочка! — Эмили теребила свою длинную темную косу. — Все равно это был Враг! Они все — Враги. — Она повернулась к Джону. — Правда, Джон? Любой из них — Враг!
— Конечно, — отозвался Джон, чувствуя всю неловкость и неуместность своего присутствия. — Когда вы — Звери, все они — Враги.
Какого дьявола он тут торчит? Взрослый человек валяет дурака с кучкой детишек — да еще в такой момент.
— Я бобр, — крикнул Бак Риттер.
— А я ондатра, — завопил Лерой.
Тимми Морленд пронзительно заорал:
— А я большой черный медведь!
Энджел Джонс следом за ними заплясала, закружилась, раскинув руки и сжав губы:
— А я скунс! Эй вы, слышите, — я скунс!
Джон сказал:
— Ну, друзья, пожалуй, мне пора домой.
— Нет, — закричали дети. — Нет!
Эмили обняла его за талию:
— Джон, дорогой, хороший Джон. Вы обещали пойти с нами купаться.
— Да, — вмешался Тимми, — вы обещали!
— Вы обещали, — крикнула Энджел. — Противный, низкий, старый, глупый обманщик! Вы обещали пойти с нами купаться.
Лерой Филлипс застенчиво вложил свою руку в ладонь Джона. Пальцы его были сухими и теплыми — как лапка зверька:
— Пожалуйста, мистер Гамильтон.
Джон выбрался из папоротников на дорогу и помахал им рукой:
— Пока, ребятки! Может, завтра.
— Завтра! — завопили они. — Завтра встретимся. Вы обещали. Завтра!
— Слушай, Бак, — донесся до него пронзительный, возбужденный голос Энджел. — Я — дятел. Я огромный-огромный дятел, с огромным-огромным дятловым носом…
Джон Гамильтон направился домой. Идти недалеко. Высокий молчаливый лес, почти такой же дикий, как и тогда, когда в нем охотились алгонкины
[4], тянулся по обе стороны дороги. Надо было пройти примерно четверть мили в сторону от Стоунвиля вверх по холму и перейти мостик через ручей. И он дома.
Жалость к Линде не оставляла его. Она приложит все усилия, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Уж она постарается. Линде всегда удавалось забыть то, что она хотела забыть. И теперь ей покажется, что Нью-Йорк — это Эльдорадо. И пока он шел под мягкими лучами летнего солнца, готовясь к неизбежной схватке, он был уже частично побежден. Потому что до сих пор не научился ожесточать свое сердце против жены. И это было не только потому, что он еще помнил, какой она была, когда он влюбился в нее. Это не было даже смирением перед фактом, что он ей необходим, потому что, кроме него, ей не на кого опереться — ни семьи, ни настоящих друзей. Нет, важнее всего другое. Понимание, что она не может с собой справиться. Когда она лгала, и хвасталась, и обманывала себя, и даже в самые худшие моменты запоя, когда она так неудержимо старалась погубить его, он знал, что она испытывает муки обреченности. Она вовсе не хотела быть тем, что она есть, она хотела быть такой, как раньше. Она хотела быть такой, какой, с его помощью, большинство людей ее и считало — веселой, доброжелательной, любящей.
Сейчас, когда любовь к ней давно уже сменилась куда более сложным чувством, его приковывало к ней понимание ее одиночества и страха. Он сознавал всю опасность положения, но делать было нечего. Линда это Линда, и она — его жена. Джон Гамильтон не из тех, кто может легко к этому относиться.
Он дошел до поворота дороги. Перед ним, за деревянным мостиком, над старым яблоневым садом возвышался дом, десять месяцев назад казавшийся символом «новой жизни». Когда Джон увидел его, встревожила мучительная мысль: а может, не говорить Линде о письме? Может, ответить Чарли Рейнсу, не говоря ей ни слова? И так все достаточно скверно.
Но он тут же отогнал это искушение. Рано или поздно она все равно узнает. Миссис Рейнс или кто-нибудь другой сообщит ей об этом. Кроме того, скрыть письмо — значит опуститься еще на одну ступеньку ниже. Он знал, что нужно сделать с предложением фирмы «Рейнс и Рейнс». Никогда и ни в чем не был так уверен. Если он хочет сохранить хоть какое-то уважение к себе и настоящие отношения с женой, он должен выложить карты на стол — что бы Линда потом ни решила.
Он попытался представить себе сцену, которая ожидает его, и ощутил приближение паники. Чтобы успокоиться, стал думать о ребятишках — об Эмили, Тимми, Лерое, Баке и Энджел, — об этих непредвиденных союзниках, которые случайно вошли в его жизнь и помогли ему вынести прошедший год. И снова обаяние детей сделало свое дело.
Обогнув, дом, чтобы войти через заднюю дверь, он только теперь, заметил вторую машину — напротив старого амбара, превращенного им в мастерскую. Джон узнал машину Стива Риттера, отца Бака Риттера, владельца местной бензоколонки и кафе-мороженого, избранного на этот год стоунвильским полицейским. Стив, как и большинство местных жителей, был покорен Линдой. Она вечно жаловалась на его привычку заезжать, чтобы выпить стаканчик пива. (Почему я никогда не могу отделаться от этих скучных людей?) Но конечно же она все сама устроила. Когда они только появились в Стоунвиле, до того, как она познакомилась с богатыми обитателями деревни — со старым мистером Кэри, с молодыми Кэри, с Морлендами и Фишерами, — из-за ее вечной потребности в обожании Линде пришлось изображать общительность перед всеми местными жителями. (Заходите в любое время. Мы не какие-нибудь высокомерные дачники, мы — просто бедный, стремящийся к успеху художник и его жена.)
Из-за того, что он ожесточился, готовясь к разговору с Линдой, и еще из-за того, что он всегда был как-то уродливо застенчив с теми, кого она обворожила своим притворством, Джон чертыхнулся про себя.
Он прошел через кухню в гостиную. Стив Риттер, местный щеголь и донжуан, высокий, одетый в синие джинсы и старую рабочую рубашку, был один в комнате и разглядывал шкаф, набитый пластинками и коробками с магнитофонными записями.
— Привет, Джон! Похоже, у вас целая уйма этих штукенций. А вам не обрыдла вся эта музыка?
Стив скользнул взглядом по стенам, на которых висели картины Джона, вернувшиеся на днях с нью-йоркской выставки непроданными. У него хватило осторожности, чтобы воздержаться от замечаний, но можно считать, что замечания все равно были сделаны. Джон точно знал, что думают в деревне о его картинах. Для Стоунвиля они были каким-то странным анекдотом, пусть даже и безвредным. Таким же анекдотом был и он сам: «Этот полоумный парень, бросивший денежную службу в Нью-Йорке, чтобы просиживать задницу в деревне и малевать картины, которых никто не хочет покупать».
— Везу аккумулятор мистеру Кэри. Решил навестить вашу красавицу жену. Она наверху — старается стать еще красивее. Крикнула мне, чтобы я подождал.
На привлекательном, загорелом лице Стива появилось выражение, словно он с легким пренебрежением разглядывает нечто забавное. Именно так привыкли в Стоунвиле смотреть на Джона.
— Ну как дела в мире искусства? Я слышал, вы устраивали грандиозную выставку в Нью-Йорке. Но, говорят, не очень-то успешно?
— Да, не очень, — подтвердил Джон.
Значит, Линда уже пустила слух, что его вторая выставка в галерее Денхэма провалилась.
Стив бросился в кресло, томно вытянул ноги.
— Ничего, приятель, деньги еще не все. Я это всегда твержу. Здоровье у вас есть. А средств вам хватает, чтобы иной раз купить своей женке хорошенькое платьице. Не стоит желать слишком многого, верно, Джон, приятель? А как насчет того, чтобы угостить парня пивом?
Джон вынул из холодильника две банки пива, принес в гостиную и стал вскрывать их. Разливая пиво, увидел на нижней полке бара бутылку джина и бутылку виски. Спрятать? Нет, при Стиве это сделать неудобно, да и Линда сразу заметит исчезновение. Она тут же догадается, почему он их спрятал, и из-за этого может начать все сначала.
Тот факт, что он должен думать об этом, снова вернул его к сложностям бесконечной, обреченной на провал игры в кошки-мышки с женой. И, неся Стиву пиво через всю комнату, он размышлял: «Как бы он отреагировал, если бы я рассказал, что на самом деле происходит в нашем доме. Он бы, конечно, не поверил. Никто из них не поверит, пока не увидит Линду своими глазами».
И это его главная задача — приложить все усилия, чтобы они никогда не увидели.
Стив Риттер сделал добрый глоток из своего стакана.
— Попало в самую точку, приятель. Пиво — оно что-то такое делает с парнем… После пары стаканчиков пива я что угодно могу сотворить. Именно так, приятель. Сдается мне, я даже мог бы рисовать картинки вроде ваших.
Он замолк, услышав шаги Линды на лестнице, и вскочил, глядя на дверь. До смешного похож на «мускулистого парня», с важным видом глазеющего на красотку, каких рисуют на страничках юмора.
— Вот и она сама. Очаровательная миссис Гамильтон.
И Линда появилась. Такая свежая и молодая, в своем чуть старомодном платьице, выглядевшем на ней почему-то на удивление стильным. И как это уже случалось не раз, наблюдая за женой, Джон Гамильтон поразился ее умению притворяться. Один из этих кошмарных деревенских типов? Ничего подобного. Стив Риттер — самый близкий ее друг. Она шла, улыбаясь, протянув навстречу ему обе руки — классический киножест радушной хозяйки дома. На левом запястье у нее был надет золотой браслет с брелоками, которого Джон раньше не видел. Должно быть, купила в Питсфилде.
— Стив, как мило с вашей стороны заглянуть к нам. Простите, что пришлось ждать. Я всегда так устаю от поездок в Питсфилд. Если бы я сразу не влезла под душ, я бы, кажется, умерла. О, Джон! — как будто только в этот момент заметив мужа, Линда взглянула на него с той заготовленной улыбкой, которой она одаривала его при посторонних, — с той нежной, с легким оттенком жалости, материнской улыбкой, предназначенной для непрактичного, витающего в облаках художника. В тот же момент ее правая рука скользнула по левому запястью, и он заметил, что она сняла браслет и опустила его в карман платья. Значит, она действительно купила его в Питсфилде и, чувствуя себя виноватой, решила подождать удобного момента, чтобы признаться в своем расточительстве. — Так ты уже вернулся, дорогой! Я думала, ты еще поиграешь с детьми. — И обернувшись к Стиву: — Джон такой милый! Он просто живет ради этих детей — вашего Бака и всех остальных. По-моему, Стоунвиль должен присвоить ему какое-нибудь официальное звание — выбрать его командиром скаутов или чем-нибудь в этом роде. Садитесь же, не обращайте на меня внимания.
Стив опустился в кресло, а Линда присела на поручень и что-то щебетала, интимно наклоняясь к нему, улыбаясь и размахивая сигаретой. Глядя на нее, Джон подумал: а не чересчур ли все это? Не слишком ли блестят у нее глаза? И этот ехидный намек насчет него и детей — не слишком ли явным было желание уколоть побольнее? Выпила она в Питсфилде?
И в тот же момент, когда эта мысль пришла в голову, он рассердился на себя. Он знал, сколь губительны и для него и для нее эти постоянные подозрения. Но если уж червячок сомнения возник — так легко от него не отделаться. Ведь всю эту неделю, с тех пор как стадо точно известно о провале выставки — она была на грани. Он слишком хорошо знал все симптомы.
Стив отказался от второго стаканчика пива и на удивление быстро собрался уезжать. Линда проводила его до дверей кухни.
— Как жаль, что вы спешите. Но вы еще заглянете на днях, не правда ли? Обещайте мне, Стив!
В гостиную доносился ее ласковый, чуть кокетливый голос. Затем хлопнула наружная дверь. Линда вернулась не сразу. Должно быть, стоя у дверей, махала ему на прощанье.
Держа свое пиво, Джон присел на ручку кресла. Им снова овладела паника. И он подумал, что это, наверное, самый важный момент в его жизни. Если он сейчас поддастся — из малодушия, или ложной скромности, или из-за болезненного беспокойства о Линде, он — конченый человек.
«Моли бога, чтобы она не начала пить», — думал он. И потом, с жестоким презрением к себе: «Что это со мной? Разве я только притворяюсь, что мне жаль мою жену? Неужели я боюсь ее? Неужели я так близок к разрыву?»
II
Машина Стива промчалась мимо стены мастерской, когда Линда наконец вернулась. Сигарета свисает с нижней губы, на лбу — саркастические морщинки.
— Ах эти бедные надоедливые дураки! Чем я только заслужила их любовь? — морщинки исчезли, она нежно улыбнулась ему. — Милый, ты бы лучше начал переодеваться. Мы же должны быть у Вики к шести.
Он совершенно забыл про вечер у Вики Кэри по случаю дня ее рождения. И вечно что-то примешивается, чтобы еще больше все осложнить. Может, отложить?.. Нет. К черту вечер.
— Смотри, милый! Джон, ну посмотри на меня! — Линда тронула его за руку и, подхватив за подол широкую юбку, закружилась вокруг него. — Я тебе нравлюсь? Нравится тебе моя новая прическа?
Услышав ее слегка охрипший голос, он все понял. Началось! Теперь он уверен в этом. И сразу почувствовал, как на него наваливается усталость. А Линда кружилась по комнате вокруг старенькой плетеной мебели.
— У мадам Элен — новая мастерица. Она сегодня первый раз меня причесывала. И сказала, что заметила несколько седых волос. — Линда опустила юбку и подошла к нему. — Ты их замечал, дорогой? Посмотри, ты можешь найти у меня хоть один седой волос? Здесь? — она дотронулась рукой до виска. — Я не могу. Клянусь, я не могу. Это, верно, от солнца. Волосы так выгорают на солнце!
Он знал, у нее есть седые волосы. Всего несколько едва заметных, но все же есть. Так вот из-за чего все это, — подумал он. Достаточно было случайного замечания бестактной парикмахерши. И вот почему она так старалась очаровать Стива. Она воевала с этой мастерицей, подбадривала себя. У многих женщин есть седые волосы, но им не нужно ни лгать, ни утешать их, ни разубеждать…
— Эту мастерицу надо уволить, — объявил он весело, превращая все в шутку. — Если у тебя найдется хоть один седой волос — я его съем!
— Ах, ты, конечно, не заметил. Ты такой милый. Но она сказала, что их несколько. Немного, но есть. — Линда пожала плечами. — Что поделаешь? Мне двадцать девять. У большинства женщин седые волосы появляются до тридцати.
Ей было тридцать три. Он видел однажды ее свидетельство о рождении, и она знала, что он видел. Но это не мешало ей сохранять ту же легенду. И, не давая ей возможности увлечь его в область нереального, он вынул письмо из кармана. Скандала теперь все равно не избежать.
— Линда! Я получил письмо от Чарли Рейнса.
— От Чарли? — в первый момент она не отреагировала, а потом заинтересовалась и спросила подозрительно: — Но ты взял почту до того, как я поехала в Питсфилд. Почему же ты мне не сказал тогда?
— Мне нужно было время, чтобы все обдумать.
— Что обдумать? Что он пишет?
— Хочешь прочесть? — он протянул ей письмо.
— Да, конечно. — И потом: — Нет, прочти его сам.
Он забыл, как она не любит надевать очки. Дрожащими пальцами он вытащил письмо из конверта и начал читать:
«Дорогой Джонни!
Не думайте, что мы о вас забыли. Мы очень часто вас вспоминаем. И не далее, как сегодня, совещаясь на самом верху. Во-первых, мы все хотим, чтобы вы знали, как нам неприятна эта история с выставкой в галерее Денхэма. Мы понимаем, что половина этой своры художественных критиков просто не ведает, о чем говорит. И вас взяли под обстрел за то, что ваша первая выставка, — когда вы еще были с нами, — имела такой успех. Мы понимаем также, что эта история огорчительна для вас и в финансовом отношении, поскольку, уйдя от нас, вы в большой степени зависите от того, как продаются ваши картины. Ведь только в этом случае вся эта затея — заниматься одной живописью — имеет смысл.
Мне не хочется, чтобы вы сочли меня Мефистофелем, улучившим «трудную минуту» — поискушать вас. Но врачи требуют, чтобы Х. С. ушел в отставку со своего поста — главы художественного отдела. Вот уже несколько недель мы судорожно ищем кого-нибудь, кто мог бы успешно справиться с этой работой. Как известно, такое сочетание, как отличный администратор и первоклассный художник, — не растет на деревьях. И, несмотря на то, что вам показалось, будто здешние рамки уж очень вас ограничивают, мы и сейчас еще считаем вас одним из самых выдающихся людей в этой области. Да, Джонни, внесем полную ясность. Это письмо — официальное предложение вернуться к нам. Мы дадим вам то жалование, которое получал Х. С. плюс обычные премии и т. д. Это составит сумму вдвое больше той, что мы платили вам, когда вы ушли от нас. Богу известно, я не собираюсь совать свой нос в ваши личные дела. Но мы все так думаем, — что, может быть, после десяти месяцев вам уже слегка надоело жить в бедности на чердаке (не знаю, есть ли в деревне чердаки?). И может быть, поэтому вы сочтете возможным вернуться в лоно фирмы «Рейнс и Рейнс», которая никогда не переставала считать вас своим членом.
Подумайте об этом, Джонни, и отвечайте как можно скорее. Взявшись за эту работу, вы будете иметь кучу свободного времени, чтобы продолжать свои занятия живописью. Может быть, заглянете на этой неделе в контору обсудить все это. Мы будем рады видеть вас в любом случае.
Самые лучшие пожелания Линде.
Искренне…»
Читая, он нарочно старался не думать о жене, стоявшей подле камина. Он заставил себя сосредоточиться на вещах, которые действительно имели значение — на том факте, что, несмотря на все сказанное критиками, несмотря на такое бремя, как Линда, он все же постепенно, ощупью продвигался вперед в своем искусстве. И на том, в чем он был совершенно уверен: вкрадчивое, коммерческое давление фирмы «Рейнс и Рейнс» уничтожит в нем то единственное, чем он дорожил. И еще одно обстоятельство — ничуть не менее важное — то, что в Нью-Йорке с Линдой все было гораздо хуже. Она, конечно, об этом и не вспомнит — поскольку здесь ей уже наскучило и она играет роль мученицы в изгнании. Но еще одна отчаянная попытка состязаться с миссис Рейнс, с Паркинсонами и со всеми этими безжалостными, элегантными, утонченными дамами из Манхеттена — погубит ее.
Доктор МакАллистер, единственный человек, которому он доверился, настойчиво подчеркивал это:
— Раз Линда не хочет прийти ко мне в качестве пациентки, я могу лишь поделиться с вами, Джон, своим мнением, сложившимся в результате кое-каких наблюдений. Если вы не вырвете ее из этого порочного круга, через год-другой она станет безнадежной алкоголичкой.
Положив письмо на стол, он впервые взглянул на жену.
Он ожидал грубого взрыва, он даже полагал, что она не даст ему дочитать. Но, как это бывало и раньше, он ошибся. Она закурила свежую сигарету и наблюдала за ним с видом оскорбленного достоинства, с отчаянием человека, оставившего всякую надежду, поскольку надеяться было не на что.
— Ты не собираешься возвращаться, — сказала она.
Он был удивлен и благодарен ей, хотя и почувствовал себя слегка виноватым. Значит, он ее недооценивает?
— Ты все понимаешь?
— Конечно, я понимаю. Ты уверен, что можешь писать. Критики не могут повлиять на это твое убеждение. И ты хочешь писать. Это единственное, чего ты в жизни хочешь. Только это тебя и интересует.
— Я не могу вернуться, Линда. Только если бы мы голодали, но мы ведь не голодаем. Нам хватит еще почти на пять лет, если мы будем и дальше жить, как сейчас. И ты это знаешь. — Из-за того, что она не спорила с ним, его захлестнула былая нежность. Он шагнул к ней и взял ее за руки: — Если я вернусь — это конец. Ведь ты понимаешь это, правда? Ты же видишь, какое это хитрое письмецо. Чарли прекрасно знает, что это за работка. Дел выше головы все двадцать четыре часа в сутки. Заниматься живописью в свободное время! Не будет у меня никакого свободного времени. Да и нельзя заниматься живописью между делом. Я поеду завтра в Нью-Йорк и все объясню. Чарли поймет. — Это было здорово — обнаружить, что он еще может говорить с ней прямо и честно. — А кроме того, я все решил еще тогда. Ведь ты помнишь? Мы решили так вместе. Ты же знаешь, это было правильно. Не только для меня, но и для тебя тоже. Ведь ты…
— Для меня? — она вдруг вся напряглась. — Что ты хочешь этим сказать — для меня?
— Ты ведь тоже была сыта по горло Нью-Йорком, как и я. Ты…
— Я сыта по горло Нью-Йорком? Ты в своем уме? Нью-Йорк — это вся моя жизнь! — Надежда на благополучный исход внезапно стала утекать. — Не было ни единого часа, когда я не мечтала бы, что однажды все это вдруг кончится и я вернусь в свою квартиру, к моим друзьям, к той жизни, какую я люблю. Я, конечно, ничего не говорила, я изо всех сил старалась не показывать вида… Я не собиралась и сейчас… Но если ты утверждаешь, что это только ради меня ты затащил нас сюда…
— Линда! Я же не говорил, что только из-за тебя! Я сказал…
— Не имеет значения, что ты сказал… Все это не важно. — Ее нижняя губа дрогнула. — Я ничего не значу. Я всегда это знала. Я ведь просто женщина в доме — чтобы готовить еду и наводить порядок. Ведь в этом заключаются женские обязанности, верно? Пока ты уходишь и запираешься на весь день в этом кошмарном амбаре и пишешь свои картины, пребывая в каком-то своем мире. А когда наконец у тебя выпадает свободная минутка и мы могли бы побыть вдвоем, чтобы стать поближе друг другу, ты включаешь этот проклятый проигрыватель, и он ревет изо всех сил, или же ты уходишь в свой проклятущий лес и играешь с этими паршивыми ребятишками, как… как… — Она внезапно упала в кресло, закрыв лицо руками. — О, к черту, к черту, к черту!
— Линда!
Из-за того, что он снова дал себя одурачить, — потому что как идиот не учел, что выпивка уже сделала свое дело, — вся его нежность улетучилась тут же. Он посмотрел на нее устало, почти с неприязнью.
— Ты думаешь, что можешь писать! — доносился ее хриплый от злости голос. — Но есть кое-что, о чем я никогда тебе не говорила. Мне бы и сейчас не следовало… Но писать ты не можешь! У тебя это совсем не выходит. И все это знают — не только критики, а все, все. Спроси кого хочешь в Стоунвиле. Любого. Они все смеются над тобой. И они все смеются надо мной. Вы, они говорят, вы такая очаровательная, такая… — Дернувшись как марионетка, она встала и двинулась через комнату, без умолку выливая на него потоки слов: — Вы такая очаровательная, такая привлекательная. Почему, скажите ради всех святых, вы связали себя с этим ненормальным, бездарным кретином, который все время тащит вас вниз, который… — Слова эти — мертвые, бесчисленное множество раз слышанные им раньше — били по его нервам, как водяные капли. — Я могла бы сделать хорошую партию. Я могла бы выйти замуж за Джорджа Креснера, президента Модного Агентства Креснера. Я могла выйти замуж за…
Теперь она стояла у бара. Ненароком, будто не сознавая, что она делает, потянулась за бутылкой джина.
— Линда!
Она все еще тянулась неловко к бару.
— Линда! — снова окликнул он.
Она мгновенно выпрямилась с видом оскорбленного достоинства:
— Почему ты кричишь на меня?
— Не надо. Ради бога, не надо!
— Не надо? Не надо — что? О чем ты?
— Линда, ну пожалуйста! Как одолжение мне. Не надо начинать. Это не поможет.
— Что не поможет? — На ее лице были написаны изумление и обида. — Боже, не обвиняешь ли ты меня в том, что я собираюсь выпить? Я только привожу в порядок бутылки.
Он не ответил. Стоял молча, опустив руки.
— Ты хочешь этим оправдать себя? — Ее голос стал пронзительнее. — Может, ты скажешь, что я уже выпила в Питсфилде только потому, что невоспитанная девчонка сказала какую-то чушь о моих волосах. О, ты такой хитрый! Ты знаешь, что придумать. Но я уже много месяцев не брала в рот ни капли! И вообще, в жизни не пила больше одного-двух коктейлей на приемах, или… — она всхлипнула, бросилась к нему и прижалась к его груди…
— О, помоги мне. Помоги мне, Джон, милый! Помоги мне!
Это был подлинный крик души. Он знал, что это не притворство. Но, обнимая ее, ощущал лишь ужас зверя, запутавшегося в сетях.
— Ничего это не даст, — сказал он, гладя ее по голове. — Если мы вернемся в Нью-Йорк — ничто не изменится.
— Я так боюсь!
— Знаю.
— Я не хотела говорить всего этого, Джон. Не хотела…
— Знаю.
— О, Джон, если бы ты помог…
Надежда или проблеск надежды ожил в нем. Во всяком случае, можно снова попробовать.
— Если бы ты поговорила с Биллом МакАллистером…
Она вся задрожала:
— Нет! Ты этого не сделаешь. Ты не можешь так поступить со мной. Ты не дашь им запереть меня в…
— Ничего подобного не случится. Билл — старый друг. Он поймет…
— Нет. Не говори об этом. Нет! — разговор снова как бы встряхнул ее. Пальцы, вцепившиеся было в его рубашку, разжались. — Со мной все в порядке. Правда, все хорошо. И прости меня, дорогой. Как я могла наговорить тебе бог знает что? Конечно, я понимаю, — ты должен отказать Чарли Рейнсу. Нам здесь лучше. Нам обоим здесь лучше. И я действительно выпила. Только один стаканчик, клянусь! Но все в порядке, не беспокойся. — Она улыбнулась ему. Огромные зеленые глаза блестели от слез. — Мне только надо привыкнуть. Понимаешь? На меня все это обрушилось… А это нелегко, так сразу… все принять. Ты же знаешь, мне трудно. Если бы ты сказал все как-то иначе, чуть-чуть тактичнее…
Она ласково погладила его шею. Мысленно она уже перестроила всю сцену. Теперь ей казалось, что она — просто впечатлительная жена, которая вела себя немножко неразумно, потому что муж неловко обошелся с нею.
Но и тут ей удалось ошеломить его:
— Милый, тебе надо поскорее переодеться и ехать к Вики.
— Мне? А ты не собираешься?
— О, я не могу. Не сейчас.
— Тогда и я не поеду.
— Но один из нас должен там быть. Что она подумает? Ведь сегодня — день ее рождения. А мы приготовили подарок. Передай от меня привет и скажи, что у меня мигрень. А я немножко полежу — и все будет хорошо.
Он стоял против бара, почти бессознательно уставившись на бутылку с джином.
До него донесся резкий голос Линды:
— Верь мне, Джон. Ну поверь мне хоть раз. Если бы ты знал, как это важно — чтобы ты верил мне.
Снова этот крик души поставил его перед дилеммой. Если он позвонит Кэри и скажет, что они не приедут — он оскорбит жену явным недоверием. Но если он оставит здесь ее одну…
Он посмотрел на Линду. Ее лицо было умоляющим — лицо ребенка.
— Вики знает про мои мигрени. Они все знают. Скажи, что я не позвонила потому, что до последней минуты надеялась — мне станет лучше и я смогу приехать.
Верить ей? Если он не откликнется даже на такую просьбу — не значит ли это, что их брак потерпел полное крушение?
— Ты действительно думаешь, что мне надо поехать? Ты в самом деле хочешь этого?
— Да, да! И я не буду — клянусь, я не буду…
— Ну, хорошо. Где подарок?
— Наверху, в спальне. Он красиво завернут. Я сама заворачивала.
Счастливо улыбаясь, она обняла его за талию, и они вместе поднялись по лестнице. Джон помнил, что три дня назад в антикварном магазине они купили поднос. И там продавщица нарядно завернула его в подарочную обертку.
В спальне Линда прилегла. Джон стащил с себя рабочее платье и встал под душ. Когда он вернулся из ванной комнаты, Линда все еще лежала с закрытыми глазами. Он причесывался, а она мягко позвала его.
— Джон, Джон, милый!
Он положил щетку и обернулся к ней. Глаза ее были открыты, и она протягивала к нему руки. Он подошел к кровати.
— Поцелуй меня, Джон.
Он наклонился к ней. Она обняла его за шею, притянула его губы к своим и припала к ним в долгом поцелуе. От нее пахло мятными таблетками с легким металлическим оттенком алкоголя.
— Прости меня, Джон.
— Все хорошо.
— Я хочу, чтобы ты был счастлив. Единственное, чего я хочу на свете — чтобы ты достиг того, чего ты хочешь достичь, чтобы ты жил так, как ты хочешь. Все остальное не имеет значения.
— Конечно, Линда.
Ее руки все еще обнимали его. Она прикоснулась губами к его щеке:
— Милый, вдвое больше того, что ты получал раньше, — будет около двадцати пяти тысяч, да?
— Примерно.
Она хихикнула:
— Вот это да! Мы с тобой очень важные бедняки, верно? — и, потрепав по волосам, отпустила его. — Я немного полежу, а потом приготовлю себе что-нибудь поесть. Ты не спеши домой. Я не хочу, чтобы ты портил себе вечер и беспокоился обо мне. И передай им всем привет.
— Конечно.
Он двинулся к дверям.
— Милый, — позвала она, — ты забыл поднос. Мой роскошно завернутый поднос.
III
Он сел в свой старый черный «седан», положил на сиденье поднос, завернутый в золотую бумагу, украшенный огромной розеткой из синей ленты, и двинулся к дороге по аллее, заросшей травой.
Не надо волноваться, — убеждал он себя. Уже давно беспокойство стало его основным врагом, съедающим весь внутренний запас сил и заставляющим каждый раз встречать неприятности не таким вооруженным.
На этом вечере и без добавочного гнета мучительных мыслей о том, что происходит дома с Линдой, ему было бы нелегко. И он гнал их от себя. А может, ничего и не будет. Вполне возможно, что, вернувшись, он увидит: с ней все в порядке. Она умела себя контролировать иногда и после того, как начинала пить. А всегда ожидать худшего — дурная привычка.
Вики и Брэд Кэри жили на берегу озера Шелдон — в самом красивом местечке Стоунвиля. Это примерно в миле от фермы Гамильтонов. Надо только спуститься с холма и пересечь лес. Брэд Кэри — единственный сын старого мистера Кэри, владевшего одной из самых солидных бумажных компаний в Новой Англии. Он вице-президент компании и прямой наследник. Пять лет назад он женился на Вики — состоятельной девушке из Калифорнии.
Старый мистер Кэри жил тут уже множество лет. Его семейство представляло собою своего рода местную знать. Но, кроме них и Фишеров, единственными людьми с претензиями на положение в обществе были Гордон и Роз Морленд — родители Тимми. Они вместе писали исторические романы, имевшие большой успех, и проводили зимы в Европе. Когда Фишеры гостили в Калифорнии, то на вечерах у Брэда и Вики неизбежно присутствовали старые Кэри и Морленды, а после того, как они познакомились с Линдой, также и Гамильтоны.
Малочисленность этой группки способствовала ее тесному сближению. Морленды интересовались делами Кэри. Кэри — делами Морлендов, а старые Кэри — делами обоих семейств. И они начали также включать и Линду в круг своих интересов.
Эта растущая близость беспокоила Джона. Не считая Вики и Брэда, простых и дружественных, вся остальная компания была ему не по душе, а он не нравился им. Старый мистер Кэри казался ему скучным типом, а Морленды — глупыми и неискренними. Но для Линды было страшно важно, что они ее приняли. Это давало ей то дополнительное чувство безопасности, в котором она так отчаянно нуждалась. И в течение шести, месяцев ей удавалось сохранять свою репутацию в неприкосновенности. Но Джон-то знал, что все эти отношения висят на волоске.
Если только компания Кэри, самодовольно отрицающая оборотную сторону жизни, заподозрит правду — они тут же отвергнут Линду.
И рано или поздно это случится…
Съезжая с холма к широко раскинувшимся кленам, таким спокойным в желтых лучах солнца, Джон снова ощутил, как у него внутри что-то сжалось от беспокойства.
Уже дважды ссылался он на то, что у Линды мигрень. Поверят ли снова? В этой компании — культ дней рождения. И Линда, которая моментально приноравливается к привычкам окружающих, в течение всей недели только и говорила об этом.
Он свернул на шоссе, огибавшее озеро, и вырулил на усыпанную гравием площадку позади дома. Вылез из машины и, держа в руках подарок, позвонил в дверь. Тут он услышал сзади настойчивый звонок велосипеда. Лерой Филлипс, такой аккуратненький в белой рубашке и серых шортах, выехал из-за каменной арки. Родители Лероя служили у молодых Кэри: он — дворецким, она — кухаркой, и, ярые приверженцы этикета, не желали, чтобы Лерой попадался на глаза их хозяевам. Так что Джону почти не приходилось встречать его тут раньше.
Мальчик подъехал к нему
и, охваченный внезапной застенчивостью, опустил глаза:
— Мы все пошли купаться — Эмили, и Энджел, и Бак, и… и Тимми. У Эмили и Энджел есть какой-то страшно важный секрет. Как вы думаете, мистер Гамильтон, они доверят его мне?
— Могут и доверить.
— А они говорят, что нет. Они говорят, что никому не скажут.
Дверь открылась, и Алонзо Филлипс, в своей белой куртке дворецкого и черных брюках, приветливо улыбнулся Джону.
— Добрый вечер, мистер Гамильтон. — Увидел Лероя и наклонился к нему с шутливой свирепостью. — Что с тобой? Ты забыл, что здесь не место ездить на велосипеде? Прочь отсюда, исчезни! — он снова улыбнулся Джону. — Это все из-за вас, мистер Гамильтон. Как только он узнал, что вы должны приехать, все время торчал поблизости. Этот парень просто обожает вас. И все ребятишки — они на вас помешаны. Входите, сэр. Все на террасе — пьют коктейли. А миссис Гамильтон сегодня не с вами?
— Нет. У нее сильно болит голова.
— Да что вы! Как обидно! Когда такой праздник!
Проследовав за ним через гостиную, Джон вышел на террасу, вымощенную природным камнем. Она тянулась вдоль всего дома и выходила на озеро Шелдон, которое семейство Кэри рассматривало как свое собственное.
Вся компания расположилась на металлических балконных креслах под полосатыми сине-белыми зонтами. Старый мистер Кэри, внушительный и энергичный, держал свое мартини, как молоток председателя. Будто этот вечер был собранием акционеров, где он снисходительно согласился председательствовать. Его поблекшая жена суетилась рядом. Брэд Кэри, почтительный сын и наследник, готовил коктейли у бара, отделанного стеклом и металлом. Вики восседала у центрального столика, загруженного подарками.
Старые Кэри, как обычно, сделали вид, что не замечают Джона. Если вы не один из придворных, к вам до момента формального представления относятся с королевским безразличием. Брэд, стоя у бара, помахал ему рукой. Вики вскочила и поспешила навстречу.
— Хелло, Джон. Мы очень рады! А где Линда?
Ее невзрачное, неправильной формы лицо согревала искренняя улыбка. Когда он преподнес подарок и все объяснил — она покачала головой:
— Милая Линда, бедняжка! Как неудачно!
Веселый, спокойный, стриженный ежиком Брэд подошел к ним, неся Джону мартини. В компании Кэри никогда не спрашивали, что вы хотите выпить. Им и в голову не приходило, что кто-то может захотеть что-нибудь кроме мартини, да еще смешанного по их специальному семейному рецепту. Кроме Линды, разумеется. В компании Кэри всем было известно, что Линда не пьет. Для Линды всегда был ставший почти ритуальным томатный сок с капелькой соевой приправы. Вики сообщила мужу:
— Милый, у Линды опять мигрень!
— Да ну? Вот невезенье! — и Брэд осветил Джона прямым взглядом своих голубых глаз. — Она так мечтала об этом вечере! А вы уверены, что она не сможет прийти?
— Боюсь, что нет. Когда это случается, она полностью выходит из строя.
Величественный мистер Кэри, питавший к Линде нежную слабость, громогласно спросил жену:
— О чем они там шепчутся — она не придет?
Миссис Кэри вздрогнула, как обычно, когда муж обращался к ней:
— Мне кажется, дорогой, они говорят, что у нее болит голова.
— Голова болит! — буркнул мистер Кэри. — И из-за этого пропустить день рождения!
Вики развернула поднос и сердечно поблагодарила Джона.
Мистер Кэри спросил:
— Что они ей подарили?
— Мне кажется, дорогой, это поднос.
Раздались голоса, пропевшие фальшиво: «Поздравляем с днем рождения, дорогая Вики». Все присутствующие оживились, когда на террасе появились Гордон и Роз Морленд в сопровождении Тимми. Роз несла огромный пакет, делая вид, будто изнемогает от его тяжести. На согнутом мизинце Гордона висел пакетик с розовым бантом.
Собравшись вместе, компания Кэри шумно обменивалась приветствиями и поцелуями.
— Вики, дорогая, вскройте пакеты. Скорее! Мы привезли их из Европы.
В большом пакете оказалось вышитое платье сицилийской крестьянки, а в маленьком — пара серебряных серег в виде миниатюрных двухколесных тележек. Вики была очарована. Старый мистер Кэри расхохотался. Всем были розданы стаканы с мартини. Морлендам показали подарки, присланные Фишерами из Калифорнии, и объяснили, почему нет Линды.
Только Тимми в этом не участвовал. Компания Кэри считала, — дети должны всюду бывать вместе с родителями, но не должны при этом вмешиваться в жизнь взрослых. Так что никто не обращал на него внимания. И он, естественно, потянулся к Джону. Напряженный, беспокойный, Тимми был наименее агрессивным из всего квинтета ребятишек и вызывал у Джона особую нежность — желание помочь, защитить.
Мальчик возбужденно рассказал ему про скафандр астронавта, который папа обещал купить ему в Питсфилде.
— Скоро я его получу. И это будет большой настоящий скафандр, с большим настоящим шлемом! И может быть, Баку тоже такой купят…
— Тимми, милый, не приставай к мистеру Гамильтону. Ему вовсе не интересно про твой скафандр, — накинулась на сына Роз Морленд. — Пойди погуляй, Тимми, поищи этого прелестного цветного мальчугана, с которым ты так дружишь. Знаете, мистер Гамильтон, мы с Гордоном считаем, что создавать барьеры — нелепо. В Марракеше, позапрошлой зимой, у Тимми был очень славный дружок, арабский мальчик Абдулла, — такое очаровательное имя — прямо из «Тысяча и одной ночи».
— Его зовут Ахмед, — поправил Тимми.
Роз Морленд рассеянно потрепала его по волосам:
— Ну, милый, не надо спорить. Беги, поиграй со своим приятелем. Как жаль Линду, мистер Гамильтон. Вот бедняжка! А мы привезли свои слайды, снятые в Сицилии. Не правда ли, эти путешественники просто ужасны — вечно навязываются со своими впечатлениями? Но мистер Кэри так настаивал.
Все снова расселись в своих креслах. Вечер, типичный для компании Кэри, шел своим чередом.
Упрямо пытаясь подавить свое беспокойство о Линде, Джон сидел с коктейлем в руке. Разговор перешел на «озерные неприятности». На вечерах у Кэри всегда существует какая-нибудь обязательная тема. Этим летом говорили об автомобильной катастрофе, пережитой мистером Кэри, о том, как чудесно его недавнее и полное выздоровление после нескольких месяцев, проведенных в больнице. Второй темой были «озерные неприятности».
Некоторые агрессивно настроенные члены местной управы, не желая считаться с моральным правом семейства Кэри на уединение, собираются продать северный берег озера компании по строительству летних гостиниц. Через три дня этот вопрос будет поставлен на голосование.
Вскоре мистер Кэри начал вещать:
— Самое важное — держаться всем вместе. Мы все пойдем на это собрание, да, сэр, именно все, как один, даже вы, Гамильтон!..
Раздали по второму мартини, а затем и еще по полстакана. Дополнительные полстакана — традиция дней рождения — вызвали массу шутливых споров: поровну ли Брэд разливает. Затем все отправились к праздничному столу, и тут уж вовсю заблистало семейное остроумие.
И хотя в этом узком кружке Джона лишь из вежливости считали своим, да и сам он относился к этому так же, ему было совершенно ясно, почему для Линды все это значило так много. Это та самая жизнь, которой она хотела для себя. Жизнь, богатством и приятным убеждением в собственном превосходстве защищенная от необходимости борьбы.
Он был почти уверен, что, когда в прошлом году, в угаре шумного успеха его первой выставки, она заставила Джона уйти из фирмы «Рейнс и Рейнс», ей представлялась именно такая жизнь — где в центре была она, жена знаменитости, а он — рядом с ней вроде прославленного Гордона Морленда.
И пока Гордон рассказывал смешные истории о примитивных отелях в Агридженто, пересыпая свою речь безграмотными фразочками на сицилийском диалекте, Джон думал о Линде, лежащей в темной пустой спальне.
«Вдвое больше того, что ты получал раньше, — будет двадцать пять тысяч, верно?»
Вот что должно ее мучить. Именно это — сильнее, чем все прочее. С такими-то деньгами, конечно думает она, я смогла бы одеваться гораздо лучше Мэри Рейнс, я смогла бы осадить Паркинсонов, я смогла бы устраивать самые элегантные званые обеды…
И это непрошенно ясное представление о мечтаниях жены тут же лишило его душевного равновесия. На первый взгляд в них не было ничего неразумного. Гордон Морленд ей посочувствует. И старый мистер Кэри — тоже. По этому поводу ей посочувствует почти каждый. Он попытался представить себе лица сидящих за столом, когда он объявит им, что отказался от места, где ему платили бы двадцать пять тысяч долларов плюс премии, — из-за того, что решил писать картины, которые в компании Кэри считают настолько скверными, что никогда о них не говорят.
Внезапно его снова охватило волнение. А может быть, он просто заблуждающийся самовлюбленный эгоист? Может быть, он обманывается, считая, что возвращение в Нью-Йорк может оказаться для Линды роковым? Доктор МакАллистер предупредил его. Но если бы у нее было гораздо больше денег, с которыми пришла бы и уверенность в себе, — может, это поставило бы ее снова на ноги?
Червь сомнений ожил и снова принялся грызть его.
После обеда мистер Кэри настоял на том, чтобы Морленды показали свои слайды. Из гостиной вынесли мебель, повесили экран и с шумом установили проектор.
Тимми и даже Лерой были приведены и усажены на полу. Свет погасили, и Гордон Морленд неестественно высоким голосом, пародируя высокопарную манеру лекторов, начал комментировать слайды. Сидя в темноте, Джон пытался побороть свое волнение.
Они уезжали из Кортина д’Ампеццо и были на пути в Австрию, когда он услышал смех. Он донесся из-за их спин, из коридора — сдавленное, возбужденное хихиканье. Ему стало не по себе. Он подумал: неужели я уже дошел до того, что мне мерещится ее голос, когда ее тут нет? Но смех донесся снова, и голос Линды весело позвал:
— Ку-ку! Кто-нибудь есть тут?
Цветной слайд с изображением Тироля застрял на половине. Гордон Морленд воскликнул:
— Это Линда!
Остальные закричали:
— Линда? Дорогая! Это вы? Линда!
— Не останавливайтесь. Вы же знаете, я хочу просмотреть слайды, все до одного. Ну пожалуйста, дорогие! Продолжайте.
Обернувшись, Джон увидел силуэт жены в дверях гостиной на фоне света, горевшего в коридоре.
IV
Тут же зажгли лампы. Все оставались на своих местах, инстинктивно стараясь не нарушить театральности момента, пока Линда по ступенькам спускалась от двери. На ней было новое зеленое платье, и двигалась она с чуть преувеличенной осторожностью. Это был триумф. Она — в центре внимания. Ее улыбка — лишь слегка напряженная, глаза блестят чуточку ярче обычного.
Но Джон, глядя на нее с упавшим сердцем, знал, что она дошла до той самой опасной промежуточной стадии, когда она еще контролирует себя, но когда злоба ее становится угрожающей, достигая самого разрушительного предела.
«Вот и все, — подумал он. — Как я мог быть таким идиотом и поверить ей! — Шевельнулась надежда: — А может быть, они не догадаются, может, подумают, что это все-таки мигрень, если мне удастся быстро увести ее отсюда».
Все встали и сгрудились вокруг нее. Когда он тоже приблизился, ему бросилась в глаза красноватая припухлость на щеке под левым глазом. Значит, она упала. И с болезненной ясностью представилось, как она стоит у столика бара, допивая джин, как обдумывает свой хитрый план и затем, взбираясь по лестнице, падает, ударяется лицом, хихикает, поднимается в спальню, чтобы надеть зеленое платье…
— Поздравляю с днем рождения! — она остановилась на нижней ступеньке, посылая воздушные поцелуи. — Милая, милая Вики, поздравляю с днем рождения! Поздравляю с днем рождения, дорогие Кэри! Поздравляю с днем рождения, дорогие Морленды! Поздравляю всех!
Джон пытался подойти к ней, но Вики обняла ее и принялась целовать в обе щеки, в то время как остальные толпились вокруг, перебивая друг друга:
— Как замечательно… Но почему вы не позвонили? Брэд приехал бы за вами… А как же вы добрались? Пешком? Неужели пешком — так далеко…
— Конечно, пешком. Вниз, через лес. Это было чудесно. Раз уж я решила прийти, куда приятнее устроить сюрприз. Я подумала, что это слишком уж нелепо, слишком уж по-детски остаться дома только из-за того…
Она оборвала себя и впервые стала искать глазами Джона. Ее взгляд был жестким и холодным, и Джон понял — оправдались его худшие опасения. Когда он ушел, она все лежала и думала об этих двадцати пяти тысячах, снова внушая себе ненависть к нему, превращая его в своем воображении во Врага, лишающего ее всего, на что она имеет право в жизни. Подошла к бару. «Ах, он говорит, что я пьяна? Ну, я ему покажу!» Вот зачем она сюда явилась. Теперь он был уверен в этом. Хочет взять реванш.
Все они наблюдали за ней, еще не понимая, что происходит, но ощущая ее неестественную напряженность.
Спокойно, сознавая, что это не поможет, что теперь уже ничто не может помочь, он выговорил:
— Линда, тебе не следовало приходить с такой мигренью.
— С мигренью! — на секунду в ее глазах, устремленных на него, мелькнула враждебность. — Так вот что ты им сказал. Мне следовало догадаться.. Ты же так заботишься о приличиях, не правда ли? — и она обернулась ко всем со своей широкой улыбкой «для публики». — Не позволяйте себя дурачить, мои дорогие друзья. У меня нет никакой мигрени. Я никогда в жизни не чувствовала себя лучше. Просто у нас была драка. Вот и все. Домашний скандал. Со всеми может случиться. — Она медленно подняла руку, потрогала припухлость под глазом и на долю секунды торжествующе взглянула на Джона. — Бедняжка Джон! Он этого не хотел. Но так уж получилось, а в следующее мгновение ему стало ужасно стыдно — как вы можете себе представить. Но… он решил, что мне лучше остаться дома. Он считал, что это унизит его достоинство — если он приведет меня на день рождения к Кэри с синяком под глазом.
Морленды молча раскрыли рты. Мистера Кэри будто молния ударила. Так вот какой у нее был план, подумал Джон. Это удар ниже пояса. На себя ему было наплевать. Эти люди для него не существовали. Она хочет, чтобы они думали, что он ее побил, — ну и черт с ней. Главное, увести ее отсюда как можно скорее, пока общество Кэри не закроется для нее насовсем.
Все еще улыбаясь, она, отодвинув всех, подошла к нему и взяла его за руки.
— Ну пожалуйста, Джон, не сердись на меня за то, что я все-таки явилась. Я знаю, они не против. Они поймут, что я их люблю и не могла не поздравить их — с синяком или без…
— Ладно, Линда, — сказал он. — Теперь, когда ты это уже сделала, как насчет того, чтобы вернуться домой?
— Домой? Ты в своем уме? Я только что пришла и хочу посмотреть слайды, все до одного!
Она все еще держала его за руки, и он чувствовал, что она, обернувшись к остальным, всей тяжестью налегла на него.
— Куда же мы поедем, дорогой Гордон? В Сицилию?
Все столпились вокруг них. Даже Тимми и Лерой, широко раскрыв глаза, торчали поблизости. Он мог бы, конечно, насильно увести ее. Но это означало бы сыграть ей на руку. На этот раз она здорово придумала. Оставь ее, пусть наслаждается! Теперь, когда удар был нанесен, он с болезненным удовольствием наблюдал за тем, как реагирует вся компания Кэри — точно так, как Линда и рассчитывала. Но они еще не поняли, что она пьяна. Все настолько уверены, что Линда не прикасается к алкоголю, — они не могли так сразу перестроиться.
На всех лицах, за исключением Вики и Брэда, отразилось откровенное любопытство.
На удочку попался мистер Кэри. Конечно, он неизбежно должен был оказаться козлом отпущения, ведь в этом доме он — воплощение отцовства, и его привилегией было право высказываться откровенно и напрямик:
— Давайте-ка все это выясним, — его бесцветные глаза блеснули в сторону Джона и глянули как бы сквозь него. — Вы сказали, что у вас была драка? Он ударил вас?
У Брэда был несчастный вид. Вики вмешалась:
— Папа, дорогой, у всех бывают стычки. Нас не касается, из-за чего они поссорились.
— Нет, касается! Касается нас всех. Линда — наш друг. И если она в беде…
— О, ради бога, не думайте, что я в чем-то обвиняю бедного Джона, — заявила Линда. — Это я виновата. Одна я.
Она протянула руку за сигаретой. Гордон Морленд поспешно раскрыл серебряный портсигар и зажег для нее сигарету. Выдохнув дым, Линда подарила Джону легкую, нежную улыбку.
— Милый, я ужасная дура, правда? Мне следовало бы держать язык за зубами. Это все из-за того, что я знала — они увидят мой вспухший глаз и спросят в чем дело… Ну а теперь лучше уж все рассказать начистоту. Кроме того, нам нечего скрывать от друзей.
Она обняла его за талию, как бы становясь в один с ним ряд против тех, кто стал бы его осуждать. И он чувствовал, как ее тело трепетало от удовольствия.
— Дорогие, позвольте мне посвятить вас в ужасную драму семейства Гамильтон. Те люди, у которых Джон служил в Нью-Йорке, написали нам, что они просят его вернуться в качестве главы художественного отдела. Двадцать пять тысяч в год плюс премии и куча свободного времени, чтобы заниматься живописью. Вы же все меня знаете. Я ужасная материалистка. Мне так иногда надоедает экономить, вести дом, урезывая себя во всем, балансировать на грани нищеты… Видимо, я не принадлежу к артистическим натурам — и мысль, что можно вернуться в Нью-Йорк и быть в состоянии снова жить прилично, как вы все живете здесь… Эта мысль… — у нее дрогнул голос.
Все это отрепетировано, подумал Джон. Она декламировала это, спускаясь с холма. Все продумано — до малейшего жеста, до последнего вздоха.
Ее голос зазвучал снова, преувеличенно бодро:
— Но, конечно, это моя эгоистическая точка зрения. Теперь-то я понимаю. Ведь имеет значение только жизнь Джона. Если он хочет писать свои картины, если он не обращает внимания на то, как их оценивают критики, если он не против того, чтобы жить по-свински в этом мерзком доме и… что ж, только это и имеет значение, правда ведь? И завтра он едет в Нью-Йорк, чтобы отказаться. Вот такие дела. А главное, мне не следовало бы жаловаться. Ведь у меня есть мои дорогие друзья. Жизнь не может быть такой уж ужасной, если у меня есть дорогие Вики и Брэд, дорогие Морленды и дорогие, дорогие Кэри.
Губы ее задрожали. Внезапным неуверенным жестом она протянула сигарету Гордону и неловко, с опущенной головой подбежала к миссис Кэри и обняла ее:
— О, я такое эгоистическое чудовище! Как я могла испортить вам праздник? Как я могла устроить этот ужасающий спектакль по поводу того, что уже решено раз и навсегда… О, бедный Джон! — она спрятала лицо в кружевах, украшающих объемистую грудь миссис Кэри. Оттуда донесся ее голос — сдавленный и жалкий: — Мне следовало остаться дома. Я знаю, так было бы лучше. Но, когда я оказалась одна, мне стало так плохо и глаз болел, что я… я выпила. — Она неожиданно хихикнула. — Вот что со мной. Я выпила большой стаканчик виски. Линда напилась! — смех сменился глубокими, мучительными рыданиями.
Великолепно, подумал Джон. Лучше не придумаешь. Ей удалось использовать даже то, что она пьяна, — и именно в тот момент, когда они могли наконец это заметить. И повернуть дело так, что из-за этого они еще больше станут ее жалеть. Нечего было волноваться. Она ничего не потеряет в их глазах. Наоборот, она сделала их своими союзниками и сторонниками навсегда. А он для них навсегда останется последним подонком.
Он ощущал, как нарастают негодование и враждебность. Мистер Кэри ненавидел его, миссис Кэри стала грозной, как наседка, защищающая своего цыпленка. Морленды держались с таким видом, будто не могли понять, как они вообще встречались с ним.
Неясное воспоминание о том времени, когда такие сцены ранили его и причиняли боль, как того хотела Линда, промелькнуло в голове. Давно ли это было? Три года назад? Началось там, в Нью-Йорке, когда его еще ослепляла любовь к ней. Он еще думал, что, упрашивая ее развлечь его сестру или пойти с ним на деловой обед, он как-то унижает ее. Да, тогда это ранило его. Но все кончилось давным-давно. Сейчас осталось лишь смутное отвращение и презрение к ней, презрение к самому себе, к тому, что он сам допустил до этого. Преданность — так что ли он это называет? Самоотверженно поддерживать несчастную жену, которая так нуждается в этом.
Только посмотри на них теперь!
Не обращая внимания на враждебные взгляды, он устало подошел к Линде.
— Ну, будет. Ты уже произнесла свою речь. Поехали.
Миссис Кэри закудахтала, как взволнованная курица. Мистер Кэри пролаял:
— Мы не дадим вам увезти бедную девочку и снова мучить ее!
— Нет! — закричала миссис Кэри. — Нет, Линда, дорогая, вы должны поехать к нам.
Из-под опущенных ресниц Линда взглянула на него. Взгляд был мгновенный, но Джон прочел в нем все то, что неизбежно сопутствует пьяной враждебности — явный вызов и скрытую тревогу: «Не зашла ли я на этот раз слишком далеко?»
— Пошли, — сказал он.
Он знал, теперь она пойдет. Не оттого, что он обрел контроль над ней, но потому, что она добилась, чего хотела.
Она медленно оторвалась от миссис Кэри, постояла немного, глядя на нее, печально улыбнулась. Слезы блестели на ее щеках:
— Дорогая миссис Кэри, мне ужасно неприятно. Вы все простите меня. Я выпила и испортила вам весь вечер. Конечно, я уезжаю с Джоном. Он — мой муж. И я не имею права…
Она быстро двинулась через комнату, чуть не налетев на проектор. Гордон Морленд вскочил, чтобы поддержать ее, мистер Кэри вскрикнул:
— Линда!
— Пожалуйста, не надо, — она отодвинула рукой Гордона, — все в порядке. И простите меня. Джон, милый, я подожду в машине.
Она поднялась по ступенькам и пробежала через холл.
Вики сказала:
— Брэд, проводи ее. Проследи, чтобы все было как следует.
И пока Брэд торопливо догонял ее, Джон произнес среди ледяного молчания:
— Ну что ж, желаю всем доброй ночи.
— Бедное дитя, — выговорила миссис Кэри в пространство.
Морленды повернулись спиной. Мистер Кэри направился было к нему с самым воинственным видом, но, прежде чем он успел раскрыть рот, Джон поднялся по лестнице и вышел.
Вики пошла с ним. У распахнутой входной двери к ним торопливо присоединился Брэд.
— По-моему, с ней все хорошо.
Вики спросила, запинаясь:
— То, что она говорила — правда, Джон?
— Более или менее.
— И вы собираетесь отказаться от предложения? — в голосе Брэда звучало легкое недоверие.
— Собираюсь.
Неожиданно Вики сказала:
— Не обращайте внимания на папу и на всех остальных. Их это не касается. Делайте то, что вы считаете правильным.
— Конечно, — поддержал Брэд, — вы должны решать это сами.
Джон обернулся, чтобы разглядеть их в темноте. Он тоже неожиданно обрел союзников?
Вики пожала ему руку и поцеловала в щеку:
— Доброй ночи, милый Джон. И позвоните, если мы понадобимся. Мы так любим Линду — и вас тоже.
Они стояли у дверей и махали ему вслед, пока он шел к Линде и к своему старому черному «седану».
V
По дороге домой, пока поднимались на холм и потом ехали через лес, туманный и непроницаемый при свете звезд, Линда молчала, съежившись на переднем сиденье. И он ощущал не только непримиримую враждебность, исходившую от нее, но и то, другое. «Как бы мне еще выпить?» Вот о чем она думает. «Когда мы приедем, он запрет все бутылки». Или она все уже предусмотрела — купила бутылку в Питсфилде и припрятала ее где-нибудь?
Впервые надежда покинула Джона Гамильтона. Раньше у него всегда было чувство, становившееся все менее оправданным: если он уж очень постарается, если он останется при ней, жизнь постепенно станет сносной, Линда немного поправится, настолько, что согласится встретиться с врачом, или уж все будет плохо, так плохо, что эта тяжесть сама упадет с его плеч. Но теперь даже эта хрупкая поддержка исчезла, потому что он понимал, что выбивается из сил. Усталость парализует его волю. Жена будет воевать до последнего, чтобы заставить его вернуться на службу. Он знал это. Именно сейчас ему понадобятся все внутренние резервы для этой изнурительной борьбы. А у него ничего не осталось. Что будут думать о нем Кэри, беспокоило его не больше, чем то, что думают о нем в деревне. Ему стало безразлично — напьется Линда или нет. Ему стала безразлична даже его живопись. Живопись? К дьяволу ее! Пропади она пропадом. Пропади все пропадом!
Около дома Фишеров на вершине холма он повернул. Они почти добрались.
Неожиданно она заговорила:
— Завтра я поеду к ним и скажу, что солгала, будто ты меня ударил.
Не получив ответа, она продолжала в более воинственном тоне:
— Я только изложила им свою точку зрения. А что в этом плохого? Ты наверняка весь вечер старался перетянуть их на свою сторону, а ведь они — мои друзья. И почему я не могу поделиться с друзьями, когда речь идет о таких серьезных вещах, когда…
— Линда!
— И я должна была объяснить насчет глаза. Я могла бы, конечно, сказать, что упала, когда шла через лес в темноте. Но мне это просто не пришло в голову. Я подумала, что мне надо как-то объяснить, а ведь известно, ссоры бывают у всех.
Впереди показался их дом. Она не оставила ни одной зажженной лампы. И дом казался покинутым, нежилым.
— Ну, я не понимаю, — не унималась она, — почему ты так по-дурацки к этому относишься. Ведь ты вечно говоришь, что они тебе не нравятся, они такие скучные. Почему мы должны идти к этим скучным Кэри? — вот что ты всегда твердишь.
Когда он поворачивал на въездную аллею, она качнулась и ударилась об него.
— Ты ставь машину, — заявила она. — А я выйду. Я лучше выйду.
И, прежде чем машина остановилась, выскочила и поспешила в дом через кухню.
Ну и черт с ней, подумал Джон. Не спеша, как-то странно отключившись от себя и от окружающего, он поставил машину в гараж, задвинул дверь и постоял немного, разглядывая очертания яблонь на фоне темного леса. Из темноты донесся слабый крик, будто человек кого-то зовет. Сова?
Сквозь неосвещенную кухню он вошел в дом. В гостиной тоже было темно. Включив свет, он поглядел на бутылки, стоявшие в баре. Их содержимое не уменьшилось. Может, она долила воды в джин? Или у нее наверху есть еще бутылка? Скорее всего, бутылка наверху.
Он слушал, как она ходит там над ним. Потом уселся в кресло. Вскоре на лестнице раздались ее шаги. Она спустилась. Похоже, новая доза алкоголя отрезвила ее. Она достигала и такой стадии. Причесалась и подмазала губы. Припухлость под глазом заметно темнела, несмотря на пудру. На губах — легкая улыбка.
Аналитическая машина работала в нем уже автоматически, хотя ему было все равно. Почему она улыбается — рада, что перехитрила его, спрятав бутылку наверху? Или что-нибудь еще?
Она подошла, села на ручку кресла, любящая, непринужденная, — будто ничего не случилось:
— Ты все еще сердишься на меня? Я все улажу. Обещаю. Я же сказала им, что выпила. Будет очень легко объяснить, что я и сама не помню, что я там наболтала, и что я все перепутала насчет того, что ты меня ударил. — Она погладила его по голове.
Он поднялся:
— Ради бога, Линда! Пошли спать!
Она спрыгнула с ручки кресла и поспешно ухватила его за рукав, улыбаясь ему все той же легкой, взволнованной улыбкой.
— Милый, мы скоро ляжем, но еще не сейчас. Я хочу о чем-то рассказать тебе.
Он насторожился, словно по сигналу тревоги.
— О чем-то ужасно важном. И ты должен разумно отнестись к этому. Ты должен понять, что бывают такие минуты, — в браке всегда так, — минуты, когда ты находишься слишком близко, чтобы все увидеть в правильных пропорциях, когда… Милый, я звонила Чарли Рейнсу.
Он, остолбенев, уставился на нее.
— Я позвонила ему домой, — продолжала она. — Сказала, что тебя ужасно взволновало его письмо и ты просил договориться о встрече. Так вот, ты встречаешься с ним завтра в шесть часов на коктейле в баре «Барберри Рум». Вы будете вдвоем и сможете обсудить все спокойно. Если выехать двухчасовым, как раз доберешься вовремя.
«Поверь мне, — вспомнил он. — Ну хоть раз. Это так важно, чтобы ты верил мне». Значит, уже тогда, через пять минут после того, как он сообщил свою новость, она решилась. Вот почему она не поехала с ним. Эта хитрость, чудовищность этого предательства вызвали в его душе гнев, вытеснивший усталость и безразличие. Глядя, как она улыбается, уверенная в победе, он понял то, чего никогда раньше не понимал. Она его презирает. Несмотря на все притворство («Милый Джон, помоги мне! Что со мной станет без тебя?»), она и в грош его не ставит, относится к нему, как к куску глины, которому может придавать любую форму. «Я устала от Нью-Йорка. Я хотела бы пожить в деревне. Заставлю его бросить фирму «Рейнс и Рейнс». Вот как это было в Нью-Йорке. А теперь: «Хочу получить эти деньги. Здесь мне надоело. Заставлю его вернуться». Если бы она не выпила, не показала бы этого так откровенно.
В гневе он решил было: позвоню Чарли сейчас же. Скажу, что моя жена была пьяна, — и к черту всю эту службу. Но тут же понял, что не сможет сделать этого по телефону. Придется ехать в Нью-Йорк, чтобы как-то все исправить.
Сильное чувство поглотило его гнев. Теперь он больше ничего ей не должен, он освободился от нее наконец.
— Думаешь, ты уж такая умная?
— Нет, только разумная, вот и все. Конечно же я понимаю, ты скорее умрешь, чем согласишься, что критики правы. И это естественно. Но на самом деле, в самой глубине души ты знаешь, что ничего не вышло: тебе не удастся добиться успеха. И отвергнуть единственное приличное предложение…
Внезапно он потерял контроль над собой и ударил ее по щеке. Она вскрикнула и схватилась за лицо, глядя с изумлением, бешенством и страхом.
Ни разу до этого он не поднял на нее руки, но не ощутил никакого потрясения. Пожалуй — даже некоторое удовлетворение.
— Ну вот. Теперь нечего объяснять у Кэри. Теперь твое выступление там на все сто соответствует действительности.
Она отпрянула от него и бросилась в кресло, все еще держась за щеку руками.
— Ты ударил меня!
Он подошел к бару и не спеша налил себе виски.
— Джон… — донесся из-за спины ее низкий неуверенный голос. — Джон… ты все-таки… не собираешься принять их предложение?
Он круто повернулся со стаканом в руке:
— А ты как думала?
— Но ты должен! — теперь на ее лице был написан лишь страх. — Тебе придется. Я сказала Чарли Рейнсу, что ты согласен. Нам надо вернуться в Нью-Йорк. Я не могу здесь оставаться. Не могу, не могу, не могу…
— Можешь ехать. Не хочешь жить здесь — отправляйся!
Она вскочила с места, споткнувшись о юбку своего нового зеленого платья, подбежала к нему, схватила его за руки и стала гладить их. Он мог бы оттолкнуть ее, но он наслаждался чувством освобождения. Пусть себе цепляется за него, какая разница?
— Джон… Может, я сделала все неверно. Может, мне не следовало звонить… Прости меня. Но понимаешь…
Она прижалась лицом к его груди. Волосы ее щекотали ему щеку. В свете настольной лампы он видел седые волосы у нее на виске — блеклые, тусклые, мертвые. Тело ее, прижавшееся к нему, было горячим и податливым. Он подумал скептически: «Ей кажется, что она еще желанна». И ощутив физическое отвращение, почувствовал вдруг, как на него снова нахлынула жалость.
— Джон, — молила она. — Ну пожалуйста, придется тебе выслушать. Мы не можем здесь больше оставаться. Можешь не идти на эту службу. Но нужно уехать… Куда-нибудь в другое место.
Она подняла голову. Ее лицо с опухолью под глазом было совсем рядом.
— Это Стив, — прошептала она. — Стив Риттер.
— Стив? — повторил он тупо, не понимая о чем она.
— О, я давно хотела рассказать тебе. Множество раз. Джон смог бы мне помочь, говорила я себе. Но я не посмела. Мне было слишком стыдно. Я…
— Линда!
— Я не хотела этого, — в порыве отчаяния она все еще смотрела ему прямо в глаза. — Клянусь, я не хотела. Ты же знаешь. Ты знаешь, я люблю только тебя. Но все время, пока тебя не бывало дома, пока ты играл с детьми — он приезжал. Я ему говорила, что не хочу. Но это как бы сильнее меня. Он… Даже сегодня, когда я вернулась из Питсфилда, он дожидался меня. И прежде чем ты вернулся… — она снова уронила голову ему на грудь. — Это как болезнь. Это… Ты думал, я там наверху принимала душ, а он… О, Джон, увези меня отсюда. Узнает миссис Риттер. Ты же знаешь, как она вечно за ним следит. Все узнают. О, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне!
Стив Риттер. Он ясно представил себе отца Бака, этого щеголя в джинсах, низко спущенных на тощие бедра, его нахальные голубые глаза, обращенные к Джону с презрительной усмешечкой. Значит, Стив Риттер…
Но прежде чем он успел почувствовать гнев, унижение или отвращение — ему вспомнилось: я видел, как она проехала мимо меня, когда я был в лесу с детьми. Я тут же пошел домой. Я дошел меньше чем за десять минут. Она лжет. Это ее очередной ход. Поскольку все остальные провалились, у нее хватило ума, или безумия, изобрести новый.
Он начал было:
— Но, Линда…
И замолчал. А откуда золотой браслет, который был на ней днем? Браслет, которого он никогда раньше не видел и который она тут же сняла, заметив, что он в комнате? Стив подарил? А если это так… Нет, не нужно об этом. Какой смысл? Может быть, она лжет, а может быть, и нет. Все это больше не имеет никакого значения, потому что он знает, что делать. Она довела его до того, что он не чувствует больше никакой жалости. Она заставила его преодолеть нерешительность.
Он отстранил ее от себя и усадил в кресло. Она смиренно уселась и закрыла лицо руками.
— Ну вот, я скажу тебе, что я сделаю. Завтра же отправлюсь в Нью-Йорк и поговорю с Чарли Рейнсом. От места я откажусь. А потом заеду к Биллу МакАллистеру.
Она быстро подняла голову:
— Нет, Джон. Нет. Нет.
— Я все ему расскажу. А дальше — либо он порекомендует хорошего психиатра в этих краях, либо, — с трудом выговорил он, — если ты не лжешь насчет Стива, — мы переедем в Нью-Йорк, и Билл сам займется тобой. Вот мои условия. Если они тебя не устраивают — можешь убираться отсюда и заботиться о себе сама.
На ее лице все еще был страх, а также и недоверие, — будто она не могла постигнуть, что у него наконец лопнуло терпение.
— Но, Джон, ты же знаешь, что я не пойду к врачу. Я предупреждала тебя.
— Ты пойдешь к врачу, или между нами все кончено.
— Но я не больна. Ты в своем уме? Я совершенно здорова! Это ты каждый раз давишь на меня, все переворачиваешь, чтобы заставить… — она вскочила с места. Лицо — застывшая упрямая маска. — Если ты и дальше будешь молоть всю эту чепуху насчет доктора — я уйду наверх. У меня припрятана бутылка. Тебе ее не найти. Я выпью все до дна.
Это была ее последняя карта. Раньше она никогда не признавалась в том, что тайно пьет. Даже если бы он нашел спрятанную бутылку — она бы от нее отреклась. Спрятанная бутылка всегда существовала как тайная угроза. А теперь она заговорила о ней в открытую. Она думала потрясти его и заставить поступать, как ей хочется. Жалкая попытка! Но что это теперь меняет?
— Отлично. Можешь выпить свою бутылку.
Как он и предвидел, она застыла на месте. Потом тяжело, по-старушечьи упала в кресло.
— Значит, ты не возьмешься за эту работу?
— Нет.
— И не уедешь отсюда — даже из-за Стива?
— Я не верю насчет Стива.
— Ах вот что. Это смешно, — она коротко, сухо рассмеялась. — Ты мне не веришь!
— И ты пойдешь к врачу — здесь или в Нью-Йорке.
Она начала плакать — тихо и безнадежно.
— Хорошо, я пойду. Сделаю все что угодно. Но ты не оставишь меня. Ты не можешь меня бросить. Куда я денусь? Что я буду делать? О, ты не сможешь…
Она бубнила что-то еще, но он не прислушивался к ее причитаниям. Он ощутил, что сеть снова опутывает его. Он вовсе не освободился. Ему почудилось, будто он выскользнул. Он должен дать ей шанс — пусть полечится. Иначе ее судьба не даст ему покоя до смерти.
Во всяком случае, кое-чего он добился — гораздо большего, чем мог надеяться в самых оптимистических своих расчетах. Но какой она будет завтра?
Усталость снова навалилась на него. В конце концов примолкла и Линда, полумертвая от утомления, откинулась в кресле. Он помог ей подняться в спальню. Она разделась и отправилась в ванную. Больше она не пила. Он был почти уверен в этом. Пока он раздевался, она легла и тут же заснула. Он решил было уйти спать в комнату для гостей. Раз уж ему все равно предстоит заботиться о ней, хотелось обрести хоть несколько часов независимости, пусть даже иллюзорной. Но ее спящее лицо было безмятежным, незащищенным. Даже опухоль под глазом выглядела смешно и невинно, как у ребенка, больного свинкой. Она так боится спать в одиночестве. А если она проснется? Что ж…
Вернувшись из ванной, он скользнул под одеяло со своей стороны кровати и погасил свет.
Стив Риттер, подумал он. И вспомнилась вдруг их первая встреча с Линдой. У Паркинсонов. Она шла сквозь толпу гостей в белом платье, волосы подхвачены сзади — лошадиным хвостом, — такая одинокая и застенчивая, но при этом свежая, как весенний цветок, и такая непохожая на всех остальных.
— Привет! Вам нравится здесь?
— Не особенно.
— А вам не кажется, что эти приемы — ужасны? — И она серьезно посмотрела на него своими большими зелеными глазами. — Не понимаю, почему только сюда ходят. Все так важничают, надуваются, стараются понравиться нужным людям!..
Он повернулся на бок, но долго не мог заснуть. Чтобы расслабиться, начал думать о детях.
VI
Поезд миновал Шеффилд. Было уже около шести. Джон Гамильтон, сидя рядом с Брэдом Кэри, решавшим кроссворд, смотрел в окно на знакомый летний пейзаж Новой Англии. Выжженные луга, пестревшие золотистой ястребинкой и ноготками, лесистые горы вдали, дощатые домики, рассыпанные в беспорядке. Лужайки в тени сахарных кленов, кусты пионов, узкие грядки флоксов — идиллические, скромные, слегка печальные.
Теперь недолго.
И Нью-Йорк казался уже таким далеким, если не считать, конечно, связанных с ним огорчений.
Встреча с Чарли Рейнсом забылась совершенно. Все произошло просто и легко. Чарли — хороший малый.
— Я понял, что Линда слишком увлеклась, когда говорила со мной. Конечно, Джонни, я все понимаю. Нам очень жаль. Мне не нужно вам это повторять. Но я желаю вам удачи.
Вот и все. И покончено с фирмой «Рейнс и Рейнс».
Осталось легкое расстройство да еще напряжение из-за того, что Брэд ехал с ним вместе туда и обратно. Остановились они в одном отеле, и Брэд был таким дружественным, так беспокоился из-за «этого недоразумения» с Линдой, что Джона все время тянуло открыться ему и все рассказать, хотя он и знал, что делать этого не следует.
И еще он был расстроен из-за Билла МакАллистера. Оживленный голос медсестры сообщил по телефону:
— Мне очень жаль, но доктор МакАллистер уехал отдыхать… в Канаду… К сожалению, нет, он не оставил адреса. Да у него и нет адреса — он рыбачит где-то в лесах… О да, он вернется к концу месяца.
Вечно так бывает. Когда выпадет случай изменить все к лучшему, вмешивается другой случай, и ничего не выходит. А может, ему удастся найти психиатра в Питсфилде? Просто с помощью справочника.
— Я хочу, чтобы вы помогли моей жене. Она пьет. Конечно, она этого не признает. Но это длится уже много лет…
Планировать, что будет дальше — он не мог, слишком устал. Скоро он снова увидит ее. И лишь это было для него реальным. Какой она будет? Ведь прошло уже более тридцати шести часов с тех пор, как она осталась совсем одна в доме. Была ли она действительно испугана его решением? Может быть, она и в самом деле дошла до такого состояния, что согласилась — пусть хоть как-то попытаются помочь ей. Или все уже изменилось? И он вернется, чтобы обнаружить — она снова приготовилась воевать, снова придумала кучу хитростей и уловок против него, как против Врага.
Когда он уезжал, все было хорошо. Или так показалось ему, ободренному тем, что он наконец выработал решительный план действий.
Кондуктор объявил:
— Следующая остановка Большой Баррингтон.
Брэд оторвался от кроссворда и сказал:
— Слава богу, теперь уже скоро.
А Джон в это время перебирал в памяти все, что было со вчерашнего утра до той минуты, пока он простился с нею.
Разбудила его Линда. На ней было аккуратное белое платье и передник. В руках она держала поднос и широко улыбалась:
— Я принесла тебе завтрак.
Еще не совсем проснувшись, Джон удивился — зачем она надела черные очки. Потом вспомнил про синяк под глазом.
Она поставила поднос — трогательное предложение мира — ему на колени. Делала она это очень тщательно, стараясь показать, что руки у нее не дрожат.
— Ну вот. Если тебе что-нибудь еще понадобится, позови меня.
И напевая что-то, вышла из комнаты. Чуть позже, когда он одевался, зазвонил телефон. Брэд сообщил, что мистер Кэри посылает его в Нью-Йорк как свое доверенное лицо.
— Вы едете двухчасовым, Джон? Ну и отлично. Я тоже. Бьюик я оставляю Вики. А где вы остановитесь в Нью-Йорке?
— Еще не знаю.
— Давайте остановимся вместе в каком-нибудь отеле. Это Вики пришла вчера в голову отличная идея. Мы удержим таким образом друг друга от искушений, сказала она, и, кроме того, что гораздо важнее, я смогу все расходы включить в счет своих представительских денег. Только не говорите папе, — он заговорщически засмеялся. — А как чувствует себя Линда? Не страдает от похмелья, надеюсь?
— Как будто нет.
— Ну и прекрасно. Встретимся в поезде. Вики, конечно, передала бы привет, но она на озере, учит Лероя ловить окуней. Они встали на рассвете, — голос Брэда снова посерьезнел. — Не беспокойтесь насчет Линды, Джон. Все уладится.
Джон положил трубку. Через окно он видел, как Линда скрылась в старом коровнике, расположенном в цоколе мастерской. Там были сложены дрова, и там же, после очередного увлечения садоводством, Линда хранила свои садовые инструменты. Вскоре она появилась, таща пластиковый шланг к клумбе с цинниями, и стала их поливать.
Цветы росли на самом солнцепеке, и она вечно твердила, что поливать их можно только вечером. Конечно же, понял он, она прятала в коровнике еще одну бутылку.
Он подошел к ней. Оторвавшись от цветов, она улыбнулась ему все той же широкой улыбкой.
— Ты уже встал! Пожалуйста, будь ангелом, посиди в мастерской. Я собираюсь затеять в доме большую уборку, — Улыбка стала еще ослепительнее. — А может, ты предпочтешь погулять с детьми? Мне нужно было позвонить миссис Джонс насчет выкройки — я давным-давно обещала ей помочь. Трубку взяла Эмили. Она сказала, что они ждут тебя у ручья. Ты ведь точно обещал пойти с ними купаться — так она сказала. Но ты, конечно, сам решай…
Значит, таким способом она сообщила о своей капитуляции? Никаких упреков. Даже никаких упоминаний о вчерашнем. Сегодня — она
жизнерадостная, обремененная заботами домашняя хозяйка, внимательная соседка, образцовая помощница. Теперь он убедился, что она слегка выпила в коровнике. Но это уже не имело значения.
Она перекрыла воду и бросила шланг.
— А теперь — в гостиную. — И, направляясь к дому, обернулась и спросила с нарочитой небрежностью: — А ты собираешься в Нью-Йорк?
— Да. Я еду.
— Понятно. Я только хотела узнать насчет ленча. Если отправишься с детьми — возвращайся не позже полпервого. Я покормлю тебя до поезда.
Она вошла в дом, а он отправился в мастерскую. Картины были свалены у стен. Последняя его работа стояла на мольберте. Он задержался немного, глядя на нее. Вещь показалась ему бессмысленной, и он понял, что пытаться сегодня работать — бесполезно. Дети — вспомнил он. Почему бы и нет? Все равно утро нужно занять чем-то. Линда подала ему эту мысль, чтобы убрать его с дороги. Она боялась себя, боялась, что, если между ними снова случайно возникнет ссора, все ее добрые намерения могут улетучиться.
Вернувшись в дом, он надел плавки, натянул брюки. Ему было слышно, как Линда орудует в гостиной пылесосом. Крикнув ей: «Я пошел купаться» — он через парадную дверь спустился вниз по дороге.
Излучина ручья, которую дети облюбовали для купания, находилась в полумиле от его дома — в сторону Стоунвиля, в том месте, где заброшенный выгон постепенно зарастает лесом.
Дойдя до конца луга, он заметил ребячьи велосипеды, прислоненные к грубой каменной ограде, и, перебравшись через нее, бредя в разросшейся по колено траве, услышал их крики, доносившиеся снизу, от ручья. Их голоса сразу облегчили его напряженность, принесли ощущение беззаботности и покоя.
Кроме Лероя, все были в сборе, и все плескались в воде. Их тела блестели, как у тюленей. И конечно, Эмили первой заметила его, когда он спускался по тропинке между диких яблонь, молодых сосенок и густо разросшихся побегов черемухи — скоро и не скажешь, что эту землю расчищали под пастбище. Эмили вылезла на берег и побежала к нему.
— Джон, вы пришли! Я знала, что вы придете.
Она схватила его за руку и потащила к ручью. Он тут же влез в воду. Несостоявшийся папаша! И если в этой колкости Линды есть доля правды, то все эти сыновья и дочки — тоже несостоявшиеся, ибо так или иначе они были лишены родительской любви. Эмили и Энджел росли без отца, а их вечно озабоченная мать с утра до вечера занята на почте. Тимми — жертва плохо скрытого безразличия Морлендов, Бак — пешка в вечных родительских ссорах. Родители Лероя любят сына, но, будучи слугами в чужом доме, не могут уделять ему достаточно много времени.
Вот и выходит, что они нуждаются в нем так же, как он в них.
В начале двенадцатого прибежал Лерой, на бегу сдирая одежду, и тоже шлепнулся в воду. Он был в полном восторге от успеха своей рыболовной экспедиции — поймал трех окуней, а Вики — только одного.
— Мы встали на рассвете. И я греб. И… вы бы видели рыбину, которую я чуть не поймал. Спорим, она была чуть не три фута длиной!
И когда все дети с широко раскрытыми глазами сгрудились вокруг него, Джон еще сильнее почувствовал, как его охватывает умиротворение.
Но перед его уходом все вдруг испортилось. Эмили и Энджел лежали и загорали рядом с ним на берегу. Вдруг Эмили объявила:
— Я знаю, что я сделаю. Я открою Джону секрет.
— Нет, — закричала Энджел, — ты не смеешь! — и она с яростью кинулась на сестру, колошматя ее кулаками. — Это мой секрет! Мой!
Другие дети вылезли из воды и напряженно столпились вокруг. Джон оторвал девочку от сестры. Но она яростно вырывалась из его рук. Круглое пухленькое лицо исказилось от злобы:
— Ты не узнаешь, мы не расскажем тебе наш секрет. Ты — гадкий и низкий. Ты побил свою жену.
— Энджел! — Эмили вскочила на ноги и попыталась добраться до сестры, которую еще держал Джон. — Ты не смеешь!
— Да, — крикнула Энджел, — он лупит свою жену. Мне Тимми рассказал. Она вчера вошла в гостиную с подбитым глазом и так и объявила.
Подумав мрачно — ну вот, дошло уже и до детей, — Джон опустил ее на землю и взглянул на Тимми. Тот съежился в замешательстве, а потом отвернулся и побежал прочь по высокой траве.
Эмили, верный защитник Джона, крикнула:
— Это неправда! Я их ненавижу. Ненавижу Тимми, ненавижу Энджел…
Джон пошел за Тимми. Тот лежал за сосной и плакал, уткнувшись лицом в траву. Джон опустился рядом и положил ему руку на плечо.
— Все хорошо, Тимми.
— Я не хотел. Я не хотел им говорить. А потом подумал, если я скажу Энджел, что у меня тоже есть секрет, она откроет мне свой. И я спросил, а она говорит — расскажи сперва ты… И я рассказал, а она мне нет. Но я не хотел…
— Ладно, Тимми. Забудем это. Пошли.
Но мальчик не хотел возвращаться. Погруженный в мрачные детские мысли о совершенном предательстве, он лежал на траве, плача и лягая ногами землю.
Джон вернулся к остальным. Им всем было неловко, и лица у них пристыженные. Чары улетучились. Тень Линды нависла над ними.
Вскоре он побрел домой. Линда была все такая же, веселая и оживленная. Она уже приготовила ему ленч и, пока он ел, сидела рядом. Сама она только курила одну сигарету за другой, поглядывая на него сквозь темные очки и с какой-то лихорадочной небрежностью болтая о пустяках. Поднялась с ним в спальню и сидела там, пока он одевался и укладывался.
— Ты не против того, чтобы самому вести машину до станции? Все равно, пока тебя нет, машина мне не понадобится. И потом… — она поднесла руку к очкам, — мне бы не хотелось показываться с этим в деревне.
Это было единственное упоминание о случившемся. И лишь проводив его до машины, она вдруг заговорила:
— Джон, прошу тебя, обещай мне… Я согласна насчет Билла. Клянусь, я согласна. Я все сделаю, но только если это Билл. Не обращайся ни к кому другому, прошу тебя…
— Хорошо, — обещал он.
— И еще, Джон… Насчет Стива. Ты был прав. То, что я вчера сказала, — неправда. Не знаю, что на меня нашло.
— Ладно, Линда. Все в порядке. Ну, до завтра!
Она стояла в дверях кухни и смотрела ему вслед, пока он выезжал на дорогу…
Кондуктор объявил их станцию, и Брэд достал с полки чемоданы. Когда поезд остановился и они вышли, Джон увидел, что его старая машина стоит там, где он ее оставил. Рядом, в бьюике, сидела Вики. Мужчины подошли, и она поцеловала обоих.
— Ну как, Джон, дело сделано? — Вики стиснула его руку. — Линда поймет, я уверена. Если вам захочется, приезжайте к нам попозже вместе. Папа ездил в Спрингфилд, а мама ночевала у меня — две осиротевшие женщины объединились. Но он уже вернулся и увез ее. Так что приезжайте.
Проезжая через деревню, Джон остановился у почты. Он ждал очередной номер «Арт ревью» со статьями о его выставке, а Линда без машины вряд ли забирала почту.
Кое-кто из жителей отирался внутри. Проходя к своему ящику, он кивнул:
— Добрый вечер.
Никто не ответил. Его ящик был рядом с окошечком, где миссис Джонс раскладывала марки в специальной папке. Доставая свои письма, он улыбнулся ей. Но она посмотрела как бы сквозь него, затем отвернулась и снова занялась марками. Только теперь Джон почувствовал, что общая атмосфера была даже и не нейтральной, а враждебной. Значит, новости насчет того эпизода у Кэри уже разнеслись по деревне одному богу известно в каком искаженном виде. И для Стоунвиля он уже не был слегка забавным чужаком. Он был — кем же? Выродком, зверски избивающим жену?
Молчание, провожавшее его, когда он возвращался к машине, походило на угрозу. Все это неважно, уговаривал он себя. Он не старался подружиться с обитателями деревни, так же как и с компанией Кэри. Ему нужно только, чтобы его оставили в покое.
Но пока он садился в машину и запускал мотор, сознание того, как они отвергли его, все не отступало. Было в этом что-то леденящее и даже зловещее, будто Линда невидимкою проскользнула на свое место в машине рядом с ним — это все ее рук дело. Тот, кого они отвергли, был вовсе не он, не настоящий Джон Гамильтон. Его они не знали. А это был образ Джона Гамильтона, созданного Линдой в их воображении.
Он вел машину через лес. Дорога спускалась с холма и затем снова поднималась у поворота. Свернул, миновал деревянный мост, с внезапно нахлынувшим ужасом думая о встрече с женой, въехал на дорогу к дому и остановился у дверей кухни.
Линды в кухне не было. Он вошел в дом и позвал ее. Никто не ответил. Шагнул в гостиную и остолбенел. В комнате царил хаос. Картины сорваны со стен, пластинки и коробки с магнитофонными лентами выброшены из шкафов на пол. Половина пластинок разбита, а картины зверски вспороты ножом крест-накрест. Даже проигрыватель, усилитель и магнитофон, вытряхнутые со своих полок, валялись, извергнув разбитые детали.
И пока Джон стоял, разглядывая следы жестокого разора, ему показалось, что все это уже было когда-то раньше, или что то, чего он всегда опасался и о чем не позволял себе помыслить, — свершилось наконец. И представив себе Линду, размахивающую ножом, Линду, топчущую пластинки, Линду с безумным, искаженным, бессмысленным лицом — лицом сумасшедшей, он почувствовал, как его охватывает ужас.
Он вдруг ощутил ее присутствие в доме или, вернее, присутствие ее безумия. Оно, казалось, висело в воздухе, отравляя его, как ядовитый газ.
Где же она? Я должен найти ее!..
И тут он заметил пишущую машинку. Обычно она хранилась у него в мастерской, но сейчас стояла на краешке стола с заложенным в нее листом бумаги. Он пробрался сквозь обломки пластинок и обрывки холстов и взял в руки записку, целиком отпечатанную на машинке, — даже подпись.
«Ты никогда не верил, что я это сделаю, правда? Вот тут-то ты и ошибся. Наконец у меня хватило решимости уйти. Так что можешь поискать себе другую, которая будет так же расшибаться в лепешку ради тебя, другую, которую ты сможешь так же мучить. Найди другую, если удастся. Меня ты не найдешь — это уж точно. Желаю тебе счастья. Прощай навсегда!
Линда».
VII
Она ушла. Он стоял, глядя в записку, не реагируя на злобные слова, а просто пытаясь осмыслить сам факт, что она его бросила. Но несмотря на потрясение, где-то в глубине сознания смутно продолжалась логическая работа мысли. Почему свою записку она напечатала? Он не помнил, чтобы она когда-нибудь пользовалась машинкой. Он даже не знал, что она умеет печатать. Зачем ей понадобилось тащить машинку из мастерской и… И снова ему представилось, как она бродит по комнате с ножом в руках — безумная, с бессмысленным искаженным лицом. И подумал: нет, она не ушла. Эта записка — просто очередной ее ход. Она все еще где-то здесь, в доме.
Он с трудом пробрался через все разрушения, думая почти безразлично: она уничтожила картины. Потом я буду смертельно зол. Сейчас он не чувствовал гнева — им владел страх перед тем, что где-то, возможно, наверху, притаилось безумие, готовое в любую минуту развернуться как пружина.
Вошел в столовую. Никого. Поднялся по лестнице. Конечно, она в спальне, сверкнула мысль. Но и там увидел, что ее нет, а дверь в гардеробную нараспашку. Видны ее платья И его костюмы, висящие там. В гардеробной никого. Он осмотрел остальные комнаты. Внезапно вспомнил о картинах в мастерской. Выбежал через кухонную дверь, перемахнул через лужайку, уже покрытую вечерними тенями яблонь, и влетел в мастерскую.
Картины, сложенные у стен, не тронуты, цела и та, что на мольберте. Но Линды нет и тут.
Значит, она действительно ушла — без машины? Без всякой одежды? Он вернулся в спальню и стал просматривать вещи. Да, не хватает ее нового зеленого платья, серого костюма и еще нескольких платьев. И нет нового чемодана, который она хранила на верхней полке. Она ушла. Ушла из дома пешком с чемоданом в руках.
Он присел на кровать. Ощущение зла, какого-то зловещего заражения, висящего в воздухе, не проходило. Может, это он сошел с ума и все ему померещилось?
Она стояла у машины и, глядя ему прямо в глаза, искренне, уверенно говорила, что все будет хорошо, что она согласна лечиться. «Я сделаю все, что скажет Билл». Она махала ему вслед рукой, когда он уезжал. Как мог произойти такой скачок — к этому бешеному хаосу разрушения — там, внизу, и к этой записке, с ее злобными выпадами? Даже если бы она выпила все, что было в доме, она бы никогда…
Поднявшись с кровати, он поспешил в гостиную. Бутылки с джином и виски по-прежнему стояли в баре. Содержимое в них не убавилось. Он вынул их, открутил крышки и глотнул из каждой. Нет, не разбавлены. Где-то еще наверху у нее припрятана бутылка. Он начал искать повсюду с яростной сосредоточенностью. Наконец в одном из бельевых шкафов, под стопкой покрывал обнаружилась бутылка джина, заполненная примерно наполовину. Значит, перед тем как уйти, она хлебнула изрядно. Но у нее, кажется, была еще одна, спрятанная в коровнике?
Он задумался, машинально глядя на бутылку, потом так же машинально нагнулся, чтобы водворить ее на то же место, и вдруг заметил — что же это такое? — открытку, спрятанную вместе с бутылкой. Поднял ее. На открытке — лесистые горы и озеро. Канада, озеро Кроули в Манитобе. Адресована ему. С трудом вникая в смысл, прочел:
«Вот это настоящая жизнь. Почему бы вам не бросить свои кисти и не прилететь, хоть на несколько дней. Привет Линде.
Билл МакА».
Билл МакАллистер. Не веря своим глазам, взглянул на штемпель. Отправлена пять дней назад. Уже дня три как получена. Из-за того, что все связанное с Биллом вызывало у нее тайный невротический ужас, Линда, видимо, спрятала открытку. Значит, она знала, что Билла нет в Нью-Йорке. Знала, когда он думал, что ему удалось наконец одержать победу над ней, знала, когда, провожая его, стояла у машины. «Обещай мне, Джон… Я все сделаю, но только если это Билл. Не обращайся ни к кому другому…»
Вся ее капитуляция — обман. Еще одно из ее фантастически мудреных предательств. Провожая его в Нью-Йорк, она знала, что он не сможет добиться своего. А теперь, когда он вернулся, его ожидало вот это…
Вернувшись в спальню, он закурил. Это самый серьезный кризис за все время их брака. И он понимал, что должен иметь в запасе силы. Но какая-то парализующая апатия не отпускала его.
Она ушла из дома с чемоданом, пешком и без денег. Или они у нее были? Могла она планировать все это заранее и припрятывать деньги? Но куда она отправилась? В Нью-Йорк? Если бы он вернулся к «Рейнс и Рейнс» и получал бы кучу денег — тогда конечно. Но не теперь. И уж наверняка она не собиралась возвращаться в маленький городок в Висконсине, где родилась и где пять лет назад умерли ее родители вскоре после его женитьбы на ней… Так куда же она могла отправиться? Некуда ей идти.
«Ну а если она сошла с ума? — подумал он. — Если внутреннее напряжение, в котором она всегда находилась, в конце концов вырвалось наружу? Уничтожить картины, разбить пластинки, кинуться наверх, побросать что-то в чемодан и выбежать из дома, чтобы пойти — куда? Некуда — только голосовать на дороге и сесть в первую проходящую машину?»
Кошмарный образ безумной, бродящей по округе жены как бы влил в его жилы искусственную энергию. Он должен сообщить в полицию.
Но «полицией» в Стоунвиле был Стив Риттер. И снова он как бы натолкнулся на Линду — она все испортила и сделала это невозможным. Звонить Стиву Риттеру и сообщить ему, а через него всей деревне, что Линда уничтожила его картины и убежала, что она сошла с ума! Потом подумал вдруг: «Что это со мной? Конечно же она не исчезла таким образом. Она у кого-нибудь из своих милых, милых друзей — из этой компании Кэри. Конечно, у них. Он тут же представил себе ее театральное появление у старых Кэри или у Морлендов.
— О, мои дорогие, я его бросила. Я больше не могла терпеть…
Конечно же все это так. Она могла даже забрести к молодым Кэри, пока Вики ездила на станцию. Он так в этом уверился, что все как бы встало на свои места.
Сбежав вниз, позвонил молодым Кэри. Вики взяла трубку.
— Да, Джон. Мы вас ждем. Приезжайте сейчас же оба.
— Значит, Линда не у вас? — и сам удивился, что его голос звучит так спокойно.
— У нас? Нет. Я ее не видела с того вечера. По правде говоря, я собиралась позвонить, но так и не собралась. Ничего плохого не случилось?
Джон вспомнил, что их могут подслушать.
— При встрече все объясню. Вики, не сможете ли вы или Брэд позвонить Морлендам и вашим родителям и узнать, не там ли она. Мне не хотелось бы делать это самому после того вечера…
— Сейчас же сделаю это.
— Спасибо, Вики. Я приеду.
Он положил трубку. Если ее нет у Морлендов или у старых Кэри, ему, конечно, придется рассказать Вики и Брэду всю правду. И хотя с годами это стало как бы его второй натурой — покрывать Линду, он понимал, что на сей раз дело зашло слишком далеко. А Вики и Брэд поймут его правильно. Во всяком случае, они не отнесутся к этому как к непристойной сплетне, которую надо разнести побыстрее. В этом он уверен. Может быть, они смогут помочь разыскать Линду, прежде чем разразится скандал. А если ее нет ни у Морлендов, ни у старых Кэри…
Но она должна быть там, думал он, выбегая к машине, потому что, если она не у Морлендов или не у старых Кэри и не изливает им свои горести… И снова ему представился ужасный образ — пустые, мертвые глаза, оцепенелая фигура, бредущая куда-то с чемоданом. Он заставил себя прогнать это видение. Выводя машину на дорогу, подумал о Стиве Риттере. Могло ли это все-таки оказаться правдой? Мыслимо ли, что она убежала с ним? Нет, она сама признала, что это ложь — извращенное алкогольное вранье.
Но во всех случаях Стив Риттер — ее верный раб, так же как и остальные обитатели деревни. Может быть, враждебность, которую он ощутил там, на почте, была уже связана с ее исчезновением?
Линда могла побояться, что компания Кэри уже не проглотит ее новую легенду. И могла найти убежище у кого-нибудь из жителей деревни, сделав их своими слушателями. Не слишком вероятно, учитывая снобизм Линды и желание, чтобы ее не только любили равные ей, но и уважали те, кого она числит ниже себя…
Вместо того чтобы ехать коротким путем — мимо пустующего дома Фишеров, вниз с холма через лес, — он повернул налево, на дорогу, ведущую в Стоунвиль. Не станет он так вот сразу расспрашивать Стива — ситуация слишком деликатна. Ему нужен бензин. Надо завернуть на бензоколонку и посмотреть, куда дует ветер.
Стемнело. В кафе-мороженом, расположенном в полумиле от деревни, уже зажглись неоновые светильники и слышались завывания проигрывателя-автомата. Он остановился у колонки. Из-за перегородки вынырнула миссис Риттер — худенькая, безвкусно одетая, растрепанные, седеющие волосы свесились на лоб. Бетти Риттер, обозленная и преждевременно постаревшая из-за того, что муж не обращает на нее внимания, была главной человеконенавистницей в деревне. И Бетти — единственная в деревне, кто не станет тут же подхватывать сплетни. Она угрюмо включила помпу и накачала полный бак бензина. Но это была ее обычная угрюмость. Когда она подошла к ветровому стеклу, чтобы протереть его пыльной тряпкой, Джон спросил:
— Стив дома?
— Только что уехал по вызову. — Миссис Риттер фыркнула: — Стив Риттер — полицейский офицер Стоунвиля! Меня всегда смех берет. Если в Стоунвиле и есть кто-то, кого следует посадить под замок, — так это Стив Риттер. Записать на ваш счет, мистер Гамильтон?
— Да, пожалуйста. — Джон весь напрягся. — Его вызвали как полицейского?
— Не спрашивайте меня. Если Стив расскажет мне, чем он занят, значит, волк в лесу околел. Прибегал Бак и болтал тут что-то про свои ребячьи дела. Я занималась клиентом и не очень обращала внимание. Потом позвонили по телефону. И Стив тут же укатил. Он взял с собой Бака, так что на этот раз, надеюсь, это не какие-нибудь его шашни.
Бетти Риттер рассмеялась, а потом замолчала и внимательно поглядела на Джона сквозь стекло машины насмешливыми злыми глазами:
— Чего вы так нервничаете, мистер Гамильтон? Что стряслось? Может, у вас совесть нечиста? Что вы натворили? Жену убили или еще что?
VIII
Джон правил через деревню. В окнах магазина горел свет. Под большими кленами около почты стояло несколько машин. Парень с девушкой сидели на крыльце одного из дощатых домов. Кто-то курил сигарету у входа в зал, где должно состояться общее собрание. Когда? Завтра… Еще более обеспокоенный тем, что он услышал от миссис Риттер, Джон ожидал увидеть необычную суматоху — свидетельство несчастья. Но все было спокойно, как всегда.
Если кто-то встретил Линду на шоссе, уговаривал он себя, Стив ни за что не взял бы с собою Бака. Этот вызов не мог иметь отношение к Линде. Просто совпадение.
За церковью он свернул, въехал на холм, потом спустился. Вскоре северный берег озера Шелдон заблестел справа от него, призрачно серый в легком летнем сумраке. Звонко квакали лягушки. Смутно виднелись мостки для нырянья. «Озеро!» — подумал он. «Меня ты не найдешь — это уж точно!» Эти слова из записки, казалось, были написаны на ветровом стекле перед его глазами. А что, если она бросилась в озеро и утопилась? Нет, не станет она топиться с чемоданом. Что бы с ней ни случилось, как бы она ни обезумела — не станет она укладывать чемодан, чтобы покончить с собой. Или все-таки могла?.. Ведь не менее безумным было уничтожить картины, раздавить пластинки, напечатать записку на машинке — при том, что раньше она никогда не печатала. А для этого сходить за машинкой в мастерскую… Разве он мог теперь судить — что она могла, а чего не могла сделать?
Оцепенение после шока стало проходить. Из-за растущей в нем тревоги тело его, казалось, стало хрупким, как стекло, и вот-вот разорвется на кусочки. Чтобы успокоиться, он принялся уговаривать себя: Вики уже, конечно, удалось разыскать Линду. Она дозвонилась и нашла Линду у Морлендов или у старых Кэри, плачущую, полную раскаяния теперь, когда истерическая вспышка миновала. «О, как я могла так поступить с ним? Не знаю, что на меня нашло…»
Обогнув озеро, он въехал на покрытую гравием стоянку у дома Кэри. В нижнем этаже зажжены все лампы. Дверь отворилась. На пороге стояла Вики. Подбежав к нему, взяла его за руки.
— Джон, дорогой, она не вернулась? Я звонила папе. У них ее нет. А у Морлендов никто не отвечает. Они, верно, в кино.
Она повела Джона в дом. В холле взглянула на него, но тут же отвела взор, как если бы то, что она увидела, было не для посторонних глаз.
— Вам надо выпить. — Она ввела его в гостиную. — Брэд, приготовь Джону выпить.
Большие французские окна гостиной были распахнуты. Брэд, сменивший городской костюм на спортивную рубашку и брюки, стоял у бара. Он налил стакан, подал его Джону и, посмотрев на него так же, как Вики, отвел глаза.
— Садитесь, Джон.
Джон присел на длинный диван. Их забота о нем, отсутствие острого любопытства и желание помочь были очевидны. Это вернуло Джона к реальности. Рядом с ним разумные, хорошие люди. И если он им все расскажет, этот кошмар рассеется.
— Когда я приехал, ее не было дома. Она оставила записку…
Он понимал, конечно, что через пропасть между той Линдой, которую знает он и какой ее представляли себе Кэри, нужно перекинуть мост. Но сперва он просто выложил все: записка, изрезанные картины, разбитые пластинки, исчезнувшие платья и чемодан…
Брэд высказался первым. В его тоне не было враждебности, звучало лишь некоторое недоверие:
— Линда написала такую записку, уничтожила ваши картины? Нет, Линда не могла этого сделать!
— Она же такая нежная, — подала голос Вики. — Она и мухи не обидит. И она… она так любит вас. В вас вся ее жизнь. И ваши картины — это же просто святыня для нее. Она всегда это повторяла.
— Конечно, — вмешался Брэд. — Она была у нас в тот день, когда пришли газеты с отзывами о вашей выставке. «К черту критиков, — заявила она. — Он будет великим художником!» Она… Она просто не могла…
Он замолчал. Джон посмотрел на них. Они не обвиняли его во лжи. Они просто не могли поверить. И он вдруг представил себе Линду, ту, которая не была ему знакома, Линду, которая приезжает к Кэри, когда его нет, разыгрывая из себя возмущенную сторонницу непонятного гения, а потом ее же в другой роли — влюбленной женщины: «Джон — это вся моя жизнь».
Конечно, они должны так реагировать. И ощущение, что все это — страшный сои, не проходило, а усиливалось.
Когда-нибудь ему придется начать. И он выговорил:
— В тот вечер она не казалась такой уж влюбленной в меня, верно?
— Но вы поссорились, — Вики, не скрывая испуга, разглядывала его. — Это со всеми может случиться. Тем более что вам пришлось принять такое серьезное решение. Такая ссора не в счет. И кроме того, она выпила. Она сама призналась в этом. Она была просто не в себе. И потом, она ужасно огорчалась, что столько наговорила. Все это заметили. — Она взглянула на мужа. — Джон, только, пожалуйста, не думайте, что мы вам не верим. Раз вы говорите, что все это случилось, значит, так оно и есть. Но наверное, все было как-то не так.
А теперь, когда настало время все объяснить, у него возникло дурацкое чувство, что он предатель. Так оно и выйдет. Когда он даст свои объяснения — все будет кончено между Линдой и компанией Кэри, будет покончено с надеждой на спокойную жизнь в Стоунвиле. Какая-то частица его души требовала: не делай этого. Не лишай Линду того немногого, что у нее оставалось. Даже если она добилась этого притворством. Но он понимал, что сейчас уже не имело смысла думать так. Все было кончено между ними и Стоунвилем, все было кончено между ним и Линдой. До сих пор он не отдавал себе в этом отчета. Но тут понял ясно. После того, что она сделала с картинами, — что бы потом ни выяснилось, — разрыв неизбежен.
Он глотнул из стакана, не глядя на них. И начал:
— Вы не знаете Линду. Никто, кроме меня, не знает ее. Я делал все, чтобы никто ничего не узнал. В тот вечер вы могли получить лишь некоторое представление о ней. Видите ли, у меня была и другая причина для поездки в Нью-Йорк. Я должен был проконсультироваться с врачом. Она больна. Уже давно — несколько лет.
Конечно, он рассказал не все — не касался интимных, самых неприятных деталей. Он отдавал себе отчет в том, что сказанное далеко еще от полной правдивой картины, но достаточно, чтобы они могли понять. Это был рассказ о ее неустойчивости, вечном стремлении к соперничеству, рассказ о ее поражениях и о запоях, становившихся все продолжительнее, о том призрачном мире, который постепенно все больше и больше заслонял от нее реальность.
Сначала он боялся, как бы они не подумали, что он ищет у них сочувствия, жалости, что он уж слишком выставляет себя страдающей стороной — хороший преданный муж, стольким пожертвовавший. А они сидели и слушали его с ничего не выражающими вежливыми лицами. И между ними не было контакта.
Неужели так трудно понять весь сложный комплекс характера алкоголика? И постепенно он стал говорить менее уверенно, запинаясь, а затем, почувствовав, что пропасть между ними все ширится, и вовсе замолчал. Стараясь не взглядывать друг на друга, они смотрели на него с осторожным намерением быть справедливыми. И, хотя они всеми силами старались не показать этого, он видел, что они в замешательстве, особенно Брэд. И понял, что они не верят. В лучшем случае, считают, что он постыдно преувеличивает и пытается вдолбить им свою точку зрения, потому что отношения с Линдой не сложились и теперь он боится того, что могло произойти.
Брэд заговорил первым. Его голос чуточку изменился:
— Значит, в тот вечер, когда она была здесь, вы вовсе не ударили ее?
— Нет. Она упала и ударилась, потому что была пьяна. И именно это она изо всех сил старалась скрыть.
— Но она же призналась, что выпила.
— Да, конечно, один стаканчик. Она же понимала, вы заметите, что с ней неладно. Видите, какая сложная маскировка.
— Значит, ради этого она готова была обвинить вас, что вы ударили ее.
— Именно. Это ее ни на минуту не остановило. (Осторожнее, не надо так — звучит уж очень зло. Только вызовет протест.) А может быть, все было сложнее. Понимаете, когда она начинала пить, ей непременно хотелось выставить себя страдалицей, поэтому она обычно старалась представить меня негодяем. Ей нужно было, чтобы вы все меня возненавидели.
После долгого молчания Вики спросила:
— Значит, все, что мы знаем о ней, и все, что она говорила или делала, — одно притворство?
— Более или менее. Почти все, что она делает и говорит, — притворство.
— Может быть, и теперь все это притворство? Она сделала вид, будто убежала, чтобы напугать вас или наказать за что-нибудь?
В голосе Вики Джон не услышал и тени сарказма, но ее вопрос сделал попросту бессмысленным все, что он пытался объяснить.
— Если бы она осталась здесь — это было бы притворством. Но теперь… Она никогда не доходила до такой ярости. Может быть, согласившись на консультацию с психиатром, она впала в панику. Она боялась… (Но она же знала, что Билла МакАллистера не будет на месте.) Может…
Усталость снова сковала его. Какое это теперь имеет значение? Он вовсе не должен убеждать Кэри. Ему нужно найти Линду.
— Но если она уехала, — заговорила Вики, — то куда?
— Насколько мне известно, ехать ей некуда.
Он не сказал им о своих страхах, — что она сошла с ума и покончила с собой. Так далеко он не зашел. И сейчас был доволен этим.
Брэд угрюмо выговорил:
— Следовало бы сообщить в полицию.
— А если все это разыграно? — Вики внимательно разглядывала Джона. — А если она, обезумев, испортила картины, а потом испугалась и убежала в лес… Подумай, Брэд! Какой будет скандал и чем это обернется для нее, если это так. Может, мы сами найдем ее?
— Ночью? — возразил Брэд. — В лесу? А ты представляешь, сколько тысяч акров леса нас окружает? Даже днем нужны поисковые партии.
Он встал, закурил и зашагал по комнате. Потом снова повернулся к Джону. То простое дружеское отношение, которое Джон чувствовал с его стороны в Нью-Йорке и в поезде, исчезло. В глазах Брэда светилась теперь не только враждебность, но и очевидное желание побыстрее выпутаться из этой неприятной ситуации.
— Почему вы не звоните домой? А вдруг она уже вернулась?
— Да, вдруг она вернулась! — поддержала его Вики.
— Если же ее нет и если она не вернется к утру — надо вызывать полицию.
— Да, конечно, — вторила Вики, — конечно.
Позвонил телефон. Брэд чуть не бегом кинулся к нему.
— Да… Да… Нет, ее здесь нет, но Джон у нас. Хотите говорить с ним? Хорошо, минуточку, — он обернулся, прикрыв рукой трубку. — Это Гордон. Он звонил вам домой, там никто не ответил, тогда он позвонил сюда.
— А Линда?..
— Он ничего мне не сказал.
Джон подошел к телефону. Брэд, взволнованный и напряженный, остался рядом. Голос Гордона Морленда — высокий, манерный, холодно и неприязненно спросил:
— Это Джон? Линда с вами?
— Нет.
— А где она?
Джон почувствовал, как от волнения что-то сжалось у него в животе.
— Ее сейчас здесь нет.
— Но вы знаете, где она? Вот что мы хотели бы выяснить.
— Нет, — пришлось ему признать. — Не знаю.
— Тогда приезжайте-ка сюда побыстрее и присоединяйтесь к нам. К нам и к Стиву Риттеру.
Полицейский вызов!
— А где вы находитесь?
— Я звоню из ближайшего дома, до которого добрался. А Стив и Роз на деревенской свалке. Туда и приезжайте. Знаете, где это?
— Знаю. Но в чем дело? Что случилось?
— Увидите, когда приедете. Только Стив говорит, чтобы побыстрее.
Джон услышал, как повесили трубку.
Когда он все передал супругам Кэри, Вики захотела отправиться вместе с ним. Но он подумал, что это уж слишком. Хватит с него и Стива Риттера с Морлендами. Достаточно того, что Кэри полны сочувствия. Но, пожалуй, лучше бы они прямо выложили, что у них на уме. Брэд не пошел провожать его до машины — это сделала Вики.
— Сообщите, Джон, если мы будем вам нужны…
Если они будут ему нужны! Если Линда лежит там на свалке…
Он отчаянно вывернул машину на дорогу. Свалка находилась примерно в миле от озера, чуть вверх и в сторону от шоссе. Все окружающее обратилось для него в страшный сон. Линда лежит на свалке. «Что вы натворили? Жену убили или еще что?» Нет, это невозможно. Не может Линда лежать там…
Приблизившись к повороту, он увидел впереди, на обочине дороги, машины с зажженными габаритными огнями. Затормозил около них и выскочил из машины.
— Джон… Джон…
Он услышал странно приглушенные детские голоса, зовущие его, и заметил две нелепые тени в тусклом свете сигнальных фар. Круглые, неуклюжие, увенчанные фантастическими пластиковыми куполами, из которых торчали антенны. Это были Тимми и Бак в своих новых скафандрах.
— Мы нашли это, Джон, — возбужденно выпалил Бак. — Мы исследовали Землю…
— В наших скафандрах, — вставил Тимми.
— Мы были ученые с Марса, исследовали свалку и…
— Джон? — голос Стива Риттера, низкий и чуть угрожающий, донесся откуда-то из темноты. — Это вы, Джон?
Он зашагал по дороге, а дети вприпрыжку сопровождали его. Темнота поглотила их. Светлячки, мигающие в густой тени деревьев, усиливали ощущение фантастичности происходящего.
— Это здесь, Джон. Идите сюда.
Луч фонарика возник из темноты, высоко, под странным углом. Джон повернул влево и споткнулся о жестянки и бутылки:
— Поднимайтесь сюда, Джон.
Он стал карабкаться на кучу мусора, смутно различая стоящие наверху фигуры. В темноте светился кончик сигареты. Когда он поднялся, фонарик погас.
— Ребятишки нашли это, Джон, — голос Стива был угрожающе непринужденным. — Тимми рассказал Морлендам, а Бак — мне. Потом мистер Морленд позвонил мне. Решил, что надо бы это расследовать. Судя по тому, что говорят дети, сказал он, выглядит все это неладно.
— Мы нашли это, — снова донесся сквозь пластик приглушенный голос Бака. — Это клад. И мы нашли его — я и Тимми.
— Мы совершенно уверены в том, что это такое, — продолжал Стив. — Во всяком случае, мистер Морленд уверен. Но только вы можете опознать это и объяснить, как оно сюда попало.
И неожиданно луч фонарика высветил что-то на земле.
Там, брошенный на гору мусора, лежал их новый чемодан. Он был открыт, Первое, что бросилось Джону в глаза — зеленое платье, новое платье Линды. Юбка в аккуратно заложенных складках выпала и зацепилась за край ржавой жестянки из-под масла.
IX
Джон глядел вниз с чувством обреченности. Из темноты, от тлеющего кончика сигареты, прозвучал взволнованный голос Роз Морленд:
— Это новое платье Линды — никаких сомнений. Она получила его на прошлой неделе и сразу же приехала ко мне — показать. Линда была от него в восторге и ни за что на свете не выбросила бы его. И ее серый костюм — все ее лучшие вещи! Вот почему, когда Тимми стал описывать, я тут же их узнала.
— Роз! — оборвал ее сдержанный голос Гордона. — Сейчас это уже не наша забота. Здесь Стив. Это его обязанности. Пусть он разбирается.
— Ну, Джон, — спросил Стив, — мы ждем. Вы опознаете эти вещи и этот чемодан? Они принадлежат вашей жене?
Глаза Джона привыкли к темноте. Он мог разглядеть очертания челюсти Стива Риттера и даже видел слабый блеск его глаз, так же, как ощущал почти истерическую враждебность Морлендов, готовых обвинить его.
Опасность подстерегала его. Он так остро чувствовал ее, будто она стояла рядом с ним — как еще одна странная, призрачная фигура. Следует быть осторожным. Все изменилось и изменилось к худшему.
— Да, — выговорил он. — Это все вещи Линды.
— Как-то забавно, верно? Выбросить красивые вещи, лучшие платья и все прочее? Выбросить на свалку?
— Чепуха, — начала Роз, — ни за что на свете…
— Роз, пожалуйста, — остановил ее Гордон.
Запах прокисшего мусора висел над ними.
«Если чемодан здесь, значит, и Линда здесь» — мысль эта прозвучала в сознании Джона как удар грома. И теперь нельзя уже было избежать всего, что предстояло. И он сказал:
— Я не знаю, где сейчас моя жена.
— Не знаете? — повторил Гордон.
— Вы… — у Роз перехватило дыхание.
Стив Риттер медленно, без всякого выражения спросил:
— Что вы этим хотите сказать, Джон?
— Вчера я уехал в Нью-Йорк. Сегодня вечером вернулся домой. Ее дома не оказалось. Она оставила записку, что уходит от меня.
— Уходит? Куда? — спросил Гордон.
— Боже! Неудивительно! — воскликнула Роз.
— Роз!
— А ты что, удивлен? После той сцены? Когда он избил ее, когда он…
— Погодите немного, миссис Морленд, — резко оборвал ее Стив. — У вас с Линдой была ссора, Джон? Вы уехали в Нью-Йорк, и, пока вас не было, она ушла от вас? Так?
— Да, пожалуй, что так. Пожалуй, примерно так.
— Она взяла машину?
— Нет. Машина стояла у станции. Я приехал на ней.
— Она ушла без машины? Но как? Пешком? Или голосовала на дороге?
— Не знаю. Откуда мне знать?
Все замолчали. Светлячки беспорядочно носились в темноте. Кончик сигареты Роз Морленд светился — круглый устойчивый светлячок. Запах разложения наполнял воздух.
Внезапно Тимми испуганно заныл:
— Мама! Хочу домой.
Стив сказал:
— Ну ладно. Миссис Морленд, может, вы возьмете ребятишек и подождете в машине?
— Я хочу остаться, — подал голос Бак.
— Ма-а! — ныл Тимми. — Хочу домой!
— Уведите их, миссис Морленд.
— Но, Стив… — воскликнула Роз, — вы же не думаете… Не думаете, что Линда…
— Посидите в машине, миссис Морленд. Отдохните. Уведите детей…
— Тимми, Бак, — рассеянно позвала Роз. — Пошли со мной, пошли.
Едва различимая в темноте, она спустилась с кучи мусора. Зазвенели выскользнувшие из-под ног бутылки и консервные банки. Тимми захныкал. Его тихий жалобный плач доносился снизу, от дороги.
— Вот что, — деловито сказал Стив, — у вас в машине есть фонарик, Джон?
— Нет.
— У мистера Морленда есть. А вам тогда лучше держаться рядом со мной. Вы, мистер Морленд, идите по правому краю, а мы пойдем слева.
Гордон Морленд был поражен:
— Но Стив, дети здесь все обыскали. Так они и чемодан нашли. Если Линда… если…
— Может, они куда-нибудь не заглянули. Может, где-нибудь в бурьяне?
Гордон Морленд пошел вправо, вслед за лучом своего фонаря. Стив Риттер постоял неподвижно. Джон слышал его спокойное дыхание. Потом Стив включил фонарик и направился влево:
— Что ж, Джон, пошли.
Искали они — и Джон сознавал это — тело Линды. Они уже примирились с этим как с возможным фактом, — что она мертва. И хотя Джон был измучен и обессилен, он понимал также, какие подозрения роятся в цепком писательском воображении романиста Морленда. Это было очевидно — по возбужденности и резкости голоса Роз и по формальной холодности Гордона. Они думают… Он заставил себя отбросить эту мысль, не дать ей оформиться, чтобы выдержать все ему предстоящее. Я помешаюсь, если позволю себе думать об этом.
Идя рядом со Стивом, он внимательно вглядывался в то, что высвечивает луч фонарика, выхватывающий из темноты то старую железную кровать, то чудом выросший здесь куст ириса, полусгнившие картонные коробки и разбросанные повсюду бутылки и консервные банки, — будто жители Стоунвиля все двадцать четыре часа в сутки только и делают, что пьют и едят, едят и пьют…
И пока они, тщательно осматривая все, двигались вперед дюйм за дюймом, Стив не проронил ни звука. Джон никогда еще не видел его таким официальным. В роли местного представителя закона Стив стал совсем другим. С него слетела вся его обычная игривость.
Один раз поскользнувшись, Джон чуть не упал на Стива и с отвращением ощутил тепло его твердой руки. В памяти снова всплыло Линдино признание: «Это Стив… Я не хотела… Но это сильнее меня…»
Был Стив ее любовником или не был? Этого не узнать…
Но постепенно стало легче. Ее здесь нет, убеждался он, будто Линда, где бы она ни находилась, каким-то своим особым, безумным способом сообщила ему это. Все в порядке. Ничего мы в бурьяне не обнаружим. Самая страшная минута, когда все они оторвутся от того, что распростерлось на земле и посмотрят на меня, еще не наступила.
И они не нашли ее. После сорока пяти минут неловких, неуклюжих поисков Стив крикнул другому фонарику, веером обшаривавшему свалку:
— Что-нибудь нашли, мистер Морленд?
— Нет, Стив.
— Ладно. Прекратим это. Похоже, здесь ничего нет.
Они вернулись к чемодану. Стив бережно сложил в него платья, застегнул замки. Гордон Морленд встретил их у входа на свалку.
Тимми уже забыл, что ему страшно. Они с Баком, как настоящие марсиане в скафандрах, крадучись ходили по площадке, освещенной сигнальными фарами машин.
Роз Морленд вылезла из «мерседеса». На ней были туфли на очень высоких каблуках. В руке — длинный черепаховый мундштук. Элегантная, городская внешность — совершенно не соответствующая обстоятельствам. Глаза ее жестко скользнули по лицу Джона.
— Ну что? — спросила она.
Муж приблизился к ней. Ее двойник. Чистенький, изысканный, холодные голубые глаза под рыжеватыми бровями и длинные, тщательно причесанные рыжеватые волосы. Эксцентричен в пределах приличия. Известный писатель.
— Мы ничего не нашли, дорогая. Да в темноте это и невозможно.
Роз повернулась к Стиву. Он стоял, большой, чуть расслабившийся, с чемоданом в руках.
— Что же теперь делать? Как узнать, что с ней случилось? Надо же что-то предпринимать.
Но ведь Линда — моя жена, подумал Джон. А они обращаются со мной так, будто я не существую.
— Эй, Бак, послушай, — раздался голос Тимми. — Я больше не марсианин. Я снял шлем.
— Не можем же мы бездействовать, — продолжала Роз. — Если она исчезла из дому, без машины, а чемодан оказался на свалке…
— Ладно, миссис Морленд, — Стив кивнул головой в сторону машины, — пожалуй, вам надо отвезти Тимми домой. Ему давно пора спать. Ваш муж, я и Джон поедем ко мне и решим, что делать.
— Но ведь я тоже свидетель, — Роз обернулась, и ее серебряные сережки блеснули. — Если будет какой-нибудь разговор с полицией…
Ей хочется в этом участвовать, подумал Джон с неожиданной горькой иронией. Она ни за что не пропустит спектакль.
Стив Риттер быстро поставил ее на место:
— Для этого будет уйма времени, миссис Морленд. Отвезите Тимми домой. Я завезу вашего мужа попозже. Так что, мистер Морленд, едем? — Он двинулся к своей машине. — Езжайте за нами, Джон. Ко мне. Эй, Бак, хватит! В машину и домой.
Машина Стива тронулась. Джон последовал за ним. Роз, обиженная, осталась около «мерседеса».
Джон успел к бензоколонке следом за первой машиной и присоединился к остальным. В кафе-мороженом раздавались пульсирующие звуки мамбы. Они вошли. Бетти Риттер хлопотала за стойкой. На высоких стульях восседали парень и две девицы, — тянули шипучку. Пожилой человек отдыхал в одиночестве за
столом, на котором стояла пустая бутылка из-под кока-колы. Его лицо показалось Джону смутно знакомым — секретарь местной управы, что ли? Все обернулись, чтобы поглядеть на вошедших.
— Привет, мама! — Стив улыбнулся жене и посетителям. — А вот и твой бродяга-марсианин. Быстро в постель, Бак! — Он постоял с чемоданом в руке, томно покачивая бедрами в такт мамбе. Это был уже другой человек — не тот спокойный и уверенный, что на свалке, а обычный Стив Риттер, знакомый деревенский малый.
Одна из девиц, сидевших у стойки, засмеялась и спросила:
— Хелло, Стив, вы что, путешествовали?
— Конечно, Эрлин! Обычное дурацкое путешествие. — Стив обернулся к Джону и Гордону, глядя на них с обычной своей скрытой насмешкой. — Ну, что, мальчики, как насчет мороженого? Я угощаю. Нет? Ну ладно, пошли.
Вот как он отвлекает внимание деревни, подумал Джон. Он знает свой Стоунвиль. Знает, как тут расходятся сплетни, — чуть ли не раньше, чем что-то произойдет. И, не желая того, почувствовал благодарность, будто Стив делал это ради него.
Они вошли в небольшую комнату, расположенную позади кафе. Стив плотно закрыл двери. Это была контора, в которой Стив в конце месяца подбивал счета бензоколонки. Там только письменный стол с деревянным стулом да старый кабинетный диванчик. На стене телефон.
— Садитесь, мальчики. Располагайтесь поудобнее.
Стив поставил чемодан на пол и плюхнулся на диван. Гордон Морленд нерешительно топтался на месте. Джон присел на стул. Стив закурил, зорко наблюдая за Джоном сквозь струйку дыма. Что было в его глазах? Враждебность? Или он знает больше, чем говорит? А может быть, не знает ничего?
— Ну что ж, Джон. Послушаем вас. Не будем пока про драку с Линдой. Расскажите, что было, когда вы вернулись из Нью-Йорка.
Джон заставил себя повторить те факты, которые даже его друзьям, молодым Кэри, показались такими невероятными.
Когда он упомянул об изрезанных картинах, Гордон перебил его:
— Линда уничтожила ваши картины? Но этого не может быть. Линда, из всех…
— Никогда не знаешь, на что способна женщина, если ее разозлить, — перебил его Стив. — Ну, Джон, продолжайте.
Он не отводил глаз от лица Джона, но тот, рассказывая, все время ощущал жадное внимание Гордона Морленда. Оно исходило от него, как запах. Ничего не упустить. Все запомнить для Роз. Использовать это в книге. Почему бы не написать раз в жизни книжку из современной жизни? Переменить манеру. Джон чувствовал, как в нем, несмотря на усталость, накапливается гнев. Какое все это имеет отношение к Гордону Морленду!
Когда он закончил, Стив Риттер, дотянувшись до пепельницы, погасил сигарету:
— О’кей, Джон. А сколько денег она взяла с собой?
— Я бы сказал, что практически ничего, если только у нее не было денег, о которых я не знал.
— А куда, по-вашему, она собиралась поехать? В Нью-Йорк? Она вечно говорила про Нью-Йорк. У нее там как будто куча друзей.
— Нет, по правде говоря, в Нью-Йорке она ни с кем не дружит.
— Но это чепуха, — взорвался Гордон. — У нее множество друзей в Нью-Йорке. Она постоянно о них рассказывала. Она всех знает. Паркинсонов, потом…
— О’кей, мистер Морленд, — снова оборвал его Стив. — Вам может казаться, что вы знаете Линду, и я тоже могу так думать. Но Джон — он ведь ее муж, верно? — Он перевел взгляд на Джона. — Если не в Нью-Йорк, Джон, то, может, в Висконсин? Но ее родные как будто уже умерли? Никакого смысла ехать туда.
— Конечно, — ответил Джон и подумал: «Значит, он знает о ней и это. Все-таки она бывала с ним откровенна».
— И у нее ни братьев, ни сестер. Она — единственный ребенок в семье. Вечно шутила на этот счет. — Стив присвистнул. — Выходит, она просто испарилась?
— Похоже на то, — ответил Джон.
— Может, надумала попугать вас? Не приходило в голову? Хочет выиграть сражение таким способом?
— Возможно и это.
— А как же чемодан? — завопил Гордон Морленд. — Мы нашли его на свалке. Какое значение имеет все остальное? Раз чемодан валялся там, значит, что-то с ней случилось.
— Конечно, конечно, — Стив поджал губы. — Боюсь, что это так. Что бы она там ни затевала, похоже, что-то произошло. — С ленивым изяществом он поднялся с дивана. — Придется вызывать полицию. Мне с этим не справиться. Регулировать движение во время уикендов, следить, чтобы церковные двери были заперты, помочь старому Биллу Дайри добраться до дому, когда он хватит лишнюю бутылочку, — вот все, что в моей власти… А может, еще окажется, что ничего серьезного? Ну как, Джон? Как вы насчет того, что я позвоню капитану Грину?
— Конечно, звоните. А что еще мы можем поделать?
— А ничего нет такого, о чем вы нам не рассказали? Если есть — сейчас самое время выложить это. — Джон встретился с ним глазами и подумал: может быть, он-то и есть мой смертельный враг? — Ну ладно, Джон. Ладно. — С ласковой улыбочкой Стив положил руку ему на плечо и взялся за телефонную трубку.
— Когда капитан Грин появится, мы отправимся к вам домой, и хорошенько все осмотрим. А может, еще лучше — договорюсь встретиться с ними прямо там. Сплетни не так быстро разнесутся. — Он все еще смотрел в упор на Джона. — И не беспокойтесь, Джон, приятель, мы ее найдем. Мы ведь все друзья Линды, верно? Мы все без ума от нее. И для нас все это так же тяжело, как и для вас.
X
Гордон Морленд хотел встретить полицию вместе с ними, но Стив заставил его позвонить жене, чтобы та заехала за ним. Роз появилась еще до прибытия полицейских, и Морленды, несмотря на их признания в любви к Линде и заявление о том, как они взволнованы, отбыли восвояси.
Когда они уехали, Стив сказал:
— Джон, я так соображаю, что капитан Грин вот-вот явится. Едем.
Он подхватил чемодан и, беззаботно помахав жене, стоявшей за стойкой, уселся в машину Джона. Пока они ехали через темный, бесконечно растянувшийся лес, оба молчали. Но от большой молчаливой фигуры, сидевшей рядом, исходила, как казалось Джону, постоянная угроза. Он не переставал ломать голову, что же случилось с Линдой. Но что бы ни случилось, ясно: произошло нечто окончательное, непоправимое, и, думай не думай — ничего уже не изменишь.
Теперь его мучила мысль о его собственном положении. И хотя Джон не мог признаться в этом даже самому себе, он понимал, что готовы заподозрить Морленды, Стив и даже Кэри, дай он им хоть малейшую зацепку.
Нет, теперь действовала уже не сама Линда. Это были сети, расставленные ею вокруг него.
Когда они подъехали к дому, Стив не вышел из машины. Он не стал объяснять почему, но причины были понятны Джону: никто не должен был входить в дом, пока капитан Грин как признанный представитель власти не увидит сам — что бы там ни предстояло увидеть.
Стив закурил и протянул пачку Джону. В этот момент полицейская машина остановилась около них. Из нее вылезли трое полицейских, одетых в форму. Один из них подошел к Стиву и протянул руку:
— Привет, Стив. Что-то давно тебя не видать? Стареешь? — Последовал тихий смешок и затем совсем другим тоном: — Ну что? Где этот тип? Он с тобой?
— Со мной. Мистер Гамильтон — капитан Грин.
Ни одна лампа в доме не горела. В темноте Джон смутно разглядел массивную фигуру капитана Грина, который не протянул ему руки.
— О’кей, мистер. Пошли в дом.
Все направились к двери в кухню. Джон вступил первым и зажег свет. Полицейские ввалились за ним — огромные, молчаливые, какие-то безликие из-за формы. Капитан Грин, румяный, моложавый, с ярко-голубыми глазами, обернулся к Джону:
— Пропала жена, да? Стив говорит, она оставила записку. Давайте поглядим.
Джон ввел их в гостиную и зажег свет.
Весь этот хаос — изрезанные холсты и растоптанные пластинки на полу — снова вызвал у него паническое ощущение притаившегося безумия, готового схватить его за горло. Невозмутимые полицейские взирали на это без замечаний. Стив Риттер присвистнул:
— Ну и ну!
Капитан Грин спросил:
— Это сделала ваша жена, мистер?
— Да, — кивнул Джон.
— Где записка?
Джон пробрался к столу, где рядом с машинкой оставил записку, принес ее и вложил в крупную грубую руку капитана. Тот медленно и внимательно прочитал записку, затем оглядел ее и передал Стиву. Стив прочел, подняв брови и бросив быстрый взгляд на Джона, отчего у того еще усилилось нарастающее ощущение опасности.
— Ну, ладно. Вы, ребята, хорошенько осмотрите дом, — ничего не выражающим официальным голосом человека, делающего свое дело, распорядился капитан Грин. — Все осмотрите. — Он обернулся к Джону: — Где бы нам присесть, мистер, — где-нибудь, где нет такого разора.
Джон провел его и Стива в столовую. Они уселись вокруг стола. Капитан Грин вынул из кармана записную книжку и огрызок карандаша.
— Опишите ее, мистер, — рост, возраст, сложение, как одета.
На какое-то мгновение Джон не смог представить себе Линду. Потом все восстановилось. Капитан Грин записал приметы и снова взял в руки записку. Неловко, словно он не привык к таким вещам, прочел вслух:
— «Можешь поискать себе другую, которая будет так же расшибаться в лепешку ради тебя, другую, которую ты сможешь мучить…» Похоже, отношения у вас были плохие. Довольно злая записка. Она считает, что вы плохо с ней обращались.
Джон слышал тяжелые шаги полицейских наверху. Он поглядел на свои руки, лежащие на столе. Кожа на косточках побелела.
— Все это преувеличено. Сильно преувеличено. Видите ли, моя жена не вполне нормальна. Она нервнобольная, алкоголичка, откровенно говоря. Она пьет много лет…
— Эй, минуточку, Джон, приятель! Постой минутку, — Стив Риттер разглядывал его через стол с насмешливым недоверием. — Вы, по-моему, забыли кое о чем. Вы забыли, что мы с Линдой друзья. Линда — пьяница? Ну и дела! Хотя вам виднее, конечно.
Капитан Грин переводил взор с одного на другого.
Джон объяснил:
— Я пытался ее покрывать, Стив. Вот почему вы этого и не знаете. Она старается не показываться и не выходить из дому, когда это начинается. Она…
Стив покачал головой:
— Ну и ну! Поди знай! Чудеса да и только, верно, Том? — обратился он к капитану. На лице — откровенный скепсис и еще кое-что, промелькнувшее, как важный сигнал капитану.
Но Грин, флегматичный, как и раньше, только проворчал:
— Ну ладно! Она — пьяница, она — не пьяница… Но она исчезла. Ее нет. В этом все дело, не так ли? — он посмотрел Джону прямо в глаза. — Ну хорошо, мистер. Похоже, между вами была какая-то ссора. Из-за чего?
Джон рассказал им о письме Чарли Рейнса. И пока он говорил, а две пары глаз в упор разглядывали его, он сам слышал свои слова как бы чужими ушами и понимал, что звучало все это совершенно бессмысленно. То есть бессмысленной казалась его позиция. Человек, у которого почти нет средств, а газеты единодушно объясняют, что его живопись никуда не годится, отказывается от места, приносящего двадцать пять тысяч в год.
— Двадцать пять тысяч! — вновь присвистнул Стив Риттер. — Ничего себе!
Он посмотрел на капитана, и на этот раз капитан Грин ответил ему широкой тяжеловесной усмешкой:
— Для того чтобы раскипятиться из-за такого дела, жене вовсе не надо быть ни алкоголичкой, ни нервнобольной, а, Стив? Могу назвать женщин, способных сделать кое-что похуже, чем разрезать несколько картин и разбить пластинку-другую. Вот так, сэр. — Усмешка быстро слетела с его губ, когда он обратился к Джону. — Значит, из-за того, что вам хочется рисовать эти картинки, вы объявили жене, что откажетесь от места?
— Да, именно так.
— И она обозлилась?
— Да, она рассердилась.
— И она знала, что вы уезжаете в Нью-Йорк, чтобы отказаться от места?
— Знала. Но дело не только в этом. Она знала также, что я собираюсь проконсультироваться с психиатром относительно нее.
— С психиатром? — капитан Грин коротко засмеялся. — Миссис нужен психиатр? Она такая нервнобольная — обозлилась, что вы отказываетесь от двадцатипятитысячного места?
В душе Джона вспыхнул гнев. Но тут же он подумал: «Будь терпеливым. Не надейся, что они поймут» — и вслух произнес:
— Все это гораздо сложнее. Она больна много лет. Она никогда не соглашалась обратиться к врачу. Наконец, я уговорил ее согласиться посоветоваться с моим старым нью-йоркским другом — Биллом МакАллистером.
— И вы посетили этого МакАллистера, когда были в Нью-Йорке?
— Нет, он уехал отдыхать.
— Вы не договорились заранее?
— Нет…
Вошли полицейские. Один из них держал в руках бутылку джина. Они стояли в дверях, пока капитан Грин не взглянул на них. Тогда полицейский с бутылкой сказал:
— Мы обнаружили ее наверху, капитан. Лежала в ящике, в бельевом шкафу. Просто лежала там. Ящик был открыт.
— Это бутылка, которую прятала жена, — пояснил Джон. — Я нашел ее, когда приехал. Когда у нее начинается запой, она всегда прячет бутылки.
Полицейский поставил бутылку на стол. Ни капитан, ни Стив не произнесли ни слова.
— А кроме того, — продолжал полицейский, — мы нашли вот это, капитан. Валялось на полу в спальне. Может быть, и не имеет никакого значения. — Он достал из кармана открытку — открытку Билла МакАллистера. Капитан взял, прочитал ее и снова посмотрел на Джона:
— Этот Билл МакА — случайно не тот доктор — Билл МакАллистер?
— Да, это он, — ответил Джон.
На круглом лице капитана Грина отразилось удовольствие от собственных дедуктивных способностей:
— На штемпеле указано, что открытка отправлена пять дней назад. Так что пришла она до вашего отъезда в Нью-Йорк. Вы знали, что доктора МакАллистера не будет на месте?
— Нет, — сказал Джон. Значит, и это надо вытаскивать наружу. — Я не видел этой открытки. Нашел ее, когда вернулся. Она спрятала ее там же, где прятала бутылку с джином. Ее всегда одолевает невротический страх из-за всего, что связано с Биллом, потому что он врач. Она, вероятно, получила открытку на почте и…
Он слышал звучание своего голоса и чувствовал, что у него не хватит сил пробить эту мощную стену непонимания.
— Капитан! — заговорил младший из двух полицейских, глядя на Грина полными надежд глазами. «Новичок, — подумал Джон, — и старательный!» — Капитан, могу ли я показать вам кое-что в гостиной?
Капитан Грин неуклюже поднялся и вышел из комнаты вслед за полицейским. Джон снова ощутил присутствие Стива Риттера, сидящего за столом напротив него. Невольно они встретились глазами. Лицо Стива расплылось в улыбке.
— Ну и ну! — сказал он. — Ну и ну!
Вскоре вернулся капитан Грин. Он больше не садился, а стоял у двери, заполняя собой все пространство.
— Она напечатала свою записку, так, мистер?
— Да.
— И никакой подписи. Просто напечатано, и все.
— Да, именно так.
— Она много печатала на машинке?
Осторожно, подумал Джон. Не говори им о машинке. Его снова охватил гнев. К черту их всех. Почему они заставляют его вести себя так, будто он в чем-то виноват? Скажи им правду. Только правда даст твердую позицию. Если начать теперь лгать — этот кошмар проглотит тебя.
— Нет, чтобы быть точным, это моя машинка. И она обычно находится в мастерской. Жена, видимо, принесла ее оттуда.
— Значит, она пошла в мастерскую, принесла машинку и напечатала на ней записку без всякой подписи? А между тем, как мне только что показал Джим, на столе рядом с машинкой лежит ручка. Не проще ли было взять ручку и написать записку от руки? Что вы на это скажете, мистер?
Только гнев, поддерживал Джона. Это была теперь его единственная опора. И вдруг, желая утвердить себя и рассеять эти миазмы подозрений, он заявил:
— Я этого не печатал. Если вы на это намекаете, почему прямо не сказать? Я не печатал этой записки.
И тут же понял, что этого говорить не следовало, что, пытаясь разорвать сеть, сделал ошибочный шаг. Он сам это сказал. До того, как кто-либо обвинил его, он первый сказал это впрямую.
Капитан Грин, с которого слетела вся его официальная вежливость, подошел и пристально поглядел на Джона:
— О’кей, мистер. Где ваша жена?
— Я не знаю.
— Это вы напечатали записку?
— Я уже сказал, что не я.
— Вы разбили эти пластинки?
— Нет, не я.
— Вы спрятали бутылку джина в ящик?
Град вопросов иссяк так же быстро, как и начался. Капитан Грин постоял, глядя на Джона. Затем, что-то проворчав, вернулся к столу и снова взялся за свою записную книжку.
— О’кей. Когда вы поехали в Нью-Йорк?
— Вчера, дневным поездом. Брэд Кэри поехал вместе со мной, и вернулись мы тоже вместе.
— Когда вы были в Нью-Йорке, вы виделись там с этим субъектом, насчет работы?
— Да.
— Имя и адрес.
Джон назвал их. Капитан Грин записал.
— Ночевали в Нью-Йорке?
— Да. В том же отеле, что и Брэд Кэри. Можете проверить у него, если хотите.
Джон назвал отель, и капитан Грин записал и это.
— И вы вернулись сегодня вечерним поездом?
— Верно. Вместе с Брэдом.
— Вы рассказали все, что вам известно?
— Я это уже говорил.
— Ну ладно. — Капитан Грин захлопнул записную книжку и посмотрел на Стива. — Я сейчас же передам описание по телетайпу. Если до утра ничего не прояснится, утром пусть поисковые группы прочесывают лес. И озеро тоже. Нужно обследовать озеро. Придется вам организовать это, Стив. Соберите всех жителей деревни.
— Уж конечно, — Стив все еще глядел на Джона с загадочной лживой улыбочкой, — недостатка в добровольцах не будет. Нет, сэр. Мы все без ума от Линды здесь, в Стоунвиле. Все, как один!
— Надо пораньше, Стив. Как можно раньше.
— Ладно, кэп.
Капитан Грин спрятал записную книжку в карман.
— Ну что ж, торчать тут дальше бесполезно. Нужно поскорее добраться до телетайпа.
Он двинулся к кухне. Оба полицейских за ним. Следом — Стив. Джон пошел за ними. Все столпились у дверей кухни. На Джона не смотрел никто.
Вдруг капитан Грин без предупреждения вплотную придвинулся к нему. Голубые глаза превратились в узкие блестящие щелочки:
— Ну, мистер, скажите нам, что вы сделали со своей женой?
— Да, Джон, приятель, — лживая улыбка Стива превратилась в возбужденную, садистскую усмешку Врага, — признайтесь, Джон. Подумайте, от скольких хлопот вы нас избавите и сколько денег нам сохраните. Что вы сделали с Линдой до того, как уехали в Нью-Йорк и устроили себе это алиби с Брэдом?
Четверо мужчин молча глядели на него. Они больше не были индивидуальностями. Они как бы слились в однородную глыбу мужской настороженности, в свору, сплоченную предвзятой подозрительностью к чужаку. Он виноват. Он не такой, как мы, значит, он виноват. Уничтожь его!
Именно это, а не то, что может быть, найдут в водорослях, не бледная, намокшая рука, плывущая по поверхности озера Шелдон, — именно это!
Гнев помог ему побороть их:
— Выметайтесь отсюда. Все. Убирайтесь вон!
— Вот те раз, Джон! — Глаза Стива раскрылись так, что обнаружились белки, окружавшие зрачок. — Что это вы так обращаетесь с нами? Со своими друзьями?
Джон двинулся на него. Но капитан Грин тут же встал между ними, массивный, величественно недоступный.
— Брось, Стив. Идем! Не доводи парня. Пошли.
Молоденький полицейский, держа в руках бутылку джина, открыл дверь. Капитан Грин вышел, схватив Стива за руку. Полицейские последовали за ними.
Стоя в дверях, Джон смотрел, как они уезжали. Когда полицейская машина тронулась, до него донесся громкий, насмешливый смех Стива Риттера.
XI
После ленча в Нью-Йорке он ничего не ел. И хотя совсем не был голоден, вспомнив об этом, выпил стакан молока. Потом, из-за того, что сидеть без дела хуже всего, он пошел в гостиную и принялся разбирать разрушения. Заставил себя внимательно осматривать вещи и воздерживаться от мыслей о Линде, о злобе, о безумии. Холсты спасти невозможно, но в проигрывателе и приемнике повреждено лишь несколько деталей. Часть пластинок уцелела. Он подобрал их и поставил в шкаф. Катушками с магнитофонной пленкой он особенно дорожил. Магнитофон он купил недавно, и у него было не больше семи или восьми лент с музыкой, записанной по радио. Он выудил их из кучи битых пластинок и обрезков холста. Все были тут, кроме самой последней записи — увертюры Мендельсона «Морская тишь и счастливое плаванье».
Вероятно, закатилась под диван или под кресло — но это не имело значения. Они все равно уже не годились — все безнадежно спутаны и порваны. Он снова отбросил их. Затем собрал обломки в охапку и свалил у стенки мастерской.
Жизнь его так круто повернулась за последние несколько часов, что он не мог представить себе, каким он был до поездки в Нью-Йорк. Так же как невозможно было больше размышлять о Линде. Она ушла — и, уходя, устроила ему вот это. И только это и было реальным. Она породила этот кошмар, достигший высшей точки, когда Стив и трое полицейских зловеще, как призраки, таращились на него четырьмя парами глаз, слившихся воедино в непреодолимом стремлении уничтожить его.
«Что вы сделали со своей женой?»
Он стоял у двери мастерской, уставясь на стволы яблонь, смутно видневшихся на фоне густой темноты. Крикнула сова в лесу — странный плачущий звук, похожий на крик человека. Однажды Джон его уже слышал. Он вдруг понял, что не сможет вернуться в дом. В доме подстерегала опасность, Линдино безумие. Он не смог бы дышать там.
Поднявшись в мастерскую, он стащил с себя одежду и в одном белье повалился на диван. В эту минуту телетайпы выстукивают приметы Линды, думал он. И вспомнил о Стоунвиле, ставшем Врагом. Жители, конечно, не спят. Старухи шепчутся: «Вы слышали?..» Парней и девушек, разошедшихся по домам, встречают их мамы и папы. «Вы слышали про миссис Гамильтон?» И в центре всего этого Стив Риттер со своей вкрадчивой лживой улыбкой — ходит из дома в дом, собирая добровольцев для завтрашних поисковых партий:
— Как насчет того, чтобы поохотиться не в сезон, приятель? Будь уверен, настоящая охота — охота на Линду Гамильтон… А вы не слышали? Она сошла с ума, напилась и бродит где-то в лесу. По крайней мере, так уверяет ее муж… Ладно, приятель, не волнуйтесь! Джон Гамильтон убил ее? Этот тихий парень, артистическая натура — убил жену?.. Не следует говорить этого при полицейском офицере, приятель… Похоже на клевету… Раз Джон уверяет, что она сошла с ума, напилась и бродит по лесу… значит, так оно и есть…
Вскоре он заснул, и во сне Стив Риттер гнался за ним по лесу, скакал на четвереньках — как охотничья собака.
Ему показалось, будто кто-то зовет его. Он открыл глаза и потянулся навстречу солнцу. Некоторое время не мог сообразить, где находится. Потом понял — это мастерская, и сразу все вспомнил.
— Эй, Джон! Джон, покажитесь, где вы? Джон, приятель!
Голос Стива Риттера — громкий, полный фальшивого юмора — голос из его сна?
— Эй, Джон! Хотите, чтобы мы пришли вас будить?
Он скатился с дивана. В мастерской всегда висели синие джинсы, в которых он работал. Но на гвозде их не оказалось. Он вернулся к дивану, надел туфли и брюки от выходного костюма и спустился на лужайку.
Группа мужчин — семь или восемь человек — в джинсах и рабочих рубашках стояли спиной к нему, глядя на дом. В центре виднелась широкая мускулистая спина Стива Риттера.
С ними была собака — пушистый пес, с длинным коричневым хвостом. Заметив Джона, пес стал кидаться на него и пронзительно лаять. Будто по команде, мужчины повернулись и молча уставились на него.
Он еще не вполне очнулся ото сна, и его вдруг охватил страх. Линду нашли. Нашли ее мертвое тело и явились, чтобы схватить его. Но тут же овладев собой, сообразил, что это просто одна из поисковых групп.
Мужчина все стояли на лужайке. Стив Риттер в центре. Кое у кого были с собой корзинки с завтраком. Когда Джон подошел — ни один из них не шевельнулся. Стив Риттер ухмыльнулся:
— Привет, Джон. Спали в мастерской, да? В доме как-то одиноко, верно? — То же было и во сне — угроза, прикрытая вкрадчивой улыбочкой. — Так вот, Джон, думаю, весь этот народ вам известен, — Стив кивнул на стоящих рядом мужчин, среди которых мелькнули знакомые лица. — Они были столь любезны, что уделили нам свое время. Это лишь одна из поисковых групп. Мы зашли за вами, Джон. Решили, что вы захотите пойти с нами вместе. Вам-то небось совсем худо и хотелось бы поскорей отыскать Линду…
Один из мужчин сплюнул в сторону. На обветренных голубоглазых лицах не было никакого выражения — все они в упор разглядывали Джона.
Он спросил:
— Значит, пока никаких известий?
— Нет, приятель. Боюсь, что нет. Совершенно никаких, — Стив подтянул свои джинсы. — Ну что, пошли, ребята? Начнем. Хотя, погодите минутку. Вы завтракали, Джон?
— Не важно.
— Как — не важно? Очень важно. Не следует отправляться в путь на пустой желудок, — Стив обернулся к остальным. — Верно, ребята? Пусть выпьет чашку кофе или еще чего-нибудь.
Все усмехнулись. Кто-то громко засмеялся, но тут же замолк.
— Конечно, Стив, конечно. Пусть парень выпьет чашку кофе.
Стив подошел к Джону и обнял его за плечи:
— Идите и приготовьте себе что-нибудь на скорую руку. О нас не беспокойтесь. Приведите себя в норму. В лес мы успеем. А насчет нас — не волнуйтесь. Мы обождем.
Собака снова залаяла. Кто-то бросил ей веточку. Все еще держа руку на плече Джона, Стив вел его к дому. Мужчины смотрели им вслед. Когда они подошли к двери, Стив отпустил его. Мужчины улеглись на траве. Джон сварил себе чашку кофе и зажарил пару яиц. А почему бы и нет? Должен же он есть. С лужайки доносились неясные голоса. Время от времени собака принималась лаять и кто-то кричал на нее, чтобы она заткнулась. Поев, он направился к двери. Мужчины поднялись, отряхивая друг друга.
— Ну как, Джон, — спросил Стив, — заправились? Чувствуете себя получше?
— Я готов.
— Вот и молодец. Ну а теперь ваше слово. В конце концов, вы ведь здесь главный. Линда напилась и немножко заблудилась, так ведь вы говорите. Из дому она ушла с чемоданом. Куда она, по-вашему, могла пойти?
Сарказм в его голосе был скрыт, но участники поисковой партии откликнулись на него. Кто-то усмехнулся. Они сдвинулись теснее. Поиски живой Линды казались им фарсом, но они подыгрывали Стиву, старательно продолжая эту игру в кошки-мышки.
— Вы думаете, сюда? — И, указав на лес, видневшийся за яблонями, Стив испытующе уставился своими голубыми глазами на Джона. — Или, может, сюда? — Он указал на дорогу. — Конечно, раз чемодан оказался на свалке близ озера, пожалуй, надо бы искать в тех краях. Но там действует другая поисковая группа. Может быть, все-таки по направлению к лесу, а? — Он обернулся, чтобы посоветоваться с остальными. — Пошли туда, как вы считаете, ребята? Прочешем лес?
— Конечно, Стив. Пошли к лесу.
— Будем искать сколько выдержим, верно?
— Как скажешь, Стив. Ты здесь за главного.
Один из мужчин отошел и, стоя около клумбы с Линдиными цинниями, заглянул через открытую дверь в мастерскую.
— Вот это да! — сказал он. — Гляньте на эти картины! У него их тут небось целые дюжины свалены.
— Пошли, — скомандовал Стив. — Рассредоточьтесь. Вот так.
И они двинулись мимо яблонь, вниз по скошенному лугу с уже отросшей отавой, через ручеек в лес.
Едва начались поиски, Стив сразу же стал серьезным и умелым, как настоящий полицейский офицер. Расставил людей на расстоянии друг от друга. И следил, чтобы, медленно двигаясь вперед, они осматривали каждый дюйм.
Лес тут не рубили много лет — огромные клены, тсуги
[5] и буки высились над молодым подростом, над мощными обнажениями скал и полусгнившими стволами и ветками, сваленными зимними ветрами.
Солнечный свет пробивался широкими лучами. Воздух был полон запахов леса — влажных, таинственных, тех, которые Джон так любил и которые всегда ассоциировались у него с детьми. Все молчали. Джон, шедший самым крайним, то и дело ловил на себе взгляды своего соседа и слышал хруст веток под ногами. Но в остальном тишина была полная, и постепенно, пока он пробирался под кустами, перелезал через упавшие стволы, в нем рос страх. Боялся он не того, что они найдут Линду распростертой на земле под скалой, около поваленного дерева в ярком пятне солнечного света. Нет, он боялся этих людей. Как будто его сон вернулся. Будто искали они не живую Линду. И даже не мертвую. Хуже — они искали тело Линды, убитой и едва забросанной землей. И еще это была охота на него — он был частью всего этого поиска, его предрешенной жертвой.
«Что вы сделали со своей женой?»
Они обыскали все пространство со стороны дома — до дороги на Арчертаун, затем пересекли дорогу и свернули в новый, куда более обширный участок леса. На их пути попался лишь один дом — маленький аккуратный дощатый домик, в котором живут со своей матерью Эмили и Энджел. Все эти места хорошо знакомы Джону. Он знал эти холмы, отвесные спуски, ручьи, крутые каменные обрывы, но раньше никогда так ясно не сознавал, насколько они безлюдны и обширны.
Через несколько часов Стив Риттер объявил перерыв на завтрак. Все собрались вместе, открыли свои корзинки. Ели почти молча, обмениваясь лишь случайными обрывистыми замечаниями. А после закурили и улеглись под деревьями.
Потом Стив скомандовал:
— Подъем, ребята!
И поиски начались снова. Уже около четырех они завершили большой круг и снова вышли на дорогу в Арчертаун всего в нескольких ярдах от дома Джона. Между домом и дорогой был заросший луг, составлявший часть его собственности. Вместо того чтобы выходить на дорогу, Стив повел их сквозь узкую полоску зарослей — на луг. Когда они пересекали его, держась теперь ближе друг к другу, усталые, вспотевшие от жаркого послеполуденного солнца, Джон увидел впереди крышу дома. Как будто эта часть ночного кошмара наконец кончается. Но, может быть, одна из поисковых групп или те, что ищут в озере, уже… Когда они доберутся до дома, Стив позвонит, и они все узнают — если есть, что узнавать.
Собака бежала впереди, скрываясь в густых травах так, что виден был только смешной виляющий хвост. Вдруг Джон увидел, как этот лохматый маяк задрожал тревожно. Послышался лай. Все бросились туда. Джон бежал вместе со всеми, чувствуя, что у него что-то сжимается в животе. Стив Риттер пробрался вперед. Все столпились вокруг него.
Джон тоже заставил себя взглянуть. Воображение рисовало ему ужасные картины. Но увидел он лишь небольшой кружок выжженной травы. В центре было нечто, что с шумом обнюхивала собака. Но что? Кусок ткани? Клок одежды?
Стив Риттер поднял загадочный предмет, и оказалось, что это пара джинсов. Обе брючины обгорели до колен. Все остальное невредимо, и хорошо различимы разноцветные пятна краски.
Секундное облегчение, испытанное Джоном, тут же исчезло, как только он увидел — это его джинсы. Синие джинсы, висевшие в мастерской. Те самые, которых он не нашел сегодня утром.
Это показалось невероятным. Неужели кто-то, желая причинить ему зло, подстроил это нарочно?
А вдруг все это сделала не Линда, а…
Мужчины, будто по команде, образовали круг, в центре которого был Стив Риттер. Держа в руках джинсы, он смотрел прямо в глаза Джону:
— Кто-то жег джинсы на вашей земле, Джон.
Джон молчал, борясь с ужасом, возникшим из-за этой новой мысли. Не Линда, а… Но кто?
Стив оглядел джинсы:
— Синие джинсы, испачканные красками, которыми пользуются художники. Что вы скажете, Джон? Кто мог сжигать на вашей земле пару синих джинсов? И чьими они, по-вашему, могут быть, испачканные краской, как не джинсами художника?
Все круглые, красные, голубоглазые лица были обращены к Джону. Кольцо вокруг него становилось все уже.
— Что вы думаете об этом, Джон, приятель? — Стив поднял джинсы повыше. — Примерно ваш размер, как по-вашему?
Он замолчал, и воцарилась зловещая тишина. Потом один из мужчин крикнул:
— Пусть примерит их, Стив!
Остальные рассмеялись одобрительно.
Джон сказал:
— Это мои джинсы. Я искал их сегодня утром в мастерской. На месте их не было. Кто-то вынес их сюда.
— Но они ваши? — воскликнул Стив. — Вы признаете, что они ваши?
— Пусть примерит их, — снова закричали мужчины. — А как иначе он будет знать, что они его? Может, у нас завелся другой художник, которому захотелось сжечь свои джинсы.
Кольцо снова сжалось. Враждебность, напряжение и то чувственное возбуждение, что владело ими весь день, нарастали.
— Эй, ребята, если парень говорит, что это его вещь…
— Что такое, мистер Гамильтон? Вы такой скромник, боитесь раздеться перед кучкой парней?
Один из мужчин внезапно подскочил и схватил Джона за пояс. Джон обернулся к нему. Стив Риттер закричал. Но возбуждение прорвалось наружу. Задыхаясь под их твердыми, потными телами, он почувствовал, как чьи-то руки расстегивают ремень. Трое сидели на нем верхом, двое других снимали брюки и натягивали джинсы. Кто-то подтянул их до талии и тут же все отступились. Он поднялся, застегивая джинсы.
— Годятся! — воскликнул кто-то. — В самый раз.
Все захохотали прерывистым злым смехом и снова замолчали.
С гневом и отвращением Джон взглянул на свои колени, торчавшие из обгорелых штанин. Затем при полном молчании стащил с себя джинсы и надел брюки.
Но возбуждение уже прошло. Мужчины неуклюже переминались с ноги на ногу. Кто-то кашлянул. Стив Риттер, с жестким от досады лицом, нагнулся и поднял джинсы. Раз мужчины не подчинились его власти, он не хотел больше иметь с ними дела.
— Ну вот что, ребята, — глаза его блеснули, и он указал на дорогу, — баста! Поиски окончены! Можете разъезжаться по домам.
Пристыженные, они побрели через луг к дороге и дальше по ней к тому месту, где оставили свои машины.
Стив Риттер все еще держал в руках джинсы. Потом повернулся к Джону:
— Ладно, приятель. Эти джинсы я отвезу капитану Грину. Я уж тут ни при чем, он — начальник. — Тень привычной, почти ласковой насмешки появилась в его глазах. — Сдается мне, он здорово заинтересуется, а, Джон? Как случилось, что в тот же день, когда исчезла ваша жена, тут, на лугу, каким-то образом сгорели ваши джинсы? Зачем понадобилось их сжигать? — будет он думать. Может, на них что-то было? Что-то, что лучше сжечь? Вот что он подумает. У них там в полиции есть лаборатория, не то в Спрингфилде, не то еще где. С самым новейшим оборудованием. Они найдут. Даже если на них окажутся самые крошечные пятнышки… — он вдруг замолчал, с вызовом глядя на Джона. Гнев жег Джона, как кислота. Кто-то это ему подстроил. Стив? «Я не хотела… но он насильно… Это как болезнь…»
«Выложить ему прямо в лицо, — подумал он. — Вы были любовником моей жены. Вы убили ее. А пытаетесь повесить это на меня». Но все это вранье. Не был Стив ее любовником. Это ложь, порожденная изощренной алкоголической злобой. И зачем заводить разговор об убийстве? И вообще, откуда взялось убийство? Что это, как не предположение Врага? Какое-то холодное, отчаянное спокойствие овладело, им. Главное — факты, то, что было на самом деле. Держись фактов. Таково единственное оружие, которым можно победить этот кошмар.
Он выговорил:
— Я же сказал, что ничего не знаю об этих джинсах, кроме того, что они взяты из моей мастерской. И о том, что случилось с Линдой, я знаю столько же, сколько и вы.
— Столько же, сколько я? — губы Стива раздвинулись в лицемерной улыбочке. — Может быть, может быть, вы знаете об этом столько же, сколько я, или все эти парни, или капитан Грин, или весь Стоунвиль. Может быть, мы все знаем одно и то же, — он легко тронул Джона за руку. — Вот что, Джон, приятель. Сдается мне, капитан Грин сегодня не потревожит вас. Вы же ничего такого не сделали, чтобы капитан Грин искал вас. Вы ведь не сжигали этих джинсов. Вы утверждаете это. Вы не знаете ничего, что могло бы помочь поискам. Нет, капитан Грин не будет вас беспокоить — если, конечно, какие-то вести о Линде не придут по телетайпу или до тех пор, пока лаборатория не сделает анализа. Тогда уж конечно, имея в виду, что джинсы — ваша собственность, думаю, капитан вас известит. Приличие этого требует, верно? — Он слегка потрепал Джона по руке: — Так что вы не расстраивайтесь, побудьте дома и порисуйте свои картинки. И не очень-то ломайте себе голову, а то не успеешь оглянуться — придется к вам вызывать психиатра. Мне сдается, особенно волноваться нет причин, а вы как считаете, Джон? Линда появится, а? Когда протрезвится, когда весь газ из нее выйдет — вот она, тут как тут, как в сказке. «Ах, Джон, милый, — передразнил он тоненьким голосом, — как я только могла написать эту ужасную записку, уничтожить все эти прекрасные картины, — в пьяном угаре. Ах, Джон, любимый, прости меня…»
Все с той же усмешкой он повернулся внезапно и зашагал через луг, помахивая обгоревшими джинсами.
XII
Когда Джон вернулся в дом, телефон прозвонил трижды — его вызывали по частной линии.
Не подходи, подумал он. Кто бы ни звонил — он той же породы, что Стив Риттер и эти красномордые типы там, на лугу. Не имей с ними дела. Сделай вид, хотя бы на время, что их просто не существует. Телефон снова зазвонил тихонько. Охваченный внезапной надеждой, он подбежал к аппарату.
Мужской голос — гулкий, педантичный, такой знакомый, — чей же это голос? — произнес:
— Алло, алло, Гамильтон, говорит Джордж Кэри. — Вот неожиданность! Уж среди всех, для кого он нынче стал парией, старый мистер Кэри должен быть первым. — Я был очень огорчен, услыхав насчет вашей жены. Все это довольно странно, — слова звучали как-то напряженно, неловко, будто мистер Кэри считал необходимым из приличия что-то сказать по этому поводу, но ему это крайне неприятно. — Ее ищут, как я понимаю. Похоже, что делается все, что возможно в таких обстоятельствах.
— Да, — отозвался Джон.
— Я звоню, — продолжал мистер Кэри, — потому что, как вы помните, сегодня в восемь общее собрание. Я понимаю, у вас не очень-то легкий момент, но миссис Кэри и я надеемся, что вы как здешний житель хотели бы сохранить Стоунвиль в его нынешнем виде — ведь он так много значит для всех нас. Борьба будет очень серьезная. Каждый голос на счету, — мистер Кэри откашлялся. — На днях между нами было маленькое недоразумение, Гамильтон. Но ведь ничего серьезного, надеюсь, вы с этим согласны? Мы оба, миссис Кэри и я, уверены, что вы не изменили отношения к проекту строительства отелей, и уверены, что вы придете сегодня вечером и скажете свое слово. То есть мы оба надеемся, что вы явитесь и проголосуете против продажи северного берега озера. Мы оба на это рассчитываем.
Сначала Джон был просто потрясен тем, что в этом мире, который стал казаться ему совершенно безумным, мистер Кэри все еще мог беспокоиться о том, построят или не построят отель. Потом, слегка оправившись от потрясения, он возмутился наглостью старика. «На днях между нами было маленькое недоразумение» — циничный способ приносить извинения. «Надо успокоить его. Может быть, то, что о нем говорят, — правда. Может быть, он и убил жену. Но голосование есть голосование».
Прежде чем он успел как-то ответить, мистер Кэри добавил:
— Конечно, Гамильтон, мы не требуем от вас никаких обещаний. Я только хочу, чтобы вы знали — мы на вас рассчитываем.
И трубка там была повешена.
Джон побрел в гостиную и сел на диван. Попытался думать о Линде. Где она? Что с ней случилось? Но даже ее лицо расплывалось в памяти. Будто она никогда не существовала, была какой-то легендарной фигурой, придуманной для того, чтобы создать этот отвратительный мир нереальности.
Апатия, нараставшая весь день, была даже сильнее гнева. И он отлично понимал, что главный его Враг — это чувство безнадежности, обреченности. Психология жертвы, которая сводит на нет все попытки действовать. А что тут можно делать? С тех пор как он нашел записку, сеть дюйм за дюймом смыкалась вокруг него. Чемодан, потом джинсы…
Известие о джинсах уже, конечно, разнеслось по деревне. «
Он убил ее. Это
его джинсы.
Он пытался их сжечь.
Он сам сочинил эту записку.
Он сам разрезал свои картины.
Он сам сложил ее вещи в чемодан, чтобы сделать вид, будто она уехала, сам выбросил их на свалку.
Он отправился в Нью-Йорк вместе с Брэдом Кэри, которого просто одурачил, чтобы устроить себе алиби.
Он пытался заставить полицию поверить, что она была чокнутая…»
Эти самые слова говорятся на почте, в магазине. Жители толпятся на улице, под кленами… А это сборище в зале собраний, которое будет сегодня в восемь. Соберется вся деревня. И внезапный ужас перед толпой — толпой, состоящей из красных морд, потных тел — таких же, как те, на лугу, только в большем количестве, — охватил его. На минуту ему показалось, что они уже окружили его…
Беги! Садись в машину и гони что есть сил. Пусть много миль отделит тебя от этого кошмара. Расстояние может спасти.
И странно — на смену вспышке паники пришел гнев. Они хотели бы, чтобы он побежал? Вот тогда уж начнется охота! Но почему он должен принимать их условия? Он ничего дурного не сделал. Неужели так трудно запомнить это? Стой на своем. Не поддавайся им. Не убегай от собрания. Наоборот, отправляйся прямо туда…
Позвонил телефон.
— Джон? — это Вики. Ее спокойный обычный голос так подходил к обретенной им уверенности в себе. — Джон, я совершенно возмущена. Я только что узнала, что сделал папа. Правда, что он звонил вам? Он пытался заставить вас пойти сегодня голосовать? — Джон подтвердил это. — Он так расстраивается из-за истории с озером и даже не задумывается, что могут чувствовать в этот момент другие. Джон, я приношу извинения ото всей нашей семьи…
— Я поеду на собрание.
Он услыхал, как она вскрикнула испуганно:
— Но вы понимаете, какие они все сейчас?
— Поэтому и пойду, — ответил Джон. — Мне нечего скрывать. Почему я должен поступать так, будто я виновен?
— Да, конечно, я понимаю. Ну, хорошо. Тогда едем вместе с нами. Со мной и Брэдом. Должна же у вас быть хоть какая-то поддержка.
Недоверие, благодарность, нежность — вот что он почувствовал.
— А что скажет Брэд?
— Если вы решили идти, Брэд не захочет отпустить вас одного. Приезжайте, пообедаем и двинемся все вместе.
Он выкупался, переоделся и поехал к дому Кэри. И когда улыбающийся Алонзо Филлипс провел его в большую гостиную, он как бы снова вернулся в мир с его привычными чертами. Ни Вики, ни Брэд не высказывали сочувствия, а вели себя как обычно, попросту. Брэд приготовил мартини. Они выпили на террасе, где побледневшее к вечеру солнце висело над верхушками деревьев, над мерцающим спокойствием озера.
Джон понимал, что это идея Вики. Брэд как человек воспитанный просто следовал за ней. В нем слишком много от отца. Даже Вики, не то чтобы поддерживала этим жестом его, Джона, — она тоже его подозревала. Но для Вики Кэри — главное, что он в беде, нуждается в убежище. И нельзя осуждать человека, прежде чем вина его не будет доказана.
Они пили кофе в
гостиной, когда из холла послышался голос Роз Морленд:
— Не канительтесь! Что скажет старый папа Кэри, если его верная бригада опоздает и… — она заметила Джона и тут же замолчала, глядя на него с испугом и отвращением:
— О, я… Мы с Гордоном думали, что поедем все вместе. Мы думали… — и она быстро выскочила из комнаты.
Джон поднялся:
— Извините. Если вы собирались ехать вместе с Морлендами…
Брэд был явно расстроен. Вики заторопилась:
— Не глупите. Мы ничего не планировали заранее. Они заглянули случайно. Ох уж эта невозможная женщина!
Было уже больше восьми, когда Брэд отставил чашку и, стараясь не встретиться глазами с Джоном, спросил, обернувшись к Вики:
— Ты готова, дорогая? Прекрасно. Пошли.
Когда они вышли из машины и под свисающими ветвями вязов двигались в темноте к залу собраний, Джон заметил, что народ уже повалил в двери. Небольшие группки еще стояли у входа. Кое-кто курил. Ничто не напоминало о его личной драме. Гул голосов, случайный смешок, громкий голос, весело воскликнувший: «Здорово, Джо» — все это были привычные для летнего деревенского вечера звуки.
Оживление, вызванное тем, что общество собралось исполнить свой демократический долг, не содержало в себе оттенка угрозы. И тем не менее, когда они выбрались из темноты поближе к свету, веером падавшему от дверей зала, напряжение стало нарастать. Будто они вместе с семьей Кэри — горящий запал, огонек которого дюйм за дюймом приближается к динамиту. В центре главной улицы Джон заметил высокую фигуру регулировщика в форме. Стив Риттер. В тот же момент они поравнялись с группой мужчин. Один из них смеялся. Увидев Брэда, сказал смеясь:
— Здорово, Брэд! Как пожи…
Заметив Джона, замолчал. Остальные тоже замолчали. И бессознательно придвинулись ближе, как бы подражая тем, на лугу. Стали полукругом, загораживая им дорогу. Их взбудораженность немедленно передалась и другим, толпившимся у дверей. Все замолчали и подошли поближе. Потом Джон услышал, как где-то сзади вскрикнула женщина и разнесся шепоток:
— Это он… Это мистер Гамильтон… Мистер Гамильтон… Гамильтон… — Все продолжалось не долее секунды. Брэд еще был впереди, Вики — рядом. Брэд шагнул навстречу стоящим, и они расступились перед ним. — Гамильтон… Гамильтон… — слышался за ними неясный шепоток.
Взглянув на Джона, Брэд пробормотал:
— Может, все-таки это была не такая уж правильная идея?
— Порядок, — ответил Джон.
— Конечно, — поддержала Вики.
И они вошли в ярко освещенный вестибюль.
XIII
В первую секунду Джон увидел все, как на реалистическом полотне, со всеми прописанными деталями: деревянные кабины для голосования у дальней стены, длинный стол, за которым на деревянных стульях восседают представители властей — в костюмах и галстуках, аккуратные, полные ощущения собственной значительности. Лицом к ним столпились обитатели Стоунвиля — старики, скрюченные, как древесные корни, здоровенные фермеры, юноши, домохозяйки, девушки в ярких платьях. Они заполняли центральную часть холла вокруг массивных деревянных колонн.
Справа вызывающе отчужденно стояли мистер и миссис Кэри вместе с верными союзниками Морлендами. Секретарь деревенской управы, суровый старик, сидевший вчера вечером в кафе-мороженом, стоял, шелестя бумагами, и, запинаясь и взглядывая в них сквозь очки в стальной оправе, говорил о чем-то. Мирная сценка, типичная для Новой Англии, когда искренние приверженцы и празднолюбопытствующие — все собрались вместе, чтобы выполнить свои общественные обязанности. В этой умеренной обстановке, казалось, не может произойти ничего более драматического, чем напыщенная речь мистера Кэри против нововведений.
Но те, кто оставался на улице, толпились теперь позади них, подталкивая их вперед, внося с собой возбуждение.
Джона толкнули на девицу, которую он раньше не заметил. Она обернулась, чтобы посмотреть на него. Глаза ее сузились от страха, и она вскрикнула. Тут же все головы обернулись к ним. Возглас девицы был как бы подхвачен всеми, как таинственное, искаженное эхо. Какое-то, мгновение этот странный звук трепетал в воздухе, затем его поглотила тишина. Не было слышно ни звука, кроме бубнящего голоса секретаря управы.
Погруженный в свои дела, старик ничего не замечал. Он уткнулся в заметки, и голос его раздавался преувеличенно громко:
— Итак, я полагаю, что почти все знают, зачем мы собрались. Но прежде чем начать голосование, мы откроем собрание, чтобы те, кому есть что сказать… то есть…
Он сбился и замолк, почувствовав нечто неладное в установившейся тишине.
Подняв глаза от бумаг, он стал оглядываться, не находя причины беспорядка. Наконец увидел Джона. Челюсть у него отвалилась, а глаза сделались такими же круглыми, как у всех остальных. Джону казалось, что нет ничего, кроме этих глаз — прямо-таки сверлящих его, жестких, угрожающих именно тем, что в них отсутствовало всякое выражение.
Неожиданно он почувствовал себя уверенней, потому что презирал их. Если бы он был «своим», одним из них, они бы никогда не отнеслись к нему так. Все из-за того, что он не такой, как они, — он чужак, которого они отвергали. Брошенный им вызов вернул ему самоуважение.
Какой-то ребенок, неразличимый в толпе, нарушил тишину. Тонким писклявым голосом он сказал:
— Мистер Гамильтон. — И снова будто эхо прозвучало в зале: — Гамильтон… Гамильтон…
Звук был приглушенным, не громче шепота, но напоминал он сдавленный рев.
Оратор, придя в себя, постучал по столу председательским молотком.
— Итак, — сказал он, продолжая свою речь, — я должен как секретарь деревенской управы объявить собрание открытым для любого обсуждения, которое вы захотите…
Мистер Кэри с боевым и важным видом поднял руку. Но прежде чем он открыл рот, какой-то мужчина у двери завопил:
— У меня вопрос. Где миссис Гамильтон?
И немедленно рев вырвался на свободу:
— Где миссис Гамильтон?.. Где она?.. Где миссис Гамильтон?
Крик сливался с криком, пока все звуки не потонули в неразборчивом, нечеловеческом гомоне. Секретарь управы стучал председательским молотком. Два выборных члена управы, сидевшие по обе стороны от него, тоже вскочили на ноги и кричали, призывая к порядку. Но никто не обращал на них никакого внимания. Среди моря лиц, обращенных к Джону, мелькнуло лицо матери Эмили и Энджел. Миссис Джонс едва можно было узнать, ее глаза сверкали тем же хищным блеском, что и у всех остальных.
Какой-то человек, стоящий слева от него, рядом с Вики, что-то вопил. Джон видел, как у него открывается рот, образуя широкое «О», но в общей какофонии не мог различить ни звука.
Он посмотрел на Вики и Брэда. Кожа вокруг носа у Брэда стала бледно-серой. Вики встретилась глазами с Джоном и ободряюще улыбнулась. И это сразу помогло. Он справится. Он был уверен в этом. И как только рев чуть утих, Джон поднял обе руки вверх. Эффект был потрясающий. Шум немедленно улегся, и снова воцарилась тишина — та же, что и раньше, — хрупкая, настороженная тишина. Секретарь снова стукнул молотком. Выборные, оглядевшись, с важным видом уселись на свои места.
— Ну так вот, — сказал Джон. — Я пришел сюда не для того, чтобы отвечать на вопросы. А потому, что это общее собрание, и я имею такое же право прийти сюда, как и все остальные. Но если кто-то из вас хочет задать мне вопросы касательно моей жены, — ну что ж, валяйте…
Ничего подобного они не ожидали. На какое-то время ими овладело чувство неловкости, даже смущения. Мистер Кэри громким гулким голосом начал:
— Это возмутительно! Мы цивилизованные люди. Мы собрались здесь…
Но стоящий у двери вожак снова закричал:
— Где миссис Гамильтон? — и эти слова, заглушив голос мистера Кэри, вновь объединили их и вернули к лихорадочной враждебности. — Где она?.. Где миссис Гамильтон? — Женщина, стоявшая рядом с Джоном, вцепилась в его руку. Он чувствовал, как ее ногти вонзаются в кожу. — Где миссис Гамильтон?
И снова тишина — тишина, полностью сконцентрированная на Джоне. Он высвободил свою руку из когтей соседки.
— Я не знаю, где она, — ответил он.
— Он не знает… Он говорит, что не знает…
Молодой человек в желтой спортивной рубашке, перекрывая шум, крикнул:
— Почему чемодан оказался на свалке?
Джон обернулся к нему:
— И этого я не знаю.
— Зачем вы сжигали свои джинсы на лугу? — снова закричал тот, первый мужчина. Его голос, громкий, насмешливый, будто специально подстегивал общее безумие. Шум снова стал неуправляемым. Джон попытался было перекричать его:
— Я не сжигал джинсы. Кто-то…
Но его крик утонул в общем гомоне. Он смутно чувствовал, что не все были против него. Кто-то крикнул:
— Оставьте его в покое!
Слова едва можно было разобрать. Образовались две враждебные группы. Мужчины толкали друг друга. Но то, что мнения разделились, только поднимало накал. Женский голос, тонкий и пронзительный, перекричал всех:
— Мистер Гамильтон, вы убили свою жену?
Тут все как с цепи сорвались. Мужчина, стоявший по соседству с Джоном, бросился на него. Брэд успел ударить его раньше Джона. Толпа превратилась в дерущуюся, шатающуюся, беспорядочную кучу. Вскрикнула женщина. Кто-то тяжело, всем телом ударился о колонну.
Брэд схватил его за руку:
— Надо выбираться отсюда.
Захваченный жестоким, злобным возбуждением, Джон готов был остаться и биться с ними всеми, но он понимал, что Брэд прав. Он устоял перед ними. Показал, что не боится их. И он повернул к дверям. Вики была совсем рядом, ее лицо всего в нескольких дюймах от него. Со страшным усилием ей удалось повернуться. Сосед снова схватил Джона. Джон отшвырнул его. Брэд куда-то исчез. Вики пробивалась вперед к двери. Трое неизвестных стали надвигаться на Джона, и Вики моментально повернулась, обняла его и прикрыла собой.
Неуклюже держа Вики перед собой, Джон пробился к двери. И когда они проталкивались мимо разгоряченных враждебных тел, Джон заметил входящего с улицы Стива Риттера. Его глаза сверкали из-под полицейской фуражки, и он угрожающе размахивал своей дубинкой. Его появление тут же возымело эффект. Почти сразу шум и крики позади стали утихать, и через несколько секунд все успокоилось — так же быстро, как и вспыхнуло.
Он отпустил Вики. Вместе они пробились к Стиву, и тот широко улыбнулся Джону:
— Ну что, Джон, приятель, надо было меня послушать и посидеть дома!
Вики возмутилась:
— Вы могли бы сдержать их. Почему вы не явились раньше? Вам же все было слышно! — И, не дожидаясь ответа, она потянула Джона на освещенную площадку у двери. — Зверье, отвратительное зверье!
К ним подбежал Брэд. Воротник его рубашки был разорван. Здесь, среди спокойствия деревенского вечера, рваный воротник выглядел как-то неправдоподобно.
Вики предложила:
— Я отвезу вас к нам.
В этот момент к ним поспешно приблизились мистер и миссис Кэри. Мистер Кэри запыхался. Его лицо было багрово-красным. Не глядя на Джона, он сверкнул глазами в сторону Вики и Брэда.
— Что это вы оба себе позволяете? Почему вы не приехали к нам, как было условлено?
— Мы были с Джоном, — ответила Вики. — И он оставил у нас свою машину. Мы подвезем его к нашему дому.
— И не будете голосовать? Вы в своем уме? Сейчас же вернитесь — оба. Останьтесь на голосование, я требую!
— Требуете! Какое право вы имеете что-то требовать? — возмутилась Вики. — Это вам понадобилось, чтобы Джон приехал. Именно вы ответственны за всю эту отвратительную сцену.
Мистер Кэри уставился на нее ледяным взором и замер на секунду. Затем повернулся к сыну.
— Брэд, — загрохотал он, — вернись!
Грубая деспотическая ярость, звучавшая в его голосе, была удивительна. Джон никогда не видел, чтобы Кэри распустились до такой степени. Посмотрев на Брэда и увидев его побелевшие от волнения губы, он сказал:
— Со мной — порядок! Почему бы вам не вернуться?
— Будь я проклята, если вернусь, — заявила Вики. — К черту Стоунвиль. К черту озеро Шелдон. Пусть они построят мотели на каждом квадратном метре. — Она взяла Брэда за руку. — Едем!
Но мистер Кэри тут же схватил Брэда за другую руку:
— Брэд, я жду.
Миссис Кэри вмешалась взволнованно:
— Джордж, Джордж, пожалуйста. Не устраивай сцен. Пусть мальчик сам решает.
Минуту Брэд колебался. Затем, обернувшись к Вики, пробормотал со слабой улыбкой:
— Ну, детка, зачем уж так. Может, ты довезешь Джона… — Глаза Вики гневно блеснули. Отпустив руку мужа, она повернулась к нему спиной. — Но, детка, голосование сейчас начнется… И оно так много значит для папы…
Брэд умолк. Медленно и смущенно побрел он за родителями в зал. Вики без слов зашагала к своей машине. Джон двинулся за ней. Они сели, и Вики вырулила к дому.
Сначала оба молчали. Потом она взорвалась:
— Брэд под каблуком у отца и ничего с этим не может сделать. Так он воспитан — в преклонении перед ним, так же как преклоняется перед мужем его мать. Отвратительно быть женой папенькиного сыночка. На тебе жената лишь одна половина мужа, другая — принадлежит папочке.
Она оторвалась от руля и взглянула на Джона. Конечно, она нарочно говорит все это, чтобы скрыть главную причину отступничества Брэда — он ведь защищал Джона не из веры в него, а чтобы поддержать жену.
— Если бы мы могли уехать! Ведь нам принадлежит половина этой проклятущей бумажной компании. Мы могли бы продать свою часть, бросить все это и прилично, разумно жить своей жизнью. Но Брэд никогда на это не согласится. Не можем же мы возложить это бремя на мою мать, говорит он. Но он вовсе не считает, что его отец — бремя. Он помешан на нем и на своем грандиозном наследственном деле. Он… — она прервала себя. — Простите, Джон, не самый подходящий момент изливать свои горести. Но вы были великолепны — по-настоящему великолепны!
— Нет. Я не смог сдержать их.
— Трусы! И этот Стив Риттер! Он хуже их всех. Он виновник этой истерии — он шнырял повсюду, намекая, подстрекая, подстегивая. Почему? Почему он так против вас?
«Я не хотела, но это сильнее меня… Это как болезнь…»
— Не знаю. Думаю, они все против меня, так как не привыкли к таким, как я. Что-то во мне кажется им подозрительным. И потом Линда…
И вдруг понял, что даже с Вики Кэри не может говорить о Линде. И они ехали молча, пока не достигли дома.
Он предложил ей вернуться и все-таки проголосовать, но она заупрямилась, все еще продолжая сражение с наводящим страх свекром и запуганным мужем. Ему не следует возвращаться домой одному, заявила она. И настояла на том, чтобы зайти к нему и выпить по стаканчику. И только когда они сидели в гостиной, Джон начал понимать, как много значит, что после всех ужасов этого дня нашелся кто-то, кто может просто посидеть с ним, принимая его таким, каков он есть.
Оставалась она недолго.
— Мне еще достанется с бедным Брэдом. Когда папа ведет себя так, это его просто убивает. Он чувствует себя сокрушенным, загнанным в ловушку, опустошенным. Я его не виню.
Она протянула Джону руку, и ее некрасивое лицо осветила застенчивая, смущенная улыбка.
— Можно мне сказать вам кое-что, Джон?.. Это звучит глупо, даже обидно. Но до этого вечера, при том, что папа и Морленды и все кругом твердят все это… Я не была уверена. Я была, как Брэд. Какая-то часть моей души допускала: а может, они правы? Может, он все-таки… — она оборвала себя и забрала руку. — Но теперь все по-другому. Теперь я вам верю.
Она пошла к двери. И обернулась:
— И насчет Линды тоже. Я верю, что она такая, как вы рассказывали. Представляю, какая кошмарная жизнь была у вас. И я восхищаюсь вами. У вас больше мужества, чем у меня. И если что-нибудь случится — я хочу сказать, что бы еще ни случилось, — я с вами. И если я вам понадоблюсь… Спокойной ночи, Джон.
— Спокойной ночи, Вики.
Он смотрел ей вслед, пока она торопливо пересекала лужайку. И когда она уехала, оборвав этим последнюю связь с миром, ощущение кошмара снова начало сгущаться.
Он был один в доме, и огромная невидимая сеть полностью опутала, окружила его.
Он погасил свет и поднялся в спальню. С тех пор как Линда исчезла, он не заходил сюда. Стоял и смотрел на знакомую кровать с мятым белым покрывалом. И тут мысль о Линде пробилась сквозь его неотступные думы о том переплете, в который он угодил. Она — та женщина, на которой он был женат шесть лет, женщина, которую он любил. И вот она куда-то исчезла…
Снова ему явилось страшное видение — как она, обезумев, кромсает ножом картины в гостиной, топчет пластинки, бежит в мастерскую за машинкой, взбегает наверх, чтобы упаковать чемодан… А что потом? Бросает чемодан на свалке? Сделала она это? Сжигает на лугу его джинсы? Могла ли она сделать и это?
Вот чего ему никак не понять: могла Линда сделать все это? Или все было совсем иначе — это сделал какой-то таинственный немыслимый враг, причем не только его враг, но и Линды. Бросить чемодан на свалке, где его обязательно найдут? Жечь джинсы на лугу возле дома, где они неизбежно будут обнаружены? Но зачем? Потому что он конечно же убил ее. Линда умерла. Эта уверенность заполнила собой комнату, как если бы в ней находился труп.
Он заглянул в ванную. Полотенце, которым он тогда днем вытирался после душа, все еще валялось на полу. Он машинально наклонился, чтобы поднять и повесить его на крючок. Вот тут-то и взглянул на зубные щетки… Он же заходил сюда раньше. Как он мог этого не заметить?
Зубные щетки Линды располагались обычно слева от зеркала, а его собственные — справа. Все Линдины щетки были на месте, но двух его щеток не было.
Значит, Линда не могла сама складывать чемодан. Кто-то другой — Враг — поднялся в спальню, вытащил чемодан, упаковал платья, забежал в ванную комнату, схватил зубные щетки — все равно какие… Значит, кто-то другой, не Линда, напечатал ту записку, разрезал картины, растоптал пластинки?
Он присел на край ванны. Голова болела. Не все ли теперь ясно? Разве такая незначительная деталь, как зубная щетка, не доказывает окончательно, что Линда убита, а остальное — лишь подтасовка, хитро задуманный план, чтобы подозрение пало на него? Постепенно, несмотря на сумятицу мыслей, он почувствовал, что вот наконец найдена правильная линия поведения, позвонить капитану Грину. Объяснить насчет щеток. Это докажет мою невиновность. Даже капитан Грин поймет, что ни за что не спутаешь свои щетки со щетками жены.
Но проблеск надежды угас, едва родившись. Как он сможет доказать, что те щетки его, а эти Линдины? Он вспомнил об орущей, дерущейся толпе — они убеждены в его виновности. И капитан Грин настроен так же. Для капитана вся эта история со щетками — пустая болтовня.
Он не вернулся в спальню, а зашел в одну из безликих, холодных комнат, предназначенную для гостей, которых так и не было. Разделся и лег на кровать, пытаясь отделаться от новых видений — ему представлялось, как Линда убегает от кого-то, кричит, ее лицо искажено страхом…
Попытался думать о Вики. Но вспомнил о том, как Энджел Джонс вырывалась из его рук с криком: «Вы бьете свою жену…» Ясно представил себе свои джинсы в полицейской лаборатории. Мужчины в белом рассматривают их в микроскоп.
«Даже если на них окажутся самые крошечные пятнышки…» Снова Стив Риттер. Когда он наконец заснул, Стив опять охотился на него в лесу, но на этот раз уже не один. Все население Стоунвиля с шумом продиралось за ним сквозь кустарник, перекликаясь, как гончие псы.
«Что вы сделали со своей женой?»
XIV
Проснулся он внезапно, показалось, что его зовет Линда. Взглянул на часы. Десять минут одиннадцатого. Как он мог спать так долго? Но потом, когда все вспомнилось, им снова овладело безразличие. А что, собственно, он мог сделать? Звонить капитану Грину? Объяснять ему насчет зубных щеток? Но он уже и сам понял, что это бесполезно — капитан Грин решит только, что это новая, еще более неуклюжая попытка виноватого отвертеться.
— Джон! — кто-то звал его, откуда-то донесся этот слабый женский голос. Все еще наполовину сонный, он подумал: Линда! — и вскочил с бьющимся сердцем. — Джон… Джон…
Подбежал к окну. Около куста сирени, росшего у двери в кухню, стоял велосипед. Он прижался лицом к москитной сетке, вставленной в окно, и увидел фигурку с длинной темной косой у двери. Эмили Джонс.
С каким-то беспричинным удовольствием откликнулся:
— Иду.
Надел халат и встретил Эмили на пороге. В руках у нее была пачка писем. Вспыхнувшее лицо, блестящие глаза.
— Я привезла вам письма. Мама не знает. Я пробралась на почту, выудила их из вашего ящика и привезла.
— Спасибо, Эмили.
Джон взял почту и положил ее на крышку газового шкафа, стоящего у двери.
— И потом… я приехала предупредить вас, чтобы вы не появлялись в деревне. Вот из-за чего я приехала. — Она запыхалась. Видимо, гнала изо всех сил. — Боб Сили и Джордж Хэтч и все другие… говорят, что схватят вас, когда вы еще раз появитесь. «Надо было схватить его вчера!» — я только что слышала, как они это говорили. В магазине. Они не будут дожидаться полиции. И вообще, это касается только Стоунвиля. Они говорят… — и она внезапно бросилась к нему, обняла и спрятала лицо у него на груди. — О, я их ненавижу, ненавижу…
Худенькое тело вздрагивало. Он погладил ее по голове.
— Ничего, Эмили. Это всего лишь разговоры.
— И Энджел — она такая же плохая, как и все остальные. Такая же гадкая, как мама и как все. Она говорит, что вы это сделали. Говорит, что вы убили миссис Гамильтон. Но это же неправда? Я знаю, это неправда!
— Конечно, Эмили. Я этого не делал. Я не имею представления, где она.
— А почему они так говорят? Почему они такие противные?
Обняв ее одной рукой, он открыл дверь в кухню:
— Войди и глотни чего-нибудь. Ты, верно, хочешь пить.
— Нет, нет, — отпрянула она от него, негромко всхлипнув, — не сейчас! Сейчас мне надо побыть одной. — Она подбежала к велосипеду, вытащила его из куста сирени, обернулась и взглянула на него темными, полными боли глазами: — Когда… Когда это пройдет, я… может быть… вернусь. И если вы захотите, я буду убирать и готовить и… Но не сейчас.
И она снова всхлипнула. Потом, справившись с волнением, вскочила на велосипед и умчалась, так нажимая на педали, что только темная косичка билась по спине.
Джон постоял немного, глядя ей вслед. Когда она скрылась, он опустился на ступеньки, но вспомнил о письмах.
Первое, что бросилось ему в глаза, — «Арт ревью». Наконец-то. Мнение критика из «Арт ревью» больше всего интересовало его. Разорвав обертку, апатично стал искать статью. Она оказалась большой — на целую колонку, и, читая ее, он, к своему удивлению и удовольствию, обнаружил, что она полна энтузиазма:
«Возможно, огромный шаг вперед, который мы отмечаем на этой выставке, еще окончательно не закрепился. Но большинство полотен, увиденных критиком в этом году, в высшей степени впечатляют. И кажется неизбежным, что вскоре наша страна встанет перед фактом — она обретет подлинно великого американского художника в лице Джона Гамильтона…»
На мгновение он забыл обо всем — так обрадовался. Но только на мгновение. До него тут же дошла вся ирония ситуации, и радость омрачилась. Какое теперь имеет значение эта приятная статья! Он бросил журнал и стал просматривать письма.
Был конец месяца — счета, счета… Счет из магазина, из молочной, с бензоколонки Стива Риттера. Последние остатки мгновенной радости померкли! Он взглянул на конверт и подумал о Стиве Риттере — как тот, сидя в своей тесной конторе, выписывал этот счет. Когда? Вчера? После поисковой партии? Прежде чем отправился регулировать движение?
Был еще счет из магазина стройматериалов в Питсфилде. Джон не помнил, чтобы когда-нибудь был в этом магазине. Должно быть, Линда…
Разорвал конверт и вытащил счет. Сверху обозначено его имя и адрес. Дальше следовало:
29 августа — 3 стофунтовых пакета готового цемента
по 1 доллару 95 центов 5,85
1 мастерок ,79
6,64
Минуту он сидел, уставясь в листок. 29 августа. День его отъезда в Нью-Йорк. Но он не покупал никакого цемента. Или… Он почувствовал, как возвращается удушающее ощущение кошмара. Цемент! Куст сирени перед ним задрожал и расплылся. Малиновка скакала по газону. Казалось, она куда крупнее, чем на самом деле, и он, будто загипнотизированный, смотрел, как она что-то клюет в траве.
Вскочив с места, Джон вбежал в дом и принялся звонить в магазин стройматериалов. Ответил скучный женский голос. Руки у него дрожали. Он чувствовал, как трубка бьется об ухо.
— Говорит Джон Гамильтон из Стоунвиля. Я только что получил счет на кое-какие предметы, которых не заказывал…
— Минуточку, сэр. — Изменился у нее голос? Уж конечно, она, как и все остальные, уже знала это имя — Джон Гамильтон.
Он слышал ее удаляющиеся шаги. Звук казался гулким и таким же нереальным, как малиновка на газоне.
Вот как это бывает, подумал он, когда начинаешь сходить с ума. Эта неудержимая дрожь, эта путаница… Наконец ответил мужской голос.
— Алло!
— Я получил счет на товар, который не заказывал… Последовала долгая пауза. Потом мужчина угрюмо сказал:
— Извините, мистер Гамильтон, но счет правильный. Я сам принимал заказ по телефону. Вы позвонили утром, что-то около девяти.
— Но я вам не звонил!
— Джон Гамильтон из Стоунвиля. Вот какое имя. Джон Гамильтон сказал, что ему нужен цемент — подремонтировать плотину на ручье для детской купальни. Я предупредил, что для этого лучше обычный цемент, но он настаивал, что нужен готовый к употреблению, и просил доставить сразу же. Грузовик как раз ехал к вам по соседству. По вторникам он всегда выходит в девять, так что я сразу же погрузил мешки. И вы, то есть он, велели не останавливаться около дома, потому что дома вас не будет, а выгрузить их за домом, где ручей поворачивает, у дороги.
Сеть как бы стала видимой и висела над Джоном — темная, спутанная, смертельно опасная, как паутина, от которой не спастись. У поворота ручья. Это за домом, ближе к Фишерам — он не был там с тех пор, как вернулся из Нью-Йорка. Туда не дошла поисковая группа — из-за того, что Стив разозлился на мужчин и отослал их по домам.
Он смутно сознавал: необходимо что-то сказать, — на том конце провода таится опасность. Но не мог сказать ничего, что изменило бы положение.
— Это был не я, — выговорил он. — Если кто-то, и звонил, назвавшись Джоном Гамильтоном, то это был кто-то другой. Я ничего не заказывал.
Все, кроме поворота ручья, теперь не имело значения. Он взбежал наверх, надел рубашку и брюки, в которых был накануне, и выскочил из дома.
Клены бросали на пыльную дорогу перистые сине-серые тени. Движущиеся, изменчивые, становящиеся то темнее, то светлее, они казались ему тенями сетей. Место, где ручей изгибался у самой дороги, было ближе чем за сто ярдов от дома. До него донеслось свежее, веселое журчание ручья. Наконец показался и сам ручей, делающий крутой поворот и снова уходящий в луга. Высокие травы, росшие у дороги, были повалены. Он заметил это раньше, чем подошел.
Снова вспыхнули страшные виденья.
Добравшись до места, он увидел, что травы примяты там, где сбросили цемент с грузовика. Сломанные и поваленные стебли увядали под горячим солнцем. Но мешков с цементом там не было.
Ничего там не было.
Прошло несколько секунд, прежде чем он заметил след. Один-единственный. След тачки. Джон двинулся к нему сквозь поваленные травы. Тонкая белая линия тянулась параллельно с ним несколько футов, потом прекратилась. Он нагнулся и тут же понял: цемент. Цемент, высыпавшийся из разорвавшегося мешка.
Разорвавшегося? Разорванного! Он был уверен в этом. След цемента был так же заметен, как след тачки — все это подстроено специально. Это была часть всего кошмара, его кульминация: отпечатанная записка, разрезанные картины, чемодан на свалке, джинсы…
Он шел по следу тачки через заросший луг. Если след ослабевал, всегда находилось что-то еще, что направляло его: сломанная веточка вишни, раздавленный побег золотой розги или вновь полоска цемента. Это был след, который заметил бы и ребенок, и он неумолимо уводил все дальше и дальше от ручья к дому.
Внезапно, пока он шел по следу, ему стало казаться, что он больше уже не он сам, а кто-то другой — Враг, притаившийся в центре паутины, присутствие которого он смутно ощущал. Вот Враг выпрыгнул и схватил его. Все было так, словно он сам звонил в магазин стройматериалов и заказывал цемент: «Не останавливайтесь около дома, меня не будет», — словно в эту самую минуту он сам толкал тачку, груженную мешками с цементом, старательно обозначая свой след, ломая вишневую веточку, пригибая травы, следя, чтобы струйка цемента сыпалась из прорванного мешка. Иллюзия была сильна, как само прикосновение к резиновым ручкам тачки, горячим и липким.
«Прекрати!» — приказал он себе.
Задняя стена мастерской замаячила перед ним. Он так редко бывал здесь, что амбар, увиденный с тыла, показался ему незнакомым — какое-то здание, не имеющее отношения к его жизни. Окна в задней стене блестели на солнце. Внизу массивные деревянные двери, покосившиеся на осевших петлях, вели в старый коровник.
Предательски четкий след слегка изгибался влево — к покосившимся дверям. Не обращая внимания на след, — какой смысл дальше придерживаться его — подбежал к дверям. Ржавый замок висел на засове. Он сорвал его и, схватив одну из створок, с усилием распахнул дверь. После яркого солнечного блеска, внутри было темно, как в склепе. Он постоял на пороге, вдыхая влажный запах заброшенности и гниения. Увидел старый холодильник, к которому были прислонены Линдины садовые инструменты и пластиковый шланг, свернутый около водопроводного крана. За ним виднелись деревянные стойла по обеим боковым стенкам. Старое сено валялось на плотном земляном полу. Что-то светлое привлекло его внимание. Что-то торчавшее изнутри одного из стойл. Рукоятка тачки?
Он вбежал в полумрак. Да, там, в стойле, стояла его старая тачка. Она была опрокинута набок и внутри вымазана цементом… И он медленно, тщательно стал осматривать стойла — одно, другое, третье…
То, что искал, он нашел в последнем стойле справа. Пол в нем был не из затвердевшей глины, как в других, а из затертого вровень с поверхностью цемента. Почти во все стойло сверху были навалены дрова. Он не стал и пытаться вспоминать, как тут все выглядело раньше. Несмотря на разбросанные вокруг лохмотья коры, одного взгляда на цемент было достаточно, чтобы увидеть он совершенно свежий.
И пока он стоял, уставившись под ноги, чувствуя себя таким же мертвым, как то, что несомненно находилось там, под цементом, он вдруг услышал нечто, нарушавшее тишину, — какой-то шелест, сухой, едва слышный порывистый звук, похожий на шорох мышиных лапок.
Он взглянул на окно над кучей дров. Оно было закопченное и все затянутое грязно-серой паутиной. На окне — множество желтых бабочек. Некоторые бились об оконную раму. Одни попались в паутину и судорожно трепыхали крылышками, другие, мертвые, валялись на подоконнике, окутанные серым шелком паутины. От каких-то остались лишь кусочек желтого крылышка, черный усик, жесткие ободранные тельца с членистыми мохнатыми ножками, болтающимися в воздухе.
Его затошнило.
Он выбежал из коровника и поспешил в дом. Пересекая лужайку, услышал три коротких телефонных звоночка.
XV
Звонок телефона был так же ужасен, как то, что осталось там, в коровнике. Телефон относился к тому же миру, который неистовствовал, чтобы схватить его. То, что находилось там, в коровнике, было окончательным, проклятым «доказательством» его вины. Концы сети соединились.
С сильно бьющимся сердцем стоял он в кухне. Телефон все еще издавал короткие настойчивые звонки. Перестанет, говорил он себе, сейчас перестанет. Потом остаток чувства самосохранения предостерег его: если ты не откликнешься, они могут явиться сюда. А когда они явятся, они пойдут в коровник. Ответь. Ты ничего не потеряешь, если ответишь.
— Джон? — это была Вики. Он узнал ее, и путаница в мыслях кое-как улеглась. — Это вы? Слава богу. Я звоню уже больше десяти минут. Быстрее! Они поехали, чтобы схватить вас. Не полиция. Стив и все прочие. Вся деревня. Я звоню из магазина. Я видела в окно, как съезжались машины. Уже минут пять, как они уехали. Вот-вот появятся… Джон, вам нельзя там оставаться. Приезжайте к нам. Сейчас же! Я еду домой. Если вы будете со мной, им придется успокоиться. Они… Джон, вы меня слышите?
Он смотрел на дорогу сквозь тонкие нейлоновые занавески гостиной.
— Да, Вики, я слушаю.
— Это из-за полиции. Они позвонили Стиву. На джинсах обнаружили кровь и следы цемента, а из какого-то магазина в Питсфилде сообщили, что вы купили мешки с цементом. Вы замуровали ее в погребе, — вот что они твердят. Они взяли с собой ломы и лопаты и…
Тут он услышал шум машин. Может быть, он слышал его и раньше, — как слабое осиное гудение, раздававшееся, казалось, у него в голове. Но тут сомнений уже не оставалось. Гул становился все громче. Скрипнули тормоза — они проезжают поворот около моста.
Кошмар снова надвинулся на него. Реальным оставался лишь голос Вики. Ничего не чувствуя, он сказал:
— Спасибо, Вики. Я приеду.
— Скорее!
Он положил трубку. Внизу на дороге раздался автомобильный гудок, его подхватил другой, третий, пока они не слились в сплошной рев. На мгновение им полностью овладел страх, парализовал, лишил способности действовать. Он только бессмысленно вертел головой, стараясь избавиться от рева гудков. До машины ему не добраться. Значит, ничего сделать нельзя. Придется остаться. Все было, как в том сне.
Первая машина блеснула на дороге за кустами. Это встряхнуло его. Бежать через лес — к Вики!
Это была не мысль, а скорее инстинкт. Добраться до Кэри. Казалось, другой цели не было в жизни. А что потом — не имеет значения.
Когда он бежал через яблоневый сад к заросшему склону, ведущему в лес, позади него на дороге раздался пронзительный вопль. Только тогда он догадался, что, пересекая лужайку, обнаружил себя — его заметили не из первой машины, а из тех, что в хвосте. Берег там опускался, и не было ни кустов, ни деревьев, чтобы заслонить его.
За первым криком раздался второй. Гудки замолчали. Ему было слышно, как захлопали дверцы машин…
Он не оглядывался. Увидеть маленькие темные точки, бегущие через луг за ним, значило вернуться к паническому страху, сделать реальным тот сон, которого он больше всего боялся, — сон об охотниках и преследуемом.
Но это и был тот самый сон. Солнечный свет казался желтее настоящего. Листья, травы, бабочки — все, что он видел, пролетая через заросший луг, было пугающе ярким, будто он никогда раньше этого не встречал, а сейчас смотрит глазами раз в десять более зоркими, чем человеческие.
Сзади кто-то залаял, подражая гончей, — или ему почудилось? Опять как во сне, в котором люди скакали за ним галопом на четвереньках.
Наконец показались молодые сосенки, росшие на опушке. Он добежал до них и нырнул в заросли. Иголки хлестали его по щекам, как тонкие кнутики. Пробился сквозь них и оказался у ручья, журчащего в своем каменистом ложе. Прыгая с камня на камень, пересек его и очутился в лесу. Вокруг был неведомый мир — огромные стволы, кусты, поваленные деревья, проникающий солнечный свет. Сосны скрыли его. И эта невидимость, как бальзам, позволила ему снова думать по-человечески. Не теряй голову! Ты же знаешь этот лес. Ты знаешь точно, где надо повернуть влево и спуститься к озеру, к Вики. Ты намного опередил их.
И тут он услышал крики сзади, из-за сосен. Может, опять игра воображения? Не могли они так быстро добежать до дальнего поворота. Потом вдруг в ужасе догадался — те, в первых машинах, что были около дома, заметили, как все остальные кинулись через луг, и бросились в погоню от дома.
Его преимущество уменьшилось вдвое.
Впереди, между деревьев, за переплетениями раскинувшихся кустов ежевики, виднелся ствол бука. Слепо повинуясь инстинкту, он прикинул: бежать туда, к буку. Хотя это и слишком близко к дому Джонсов, за ним — крутой спуск вниз, в небольшой овражек, заросший порослью тсуги. Там, за буком, можно спрятаться.
Побежал вперед, огибая ежевику. Из-под самых ног вылетела куропатка, оглушительно захлопав крыльями. Добрался до бука и, сбегая со склона вниз, услышал крики, раздавшиеся неожиданно близко. А что, если у них с собой собака? Он вспомнил остроносого белого пса с пушистым коричневым хвостом.
Он достиг подножья и снова побежал, петляя, судорожно переводя дыхание.
Впереди виднелись заросли тсуги, темная плотная стена, окаймляющая обнажения скал. Ринулся к ним, но прежде чем успел нырнуть под прикрытие перистых ветвей, услышал, как кто-то издалека, сверху завопил:
— Вот он!
Ветки тсуги переплелись между собой и росли от самой земли. Он оказался как в клетке из темных, перистых, гибких ветвей. Споткнувшись на бегу, упал, поднялся снова, столкнулся с решеткой из веток, такой же непроходимой, как если бы она была железной. Бросился влево, упал на колени, попытался протиснуться под низко нависшими ветвями, рванулся и только обессилел от напряжения. На какую-то долю секунды страх, перед тсугой стал сильнее страха перед преследователями. Тонкие закрученные прутья сплелись вокруг него, как пальцы, зелень лезла в рот. В полном отчаянии он стал пробиваться вперед напролом и вдруг вывалился из зарослей в неясном просвете — прямо у отвесной скалы. Упал и даже не попытался удержаться на ногах. Лежал неподвижно вниз лицом и судорожно, с рыданием глотал воздух.
Сзади раздавались крики — слева и справа. Почудилось, что он уже принадлежит бегущим за ним, он их кукла, их вещь — и от этого не спастись.
Он поднялся. Стал ощупью двигаться вперед вдоль скалы, касаясь рукой холодной, безликой поверхности камня. Каменная стена поворачивала вправо вместе с зарослями тсуги. Он тоже повернул и тут увидел перед собой какую-то неясную фигуру. Это была Эмили. Она прижала к губам палец.
Они стояли, не проронив ни звука, глядя друг на друга. Потом, оторвав палец от губ, она протянула руку. Он машинально подал ей свою, и она тихонько повела его вперед, отклоняя ветки, выбирая дорогу. Он следовал за ней, механически проделывая все то же самое. Она вела его вдоль каменной стены, и, казалось, они шли в тупик. Подойдя к кустам, Эмили опустилась на четвереньки и исчезла среди веток. Он тоже присел и снова оказался в клетке из веток тсуги. Смутно, как под водой, он увидел впереди себя Эмили. Она резко свернула вправо и исчезла — прямо в скале.
Он достиг того же места. Ее маленькая бледная рука высунулась из скалы. И тут он заметил полукруглую дыру — не больше двух футов в диаметре. Прижавшись к земле, он скользнул сквозь отверстие в сумрачную, тенистую мглу. Эмили потянула его вверх, показывая, что он может встать.
Он поднялся на колени, потом встал осторожно. Ее рука тащила его вперед, глубже в пещеру. Теперь, когда его глаза привыкли к темноте, он смог оглядеться вокруг. В пещере не было полной тьмы, лишь полумрак. Взглянув вверх, он заметил тонкую щель в каменном потолке.
— Здесь спокойно, Джон. — Слабый шепот Эмили был похож на шорох морской раковины. — Никто не знает про это местечко. Никто, кроме меня и Энджел. Это тот самый секрет.
XVI
Он стоял с ней рядом, будто она, как и пещера, несла в себе безопасность. Тело его дрожало, но болезненное царапанье в груди уменьшалось. Крики раздавались вокруг. Он слышал треск от пробирающихся сквозь заросли тел так ясно, словно их не каменная стена разделяла, а тончайший листик бумаги.
— Не бойтесь, — сказала Эмили. — Они нас не услышат. Мы с Энджел проверяли. Тут какой-то фокус в этой пещере. Внутри можно кричать, а снаружи не слышно ни звука. Так что все в порядке. Слышите, они уже уходят… Когда я уехала от вас, — продолжала она, — я пришла сюда, чтобы побыть одной. И я услышала крики и как люди бегут, и поняла, что это значит. И нашла вас.
Напряжение ослабевало, и нарастала усталость. Он чувствовал, что у него подгибаются ноги. Эмили тронула его за руку:
— Вам нужно лечь. Сюда… Мы называем это кроватями, но тут просто одеяла, а под ними сосновые иголки.
Он вытянулся, утонув в мягком объятии сосновых игл. Да, преследователи уходили вправо — спускались по оврагу.
— У нас есть тут мебель, — говорила Эмили. — Ящики из-под апельсинов, свечи и все прочее. Это наш дом. Мы приходим сюда почти каждую ночь. Мама ничего не знает. Вылезаем через окно и возвращаемся к рассвету. А Луиза живет здесь все время.
Эмили скользнула в сторону. Затем чиркнула спичкой. Он обернулся и увидел, что она стоит с горящей свечкой, вставленной в бутылку из-под кока-колы, и с большой старой куклой в соломенной шляпке.
— Это Луиза. Она…
— Погаси свечу, Эмили. Они могут вернуться.
Она постояла, серьезно глядя на него, потом задула свечу.
— Ну вот. Это Луиза. Она королева всех кукол Энджел. Я-то считаю, что куклы — чепуха, но делаю вид. Понимаете, это Энджел нашла пещеру. — Она подошла и присела на корточки рядом с ним. — Так что, наверное, это пещера Луизы.
Весь этот мир детской пещеры казался ему таким же нереальным, как его паническое бегство через лес. Потрясение, пережитое им там, в коровнике, жгло, как свежая рана. У него не было сил строить какие-либо планы. На какое-то время он в безопасности — казалось, только это и имеет значение. Но теперь он попытался задуматься о будущем. Итак, он бежал, а бежав, как бы признал свою вину. Они истолкуют его побег именно так, — потому что им хочется так истолковать. Того, что там, в коровнике, достаточно, чтобы погубить его. А теперь еще и это — он бежал. Что же ему делать? Попытаться добраться до Вики и спрятаться у них до приезда полиции? А потом отдаться в их руки?
Массивное, непреклонное лицо капитана Грина, казалось, незаметно наблюдает за ним из полумрака.
Возможно, ему надо так поступить. И не единственный ли это выход из положения? Но не теперь, когда этот сброд еще в лесу и может вернуться в любую минуту.
— Джон! — донесся до него голос Эмили.
— Да, Эмили?
— Что они хотели с вами сделать?
— Не знаю.
— И вы убежали?
— Да.
— Я их ненавижу, — воскликнула Эмили. — Ненавижу!
Придется все ей рассказать. Между ними не должно быть неясностей — ей следует знать все, прежде чем она решит, на чьей она стороне.
— Они обнаружили на джинсах цементные пятна, а кто-то, назвавшись моим именем, звонил в магазин стройматериалов в Питсфилде и заказывал цемент. И велел сгрузить его у поворота ручья, за домом. Будто бы для
плотины. Я был у поворота и увидел следы тачки и цемента. Они вели к коровнику. И в коровнике…
Как говорить об этом ребенку? Внезапно снова вспомнилось, как он вбегает в коровник… Он замолчал.
Эмили спросила:
— И цемент был в коровнике?
— Кто-то сделал из него пол в одном из стойл — новый цементный пол.
— Значит, она там, — как нечто само собой разумеющееся заключила Эмили. — Миссис Гамильтон там. Она мертва и спрятана под цементным полом.
— Думаю, что так, Эмили.
— А кто это сделал?
— Не знаю.
— Но ведь кто-то это сделал, правда? Кто-то похоронил ее там и хотел, чтобы подумали на вас.
— Да.
Он рассказал ей, но легче не стало. Только яснее показало ему то положение, в котором он оказался. Цемент на
его джинсах.
Его голос заказывает мешки по телефону. Линда лежит в
его коровнике под слоем цемента. Чудовищная иллюзия, сфабрикованная врагом. Но кто поверит этому? Капитан Грин? Прокурор? Судья? Присяжные? Присяжные — двенадцать румяных голубоглазых мужчин и женщин, сидящих в суде, смотрящих на него так же, как вся деревня смотрела на собрании, как те мужчины на лугу…
— Джон, вы же не виноваты?
— Нет.
— Но кто-то это сделал.
— Да.
— Мне выйти? Посмотреть, не ушли ли они?
— Не надо пока. Подожди немного.
— Джон, если вы хотите остаться здесь — Энджел может прийти в любой момент.
Он почти не слушал, отвечая ей механически, занятый своими мыслями. Но тут насторожился:
— Энджел?
— Да. Она должна прийти. Так она сказала. У нас пикник с Луизой. И я боюсь…
Энджел — лягающаяся и вырывающаяся из его рук: «Вы не узнаете наш секрет! Вы били свою жену!»
— Понимаете, тут все дело в секрете, — продолжала Эмили. — Она будет беситься, что вы здесь. И потом еще другое. Она говорит про вас, как мама и как все остальные. Она говорит, что вы это сделали, и…
В этот момент где-то высоко над ними раздался слабый таинственный крик совы. Эмили стиснула его руку. Крик повторился. Где-то он раньше слышал его. Конечно, сова кричала за яблонями по ночам.
— Это Энджел, — губы Эмили были прижаты к его уху. — Наш сигнал. Она сейчас у окна. Она спускается. Мы всегда так делаем. Кричим по-совиному и спускаемся сюда.
Джон вскочил на ноги. Эмили тоже.
— Куда вы пойдете?
— В лес.
— Но они все еще там. Вам нельзя. И она все равно заметит, как вы уходите. Она…
Он двинулся к лазу в скале. Эмили побежала за ним и потянула его за рукав:
— Нет, Джон. Нет. Останьтесь. Я придумала. Все будет хорошо. Мы все устроим. Все устроится с Энджел.
Он остановился в нерешительности, колеблясь между страхом и настойчивым дерганьем за рукав.
— Луиза, — воскликнула Эмили. — Поговорите с Луизой. Скажите Энджел, что Луиза вас пригласила.
— Но она не поверит…
— Ей придется сделать вид из-за Луизы. И скажите, что я пришла позже и не поверила вам и говорю, что Луиза просто дурацкая кукла, которая никого не может пригласить.
Эмили убежала в тень, в дальний конец пещеры, зажгла свечу и поставила рядом с куклой, восседавшей на ящике из-под апельсинов. Джон сел перед ней на корточки, не отрывая глаз от входа в пещеру. Заметил, как что-то сунули в лаз. Бумажный мешок? Потом появилась маленькая темная голова и толстенькое тело. Энджел поднялась на ноги и стала старательно стряхивать пыль со своих джинсов. Увидела Джона, и круглые черные глаза засветились.
— Хелло, Энджел, — сказал Джон. — Я проходил мимо, и Луиза пригласила меня войти. Надеюсь, ты не против? Эмили вне себя. Она говорит…
— Конечно, Луиза не приглашала его, — Эмили выбежала из темноты навстречу Энджел. — Я увидела, что он здесь и делает вид, будто Луиза может кого-нибудь пригласить. Она же просто дурацкая старая кукла.
Энджел, прижав к себе бумажный мешок, смотрела то на Джона, то на Эмили. Потом зажмурилась:
— В лесу много народу. Я слышала. Все эти люди — они ищут Джона.
— Какое нам до этого дело, — закричала Эмили. — Главное — секрет! А он говорит, что Луиза…
— Он плохой, — строго сказала Энджел. — Он плохо обращался с миссис Гамильтон. Вот почему они его ищут.
— Но это неправда, Энджел, — ответил Джон. — Все это просто ошибка. Если ты не веришь мне, спроси Луизу.
— Не знает она ничего, — язвительно вставила Эмили. — Что может знать старая глупая кукла?
Энджел наклонилась и бережно поставила на пол бумажный мешок. Потом она повернулась к ним спиной и почтительно склонилась перед куклой:
— Доброе утро, Луиза. Хорошо ли вы провели ночь? Правда ведь, Эмили гадкая дурочка? — После маленькой паузы она торжествующе обернулась к Эмили с раскрасневшимся от злорадства лицом. — Она говорит, что так и есть. — И снова обратилась к кукле: — Вы правда пригласили сюда Джона, Луиза? Вы пригласили его, раз эти люди ищут его, и они ошибаются, потому что миссис Гамильтон гадкая подлиза. Она говорила: «Дорогая Энджел, это наша тайна, не правда ли, и я подарю тебе такой же», и говорила… — Замолчала и после паузы снова обернулась к Эмили и высунула язык. — Балда ты. Ничего-то ты не знаешь. Луиза пригласила его. И Луиза говорит…
Вдруг Джон услышал, как там, снаружи, кто-то закричал. Он оцепенел. Почти тут же откликнулся второй голос. Казалось, это происходит совсем рядом, лишь в нескольких дюймах от них, и отзывается в пещере мрачным эхом, трепеща над их головами, как невидимая летучая мышь.
Эмили посмотрела на Джона. Глаза ее блеснули. Она подбежала к отверстию в стене:
— Я позову мужчин. Я скажу им, что Джон здесь…
— Нет! — Энджел бросилась на сестру, схватила ее за косу, била ее кулаками. — Нет! Луиза не велит. Луиза не разрешает.
Тот же голос снаружи крикнул:
— Тут — никого, Фред. Может, он вернулся на дорогу?
Джон стоял, вонзив ногти в ладони. Он слышал каждый шаг, хруст сухих веточек под ногами, медленное, хриплое дыхание.
Притворно хныкая, Эмили опустилась на пол. Энджел уселась на нее верхом.
— Значит… значит, Джон останется здесь? — спросила Эмили.
— Да, да, да!
— Насовсем? На столько, на сколько захочет?
— Да!
— И мы будем помогать ему? Будем делать все, что ему нужно, потому что так хочет Луиза?
— Да! — заявила Энджел.
Снаружи хрустнула сухая ветка. Джон затаил дыхание, прислушиваясь к тому, как шуршат ветки тсуги, через которую кто-то продирается. Энджел обернулась к нему с ослепительной улыбкой.
— Здесь можно кричать, — пояснила она. — Можете орать сколько хотите, а снаружи ничего не слышно.
Она раскрыла рот в форме буквы «О» и издала пронзительный вопль, который заметался по пещере, отражаясь от стен. Джон попытался глотнуть и не смог. Энджел закрыла рот, и постепенно шум смолк. Снаружи, чуть поодаль, мужской голос позвал:
— Ладно, Фред. Вернемся на дорогу.
Джон почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Он схватился за стену, чтобы удержаться. Перед ним, будто статуя святого в нише, восседала Луиза, освещенная свечой. Ее голова в тяжелой шляпке слегка склонилась вперед.
Энджел присела на пол около бумажного мешка.
— Ну а теперь у нас будет пикник, — объявила она. — И Луиза велит, чтобы Джону дали половину твоей порции, Эмили.
XVII
Она достала еду из мешка — коробку инжира, две бутылки кока-колы, сандвичи, шоколадный батончик. Старательно разложила все это на полу перед Луизой в три кучки: одну побольше — для себя, и две поменьше — для Джона и Эмили.
— Луиза велит, чтобы Джону отдали вторую бутылку кока-колы. А Эмили ничего не будет пить.
Мужчины ушли. Невероятно, но он был спасен. Сознание, освобожденное от напряжения, работало исключительно четко. Это случилось. Воспользуйся этим!
Эмили возилась в темноте, за кружком света от свечи. Он сел на песчаный пол рядом с Энджел и стал есть.
«Миссис Гамильтон гадкая подлиза, она говорит: Энджел, это наша тайна…»
Энджел сказала это. Возможно, ничего это и не означает, но она это сказала. Может быть… Но главное сейчас не это. Мужчины подумали, что он вернулся из лесу на дорогу. Вот что важно сейчас. Пусть они так думают. Это поможет ему выиграть время.
Он сказал лукаво:
— Как любезно со стороны Луизы разрешить мне остаться здесь.
Энджел принялась за шоколадный батончик:
— Вы нравитесь Луизе. И мне вы тоже нравитесь. Меня только бесит, что Эмили во все вмешивается.
— Значит, Луиза хочет мне помочь? И она не против того, чтобы Эмили сделала для меня кое-что?
Энджел доела батончик и вытирала губы салфеткой.
— Луиза велит, чтобы Эмили отправилась помогать вам, прежде чем съест свой завтрак.
— Но, Энджел… — начала Эмили.
Джон стремительно обернулся к ней:
— Вы приехали сюда на велосипедах, верно? Где они?
— Спрятаны в кустах.
— Можешь ли ты сделать для меня кое-что?
— Если меня заставят… — притворно захныкала Эмили. Ему показалось, что она переигрывает, но Энджел этого не заметила. Она объявила самодовольно:
— Тебя заставят.
Джон объяснил:
— Знаешь ту грунтовую дорогу, что ведет вниз от дома Фишеров? Поезжай туда на велосипеде, а оттуда спустись на шоссе и оставь велосипед там. Постарайся, чтобы тебя никто не заметил. Потом вернись сюда. А когда ты будешь в деревне, расскажи им, что ехала по той дороге на велосипеде, а я подбежал и попросил одолжить велосипед. Они найдут его у шоссе и подумают, что я сел в попутную машину.
Энджел внимательно смотрела на него:
— Значит, вы хотите сделать вид, что уехали, а сами будете тут?
Джон все еще смотрел на Эмили:
— Думаешь, тебе это удастся?
Она улыбнулась радостно:
— Конечно. Я сейчас же еду.
Она подбежала к лазу, нырнула в него и скрылась из виду.
Должно получиться, подумал Джон. Если он кому и мог доверять — так это Эмили. И он на некоторое время окажется в безопасности. Впервые у него появилась надежда. Он не рассчитывал на это. Все произошло само собой. Но раз уж так вышло — не меньшее ли это из двух зол? Он точно знал, что было бы, отдайся он сам в руки властей. Даже если бы Вики удалось его защитить до появления полиции, его бы арестовали и все улики были бы беспощадно против него. План, придуманный его врагом, сработал бы точно, как было задумано. Но теперь, при том, что он здесь, на месте и на свободе, не сможет ли сразиться с врагом? Кто-то из здешних жителей все это подстроил. Кто-то… Стив Риттер?
Голос Энджел донесся до него:
— Эмили — рабыня, правда? Большая, жирная, глупая рабыня, которую топчут ногами. — Джон посмотрел на нее. Она захихикала. — Я все время говорю, что вы плохо обращались с миссис Гамильтон. Я твержу это снова и снова. Ее это бесит. Вот почему я это твержу. Просто, чтобы ее позлить.
Обуздав надежду, которая, он понимал, была слишком хрупкой, он спросил:
— Но ты сказала, что Линда тоже плохая?
Энджел стряхнула с пальцев крошки, посмотрела на сандвич и принялась развертывать салфетку.
— Миссис Гамильтон — плохая. Она плохая и гадкая.
— Гадкая? Почему она гадкая?
— Она прячется, — ответила Энджел. — Прячется в доме Фишеров, когда они уехали. А это дурно. Когда люди уезжают, нельзя прятаться у них в доме. Это дурно.
При свете свечи было видно, что ее круглое пухленькое лицо полно неодобрения.
— Ты видела, как она пряталась в доме Фишеров?
— Она там была и кто-то с ней еще. Я шла по дороге, и машина отъехала, а потом она вышла из дома и заметила меня. И она подумала, что я ее не вижу, и хотела снова спрятаться в доме, и я поняла, что это дурно, и подошла к ней и громко сказала: «Хелло, миссис Гамильтон!» И она уже не стала прятаться в доме, а вышла ко мне и начала улыбаться, улыбаться. О, она такая гадкая подлиза!
Энджел отправила остаток сандвича в рот и поднесла к губам бутылку кока-колы. Джон смотрел на нее с бьющимся сердцем. Линда была с кем-то в пустом доме Фишеров. Можно верить этому?
— Когда это было, Энджел?
Она поглядела на него своими темными глазами:
— Две недели и два дня тому назад. Я считаю. Каждый день я говорила себе: сегодня она подарит мне это. Но она так и не подарила. Две недели и два дня тому назад.
— Что подарит?
— Золотой браслет с надписью «Энджел», каждая буковка качается на маленькой золотой цепочке.
Э, и
Н, и
Д, и
Ж, и
Е, и
Л.
— Но почему она должна была подарить тебе браслет?
— Потому что у нее был такой. Она стояла там и все улыбалась. А я сказала: «Это дурно ходить в чужой дом, когда хозяев нету». А она ответила: «Видишь ли, они просили меня присматривать за домом, пока их нет». Но я знаю, она просто так сказала, а это неправда. А она смотрела и все улыбалась и улыбалась, чтобы я подумала, какая она хорошая. И тут я увидела браслет и сказала: «Какой славненький браслетик», и она позволила мне взглянуть на него. Он был золотой, и на нем висели такие маленькие штучки, и на каждой штучке было
Л и
И и все остальное, чтобы получилось «Линда». А она поцеловала меня и спросила: «Тебе нравится?» И я ответила: «Да». И она сказала: «Мы с тобой друзья, правда?» И я ответила: «Не знаю». А она говорит: «Конечно, мы друзья, и если ты не расскажешь Джону и никому другому, что ты видела, как я присматриваю за домом Фишеров, я подарю тебе такой же браслет, на котором будет твое имя». И я сказала: «Спасибо, миссис Гамильтон». И она ушла. Но она не подарила мне браслета. Я каждый день ждала, а она не подарила — и прошло две недели и два дня. А я не хочу больше ее вонючего браслета — и я теперь знаю, что она там делала в доме Фишеров. Она воровала. Она воровала еще вместе с кем-то, и тот, другой, были не вы, потому что она тогда бы не просила: «Не рассказывай Джону». Так что все это на самом деле гадко, и вы, наверное, об этом узнали и побили ее.
«Верить этому?» — подумал он. Линда, вызванная из прошлого, не была для него реальной личностью — женой, которая к тому же неверна ему. Все это давно уже кончилось. Но браслет существовал. Несомненно. Это тот самый браслет, который она надела, когда вышла, чтобы принять Стива Риттера, и спрятала в карман, как только увидела, что Джон в комнате. Значит, если Энджел говорит правду, браслет и тот мужчина связаны между собой. Линда надевала браслет во время своих встреч с ним в доме Фишеров — это был его подарок.
Стив Риттер, подумал он. Значит, это все-таки правда насчет Стива Риттера? Стив тайком встречался с ней — иногда у них в доме, а когда это бывало опасно, в доме Фишеров, который так удобно расположен поблизости и так кстати пуст.
Самодовольный донжуан, добавивший и Линду к числу своих побед и слишком поздно обнаруживший, что он ухватил за хвост тигра.
Призрачный враг принял наконец реальные очертания. Теперь он мог все это осознать. Человек, доведенный до того, что решился на убийство, отчаянно пытался свалить вину на другого, подставить под удар Джона. Наконец-то появилось что-то вещественное, с чем можно и повоевать.
— А ты не видела, кто был в той машине, Энджел?
— Нет. Но он тоже плохой, правда? Оба они плохие. Из-за этого она и сбежала, да? Из-за того, что она воровала в доме Фишеров и знала, что ее поймают. Вот она и сбежала, а теперь все говорят, что вы сделали с ней что-то нехорошее. Но они все дураки. — Она сняла Луизу с ящика из-под апельсинов и стала нежно убаюкивать ее на руках. — Ведь правда, Луиза? Луиза говорит, что миссис Гамильтон плохая!
Джон думал о браслете. Если не считать того единственного раза, когда браслет был у Линды на руке, Джон ни разу его не видел. Где она хранила его? Во всяком случае, не у себя в доме. Он был уверен в этом не только потому, что ее шкатулка с немногими драгоценностями всегда стояла открытой на туалетном столике, но еще и потому, что, хорошо зная Линду, понимал: она инстинктивно постарается спрятать подарок своего любовника. Она должна была прятать его, так же, как она прятала бутылки с джином и открытку от Билла МакАллистера. Кроме того, если есть один подарок, могли быть и другие. А может быть, еще и письма? Если были письма, если был тайник…
Энджел укачивала на руках Луизу, напевая монотонную колыбельную.
Разве это не было в Линдином духе? Если Стив был ее любовником, разве она не постаралась бы устроить так, чтобы он оказался в ее власти? Несомненно, это должно быть именно так, потому он и убил ее. Он должен был убить ее, если она потребовала от него чего-то невозможного. А как она могла предъявлять такие требования, не обладая каким-то очень уж сильным оружием? Письма! Но, может быть, надежда заводит его в область фантазии? Конечно, даже если письма были, Стив мог уничтожить их после убийства. Но более вероятно, что она была достаточно хитра, чтобы спрятать их понадежнее.
Секретный тайник? Тайник, который, если только добраться до него, сможет помочь ему разорвать сеть или, что еще лучше, поймать в ловушку того, кто ее расставил. Здесь, в пещере, он был, в сущности, пленником. Ему понадобится помощь, но…
Звук шагов, донесшийся из-за спины, заставил его обернуться. В отверстие в стене протиснулась сначала голова Эмили, а потом и ее плечи. Она влезла внутрь, подбежала к нему и объявила энергично:
— Я все сделала. Никто меня не видел. Я доехала на велосипеде до шоссе и бросила его так, что тут же заметят.
И он вдруг подумал: дети! А почему бы и нет? Не только Эмили и внушающая страх, склонная к крайностям Энджел, но все дети — его союзники.
Решение было принято мгновенно. Он обратился к Эмили, которая присела на корточки и с аппетитом жевала сандвич:
— Как ты думаешь, могла бы ты привести сюда остальных ребятишек?
Сказав это, он тут же понял свою ошибку и, посмотрев на Энджел, увидел написанное на ее лице бурное недовольство. Но прежде чем он сообразил, как выйти из положения, Эмили воскликнула в ужасе:
— Привести их сюда, в пещеру? Но Луиза ни за что, ни за что, ни за что не согласится!
— Ничего подобного! — Энджел прижала к себе Луизу. Потом она сверкнула глазами в сторону Эмили: — Луиза говорит — да! Луиза говорит, что Тимми может прийти в пещеру, и Лерой, и Бак. — Энджел подошла к ящику из-под апельсинов, бережно усадила Луизу и склонилась перед ней в поклоне. Потом повернулась к Джону: — Мы отправляемся обе. Я поеду на велосипеде, а Эмили потащится пешком.
Эмили встретилась с ним глазами и дала ему понять, что все будет в порядке.
— Я расскажу им, что вы одолжили у меня велосипед.
— Разузнайте все, что сумеете.
Энджел подняла с пола маленькую веточку и хлестнула Эмили по ногам:
— Вперед! Ты, рабыня, вылезай первой.
Эмили поспешила к отверстию в стене. Энджел перестала гоняться за ней и обратилась к Джону:
— Зачем нужно, чтобы мы привели сюда Тимми, Бака и Лероя? Будет какая-то игра?
— Да, — ответил Джон, — будет игра.
— Тогда я играю, — заявила Энджел. — Если это игра, я играю. Но я должна быть главной, вожаком, королевой игры! Так велит Луиза.
Она захихикала. Эмили уже выскользнула из пещеры. В диком скачущем танце Энджел кинулась за ней к лазу и исчезла следом за сестрой.
Джон постоял неподвижно, потом усталость одолела его. Он упал на кровать из сосновых игл. Придется ему остаться здесь. Что бы ни случилось, это единственный путь к спасению — остаться, довериться Эмили, заставить себя поверить, что с помощью детей…
И он заснул, прежде чем додумал мысль до конца.
XVIII
Он вздрогнул и проснулся. Свеча догорела. Дневной свет все еще просачивался сквозь трещину в скале где-то высоко над ним. Сколько он спал? Скоро ли придут дети?
Подумав о детях, он вновь ощутил беспокойство. Не опрометчиво ли поступил он?
Чтобы вернуть себе равновесие, стал думал о Линдином вероятном тайнике. Если ему удастся его обнаружить — еще можно будет все выяснить. И как будто ответ был найден во сне: что-то важное, секретное она ни за что не стала бы прятать в доме. А коровник, в который он никогда не заходил, в котором она хранила свои садовые инструменты, — другое дело. Старый холодильник — единственный предмет, стоящий там. В холодильнике? А почему бы и нет? Никто никогда им не пользовался. Стоит он у самой двери. Зачем ей заботиться, искать другое место…
Послать кого-нибудь из ребятишек поискать? У дома, конечно, расставлены полицейские. Но — ребенок! Когда станет темно…
Да, ему нужны ребятишки. Конечно, нужны. С их помощью может получиться.
Вскоре они появились. Он услышал шорох, когда они протискивались в лаз, и смутно различил их в темноте.
— Джон! — позвал его тихий, заговорщический голос Эмили.
— Свеча догорела, — отозвался он.
Она скользнула мимо него в глубь пещеры, и вскоре у него за спиной зажегся огонек. Держа свечу в руке, она прошла к другим ребятишкам, и он наконец разглядел их. Энджел сидела на полу около Луизиного ящика. Мальчики стояли рядом: толстый, краснолицый Бак, Тимми — гибкий, как ольховый прутик, Лерой — маленький, золотисто-коричневый, красивый, — совершенно разные, но с одинаково округлыми глазами и выражением благоговейного трепета на лицах.
— Мы им все рассказали, — пояснила Эмили. — И заставили дать клятву. Повторите ее снова, клянитесь перед Джоном!
Лерой сверкнул ослепительно-белыми зубами.
— Клянемся… — начал он, и другие мальчики присоединились.
Энджел усадила Луизу к себе на колени и хитро взглянула на Джона:
— Я заставила их вставить в клятву, что я — вожак шайки!
Мальчики неловко переминались с ноги на ногу. Лерой сказал:
— Замечательная пещера. Замечательный секрет!
Бак восхитился:
— Вот здорово! Они рыскали по всему лесу и не нашли вас.
— Папа был с ними, — выпалил Тимми Морленд и покраснел. — Папа бегал вместе со всеми по лесу, и он звонил маме и сказал, что вы удрали. Добрались до шоссе и сели в попутную машину.
Джону представился Гордон Морленд — такой аккуратный, цивилизованный, проницательный, гоняющий по лесу вместе с этим сбродом.
Энджел вскочила, прижав к груди Луизу:
— Они нашли миссис Гамильтон, — объявила она. — Выкопали ее из-под цемента. — И девочка принялась изо всех сил укачивать Луизу.
Другие дети смотрели на нее, пораженные тем, что она осмелилась выговорить то, что все они, несомненно, знали.
Энджел стала кружиться тихонько с Луизой на руках, а дети уставились на нее блестящими, круглыми от ужаса глазами.
— Они выкопали ее. Они выкопали ее. И она была страшная-страшная…
— И кровь… — вставил Бак неловко, не желая отстать. — Кровь везде. Все платье в крови. Кровь…
— Нет, — крикнула Энджел в приступе страха, — нет, нет! Не говорите таких гадких, гадких вещей! Не надо…
Она упала на пол, прижав к себе Луизу, и игра на этом закончилась. Это была игра, чтобы мурашки пошли по коже. Дети выглядели испуганными, и им было не по себе.
Джон, для которого, в отличие от детей, ужас был настоящим, спросил у Эмили:
— Ее действительно нашли?
— Да. Полиция приехала сразу вслед за ними, и они искали в погребе, а потом заглянули в коровник, обнаружили там новый пол и…
Она замолчала. Джон уже много часов знал, что Линда — мертва, знал это почти наверняка, и это должно было смягчить удар, но не смягчило. Она мертва. Она действительно умерла. Он попытался вспомнить ее живой, но ничего не получилось: кроме образа, созданного детьми, — страшные открытые глаза и кровь, все платье в крови…
Мальчики сгрудились вокруг него. Эмили глядела на него заботливыми материнскими глазами. И он очнулся, вспомнил о них и о том, что теперь необходимо сделать.
— Они увезли ее, Эмили?
— Не знаю.
— Да, — вмешался Тимми. — Папа сказал, что они увезли ее. Они забрали ее в специальной машине.
— Но полиция осталась в доме?
— Ну, я не знаю. Я…
Джон почувствовал, как кто-то легонько дергает его за рукав. Оглянулся: Лерой.
— Мистер Гамильтон, можно я туда схожу? Можно я подойду к дому и погляжу — есть там полицейские или нет? — Он застенчиво опустил глаза. — А потом я вернусь, расскажу вам, и вы будете знать.
— Нет, я! — возбужденно перебил его Тимми. — Можно я пойду? Джон, можно я пойду?
Для них это была просто игра — вроде тех, что он придумывал в лесу. «Представь, что ты зверь. И вдруг видишь — идет человек. Ты задрожишь и крикнешь: «Враг!» Ну что ж, пусть это игра. Руководи ею, как ты привык руководить их играми. И он посмотрел прямо в лицо возбужденному, страстному Тимми:
— Нет, Тимми, Лерой первый это придумал. Он и должен идти.
— Но я хочу. Я хочу что-то делать. Я хочу…
— Обязательно, Тимми. Но это идея Лероя.
— Значит, мне можно пойти? — ослепительно улыбнулся Лерой. — Я подкрадусь туда? Прямо сейчас?
— Конечно, Лерой. Но будь осторожен. Смотри, чтобы тебя не заметили.
Лерой двинулся к отверстию в стене. Но прежде чем он достиг его, Энджел крикнула:
— Что это вы делаете? Вы не имеете права делать что-нибудь, не спросив меня. Ведь я — вожак!
Лерой заколебался, глядя на Джона. Ну что ж, играй так, как они хотят. И Джон почтительно обратился к Энджел:
— Энджел, как ты считаешь, можно послать Лероя к дому?
Энджел посмотрела на него с детским злорадством. Затем кивнула и вымолвила:
— Порядок. Пусть Лерой отправится к дому.
Лерой опустился на пол и выскользнул из пещеры. Тимми и Бак закричали:
— А мне что делать? А мне?
Прежде всего он должен был внушить им, что главное в этой игре — хранить тайну.
— Который час? — спросил он.
— Половина пятого, — ответила Эмили.
— Когда вы должны ужинать?
— Мама говорит, что я должен приходить в полшестого, — ответил Тимми, — чтобы умыться и все такое, и еще полежать перед ужином, потому что я нервный.
Эмили сказала:
— Мы с Энджел должны быть дома в шесть. Мама возвращается с почты, и к этому времени ужин должен быть готов.
Джон спросил:
— Вы все понимаете, как важно сохранить все это в тайне?
— Конечно, — отозвалась Эмили. — Мы все это понимаем.
— Это самое важное. И если лучше всего сохранить тайну, ничего не делая, — значит, вы не должны ничего делать.
Джон переводил глаза с одного серьезного, поблескивающего при свете свечи детского лица на другое. После сообщения Лероя один из них должен будет пойти в коровник, который теперь для них окутан страхом. Может ли он ожидать, чтобы ребенок отправился туда, да еще в темноте? Но разве они не показали, что для них все эти ужасы существуют как бы понарошку?
— Кто из вас может удрать из дома после ужина, не вызывая подозрения?
— Я могу, — ответил Бак. — Никто никогда не беспокоится, где я. Мама сидит за стойкой, а папа, как сегодня, занят своим делом и все такое…
— Мы можем прийти, — сказала Эмили. — Мама возвращается на почту между семью и восемью, и считается, что я должна уложить Энджел спать в восемь часов, а потом я просто сижу и жду маму. А после десяти мы с Энджел почти каждую ночь удираем сюда и спим тут, а мама ничего не знает.
— Наверно, все-таки я не смогу, — сказал Тимми. — Раз вы говорите, что нельзя вызывать подозрения. Когда мы дома и никуда не идем в гости, мы с папой после ужина всегда слушаем пластинки, а когда я ложусь, мама читает мне книжки. Так что пусть они заводят проигрыватель и читают книжки, а я буду все время помнить, что храню тайну…
Позади них раздался шорох. Все обернулись и увидели, что в пещеру влезает Лерой. Он подбежал к ним, сияя от гордости. Его грудь под полосатой тенниской порывисто вздымалась и опускалась.
— Я прокрался туда, и никто меня не видел. Там есть полицейский с машиной — перед домом, и он в ней сидит, а потом выходит и обходит вокруг дома. Но он там один.
Значит, они скушали-таки эту историю с велосипедом. Они не думают, что он может быть где-то поблизости. Так что оставили для порядка лишь одного постового. Ну что ж, тем легче будет сделать то, что он задумал.
— Спасибо, Лерой. Ты молодец!
Кого же из них послать? Тимми, с его нервами, которые надо успокаивать перед едой, естественно, отпадает. Бака? Но Бак — сын Стива Риттера… Остается Эмили, хотя это означает, что придется отложить все до десяти часов.
Все дети, кроме Энджел, столпились вокруг и смотрели на него. Джон сказал:
— О’кей, вы все отправитесь сейчас по домам ужинать и не будете ничего делать до завтра. Вот только мне надо хоть что-то поесть, — он взглянул на Бака. — Ты сможешь что-нибудь стянуть из кафе?
Бак расплылся в довольной улыбке:
— Конечно, конечно. Я могу принести что угодно. Мне разрешают есть все, что захочу…
— Прекрасно, Бак. — И, обратившись к Эмили, Джон спросил: — А ты сумеешь выполнить одно очень важное поручение?
— О, конечно, конечно!
— Вернись сюда после того, как твоя мама ляжет спать. Принеси с собой фонарик… Может быть, ты побоишься. Надо пойти в коровник.
— В коровник! — лицо Эмили исказилось. — В коровник, где…
— Да. Я думаю, что там может кое-что быть. Я хотел бы, чтобы ты там это поискала.
Бак вмешался:
— Давайте я пойду. Ведь она девчонка. Позвольте мне.
— Нет, Бак. У меня есть свои причины. Я хотел бы, чтобы пошла Эмили. Ты пойдешь, Эмили?
И тут к ним подбежала Энджел. Она бросила Луизу. Лицо ее покраснело от ярости.
— Я пойду! Я не разрешаю идти старухе Эмили. Пойду я. Я пойду в коровник! Я — главарь шайки!
Она встала перед ним, расставив ноги, дерзко сверкая глазами. Энджел! Надо все время помнить об Энджел с ее неумолимой яростью — это угроза. Глядя на нее, он вдруг почувствовал, как ускользает обретенная было уверенность в себе, и то, что он собирался сделать, показалось весьма далеким от выполнения.
Дети глядели на Энджел. И вдруг Эмили захныкала:
— О, пожалуйста, Джон. Пусть пойдет Энджел. Пусть она пойдет. Я боюсь. Там в коровнике будет так страшно и темно, и там кругом кровь, на полу и везде, и там летучие мыши, и призрак миссис Гамильтон…
Энджел все еще стояла перед Джоном. Ее нижняя губа стала оттопыриваться.
— Призрак… — продолжала Эмили. — Пусть Энджел пойдет к призраку. Пусть белый, страшный, притаившийся призрак…
Энджел начала вопить. Она подпрыгивала и топала толстыми ножками по полу:
— Нет, нет, нет! Не пойду в старый гадкий коровник, — вопила она. — Не хочу, не хочу! Пусть идет Эмили. Пусть Эмили идет к призраку, — она кинулась к своей постели, упала на нее, продолжая неистово орать: — Эмили должна пойти!
На секунду Эмили встретилась глазами с Джоном и подмигнула ему. Подмигнула открыто, по-взрослому. Джон улыбнулся ей в ответ:
— Ну, хорошо. Значит, в коровник пойдет Эмили. Решено. Тимми, Лерой, Бак, вам придется сделать кое-что очень важное, но не сегодня. Приходите сюда завтра утром, пораньше. А сейчас — все по домам!
— Повторите клятву, — перебила его Эмили. — Все повторите клятву.
И мальчишеские голоса зазвучали в унисон, отражаясь от стен пещеры:
— Клянемся, и пусть нам перережут горло и мы сдохнем…
Пока они клялись нараспев, Джон подошел к Энджел и осторожно присел на пол около нее:
— Энджел, дорогая, ты можешь сделать мне большое одолжение? Когда Эмили не будет, мы с тобой побудем вдвоем. Ты составишь мне компанию.
Лучше уж так. Оставить ее дома без Эмили — значит нарываться на неприятность. Она заворочалась на постели и глянула на него искоса:
— Вы и я вдвоем?
— Ну да.
— Без этой старухи Эмили? Эмили пусть идет в коровник. И ее там сожрет призрак.
— Все возможно.
— Хорошо, я приду. И мы побудем здесь с Луизой. Ведь это меня вы любите, правда ведь?
— Конечно.
Эмили подошла к ним. Когда она приблизилась, Энджел со злобным возбуждением взглянула в ее сторону.
— Я люблю Джона, — заявила она. — Я люблю Джона, и он любит меня. И он ненавидит Эмили. Скажите это, Джон. Скажите, что вы ненавидите Эмили!
Через ее маленькую темноволосую голову он посмотрел на Эмили и поразился. Губы ее ревниво сжались.
— Джон не ненавидит меня, — сказала она.
— Нет, ненавидит, — возразила Энджел. — Скажите это, Джон. Скажите!
— Я ненавижу Эмили, — произнес он.
Попытался встретиться с Эмили глазами, но, как только эти слова прозвучали, она резко отвернулась.
Мальчики опустились на пол и один за другим выскользнули из пещеры. Не может же Эмили поверить, что это правда, подумал он с беспокойством. Она так ловко сама управлялась с Энджел, казалось невероятным, что она еще настолько ребенок, чтобы не понять столь очевидную уловку.
— Эмили… — начал он.
Но и она опустилась на пол и выползла из пещеры.
Энджел вприпрыжку подбежала к лазу и, прежде чем вылезти, помахала ему своей толстенькой ручкой:
— До свидания, Джон. До свидания, милый, дорогой Джон.
И она тоже исчезла за каменной стеной.
XIX
Была уже половина седьмого, когда Бак принес еду. Вскоре после того, как дети ушли, Джон почувствовал, что пещера невыносимо давит его. Он выскользнул наружу и, раздвинув кусты тсуги, осторожно исследовал окружающую территорию. Прохладный вечерний воздух, низкий солнечный свет, пробивающийся сквозь деревья, освещающий скалы и папоротники, подбадривали его. Он лег на землю рядом со стеною кустарника. Одинокий дрозд пел где-то высоко над ним в ветвях бука.
Внезапно он услышал тревожный крик бурундука, и сухая веточка треснула под чьей-то ногой. Он нырнул в заросли, выглянул и увидел бегущего к нему Бака, нагруженного пакетами и картонками.
— Привет, Джон. Привет!
— Тише, Бак. Они могут услышать там, у дома.
— Верно. Простите. — Бак понизил голос до конспиративного шепота. — Я спросил, можно мы с Лероем устроим пикник, Лерой и я? И сказал, что родители Лероя разрешили, а мама говорит: ладно, возьми чего хочешь.
Он уселся на игольнике рядом с Джоном и начал раскрывать пакеты.
— Я принес мороженое — земляничное и фисташковое, и кофе для вас, и молоко, и пару шоколадных батончиков, и мы можем поужинать вместе. У нас будет пикник…
— Конечно, — ответил Джон.
— Про это написано в газете, — Бак начал картонной ложкой черпать из коробочки земляничное мороженое, — Прямо на первой странице «Игл». Вам бы на это поглядеть. «Женщина из Стоунвиля найдена мертвой в коровнике. Муж-художник сбежал». И ваши приметы, и все такое, и еще передают по всем каналам: «Каждый, кто подвезет мужчину с такими-то приметами…» И еще это — насчет общего собрания и насчет отеля, который хотят строить на берегу озера, и только маленький кусочек про то, как старый мистер Кэри хотел, чтобы голосовали против, а они все-таки проголосовали за. А все остальное про вас. «Неожиданное появление Джона Гамильтона на общем собрании». Здорово! Папа просто с ума сходит! Вы бы на него поглядели! Они все прямо сбесились в Стоунвиле — бегают, болтают, — какой-то сумасшедший дом!
Он взглянул на Джона из-за полной ложки мороженого, и его добродушное широкое лицо расплылось в улыбке:
— Если бы они знали, что вы тут! Ух, что было бы!
— А полицейский все еще около дома?
— Папа говорит, что они обязаны держать его там. Такой закон. Понимаете, они считают, что вы куда-то уехали. «Каждый, кто подвезет мужчину с такими-то приметами…» — Он бросил пустую коробку из-под мороженого и наклонился к Джону. — Джон, если нужно найти что-то в коровнике, я схожу. Я легко прокрадусь туда, а если меня даже заметят, я ведь знаю всех этих полицейских. Я могу запросто подойти к любому и сказать: «Привет, Билл, как делишки? Ты не против, чтобы парень обследовал этот дом ужасов?» Ну, это же верное дело!
Слушая, Джон спрашивал себя: а почему бы и нет? Хотя, конечно, понимал, что особенно заманчивым предложение Бака казалось из-за собственного нетерпения и нервного напряжения. Но, может быть, все-таки в этом есть смысл? Бак как сын Стива в привилегированном положении. И верно, он может пройти туда под самым носом у полицейского… И почему он должен церемониться со Стивом Риттером! И хотя он предназначил это задание для Эмили, ей же будет легче, если не придется идти одной в этот страшный поиск, да еще в темноте.
И он спросил:
— Ты знаешь, где коровник — позади мастерской, внизу?
— Конечно, знаю. Значит, можно?
— Если ты уверен, что можешь все проделать незаметно.
— Коровник! О нем было в газетах. «Женщина из Стоунвиля найдена мертвой в коровнике».
— Послушай, Бак. Мне нужно вот что. Около двери есть старый холодильник…
Он объяснил мальчугану, что нужно искать. Скорее всего, какую-нибудь коробку, а если не коробку, то сверток — словом, все, что там могло быть спрятано. Но он объяснил ему про браслет — золотой браслет с брелочками, на которых выбиты инициалы: Линда.
— Возможно, это спрятано и не в холодильнике, Бак. Но мне кажется, что все-таки там. Сначала посмотри в холодильнике, а если не найдешь, и у тебя будет время — обыщи все кругом. Ну что, думаешь, тебе удастся?
— Конечно, — Бак вскочил на ноги. — Не беспокойтесь. Считайте, что дело сделано. Я с полицейскими накоротке. Я с ними запросто. До скорого, босс!
Сначала, после того как он ушел, к Джону вернулось хорошее настроение. Бак найдет то, что там спрятано. Но, сидя около зарослей тсуги, слушая, как поет дрозд и журчит ручей, он почувствовал, как его стало одолевать беспокойство. Ну, не дурень ли он — поверить сыну Стива Риттера! И что он, в сущности, знает о Баке? А если тот уже все рассказал отцу, и это всего лишь еще одна западня?..
И он вспомнил, как за ним гнались через лес. Появилось непреодолимое желание убежать, бросить эту бессмысленную, рискованную затею — скрыться в пещере. Ему нужно связаться с Вики. Это самое разумное, что следует сделать. И почему он до сих пор…
И когда мучительная нерешительность достигла предела, появился Бак, беспечно шествующий между деревьями. Невероятно, но он широко улыбался своей обычной простоватой улыбкой и, так же невероятно, — нес под мышкой плоскую коробку из красной кожи.
Мальчик подошел и протянул Джону коробку с небрежностью комического героя.
— Это то, что вам нужно? Было в холодильнике. Я сначала не заметил. Всюду смотрел и ничего не заметил, кроме бутылки джина. Потом увидел сверху какую-то металлическую полоску, а за нею щель. Я сунул туда руку и нащупал это. Браслет здесь, будьте покойны, браслет и еще куча всяких штучек. Ну, было совсем нетрудно. Полицейский сидел в машине. Это был Джордж, мой приятель, старина Джорджи-Порджи. Он ужинал и меня даже не заметил. Я прошмыгнул сзади и прямехонько в коровник. И эта штука была в холодильнике, как вы и сказали. — Он провел рукой по своим колючим, стриженным ежиком волосам. — Раз-два — и готово. Да, сэр!
Джон взял коробку в руки. От нетерпения пальцы плохо слушались. Щелкнул золотой застежкой и приподнял крышку. Первое, что он увидел, — браслет. Точно такой, каким его описала Энджел — широкая золотая лента и пять маленьких золотых пластинок, свисающих с нее. Некоторые были повернуты лицевой стороной вверх. Видны буквы:
И, Д, А. В коробке лежали и другие драгоценности: серьги, ожерелье, золотое кольцо с большим сверкающим камнем. Бриллиант? Но он едва взглянул на них. Другая вещь привлекла все его внимание — катушка с магнитной лентой от их магнитофона. Он вынул ее и перевернул. К катушке приклеена бумажка, и на ней его собственным аккуратным почерком выведено:
«Мендельсон. «Морская тишь и счастливое плаванье».
Какое-то время он бессмысленно взирал на катушку, раздумывая: это та пленка, которую я не нашел в гостиной. Потом постепенно им овладело возбуждение. Это последняя пленка, которую он записал. Рассчитана она на полчаса звучания. Мендельсон продолжается минут десять. Значит, в конце катушки оставалось почти двадцать минут свободной пленки.
Зная Линду, он угадал почти точно. Не любовные письма, а магнитофонная запись. Запись чего? Какого-то компрометирующего разговора? Вероятно. Даже наверняка… Когда он записал Мендельсона? Примерно неделю назад. Выходит, где-то в течение прошлой недели, после того как пришли отчеты о его выставке…
— Вот так номер! — донесся до него голос Бака. — А это что за штуковина? Лента от пишущей машинки или что?
Не все ли теперь разъяснилось? У Линды — любовник. (Кто? Стив Риттер? Считай пока, что Стив.) После провала выставки Линда решает: «Джон не годится мне в мужья. Я нашла другого. Он подходит больше, но мне надо суметь это устроить». И Линда, будучи Линдой, подстраивает в гостиной компрометирующую сцену и украдкой включает магнитофон.
Успех достался ему так легко, что он прямо-таки обалдел от нахлынувших мыслей. Вынул кольцо и стал рассматривать. Камень — настоящий бриллиант? А жемчуг ожерелья если не природный, то культивированный. Мог ли Стив Риттер позволить себе делать такие дорогие подарки? И, если он был прав насчет Линды, разве это мог быть Стив, в любом случае? Разве Линда могла так глупо обманывать себя, считая, что дорога к лучшей жизни откроется перед ней с помощью Стива Риттера?
Нет, конечно же ее любовником был не Стив Риттер. Теперь он ясно это понял. Если бы это и вправду был Стив, она никогда бы не призналась. Признание было ложью — или полуложью. Подразумевалось, что любовник у нее есть, но этот любовник вовсе не Стив.
В таком случае кто же? Кто-то из компании Кэри? Должно быть, так. Брэд? Нет, это не Брэд. Брэд был со мной в Нью-Йорке в то время, когда произошло убийство. Мистер Кэри? Но как это может быть, если в те месяцы, когда роман должен был развиваться, мистер Кэри лежал в больнице. Значит, Гордон Морленд?
Гордон Морленд, бегавший по лесу вместе с фермерами! Гордон Морленд, непримиримо враждебный, все больше и больше укреплявший Стива Риттера в его подозрениях!
Возбуждение почти опьянило Джона. Пленка была в его руках. Все, что нужно сделать, — достать магнитофон и проиграть пленку. Тогда он все узнает. Где же можно прослушать ее? У Фишеров? А почему бы и нет? Магнитофон испорчен, но его можно починить. Да, утром он пошлет одного из ребятишек в Питсфилд. И когда проиграет пленку, когда узнает…
Все опасности, подстерегавшие его, внезапно показались ему мнимыми, ерундовыми — даже полицейский около дома.
— Послушай, Бак, ты сможешь уговорить полицейского пустить тебя в дом?
Лицо мальчика засияло от удовольствия:
— Вы, правда, хотите, чтобы я снова пошел туда — прямо в дом?
— Думаешь, тебе удастся его уговорить?
— Шутите! Я могу уговорить старину Джорджи-Порджи купить мне космический скафандр за двадцать пять долларов…
— Тогда слушай. Сделай так, чтобы он пустил тебя в дом. Ты знаешь, как выглядит магнитофон? Увидишь его в гостиной, рядом с проигрывателем. Похож на переносной проигрыватель в кожаном футляре. Ты обязательно его узнаешь. Открой окно в гостиной, то, что обращено к лесу, выброси магнитофон на клумбу и снова выходи через парадную дверь. Потом улучи минутку, забери магнитофон и принеси сюда.
— Здорово! — восхитился Бак. — Просто здорово! Вы только
посидите и подождите. Вот и все. А Малыш Супер-Бак Риттер в момент выполнит свою миссию.
Он улыбнулся, ударил себя в грудь и скрылся между деревьями.
XX
Гордон Морленд? Ожидая Бака, Джон сидел на солнце около кустов тсуги, раздумывая о своем возможном противнике. Гордон Морленд всегда производил на Линду сильное впечатление. Он был знаменитостью — тем, чем Джон должен был стать и не стал. И кроме того, он был связан с Роз двойной связью — как с женой и как с сотрудницей. Идеальные условия для состязания. Линда, вероятно, была удовлетворена тем, что ей удалось увести мужа из этой шикарной пары, проводящей целые зимы в фешенебельных уголках Европы. Это снова было повторением той ситуации — с Паркинсонами и Рейнсами, — разъедающее душу стремление соперничать с людьми другого, более аристократического круга. Линда, поймавшая в свои сети Гордона Морленда и выманивающая у него подарки; Линда, для которой этот роман был той изощренной тайной, которая укрепляла ее веру в себя, — после провала своих надежд на быстрый успех Джона решила: «Надо заставить Гордона жениться на мне».
Теперь он сумел восстановить события. На днях, как раз перед тем, как пришло письмо от Чарли Рейнса, Линда пригрозила Гордону магнитофонной записью. «Разведись с Роз и женись на мне, а иначе…» Это могло бы повлиять на кого-то другого, например на Брэда, но с Гордоном Морлендом не вышло. Гордон Морленд — вроде старого мистера Кэри, он сработан из гранита. Нет, Линде не удалось принудить его, ради нее, психопатичной, не имеющей и гроша за душой женщины, бросить жену, чья поддержка была его куском хлеба с маслом и обеспечивала ему уютное, респектабельное существование в качестве кумира компании Кэри. На этом они столкнулись. И он попросил отсрочки? Вероятно. А потом… Конечно же! Эффектное появление Линды на дне рождения Вики было задумано не только для того, чтобы унизить его, Джона. Давно уже следовало понять, что с его женой все обстоит куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Под прикрытием этого продуманного спектакля Линда скрывала окончательную угрозу. И пока она рассказывала всей компании Кэри о его решении отказаться от места, она обращалась прямо к Гордону Морленду: «Видите? Джон окончательно доказал, что он мне не подходит. Ну и прекрасно. Если мне не удастся заставить его переменить свое решение, то это конец. Так что будьте готовы!»
И он приготовился. Линда во всеуслышанье объявила о том, что у них была ужасная ссора, в которой Джон ее ударил, и что на следующий день он уезжает в Нью-Йорк…
Все это было выложено Гордону Морленду и предоставляло ему удобный случай. Он мог убить ее и свалить вину на Джона. Он мог заказать цемент утром, когда Джон еще был в Стоунвиле и, следовательно, имел возможность совершить преступление, а потом, после того как он отправился в Нью-Йорк…
Вот как это было. Все, что ему теперь нужно, — достать и починить магнитофон — и тогда все будет позади.
Меньше чем через полчаса, весело посвистывая, появился Бак с магнитофоном. Спохватившись, он зашептал с виноватым видом:
— Ну и ловкач же я! Правда, правда! Старина Джорджи-Порджи — он просто дуралей. Он там сидит себе в машине и покуривает сигаретку. И я сказал: значит, вам приходится охранять дом ужасов. А он говорит: придется здесь торчать до полуночи — только тогда меня сменят. А я сказал: да ну, подумать только! А вы не боитесь — ее ведь здесь убили и все такое. А он говорит: что я, младенец, что ли? А я сказал: младенец-то не побоится. А он говорит: ну и болтун же ты. А я сказал: хотите пари — я войду в дом и обойду все комнаты и не испугаюсь. Спорим на десять центов, старина Джорджи-Порджи. А он засмеялся и бросил мне ключ: о’кей, ставлю десять центов, что ты выскочишь оттуда меньше чем через шестьдесят секунд. И я взял ключ…
Джон открыл магнитофон. И пока Бак, захлебываясь, тараторил, внимательно осмотрел механизм. Не хватает трех ламп. Когда он убежал из дома, бумажник лежал у него в кармане. Так что на лампы хватит. Завтра один из мальчиков отправится в Питсфилд и купит их. Интересно, отключено ли электричество в доме Фишеров? Не должно бы — ведь они уехали в Калифорнию всего месяца на два. Дети смогут проверить и это. Да, если повезет, завтра он сможет прослушать пленку у Фишеров и тогда узнает все. А когда он будет знать…
— Хотите, чтобы я снова туда пошел, Джон? Я могу. Спорим, могу! — красное толстое лицо Бака расплылось в торжествующей улыбке.
— Нет, Бак. Это все, — Джон взглянул на часы, было около восьми. — Наверное, тебе пора домой. Не стоит рисковать. Огромнейшее спасибо. Ты здорово все сделал. Потрясающе! Но сейчас пора домой. Завтра утром увидимся. Принеси, если сможешь, чего-нибудь поесть.
Попросить Бака забежать к Джонсам и сказать, чтобы девочки не приходили? Нет, подумал он. Пусть лучше придут. Гораздо безопаснее, чтобы Энджел была на глазах. Тут он вспомнил, как Эмили неожиданно убежала из пещеры. Нужно все уладить с Эмили.
После того как Бак ушел, Джон занес магнитофон и Линдину шкатулку в пещеру. Свеча снова догорела. Он поставил магнитофон в дальний угол, положил туда же коробку и улегся в темноте.
Мысль о том, что придется ждать до завтра, пока не удастся наладить магнитофон, казалась невыносимой. Но ничего не поделаешь. А когда он будет налажен… Но так ли все это? Первое возбуждение прошло, и он рассуждал гораздо трезвее. Сможет ли он оправдать себя, предоставив полиции эту магнитофонную запись — при том, что все улики против него? И что она докажет? Что у Линды, вероятно, был роман с Гордоном? Но не будет ли это, как и все остальное, повернуто против него? Что помешает капитану Грину расценить это, как еще один довод в пользу того, что он, Джон, убил Линду? Он почувствовал, как к нему снова возвращается тревога. Нет, дело совсем не так близко подошло к концу, как ему показалось. Нужно придумать еще что-то, гораздо более доказательное…
Должен же быть выход. Но ничего не приходило в голову, и мысли все еще крутились бесполезно, когда он услышал где-то наверху слабый крик совы.
Через несколько минут у отверстия в стене раздался шорох, и голос Энджел проворковал:
— Джон? Вы здесь, милый наш Джон?
Было уже совсем темно, и он не видел девочек.
— Эмили! — голос Энджел был нелепо высокомерным. — Зажги свечу! Ты слышишь меня? Джон, и Луиза, и Мики, и Корова, и я — мы все хотим свечу. Ты — рабыня, зажги свечу!
Эмили так и не ответила, но Джон слышал, как она ощупью прошла мимо него в конец пещеры. Вскоре он услышал чирканье спички, и огонек свечи затеплился позади него. Энджел, моргая, стояла у входа. Под мышкой она держала потрепанного Мики-Мауса, а к груди прижала большую игрушечную корову — коричневую с белым. Она улыбнулась Джону и, повернувшись к ящику из-под апельсинов, присела перед Луизой и посадила Мики-Мауса и корову рядом с нею.
— Мы пришли, чтобы провести ночь с вами и Луизой — Мики, Корова и я. Мы здесь проведем ночь, а Эмили пойдет, и ее съест призрак. — Она подбежала к Джону и порывисто обняла его. — О, я так вас люблю. Я люблю вас, я люблю вас.
Подошла Эмили со свечой в бутылке из-под кока-колы. Она нагнулась и поставила бутылку на пол. Джон с беспокойством посмотрел на нее. Лицо — неподвижная холодная маска. Она старательно избегала его взгляда.
— Вы хотите, чтобы я сейчас пошла в коровник? — спросила она. — Я захватила фонарик.
— Да, отправляйся, — отозвалась Энджел, — отправляйся сейчас же!
Джон сказал:
— Все уладилось, Эмили. Не нужно туда ходить. Бак принес мне поесть, и, оказалось, он знает полицейского. Я послал его, и все устроилось.
Все еще не глядя на него, Эмили выговорила:
— Но вы сказали, что пойду я?
— Я знаю. Ты уж прости меня, если тебе хотелось пойти. Но я подумал, что тебе приятнее будет не ходить.
— Но вы сказали, что я должна пойти. Вы меня выбрали.
— Эмили, милая, — начал он.
— Не называйте ее милой, — закричала Энджел. — Не смейте, не смейте, не смейте!
— Эмили…
— Она не милая. Мы ее ненавидим. Мы все ее ненавидим. И она не может пойти посмотреть на призрака, потому что она слишком глупа. Она все сделает не так, правда, Джон?
Внезапно застывшее лицо Эмили исказилось, из глаз брызнули слезы.
— Не могу больше терпеть! — вырвалось у нее. — Я стараюсь, стараюсь, но это уж слишком! — она зажала руками рот и ринулась к отверстию в стене — только косичка подпрыгнула.
— Эмили…
Джон кинулся за ней. Но прежде чем он добежал, она мгновенно выскользнула из пещеры. Энджел приплясывала:
— Она смылась! Старуха Эмили смылась!
Он опустился на пол около лаза. За спиной Энджел угрожающе подняла голос:
— А вы не уходите. Вы не должны идти к Эмили. Если вы пойдете к Эмили, я всем расскажу.
Не обращая на нее внимания, он полез наружу.
— Я расскажу. Я пойду к ним. Я скажу, что знаю, где прячется злой гадкий Джон Гамильтон. Я закричу. Около дома полицейский. Я закричу, и он услышит. Я закричу, заору. Я…
Голос Энджел оборвался, как только он вылез. В густых зарослях было так же темно, как в пещере до того, как зажгли свечу. Вытянув перед собой руки, он стал пробираться между ветвей. Впереди слышалось слабое позвякивание металла. Велосипед?
— Эмили! — позвал он шепотом. — Эмили! Подожди…
Неожиданно он выбрался из кустов. Впереди расстилался лес, испещренный серебряными пятнами лунного света. Он заметил тусклый металлический отблеск. Да, велосипед. Он побежал вперед и ясно разглядел Эмили. Догнал ее и взял за руку. Она резко шарахнулась от него:
— Не трогайте меня.
Он легонько оторвал ее руки от велосипеда, уронил его наземь.
— Эмили, ты же знаешь, что этому нельзя верить. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Ты же знаешь, что я послал Бака только потому, что так было проще. Зачем ты обращаешь внимание на нее?
— Вы ненавидите меня, — безутешно рыдала Эмили. — Вы сами это сказали. А я хотела помочь. Я старалась все уладить…
Он крепче прижал ее к себе:
— Ты же знаешь, почему я так сказал. Это из-за Энджел. Приходится делать то, что она хочет. Разве ты не понимаешь? Она же еще совсем маленькая и может выдать меня.
— Наверное, я все-таки люблю ее, — Эмили прижалась лицом к его груди. — Я знаю, что люблю ее, но я и ненавижу ее тоже. Она все время пристает ко мне.
— Ну, пожалуйста, Эмили! Ведь все зависит от тебя. Пусть делает что хочет. Завтра все кончится.
Он замолчал и обернулся, услышав, что сзади хрустнула ветка. Он смутно разглядел маленькую фигурку, крадущуюся к ним, и, когда он отскочил от Эмили, раздался оглушительный пронзительный вопль, многократно повторенный эхом среди окружавших их деревьев.
Джон почувствовал, как от испуга у него на лбу выступила испарина. Он бросился вперед, схватил Энджел и услышал, что она глубоко вздохнула, собираясь снова закричать. Как раз вовремя он прикрыл ей рот ладонью. Она стала вырываться.
— Скорее, Эмили, — скомандовал он. — Назад в пещеру.
— Полицейский! Он же слышал!
— Знаю. Но пещера…
Когда он поднял на руки отбивающуюся Энджел, раздался новый крик — долгий, печальный крик совы, настолько похожий на настоящий, что Джон не сразу понял — это кричала Эмили.
— Ну вот, Джон. Теперь он услышит совиный крик и подумает, что это кролик и сова. Все в порядке. Идите за мной — в пещеру.
У нее был радостный, возбужденный голос — ведь она спасла его. Эмили снова стала такой, как всегда. Он так был доволен этим, что даже неистово вырывающаяся из рук Энджел стала меньше страшить его. Эмили скрылась в зарослях. Он последовал за ней. Она пролезла в лаз, потом высунула руку, освещенную слабым светом свечи, горевшей сзади, и прошептала:
— Давайте сюда ее ноги. Закройте ей рот рукой. Я потащу ее. А когда она окажется внутри, все будет а порядке.
Они втащили Энджел в пещеру. Джон полез следом за ней. Энджел бросилась на Эмили с кулаками. Он оторвал ее от сестры, и она, обернувшись, осыпала его градом ударов.
— Я все слышала, — неистово колошматила она кулаками. — Я слышала, что вы про меня говорили! — Она бросилась ничком на постель, в ярости пиная землю ногами. — Ну, погодите, завтра я все расскажу. Вы меня не остановите! Я расскажу, что Эмили прячет Джона Гамильтона в пещере.
Конечно, она это сделает, думал Джон. Никаких сомнений в неумолимости этой детской ярости. Он навсегда восстановил Энджел против себя. И он не может помешать ей выдать его. Удержать ее силой невозможно. Какую бы историю ни сочинила Эмили, нельзя уговорить миссис Джонс примириться с исчезновением семилетней дочери. Нет, вся эта затея с детьми была безнадежна. Завтра Энджел явится в деревню — и все будет кончено. Эмили притихла рядом с ним. Вдруг она взглянула на него и с важным видом шагнула к Энджел:
— Ты ничего не расскажешь, — заявила она. — Ты думаешь, что ты очень умная, но ты ничего не расскажешь!
— Расскажу, расскажу! — обратила к ней Энджел опухшее, заплаканное лицо. — И тебя посадят в тюрьму. Вас обоих.
Эмили засмеялась и подбежала к ящику из-под апельсинов. Схватила Луизу, Мики-Мауса и Корову и сунула их в руки Джону:
— Держите их при себе. Не давайте их ей.
— Луиза! — вскочила на ноги Энджел.
Эмили кинулась к ней и вывернула ей руку за спину:
— Завтра, когда станет светло, мы вернемся домой, но ты ничего никому не расскажешь, потому что Луиза, Мики и Корова останутся у Джона. И если ты проговоришься, если ты вымолвишь хоть словечко, Джон их казнит. Он разорвет их на мелкие кусочки, раздавит их, вырвет им глаза. Он их казнит!
— Нет! — Энджел пыталась вырваться, глаза ее были полны ужаса. — Нет, нет! Отдайте мне Луизу! Отдайте Луизу!
— Клянись! Клянись Луизой. Перекрестись и скажи: чтоб мне сдохнуть.
Энджел сделала последний отчаянный рывок, пытаясь освободить руку, и захныкала, поняв, что проиграла:
— Клянусь! Чтоб мне сдохнуть, клянусь Луизой, что… что я не расскажу.
— И ты оставишь Луизу, Мики и Корову у Джона. И будешь помнить! Все время будешь помнить, что если ты нарушишь клятву…
— Буду помнить! Буду помнить! — отчаянно всхлипывала Энджел.
Эмили выпустила ее руку. Девочка кинулась на свою постель и спрятала лицо в одеяле.
— Ну вот! — Эмили обернулась к Джону. На ее блаженном лице была написана радость и удовлетворение. — Это удержит ее. А теперь надо спать. Вы ложитесь около выхода — поперек. Тогда она не сможет удрать.
Но Джон облегчения не чувствовал. И только посмотрев на Эмили, ощутил, что напряжение отпускает его. Поразительно, но Эмили удалось это! Он получит передышку. Починим магнитофон и, может быть, что-нибудь и придумаем. Если бы устроить какую-нибудь ловушку…
— Все хорошо? Теперь можно спать?
— Конечно, Эмили.
Девочка подбежала к Энджел:
— Пусть Джон ляжет на моей постели, а мы с тобой можем спать вместе.
Энджел взглянула на сестру полными слез глазами, порывисто обняла ее и спрятала лицо у нее на плече:
— Эмили, Эмили, он не причинит зла Луизе, как ты считаешь?
— Конечно, нет, детка, ведь ты никому не расскажешь.
— Не расскажу, не расскажу. О, я так не хочу быть гадкой и плохой!
— Ну хорошо, Энджел. Ложись. Я устрою постель Джону и приду к тебе.
Энджел улеглась. Эмили сказала Джону:
— Вы все-таки придерживайте Луизу, Мики и Корову. Сейчас она старается быть хорошей, но ведь с ней никогда не знаешь, что будет дальше.
Она приготовила постель и взяла свечу.
— Порядок, Джон? Можно гасить?
— Порядок.
В темноте Джон прилег на сосновые иглы. Куклы были втиснуты между ним и стеной. Все будет хорошо. Он что-нибудь придумает. Ловушку! Вот что нужно! Он придумает, как устроить ловушку. Он почувствовал, что Эмили тихонько стоит около него. Он не видел ее, но чувствовал ее присутствие.
— Джон, — прошептала она.
— Да, Эмили?
Она присела рядом и нащупала его руку.
— Простите меня, Джон. Я не хотела вести себя, как маленькая. Но я не могла. Мне было так плохо!
Он сжал ее руку:
— Ты хорошая девочка!
XXI
Его разбудила Эмили.
— Уже светло. Выпустите нас, Джон, и держите кукол. Не отдавайте их ей. Мы вернемся, как только сможем.
И долго еще, после того как девочки ушли, он лежал, думая, думая и не находя выхода.
Наконец он отложил кукол и выбрался из пещеры. В лесу все еще было холодно и серо, но уже чувствовалось приближение рассвета, и воздух бодрил. Он пробрался сквозь заросли и, осмелев, подошел к ручью умыться.
И тут его осенило. Для ловушки нужна приманка, а приманка у него есть. Конечно, Гордон Морленд мог считать, что он уничтожил ту запись вместе со всеми остальными, там, в гостиной. Но, вероятнее всего, он боялся, что она где-то существует.
Если ему намекнуть, где она находится, он уж постарается добраться до нее.
Значит, он должен узнать, что пленка существует. Каким-то образом… Но как?
Собственное отражение глянуло на него из спокойной воды. Лицо казалось изможденным и незнакомым. Следовало послать Бака за бритвой.
Бак, дети! Конечно же. Пусть Гордон узнает от детей. Пусть Тимми выболтает, что дети нашли коробку с драгоценностями и с чем-то еще, похожим на ленту от пишущей машинки. Тимми? Снова отец и сын? Считаться с этим? Да, но…
За ручьем он вдруг заметил что-то белое, мелькнувшее между соснами. Он упал ничком среди папоротника. Выглянув через листву, увидел Бака, бегущего к ручью в джинсах и тенниске, с руками, полными свертков. Джон приподнялся и тихонько окликнул мальчика. Тот подбежал запыхавшись.
— Привет, Джон. Я принес наш завтрак.
— Что слышно?
— Ну, это просто сумасшедший дом. Папа совсем сбесился! А мистер Морленд! Он звонил весь вечер: «Что нового? Почему вы ничего не предпринимаете?» По-моему, их всех надо связать. Если бы они только знали!
Джон обнаружил вдруг, что он страшно голоден, и принялся хватать что-то из пакетов.
Тимми расскажет, как дети нашли коробку. Но где? Может быть, в доме у Фишеров? Где-нибудь в гараже или под крыльцом? Гордон и Линда встречались в доме Фишеров. Гордон должен поверить — это было в ее характере устроить тайник не у себя… Да, если Тимми скажет, что они нашли коробку, поняли, что там ценные вещи и не решились ее трогать — Гордон бросится прямо к дому Фишеров, и если Джон будет там, и не один, а со свидетелем, ловушка захлопнется.
Свидетелем должна быть Вики. А почему бы и нет? Вики же сама заявила, что она на его стороне. Он может послать к ней кого-нибудь из мальчиков с запиской. Коробку надо спрятать в заранее условленном месте — как приманку. Конечно, не с той пленкой, а…
Он обратился к Баку:
— Ты помнишь эту пленку в коробке, — ну, ту штуку, которая похожа на ленту для пишущей машинки? У стенки мастерской свалена куча всякого мусора — разбитые пластинки, куски холстов. Среди прочего хлама там валяется шесть или семь таких пленок. Можешь сбегать и принести одну так, чтобы тебя не заметили?
Бак засмеялся, подпрыгнул и кинулся по камешкам через ручей.
Нужно только тщательно рассчитать время. Раз ему самому придется пойти в дом Фишеров, не безопаснее ли отложить до ночи или хотя бы до вечера? Как раз и магнитофон будет в порядке. Он сможет сначала вместе с Вики прослушать пленку, они все узнают, а потом, когда Гордон явится за пленкой, это будет разоблачительно вдвойне. Ему придется только подготовить Тимми, и вечером попозже мальчик должен будет рассказать Гордону. Но можно ли довериться Тимми с его нервами?
За соснами резко хрустнула ветка. Бак? Нет, он еще не мог вернуться. Джон снова бросился наземь и, глядя сквозь папоротники, увидел Лероя, спешащего к ручью со свертком в руке. Джон поднялся, и Лерой, заметив его, ослепительно улыбнулся и запрыгал через ручей.
— Я опоздал, — объявил он, — хотя знаю, что опаздывать нехорошо. Но я зашел за Тимми, а он не смог пойти сюда. Его мама сказала, что он останется дома, потому что он вчера перевозбудился. Так что он в постели. — Лерой опустил длинные ресницы. — И она сказала, чтобы я зашел повидать его около пяти, ему к тому времени станет лучше и я его развлеку. — Он протянул Джону пакет. — А это для вас. Сандвичи с арахисовым маслом и с желе и с творогом!
Так, пожалуй, и лучше. Неустойчивость Тимми и все этические проблемы, которые связаны с ним, таким образом, исключаются.
Лерой все сделает, когда в пять часов пойдет к Тимми в гости. Он сможет рассказать приятелю эту историю насчет коробки с драгоценностями и лентой для пишущей машинки в присутствии Гордона. Или нет, лучше так…
Возбуждение снова охватило его. Маленькие пластинки на браслете! Надо сказать так: дети не трогали драгоценностей, но случайно сломали браслет и взяли себе пластинки поиграть. И Лерой может принести Тимми его пластинку. Если Гордон заметит, что Лерой дает Тимми пластинку с предательскими буквами
Л или
И или
Д, он тут же постарается узнать, где Лерой это взял. Можно устроить так, что Тимми и не должен присутствовать.
Это то, что надо. Коробка с подмененной пленкой, Лерой отнесет приманку, а Вики…
— Лерой, сегодня утром ты видел миссис Кэри?
— Да, она уже встала и зашла в кухню. Она видела, как я делал сандвичи.
— Не собиралась ли она сегодня куда-нибудь?
— Она спросила, что я делаю, и я ответил, что иду в лес, а она сказала: «Сколько энергии, Лерой! А я не в силах и пошевелиться. Буду весь день сидеть и читать». Вот что она сказала…
Решено. Свидетельницей станет Вики.
Ловушка!
Вскоре вернулся Бак с пленкой и сообщил, что на посту у дома новый полицейский, но он Бака не заметил. Они двинулись к пещере и через несколько минут явились Эмили и Энджел, каждая со свертком провизии, завернутым в коричневую бумагу. Энджел, молчаливая и подавленная, сразу кинулась к куклам, отряхнула Луизину юбку, усадила всех кукол в ряд на ящике из-под апельсинов и уселась рядом.
Теперь, когда Джон точно знал, что предстояло сделать, нетрудно было сорганизовать детей. Он записал на клочке бумаги номера магнитофонных ламп, дал Баку денег и отправил их с Лероем в Питсфилд.
— Просто отдай бумажку и скажи, что тебя послал отец.
Когда мальчики ушли, он вынул пленку из красной кожаной коробки и спрятал ее в карман. Эмили внимательно наблюдала за ним. Потом он перемотал как можно аккуратнее спутанную пленку, принесенную Баком, положил ее в коробку вместо той, с Мендельсоном, оторвал пять пластиночек от браслета и тоже сунул в карман. Поддельный Линдин тайник должен быть расположен снаружи дома Фишеров — так будет убедительнее. Например, под ступеньками заднего крыльца. Годится!
Устроить ловушку должна была Эмили, и он подробно объяснил, что она должна сделать: спрятать коробку под ступеньками заднего крыльца, а потом каким-то образом проникнуть в дом и выяснить, не отключено ли электричество.
Торжественно повторив его инструкции, она взяла коробку и выскользнула из пещеры.
Пока другие дети были тут, Энджел не обращала на него внимания. Но стоило им остаться вдвоем, она бочком подкралась к нему.
— Вы не сердитесь на меня, правда?
— Нет, Энджел, не сержусь. Ты можешь составить мне компанию. Посиди со мной у ручья. Мы подождем, когда вернутся остальные.
Они вышли вместе и сели на камень. Солнце широкими лучами проникало сквозь деревья. Энджел прижалась к нему:
— Я люблю вас, правда, правда.
— Мне это приятно.
— И я ничего никому не сказала.
Окрыленный новым ощущением успеха, он готов был чувствовать нежность даже к Энджел. Он улыбнулся ей, ее маленькой рожице, которая даже сейчас, в самую лучшую минуту, все-таки не была искренней.
— Джон, милый! А можно я принесу сюда Луизу, Мики и Корову? Пусть и они посидят на солнышке.
Она вскочила на ноги и побежала в пещеру. Мальчики вернутся к полудню, подумал он. Проинструктировать Лероя, а потом… Когда? В четыре он пошлет Эмили с поручением к Вики, прося ее встретиться с ним у дома Фишеров. Он проберется туда через лес с магнитофоном и будет ждать ее. Затем Лерой отправится к Морлендам, чтобы поманить пленкой. Жаль, что еще будет светло, но с детьми невозможно оттягивать все допоздна.
Мысли его внезапно прервались: он сообразил, что Энджел не вернулась. Кинулся к пещере. Влез внутрь. Энджел не было, кукол тоже.
Беспокойство обратилось в страх. Он вылез из пещеры и, пробравшись сквозь заросли, побежал обратно к ручью. И тут заметил Энджел, с куклами в руках бегущую в соснах, за ручьем.
С бьющимся сердцем он перемахнул через ручей и бросился за ней. Там, от полицейского, дежурящего у дома, его отделял лишь заросший склон. Он пробежал сквозь сосны, не пытаясь прятаться. Энджел была в нескольких ярдах впереди него и мчалась вверх по склону к дому.
Через несколько секунд он поймал ее, но, прежде чем схватил, она пронзительно вскрикнула. Он поднял девочку на руки и зажал ей рот. Куклы упали. Она вырывалась, но Джон побежал обратно и вскоре, запыхавшийся и взмокший, оказался в пещере вместе с Энджел.
Через несколько минут, когда он все еще пытался справиться с ней, вернулась Эмили.
— Порядок. Свет горит. Я оставила окно открытым и все сделала…
— Эмили! Энджел пыталась удрать с куклами. Я поймал ее уже на склоне около дома, но она закричала. Полицейский, наверное, слышал, и куклы остались там.
— И вы ее отпустили! Но я же предупреждала!
— Скорее, Эмили. Забери кукол и, если полицейский там, наплети ему что-нибудь, все равно что…
Она исчезла и минут через десять вернулась с куклами.
— Порядок. Я забрала их, — она презрительно швырнула их на пол, и Энджел вскрикнула. — Полицейский был там. Он стоял и смотрел на кукол и спросил: «Что это значит?» А я сказала, что мы с Энджел подрались из-за кукол. Он поверил.
В половине первого мальчики привезли лампы. Джон вставил их в магнитофон. Все еще будет в порядке, несмотря ни на что, уговаривал он себя. Даже Энджел, угрюмо сидевшая в углу — открытый враг в их лагере, — больше ничего не значила. Ее можно задержать тут, пока все не кончится.
Они позавтракали, и потом он подробно проинструктировал Лероя. Ситуация такова, что все зависело от того, насколько Лерой будет точен в деталях. Так что он особенно настойчиво внушал Лерою, как они важны.
Эмили настояла на том, что она должна остаться и сторожить Энджел. Значит, к Вики нужно послать Бака. Джон все ему объяснил и отправил его ровно в четыре часа.
Через несколько минут Джон взял магнитофон:
— Ну вот, Эмили. Не спускай глаз с Энджел. И ты, Лерой, знаешь, что должен делать. Отправляйся точно в четыре тридцать — и к пяти ты как раз попадешь к Морлендам. А если тебе откроет миссис Морленд, а не мистер Морленд, скажи, что у тебя к мистеру Морленду специальное поручение от мистера и миссис Кэри.
— Пригласить их завтра на рыбную ловлю.
— Правильно. И когда он выйдет и ты передашь приглашение — тут-то и нужно вынуть пластинку и поиграть ею. Постарайся, чтобы он заметил. Держи ее в правой руке…
— Порядок! — Лерой улыбнулся застенчиво и гордо, глядя на маленькую блестящую пластинку у себя на ладони. — Это же самое главное, правда?
— Да, да, Лерой.
Джон постоял, глядя на детей. Все в порядке? Не забыл ли он о чем-нибудь? Не поручил ли он им что-либо, что выше их возможностей?
Толкая перед собой магнитофон, он вылез из пещеры.
Когда он двинулся через лес, им овладели сомнения. Не слишком ли точно он распределил время? Кэри жили ближе к Фишерам, чем Морленды. Вики должна быть примерно на полчаса раньше Гордона, даже если Гордон отправится сразу же… Нет, со временем все в порядке. Он сможет заранее прослушать пленку вместе с Вики. Уже одного этого будет почти достаточно, а уж когда они поймают Гордона на месте…
На то, чтобы добраться лесом до Фишеров, ушло больше времени, чем Джон рассчитывал. Когда он подошел, некошеный газон и стоящий за ним дом показались ему такими заброшенными, будто Фишеры уехали несколько лет назад. Он подошел к крыльцу и заглянул под ступеньки. Коробка была там. Эмили оставила открытым окно справа от гостиной, выходящее на заднее крыльцо. Оно было открыто почти на треть и легко подалось. Когда Джон влез в гостиную, его возбуждение достигло предела. Вики еще нет, но он все-таки прослушает пленку. Окна фасада выходили на грунтовую дорогу. Рискованно. Он мог обнаружить себя. Любой прохожий услышит музыку. Но надо рискнуть.
Он поставил магнитофон на рояль и воткнул вилку в штепсель. От волнения что-то трепетало в животе. Вынул из кармана пленку, вставил ее и щелкнул выключателем. Лампы засветились, пленка зашелестела.
Но звука не было.
Он чертыхнулся про себя. С лампами, видимо, порядок. Тогда — в чем дело? Усилитель? Он вытащил вилку, спустил аппарат на пол и стал напряженно осматривать его. Видимо, при падении где-то нарушился контакт. Понадобится отвертка.
Джон поспешил в кухню, стараясь справиться с волнением. Где они хранят инструменты? Вытащил ящики, открыл шкафы. Ничего. Спустился в погреб. В конце концов в угловом шкафу обнаружился ящик с инструментами. Схватил отвертку, плоскогубцы и бегом кинулся в гостиную.
Взглянул на часы. Пять пятнадцать. Вики вот-вот появится. Ну, ничего не поделаешь. Если он не успеет вовремя… Лихорадочно взялся за работу. От волнения пальцы не слушались. Развинчивая аппарат, он то и дело поглядывал на часы. Пять двадцать пять. Пять тридцать. Лерой уже полчаса как расставил ловушку у Морлендов. А что случилось с Вики и Баком? И что, если после разговора с Лероем Вики передумала и все-таки ушла куда-то?
Крупные капли пота выступили у него на лбу. Почему он заранее не условился с Вики? Без свидетелей ловушка не сработает.
А если Гордон явится раньше?
Без двадцати шесть он наконец обнаружил повреждение. Ловко восстановил контакт и стал собирать аппарат. Теперь его собственный план казался ему бессмысленным. А что, если Вики перестала ему верить и тоже стала Врагом? А потом, если даже она явится, где они должны спрятаться, чтобы видеть Гордона, а он не заметил их? Впрочем, с этим ясно. За шторами, у окна, выходящего на задний двор. Оттуда видно крыльцо. Но…
Без четверти шесть. С Вики что-то не ладно. Теперь в этом нет никакого сомнения.
Что-то случилось…
Далеко в лесу послышался какой-то звук. Вот — он донесся снова. Мужчина кричит? Он подбежал к окну. Да, теперь яснее слышно. Где-то около его дома кричит какой-то мужчина. Ему отвечает другой.
Снова вся деревня? Стив и фермеры? Снова проклятый сон?
— Мистер Гамильтон, мистер Гамильтон!
Раздался топот бегущих ног, и как раз в тот момент, когда он нырнул за шторы — показался выбежавший из-за дома Лерой.
— Мистер Гамильтон!
Джон выглянул из окна. Лерой кинулся к нему, запыхавшийся, с расстроенным лицом.
— Мистер Гамильтон, мистер Гамильтон, все пошло не так как надо.
Он стал карабкаться в окно. Джон взял его за руку и втянул в комнату.
Лерой с трудом переводил дыхание:
— Я пошел, как вы велели. Дверь открыла миссис Морленд. Прежде чем я начал, она говорит: «Входи, входи. Мы все в сборе, у нас гости». Повела меня в гостиную. Тимми был там, и они все тоже. Мистер Кэри и миссис Кэри и папа и мама мистера Кэри. Они все пили чай. И маленькая золотая штучка была у меня в руке, как вы велели. И я не знал, что мне делать. А потом решил, что нужно сказать, как мы условились. Я подошел к Тимми, и мистер Морленд был рядом. Я отдал Тимми эту штучку и сказал, это для него и что мы нашли коробку под крыльцом у Фишеров. И что там драгоценности и лента от пишущей машинки. Они все слушали, а Тимми взял эту золотую штучку, ужасно взволновался и спросил: «Вы ее и правда нашли или это входит в игру?» И потом вдруг выпалил: «Я выполнил свою роль в игре. Я был дома и ничего никому не сказал. Я все делал, как приказал Джон…» А мистер Морленд сразу обернулся и спросил: «Джон? Что это значит?» И Тимми испугался… — Лерой не сводил с Джона глаз, полных мучительного стыда. — Я не виноват. Я делал все, как вы велели. Честное слово. Но Тимми испугался. Они все столпились вокруг него: «Джон? Что это значит — Джон?» И он заплакал. А они все не отставали, и тогда он сказал: «Джон в пещере. В пещере Энджел». И они все стали бегать по комнате, а старый мистер Кэри позвонил папе Бака. Я слышал. Тимми плакал, а мистер Кэри сказал по телефону: «Собирайте народ, немедленно. Джон Гамильтон в лесу…» И я не стал ждать. Я сразу убежал. Они про меня забыли, и я убежал, сел на велосипед и приехал…
В лесу снова раздались крики. Да, ночной кошмар вернулся. На Вики нечего рассчитывать. Стив и вся деревня были на пути к пещере, там они найдут Энджел, а она — Враг. Энджел направит их прямо сюда — к дому Фишеров.
Но Гордон все слышал. И конечно, в этой суматохе он постарается ускользнуть и приедет сюда. А теперь есть и свидетель. Лерой будет свидетелем.
Да, если Гордон явится, все еще может…
Крики раздавались в лесу. Он опустился на пол и завинтил последние винты в магнитофоне.
— Мистер Гамильтон, я все сделал правильно?
— Конечно, Лерой. Это не твоя вина.
Он снова поставил магнитофон на рояль, наклонился, чтобы воткнуть вилку в штепсель, и вдруг застыл на месте.
Приближалась машина.
XXII
Джон подбежал к окну вместе с Лероем и спрятал мальчика за шторой.
— Внимательно смотри, что он будет делать, Лерой. Это страшно важно!
Шум приближавшегося автомобиля стал громче. Потом и сама машина выехала из-за кленов. Это был старый кабриолет Кэри. Из него выскочили Вики и Бак. У Джона отлегло от сердца, и он выбежал навстречу через парадную дверь.
— Я разыскал ее, — заявил Бак. — Она была у Морлендов, но я разыскал ее!
— Джон! — с мучительным беспокойством воскликнула Вики.
— Скорее! — крикнул он. — Оставьте машину подальше, чтобы ее не заметили. И тут же возвращайтесь.
Она вопросительно поглядела на него, потом поспешила к машине и уехала. Джон вместе с мальчиками вернулся в дом. Вскоре прибежала Вики, закрыв за собой парадную дверь.
— Я спрятала машину за деревьями. Джон, они кинулись к пещере.
— Знаю. Лерой мне все рассказал.
— И вы были там с детьми все время!
Он торопливо выложил ей все. Она не сводила с него глаз, а шум облавы, разносившийся по лесу, приближался. Уже добрались до пещеры? И Энджел направила их сюда?
— …Так что он придет за коробкой, Вики. И если вы будете свидетельницей…
— Гордон!
— Я думаю, что Гордон. И когда мы его засечем…
— Слышите? — резко перебила она. — Машина!
Он тоже услышал.
— Быстрее, Лерой, Бак! Спрячьтесь у окна, что выходит на дорогу. Старайтесь, чтобы он вас не заметил. Скорее!
Они с Вики поспешили к окну, выходящему на заднее крыльцо.
Вики пришла. И едет Гордон. Это помогло побороть панический ужас перед облавой.
Еще несколько минут они слышали шум мотора. Потом он смолк. Значит, Гордон не подъедет на машине к самому дому? Нет, конечно же нет. Он оставит машину на дороге, будто приехал, чтобы присоединиться к облаве, а потом незаметно ускользнет.
Они ждали, застыв у стены. Из-за тишины в доме шум в лесу казался невыносимым.
— Бак, — прошептал Джон. — Ты что-нибудь видишь?
— Нет. Машина остановилась.
— Вижу, — донесся высокий вибрирующий голос Лероя. — Он там. Он подходит через лес, слева. О, больше я его не вижу. Он завернул за угол.
Джон отошел от Вики к другому окну, тоже выходящему во двор, и напряженно выглянул из-за занавески. Он ясно различал теперь этого человека, подбегавшего к дому через лужайку.
Но это был не Гордон. Это был Брэд.
Ему стало не по себе. Он снова подошел к Вики и обнял ее за талию. Она улыбнулась ему. У него пересохло во рту. Он обнял ее крепче. В этот момент Брэд показался перед окном — всего в нескольких футах от них. Джон почувствовал, как Вики напряглась вся. Брэд какое-то мгновение поколебался, украдкой оглянувшись вправо и влево, потом решительно направился к крыльцу, нагнулся и стал шарить под ступеньками. Достал коробку. Стоя на виду, на солнце, открыл коробку, достал подложную пленку, сунул ее в карман и, нагнувшись, снова положил коробку на место.
Пока Джон в замешательстве наблюдал, как он все это проделывает, Брэд кинулся бегом через лужайку в направлении раздававшихся в лесу голосов.
«Брэд! — думал Джон. — Конечно же все, что он предполагал относительно Линды и Гордона, вполне подходит, и даже лучше, к Линде и Брэду. Но Брэд ведь был все время с ним в Нью-Йорке. Нет, это не Брэд. Это…»
Он обернулся к Вики, подавленный и смущенный тем, что он с нею сделал. Она была потрясена. Казалась постаревшей и раздавленной. Мальчики подбежали к ним серьезные, растерянные.
Неожиданно Вики жестко сказала:
— Включите пленку.
— Но, Вики…
— Включите пленку. И мы все узнаем.
Джон подошел к магнитофону, воткнул вилку в розетку и щелкнул выключателем. Лампы зажглись, пленка зашуршала, и первые ясные такты увертюры Мендельсона поплыли по комнате. Мгновение он стоял, глядя Вики прямо в глаза, и вдруг Бак крикнул, глядя в окно:
— Они идут. Они все подходят к лужайке. Папа, мистер Кэри, Джордж Хэтч… Вот это да! У них ружья. Они…
Джон хотел выключить магнитофон.
— Нет, — остановила его Вики. — Пусть играет…
Она схватила его за руку, и они бросились к окну, где стояли дети. Пятнадцать или двадцать мужчин выбежали из леса на лужайку. В этой группе Джон узнал Стива Риттера, старого мистера Кэри и одного из фермеров. У всех троих были ружья. За ними он заметил Гордона Морленда, Брэда и бегущую меж ними Эмили. Но все это больше не имело для него никакого значения. Имела значение только его новая боль за Вики. Теперь все мужчины высыпали на лужайку и выстроились фалангой позади Стива Риттера и мистера Кэри.
— Джон Гамильтон! — выкрикнул Стив Риттер, и остальные подхватили эхом, напоминая о ночном кошмаре. — Джон Гамильтон… Джон Гамильтон…
Он сказал:
— Я выйду.
— Вы что, спятили? Они будут стрелять. Я пойду. Да, Джон, вы оставайтесь здесь. А я выйду.
Пальцы Вики вцепились в его руку. Потом он увидел, как распахнулась дверь и она подбежала к мужчинам. Сзади него зазвучало соло флейты, ведущее оркестр к шумной центральной части увертюры. Вики подошла прямо к Стиву и к своему свекру. К ним торопливо присоединился Гордон Морленд и небрежно, не спеша подошел Брэд.
— Ой, Джон, — подал голос Бак. — Они вас схватят? Что нам делать, Джон?
— Все будет хорошо, Бак.
Вики торопливо говорила Стиву что-то. Тема «Счастливого плаванья» плыла из магнитофона. Наконец, глянув через плечо, Вики снова направилась к дому. Стив, мистер Кэри, Гордон Морленд, Брэд и несколько фермеров двинулись за ней. Джон заметил Эмили, которая тревожно подбежала ближе к дому. Кинулась было следом за всеми, но кто-то схватил ее и оттащил назад.
Вики и мужчины ввалились в комнату, наполненную музыкой. Гордон Морленд, полный любопытства, старый мистер Кэри с мрачным неодобрительным видом, Брэд с опущенными глазами. Стив Риттер, все с той же своей лживой насмешливой улыбочкой, стоял, глядя на Джона.
— Так вы нас одурачили — вы вместе с ребятишками! Поди знай! — Стив кивнул головой в сторону магнитофона. — Это та пленка, о которой говорила Вики?
— Да.
— А что это даст? Вики говорит, она доказывает, что не вы убили Линду. Не понимаю. Какая-то музыка. Что музыка может доказать?
Загремели барабаны. Увертюра шла к финалу. Теперь в любой момент… Джон взглянул на Вики. Сказала она насчет Брэда? Или он слишком многого захотел? Она ответила ему твердым сосредоточенным взглядом.
— Подождем, — сказала она. — Пусть играет, Стив. И мы все узнаем.
Вступил весь оркестр и перекрыл барабаны, потом все умолкло и снова возникла часть темы «Счастливого плаванья». Джон стоял, сжав кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Но он ничего не замечал, кроме музыки и ярких настороженных глаз, устремленных на него.
Музыка кончилась. Зашуршала пустая пленка. Джон обернулся к Брэду. Тот стоял у окна, его лицо было пепельно-серым.
На какое-то мгновение установилась полная тишина, слышалось лишь шуршание пленки. И вдруг раздался тихий смех. Он прозвучал так реально, будто кто-то рассмеялся в комнате, — это был смех Линды, и потом Линдин мягкий, ласковый голос произнес:
— …Успокойся, любимый. Он нескоро вернется. Когда он гуляет с детьми — он уходит надолго. Есть свои преимущества и в том, когда муж вечно где-то застревает. О, любимый, кольцо просто замечательное. Но тебе не следовало… Разве можно тратить такие деньги. Ты просто с ума сошел!..
Легкое потрескивание поцарапанной пленки и голос Брэда:
— Ну это же пустяки, ты же знаешь, Линда. Если это тебя хоть чуточку радует… Боже, как подумаю, с чем тебе приходится мириться!
— Все не так плохо. Правда! Особенно теперь, когда у меня есть ты. Брэд, если бы ты только знал, как ты нужен мне.
— Не так сильно, как ты нужна мне.
— Любимый, ты правда так думаешь? Это правда?
— Конечно, я так думаю…
Линда снова засмеялась. Этот мошеннический смех был ужасен. Джон, стараясь не встретиться глазами с Вики, смотрел на Брэда.
— …Но у тебя все по-другому. У тебя есть Вики…
— Не говори о Вики.
— Но как я могу удержаться — ты ведь женат на ней!
— Линда, ну, пожалуйста! Я же объяснял тебе всю эту сделку с Вики.
— Ой, я знаю, я ужасно глупая. Но расскажи снова. Мне сразу становится легче, когда ты рассказываешь, дорогой. Это прибавляет мне сил. Как, ты говоришь, все было на самом деле? Ты ее не любишь?
— Люблю ли я ее? И я еще должен объяснять тебе это! Я никогда не любил ее. С самого начала — совсем не любил, ни капельки. Это все из-за папы. Фабрика была в отчаянном положении, вся в долгах и бог знает что еще. Папа делал все возможное и невозможное. Я думаю, он шел на любой обман. И тут подвернулась Вики со всеми этими деньгами. Папа сказал, что она просто подарок небес. Если я женюсь на ней, мы спасем фабрику. А если нет — мы, вероятно, оба попадем за решетку. Линда, ты должна верить мне. Я ничего не имею против нее. Она совершенно безобидна, и это было так важно…
Внезапно Вики кинулась к магнитофону и выключила его. Круто обернулась. Глаза блестели на мертвенно-бледном лице. Она взглянула на Брэда, потом обратилась к Стиву Риттеру:
— Вы слышали! И теперь вы знаете. Джон устроил ловушку: подменил пленку, и он в эту ловушку попался. Я его видела. Джон его видел. Он вытащил пленку из коробки.
Она подбежала, сунула руку в карман пиджака Брэда и вынула подложную пленку.
— Вот она, — и швырнула катушку Стиву Риттеру. — Теперь вы знаете.
Глядя на них, Джон все время думал о Линде. Линда — этот людоед, проглотивший несчастного Брэда, как она пыталась проглотить его самого. Без колебаний она осуществила свой коварный план — включила магнитофон и выманила у Брэда признание в
нечестном ведении дел компании и еще более нечестной женитьбе.
Все стояли ошеломленные и молчали, глядя то на Вики, то на Брэда. Наконец Стив Риттер облизал губы:
— Значит, вы утверждаете, что все обстоит так, Вики: Брэд немножко крутил с Линдой, потом совсем запутался и, когда все зашло слишком далеко…
И тут вмешался мистер Кэри. До этого он молчал. Теперь же с грозным видом обратился к Стиву:
— Вы слышали, она тут пыталась обвинять — но вы же понимаете, что это чепуха. Каким образом и когда мой сын мог убить миссис Гамильтон и спрятать труп под цементным полом? Утром? Когда Гамильтон еще был дома? Абсурд. А после этого он уехал в Нью-Йорк. Я сам послал его туда по делу. Он находился там все время, и Гамильтон может это засвидетельствовать. — Он посмотрел на Джона. — Был Брэд с вами все время?
Джон смотрел на Брэда, стоящего у окна — сгорбившегося, с опущенными глазами. Так вот что…
— Да, мистер Кэри, он был со мной в Нью-Йорке.
— Но он вынул пленку! — вырвалось у Вики.
— И вы можете нам всем объяснить, почему, — с ужасающей злобой повернулся к ней мистер Кэри. — Так как, Вики? Сами расскажете? Или хотите, чтобы это сделал я?
Они стояли, враждебно глядя друг на друга.
Потом Вики спокойно сказала:
— Не имею ни малейшего представления — о чем вы говорите.
— Конечно, конечно, вы же не знаете, что у Морлендов я все слышал. Я слышал, как вы отвели Брэда в сторону и приказали: «Поезжай к Фишерам и забери коробку». — Мистер Кэри обвиняюще указал на нее пальцем. — Вам, наверное, было приятно. Должно быть, давало удовлетворение — не только убить женщину, вставшую между вами и вашим мужем, но и в конце концов, когда рухнул ваш первый план, свалить обвинение в убийстве на моего сына…
Среди шума, который последовал за этим, Джон ощущал, как, нарастая, пульсирует волнение. Значит, все будет правильно.
Стив Риттер уставился на Вики. Она стояла неподвижно. На лице ее испуг и гнев.
— Стив! — Когда Стив обернулся к нему, Джон сказал: — Нам бы следовало с этим покончить.
— Покончить? При том, что Вики…
— Убийца — тот, кто звонил в магазин стройматериалов и заказал цемент от моего имени, верно?
— Конечно, конечно. Сдается, что так.
— Он звонил в девять часов утра. Хозяин магазина отчетливо помнит это. Даже если вы верите, что Вики удалось бы подделаться под мужской голос, она никак не могла сделать этого заказа. В тот день они с Лероем с самого рассвета были на озере — удили рыбу. Вернулись домой после десяти. — Он поискал глазами Лероя и увидел его и Бака стоящими в нерешительности за спиной поджарого, настороженного Гордона Морленда. — Так ли это, Лерой?
— Да, — ответил тот. — Мы рыбачили.
— Ну и хватит об этом фантастическом обвинении против Вики. Но вы теперь знаете, верно? Все знают. Теперь уже нет никаких сомнений!
Неторопливо, наслаждаясь минутой, которая, несмотря ни на что, все-таки пришла, Джон обратился к Брэду:
— Неужели вы до такой степени у него под каблуком? Неужели вы так и будете молча слушать, как он обвиняет Вики? Линда решила выйти за вас замуж, так? Вот зачем она сделала эту запись. Она пригрозила вам, и вы испугались. Слишком испугались, чтобы самому выпутаться из беды. Но, как всегда, на помощь пришел папочка. Папочка устроил вашу женитьбу на богатой — для вас и для себя, а теперь папочка должен был вырвать вас из лап Линды. Вы кинулись к нему, верно? После того, как Линда в последний раз пригрозила вам тогда, на дне рождения Вики, у вас было долгое «деловое совещание» с папочкой. Вы признались в том, что запутались. «Я попал в ужасную историю. Это касается не только моих семейных дел. Это касается компании. Я объяснил ей, что дела компании велись нечестно и мы воспользовались деньгами Вики, чтобы вылезти из долгов…» Вы были в ужасе, не так ли? Но папочка не испугался. «Положись на меня, Брэд. Поезжай в Нью-Йорк, чтобы не стоять на дороге, а когда ты вернешься…» — Гнев и презрение примешались к возбуждению. — А потом, вы ничего не знали, верно? После того, как вернулись, вы не могли быть уверены. Может быть, все-таки я сделал это для вас. Может, каким-то чудом я сделал то, что вам хотелось и как раз в тот момент, когда вам это было нужно. Папочка так вам все объяснил, не так ли? О конечно же, он ничего не знал. Он понятия не имел, что стало с Линдой. Но вы не были уверены. Мог папочка действительно ликвидировать ее — безжалостно стереть с лица земли эту угрозу вашей семье и вашему семейному бизнесу? Мог папочка это сделать? А разве он не способен на это? А как насчет того звонка ко мне — чтобы заставить меня прийти на голосование? Может, он надеялся, что меня линчуют на этом собрании и все будет кончено раньше, чем начнется следствие? И вот сегодня у Морлендов вы наконец поняли — правда? Вы должны были понять.
Он шагнул через комнату и схватил Брэда за руку.
— Скажите им. Говорите же! Если вы это не сделаете, одному богу известно, что может с вами случиться. Но вы же невиновны. В суде вы сможете доказать, что не имели к этому отношения. Вот так! Говорите! Скажите им: кто послал вас от Морлендов забрать пленку из коробки?
Брэд поднял глаза. Его лицо было жалким и растерянным. Он облизал верхнюю губу:
— Я не знал, Джон. Честное слово, я не…
— Брэд! — в хриплом голосе мистера Кэри еще была попытка сохранить власть. — Брэд, не позволяй им…
— Кто послал вас за коробкой?
Секунду глаза Брэда метались между отцом и Джоном. Потом он опустил голову и прошептал:
— Это папа. Он меня послал. Ему нужно было дожидаться Стива Риттера. Он сказал, что я должен пойти. Но я не знал… Он не объяснил зачем. Пойди и возьми эту коробку — так он сказал. Я…
Стив Риттер и фермеры окружили мистера Кэри. Брэд обернулся к жене и попытался протянуть ей руку:
— Вики…
Но она отшатнулась от него, убежала к окну и повернулась спиной ко всем.
Все кончилось, подумал Джон. После того как в суде Брэд даст свидетельские показания, мистер Кэри будет так же обречен, как если бы сам во всем признался.
Мужчины возбужденно толклись вокруг, но Джон был далек от них. Он подошел к Вики. Она все еще стояла у окна, глядя на лес, не замечая ни толпящихся мужчин, ни нестриженого газона. Он нежно положил ей руку на плечо и, когда она обернулась к нему, почувствовал, как в нем зарождаются и нарастают жалость и нежность, превращаясь в ощущение близости. Линда… Мистер Кэри… Он был жертвой чудовища. И Вики — тоже. Это было одинаково у обоих. А теперь…
— Джон!
Чья-то рука дернула его за рубашку. Он оглянулся и увидел Эмили, смотрящую на него темными, измученными глазами.
— Энджел рассказала им. Я пыталась, но мне не удалось остановить ее. Когда они пришли, Энджел все рассказала. О, Джон, неужели все уладилось?
Его рука все еще лежала у Вики на плече. Другой рукой он притянул к себе Эмили.
— Да, Эмили, — сказал он. — Все уладилось.
Перевела с английского Елена Кривицкая
НАШИ АВТОРЫ
РОМОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ родился в 1935 году в Москве. Учился в Ленинградском мореходном училище, плавал на судах торгового флота. Окончив Литературный институт имени Горького, а затем Высшие сценарные курсы Госкино СССР, стал профессиональным литератором.
Первый рассказ Анатолия Ромова о буднях молодых моряков был опубликован в 1957 году. В детективном жанре дебютировал в 1961 году повестью «След обрывается у моря». С тех пор Анатолий Ромов работает преимущественно в детективном жанре. Он автор восьми книг, напечатаны более двадцати его повестей и романов. Среди них «Таможенный досмотр», «При невыясненных обстоятельствах», «Без особых примет», «Условия договора» и др. По произведениям и сценариям писателя поставлены художественные фильмы «Колье Шарлотты», «Чужие здесь не ходят», «Маньчжурский вариант», «В полосе прибоя», «Фуфель».
Ряд произведений Анатолия Ромова переведены на иностранные языки и изданы в Чехо-Словакии, Польше, Финляндии.
Лауреат премий МВД СССР и Союза писателей СССР за лучшие произведения о советской милиции.
Член Московской ассоциации писателей-криминалистов.
МАКАРОВ АРТУР СЕРГЕЕВИЧ родился в 1931 году в Ленинграде. После школы работал на заводе. В 1955 году поступил на отделение прозы Литературного института имени Горького в Москве. Первый рассказ «Домой» опубликовал в журнале «Новый мир», его произведения печатались также в журналах «Смена», «Москва» и др. Впервые в приключенческом жанре выступил с повестью «Будь готов к неожиданностям», которая вошла в седьмой выпуск нашего ежегодника. Это было в 1981 году.
По сценариям Артура Макарова поставлено около двадцати художественных фильмов, среди них «Горячие тропы», «Приезжая», «На новом месте», «Близкая даль» и др.
Член Союза кинематографистов СССР.
МАШКИН ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ родился в 1933 году в Москве. Окончил испанское отделение факультета переводчиков Института иностранных языков, однако стал не переводчиком, а публицистом-международником и литератором. Работал в газете «Комсомольская правда», в агентстве печати «Новости». Долгие годы был корреспондентом в Республике Куба, представляя сначала АПН, а затем Всесоюзное радио и телевидение. В настоящее время — комментатор Гостелерадио СССР.
Валентин Машкин автор ряда очерковых и публицистических книг. Одна из них — «Кондор оставляет следы» — переведена на испанский язык и издана в Колумбии и Аргентине. Выпущены также его политико-детективные и приключенческие повести: «Злым ветрам наперекор», «Разглашению не подлежит», «Кто знает слишком много». Повесть «Под копытами Кентавра», написанная в соавторстве, вышла на чешском языке в Праге.
Член Союза журналистов СССР.
ГОНИК ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ родился в 1939 году в Киеве. Сменил немало профессий: был рабочим-литейщиком на киевском заводе, санитаром в больнице, валил лес в Сибири, работал грузчиком, кочегаром, возчиком в таежном совхозе, фельдшером в латвийской деревне, плавал в дальних морях и океанах на торговых судах… После окончания Рижского медицинского института работал врачом в подмосковном Звенигороде, а затем в сборных командах страны по разным видам спорта. Побывал в 29 странах мира.
В 1970 году Владимир Гоник окончил институт кинематографии. Он написал сценарии одиннадцати фильмов: первой советской экологической ленты «След на земле» (1978), фильма «Грешник» (1988) и др. За две работы («Грешник» и «Воскресный пикник») Владимир Гоник удостоен двух высших премий на Всесоюзном конкурсе на лучший сценарий художественного фильма 1986 года.
Владимир Гоник автор рассказов «Медовая неделя в сентябре», «Сезонная любовь», повести «День бабьего лета», романов «Грешное лето» (о современных ведьмах), «Небесный ковш» и др. Его произведения изданы в Англии, ГДР, Польше, Чехо-Словакии, Венгрии, США.
АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1947 году в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Более десяти лет проработал в органах МВД СССР. В настоящее время он корреспондент еженедельника «Союз».
Литературный дебют Николая Александрова состоялся в 1987 году. В 1989 году увидела свет его первая авторская книга «Мы из розыска». В 1991 году выходят сразу несколько его книг — романы «Пирамида безумия» и «Принцип вакуума», а роман «Через пропасть в два прыжка» публикуется в Нью-Йорке.
ЗАЗУБРИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (1895—1938) — писатель сложной и трагической судьбы. Участник революционных событий в Сибири, редактор газеты «Красный стрелок» Политуправления Пятой армии, освобождавшей Сибирь от колчаковщины, он стал автором первого советского романа «Два мира». «Страшная книга, нужная книга», — так охарактеризовал этот роман В. И. Ленин. Кроме него, В. Зазубрин написал еще ряд повестей, рассказов, очерков, которые не переиздавались с двадцатых годов, а некоторые так до сих пор и не были опубликованы.
Повесть «Щепка» была написана в апреле 1923 года. Тогда же автор предложил ее журналу «Сибирские огни», одним из первых редакторов которого он был, но редколлегия повесть не приняла. В. Зазубрин продолжал работу над произведением, постепенно перераставшим в роман. Но закончить этот труд не удалось. В 1989 году журнал «Сибирские огни» напечатал повесть в том виде, в каком она была подготовлена к так и не осуществленному изданию во втором томе «Литературного наследия Сибири».
Текст печатается по изданию:
Зазубрин В. Щепка: Повесть о Ней и о Ней // Сибирские огни. 1989. № 2.
КВЕНТИН ПАТРИК — псевдоним Хью Галлингхэма Уиллера, родившегося в Англии в 1912 году. В 1934 году он переехал в США. Во время второй мировой войны служил в американской армии, в частях медицинской службы. После войны целиком посвятил себя писательской работе. Он автор популярных романов «Жена Шелдона», «Преследователь», «Зеленоглазое чудовище» и др.
Публикуемый в этом выпуске «Поединка» роман «В сетях» впервые увидел свет в 1956 году. Перевод на русский язык осуществлен по изданию 1961 года.
Примечания
1
БМП — Балтийское морское пароходство.
(обратно)
2
Променандек — прогулочная палуба.
(обратно)
3
Маршан — перекупщик произведений искусства.
(обратно)
4
Алгонкины — группа индейских племен.
(обратно)
5
Тсуга — хвойное дерево, растущее в Северной Америке.
(обратно)
Оглавление
ПОВЕСТИ
Анатолий Ромов
ЧЕЛОВЕК В ПУСТОЙ КВАРТИРЕ
Артур Макаров
ПЯТЬ ЛЕТНИХ ДНЕЙ
Валентин Машкин
НАГИЕ НА ВЕТРУ
РАССКАЗЫ
Владимир Гоник
КРАЙ СВЕТА
Николай Александров
ДЖИХАД НА ЭКСПОРТ
АНТОЛОГИЯ «ПОЕДИНКА»
Владимир Зазубрин
ЩЕПКА
Повесть о Ней и о Ней
ЗАРУБЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Патрик Квентин
В СЕТЯХ
НАШИ АВТОРЫ
*** Примечания ***