Галина Павловна Марцишек
Мы на своей земле
Ленинскому комсомолу посвящаю
Предисловие
В октябре 1941 года, после 69-дневной героической обороны, непокоренная Одесса ушла в подземелье, чтобы оттуда, из катакомб, наносить удары по иноземным захватчикам. В катакомбы спустились партизанские отряды Бадаева (Молодцова), Калошина, Иванова, Солдатенко, подпольный Пригородный райком партии во главе с Лазаревым и Крылевским и другими коммунистами; ушли десятки и сотни одиночек-патриотов, искавших возможности драться с ненавистным врагом.
Так возник единственный в своем роде подземный партизанский край, утвердивший боевую славу одесских катакомб, боровшийся с врагом в течение 907 дней временной оккупации Одессы. Об этой борьбе, о ее героях — простых советских людях рассказывает Г. П. Марцишек в своих воспоминаниях о Бадаеве (Молодцове). Как боец и связная командира партизанского отряда, она знает тяжелую партизанскую жизнь катакомб и рассказывает о ней безыскусно, правдиво, с подкупающей задушевностью.
В книге нет исчерпывающей характеристики всей боевой деятельности бадаевского отряда. Вероятно, роль связной — рядового бойца, при строгой конспирации в отряде, ограничила возможность видеть и знать все действия и тем более — замыслы командования отряда. Почти весь отряд погиб; документы, которые могли раскрыть все стороны жизни этого и других партизанских отрядов, базировавшихся в катакомбах, частью уничтожены самими партизанами, частью исчезли в следственных архивах гестапо и сигуранцы. В частности, уничтожена дневниковая тетрадь Бадаева (Молодцова), захваченная гитлеровцами уже после гибели отважного партизана. И все же книга дает яркое представление о партизанских катакомбах периода Великой Отечественной войны, является вполне документальным повествованием о партизанах-бадаевцах.
Бадаев — это партизанская фамилия бывшего подмосковного шахтера-коммуниста Молодцова Владимира Александровича. Осенью 1941 года Одесский областной комитет партии оставил его во главе партизанского отряда в тылу врага Отряд размещался в одесских пригородных катакомбах в окрестностях сел Нерубайское, Усатово, Куяльник; на поверхности, в самой Одессе, находились небольшие группы «верховых» разведчиков; общая численность отряда доходила до 60–65 бойцов. Это были жители Одессы и ее пригородов, люди разных профессий и возрастов, но единые в своей ненависти к захватчикам и в стремлении освободить родную землю от фашистов. Среди них был механик-моряк Иванов И. И., 72-летний нерубайский горняк Гаркуша И. Г., одесский комсомолец «Яшунька» — Гордиенко Яков, чекисты — радист и комсорг отряда Неизвестный Иван и связные Молодцова «две Тамары» — Межигурская («Тамара маленькая») и Шестакова («Тамара большая»), старый коммунист, участник гражданской войны «начальник гарнизона катакомб» Клименко И. Н. и совсем юный 13-летний пионер Медерер Коля.
Душой партизанского отряда были 9 коммунистов во главе с секретарем парторганизации Зелинским К. Н., бывшим председателем колхоза, активным участником обороны Одессы. Своей беззаветной преданностью Родине и нерушимой верой в ее победу коммунисты цементировали отряд и добились того, что небольшая горстка людей стала для врага воистину грозной силой: 16 октября, в первый день оккупации Одессы, пули партизан-бадаевцев косили оккупантов, а спустя несколько дней полетел под откос вражеский эшелон. С каждым днем все больше и больше горела земля под ногами захватчиков.
Отряд Молодцова развернул активную боевую деятельность. До конца 1941 года партизаны-подрывники пустили под откос 4 железнодорожных состава с боеприпасами и войсками. Недалеко от станции Застава был взорван специальный поезд, которым в Одессу ехали чиновники «администрации столицы Транснистрии». Каждый партизан был разведчиком и в то же время политическим бойцом, проводившим агитационную работу среди трудящихся Одессы и в окрестных селах.
Действия бадаевцев сливались с ударами, которые наносили по врагу другие партизанские и подпольные группы. Так образовывался могучий поток борьбы захваченного, но не покорившегося врагу города-героя.
Стычки с партизанами, крушения поездов, взрыв комендатуры на Маразлиевской (ныне ул. Энгельса), акты саботажа на предприятиях, распространение листовок с призывами беспощадно уничтожать фашистских захватчиков и их ставленников — все это не только держало гитлеровцев в постоянном страхе, но и заставляло их сосредоточить в тылу значительные войсковые силы. В течение 7 месяцев 1941—42 гг. отряд Молодцова, партизаны Пригородного района и другие группы патриотов, действовавшие из катакомб, отвлекали на себя временами до 16 тысяч вражеских войск, в том числе отборные части «СС» и жандармерии.
В бессильном бешенстве вражеские контрразведки — гестапо, сигуранца, «ССИ» — учиняли массовые аресты и дикие расправы над советскими людьми, заподозренными в поддержке партизан. Каратели пушечным огнем сносили дома, прилегавшие к входам в катакомбы, хватали и уничтожали местных жителей, минировали входы в катакомбы. Но партизаны продолжали действовать, по-прежнему опираясь на помощь населения, которое бескорыстно снабжало их продуктами, помогало в разведке, предупреждало о передвижении карателей. Тогда оккупанты, решив заживо замуровать партизан в катакомбах на глубине 40–45 метров, забили и забетонировали до 400 входов в шахты, пустив вначале туда удушливый газ. Но и в такие тяжелые моменты партизаны находили выходы из катакомб для продолжения борьбы.
Однажды, когда подземный лагерь бадаевцев был в исключительно тяжелом положении, а сам Молодцов подвергался пыткам в фашистском застенке, каратели оцепили известные им входы в нерубайские катакомбы и силой втолкнули в шахту 14-летнего сына партизана Мытникова; при мальчике находилось письмо, в котором полиция предлагала партизанам в течение 48 часов сдаться на милость «освободителей» Находившийся на голодном пайке, обезглавленный арестом командира, небольшой гарнизон народных мстителей ответил на ультиматум рядом смелых боевых вылазок.
Борьба в условиях катакомб требовала от каждого бойца высоких волевых качеств, мужества и отваги. У бадаевцев были эти качества. Они черпали силы в постоянном общении с народом. Народ поддерживал их, не боясь ни пыток, ни смерти, и они были такими, каким был породивший их народ: не представляли они себе иной жизни, кроме жизни в советской стране, на советской земле, — во имя этой жизни самоотверженно преодолевали трудности и лишения борьбы, стойко переносили пытки в застенках врага, бесстрашно встречали смерть!
Колхозник из села Нерубайское Капышевский В. С., помогавший партизанам, умер от пыток. Умирая, он никого не выдал. Не вырвали признании палачи и у беспартийного колхозника из села Куяльник Иванова В. И.: его казнили на глазах жены и дочери, последним его словом к родным было «Молчите!». Старый нерубайский шахтер Кужель И. А. покончил с собой, не проронив на допросах ни слова. Однажды, когда Молодцова, в устрашение народу, вели по городу, простая русская женщина, Екатерина Васина, на людной улице Одессы безбоязненно подошла к нему и положила на кандалы, которыми были скованы его руки, связку бубликов: позднее отважная патриотка была схвачена и расстреляна сигуранцей. Сестра героев-разведчиков Якова и Алексея Гордиенко, Нина, которой было всего 14 лет, узнав, что ее братья схвачены контрразведкой, побежала не домой, а на квартиру руководителя группы разведчиков Продышко П. И., чтобы предупредить бадаевцев о вражеской засаде на явочной квартире. С таким же бесстрашием она наладила связь с тюрьмой, через нее арестованные предупреждали оставшихся на свободе о том, кто их выдал.
Достойные сыны своего народа, партизаны шли на подвиг, совсем не думая о том, что они совершают что-то героическое. Стойкость, презрение к смерти, ненависть к врагам социалистической Родины проявили в фашистских застенках Молодцов, Межигурская, Гордиенко и другие партизаны, схваченные контрразведкой врага и погибшие в ее мрачных застенках. По двум процессам — в мае и сентябре 1942 года — военно-полевой суд оккупантов приговорил к расстрелу 25 бадаевцев; 15 человек были приговорены к каторжным работам, но впоследствии также почти всех их гитлеровцы расстреляли.
От Молодцова враги не узнали даже его настоящей фамилии, осудив и расстреляв его как Бадаева Павла Владимировича. Приговор Молодцову, Межигурской и Шестаковой был объявлен не в суде, а во дворе тюрьмы, в присутствии других заключенных. Им предложили подать на имя Антонеску прошение о помиловании. В ответ Молодцов с гневом бросил в лицо тюремщикам слова, которые стали крылатыми: «Мы — русские, и на своей земле помилования у врагов не просим».
Смерть героев была страшна для врагов. Июльской ночью 1942 года Молодцова и Межигурскую воровски, тайком от заключенных, вывели из тюрьмы и увели на еврейское кладбище, откуда, после постыдной инсценировки расстрела, жандармы вывели их в степь и там расстреляли.
Также мужественно вели себя на допросах Шестакова Т., Гордиенко А., Неизвестный И., Клименко И. Н.,
Петренко И. Н., Гринченко И. А., Зелинский К. Н., Медерер И. Ф. и другие. Для их пыток в сигуранце был изобретен электрический стул. Один из палачей-следователей, изловленный впоследствии органами государственной безопасности, признал, что во время допросов он «избивал их (бадаевцев и других советских патриотов) резиновым шлангом, кулаками и применял электрический ток». Но и пытки не сломили патриотов. Когда им было особенно тяжело, они начинали говорить о Родине. «Разговор этот, — вспоминает бывший заключенный сигуранцы, сидевший в одной камере с бадаевцами, — всегда зачинал товарищ, подвергавшийся на допросах нечеловеческим пыткам, которого мы знали как Бадаева». Межигурская Т. за несколько дней до казни писала друзьям:
«Дорогие товарищи! Нас скоро расстреляют. Не огорчайтесь, мы ко всему готовы и на смерть пойдем с поднятой головой. Передайте моему сыну Славчику все, что вы знаете обо мне. 14.6.42».
Предсмертное письмо Петренко И. Н. заканчивается обращением к маленькому сыну:
«Вовочка, к тебе папкина просьба, последняя просьба: будь непримирим и безжалостен к тем, кто против советской власти и партии, это враги твоего папки, а, следовательно, и твои… Будь верным партии, своему народу и Родине…»
До конца верным сыном Родины остался Яша Гордиенко. Одесская комсомольская организация может гордиться своим воспитанником. В отряде Бадаева он руководил подпольной молодежной группой разведки в Одессе. Лично сам выполнял наиболее ответственные задания, в том числе и по ликвидации провокаторов. В аресте этого юноши, которого война застала за ученической партой, участвовало 12 офицеров сигуранцы. Его предсмертные письма полны презрения к смерти, веры в разгром врагов, юношеской сердечности к близким.
«…На следствии я вел себя спокойно, — писал он из камеры смертников. — Меня повели бить, три раза водили и били на протяжении 4–5 часов. В половине четвертого кончили бить, за это время три раза терял память и один раз потерял сознание. Били резиной, опутанной тонкой проволокой, грабовой палкой длиной метра полтора, по жилам на руках — железной палочкой… Никакие пытки не вырвали их (т. е. членов группы) фамилий… Прощайте, дорогие, не падайте духом. Крепитесь, победа будет за нами…».
Гордиенко пытался бежать из тюрьмы, но был выдан и после жестокого избиения закован в кандалы. Но и это не сломило дух отважного комсомольца, он сумел передать на волю еще несколько писем к родным.
Яша Гордиенко умер как верный сын своей Родины: когда его повели на расстрел, он запел: «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе».
Шестакова в момент объявления смертного приговора была беременна. Прокурор военно-полевого суда, обещая «милосердие королевы», отдельно предложил ей хлопотать о помиловании. Тамара отказалась. Через несколько месяцев после того, как она в камере смертников сигуранцы родила дочь, ее расстреляли.
Такими были люди, о которых рассказывает в этой книге Г. П. Марцишек.
Партизаны отряда Бадаева (Молодцова) недолго пробыли в рядах сражающихся за Родину. Но как первые ручейки весны, их боевые дела разлились в широкий поток народного мщения, борьбы, которая увенчалась величественной победой. Этим они достойны вечной славы.
А. Куварзин.
Глава I

В один из тяжелых дней обороны, придя с работы, я застала дома своего мужа Ивана Ивановича Иванова. Виделись мы с ним урывками: экипаж судна «Красный Профинтерн», где Иван Иванович работал механиком, был переведен на казарменное положение.
Порт беспрерывно бомбили, и каждая бомбежка вызывала страх за жизнь дорогого мне человека. Его приход очень обрадовал меня, а настроение удивило: обычно спокойный и уравновешенный, он был сегодня чем-то взволнован.
— Видишь ли… — словно колеблясь, заговорил он, — дело в том, что я дал согласие пойти на такой участок борьбы, где будет наиболее трудно… Мне поручили спросить тебя: можешь ли ты быть моим боевым товарищем. Понимаешь, работать придется, очевидно, здесь, но, возможно, вдали друг от друга. А работа будет такой, что под силу только смелым, волевым людям.
— Ты считаешь меня нестойким человеком?
— Нет! Иначе, я сейчас не говорил бы с тобой об этом. Но там нужны очень крепкие нервы. Если растеряешься, можешь погубить себя и товарищей. А ты… недавно не выдержала… стала прощаться со мной…
Я опустила глаза, вспомнив, как однажды, когда фашистские стервятники бомбили приморскую часть города и порт, я растерялась. Несколько бомб упало вблизи нашего квартала. Дом трясло, как в лихорадке. Муж продолжал лежать, прислушиваясь к разрывам. Я же начала кричать: «Ваня, прощай!» Но меня отрезвил спокойный и даже холодноватый голос: «Погоди прощаться, я пожить еще хочу. И поживу!» — Сегодня он справедливо упрекал меня в малодушии.
Видя мое замешательство, Иван Иванович более ласковым тоном продолжал:
— Не сердись, хорошо все взвесь. Не будет у тебя страха перед опасностью — станешь моим боевым товарищем. Мне сейчас надо идти, а ты подумай.
И он ушел…
На душе было тревожно. Что делать? Остаться или эвакуироваться? А выдержу ли?.. И вся холодела, вспоминая о пытках, которым фашисты подвергают свои жертвы.
 Герой Советского Союза Молодцов (Бадаев) Владимир Александрович — командир партизанского отряда.
Герой Советского Союза Молодцов (Бадаев) Владимир Александрович — командир партизанского отряда.
Ночью опять грохот разрывов. Стены колебались. Бомбы рвались в соседних дворах. Спустилась вниз с третьего этажа. В подъезде стояли испуганные женщины, плачущие дети.
— Не волнуйтесь.
В наш дом бомба не попадет, — уверенно сказала я и удивилась тому, что, ободряя других, сама не ощущаю страха. Утром я ответила мужу:
— Пойду, куда пошлют, делать буду то, что нужно Родине!
— Я был уверен, что именно так ты и поступишь, — ответил Иван Иванович, и взгляд его черных глаз стал теплым и ласковым.
Через несколько дней на стадионе «Динамо» я познакомилась с Владимиром Александровичем Молодцовым (в то время он носил фамилию Бадаев). Я слышала от мужа о Владимире Александровиче и думала, что это пожилой мужчина, убеленный сединами. Очень удивилась, увидев человека лет за тридцать, высокого, широкоплечего, с волевым выражением лица и умными серыми глазами. От Бадаева веяло силой, здоровьем и несокрушимой энергией. Он предложил нам с мужем пройтись немного по городу. По дороге мы говорили об обороне Одессы, о героизме советских людей.
На углу улиц Жуковского и Красной Армии (ныне Советской Армии) Бадаев остановился и стал внимательно читать воззвание обкома партии.
…«Город в опасности! Враг у ворот! Все, кто способен носить оружие, — на фронт! Защита родного города — кровное дело всего населения».
— Бьют этих гитлеровцев, как бешеных собак, а они лезут и лезут, — негодовала я.
— Ничего… Каждый из них получит у нас по два метра земли, коль свои гектары им стали малы, — многозначительно заметил Бадаев.
Проходя мимо площади Красной Армии, окруженной пышными каштанами, любуясь зарослями белых, темно-красных роз и разноцветным ковром вербены, петуньи, Бадаев произнес:
— Как здесь хорошо! И пахнет розами, а не войной…
— И если бы не это… — махнул рукой Иван Иванович в сторону холмиков желтой глины, выброшенной из щелей укрытия, да не обстрелы и бомбежки — не поверил бы, что идет война.
Завыли сирены. Началась бомбежка. Минут через пятнадцать дали отбой. В городе возобновилось движение. Оглянув площадь и прилегающие к ней улицы, Бадаев заключил:
— Фашисты хотят вызвать панику в городе, но это им не удается. Посмотрите, — указал он на милиционера-регулировщика и на бойкую торговлю в магазинах и лотках.
Мы остановились на углу Садовой улицы у лотка, пестревшего цветными обложками книжных новинок и брошюр. Просматривая литературу, я увидела «Избранное» Владимира Маяковского и попросила мужа купить эту книгу.
Это будет мой подарок, — сказал Владимир Александрович, отстранив протянутую с деньгами руку Ивана Ивановича.
Разговор зашел о литературе, о любимых писателях Владимир Александрович внимательно прислушивался к моим суждениям.
На улице Короленко нас опередила колонна народных ополченцев. Они шли в сторону Пересыпи. Обветренные, загорелые лица, сурово сомкнутые губы. Мелькали кепи, фуражки, шляпы. Пестрели костюмы, гимнастерки, спецовки и рубашки. За плечами у каждого винтовка, у пояса гранаты, на груди — патронташ.
— Мы говорим о героях, о героике, вот они — герои наших дней! — проводив задумчивым взглядом колонну, заметил Бадаев.
— Скорее бы и нам работа нашлась, — сказал Иван Иванович. — Домой совестно приходить… В землю зарылся бы от стыда. В нашем дворе многие старики добровольно ушли в ополчение, а я молодой и… Оглядывают тебя женщины, только вслух не говорят: «Почему он дома, а не на фронте. Наши мужья сражаются, а этот хитрит…»
— Ничего, Иван Иванович, скоро и нам найдется дело… — успокоил Бадаев.
* * *
Вскоре, закрыв городскую квартиру, мы с мужем переехали в Аркадию. Этот район сравнительно мало бомбили. Владимир Александрович также находился здесь.
В один из ясных солнечных дней Бадаев вызвал меня и мужа.
— Быстро выходите во двор, сейчас придет машина. Вы направляетесь в один из партизанских отрядов.
Провожая нас, Владимир Александрович протянул Ивану Ивановичу винтовку:
— На, Ваня, держи ее крепко!
Муж зажал винтовку в своих сильных руках, и лицо его стало каким-то неузнаваемо суровым и решительным. Мне показалось, что губы его шевелятся, давая клятву не выпускать ее из рук.
— Езжайте с Иваном Никитовичем Клименко, — кивнул Бадаев на сидевшего в кузове коренастого бородача с колючими глазами.
Внимательно осмотрев ладную крепкую фигуру Ивана Ивановича, старик одобрительно хмыкнул, потом перевел свой взгляд на меня и на его обветренном круглом лице мелькнула ироническая улыбка, дескать: «Тоже, вояка…»
Стоявший около машины Бадаев оглядывался.
— Где же Тамара Межигурская, — недовольно спрашивал он. — Машину нельзя задерживать.
В это время из правого крыла дома вышли две женщины: одна из них в светло-сером пальто, темноволосая, стройная, прощалась с миловидной блондинкой. Обе горячо расцеловались.
— Тамара, быстрее, — обратился Владимир Александрович к темноволосой женщине.
Проезжая но улице Короленко, машина остановилась возле нашего дома. Из кабины выглянул шофер:
Владимир Александрович велел забрать ваши ценные вещи.
Машину окружили женщины. За юбки многих цеплялись дети. Увидев винтовку в руках Ивана Ивановича, одна из женщин спросила:
— На фронт?
— Да! твердо ответил он, а я подумала:
«Теперь уж ему нечего стыдиться». И вспомнила слова Бадаева: «Скоро и нам найдется дело…
— Неужели сюда пустят оккупантов? — задала вопрос наша соседка.
— Одессу не сдадим, — ответил Иван Иванович.
Мы согласны все вытерпеть, только бы не сдали Одессу, — горячо уверяли женщины.
Поднявшись вместе с ними к себе в квартиру, а отдала им сахар, кое-что из продуктов, одарила детей конфетами, взяла все необходимое и вернулась к машине.
— Успеха фронтовикам! Передавайте им привет от нас! Победы! Победы! — махая руками, дружно кричали женщины вслед уходившей машине.
Возле Хаджибеевского лимана нас нагнала автоколонна, груженная снарядами. Клименко то и дело посматривал на небо, видимо, опасаясь налета стервятников.
Наконец, вдали показалось село, раскинувшееся в глубокой балке.
— Нерубайское. А за ним сразу же фронт, — информировал нас Клименко.
На околице Нерубайского машина завернула в крайний двор, огороженный каменным забором. Посреди двора красноармейцы вручную цепами молотили пшеницу. Влево в углу — коновязь и ясли. Справа — приземистое длинное строение из камня-ракушечника с подслеповатыми окнами. Рядом — пристройки для скота.
Иван Никитович, несмотря на солидный возраст, легко соскочил с машины:
— Идемте, я покажу, где вы будете ночевать, — и ввел нас в дом, разделенный на две половины небольшими сенцами. — До войны это была контора, кроватей тут нет, придется постелить солому.
Я оглянула помещение. Два конторских колченогих стола, пара расшатанных стульев, под стеной большая деревянная скамья — вот и вся меблировка комнаты. На стенах портреты руководителей партии и правительства, у двери доска с устаревшими объявлениями и бачок с водой. Окна глухие, без форточек. Застоявшийся, пропитанный запахом махорки, воздух вызывал тошноту. Не выдержав, я вышла во двор. Начала осматриваться.
Через дорогу от двора, где остановились мы, — обрывистый спуск в глубокую балку, изрезанную входами в каменные шахты — катакомбы. Наверху вокруг балки — домики колхозников и шахтеров, окутанные садами и виноградниками. На высотке в стороне Одессы белеют памятники и кресты Нерубайского кладбища. Западная сторона села опоясана лесопосадкой железной дороги Одесса — Киев, оттуда слышна частая пулеметная стрельба и разрывы снарядов. С фронта и на фронт мимо нашего двора шли машины, проходили колонны красноармейцев, брели в санбат раненые. Измученные упорными тяжелыми боями и зноем, люди присаживались на обочину дороги, просили напиться. Дети и женщины поили их ключевой водой, угощали арбузами и виноградом. В соседнем дворе ковали лошадей. Беспрерывно скрипела дверь хатки, пропуская сновавших взад-вперед красноармейцев и командиров. Со стороны фронта примчалась танкетка. С нее соскочил рослый паренек лет девятнадцати с энергичным, усыпанным веснушками лицом.
— Сашка приехал! Сашка! — донеслись до меня радостные возгласы красноармейцев.
— Гостинцев давайте! Там жарко! Фрицы наседают! — кричал паренек, приглушая мотор танкетки. — Скорее же, скорей!
Захватив «гостинцы», Саша в вихре рыжей мыли снова умчался на передовую.
Позднее я узнала, что комсомолец Саша в последние дни обороны был тяжело ранен, но привел танкетку в нашу воинскую часть и умер на руках товарищей, говоря:
— Ничего… Будут, гады, помнить Сашку. Я хорошо проехался по их тылам.
Ночью меня вызвали. В комнате, куда я вошла, все тонуло в полумраке. Фонарь, стоявший на полу, отбрасывал на стены причудливые тени, отчего комната казалась таинственной и угрюмой. На больших бочках сидели Владимир Александрович Бадаев и Иван Никитович Клименко. Перебирая пальцами бороду, Клименко начал задавать мне вопросы. По многочисленному покашливанию я поняла, что он считает меня изнеженной женщиной. Но тон его голоса потеплел, когда я рассказала о том, что родилась и выросла на Донбассе, сама работала на шахте глейщицей, жила с родными в большой нужде, что родные погибли в деникинщину. Отпуская меня, Бадаев сказал:
— Вы будете пока находиться в распоряжении Ивана Никитовича. Он ведает нашим партизанским хозяйством.
Я вышла во двор, устало опустилась на бревно, задумалась.
Откуда-то из темноты вынырнул Иван Иванович, сел рядом. Всю ночь пробыли мы здесь, тоскливо глядя в сторону родного города, объятого пламенем пожаров.
На рассвете со стороны моря раздались громовые залпы дальнобойных орудий.
— Это что-то новое, — заметил муж, прислушиваясь к канонаде. — Как видно, наша эскадра подошла на помощь.
— Может отгонят гитлеровцев! — обрадовалась я. Ответить Ивану Ивановичу не пришлось. Меня позвал Иван Никитович и послал с Тамарой Межигурской копать картофель.
Колхозные поля вплотную подходили к железной дороге. В этом году, как никогда, всего уродило в изобилии. Репчатый лук, выпирая из земли, обнажал крупные клубни, одетые в синеватые и золотистые рубашки. Сочные помидоры укрыли землю. На баштанах дозревали крутобокие янтарные дыни и матово-зеленые арбузы.
На одном из баштанов деловито сновали красноармейцы хозчасти; выбирая спелые арбузы, нагружали ими бричку. Арбузы заменяли воду, которой недоставало в этом безводном каменистом районе. Красноармейцы предупредили нас, что поле простреливается немцами.
К вечеру разрывы снарядов на поле участились, и нам было приказано вернуться в село. Гам мы застали приехавшего из города Бадаева. Он поинтересовался, как мы устроились, не голодны ли, где отдыхаем. Простившись с нами, он снова уехал в Одессу. Под утро мужа и Тамару Межигурскую вызвал Иван Никитович. Вернувшись, Иван Иванович сказал мне:
— Мы с Тамарой уходим. Так надо…
— Ваня, куда?
— Не знаю… — глухо ответил он, обнимая меня. — Всего хорошего!
Ушел… увижу ли когда?..
На второй или третий день после ухода мужа и Тамары Межигурской И. Н. Клименко позвал меня во двор.
Иван Никитович остановился возле сарайчика, в котором сонно похрюкивала большая свинья. Заглядывая в сарайчик, старик недоуменно бормотал.
— Ну как ее вести? Корову обмотал веревкой за рога и веди. А эту как? А ну, поднимись, — шлепнул он свинью по спине. — Привяжем тебя сейчас за ногу, а ты, Галина, мани ее хлебом, — и он протянул мне большой кусок душистого хлеба. — Только скорей. Светает уже. А нужно, чтобы нас никто не видел.
В балку мы спустились благополучно. У входа в первую шахту свинья с разбегу влетела в лужу и развалилась в ней. Я чуть не плакала от злости. Мечтала о подвигах, а здесь… И схватив вилы-тройчатки, стоявшие у стены возле входа в катакомбы, кольнула ими Машку. Кое-как загнали ее в шахту. Наступил рассвет.
Глава II
Невольно оглянулась на выход, прощаясь со свежим воздухом и солнечным теплом. С каждым шагом темнота все больше окутывала нас, становясь непроницаемой. Из глубины катакомб повеяло могильным холодом, затхлостью склепа. Осторожно переступая, я беспомощно шарила руками, пытаясь найти опору. Иван Никитович зажег лампу. Свет всполошил стаи летучих мышей. Сорвавшись с потолка и стен, они противно скрипели, проносясь над нами.
С каждым пройденным шагом температура все более понижалась, холод невольно заставлял поеживаться. На каждом шагу все новые и новые ответвления, идущие в разные стороны, высокие и низкие потолки, казалось, вот-вот осядут многотонным обвалом. На дороге глубокие выбоины от колесной езды, кучки перегнившего конского навоза… И могильная тишина… Чем глубже спускались мы, тем удушливее становился воздух. Появился звон в ушах.
— Осторожнее! Возьми влево. Направо глубокий водяной колодец Бабия, — предупредил меня старик. Резко отшатнувшись, больно ударилась о стену узкого штрека. — Сейчас сбойка, — продолжал Иван Никитович, — нужно ползти.
Сбойкой оказался узкий перелаз из одной шахты в другую. Проползли его и очутились в другой заброшенной выработке с высоким потолком, широкой штольней. Но после двух-трех поворотов штольня начала суживаться, кровля все более понижаться. В некоторых местах пришлось идти согнувшись, пробираться через обвалы и нагромождения из камней.
— Это я повел тебя самой короткой дорогой, — пояснил мне Иван Никитович, ловко перелезая обвалы и перемычки из бута
1.
Наконец, мы вышли на ровную, свободную от завалов дорогу. Я заметила кое-где кучки свежего лошадиного помета.
— Откуда здесь это? — удивилась я.
— Павел Харитонович возит на Галке все необходимое для будущей партизанской базы.
— На Галке?
— Да. Так зовут маленькую черную лошадку нашего горняцкого хозяйства.
Павла Харитоновича Конотопенко, бывшего грузчика одесского порта, а теперь возчика хозяйства «Объединенный Горняк», я уже знала, но о том, что он возит грузы в эти мрачные подземелья, я услышала впервые.
То опускаясь, то поднимаясь вновь, петляли шахтные дороги. Я хотела определить направление нашего пути, но после нескольких поворотов сбилась. Мимо мелькали большие залы, комнаты и комнатки, чуланы и ниши, узкие и широкие коридоры, разветвлявшиеся в разные стороны. Снова пришлось около двух километров идти согнувшись. Дорога резко пошла вниз.
— Погребок, — сказал Иван Никитович, взглянув на косо опускавшийся над нами потолок штольни. — Сейчас будет лагерь.
Мы остановились у стены, искусно заложенной камнями. Нагнувшись, Иван Никитович вынул несколько камней и полез в пролом. За ним — я. В узком штреке стояли Тамара Межигурская и другие партизаны, с которыми меня познакомили еще в Аркадии. Тамара была одета в теплые ватные брюки, ватную куртку, волосы упрятаны под неопределенного цвета заношенную кепку. Увидев ее, я подумала: значит, и Ваня здесь. Заметив, что я оглядываюсь в надежде встретить здесь мужа, Тамара сказала:
— Иван Иванович ушел к воздушному колодцу послушать, что делается на поверхности. Пока он вернется, я покажу вам наш лагерь.
Лагерь имел вид буквы Т, соединенный обводными дорогами — штреками с главной штольней Нерубайское — Усатово. Вправо по штреку в узком и длинном забое оборудованы каменные нары. На них горой навалены шерстяные и байковые одеяла, подушки, матрацы. Проем между штреком и спальней отгорожен мешками С зерном и мукой. Рядом в маленьком забойчике стояли два мешка с сахаром; третий продолговатый забой отвели под склад картофеля и овощей.
«Так вот где картофель, что копали мы», — подумала я. Здесь же увидела бочонки с топленым маслом и свиным жиром.
Свинью мы отвели в один из далеких забоев, выход из него загородили тяжелыми камнями, на одном из уступов стены оставили небольшую бензиновую свечу.
Вскоре в лагерь вернулся муж. Увидев меня, обрадовался:
— Вот хорошо! Значит, будем вместе.
Поговорив немного с Иваном Ивановичем,
Иван Никитович повернулся ко мне:
— Ну что ж! Начинай хозяйничать. Прибери спальни, перебери картофель, лук. Эх! — вздохнул он. — Сварить бы картошечки! Вкусная она в этом году, рассыпчатая…
— Да, хорошо бы, но где и на чем ее варить? — и я оглянула холодные неприветливые стены, каменные скамьи, такой же стол.
— Вот уже две недели, как ничего горячего я в рот не брал, а от консервов прямо мутит.
— Так жить нельзя! Нужно подумать о горячей пище, — подсказала я.
— А где ее возьмешь — горячую пищу? — пожал плечами старик.
— Примусы нужно достать.
— Достать? — удивился Иван Никитович и задумался. — А где их достанешь? Ишь, достать… — озадаченно бормотал он и, перейдя на свой родной украинский язык, сердито заворчал: — Оци городськи жинкы тилькы и знають: Дай! Достать! А як достать — их не торкается, — и, сделав насмешливую мину, глумливо спросил меня: — Може тоби ще й музыку поклыкать у катакомбы? Давай краше починай працюваты.
Глубоко обиженная, я направилась в спальню, рассчитанную, примерно, на двадцать человек. Положив на каменные нары линолеум, а сверху — матрацы и подушки, застелила все одеялами и залюбовалась: забой стал даже уютным. Из спальни перешла в кладовую, принялась разбирать картофель и овощи.
С каждым днем в будущем партизанском лагере дел было все больше и больше. Отдыхать приходилось урывками. Я принимала с поверхности грузы, сортировала их, раскладывала так, чтобы они не попортились, ухаживала за Машкой. Время проходило быстро, работа спорилась, но темнота и какая-то таинственная певучая тишина подземелий подавляли меня, вызвав боязнь, особенно после одного случая с горным техником.
Однажды к нам в лагерь пришел рыжеватый худощавый старик. Иван Никитович отрекомендовал его, как большого знатока одесских катакомб. Поговорив о чем-то с мужем и Иваном Никитовичем, техник ушел.
На следующий день Иван Никитович и муж отправились изучать ходы в усатовских катакомбах. Но часа через три они снова появились в лагере и привели с собой техника. Одежда на нем висела лохмотьями, лицо было бледно, губы почернели и запеклись, в глубоко запавших глазах — ужас.
— Что случилось? — спросила я, обеспокоенная видом техника.
— Плохое дело… — ответил мне муж. — Вчера на повороте в Усатово, его, — кивнул он в сторону техника, — встретили два каких-то бандита, отняли фонарь и оставили старика в темноте, в нескольких километрах от выхода. Он лег на землю, пытался ползком нащупать дорогу, а там разветвлений… Всю ночь ползал… И если бы случайно не подошли мы, то ползал бы до самой смерти. Иван Никитович, нужно обязательно прочистить катакомбы, в них могут укрываться не только эти два бандита, Фронт ведь рядом…
— Сегодня же доложу Бадаеву и попрошу его расчистить усатовские шахты, — ответил Иван Никитович, наливая спирт в рюмку из графинчика.
— На, пей! — протянул он технику. — Но тот отрицательно покачал головой. — Пей, говорят тебе! Сразу полегчает, согреешься.
Техник с трудом проглотил разведенный водой спирт и съел маленький кусочек хлеба с колбасой.
Иван Никитович дал старику немного продуктов для его больной, парализованной жены и проводил до выхода из катакомб.
Жена техника умерла в тот день, когда он ползал по катакомбовским дорогам, пытаясь найти выход. Сам техник впоследствии был арестован оккупантами по подозрению в связи с партизанами, подвергнут пыткам. Он умер в застенке, не выдав тайну шахты номер два, где находилась наша партизанская база.
Работа в катакомбах кипела. Иван Никитович и Иван Иванович пилили камень, устраивая будущий партизанский лагерь. Они соединили наш штрек с соседними, расположенными за пятиметровой стеной. В центре устроили дежурную комнату, посредине сложили из бута большой овальный стол, под стенами намостили каменные скамьи. В нише штрека — склад для хранения оружия и огнеприпасов. Направо от дежурной, в обширном забое построили вторую спальню на 25 человек. Рядом два забоя отвели под командирские спальни. Украсили стены. В углу дежурной вырубили в стене нишу и, застелив ее бумагой, расставили книги.
С гордостью оглянув дело рук своих, Иван Никитович сказал:
— Ну, Ванюша, теперь у нас задача — найти воду. Идем на обводную дорогу. Там она должна быть.
До сих пор мы пользовались водой из глубокого подземного колодца, находившегося в полукилометре от лагеря. Идти к колодцу нужно было по центральной штольне Нерубайское — Усатово, что не исключало нежелательных встреч.
Новый колодец рыли на территории лагеря на обводной дороге. Каменистый грунт долбили ломами и кирками. Песок и камни вытаскивали ведрами и высыпали недалеко в забоях. Продолбили метра три, но вода не показалась. Иван Никитович начал волноваться, поглядывать на кровлю и бормотать:
— Да неужели? — и здесь же успокаивал себя. — Нет, не может этого быть. Вода есть! Долби дальше.
На четвертом или пятом метре песок стал сырым. Показалась вода. Иван Никитович торжествовал:
— Я же говорил вам, что найдем воду.
В помещениях нашего будущего лагеря могло быть уютно, если бы не холод да не сырые каменные стены катакомб.
Мне часто приходилось оставаться в лагере одной. Я пугливо оглядывалась на шорох, мне казалось, что из-за каждого поворота штреков кто-то следит за мной. Муж, замечая мой страх перед катакомбами, говорил:
— Борись, дорогая, изгоняй страх. Страх — это слабость, но ее можно побороть.
Мною овладело отчаяние. Как именно бороться со страхом, я не знала. Однажды, доведенная до крайнего возбуждения, я ушла из лагеря, чтобы подавить боязнь или идти по катакомбам до тех пор, пока в лампе не выгорит горючее. «Ведь жить со страхом в сердце нельзя», — решила я.
Свет фонаря пробивал темноту подземелий не больше, чем на пять-шесть метров, дальше все тонуло в густом мраке. Снова и снова меня мучила мысль: что же делать?
«Когда же, наконец, это подлое чувство покинет меня?!» — закричала я и пугливо прислушалась. Пористые стены подземных лабиринтов поглощали звуки голоса, возвращая их обратно глухим неясным шумом. В глубокую тишину штолен и штреков врывались зловещие шорохи. Я вздрагивала, до боли всматривалась в темноту. Это срывались с потолка «коржики»
2, да шуршал песок под ногами. Я плакала и шла… Перелезала завалы, заходила в боковые отсеки, натыкалась на тупики, возвращалась обратно и… снова брела. В одном из забоев я увидела две неглубокие ямки, а в них скелеты. Череп одного лежал немного в стороне. В изголовьи каждого скелета поставлены торчком острые камни. Хотела закричать. Хотела бежать, но ноги словно свинцом налились.
Я стояла, растерянная и беспомощная. Вдруг в углу заметила какую-то бумажку, потемневшую от времени. Стало почему-то менее страшно. Бумага вещь бытовая, напоминающая о жизни, заставила меня опомниться. Примостившись на камень, я начала рассматривать свою находку. На пожелтевшей от времени бумаге текст сохранился очень хорошо. Это была листовка подпольного партийного комитета большевиков времен гражданской войны. Партийная организация призывала трудящихся Одессы бороться с интервентами и белогвардейцами.
По мере чтения листовки мой страх перед катакомбами стал бледнеть и отступать.
Я вспомнила пьесу «Интервенция», которую смотрела в русском театре до войны. Эта вещь потрясла тогда не только меня. Многие люди украдкой вытирали слезы. А со сцены в это время неслась тихая, но бодрая песня заключенных.
Поднимая занавес прошлого, память увела меня в далекие незабываемые годы, и я мысленно увидела мужественные образы борцов за Советскую власть в Одессе. «Много, много их, старых и молодых, отдали свои жизни за то, что теперь должны защищать мы, — думала я, глядя на скелеты. — Кто они? Нужно будет расспросить Ивана Никитовича». Поднявшись с камня, я подошла к скелетам, постояла немного и направилась в лагерь. Мой страх исчез, как исчезает туман под воздействием солнечных лучей. Ночь уступила место дню. Передо мной была полная лишений и трудностей, но ясная дорога борьбы за Родину.
Глава III
В лагере были обеспокоены моим долгим отсутствием. Но узнав, где была я, Иван Никитович одобрительно закивал. Я протянула ему листовку. Старик оживился и, нацепив на нос очки, принялся читать.
— Ишь, сохранилась… — восхитился он. — Да, было дело… Эти листовки печатались обкомом партии в восемнадцатом году в Куяльницких катакомбах, под Шкодовой горой, там же помещалась типография газеты «Коммунист». Многих нет из тех, кто боролся тогда. А люди были хорошие… — вздохнул старик и, задумчиво глядя вдаль, начал рассказывать: — Будто сейчас помню, как тяжело было партизанить, особенно в девятнадцатом. В Одессе интервенты, а на Севере белые подходили уже к Орлу. Но мы не теряли надежды, били здесь беляков. И надоели же мы тогда им, — засмеялся Иван Никитович, — решили они сжечь Нерубайское за партизанство. Назначили сюда большой отряд карателей. Что делать? Одесский подпольный райком решил идти в открытую, разделил наш отряд на три группы: первая затаилась у Федосеева выезда, вторая — в балке Махна и Лаптия, третья — у Цыганской балки. Оружие мы в то время имели. Обком снабдил нас даже французскими гранатами. Ждем… Видим, идут каратели. Мы пропустили их в кольцо. Ну и расколошматили же мы тогда беляков, они потом и нос боялись сунуть сюда. Бывало, назначат карателей идти в Нерубайское, так их сразу холера хватает, бегут к врачам, в околоток, просят освобождение — боялись партизан хуже огня.
— И будешь, старик, снова партизанить! — раздался у нас за спиной голос Бадаева, неожиданно вынырнувшего из бокового штрека.
Иван Никитович смутился и протянул Владимиру Александровичу листовку.
— Да вот Галя нашла. Ну и вспомнилось…
Прочитав листовку, Бадаев бережно вложил ее в записную книжку.
— Это ценная находка, надо будет переслать ее в Москву. Ну, а вода есть?
— Да еще какая! — с гордостью ответил Иван Никитович. — Мы долго возились, а все же добрались…
— Веди, показывай, — и Владимир Александрович направился к колодцу. — Идемте с нами, — пригласил он меня и Межигурскую.
Заглядывая в колодец, Бадаев любовался чистой, прозрачной, как слеза, водой.
— Вот это дело! А дай-ка попробовать.
Опустив ведро в колодец, Тамара зачерпнула воды и подала Бадаеву. Отпив глотка два, он похвалил:
— Хорошая, сладкая, — и, повернувшись ко мне, спросил: — Примусы привезли?
— Нет!
Подморгнув мне, Иван Никитович сказал:
— Да пришли ты ей, Владимир Александрович, эти примусы, а то она загрызет меня…
— Саша, — обратился Бадаев к приехавшему с ним Александру Баршаю, — напомни Васину, пусть прихватит примусы, а то, действительно, люди питаются одними консервами. А вещи ты забрала? — снова повернулся он ко мне.
— Нет! — ответила я и смутилась под его пристальным укоризненным взглядом. Тихо, но властно он сказал:
— Завтра же поедешь в город и заберешь. А в следующий раз — точно выполняй приказания.
Под утро меня вывели из катакомб. В город я ехала на танкетке вместе с Сашей. Танкетка летела вихрем. На ухабах сильно потряхивало.
С гребня Шкодовой горы я увидела Одессу, окутанную черной завесой пыли и дыма. Горели Пересыпь, Нефтегавань, порт.
У железнодорожного моста, соединяющего Ленинский район с городом, Саша на миг приостановил танкетку, дал мне сойти и помчался в сторону Лузановки на помощь морякам, защищавшим этот участок фронта.
Я пошла вверх по Селянскому спуску. Рвались снаряды и бомбы. Баррикады, мостовая, тротуары — разворочены. Несмотря на артобстрел и бомбежку, по улице торопливо шли люди.
В Аркадии меня познакомили с будущим заместителем командира нерубайского партизанского отряда — Васиным Яковом Федоровичем. Это был человек лет 45 с широким скуластым лицом, вздернутым носом и
пытливыми глазами. Его быстрые, немного нервные жесты говорили о кипучем характере и некоторой вспыльчивости.
 Васин Яков Федорович - заместитель командира партизанского отряда.
Васин Яков Федорович - заместитель командира партизанского отряда.
Нагрузив машину необходимыми вещами и прихватив пятиглавые примусы, мы уехали. Протяжные, воющие звуки снарядов, свист и разрывы бомб заставляли невольно втягивать голову, опасливо коситься на небо.
Машина кружила среди баррикад и воронок в поисках проезда.
Резко перегнувшись через борт, Васин попросил шофера заехать на Раскидайловскую улицу и, словно оправдываясь, пояснил:
— Хочу узнать, живы ли еще мои, несколько дней не видел их, все спешка…
Отделившись от ворот приземистого дома, к нам подбежала высокая красивая брюнетка. В ее глазах были тревога и любовь.
— Ты, Катя, все у ворот дежуришь, — мягко упрекнул жену Васин. — Не томи себя, сиди лучше в бомбоубежище. Когда можно будет, я сам приеду к тебе. Не волнуйся, со мной ничего не случится. До свиданья! — крикнул он, отъезжая.
Мы снова начали петлять среди баррикад. Несколько раз пришлось возвращаться. С большим трудом выбрались на улицу Красной Гвардии.
Парадный ход и ворота моего дома оказались заколоченными наглухо. Мы проникли в дом со стороны соседней улицы. Свои вещи, оставленные у дворника Сохатского, я нашла в квартире Винского, рабочего судоремонтного завода.
Собравшиеся возле машины знакомые женщины укоризненно посматривали на меня и мои чемоданы
3, очевидно, думая: «Говорила, что едет на фронт, а чемоданы тянет с собой…» Мне хотелось оправдаться, сказать им, что я забираю вещи по приказу командира, что я не удираю, а останусь бороться. Но я молчала. Объяснить им все не имела права.
Ночью я вернулась в катакомбы.
* * *
Однажды Иван Никитович и Павел Харитонович привезли с поверхности полные дрожки красных помидор для засола.
Сгрузив помидоры, Павел Харитонович подал мне круглую большую плетенку, полную крупного черного винограда.
— Это с моего виноградника, — похвастался он. — В этом году хороший уродился.
Мои пальцы бережно дотрагивались до каждой гронки, до каждого листика, мне казалось, что они еще сохранили солнечное тепло и запах полей.
Засолив помидоры, я вернулась в дежурную. Товарищи делились впечатлениями и думами о фронте, о героической обороне Одессы, о больших потерях гитлеровцев на всех фронтах; Бадаев отметил, что только под Одессой враг положил уже несколько дивизий, что повсюду в тылу у врага начинают действовать партизаны, что разгром фашизма неизбежен.
Поднявшийся с места Яков Федорович торопил Бадаева:
— Поехали, Владимир Александрович. Мне ведь сегодня опять всю ночь возить.
Васин и шофер Иван Андреевич Гринченко беспрерывно ездили в город и обратно. Прошлой ночью они привезли два станковых пулемета, несколько ручных пулеметов, винтовки, тол, гранаты РГД и Ф—1, медикаменты, хирургический инструментарий, тужурки на меху, валенки. галоши, шапки-ушанки. Доставить все это в Нерубайское было трудно, все дороги простреливались и бомбились врагом. Забросить привезенное в катакомбы тоже нелегко. Нельзя, чтобы видели посторонние. Враг засылал в город и окрестные села шпионов; особенно в Нерубайское и Усатово.
По договоренности с нашим командованием начали прочес катакомб. Для этого были выделены красноармейцы и будущие партизаны.
И действительно, в некоторых отсеках шахт задержали нескольких темных личностей. Нам приказали быть бдительнее. В лагере на главной штольне мы установили дежурства.
Через пару дней лагерь оживился многоголосым говором и смехом. Из города вместе с Бадаевым в катакомбы прибыла большая группа товарищей. Большинство из них — члены и кандидаты партии, комсомольцы, по специальности — снайперы, радисты, подрывники. С ними пришли наш будущий парторг Константин Николаевич Зелинский и председатель Нерубайского сельсовета Иван Францевич Медерер.
По рассказу Якова Федоровича Васина, это были обстрелянные, крепкие люди.
— Вон видишь, тот, худощавый, черненький, сидит он рядом с Иваном Никитовичем, это снайпер Петренко Иван Николаевич, за ним числится по фронту более ста уничтоженных гитлеровцев. А тот, круглолицый здоровяк, с забинтованной рукой — Константин Николаевич Зелинский. Командование решило эвакуировать его в тыл, а он захотел партизанить. До войны работал председателем колхоза в селе Большая Фоминая балка.
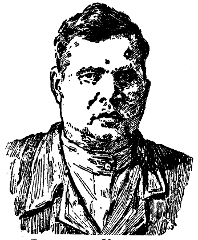 Зелинский Константин Николаевич - парторг партизанского отряда.
Зелинский Константин Николаевич - парторг партизанского отряда.
Молодежь разбрелась по катакомбам. Из-за каждого поворота неслись всплески их веселого смеха. Желтые блики фонарей в темноте казались блуждающими огоньками.
Комсомолец Харитон Лейбенцун, увидев на обводной дороге колодец, шумно восторгался:
— Ох, братцы, милые! Воды-то, воды сколько! Это тебе не передовая, тут и мыться можно. А если попробовать? Ух, хорошая! — Харитон вытер губы. — Ребята, двинули в дежурку или как она там называется, заведем патефон.
Вихрем ворвались музыка и песни в угрюмые шахты. Послышались громкие возгласы: А теперь — танцевать!
— Тамара! Пляши лезгинку! Да где же Шестакова? Куда спряталась?
— Вот она, вот! — закричал кто-то.
Круг раздался и на средину его вытолкнули черноволосую стройную молодую женщину. Она была очень красива. Крутобедрая, тонкая в талии, нос словно выточенный, черные большие глаза с миндалевидным разрезом, вишневые, чуть припухлые губы. Она приковала к себе взоры всех.
Стоявший рядом со мной Даня Шенберг шепотом рассказал, что Тамара Шестакова — медицинская сестра, теплоходом возила раненых из Одессы в Батуми во время обороны. «Фашисты бомбят, бывало, теплоход, а ей будто дождик идет. Вокруг свистит, воет, а Тамара смеется, ободряет раненых».
Тамара кружилась в танце. Все трепетало в ней радостью жизни, счастьем юности. Ей стало жарко, она сбросила пальто. Бордовое платье, белый кружевной шарф, небрежно развевавшийся на плечах, придавали ей сходство с расцветшей веткой вишни, жадно впитывающей в себя тепло ласкового весеннего солнца.
Окончив танец, Тамара хотела юркнуть в толпу, но ее перехватили.
— «Яблочко», Тамара! Русскую плясовую! — требовали пожилые.
Я неодобрительно поглядывала на ребят. Мне казалось, что во время войны должны замереть смех и веселье, что нужно думать только о борьбе с гитлеровцами.
Заметив мое недовольство, Иван Иванович тихо шепнул мне:
— Они поступают правильно. Сейчас веселятся, а завтра пошлют их на задание, и некоторых из них мы можем не увидеть больше.
Находившийся здесь же Бадаев, услышав, о чем говорит мне Иван Иванович, добавил:
— Это юность. Она всегда кипучая и неунывающая. Вот накормить бы их следовало, люди с утра ничего не ели. Есть там у тебя что?
Я начала накрывать стол.
Увидев блюдо винегрета, Харитон закричал:
— Братцы, товарищи, силос!
Грянул хохот.
— Ме-ке-ке! — проблеял кто-то.
— Вот пустосмехи, — поморщилась Тамара Межигурская, до этого тихо сидевшая в углу дежурной. — Ну чего разошлись! — прикрикнула она на ребят. Но Харитон не унимался:
— Товарищи! Хорошо, что Тамара подала голос. Мы ведь чуть не забыли, что у нас две Тамары. Как быть? Можно попутать их.
После обсуждения столь важного вопроса решили: Тамаре Межигурской добавить прозвище «маленькая», Шестаковой — «большая».
Зелинский засмеялся и, потирая раненую руку, спросил:
— А как быть с Иванами? Их у нас пять. Крестить, так крестить. А ну, думайте, как именовать отряд Иванов.
Ребята быстро справились и с этой задачей, решив: четыре Ивана — люди в годах, называть их по имени и отчеству, а пятого — молодого, называть Ваня, Ванька, да не все ли ему равно.
Оживленно разговаривая, люди с аппетитом ели поданные к столу холодец, консервы и «силос». И только снайпер Петренко ни к чему не притрагивался, кроме картофеля.
— А ты что не ешь? — заботливо спросил Ивана Николаевича Васин.
— У меня язва желудка.
— А как же вы воевать будете? — вмешались ребята.
— Как на передовой воевал, так и здесь буду. Я не лучше других.
Глава IV
Наступило пятнадцатое октября — шестьдесят девятый день обороны Одессы. Мы уже знали, что наши войска временно оставят город.
Еще с утра Бадаев наметил план укрепления нашего партизанского лагеря. Руководство работами поручили Ивану Никитовичу, как опытному шахтеру.
Дел было много. Нужно замаскировать ход с так называемой десятой точки, соединявшей главную штольню первой шахты с ходами, идущими параллельно.
Решили оборудовать основной пост у выхода в Нерубайское на седьмой точке. В километре от него построили баррикаду с бойницами и потайным ходом под ней. В сторону Усатово в четырех километрах от лагеря построили вторую баррикаду. На баррикадах установили станковые пулеметы. Дороги, ведущие к баррикадам, заминировали.
Люди работали охотно, с увлечением. В дальнем забое наш шофер, механик Иван Андреевич Гринченко приводил в порядок движок — будущую подземную электростанцию. Радисты проверяли исправность аппаратуры. Даня Шенберг, пыхтя и отдуваясь, возился с установкой телефонов на будущих постах охранения. Межигурская смазывала тавотом запасные винтовки. Иван Иванович тщательно осматривал оружие. Шестакова вместе с мужчинами строила баррикады.
К концу дня все работы по лагерю были окончены и проверены Бадаевым. Всем бойцам и командирам вручили оружие. На главной штольне у баррикад уже стояли посты охранения, а у выходов из катакомб — посты наблюдения. Возвратившийся из города Васин доложил Владимиру Александровичу, что он привез последний груз, а машину передал в распоряжение Н-ской воинской части.
— А семью ты перевез в другой район? — поинтересовался Бадаев.
— Точно выполнил все ваши указания.
Землю окутала ночь, темная, тревожная и бурная. Наши сигнальные ракеты прочерчивали небо разноцветными полосами. Со стороны моря на гитлеровцев обрушился шквальный огонь советских кораблей и береговых батарей. Враг был прижат к земле и даже не пытался вступить в перестрелку с нашей артиллерией. Советские воинские части незаметно вышли из окопов и направились в сторону города.
В это же время у обрыва Нерубайской балки молча стояла группа людей, провожая печальными взглядами уходившие войска. Дорога опустела. Темень ночи укрыла последнюю колонну. Но долго еще глядели Бадаев и его товарищи в сторону Одессы, окутанной пламенем пожаров. И казалось им, что они слышат с моря прощальные слова защитников города:
«Одесса, родная, истекающая кровью Одесса!
Жди нас, мы вернемся!»
* * *
После совещания командиров Бадаев созвал в дежурной общее собрание партизан.
Свет фонаря едва пробивал темень катакомб.
Люди тихо переговаривались, выжидательно поглядывая на Владимира Александровича.
— Товарищи, — обратился к нам Бадаев, — согласно приказа Верховного Главного Командования наши войска сегодня ночью оставят Одессу. Областной комитет Коммунистической партии и областной Совет депутатов трудящихся обратились с воззванием к нашему населению:
«… В связи с изменившейся обстановкой в условиях длительной осады Одесса слишком далеко отстоит от питательных баз и потеряла свое прежнее стратегическое значение. В силу этого Советское Правительство и Главная Ставка решили оставить город Одессу, отозвав войска на другие участки фронта.
…областной комитет партии и Исполком областного Совета депутатов трудящихся призывают вас не складывать ни на минуту оружия в борьбе против немецких оккупантов. Беспощадно расправляйтесь с захватчиками, бейте их на каждом шагу, преследуйте по пятам, уничтожайте их, как подлых псов.
…Организуйте новые партизанские отряды! Пусть в каждом районе, в каждом селе нашей области и в г. Одессе грозно пылает пламя партизанской мести. Действуйте смело и бесстрашно, беспощадно бейте и уничтожайте врага! К оружию, товарищи! Вперед за нашу победу. За Родину!»
Окончив читать, Бадаев, окинув нас взглядом своих умных серых глаз, продолжал:
— Товарищи! Мы должны оправдать доверие Родины и Партии. По примеру партизан Белоруссии и Западной Украины, мы будем бороться против фашистских захватчиков.
Призывая нас к мести, Владимир Александрович указал на то, что нашему отряду придется действовать в особо трудных условиях безлесной Одесщины, что для борьбы с оккупантами нужно будет выходить из катакомб, которые могут быть окружены войсками врага. «Возможно, что в Одессу, вместе с оккупантами, приплетутся и недобитые в гражданскую войну белогвардейцы, жадные и вероломные, словно шакалы». Враг рвется к Москве, Ленинграду, Севастополю. Наша задача — уничтожать фашистов, срывать их мероприятия, тем самым помогать Красной Армии, советскому народу в его борьбе против захватчиков.
— Кто желает высказаться? — спросил председатель собрания Константин Николаевич Зелинский.
Первым выступил Иван Францевич Медерер с предложением временно воздержаться от боевых действий. Ему возразил Яков Федорович Васин, который говорил о том, что гитлеровцы должны сразу же натолкнуться на сопротивление. Это, хотя немного, но оттянет на нас силы врага, идущего на Севастополь. Враг ведь не знает, сколько партизан в катакомбах, он будет думать, что партизан много.
Иван Андреевич Гринченко, Иван Иванович Иванов и Иван Николаевич Петренко поддержали Васина. В своих выступлениях они доказывали, что пришли в катакомбы не прятаться, а бить врага, заставить его нервничать, оглядываться назад.
С места поднялся Константин Николаевич Зелинский.
— Товарищи, мы должны выполнить призыв Партии и Родины: бить врага на каждом шагу.
Минута, пропущенная теперь, может дорого обойтись нашей стране потом. Сейчас самый острый момент борьбы с врагом. И грош нам цена, если мы будем выжидать у моря погоды. Я уверен, что в этой борьбе коммунисты нашего отряда будут, как всегда, в авангарде.
Со всех сторон послышались голоса: «Правильно!»
Заключительное слово предоставили Бадаеву.
Призывая к активной борьбе с захватчиками, Бадаев говорил о том, что партизаны должны быть бдительны, находчивы, уметь молчать, поменьше знать о своих товарищах и их родных, не интересоваться фамилиями, а главное — бить врага быстро и метко, в самые чувствительные места. Здесь же Владимир Александрович огласил приказ об организации совета отряда, о назначении командиров групп и прикреплении к ним бойцов-партизан.
На этом же собрании в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое октября 1941 года, у развернутого знамени, мы дали клятву верности Родине. Торжественно и сурово звучали слова клятвы в устах бойцов и командиров:
— Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды партизан, торжественно клянусь быть стойким, мужественным и дисциплинированным. Не щадя жизни и крови, клянусь защищать свою Родину до полной победы над врагом. Если же я нарушу свою клятву, то пусть меня покарает суровая рука товарищей и советский закон.
К утру шестнадцатого октября 1941 года у выходов из катакомб в село Нерубайское Бадаев наметил огневые точки и расставил силы партизан.
Со стороны станции Дачная, где вчера еще был фронт, слышалась перестрелка. Впоследствии наша разведка установила, что до 12 часов дня на Нерубайском направлении атаки врага отражали несколько человек, оставшиеся стоять на смерть, среди них два моряка, пулеметы которых умолкли вместе с их сердцами. Фашисты, пойдя в атаку, наткнулись на пустые окопы. Это вызвало страх у захватчиков. Они откатились обратно. Хорошо зная изобретательность защитников Одессы, проявленную в борьбе с ними, солдаты приняли опустевшие окопы за новую ловушку.
Ни приказы, ни угрозы не могли заставить солдат перешагнуть опустевшие советские окопы. Гитлеровское командование прибегло к испытанному средству — напоило их.
В Нерубайском оккупанты появились около двух часов дня. Впереди ехал на белом коне офицер. За ним шла колонна автоматчиков; они были пьяны, горланили и беспорядочно стреляли.
Село затаилось. Не встретили оккупантов хлебом-солью! Но зато из каждого выхода катакомб за ними следили зоркие глаза партизан, ожидавших сигнала.
Сигнал дан!
Чья-то меткая пуля свалила офицера. Враги заметались в панике. Новый залп скосил еще несколько шеренг гитлеровцев.
Это «хлеб-соль» непокоренных!
Немцы не выдержали и поспешно ушли из села.
Чтобы не расконспирировать себя, Бадаев при казал прекратить огонь.
Через несколько часов со стороны Гниляково фашисты начали обстрел высотки в направлении села Усатово, по-видимому, считая, что оттуда по ним вели огонь защитники Одессы. Тактика Бадаева оказалась безошибочной. Обстрелянные враги не поняли, что по ним били партизаны из катакомб.
Утром семнадцатого октября мы услышали винтовочную и пулеметную стрельбу со стороны кладбища. По селу неслись крики и вопли о помощи.
Бадаев, прислушиваясь к доносившимся звукам, тихо произнес:
— Вот оно — началось!..
Глава V
Ночью меня вызвал Бадаев.
— На рассвете пойдешь в Нерубайское, — обратился он ко мне. — Нужно узнать обстановку на поверхности и связаться с нашим разведчиком в этом селе. Оденься попроще и приди уточнить задание. Да, — немного помедлил он, — принеси свои документы.
Заметив мое удивление, пояснил:
— Так нужно! Они будут храниться в сейфе.
И тут я впервые подумала о том, что могу и не вернуться…
В штабе я увидела 13-летнего мальчика Колю Медерера, сына одного из наших бойцов. Он постукивал ногами по железному сундуку. Бадаев сидел в задумчивой позе, полусклонив голову на ладонь левой руки. Услышав шаги, он испытующе взглянул мне в глаза, потом повернулся к Коле:
— Перестань.
Коля притих и уставился на меня.
— Он поведет тебя в Нерубайское, — пояснил Владимир Александрович, указав на Колю, — по дороге будет идти и футболить камешки, остановится возле нужной хаты. Вот пароль, — сказал он, протягивая мне бумажку, — ты должна выучить его наизусть. Коля, ты хорошо понял, о чем я говорил тебе?
— Понял.
— Смотри, Николай, ты боец. Задание должен выполнять, как взрослый.
— Понимаю! Не маленький!
— Конечно, ты большой… — печально усмехнулся Бадаев и, немного помолчав, распорядился — Пойди позови Ивана Ивановича и Ивана Никитовича, они поведут вас к выходу из катакомб.
Подхватив бензиновую свечу, Коля стрелой умчался выполнять приказание командира.
Проводив мальчика задумчивым взглядом, Бадаев тихо заговорил:
— У меня ведь тоже трое ребятишек… Старшенький — Сашка (ему восьмой год) все, бывало, приставал ко мне: «Папка, все на войне, почему ты дома?» Но как ему объяснишь?..
Разговор был прерван приходом моих спутников.
Бадаев предупредил Ивана Ивановича:
— Ты, Ваня, поднимись наверх, разведай. Но будь осторожен. До свидания, Галина,— повернулся он ко мне, — желаю удачи, — и крепко пожал руку.
Мы вышли на центральную штольню, которая вела в сторону Усатово. Иван Никитович шел впереди, освещая путь фонарем.
У второго поста нас окликнули:
— Кто?
— Свои, — ответил Иван Иванович.
— Пароль.
— Ленинград. Отзыв?
— Одесса. Проходите, — услышали мы из темноты голос Зелинского.
— Своих не пропускаете, — пошутил Иван Иванович.
— Свои-то, свои, а дисциплина…
Коля немного отстал от нас, заглядывая в боковые ответвления катакомб. Иван Никитович прикрикнул на него:
— А ну, вояка, иди-ка впереди, а то еще…
Я мысленно рассмеялась, вспомнив, как попал к нам мальчик.
В ночь на шестнадцатое октября в подземном штабе-забое шло совещание командиров. Речь Бадаева была прервана внезапным вторжением Ивана Никитовича. Он тащил за собой светлоглазого загорелого мальчишку лет двенадцати-тринадцати, в рубахе голубоватого цвета и серых штанах. Все недоуменно уставились на них. Иван Никитович кипятился.
— Ось полюбуйтесь… — развел он натруженными руками с узловатыми пальцами, — Я направился к выходу посмотреть, как там на поверхности, не проник ли кто чужой в катакомбы. Иду по штольне. Вдруг — шорох… Я осмотрелся. Никого. Подумал, что это мыши. Подошел к баррикаде, спустился в траншею, а воно як закрычыть: «Дяденька, возьмите и меня. Я не хочу оставаться с фашистами!» Что было делать? Пришлось забрать. Тьфу! — отплюнулся старик. — Вот напасть на мою голову. Бачите, якый вояка…
Но напрасно огорчался Иван Никитович. Коля — сын нашего партизана коммуниста Медерера Ивана Францевича, оказался мужественным мальчиком. Во время обороны Коля вместе с шоферами-красноармейцами возил на передовые позиции снаряды и мины.
— Вот ты какой?! — ласково улыбнулся Бадаев. — Значит — воевал?! Так, так… Трое ребятишек уже бегают по штольням… Это четвертый, — озабоченно сказал Владимир Александрович.
— Придется детский сад открыть, — засмеялись командиры.
— Ладно! Подумаем о них потом, уведите его и выдайте теплую одежду, а то он совсем окоченел, — и добавил — Наши кухарки Анка и Саша доверились нам, пошли работать в отряд, не бросить же им своих детей…
Так Коля и прижился у нас в лагере, стал проводником на поверхности.
«Ай да бесенок, проследил старого партизана», — подумала я, оглянув шагавшего впереди меня Колю.
Пройдя еще несколько километров, я ощутила приток свежего воздуха, вдали блеснул рассеянный свет.
— Вот и отдых! — сказал муж и присел на корточки возле светившегося квадратного окна воздушного колодца. Иван Никитович и Коля присели на каменную скамью.
Потирая поясницу, Иван Никитович ругал низкие потолки штреков и штолен.
— Если засыпать воздушники в нашем секторе, закрыть водяные колодцы и замуровать входы в шахты, то доступ воздуха прекратится и люди могут через некоторое время задохнуться, — говорил старик.
— А верховодка скоро будет? — спросил Коля, уплетая завтрак, завернутый ему кухарками в газету.
— Скоро, — ответил Иван Никитович, поднимаясь с места. Увидев, что мальчик небрежно бросил бумажку на катакомбную дорогу, строгим тоном приказал — Подними ее сейчас же. Ты поручишься за то, что в катакомбах нет никого кроме нас? А если кто-нибудь пройдет этой же дорогой, поднимет бумажку и по ней догадается, что здесь были люди, а по виду и содержанию установит, давно ли проходили? Эх, хлопче! Так мы можем протянуть след прямо в лагерь. Закопай ее в песок под камни.
«Теперь пропало… будет ворчать всю дорогу», — подумала я, хорошо зная характер Ивана Никитовича. Но к моему удивлению, он шел молча, о чем-то сосредоточенно думал.
Вдруг в тишину лабиринтов неожиданно, словно сон, ворвалась мелодия, казалось, кто-то играет на ксилофоне. «Уж не сплю ли? — подумала я и ущипнула себя за руку. — Нет, больно!» Мои спутники спокойно шли навстречу музыке.
За поворотом, влево от дороги, я увидела большую подземную комнату. В глубине ее у стены — возвышение, напоминающее древний жертвенник. На нем — большая жемчужно-молочного цвета чаша с причудливыми зазубринами по краям. Падающие с потолка крупные алмазные капли воды, звонко разбиваясь о блистающие края чаши, наполненной водой, создавали иллюзию игры на ксилофоне.
Направив свет фонаря на чашу, я молча любовалась ею. «Так вот кто зодчий и музыкант — природа!» — подумала я.
Широко раскрытыми глазами глядел на чашу н Коля.
— Это верховодка? Почему чаша такая белая и сверкает красивыми огоньками?
Колино любопытство удовлетворил Иван Иванович:
— Давным-давно шахтеры заметили, что с потолка капает вода. Они взяли большой камень-ракушечник, вытесали его в форме чаши и поставили под эту капель. А в воде есть минеральные соли. Постепенно осаждаясь на камне, они одели его в нарядное платье.
Вновь завихляли шахтные ходы, освещаемые тусклым светом фонаря. На светло-желтых стенах штолен и штреков стали попадаться надписи, перекрещенные круги, непонятные значки в виде стрел и зигзагообразных линий. В одном месте черная стрела и пояснение: «НА ВЫХОД». А над ней озорник, как видно шахтер, почти в человеческий рост нарисовал длиннохвостого черта, с высокими ветвистыми рогами и оскаленной пастью. За одним из поворотов на ровной, словно отшлифованной стене я прочитала: «Довольно! Ухожу на фронт! Научусь бить врага. 30 августа 1941 года. Надежда».
Я мысленно увидела высокую белокурую девушку, именно белокурую, в пилотке, с винтовкой в руках и подумала: «Милая, Надежда, где ты сейчас? Научилась ли ты бить врага? Бей же его, бей!»
Вскоре мы подошли к стволу пятой шахты. Сорокапятиметровая глубина вертикального колодца шахты была разделена деревянной перегородкой, укрепленной на мощных столбах. В мирное время с одной стороны ходила клеть, выдавая на-гора камень-ракушечник, добытый шахтерами в недрах, с другой стороны — лестница, идущая вверх маршами, соединенными маленькими площадками.
Перегнувшись через барьер входа в колодец, Иван Иванович вместе с Иваном Никитовичем чутко прислушивались.
— Тихо… Никого. Шахта заброшена. Но все же, Иваныч, иди разведай, — шепотом сказал Иван Никитович.
Муж бесшумно скользнул в отверстие колодца и быстро начал подниматься наверх. Вернулся скоро.
— В поле ни души… Лезь, Галка! А ты, Коля, за ней! — На последнем марше он сделал знак остановиться и снова вынырнул на поверхность — Выходи!
Мы мгновенно очутились наверху.
Я осмотрелась. Вокруг шахтного ствола лежали штабели камня-ракушечника. Рядом разрушенная сторожка. Вокруг поле, заросшее бурьяном. Вдали в лощине раскинулось село.
— Давай простимся! — дрогнувшим голосом сказал Иван Иванович и притянул меня к себе. — Я жду тебя!
Глава VI
Осеннее солнце, по временам выглядывая из перистых облаков, ласкало землю последним теплом. В воздухе летали прозрачные, словно стеклянные, нити паутины.
Дорога была пустынной и казалась бесконечной. Вдруг из-за пригорка вынырнул мотоцикл.
— Вот они — фашисты…
Повернувшись к Коле, как можно спокойней, сказала:
— Не пугайся. Иди медленно.
В мотоцикле сидели двое в зеленоватых шинелях. Один из них — офицер в фуражке с позолотой. Проскочив мимо, мотоцикл резко заскрипел тормозами и повернул назад. Тревожно и учащенно забилось сердце: «Задержат… Заберут в тюрьму… Подвергнут пыткам. Молчать буду!»— решила я. Мои нервы сжались в тугой узел, зубы до боли прикусили язык, а ноги, покорные воле, продолжали идти. Внутренний голос напоминал мне: «Это твое первое задание, и ты должна выполнить его!»
Догнав нас, гитлеровцы внимательно оглядели меня и Колю. Но, как видно, женщина, идущая с мальчиком, не внушила им никакого подозрения. Дав полный газ, мотоцикл понесся в сторону Одессы.
— Итак, первый экзамен выдержан! — радовалась я. — Теперь необходимо решить, под каким предлогом войти в село, чтобы не вызвать подозрения оккупантов.
В Нерубайское я вошла под видом нищей. Обходя хаты колхозников и шахтеров, жалобно просила: «Подайте, Христа ради, несчастненькой». Кое-где мне подавали. Я принимала подаяние и быстро прятала его в грязную замусоленную корзинку, низко кланяясь, благодарила:
— Спаси вас Христос, матерь божья от всяких напастей и бед.
— Беда уже в хате… — с горечью отвечали женщины и кивали в сторону сновавших по селу гитлеровских солдат.
Мне удалось установить, что оккупанты разместили свои воинские части далеко от балки. И только над главным входом первой шахты, да на околице села со стороны города и станции поставили патруль. Возвращаясь обратно, не доходя до кладбища, я увидела женщину, попросила у нее подаяние. Взглянув на меня, она с укором сказала:
— Такая молодая, а уж просишь… — и на ее обветренном, с большими выдающимися скулами лице явно выразилось презрение. — Что руки опустила? Иди работать.
— Куда?
Этот вопрос немного смутил женщину:
— Иди… в поле! Собирай хлеб, кукурузу. Вон сколько мать-земля уродила. Я старая, а все же не хожу побираться, — доказывала она.
Я вздохнула.
— У вас хоть хатка. А у меня — ни кола, ни двора…
Взгляд женщины потеплел, уже более приветливо она спросила:
— Что, разорил гнездо?
— Да.
— Ох-хо-хо! Зайди уж! — махнула она рукой в сторону маленькой хатки, стоявшей в глубине двора.
Я вошла в крошечные сенцы. В углу — ворох початков кукурузы, на скамье доспевают помидоры.
— Собираете?
Видимо, в моем вопросе что-то не понравилось женщине. Она отрубила:
— Собираю… А по-твоему — может умирать нужно?
Она говорила с достоинством, как человек труда, способный к борьбе и чувствующий гадливость к тем, кто не борется с лишениями и невзгодами.
— Садись, — пригласила она. — В ногах правды не ищи. Ты откуда? —
— Из Одессы.
— Что там нового?
— То же, что и у вас, — уклонилась я от прямого ответа.
— У нас… — начала было женщина, но умолкла, словно захлебнулась водой. Губы ее дрожали. Она провела по лицу рукой, словно отгоняя страшные воспоминания. Справившись со своим волнением, продолжала:
— Позавчера, семнадцатого, был сильный бой на кладбище. Люди говорят, наших было сорок два человека. И все молодые, комсомольцы.
— Откуда вы знаете, что они комсомольцы?
— А как же? Они стреляли по тем и кричали: «За партию! За комсомол!» Моя ж хатка рядом. Отсюда все слышно. Да ты не перебивай! Среди них была одна девушка, должно, медицинская сестра, у нее видели сумку с красным крестом. Все погибли… — вздохнула женщина. — Может вот так и моя Нюська где-нибудь… Это моя дочка, — пояснила она. — Погнала колхозный скот и нет о ней ни слуху, ни духу…
— А эти люди из вашего села?
— Нет! Народ говорит, что они шли из-под Дальника. Одеты были в теплые бушлаты, ватные штаны, хорошие крепкие ботинки. У каждого винтовка. У них был и большой пулемет, гранаты. Народ поговаривает, что шли они в катакомбы Холодной балки, да ночью был сильный туман, сбились с дороги. Хотели укрыться на кладбище — вон напротив, — кивнула она в сторону высотки, белевшей памятниками и крестами, — да там и остались… На рассвете двинулись войска тех… Завязался бой. Часов пять отбивались комсомольцы. Кончились патроны, они пошли в штыки. Да не пробились… Их горсточка, а тех — войско. И хоронить их не дают… Один из них, было, прорвался, забежал во двор старика Фурманенко, думал, может быть, спастись. Догнали… Убили его и Фурманенко, там же во дворе. А потом стащили всех на поляну, уложили рядами, пригнали нас, дескать, глядите: это будет и с вами…
Концом белой косынки женщина смахнула набежавшую слезу и приглушенным голосом продолжала:
— Убитых раздели… оставили только белье. Женщины смотрят на них, плачут. У каждой ведь где-то сын, муж, брат или дочь… Может и их… Прикладами да дубинками солдаты построили нас в ряд, а потом отсчитали сорок человек, связали им руки колючей проволокой, отвели в сторонку и расстреляли. Многие женщины упали в обморок. Катю Холоденко так и отнесли домой, словно мертвую. Когда она очнулась, давай рубить все в хате. Рубит и приговаривает: «Ничего не дам, все пожгу, чтобы им не досталось. И хату сожгу». Она и сейчас ровно не в себе, ходит по селу, как тень.
— А в селе как ведут себя немцы и румыны?
— Грабят под метелку… Все ищут партизан, а сами по скрыням шарят. Даже цацки забирают. Во дворе ловят кур, отрывают им головы и в сумку. Скот режут, молоко требуют. Молоко выпьют, кувшины бьют. Одни уходят, другие приходят…
— Много их в вашем селе?
— Бес их знает! — пожала она плечами. — Много, наверно, но селятся они все больше в центре.
Я поднялась со скамьи, чтобы идти, довольная тем, что мои личные наблюдения совпали с рассказом женщины. Итак, рация наша может выйти на поверхность сегодня ночью. Охраны вокруг катакомб нет.
— Погоди! Покормить-то тебя я забыла, — спохватилась хозяйка и, метнувшись в комнату, вынесла небольшую краюху хлеба, разломила её и большой кусок протянула мне. Это тоже дали люди. У меня те… геть все повыскребали… На еще помидор.
Хлеб и помидоры обжигали мои руки. Ведь я забирала последние крохи у старушки, но… пришлось.
Прощаясь с нею у калитки, я спросила:
— За кого мне молить бога?
— Колхозница я — Федосья Чугунюк, — с достоинством и гордостью ответила женщина и добавила — А бог тут не при чем, и нечего молиться ему.
Коля поджидал меня возле кладбища.
В катакомбы мы вернулись благополучно и без всяких злоключений.
Среди встречающих нас партизан я увидела Бадаева. Хотела доложить ему результаты разведки, но он предупредил:
— Потом. В штабе.
Раскрыв кошелку, я показала хлеб, картофель, лук, помидоры, собранные в селе.
— Откуда это? — спросил Бадаев.
— Подаяния колхозников и шахтеров, — ответила я и, скосив глаза, взглянула на Ивана Никитовича. Он одобрительно закивал головой.
Захлебываясь смехом, Коля пропищал, подражая мне:
— Подайте, Христа ради, несчастненькой.
— Ач якый герой, — улыбнулся Павел Пусто-мельников. — А сам мабуть…
— Коля молодец, — похвалила я своего маленького проводника.
Впоследствии я узнала, что предусмотрительный Бадаев осуществлял связь с внешним миром также и через подземные водяные колодцы, хозяева которых, как например, Помилуковский Иван Степанович, были нашими людьми и назывались они верховыми разведчиками.
В условленное время верховой разведчик опускал ведро в колодец, якобы набрать воды. Внизу партизаны перехватывали ведро, брали из него донесение, набирали воду, опускали в нее пробирку с новым заданием и, дергая канат, давали знак: «Тяни наверх».
Сообщив Бадаеву результат своих наблюдений, я разыскала мужа. Он сидел в дежурной, привалившись к стене. Увидев меня, обрадовался, спросил:
— Как, удачно? Страшно не было?
— Страшно, Ваня… И земля словно не та… Идешь, как по раскаленному железу. А потом ничего.
— Тебе там оставили обед. Иди, поешь.
Пообедав, я вернулась обратно. В дежурной было многолюдно, но тихо. Товарищи внимательно слушали сводку Совинформбюро, которую читал Ваня Неизвестный. Он каждый день у выхода из катакомб настраивал радиоприемник, принимал сводки и, записав их, зачитывал нам. В сегодняшней сводке Совинформбюро сообщалось об упорных боях на Волоколамском направлении, о героической борьбе наших войск, отражающих натиск озверелых фашистов, рвущихся к Москве, о героях-панфиловцах и о том, что с 19 октября 1941 года Москва находится на осадном положении. Это известие опечалило нас. Кто-то тихо вздохнул.
Молчание нарушил Иван Иванович:
— Все равно у Гитлера ничего не выйдет. Придет время, разобьют и его, и технику.
— Вот это верно! — восторженно закричал Харитон.
— Не кричи так… — попросил Петренко.
Но тот, не слушая его, продолжал:
— Фашисты не будут панствовать тут. Не будут!
— Да уймись ты, наконец! — прикрикнула на него Тамара Межигурская.
— А вдруг сдадут Москву?.. — высказал кто-то опасение. Люди заволновались, заговорили вразнобой, перебивая друг друга. Наконец, умолкли, ожидая, что скажет Бадаев. Увидев устремленные на него взгляды, Владимир Александрович поднялся с места:
— Страна, которая в прошлом вынесла столько тяжелых испытаний и выстояла, — непобедима! Мы на своей земле не потерпим захватчиков!
В углу затрещал телефон. Бадаев взял трубку. Докладывал первый пост.
— Хорошо! Сейчас пошлю кого-нибудь, — и, оглянув людей, Владимир Александрович приказал радисту Неизвестному — Сходи, Ваня, забери записку, ее передали нам через водяной колодец.
Спустя некоторое время Ваня вернулся и молча подал Бадаеву пакет.
Протянутая за конвертом рука дрогнула. Ведь это — первое донесение верховых разведчиков.
— Здесь подтверждаются сведения, полученные ранее от Галины. Сообщается о 42 убитых комсомольцах и сорока расстрелянных оккупантами колхозниках и шахтерах. Почтим их память вставанием, — предложил Владимир Александрович.
После минутного молчания раздались гневные возгласы:
— Смерть фашистам!
— Готовьтесь, товарищи, к вылазке, — распорядился Бадаев и добавил — Командиров групп прошу зайти ко мне для уточнения заданий.
Беспокоясь, что бойцы могут забыть необходимое, Васин командовал:
— Даня, не забудь взять «кошки», тебе ведь нужно лезть на столб — прослушивать.
— Уже взял. — ответил тот, указывая на перекинутые через плечо серповидные зубчатые «кошки».
— Петренко, захвати побольше шипов, чтобы хорошо подковать гитлеровские автомашины. Мины подготовили? Запалы не отсырели? Оружие проверили? Жидкость взяли? Не забывайте про сторожевых собак.
 Петренко Иван Николаевич - командир отделения партизанского отряда.
Петренко Иван Николаевич - командир отделения партизанского отряда.
Поставив фонари у стен, командиры построили людей в главной штольне.
Бадаев зорко наблюдал за бойцами. Осветив ноги партизан фонарем, он сделал замечание одному из них за плохо подвязанные противоипритные чулки.
— Утеряешь чулок — сторожевая собака может взять след. Подведешь себя и товарищей. В партизанском деле нужно учитывать каждую мелочь, — и, обратившись ко всем, сказал:
— Товарищи! Это ваше первое задание на поверхности. Надеюсь, вы выполните его с честью. Ведите, — приказал он командирам.
Одна за другой уходили группы партизан к выходу в Нерубайское и Усатово.
Тихо дотронувшись до локтя Владимира Александровича, я попросила:
— Пошлите и меня с ними.
Но он, погруженный в свои думы, молча глядел вслед уходившим.
— Яков Федорович, — обратилась я к Васину, — пошлите и меня.
— Успеешь…
В это время из бокового ответвления донесся говор. В штольню вошли радисты. Бадаев и Васин повернулись к ним.
— Группа готова к выходу на поверхность, — доложил старший.
— Добро! Пошли!
В штольне остались я и Васин. Яков Федорович взял стоявший у стены фонарь, проверил, есть ли в нем бензин, и сказал:
— Я проверю посты, — и сочувственно добавил: — не волнуйся, он вернется.
Мысль об ушедших, о грозящей им опасности не покидала меня. Чтобы успокоиться, решила побродить по катакомбам. Тревога — вечный спутник жены моряка и шахтера. Это чувство знакомо и мне. Я всегда волновалась, ожидая мужа из очередного рейса, но никогда так не боялась за жизнь его, как сейчас. Наконец, усталая от ходьбы и дум, вернулась в лагерь.
На обводной дороге у колодца Иван Францевич рубил дрова. Увидев меня, осведомился:
— Ребята ушли?
— Да. А вы дрова рубите? — спросила я, любуясь, как ловко он раскалывает поленья. Иван Францевич резко выпрямился:
— Я коммунист. Куда пошлют, там и буду работать.
Я поняла, что мой вопрос он истолковал, как упрек, и начала оправдываться. Но лицо его продолжало оставаться угрюмым, хотя обычно всегда было приветливым и добрым.
Из неловкого положения меня неожиданно выручил Конотопенко. Размахивая фонарем, он еще издалека кричал:
— Францевич! Руби скорее! Там того — этого, кухарки ругаются, боятся, что не поспеют приготовить варево к приходу ребят.
— Неси им пока то, что я уже нарубил, — ответил Медерер и энергично принялся за новые поленья.
Я поторопилась шмыгнуть в боковой штрек, глубоко сожалея, что случайно обидела хорошего человека.
Первой с задания вернулась группа мужа.
— Смирно! — подал он команду и, оглянув выстроившихся бойцов, рапортовал ответственному дежурному о выполнении задания.
Приняв рапорт, дежурный пригласил:
— Садитесь, товарищи!
Партизаны занялись осмотром и приведением в порядок оружия. Вскоре вернулись остальные группы подрывников.
Бадаев с радистами запаздывал. Мы волновались, чутко и настороженно прислушиваясь к каждому шороху.
Наконец, в штольне послышались шаги и голос Бадаева.
— Установлена связь с Москвой!
Я хотела знать подробности и пошла к Тамаре Шестаковой, ходившей на связь с радистами.
На каменном столике, накрытом белой салфеткой, едва мерцала неровным светом коптилка. Закрыв лицо руками, Тамара плакала. Я присела рядом с ней на кровать, застеленную серым солдатским одеялом, обняла ее за плечи. Уронив голову мне на грудь, она, всхлипывая, зашептала:
— Лежат они там все в ряд… Собаки погрызли им лица, руки, ноги. Это те 42 человека, о которых ты говорила. И все молодые, молодые. А где-то матери их ждут… У меня тоже есть мать. И тоже будет ждать… А дождется ли?.. — вздохнула Тамара и, по-видимому, боясь, что я неверно пойму ее, пояснила — Ты, может, думаешь, что я плачу из-за боязни. Нет! Я плачу оттого, что сама не могу задавить проклятых фашистов.
— Успокойся, Тамарочка, милая. Успокойся! Расскажи лучше, как вам удалось связаться с Москвой?
Вытерши лицо носовым платком, Тамара рассказала:
— На поверхность мы вышли через провал на огороде колхозника Ковальчука. Пустомельников и я разведали, где находятся патрули. Оказалось, что балка не охраняется. На всякий случай Бадаев расставил ребят для охраны. Радисты натянули плащ-палатку, установили радиопередатчик, укрепили на шесте антенну. Долго не могли найти Москву. Но все же нашли.
— И ни одного солдата не было вокруг балки?
— Нет, пару раз патруль прошел почти рядом.
Глаза Тамары слипались от усталости. Я уговорила ее лечь в постель и, закутав потеплее одеялом, ушла.
Глава VII
Под утро 24 октября 1941 года Бадаев вызвал меня в штаб и сказал, что я пойду в Одессу, чтобы узнать обстановку в городе. Владимир Александрович дал ряд советов и пароли, которые я заучила наизусть. На углу улиц Тираспольской и Комсомольской мне нужно было зайти в парикмахерскую к нашему разведчику Милану, сесть в кресло и сказать: «Подстригите меня под саксонку». Милан должен был ответить: «Вам будет лучше под горшок». Проводником снова послали Колю Медерера.
Прощаясь со мной, Владимир Александрович протянул мне зеленоватые бумажки и пояснил:
— Это немецкие марки. Возьми на всякий случай. Ты можешь натолкнуться на заставу, а они не брезгают. До выхода тебя будут сопровождать Иван Иванович и Иван Никитович.
Гордая доверием командира, согретая его душевной теплотой, я думала только об одном: как лучше выполнить задание.
В предыдущие дни наши подрывники каждую ночь, в разных местах, разрушали телеграфную и телефонную сеть оккупантов, минировали дороги, разбрасывали шипы, расклеивали по селу сводки Совинформбюро и листовки с призывом истреблять фашистов. Гитлеровцы со своей стороны усилили патрулирование в Нерубайском и Усатово, вследствие чего выход на поверхность связных стал рискованным.
Бадаев принялся изучать тактику врага, чтобы найти в ней
слабое место. Он заметил, что связные могут пробегать мимо патрулей, когда те расходятся в разные стороны.
Нам с Колей нужно было выскользнуть на поверхность в Усатовской балке через Шевчишин выезд, находившийся метрах в тридцати от проселочной дороги.
У последнего поворота Иван Иванович, потушив фонарь, подобрался к выходу, выскользнул на поверхность и махнул рукой: выходите.
Мы стремительно вырвались наверх, проскочили на дорогу, когда патрули, повернувшись спинами друг к другу, находились вдали.
Резкий переход от тьмы к свету вызвал в глазах острую боль. Обильно брызнули слезы. «Только бы жандармы не увидели, откуда появились мы», — думала я и облегченно вздохнула, когда, миновав балку, вышли из села.
Изрытая разрывами снарядов и бомб, дорога была пустынной. Я вытерла слезы, понюхала рукав пальто: не пахнет ли сыростью и въедливым дымом нашей подземной кухни.
Километра через три на дороге показалась телега, запряженная парой сытых лошадей, отнятых, как и все, где-нибудь в колхозе. На ней стоя и сидя ехали солдаты, азартно распевая:
Украина фарте бине,
Есты лапты, есты пыне.
Ай-ай-ля-ля!
Есты лапты, есты пыне,
Домнишоры фарте бине.
Ай-ай-ля-ля!
Захватчики пели о том, что Украина богата хлебом, молоком и красивыми девушками.
«Вот негодяи, — думала я, — они радуются тому, что есть чем нажиться».
У нефтеперегонного завода я ощутила трупный запах. Верховые разведчики сообщили уже нам, что гитлеровцы потребовали от рабочих завода выдать коммунистов, комсомольцев и участников обороны. Люди отмалчивались. Тогда оккупанты согнали женщин, детей, стариков к глубокой яме и расстреляли их. Вот уже несколько дней трупы не погребены.
Спустившись с горки, мы с Колей вошли в село Кривая Балка
4. По улицам и дворам сновали румынские солдаты в зеленоватых шинелях. Один из них гонялся за петухом. Петух в страхе забился под поленницу дров и солдат тщетно шарил штыком, стараясь достать птицу.
Меня волновало то, что на дороге, кроме солдат, никого не было. Но, на мое счастье, из переулка вынырнули две женщины и, робко оглянувшись, пошли в нужную мне сторону. Мы с Колей пристроились к ним. Не доходя хлебзавода, наша группа натолкнулась на заставу. Один из солдат на ломаном русском языке потребовал паспорт. Женщины протянули паспорта, из которых виднелись немецкие марки. Я сделала то же самое. Жадно выхватив марки, жандармы, не читая, отдали нам паспорта и пропустили нас.
Женщины свернули на одну из улиц.
Я решила не отставать от них, зорко наблюдая за всем.
На стенах и воротах домов наклеены приказы оккупационного командования. Жирным шрифтом в этих приказах выделялось слово «РАССТРЕЛ». На деревьях много повешеных. Ветер раскачивал трупы. Перед спуском, ведущим в город, на нижней ветке акации висел белый, как лунь, человек. Его руки были вытянуты, ноги чуть поджаты в коленках. На нем чистое белье. Казалось, что этот несчастный заранее готовился к смерти. Гитлеровцы повесили его так, чтобы каждый прохожий наткнулся на него. Лицо старика было спокойным, только чуть-чуть тронуто гримасой, словно бы он спрашивал: «За что?»
У ворот домов на скамьях сидели солдаты-захватчики, наблюдая за впечатлением, производимым этим ужасным зрелищем на советских людей. Но люди шли молча с окаменелыми лицами. Нас было уже человек десять.
В конце улицы, за железнодорожным мостом, мы снова наткнулись на жандармскую заставу. Люди на миг растерялись, приостановились, но, быстро придя в себя, пошли дальше. Вслед нам послышались крики: «Стай, стай!»
Один из гитлеровцев, догнав нас, забежал вперед, размахивал резиновой дубинкой и жестами показывал, что нужно вернуться обратно.
Пятясь под ударами, мы озирались, пытаясь найти спасительную щель. Но узкая улица, закрытые наглухо ворота, исключали возможность спасения.
Задержавший нас солдат в рваной куцей шинелишке был маленького роста. Ноги обуты в стоптанные бутсы, поверх них обмотки, из которых выглядывала почерневшая металлическая ложка. На боку у него побрякивал пустой закопченный котелок.
Несмотря на свой жалкий вид, во всей позе солдата чувствовались заносчивость и желание показать свою власть. Раскачиваясь из стороны в сторону, надуваясь, как индюк, жандарм наслаждался замешательством людей. Неожиданно он разразился речью.
— Мы пришел освободить Одесса от болшевик. Коммунист капут! Москва капут! Мы хазяин! Рус треби сказать хазяин: «Добри утра, домнуле капрал!» — и важным жестом показал на себя.
Люди молчали. Это взбесило гитлеровца. Он все больше пенился злобой:
— Чиго мольчишь? Кажи: «Добри утра!»
В угаре властолюбия он раздавал удары дубинкой направо и налево.
Одна из женщин пробормотала сквозь зубы:
— Доброго утра!
Физиономия фашиста расплылась в самодовольной улыбке, обнажив желтые лошадиные зубы. Ухарски взмахнув рукой, он «милостиво» разрешил идти.
Люди рассыпались в разные стороны, словно стая вспугнутых птиц.
Город, как и его окраины, был наводнен войсками оккупантов. Население затаилось в домах и подворотнях, и только изредка можно было увидеть прохожих. Развалины забиты трупами. В уцелевших школах и больших жилых домах разместились воинские части. У ворот занятых зданий стояли станковые пулеметы и патрули. Со стен домов исчезли советские плакаты и воззвания, вместо них наклеены устрашающие приказы оккупационного командования.
В Авчиниковском переулке мы с Колей остановились у приказов.
— Декрет № 1,— прочитала я. Этим декретом Антонеску ставил в известность население о том, что территория между Днестром и Бугом на севере по линии Могилев — Жмеринка входит в состав румынской администрации и отныне именуется «Транснистрия». Рядом с декретом висело объявление:
…— Выдавайте тех, которые имеют террористические, шпионские или саботажные задания, так же, как и тех, кто скрывает оружие… — в случае, ежели кто-нибудь не соблюдет распоряжения, данные приказами или теми, которые будут даны позже, должен знать, что:
БУДЕТ НАКАЗАН РАССТРЕЛОМ НА МЕСТЕ.
Оглянувшись, я подмигнула Коле и прикрыла его собой. Вмиг плохо наклеенные приказы очутились в руках мальчика, а потом и в его кармане.
С явкой мне не повезло. Штора окна парикмахерской на Тираспольской улице приспущена — знак опасности.
— Сорвалось… — досадовала я. — Что же делать? Нужно узнать, хотя бы то, что возможно.
Кое-где из подворотен робко выглядывали женщины. Я подходила к ним и просила подаяние. Вскоре моя потрепанная кошелка стала наполняться кусками хлеба, сухарями и лепешками.
Переходя из двора в двор, прислушиваясь к разговорам женщин, я узнала, что оккупанты вошли в Одессу семнадцатого октября и принялись грабить и истреблять население. 19 октября фашисты выгнали из домов евреев, людей, сопротивлявшихся во время грабежа, и предполагаемых участников обороны. Их загнали в пустые артиллерийские склады, заперли, облили нефтью и сожгли. Погибло более 20 тысяч женщин, стариков и детей.
В одном из дворов пожилая женщина рассказывала:
— Ой, бабоньки, что эти ироды делают на Молдаванке
5. На улице Буденного они устроили лагерь смерти. Грузовики не успевают вывозить расстрелянных. Одного убитого они ставят посредине кузова. Машину тряхнет на ухабе — голова человека запрокидывается. И кажется, что он кивает.
— Эх, — вздохнула одна из женщин, — что же дальше будет?..
Время истекало. Приближался комендантский час, после которого хождение каралось расстрелом на месте. Мы с Колей шли вниз по Комсомольской улице, в сторону Слободки.
Мне хотелось кричать:
— Люди, что вы смотрите! Душите гадов, разрушающих наши города, убивающих жизнь! Винтовками, кирками, лопатами, руками бейте паразитов.
Но нужно было молчать, идти туда, откуда наша рация передаст на Большую Землю об ужасах, творимых оккупантами.
В Усатово, используя сумерки, мы с Колей удачно проскочили в катакомбы. Держась за руки, побрели в глубину штольни, свернули в боковое ответвление, прошли еще метров сто ощупью, присели на камни и затаились, ожидая прихода наших. Мы сильно продрогли от холода и пережитого. Колю била нервная лихорадка. Я прижала мальчика к себе, пыталась успокоить и согреть его. Время ожидания тянулось мучительно долго, а наших все не было… Я вздрогнула, увидев слева в глубине штрека слабый желтый огонек, двигавшийся к нам. Мелькнула мысль: а вдруг это чужие? Вспомнила совет Бадаева: «Если увидишь в катакомбах врага, нет оружия, бей по фонарю» — и крепко зажала камень, находившийся в моей руке. Но, к счастью, это были партизаны.
Высоко поднимая фонарь, Иван Никитович водил им по всем закоулкам, разыскивая нас. Неожиданно он повернул за угол каменного столба. Я испугалась, что он уйдет, крикнула, но вместо звука у меня получился слабый хрип.
— Неужели не найдут нас? — продолжала волноваться я, но быстро успокоилась, заметив, что огонек стал приближаться.
Ну, что, дождались? — спросил Иван Никитович и улыбнулся, но увидев, что мы молчим и только лязгаем зубами, встревожился и закричал: — Они совсем закоченели! Говорил же я тебе, Иван Иванович, пойдем скорее, а ты еще долго возился… — упрекнул он моего мужа. — А ну, ребята, закутайте их в кожухи, — обратился он к бойцам, вынырнувшим из бокового штрека.
Никогда я не думала, что этот старый ворчун может быть таким внимательным к людям. «Даже Ваня не догадался, что мы замерзли».
Согревшись, я рассказала, где в селе расставлены патрули. Партизаны, выслушав мой рассказ, ушли на поверхность. Иван Никитович остался с нами и, поудобнее усевшись на камни, вытащил из своих глубоких карманов резиновый кисет, стал скручивать «козью ножку». Прикурив от фонаря (он был очень бережлив, особенно со спичками), сказал:
— Мы обождем их, они сейчас вернутся, пошли за языком. Ну, как, оттаяли? — ласково осведомился он.
В штабе, слушая мой доклад о событиях в городе, о замученных людях, Бадаев все больше хмурился, складки на его переносице сжались, глаза потемнели от гнева.
Я продолжала докладывать:
— На улице Энгельса двадцать второго октября взорван дом…
Весь подавшись ко мне, Владимир Александрович порывисто спросил:
— Какой дом?
— НКВД, — ответила я, — люди говорят, что взрывом истреблено более ста гитлеровских офицеров и их генерал-майор Глугояну. Взрыв произошел во время совещания.
— Молодцы! — горячо воскликнул Бадаев, но здесь же, словно опомнившись, умолк.
— Кто молодцы?
Он махнул рукой.
— Это я так… О другом думал. Рассказывай…
Утром меня вызвали в штаб. Там были командиры. На столике перед Бадаевым лежал револьвер и сумка с патронами. У стола стояла винтовка. Владимир Александрович торжественным жестом протянул ее мне:
— На! Возьми. Ты ее заслужила. А это револьвер и патроны к нему.
Я так обрадовалась, что с трудом проговорила:
— Спасибо!
С этого момента меня включили в число бойцов, которым доверяли охрану подступов к нашему лагерю.
Глава VIII
Основная масса партизан самоотверженно выполняла задания: минировали шоссейные дороги, разбрасывали шипы, уничтожали связь, ходили в разведку. Но были среди нас отдельные лица, нарушавшие партизанскую дисциплину. Это беспокоило совет командиров и партийную организацию. Было решено созвать собрание. Парторг подозвал к себе коммунистку Межигурскую:
— У нас некоторые партизаны не совсем сознательно относятся к своему долгу. Необходимо завтра же провести собрание. Напиши, пожалуйста, объявление, а то у меня, видишь… — указал он на забинтованную руку, — все еще колодой висит.
— Я с радостью, Константин Николаевич! Диктуйте! — пошарив в кармане куртки, Тамара достала блокнот с карандашом.
— Ты ж, Тамарочка, потом перепиши это большими буквами, — попросил Зелинский и добавил: — объявление повесь в столовой, чтобы все видели.
Собрание состоялось утром, когда люди вернулись с задания. Этой ночью второй группой подрывников был взорван эшелон с боеприпасами. Первым выступил Константин Николаевич Зелинский. Он сообщил собранию, что есть сигналы о нарушении дисциплины. В своем выступлении парторг указал, что в борьбе советских партизан главное — слаженность в работе, точность в выполнении приказов командира, что расхлябанность может привести к тяжелым последствиям. Зелинский осудил недостойное поведение радиста Евгения, опоздавшего на связь с Москвой, сделал замечания и другим товарищам. Он призывал молодежь брать пример с коммунистов отряда, учиться у них опыту борьбы с врагами.
После выступления парторга слово попросил Петренко:
— Коллектив знает, что я дисциплинированный человек, а вот тоже споткнулся… — медленно, будто отчеканивая каждое слово, начал он. — Недавно я получил задание идти на железную дорогу, но не пошел… А почему? Да потому, что наелся соленых огурцов и заболел. У меня ведь язва желудка. Пришлось вместо меня идти Ивану Ивановичу. Я измучился, пока он вернулся… Все думал: а вдруг что-то случится… Обещаю, подобное не повторится.
Слегка покачивающейся походкой моряка к столу подошел Иван Иванович. Бросив острый взгляд черных глаз в сторону провинившегося радиста, он горячо заговорил:
— Очень жаль, что появились отдельные товарищи, халатно выполняющие свои обязанности. В наших условиях это крайне опасно. Я вот не пойму старшего радиста, или он не умеет, или не хочет правильно организовать свой труд. Зарядку аккумуляторов он производит в день передачи. Это напоминает мне плохого охотника, который кормит собак, когда идет на охоту. Конечно, при таком отношении к делу могут быть срывы и опоздания. Ему следует, пока не поздно, подучиться у радиста Ивана Неизвестного, который всегда заранее заряжает аккумуляторы и проверяет исправность аппаратуры. Мы не должны быть снисходительны к тем, кто не признает партизанской дисциплины.
В таком же духе выступали и остальные партизаны. Говорили о значении стенгазеты, боевого листка, воспитательной работы среди молодежи.
Большое впечатление на всех произвело выступление Бадаева. Требуя абсолютного порядка от партизан, он указывал на то, что советские партизаны являются помощниками Красной Армии, поэтому в наших рядах не должно быть даже мелких нарушений.
— Вот послушайте, товарищи, что писал Владимир Ильич Ленин к рабочим и крестьянам еще в суровый 1919 год по поводу дисциплины. — Бадаев развернул книгу, лежавшую перед ним:
— «…Кто не помогает всецело и беззаветно Красной Армии, не поддерживает изо всех сил порядка и дисциплины в ней, тот предатель и изменник, тот сторонник колчаковщины, того надо истреблять беспощадно».
Поднявшись с места, Зелинский зачитал резолюцию, которая обязывала коммунистов усилить воспитательную работу среди партизан.
После этого собрания дисциплина нашего коллектива значительно окрепла. Для меня же это собрание, проходившее в холодных и темных катакомбах, стало школой мужества, дало зарядку в борьбе с оккупантами не только тогда, когда я была в отряде, но и впоследствии, в фашистских застенках.
* * *
Выходить на поверхность становилось все труднее. В Одессе и ее окрестностях сплошной военный лагерь фашистов — всюду патрули. Приходилось колесить десятки километров по подземным дорогам.
С заданий все возвращались усталые. Хотелось упасть на камни и уснуть, но люди шли к колодцу, по примеру Владимира Александровича мылись в забое ледяной водой, растирали тело докрасна и, немного отдохнув, принимались за работу: строили пекарню, новую, более обширную, столовую, мельницу, где впоследствии вручную мололи зерно. Неугомонный Иван Никитович придумал даже сушилку. Сложив из камня небольшое помещение, он поставил в него обыкновенную железную духовку, внутри которой помещался горящий примус. Вверху на веревках развешивали выстиранное белье. Пар выходил в щель неплотно прикрытой дверцы. Досыхало белье на наших плечах. В свободное время людей обучали стрельбе, метанию гранат в условиях катакомб.
Меня радовали мои успехи. Еще до войны я занималась стрелковым спортом и стреляла довольно сносно. Однажды, когда я одержала победу в стрельбе, Межигурская подошла ко мне и отозвав в сторону, сказала:
— Помнишь, я как-то обидела тебя, не сердись. Когда ты уходишь на поверхность, я не нахожу себе места, боюсь, что не вернешься, а я из-за своей гордости не помирилась с тобой. Давай будем друзьями. Хочешь?
С этого дня я ближе узнала Тамару Межигурскую, поняла, что она хороший товарищ, самоотверженный стойкий человек. Тамара рано овдовела. Большой радостью для нее был шестилетний сынишка Славик, которого она горячо любила. Когда партия призвала народ к защите Родины, коммунистка Межигурская решила влиться в ряды мстителей. Она отправила из осажденной Одессы своего ребенка в советский тыл. Часто потом, стоя на посту со мной, Тамара украдкой вытирала слезы и тоскливо шептала:
— Славик, Славик! Мой сыночек, где ты?.. — но тут же одергивала себя — Не время плакать!
 Межигурская Тамара Ульяновна — связная партизанского отряда.
Межигурская Тамара Ульяновна — связная партизанского отряда.
Вскоре меня снова послали в город.
В Усатово, проскочив между патрулями, я выбралась на дорогу. Ночью прошел дождь. Идти по размокшему чернозему было очень трудно, ноги тонули в грязи. Наконец, добралась до окраины города, тщательно вымыла в луже ботинки, чтобы скрыть, что пришла издалека.
Обстановка в городе произвела на меня удручающее впечатление. Открылись кабаки под вывеской «Бодега». В раскрытые двери «бодег» виднелись на полках винные и водочные бутылки. У прилавка выпивали и закусывали солдаты. Слышался нерусский говор, пьяные выкрики. На улицах мальчишки торговали папиросами. На углу Подбельской и площади Красной Армии беловолосый мальчуган лет двенадцати, с изможденным лицом, выбивая дробь щетками по ящику, предложил:
— Тетенька, почистим ботинки, всего полмарки.
В киоске торговали газетами. Купив «Одесскую газету», издаваемую оккупантами, я направилась в Археологический музей, где работала наша разведчица.
Идя улицами, я оглядывала прохожих — одни казались друзьями, другие — врагами.
В музее — разгром. На полу — изуродованные экспонаты, разбитые и растоптанные черепки, бумажный мусор, солома.
В вестибюле стояли большие ящики, в которые под надзором жандармов упаковывали музейные ценности для вывоза в Германию.
Наш разведчик Мария Николаевна дала мне дислокацию немецких воинских учреждений и частей в Воднотранспортном районе. Она сообщила также, что город разбит на полицейские участки, что высшие учебные заведения и школы превращены в казармы. В лучших домах поместились гестаповцы.
Простившись с Марией Николаевной, я пошла по Дерибасовской. Она была подметена, расчищена от завалов. Пестрели вывески на русском и иностранном языках. Полки и прилавки «магазинов» ломились от награбленного: обуви, ковров, отрезов, ювелирных изделий. Дельцы в военных и гражданских костюмах рассматривали шерстяные вещи, шелковые ткани, приценивались, торговались.
На тротуарах с видом победителей сновали чисто выбритые офицеры и штатские, с ними гуляли элегантно одетые женщины. На плечах боа из перьев, меховые палантины.
Между ними с деловым видом снуют «джентльмены». Их разжиревшие рожи подпирают белые целлулоидные воротнички, в руках стеки. Жеманные манеры, стиль речи изобличали в этих «дамах» и «джентльменах» «бывших людей». Я вспомнила слова Бадаева:
«Вместе с оккупантами с Балкан сюда приплетутся и недобитые белогвардейцы, жадные и вероломные, как шакалы».
И действительно, часть из этих «господ», по-видимому, прикатила из-за границы. Были среди них и местные. И вот теперь они, как грибы-поганки, повылезали из темных щелей и разгуливают по нашим улицам. А население лишено хлеба и соли.
На Садовой улице рыжий солдат наклеил на театральную тумбу приказ № 1 командующего оккупационными войсками г. Одессы о введении СМЕРТНОЙ КАЗНИ за ущерб, причиненный оккупантам, и за сокрытие продовольственных и других запасов.
Идя по улице Красной Гвардии, возле Нового рынка, я увидела двух стариков, запряженных в оглобли большой двухколесной тачки. На тачке сидели гитлеровские солдаты. Заливисто смеясь, они хлестали свои жертвы резиновыми дубинками. Несчастные старики тяжело и отрывисто дышали.
У меня на душе было горько, невольно вспомнилось далекое прошлое: гражданская война. Украина, ограбленная немецкими оккупантами. Голод. Разруха. И вот снова… «Будет расплата и этим», — думала я, ускоряя шаги.
Кривую балку проходила уже во время комендантского часа. Гулко билось сердце. Почти бежала. До Усатова оставалось километра три — могла нарваться на конный патруль. Но, к счастью, дорога не охранялась. Уже в полной темноте шмыгнула в катакомбы.
По дороге в лагерь я перебирала в памяти события последних дней. После нескольких взрывов на железной дороге гитлеровцы начали ставить в голову поезда балластные площадки. Мина, которой пользовались наши подрывники, не всегда давала нужный результат. Это волновало Бадаева и партизан. Владимир Александрович говорил:
— Надо сделать такую мину, чтобы она сработала безотказно и в нужный момент.
Мужа я нашла в штабе. Он и Бадаев, склонившись над ящиком, рассматривали мину изобретенной ими конструкции. Оба радовались. Наконец, задача решена.
Утром я снова должна была пойти в город, но заболела. Вместо меня ушла Тамара Межигурская. До выхода в Усатовскую балку ее провожали мой муж и Иван Никитович. Из города она вернулась радостная и возбужденная. Ей удалось наладить связь с городской группой разведчиков.
Из сводок Советского Информбюро мы знали об упорных сражениях под Москвой, что с 30 октября 1941 года Севастополь героически обороняется от врагов.
Гитлеровцы в своих газетах называли защитников Севастополя фанатиками и самоубийцами, борющимися против превосходящих сил гитлеровской Германии. А мы восхищались беспримерным мужеством и храбростью наших товарищей, понимали их, желали им успеха в их борьбе против захватчиков. Беседуя с нами, Бадаев говорил:
— Наша задача — совершенствовать тактику партизанской борьбы, усилить операции по разгрому вражеских коммуникаций. Это будет хоть маленькой, но помощью нашим друзьям — севастопольцам.
Глава IX
Через несколько дней — XXIV годовщина Великого Октября. Этот праздник мы будем встречать в темных катакомбах.
Пустомельникову, Лейбенцуну и Шестаковой поручено поздравить население Нерубайского с праздником.
Ночью в маленькую шибку кухонного окна колхозника Капышевского Василия Алексеевича тихо постучали.
— Хто таки? — послышался робкий женский голос.
— Свои… — ответил Пустомельников.
Дверь приоткрылась.
— Проходите та кажить, що вам треба.
— Мы с катакомб… Пришли поздравить вас с праздником Октября и просить, чтобы вы испекли нам хлеб.
Круглолицая хозяйка — Евгения Степановна Капышевская, переглянулась с сидевшим на кровати мужем, пожилым, но еще крепким человеком.
— Та сидайте, чого стоите. Угощу вас, чем бог послал, — пригласила хозяйка неожиданных гостей и быстро поставила на стол соленые огурцы и краснобокие помидоры. Из какого-то тайника вытащила хлеб и сало. Улыбнулась:
— Ти чорты — оккупанты, усе позабыралы, а все ж таки трохы сховала. Заждить, зараз вына прынесу, — и метнулась к двери.
— Мамаша, — остановил ее Харитон, — не надо!
— Зараз я повернуся — бросила на ходу хозяйка.
Выпив по стакану красного виноградного вина, партизаны захрустели солеными огурцами.
Возвратившись, Капышевская поинтересовалась:
— А скильки вам потрибно хлиба? Кажете, декилька пудив… — заволновалась она. — Що ж його робыть? Оти чорты повыскрибалы геть усю муку…
— Муку мы принесем сами, — успокоила ее Тамара Шестакова, — а вот дрожжей у нас нет.
— Та абы мука, а дрожжей якось достану, — обрадовалась Евгения Степановна. — Берить помидоры та сало, кушайте на здоровьячко.
Подхватив на вилку кусочек розовато-белого сала, Шестакова зажмурилась от удовольствия.
— Какое оно вкусное!..
— Сама солыла! — просияла Капышевская.
— А оккупанты все разграбили, — с горечью закончил молчавший до этого Василий Алексеевич и продолжал: — Придет ли на них погибель?
— Обязательно придет! — уверенным тоном ответил Павел Арсентьевич Пустомельников.
— Скорее бы, — вырвалось у Капышевского. — Проклятые так грабят и издеваются над людьми, что нет сил терпеть. В селе поговаривают, что скоро объявят поголовную трудовую повинность и мобилизацию на фронт — окопы рыть.
Подарив дочери Капышевских Вере флакон духов и кусок мыла, ребята благополучно вернулись в подземный лагерь, где и рассказали обо всем.
В ночь на пятое ноября 1941 года семья Василия Алексеевича переправила в катакомбы несколько мешков хлеба, большую корзину соленых огурцов, помидор и других солений. Передавая все это, Вера сказала:
— Наши поздравляют вас — всех партизан с праздником, желают успеха и здоровья. Раз в неделю я буду приходить сюда, оставлять вам молоко, пока не отобрали корову.
Ребята принесли все это на базу и торжественно начали выкладывать на каменный стол. Хлеб был пушистый высокий, с золотистой корочкой, огурцы и помидоры, бережно переложенные вишневыми листьями, вкусно пахли укропом и чесноком.
Душевной теплоты семьи советского колхозника хватило на то, чтобы согреть сердца всех нас, живущих в темных и холодных подземельях.
Эта семья регулярно поддерживала связь с нами. Но через несколько месяцев оккупанты арестовали Василия Алексеевича Капышевского. Он умер от пыток, не проронив ни слова.
В нашем лагере царило предпраздничное настроение. Люди старались придти к празднику с наилучшими боевыми успехами. По ночам они разрушали коммуникации врага, его связь. Работала наша радиостанция, передавая в Москву ценные сведения.
Но и враг не дремал. Фашисты усилили патрулирование дорог и железнодорожного полотна.
А контрразведка оккупантов, по-видимому, задалась целью разузнать, много ли людей в катакомбах. Оккупанты арестовали группу стариков-шахтеров и под дулами автоматов погнали их в шахты.
Стоявшие за маскировочной стеной на первом посту Иванов и Гринченко услышали шаги множества ног. Из-за поворота блеснул луч света, скользнул по потолку штольни, на миг исчез за выступами штреков и снова появился. Показалась группа людей. Внезапно один из них, отделившись, упал на катакомбовскую дорогу и начал кричать:
— Дальше нельзя идти! Там смерть! Это старые задавленные шахты! Слышите, кровля садится… стонет… Мы все погибнем здесь и никого не найдем.
Иванов и Гринченко узнали по голосу верхового разведчика Кужеля Ивана Афанасьевича.
Из-за угла выскочил офицер эсэсовец и хотел пристрелить Кужеля, но выбежал разведчик Александр Давыденко, стал между лежавшим на дороге Кужелем и эсэсовским офицером, начал убеждать:
— Никого здесь нет. Шахты старые, заваленные, потолки вот-вот рухнут. Мы можем погибнуть.
Гитлеровцам, как видно, погибать не хотелось, да еще в этих мрачных таинственных подземельях, где из-за каждого угла их могла подстерегать партизанская пуля. Пожевав губами, офицер зло спросил:
— А гдэ болшевик?
— Может, там… — уклончиво ответил Кужель и, приподнявшись, махнул рукой в сторону, противоположную нашему лагерю.
Скользнув лучом электрофонаря по низкому потолку штольни, по закопченным стенам и обвалам, эсэсовец крикнул:
— Шнель! Руски свинь.
Кужель поспешно увел гитлеровцев из нашей зоны.
Об этом происшествии было немедленно передано Бадаеву по телефону. На всякий случай Владимир Александрович послал Иванову и Гринченко подкрепление.
А ночью к нам в катакомбы пришел Кужель.
Невысокий, коренастый, он казался упругим и легким. На нем была старенькая, во многих местах прорванная синяя спецовка, сдвинутая на затылок поношенная кепка открывала большой красивый лоб. Крутое надбровье, умный, с лукавинкой взгляд и вся его крепкая фигура как бы говорили о волевом характере.
Приветливо кивнув нам, он сел за стол рядом с Бадаевым, не торопясь вытащил кисет с махоркой, начал угощать ребят, закурил сам и рассказал:
— Сегодня днем эсэсовцы арестовали меня и еще человек семь шахтеров и погнали впереди себя в шахты. Вижу, беда… Гонят по штольне прямо к вам. Как быть? Упал. Давай кричать, а сам думаю: ребята сообразят, что делать. Но тут повезло — напугались гитлеровцы. Увел их влево под церковь. Кружил их, кружил по завалам, вокруг столбов, пока они не понабивали себе шишки на лбу. Так ни с чем и ушли.
— Да-а-а! — задумчиво протянул Бадаев. —
Положение наших ребят было незавидное… Если бы эсэсовцы шли сами, было бы проще, можно отрезать от выходов и истребить. А ведь гонят впереди себя советских людей. Спасибо! Вы спасли положение!
Поздравив нас с праздником Великого Октября, Кужель взял листовки с поздравлением от партизан и в ночь с шестого на седьмое ноября 1941 года распространил их в Нерубайском и Большой Фоминой Балке.
Этой же ночью наши подрывники разрушили телефонную и телеграфную связь фашистов от Нерубайского до Кривой Балки, подорвали автомашину с солдатами, взорвали железнодорожное полотно, в результате чего на сутки было прекращено движение поездов.
Вечером седьмого ноября в лагере состоялось торжественное собрание, посвященное 24 годовщине Великого Октября.
Бадаев прочитал нам сводку Советского Информбюро о состоявшемся параде в Москве на Красной площади.
Наш лагерь выглядел празднично. Каменный стол был накрыт скатертями и уставлен скромными блюдами. Между тарелками возвышались бутылки вина, графинчики спирта. Посреди красовалась горка аппетитных пирожков, испеченных в нашей печи.
Если бы серые камни катакомб могли сохранить и потом воспроизвести звуки человеческой речи, выражение глаз, движения и порывы сердец, они рассказали бы, как горячо люди провозглашали тосты:
— За Родину! За партию! За Сталина! За победу Советского народа! За полный разгром фашизма.
Бадаев распорядился послать смену постовым, чтобы все могли, хоть немного побыть в коллективе и ощутить радость праздника.
Начался концерт самодеятельности. Ребята с увлечением декламировали Пушкина, Лермонтова, Маяковского. Здесь же вертелись и дети: Коля, Вася, Ваня, маленький Петька.
Гордо поглядывая на своих дружков, Коля заводил патефон, менял пластинки. Глазенки у Петьки округлились от удивления. Он волчком вертелся вокруг патефона, пытаясь что-то разгадать. Не выдержав, спросил Колю:
— А как он сплятался туда?
— Кто?
— А тот, кто поет.
— Эх, ты, маленький дурачок! Там никого нет. Это машина поет, — авторитетно ответил Коля и поставил новую пластинку.
— Раскинулось море широко и волны бушуют вдали… — раздалась знакомая мелодия.
Я взглянула на мужа. Это его любимая песня. Он заметно побледнел, прекратил разговор с Владимиром Александровичем, хотел, как видно, что-то сказать, но, прикусив губу, быстро вышел.
— Иван Иванович, что ты?
Мужа я нашла в одном из далеких штреков. Его фонарь стоял в углу, фитиль приспущен, отчего в забое было почти темно. Охватив руками голову, он сидел на камне. Услышав мои шаги, оглянулся. В глазах тоска и просьба: «Не осуждай»…
На протяжении многих лет я видела мужа всегда жизнерадостным, бодрым, полным энергии. И вдруг… Мне хотелось утешить его, но я не знала, как. Я молча присела на камень возле него.
— Скажи, ты сильно любишь меня? — прервал он молчание.
Я удивилась. Мы никогда не говорили об этом. Наши отношения были ясными.
— Почему ты задаешь такой странный вопрос?
Иван Иванович молча, пытливо глядя мне в глаза, расстегнул китель, вытащил из нагрудного кармана бумажник, медленно развернул его, нашел мою фотографию и протянул мне.
— На. Возьми. Я носил эту карточку возле сердца десять лет… теперь забери ее.
Я отшатнулась. Увидев мой растерянный взгляд, муж улыбнулся:
— Начались, Галка, горячие дни… Меня могут убить… карточка попадет в лапы фашистам, по ней могут опознать тебя.
Я заплакала. Он встал, приподнял меня с камня, прижал к своей груди. Я почувствовала, как бьется сердце дорогого мне человека, ощутила его тепло. Осушая мои слезы поцелуями, заглядывая мне в глаза, он говорил:
— Не плачь… Мужайся. Ты должна быть сильной. Впереди — борьба.
Больно сжималось сердце, словно предчувствуя грядущую трагедию.
Обычно немногословный, он теперь торопливо высказывал то, что накопилось в его душе.
Мимо боковым штреком прошел Бадаев.
Он не заметил нас. Мы стояли за выступом стены.
— Нелегко ему… — сочувственно сказал Иван Иванович. — Это он пошел на электростанцию, проверить зарядили ли аккумуляторы. Идем быстрее. Сейчас мы собираемся на связь.
В эту ночь наш коллектив послал приветствие на Большую Землю, в Москву. Нас также поздравили и ободрили ответной радиограммой.
Глава X
Положение на фронтах Отечественной войны по-прежнему было тяжелым. В начале ноября 1941 года, после ожесточенных боев, нашими войсками был оставлен Волоколамск. Фронт находился в 80 километрах от Москвы. Украина, Донбасс заняты врагом. Гитлеровские полчища хлынули на Кавказ.
Но несмотря на это, мы глубоко верили, что фашистов вот-вот остановят и разобьют.
В ночь с шестнадцатого на семнадцатое ноября 1941 года, провожая Ивана Ивановича и парторга Зелинского на вылазку к железной дороге, Бадаев, крепко пожимая им руки, говорил:
— Сегодня месяц, как здесь хозяйничают гитлеровцы. Их нужно поздравить, да так, чтобы никогда не забыли! — и в его голосе зазвучали металлические нотки.
Мне показалось, что Владимир Александрович придает этой вылазке особое значение. Настроение людей тоже было необычным. Никто не хотел спать. Все ожидали возвращения товарищей. Бадаев, сидя за столом, что-то писал. Под утро он стал частенько поглядывать на молчавший телефон. На лице командира тень тревоги. Я старалась скрыть свое волнение, делала вид, что читаю книгу. Но строчки прыгали, сливались в темные пятна.
Наконец, на рассвете зазвонил телефон первого поста. Я вздрогнула, словно от озноба. Взяв трубку, Бадаев слушал. Я впилась глазами в лицо командира. Его осветила радостная улыбка. Я облегченно вздохнула.
— Вот хорошо, так хорошо! Спасибо, Иваныч! — и, повернувшись ко мне, тепло спросил — Измучилась? Все благополучно. Идут с победой.
Мысленно я шла с товарищами, ощущала их усталость, переживала с ними радость удачи. Вот крутой поворот, дальше нужно идти согнувшись. Мне кажется, что я слышу, как пыхтит высокий грузный Зелинский и здесь же шуткой подбадривает себя и товарищей. А вот еще и еще поворот, за ним начинается погребок. Наконец, база!
В дежурную бесшумно вошли не только те, кто выполнял задание, но и остальные бойцы. Бадаев радостно засмеялся:
— Я посылал наверх Иванова и Зелинского, а здесь все?
— А мы поджидали. Думаем: время у нас свободное, спать не хочется, давай подежурим у выхода, мало ли чего бывает… — ответили ребята.
Одобрительно кивнув, Бадаев спросил:
— Ну, как там получилось?
— Взорван эшелон с живой силой противника. Один вагон оказался со снарядами. Мина сработала хорошо, под четвертым вагоном. Мы постояли немного, посмотрели, как все это взлетало на воздух. Едва ли что останется от эшелона. Кроме всего, там высокая насыпь, — докладывал Иван Иванович.
Выслушав мужа, Владимир Александрович добродушно укорил его:
— Ты, Иван Иванович, как обычно, о подробностях умалчиваешь.
— Пусть лучше Константин Николаевич расскажет.
— Давай, Костя, рассказывай ты, да подробнее, а то видишь, — повел Бадаев взглядом, — у людей глаза горят от любопытства. Не всегда ведь такая удача. Садитесь, друзья, — пригласил он партизан.
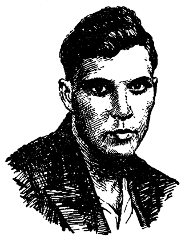 Иван Иванович Иванов — командир отделения партизанского отряда.
Иван Иванович Иванов — командир отделения партизанского отряда.
Иван Иванович сел рядом со мной и, опустив голову, задумался. Шумя и толкаясь, люди начали усаживаться поближе к Зелинскому. Закурив, Константин Николаевич начал:
— Почти у выхода за поворотом мы погасили фонари, спрятали их, вышли на поверхность. А там не видно ни зги. Ветер рвет, с ног валит. Погода что надо. Прислушались… Думаем: жандармерия, наверно, попряталась по хатам. Вдруг слышим: ругаются, стреляют в небо, подбадривают себя.
Спустились мы вниз. По дну балки проползли до развилки. Яром пробрались к четвертой шахте, от нее к седьмой, а там противотанковым рвом подобрались к железной дороге. Залегли в лесопосадке. Огляделись… Эге-ге! А мостик-то охраняется конными патрулями. А тут еще и большая прогалина возле него. Но все же уловили момент, — продолжал Зелинский, — поползли… Ваня тянет мину, а я — круг проволоки. Только юркнули под мостик, слышим, скачут. Мы затаились. Проскакали патрули. Иваныч полез на насыпь, а я внизу сторожу. Слышу, он долбит лунку. Заложил мину, пропустил провод под рельс, сполз с насыпи:
— Давай, — говорит, — в лесопосадку. Улова будем ожидать. Разматывай провод, но осторожнее, не тяни крепко, а то сами подорвемся.
Снова залегли, ждем… А ветер все сильнее. Скрипят деревья, звенят провода, столбы гудят. Жандармерия все возле мостика вьется. Я говорю Ивану Ивановичу: — Может их… — А он отвечает:
— Что нам с этих поганцев, подождем зверя покрупнее.
Так пролежали мы почти до рассвета. Продрогли — зуб на зуб не попадает. Я предложил: «Давай уходить. Скоро станет совсем светло, не выберемся…» Вдруг видим, проскочила военная дрезина, за ней — паровоз с двумя балластными площадками. Затем по перестуку рельс догадались — идет большой состав. Из-за поворота блеснули огни. Поезд все ближе… Эх, думаю, не упустить бы! Но Иваныч не сплоховал, вовремя подал команду: «Рви шнур!». Треск, грохот, скрежет железа. Начали рваться снаряды в пятом вагоне. Тут уж совсем… Все в одну кучу смешалось. Вагоны горят, летят с насыпи. С заднего вагона соскочила охрана, давай поливать лесопосадку из автоматов. Мы стали уходить в степь. А тут, как на зло, метель… Кипит вокруг, словно в котле. Заблудились… Дали крюку километров двенадцать, чуть не замерзли в степи. Но посчастливилось, нырнули в катакомбы.
Зелинский потянулся, зевнул.
— Фу, ну и устал! Пошли, ребята, отдыхать!
Я молча сидела возле спавшего тревожным сном Ивана Ивановича. По временам он нервно вскрикивал, бормотал что-то.
В спальню торопливым шагом вошел Бадаев.
— Вставай, друг! — разбудил он мужа. — Возьми людей и быстро иди к выходу в Нерубайское, — и пояснил: — Верховые разведчики сообщили нам, что село оцеплено войсками. Гитлеровцы что-то разнюхивают возле катакомб. Возможно, попытаются проникнуть к нам. Оборону займи в центре выхода первой шахты. На флангах будут Васин и Петренко. В случае, если оккупанты ринутся в шахты, пропустите до поворота и взорвите мину. Если хлынет новая волна, отходите ко второй баррикаде. Но дальше ни шагу. Там узко, им не пройти. Бойцы уже ждут тебя на главной штольне.
Едва освещаемые скупым светом фонарей, лица людей были сосредоточены и суровы.
— Товарищи! — обратился к нам Владимир Александрович. — Верховые разведчики Кужель и Давыденко сообщили нам, что в поезде, взорванном Ивановым и Зелинским, ехало много гитлеровских чиновников. Никто из них не уцелел. Фашисты лютуют. В Нерубайское прибыли эсэсовские карательные отряды, жандармерия. Там уже хозяйничают гестапо и сигуранца. Только что мне передали по телефону, что напротив входов в катакомбы оккупанты установили пушки и пулеметы. Возможно, вступим в бой. Будьте же смелы и мужественны!
— Смерть фашистам! — дружно ответили партизаны.
Владимир Александрович увидел меня и притихших детей, ободрил:
— Не бойтесь, сюда не пустим оккупантов. Идите, детки, с Галиной Павловной, перетирайте патроны, заряжайте пулеметные ленты. Побольше готовьте фашистам гостинцев. Галина, — обратился он ко мне, — Я пойду сейчас в сторону Усатово и скоро вернусь.
Лагерь опустел. В нем остались дежурный, дети и я.
Задребезжал телефон. Дежурный взял трубку.
— Что? Уже бьют по входам из пушек. Какие пушки? Малокалиберные? Отойдите немного в глубинку, залягте за поворотом. А ты, Иван Иванович, подберись ближе в выходу, оцени обстановку. А вот и Владимир Александрович, он идет к вам.
От артобстрела фашисты переходили к атаке катакомб, пытаясь ворваться внутрь. Но партизаны, укрывшись за выступами, каждый раз отбрасывали их ружейным и пулеметным огнем.
Вторые сутки длится бой. Наш усатовский пост сообщил, что оккупанты начали обстрел входов в катакомбы и в Усатово.
Бадаев послал Ивана Никитовича в сторону Усатово, узнать обстановку там, а сам развернул тетрадь, начал что-то записывать.
Тишину нарушил резкий и тревожный телефонный звонок. Быстро поднявшись, Бадаев подошел к аппарату.
Заряжая пулеметные ленты, я зорко наблюдала за Владимиром Александровичем.
— Что? Совсем? — вскрикнул он и медленно повесил трубку, словно она была многотонным грузом. Его и без того большие глаза расширились. Взглянув на меня, он хотел что-то сказать, но я перебила:
— Убили Ваню?
— Нет! Кого-то ранили…
— Пустите меня туда! Это убили Ваню. Сердце чувствует. Пустите, — молила я.
— Иди, — тихо сказал Бадаев.
Схватив фонарь, я выскочила на штольню.
Возле баррикады меня остановили наши постовые:
— Туда нельзя, — сказал Гринченко.
— Я хочу туда, к нему…
— Нельзя. Там сильный бой.
Послышались тяжелые шаги. Сквозь узкую щель баррикады протащили носилки. Поставили на дорогу. На них навзничь лежал мой муж. Я упала на колени, растегнула китель, припала к груди, в надежде услышать хоть слабое биение сердца. Но оно не билось. В правом боку от разрывной пули большая рваная рана. Глаза широко открыты, ясные и спокойные.
Сгибаясь под тяжестью, товарищи несли Ивана Ивановича в штаб. Словно сквозь сон, слышала голоса: — «Крови-то, крови сколько. Нужно на обратном пути засыпать, чтобы не топтали ее».
Недалеко от штаба нас встретил Владимир Александрович:
— Несите его в штаб.
Там мы одели Ивана Ивановича в морскую форму. Бадаев вложил ему в руки револьвер, рядом положил винтовку. В изголовьи товарищи поставили знамя отряда.
Всю ночь я пробыла с погибшим, вспоминая счастливое прошлое.
Харьков. В этом городе ранней весной я познакомилась с ним. Очень удивилась, что он Иван Иванович, да еще Иванов.
После напряженной
трудовой недели мы обычно уезжали в лес. Особенно запечатлелся один день.
Ярко светило солнце. В лесу буйно цвели боярышник, дикие яблони и груши. Лесные поляны покрыты травой и цветами. Слышны голоса птиц. Мы вели задушевные разговоры о людях, о жизни, строили планы, поверяли друг другу заветные желания и мечты. Иван Иванович подошел к дереву, сорвал цветущую ветку яблони и, передавая ее мне, сказал:
— Я хочу только одного — стать моряком. И буду им.
Я задумалась. Иван Иванович понял мою тревогу.
— Не волнуйся! Я буду плавать, а ты — ждать меня из очередного рейса. Так? — улыбнулся он.
Весной 1932 года мы переехали в Одессу, поступили на работу в Управление Черноморского Пароходства. Его направили на судоремонтный завод. Вскоре он перешел на торговый флот. Работая смазчиком, машинистом, заочно учился. С 1937 года, получив звание инженера-механика первого класса, плавал на судне «Красный Профинтерн». Оттуда ушел в партизанский отряд, или, как говорил он, «в подземный рейс».
И никогда уже он не вернется из этого рейса, не увидит моря, которое он так беззаветно любил, — думала я, неотрывно глядя в его мертвые, но все еще ясные глаза.
Проклятые! Проклятые фашисты!
Утром 19 ноября 1941 года в штаб вошел Бадаев. Глаза его глубоко запали, лицо посерело от пыли и пороха. Партизаны все еще вели бой. Владимир Александрович подошел к каменному столу, наклонился над Иваном Ивановичем и скорбно прошептал:
— Вот, Ванечка, и все… — повернувшись ко мне, обнял за плечи — Не плачь! Он умер в бою. А мы… — вздохнул Бадаев. — Кто знает. Но не будем об этом. Мстить! Мстить нужно! — его рука легла на скрещенные руки убитого, — вот так и похороним его с оружием.
Вошли бойцы и командиры проводить своего боевого товарища в последний путь…
Запеленав, как мумию, мы отнесли Ивана Ивановича в далекий забой, опустили в неглубокую ямку, обложили плитами и насыпали песку.
Молчание нарушил Бадаев:
— Друзья, — обратился он к нам. — От нас ушел хороший товарищ. Вместе с нами он защищал родную землю, — и дрогнувшим голосом продолжал, — а теперь уснул навеки… Тот, кто из нас уцелеет, должен забрать его из катакомб, похоронить под солнцем. А сейчас почтим его память…
Люди застыли в скорбном молчании. Я кусала губы, чтобы не разрыдаться.
Запечатлелось у меня в памяти и выступление парторга Зелинского. Он говорил о мужественном, стойком, непокоренном нашем народе, который верит в победу над фашистами. Константин Николаевич призывал всех нас к мести за товарища, за миллионы осиротевших матерей, жен, детей.
Один за другим подходили партизаны к могиле Ивана Ивановича и, поклявшись над ней мстить фашистам, спешили туда, где все еще кипел бой.
Я, Иван Никитович и Иван Гаврилович Гаркуша искусно замуровали вход в забой — склеп, где навеки остался тот, кто еще вчера любил, надеялся, ненавидел врагов, жил и хотел жить.
Глава XI
Обстрел катакомб продолжался третьи сутки. Гитлеровцы не оставляли надежду разгромить нас.
Со второго поста прибежал Коля Медерер и, прерывисто дыша, доложил Бадаеву:
— Дядя Володя, дедушка Иван Никитович велел передать вам, что фашисты взорвали воздушные колодцы в поле и в Усатово, а людей заставили муровать входы в катакомбы.
От Ивана Никитовича я уже знала, что если в нашем секторе закрыть воздушные и водяные колодцы, замуровать входы катакомб, засыпать провалы и щели, то через некоторое время люди могут задохнуться. Еще лучше знал об этом шахтер Бадаев. Ему было известно, что, взрывая колодцы, замуровывая и закрывая все входы и щели, фашисты готовятся к газовой атаке. Бадаев осведомился, всем ли выданы противогазы. Распорядился немедленно проверить.
Трое суток кипел бой у выходов. Вместе с мужчинами сражались против оккупантов Межигурская и Шестакова.
Не сумев прорваться к нашему лагерю, фашисты отступили, устроив засаду снайперов, окружив балку пулеметными гнездами и патрулями.
Бадаев приказал оставить у выходов посты наблюдения и охраны, а остальных бойцов послать на отдых.
Люди, не выходившие из боя более семидесяти часов, придя в лагерь, тотчас уснули.
Но вскоре их разбудили, послали строить непроницаемые для газов перегородки. Ответственность возложили на меня, как бывшего работника ПВО.
За ночь мы перекрыли штольню и боковые штреки в нескольких местах и, расчистив ходы влево от нашей зоны, направили течение воздуха в сторону Хаджибейского лимана.
На рассвете Нерубайская балка снова была окружена войсками. С грузовых автомашин гитлеровцы начали сгружать какие-то баллоны.
— Это газы. Они хотят выкурить нас из катакомб. Ладно! Увидим! Пусть себе думают некоторое время, что передушили нас, — усмехнулся Бадаев и, перекинув через плечо противогаз, поспешил к выходу в Нерубайское.
В дежурную вихрем ворвался Коля с криком:
— Фашисты замуровали и заминировали все входы в Усатово и на Большом Куяльнике. Взорвали воздушник второй шахты и ствол пятой, закрывают водяные колодцы.
— Скажи Ивану Никитовичу, чтобы он с товарищами отошел в глубинку, гитлеровцы могут пустить газы. Иди быстро! — распорядился парторг Зелинский, дежуривший в штабе.
Не успел Коля скрыться за поворотом, как позвонил Бадаев и сообщил, что оккупанты пригнали к первой шахте много людей и заставили их под дулами автоматов и пулеметов замуровать все входы, оставив небольшую щель рядом со штольней первой шахты.
— Газы будут пускать, гады! — возмущался Зелинский. — Не бойтесь, мы хорошо загородились, сюда газы не пройдут, — успокаивал он встревоженных женщин и ребятишек, собравшихся вокруг него.
Вскоре в лагерь возвратился Владимир Александрович. Увидев в глазах парторга вопрос, а на лицах женщин тревогу, объяснил:
— Гитлеровцы пустили в шахту хлорный газ. А мы устроили сквознячок в сторону Хаджибейского лимана, да такой, что всех газов Гитлера не хватит отравить нас.
К вечеру 23 ноября 1941 года фашисты заживо похоронили нас на глубине 45–50 метров.
Дня через два в нашем секторе началось кислородное голодание, о котором когда-то говорил Иван Никитович. Тело покрылось липким потом, мне казалось, что легкие шуршат, словно сухие листья. Лица людей угрюмы, взгляды останавливались на командире Бадаеве.
Обычно спокойный, уравновешенный Владимир Александрович заметно волновался, хотя по-прежнему был деятельным и инициативным.
— В первую очередь мы должны добыть воздух! — решил он и распорядился начать расчистку старого воздушника в нашем лагере. Но расчистить этот колодец не удалось. Помешали грунтовые воды. Бадаев не растерялся:
— Пробьем щель! Покажи только, Иван Никитович, где ее пробивать, чтобы это было подальше от села, в степи.
— Ну что ж! Если не натолкнемся на плавун — пробьемся, — ответил старик, поднимаясь с места. — Так я пошел.
— Погоди, — остановил его Бадаев. — А что, если мы попробуем расчистить старый заваленный Любкин выезд?
— Можно.
На расчистку «Любкина» выезда послали почти всех партизан. Длинный выезд старой заброшенной шахты круто поднимался вверх. Ручьи осенних и весенних вод, прихватывая с собой камни, песок, землю, в течение многих лет швыряли все это в разверстую пасть выезда до тех пор, пока не заткнули его наглухо. Липкие стены выезда плакали крупными мутными слезами, собирались в ручьи и угрожали затопить шахту.
Корзинами и ведрами носили мы мокрую тяжелую землю, сгружая ее в боковых штреках. Через несколько часов работы наткнулись на родники. Вода хлынула в катакомбы мощным потоком. Работу пришлось прекратить. Сгорбившись, стоял Иван Никитович, погруженный в тяжелые думы. Изнуренные люди сели на камни и молча наблюдали за сбегавшим вниз мутным ручьем.
— Так, так… — бормотал старик. — Дела не будет. Вот что, хлопцы, забирайте инструмент, пойдем в лагерь.
Еле передвигая ноги от усталости, облепленные с ног до головы грязью, мы поплелись на базу.
Увидев нас, Владимир Александрович спросил:
— Вода? — и ободряюще — Ничего, пробьемся! Не падайте духом, друзья! Придется все-таки попробовать расчистить второй воздушник. А что, если фашисты опустили туда мину? — И здесь же ответил себе: — Не может быть, не такие уж они догадливые. Вот что, начнем расчищать второй воздушник. Нам нужен воздух! И мы его добудем!
В дежурную вошли Зелинский и Гринченко. Они кашляли и вытирали слезы.
— Что случилось? — встревожился Бадаев.
— Да понимаешь, Володя, на втором посту можно задохнуться. Из боковых штреков хлынул дым. А все ты виноват, Иван Никитович, — ведь ты же хозяин тяги, — пошутил Зелинский, повернувшись к Ивану Никитовичу Клименко.
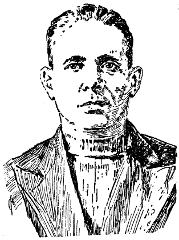 Гринченко Иван Андреевич - боец отряда.
Гринченко Иван Андреевич - боец отряда.
Но оглушенный новой бедой, старик, не поняв шутки, оправдывался:
— Та хиба ж я винен, що дым осидав по забоях. Тяга ж з кухни до колодца була не досыть велика. А зараз и зовсим немае, то дым и поплыв з куткив.
Парторг дружески похлопал Ивана Никитовича по плечу:
— Успокойся. Не ты виноват.
— Яков Федорович, — обратился Бадаев к Васину, — второй пост нужно перенести дальше к повороту на Усатово, там дыму меньше. А вот что делать с кухней? — развел он руками и спросил Ивана Никитовича: — Как у нас с горючим? Может будем готовить еду на примусах?
— Бензину мало, — мрачно ответил тот и с горечью добавил — Я уже думал, как бы научиться ходить в катакомбах без света.
— А мы с поста идем в темноте, — деловито заявил Коля Медерер.
— Смотри, не заблудись, — ласково предостерег мальчика Бадаев.
Через несколько минут часть людей ушла на поиски новых выходов, а остальные, в том числе и я, направились на расчистку второго воздушного колодца.
Штольня и штреки в направлении воздушного колодца наполнены дымом. Рука невольно поднималась, чтобы прикрыть рот. Казалось, вот-вот задохнешься.
До того, как нас замуровали фашисты, дым из нашей печки шел в сторону второго и пятого воздушников; твердые частицы его оседали на стенах и потолках штольни, отчего она стала угольно-черной. Часть дыма растекалась по боковым отсекам катакомб, откуда сейчас он выползал, угрожая задушить нас.
Расчищать воздушник было трудно. Фонари чадили, гасли. На расстоянии метра люди не видели друг друга. Они задыхались, надрывно кашляли, падали, ползком тащили в забои и штреки землю и камни, расчищая колодец. Руки распухли и кровоточили, глаза слезились. К концу второй недели пришлось надеть противогазы.
Наконец, пламя фонаря стало ярче, значит где-то близко свежий воздух. Еще несколько нечеловеческих усилий и… хлынула вода!
Бадаев внимательно наблюдал за бегом потока. Обессиленные люди молчали.
— Терпение, товарищи, терпение! — подбадривал Бадаев. — Воды в этом месте не может быть много.
И действительно, стремительность потока уменьшалась с каждой минутой. Вскоре образовался просвет.
— Ура! Воздух! — обрадовались партизаны и сорвали противогазы.
Эта вода, как объяснил нам Владимир Александрович, скопилась в колодце потому, что взрыв сорвал каменную облицовку и с обнаженных стен воздушника вниз потекли небольшие струйки межпластовых ручейков.
Жадно дышали мы. Воздух казался таким благоуханным!
Поглядывая на отверстие воздушника, Бадаев заметил:
— Дым может выдать нас… Иван Никитович, навесьте заслонку. А ночью будем открывать, — выпускать дым и набирать свежий воздух. Вот, товарищи, — обратился он к нам, — гуртом и батька быты лэгко, как говорит украинская пословица. Но мы будем бить не батька, а гитлеровцев. Размещайтесь, отдыхайте, — пригласил он людей и, присев на камень, начал вспоминать свою юность.
— Как сейчас помню, приехали мы, комсомольцы, в 1930 году на ликвидацию угольного прорыва в Подмосковном бассейне. А на шахтах неполадки. Целыми сменами рабочие просиживали без дела. Клеть, откатка простаивали. В рабочих бараках холод, уголь не подвозят. Нет спецодежды, сапог. Нет-нет и тянет домой — там легче. Решил бороться. И боролся не в одиночку, а вот как сейчас — вместе с коллективом. И преодолели все трудности, стала работать наша шахта. Тогда-то я и понял: самое высокое, что ношу в своем сердце, — это чувство коллективизма. Вот и теперь победил коллектив!
Бадаев умолк. Его большие серые глаза задумчиво глядели вдаль.
Этот взгляд навсегда запомнился мне, казалось, что Бадаев, вспоминая прошлое, готовил себя к подвигам в настоящем. Мерцал огонек, едва пробивая густую темень катакомб. Дым словно живое существо, извиваясь сероватой лентой, стремительно уходил наверх.
Усталые, но гордые победой, возвращались люди в лагерь. На повороте во вторую шахту я отделилась от товарищей и пошла бродить по лабиринтам.
Я думала о Бадаеве, о том, что где-то у него трое детишек и любимая жена. Вспомнила своих сестер Юлю и Нину, брата Ефима. Где они? Что с ними?..
В лагере, проходя мимо штаба, я услышала голос Бадаева:
— Часть партизан мы пошлем на поиски выходов в город через Кривую Балку, остальным нужно найти работу на базе. Люди должны быть в движении, иначе они могут затосковать, заболеть, утратить волю к борьбе.
— Ну, что ж. Начнем расчищать пятый колодец. Там багато дров, кухню топить нечем, — согласился Иван Никитович и попросил — Владимир Александрович, детям бы увеличить паек, а то зачахнут они здесь.
— Я тоже об этом хотел поговорить с тобой. Обязательно нужно давать им больший паек, — поддержал старика парторг Зелинский.
— Добро! Предупреди, Никитович, кухарок. Детей надо беречь.
Разговор перешел на другую тему. Иван Никитович выглянул из забоя. Я хотела юркнуть в боковой штрек, но зоркий старик уже заметил меня:
— Слышь, пойди посади лук, а то сгниет там в кладовке. Набери в корзины и в дальних штреках посади в пушистый песок.
— А в помощь кого взять?
На миг он задумался, сняв шапку, заскреб лысину. В это время из-за угла донеслось:
— Тпру! Но, поехали!
Это маленький Петька погонял своего брата Ваню, дергая веревочные вожжи.
— Возьми этих, — кивнул Иван Никитович в сторону ребятишек. — Все равно даром баклуши бьют.
Петька пришел в дикий восторг. Он стал скакать вокруг меня, приплясывать и кричать:
— Люк шадить, люк шадить, — и, повернувшись к Васе, Ване и Коле, предложил: — Посли, лебята!
— Ты глянь! И этот туда же… Тоже мне работничек, — засмеялся Ваня и шутливо мазнул малыша пальцем по носу.
Обиженный таким бесцеремонным обращением, Петька возразил:
— А сто я не такой как вы, сто ли?
Дней через десять меня послали нарвать луку с нашего подземного огорода. Я пригласила с собой ребят. Лук вырос, но перья его были белыми.
— Белый лук… — удивились дети и засыпали меня вопросами.
— Солнышка, детки, нет… Было бы здесь солнце, лук был бы зеленый, а вы загорелые, розовые.
Петька, сидевший на камне и болтавший ножонками, громко заревел.
— Почему ты плачешь? Ударил кто тебя?
— Нет! — покачал он головой и снова залился слезами.
— Что же с тобой?
— Ой, солныска хоцу.
— Ишь, хитрый какой… — засмеялись мальчики. — Погоди, разобьют фашистов, будет тебе солнце.
Но ребенок продолжал безутешно рыдать и просить:
— Хоцу цицас! Дайте мне солнце! — повернулся он ко мне, с мольбой протягивал ладошки.
Мне стало не по себе. Было невыносимо жаль малыша, лишенного фашистами солнца и нормальной жизни. Я взглянула на Петю. Он был полураздет, из рваных ботинок выглядывали пальчики крошечной детской ножки, посиневшие от холода.
— Петя, детка, чем реветь, сказал бы ты лучше нам: кто прогрыз тебе ботиночки? — спросила я.
Ребенок умолк, удивленно захлопал глазенками, наклонившись, оглянул свои ноги, хитро со щурился:
— Мыси плоглызли… Они, как фасисты: усе глызут, — смеясь ответил Петька.
— От горшка три вершка, а уже какой хитрый этот Петька, — восхищался Вася.
— А мыши тут действительно есть, — вмешался в разговор Коля. — Один раз я иду, вдруг откуда ни возьмись выскочила мышь, жирная прежирная и бежит все вперед, никуда не сворачивает. Догнал, убил. Правда же, их нужно истреблять?
Я утвердительно кивнула.
— Пошли, ребятки, в лагерь.
Петька опять начал плакать и просить солнца.
— Лестницы нет, не заберешься туда, — уговаривала я малыша. — Да и горячее оно, можно руки обжечь. Знаешь, что, Петенька, хочешь кошку? Ее можно принести с поверхности.
— Ко-с-ку! Хоцу коску! — засиял мальчик.
— Ладно, попрошу Шестакову, она принесет тебе кошку, — обнадежила я мальчика. — Но помни, заревешь, не видать тебе кошки.
Петька засопел, словно решая какой-то вопрос. Пытливо глядя мне в глаза, спросил:
— А коска тут не станет белой?
— Не волнуйся, детка, кошка не станет белой, — обняв за плечи, успокаивала я его.
Петька радостно засмеялся и начал шалить.
Глава XII
Нам нужны воздух и дрова. Уже несколько дней мы расчищаем пятый колодец. Когда оккупанты взорвали его, то вниз рухнули барабан, клеть, лестница, столбы. Но добыть все это очень трудно: примерно на две тонны земли, песка, камней, — сто килограммов дров.
Добытое возили в лагерь на маленьких дрожках, называемых «биндюжок». Один из партизан впрягался в оглобли, остальные подталкивали:
— Но! Поехали… — шутливо командовал кто-либо из ребят.
— Хорошо бы парочку гитлеровцев сюда приспособить, пусть бы возили, — говорил впряженный в оглобли.
Немилосердно скрипя, тележка трогалась с места.
Узкая штольня из пятой во вторую шахту круто поднималась в гору. Люди, обливаясь потом, упорно, словно муравьи, тащили свою непосильную кладь.
Однажды, зацепившись за угол поворота, Гринченко сильно ударился о поперечину оглобли. Сменяя его, Иван Никитович пошутил:
— Поганый з тебе битюг.
— Овса мало даете, а работы ого-го! — отшутился Гринченко, потирая ушибленную грудь.
Действительно, норму пайка сильно уменьшили, хлеба выдавали по двести граммов в день на человека и тарелку «латуры», так называли болтушку из муки. Соль, картофель, свекла были на исходе.
— Эх, силоса бы… хоть немного, — вспоминали люди винегрет.
— А может где помидора завалялась? — спросил Иван Никитович.
— Один рассол остался, — ответила я.
— Так это же хорошо, — обрадовался он, — принеси его сюда, пусть ребята хоть душу немного просолят.
Поставив ведро с рассолом на стол, я начала разливать его в жестяные банки из-под консервов.
— Рассол! — восторгались партизаны и жмурились от удовольствия.
Положение наше, действительно, было трудным. Катакомбы в Нерубайском, Усатово, Большом Куяльнике были замурованы, заминированы и блокированы
6. С внешним миром нас связывал только радиоприемник Вани Неизвестного.
Однажды радист вихрем ворвался в дежурную с радостным сообщением:
— Шестого декабря наша Армия перешла в контрнаступление, а девятого разгромила гитлеровскую армию под Москвой. Взято много пленных и трофеев.
Бурно радовались ребята. Харитон, сорвав с головы шапку, начал махать ею:
— Ага! Я так и думал! Ура! Ура!
— Будем танцевать! — вся светясь счастьем, кричала Шестакова.
Дети метались, обнимались, прощая друг другу свои детские обиды.
Из ленинской комнаты (так комсомольцы называли один из забоев, украшенный лозунгами и портретами руководителей партии и правительства) притащили патефон и все закружились в танце.
Известие о переходе Красной Армии в контрнаступление и разгроме гитлеровцев под Москвой обрадовало, ободрило и вдохновило нас. И наше положение не казалось уже таким безвыходным.
Еще энергичнее ходили мы по нескончаемо длинным дорогам мрачных и таинственных катакомб в поисках выхода. Разбирали километровые завалы, осторожно пробирались под грозно нависающими потолками, проползали узкие щели сбоек, переходя из одной шахты в другую, спускались с этажа на этаж многоярусных выработок. Но выхода не находили…
Люди возвращались в лагерь молчаливые, смертельно усталые, с потрескавшимися до крови губами, оборванные, грязные. Еле волоча ноги, шли к колодцу, утоляли жажду, мылись ледяной водой, докрасна растирали тело, а потом падали на каменные нары и засыпали тяжелым сном.
Парторг подбадривал партизан:
— Ничего, ребята, не горюйте, размуруемся. Только не теряться. Мы еще покажем гитлеровцам.
Позвонила Межигурская с первого поста, спросила время. Я ответила.
— Это по «драчунам»? — поинтересовалась она.
— Нет! По ручным Бадаева, — успокоила ее я.
«Драчунами» у нас прозвали часы-ходики, гирька которых почему-то часто срывалась вниз. Однажды она сильно стукнула сидевшего у стены Якова Федоровича Васина.
— Вот проклятые драчуны! — пробормотал сконфуженный Васин и погрозил кулаком.
Ребята захохотали.
Механизмы часов в катакомбах пришли в негодность, и только Бадаев как-то ухитрился сохранить свои ручные.
Я знала, что на посту время тянется бесконечно долго. Выстоять без движения несколько часов, зорко вглядываясь в темноту, очень трудно. Холод леденит тело, тьма угнетает, пугающе постанывает и кряхтит кровля.
Предупредив Гаркушу, что он назначен на пост вместе со мной, я ушла вперед, торопясь сменить Межигурскую.
По дороге ударилась о низкую кровлю.
— Що, з потолком поцилувалась? — усмехнулся догнавший меня Гаркуша и, присев на камни, зашелестел бумажкой, скручивая «козью ножку». Прикурив от коптилки, затянулся.
— Поцеловалась… Никак не привыкну к шахтам, чтоб они пропали, — со злостью ответила я.
— А навищо пропадать? Колысь тут люды, та й я зароблялы соби шматок хлиба. А в девятсот пятому бигалы сюды на сходы. Рушныци, набои переховувалы тут. В громадянську вийну— партызанылы, былы нимця та интервентив. Та ось и знов прийшлось…
— Так вы старый партизан? — заинтересовалась я.
— Всього було… — спокойно ответил он. — Колы б не мои 72 рокы… Показав бы я от тым каиновым душам хвашистам…
Иван Гаврилович умолк, сосредоточенно теребя свою седую остроконечную бородку. Глаза старика были печальны. Незаметно вздохнула, подумала: «Тебе бы, старина, на отдых, а ты вот воюешь…»
Слабый огонек коптилки колебался, притухал и вновь тонкой нитью поднимался вверх, словно стремясь рассеять вековечную темноту подземелий. В ушах мелодично звенело. Казалось, что совсем рядом плещется море… Наши ребята прозвали шахтную тишину — звонкой тишиной.
— Иван Гаврилович, — прервала я молчание, — почему мне всегда кажется, что здесь где-то близко море, я слышу шум его волн.
Зажав винтовку в старческих узловатых руках, не отрывая взгляда от убегавшей в темноту подземной дороги, Иван Гаврилович тихо и задушевно говорил:
— Тут колысь було море. В мори булы ракушкы. Море видийшло… Ракушкы залышылысь, перетворылысь на каминня. И спивае тепер це каминня писню моря, писню славы хоробрым людям. Може колысь воно буде спивать и про нас.
Очарованная рассказом, я молча смотрела на морщинистое волевое лицо Ивана Гавриловича, думая: как много душевной силы и поэзии в этом простом человеке, который на восьмом десятке своей жизни включился в борьбу против захватчиков.
— Пишлы! А то там на посту люды вже мабуть зовсим подубилы, — сказал старик, с трудом поднимаясь с камня.
Приняв дежурство. Иван Гаврилович проверил исправность зажигалки, потушил коптилку. Мы остались в полной темноте. Затаились. Вот послышались чьи-то осторожные шаги со стороны лагеря. Темноту прорезал луч фонаря.
— Стой! Кто идет? — тихо окликнул Иван Гаврилович.
— Москва! — послышался голос Бадаева.
— Севастополь! Проходи!
Приблизившись к нам с группой ребят, Владимир Александрович отозвал нас в сторону, дал новый пароль и предупредил, что он вернется часа через четыре.
— Будьте бдительны. Особенно следите за штольней впереди. Без пароля в нашу зону никого не впускать, — и нырнул в траншею под баррикадой.
Нас снова окутала густая темень и певучая тишина.
Зорко вглядываясь в темноту, Гаркуша зашептал мне на ухо:
— Це вже Володимыр Олександрович щось надумав!
Так оно и было. Бадаев наметил простой, но смелый план, оправдавший себя.
Установив, что в зараженных секторах хлорный газ дегазировался, Бадаев возобновил связь с верховыми разведчиками через водяные колодцы. В то время гитлеровцы думали, что отдаленные от входов в катакомбы колодцы не входят в систему подземелий, и не закрыли их. Предусмотрительный Бадаев предвидел и использовал это.
В условленное время наш разведчик подходил к колодцу, якобы набрать воды, опускал в него ведро. Внизу партизаны перехватывали его, вынимали донесение.
Верховая разведка сообщила нам через колодцы, что среди немецких солдат идут разговоры, якобы людей в катакомбах несколько тысяч. Мы узнали также и о том, что с 23 ноября 1941 года наша небольшая группа в катакомбах блокирована более чем 10-тысячным войском оккупантов
7, с приданными ему легкой артиллерией, эсэсовскими отрядами, сторожевыми собаками и сельской жандармерией.
— Вот это так замахнулись, — смеялись мы.
— Ну и велики очи у страха. Они всерьез думают, что нас в катакомбах тысячи, — улыбался Васин.
— Они думают, что здесь войска. И наша задача — поддерживать их заблуждение. Это будет хоть маленькая, но помощь севастопольцам, — говорил Бадаев.
Уточнив обстановку на поверхности, совет отряда решил:
1. На задания выходить в Нерубайской балке. Она, хоть и блокирована более тщательно, чем в Усатово, но возле Усатово Хаджибеевский парк, где находится особый жандармский корпус, который по тревоге может придти на помощь быстрее, чем в Нерубайское.
2. Разминировать входы, выбрать из ящиков взрывчатку, насыпать в них песок, поставить фальшивые взрыватели и установить эту бутафорию снова на те же места и в том же порядке, как они были поставлены оккупантами. Но на ящиках незаметно сделать свои отметки, чтобы знать, не разгадана ли захватчиками партизанская хитрость.
Более трех суток Бадаев с товарищами занимались разминированием выходов в Нерубайском, Усатово и других местах. Помимо того, что это было связано с большим риском, товарищам приходилось еще и колесить дорогами подземелий десятки километров, прежде, чем они подбирались к заминированным местам. На поверхности все выходы находятся недалеко один от другого, но внутри шахты иногда нужно пройти километров десять, расчистить дорогу от завалов, пробиваться сквозь штреки, заложенные бутом, ползти, чтобы выйти к выходу, находящемуся рядом с другим на поверхности. Но это не пугало людей. В дежурную то и дело ребята приносили взрывчатку, изъятую из фашистских мин. Бадаев радовался:
— Это же тол! Он так нужен нам!
Зелинский ухмылялся:
— Не пожалели взрывчатки. Видно, не думали, что она снова пойдет на их головы.
— Они обеспечили нас раньше топливом, а теперь снабдили взрывчаткой, — смеялся комсорг Ваня Неизвестный, намекая на дрова, которые мы забрали при расчистке пятого колодца.
— Они думали, что минируют хитро, а мы хитрее их, — складывая тол, заметил Мытников.
Помогая Мытникову, я поинтересовалась: как же оккупанты минировали.
— Выходы они муровали двумя стенами, меж них ставили мину, под камни в разные стороны проволочки, как лапки паука: чуть тронь — взлетишь на воздух, — пояснял мне Дмитрий Юрьевич (настоящее его отчество Георгиевич).
— И как же вы их снимали?
Мытников пожал плечами:
— Людей оставлю за поворотом, а сам осторожно подхожу к замурованной стене, сквозь щель высматриваю, где стоит мина, куда вставлены взрыватели, потом вынимаю сверху несколько камней, зову ребят, они поднимают меня на руках в воздух, я наклоняюсь, выхватываю взрыватели. А тогда уж не страшно. Тол вытряхиваем, песок насыпать — миг.
Разминировав выходы, Бадаев приказал радистам подготовить аппаратуру рации.
— Смотрите, — предупредил он их. — Все должно быть в полной исправности. Сегодня ночью пойдем на связь. Москва заждалась нас. Ваня, — обратился он к Неизвестному, — сумеешь в темноте установить антенну?
— Сумею. Я укреплю ее на акации, что растет над обрывом. Пусть только Мытников разберет кладку.
Меня удивляло, как спокойно товарищи говорят о выходе на поверхность. Я знала, как много нужно иметь мужества и самоотверженности, чтобы идти туда, где на каждом шагу засады, пулеметные гнезда, а сама балка окружена цепью движущихся патрулей. Лучи прожекторов, словно светящиеся змеи, шарят возле каждой кочки, каждого кустика. Я представила себе, как по обрыву ползет радист Неизвестный. Его может выдать шорох сорвавшегося камня, луч прожектора — и тогда… застрочат пулеметы и автоматы гитлеровцев. Но человек ползет… ползет во имя великой цели — освобождения своей Родины. Он не бьет себя в грудь кулаком, не многословит о своем патриотизме, нет, он просто и скромно выполняет свой долг.
Наконец, рация заработала! Снова налажена связь с Москвой! Мы не одиноки в глубоком тылу врага.
Комсорг Неизвестный был самым активным, самым дисциплинированным среди комсомольцев, неутомимым и скромным. Мне иногда казалось, что он считает своей обязанностью жить для других, а не для себя. Он не любил болтать, зато много работал. «Вот таким должен быть комсомолец, — думала я, — только таким. Родные Вани погибли в гражданскую войну. Как и многие дети того времени, Ваня стал беспризорником. Он разъезжал по стране на буферах и в ящиках под вагонами, останавливаясь в разных городах. С похолоданием покидал север, уезжая на юг. Так он попал в Одессу. А здесь уполномоченный по борьбе с беспризорностью задержал Ваню Неизвестного и поместил его в детский дом. На вопрос уполномоченного: «Как твоя фамилия? — мальчик ответил — «Неизвестно». Так его и окрестили «Неизвестный». Он хотел бежать из «неволи», но помешала лютая зима. Ваня отложил побег до весны, а там до лета. Да так и привык. Подружив с ребятами, увлекся спортом, учебой, получил специальность радиста.
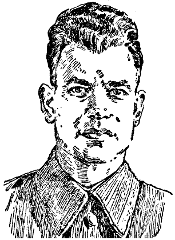 Неизвестный Иван Николаевич — комсорг отряда, радист.
Неизвестный Иван Николаевич — комсорг отряда, радист.
Долго и упорно фашисты гонялись за нашей радиостанцией, пеленгуя ее в разных местах. Замуровав и заминировав катакомбы, захватчики надеялись, что мы умрем и с нами — рация! Каково же было их удивление, когда радиопеленгатор показал, что партизанская радиостанция продолжает работать, да еще в месте, окруженном сплошной стеной войск, над обрывом Нерубайской балки. А если работает рация, то, следовательно, и разведка.
В погоне за нашей радиостанцией отряд эсесовцев ежедневно осматривал замурованные входы, но все было в порядке: стены не тронуты, мины на месте. А радиостанция работает по ночам! Фашисты срезали акацию, а наши ребята стали укреплять антенну на шесте. Гитлеровцы пытались схитрить: золой посыпали площадку возле входа, из которого, как подозревали они, работала наша рация. Но радисты засыпали свои следы золой с нашей партизанской кухни.
Работа рации и в конце декабря новый взрыв большого эшелона с боеприпасами породили среди солдат захватчиков легенду, что в катакомбах находятся необычные люди. И как только наступали сумерки, солдаты старались держаться подальше от таинственного хода, приближаясь к нему только тогда, когда услышат треск мотоцикла офицера, проверяющего посты.
Узнав об этом, Бадаев начал посылать в город связных Межигурскую и Шестакову. Выбираться на поверхность приходилось ночью, а идти в город днем, после отмены комендантского часа. Выскользнув наверх, проскочив кольцо блокады, связные всю ночь петляли полями до рассвета, а потом шли в город, окоченев от холода и ненастья.
Оживленные, радостные лица Владимира Александровича, Межигурской и Шестаковой говорили об их успешных действиях в городе.
Тамара Межигурская рассказала мне, что наши партизаны в порту и на железной дороге, а также на предприятиях, которые гитлеровцы пытаются восстановить для своих нужд, портят машины и паровозы, срочные грузы загоняют в тупики, заклинивают стрелки; что в порту в судоремонтных мастерских есть мастер, который на вопрос наших людей: «Как нарезать гайки?» — ответил: «Старайтесь… так, чтобы на каждую гайку нужен был свой ключ».
Возвращаясь из города с «ходки», как говорили мы, Бадаев принимался за шифровку радиограмм и ночью передавал их в Москву.
Воля к жизни и борьбе у этого человека была неистощимой.
Глава XIII
Я по-прежнему несла постовую службу, мечтая о боевой деятельности, связи, разведке. Вот и сегодня на рассвете наши ушли в город, а меня словно забыли, хотя нога моя перестала болеть. Пошлют ли меня еще когда-нибудь в разведку?
— Иди на пост с Зелинским, — услышала я голос Васина.
Это обрадовало меня. Парторг Зелинский очень тепло относился к людям. Он умел вовремя ободрить, сказать товарищу единственно нужное слово. Сам он был выдержанным и исполнительным бойцом. Комсомольцы и дети называли его «дядя Костя», часто просили рассказать что-нибудь о своей жизни. Он уступал их просьбам, увлекательно рассказывая о том, как батрачил до революции, о борьбе с кулаками, о колхозе, где был председателем.
Идя рядом со мной, Зелинский спросил:
— Как ты себя чувствуешь? Не нужно печалиться. Думай о настоящем. За Ваню мы будем мстить, — вздохнул и продолжал — Много горя принес с собой фашизм. Но сколько волку не гулять, а конец будет!
Я вспомнила просьбу мужа…
— Константин Николаевич, — после продолжительной паузы обратилась я к Зелинскому. — В последние дни Ваня сильно томился, все просил меня, если что случится с ним, обязательно передать вам и Бадаеву, чтобы его считали членом партии. Ему казалось, что все еще мало сделал, хотел больше. Только тогда думал подать заявление о приеме в партию, да не успел.
— Я знаю… Иван Иванович настоящий большевик. Ты помнишь, как семнадцатого мы с ним ушли к железной дороге. Я видел его в деле. Мужественный человек, что и говорить. А какой требовательный к себе. Перед боем, за час до своей смерти, он не только проверил свое оружие, но и оружие ребят, сам прочистил пулемет и показал товарищам, что нужно сделать, если заест ленту. А вот о своих успехах и о себе не любил говорить. Жаль, мало побыл с нами.
— Мне хочется живой борьбы, а не стоять здесь в этих мертвых катакомбах. Хочется мстить, — поделилась я с парторгом.
— Уже то, что ты находишься в катакомбах, — месть фашистам. Они не могут быть спокойны, — строго ответил Зелинский. — Ты что думаешь, что охранять лагерь — маловажно. Нет, этим тебе оказано большое доверие. А нужно будет, так пойдешь и в разведку.
Из города вернулась Тамара Межигурская. С ней пришел черноглазый комсомолец по имени Ефим. Он работал в городе в разведке, пристроившись в полицию, но «погорел», как называли у нас тех, за кем начиналась слежка контрразведки оккупантов.
Появление в нашем лагере нового человека вызвало любопытство всех, в том числе и мое. Свободные от работы люди собрались в штабе. Я тоже пошла туда.
Десятилинейная лампа (единственная роскошь) скупо освещала наш подземный штаб. Бадаев сидел за столиком в своей любимой позе, склонив голову на ладонь левой руки. Ребята разместились кто где, некоторые просто на корточках, привалившись к стене. Все внимательно слушали Ефима.
— В городе жуть что творится… — рассказывал Ефим. — Во всех приказах пестрит слово: «расстрел». А в последнем приказе они грозятся расстреливать по 500 человек коммунистов за каждую диверсию.
Утром 25 декабря гитлеровцы погнали из города тысячи людей на Слободку в гетто, а часть — в сторону Очакова. Страшно было смотреть на несчастных стариков, женщин, детей. Мороз. Вьюга. А люди только в платье одеты. Им не разрешили взять теплые вещи. Некоторые по дороге падали, солдаты пристреливали их.
Я стоял на тротуаре в толпе. Многие не могли смотреть без слез на все это. Некоторые женщины пытались выхватить из колонны детей, но жандармы отгоняли их прикладами.
Я еще и сейчас вижу глубокого старика, который прошел мимо нас… Его голова была непокрыта, седые волосы растрепались. Подняв руки к небу, он громко проклинал бога: «Тебя нет! Если же ты есть, почему молчишь! Кто дал право убить человека!»
Ефим умолк. Руки товарищей сжались в кулаки.
— Вот поэтому-то фашизм и обречен на разгром, — поднимаясь из-за стола, сказал Бадаев. — Готовьтесь к очередной вылазке, — предупредил он товарищей.
Люди засуетились, осматривая оружие и снаряжение.
* * *
К нам подбиралась костлявая рука голода. Хлеб выдавали по сто граммов в день. В котел закладывали полусгнившую свеклу, а чтобы сдобрить это месиво, бросали горсти две отрубей.
Жители Нерубайского собрали нам около ста пудов муки, но забрать ее в катакомбы не было никакой возможности. Блокада все больше усиливалась. Оккупанты выселили колхозников и шахтеров из хат, расположенных вблизи катакомб, установили вокруг балки четыреста постоянных постов, несколько пулеметных гнезд. Каждая улица просматривалась конными и пешими патрулями. Всю ночь напролет солдаты, подбадривая себя, стреляли в воздух. Создавалось впечатление перестрелки. Узнав об этом, наши партизаны говорили:
— Меньше останется патронов для фронта.
Наступившая зима, как и всегда у нас на юге, перемежалась сильными морозами и оттепелями.
Наши связные Межигурская и Шестакова, умело проскальзывая кольцо блокады, продолжали ходить в город. Однажды они привели с собой из Одессы какого-то паренька. Я встретила его на главной штольне. Он шел с комсомольцем Ефимом. Перебивая друг друга, по-мальчишески размахивая руками, они что-то горячо говорили. Увидев меня, приосанились.
— Знакомьтесь, Галина Павловна. Это Яша Гордиенко — старший нашей комсомольской группы городских разведчиков, — отрекомендовал паренька Ефим.
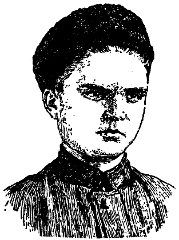 Гордиенко Яков — руководитель молодёжной группы разведчиков партизанского отряда.
Гордиенко Яков — руководитель молодёжной группы разведчиков партизанского отряда.
Передо мной стоял юноша лет шестнадцати, маленького роста, без шапки, с жесткими кудрявыми волосами красноватого отлива, глубоко посаженными, пытливыми глазами. Держался он свободно и независимо. Старенький бушлат с косо пришитыми черными пуговицами, небрежно наброшенный на плечи, позволял видеть голубевшую на груди матросскую тельняшку. Я протянула руку.
— Здравствуй! — и, бросив взгляд на тельняшки, спросила. — Ты и в городе так ходишь?
— Что вы! — усмехнулся Яша. — Оккупанты сразу же арестовали бы меня. Они страх не любят краснофлотцев.
— Не забыли еще оборону.
Он звонко рассмеялся:
— Да они и во сне помнят «черных дьяволов» и «черную тучу», которые давали им перцу. Это они не скоро забудут.
— Школу окончил?
— Нет! Фрицы не дали.
— Учился в школе или в ремесленном?
— В 121 школе… Да война помешала…
— Море, видно, любишь!..
Яша хотел ответить, но его перебил Ефим.
— Ого, еще и как! Недаром же его прозвали: «Яшка боцман — Хива Гордиенко», — захохотал он и, опасливо озираясь на Яшу, грозившего ему кулаком, отскочил в сторону.
— «Боцман», это понятно. Но «Хива»… что-то совсем неясное, — пожала я плечами.
— Это школьная кличка, — продолжал выдавать тайны своего друга расходившийся мальчик. — Его прозвали так потому, что на уроке истории, рассказывая о Хиве, он что-то спутал.
— Перестань, — оборвал его Гордиенко.
Увидев, что Яша рассердился, я примирительно сказала:
— Это всегда легко исправить, стоило только приналечь на учебу. Тяжело, что война лишила вас этой учебы. Да разве только учебы. Школьных товарищей… А ведь были же они у тебя?
Яша широко улыбнулся, обнажив два ряда крепких белых зубов, мечтательно произнес:
— Еще и какие… Всегда мы вместе. В море купались, катались на лодке. Раз на шаланде под парусом ходили к Тендровской косе…
— И там дали клятву вечной дружбы, — перебил его Ефим. — А клятва в конце вот какая: «Если надо будет, придем на помощь друг другу и не пожалеем жизни, чтобы спасти друга», — выпалил он единым духом.
— Эх ты, болтун! Я тебе, как другу, рассказал, а ты…
— Не обижайся, Яша! — сказала я. — Хороших порывов не надо стыдиться, а на товарища не сердись. Ты, наверно, проголодался?
— А вот идем в столовую, — ответил Яша.
На рассвете я снова встретила Яшу Гордиенко. Он возвращался в город, набрав листовок.
Приблизительно через пять-шесть дней Яша снова пришел к нам. Я застала его в столовой. Он с аппетитом уплетал нашу партизанскую «латуру».
— Здравствуй! Ты опять к нам? — спросила я, присаживаясь около него. — Что нового в городе?
— Да все то же, — ответил он, отодвигая от себя пустую тарелку. — Хлеба, соли, топлива нет. Зато есть: тюрьма, грабежи, рабство, — и, сняв кубанку, Яша вынул из-под подкладки свернутую в трубочку газетную бумажку, протянул ее мне: — Читайте! Это еще в ноябре они отбарабанили.
Разгладив бумажку, я прочитала:
«Приказ гражданского генерал-губернатора «Транснистрии» о введении трудовой повинности для советского населения.
§ 1. В целях общественной пользы вводится обязательная трудовая повинность для всех жителей от 16 до 60 лет, проживающих на территории г. Одессы.
…§ 9. Уклоняющиеся от выполнения этого приказа будут заключаться в лагеря.
Выявление уклоняющихся производится органами полиции и жандармерии, а интернирование в лагерях префектурной полиции г. Одессы.»
— Вот что творится у нас в городе, — с помрачневшим лицом сказал Яша. Немного помолчав, он продолжал: — А знаете, на какие работы они гонят сейчас?.. Расстрелянных и сожженных закапывать. Следы хотят скрыть, негодяи! Еще они берут на черные работы. А больше всего угоняют в Германию.
— Ну, а люди? Неужели они не сопротивляются?
Пожав плечами, Гордиенко ответил:
— Сопротивляются, конечно, не хотят работать на гитлеровцев. Паспорта даже бросают в «отделе труда», а сами бегут…
— А вы?
— А мы по ночам тихонько фашистов… А вот в Ильичевском районе на Молдаванке партизаны здорово действуют, — восхищался Яша. — Оккупанты как-то собрали партию людей для отправки в Германию, а партизаны напали на конвоиров, разогнали их, люди разбежались. Это, как видно, напугало фашистов, сейчас они стали осторожней. На ночь оцепляют все кварталы патрулями и палят в небо до утра из винтовок. Ну, пока! — поднимаясь с места, сказал Яша. — А то Владимир Александрович уйдет, а мне нужно еще раз увидеться с ним и кое-что забрать с собой в город.
— Яша, а чей же это отряд действует на Молдаванке?
— Не знаю. До свидания! — и, взмахнув кубанкой, он скрылся за поворотом.
* * *
В январе 1942 года выходы в город связных и Бадаева участились. Мы поражались той энергии,
которую проявлял он в борьбе с врагами. Мало кто видел его спящим или отдыхающим: город, связь с Москвой, с верховыми разведчиками и населением, шифровка и расшифровка радиограмм, руководство боевыми действиями, поиски новых выходов поглощают все его время. Дни и ночи Бадаев вместе с Зелинским и Васиным в движении. Они изучают тактику врага, блокировавшего нас, колесят подземными дорогами, неутомимо разыскивают ходы в город через Куяльницкие и Кривобалковские катакомбы. Они разбирают завалы, пилами прорезают щели из одной выработки в другую, наталкиваясь на тупики, возвращаются обратно, снова идут…
Возвращаясь в лагерь, Бадаев погружался в глубокие размышления.
Мы сердцем чувствовали, что он ищет пути продолжения борьбы, и очень переживали за своего командира.
Старик Гаркуша, как-то беседуя по этому поводу с парторгом Зелинским, предложил:
— Пусть он перебазируется в Савранские леса. Там бы мы показали гитлеровцам, где раки зимуют.
— Этого нельзя сделать, — задумчиво ответил Константин Николаевич. — Нельзя…
— Почему, — недоумевал Иван Гаврилович. — Там проще! Кругом леса. Раздолье. Иди куда хочешь. Прижали — перебирайся в другое место. А тут, словно в бутылке сидишь…
— Нет, друзья! Наше место тут! — возразил парторг. — Поймите, грузы и войска фашистов идут на осажденный Севастополь через Одессу. В порту и на железной дороге действуют наши люди. А людьми нужно руководить. Так из-за трудностей мы оставим их и убежим в Саврань, дескать там легче? Нет, надо продолжать борьбу тут. А в Саврани тоже есть партизаны и борются они с фашистами не меньше, чем мы.
— Верно! — поддержали парторга коммунисты и комсомольцы.
7-го февраля ко мне в забой пришел Гринченко и попросил пальто и кубанку мужа. Я поинтересовалась, зачем ему это нужно. Он ответил, что завтра утром Бадаев уходит в город.
Вручая вещи, я сказала:
— Мы все сильно переживаем, когда Владимир Александрович уходит на поверхность. Неужели нельзя послать кого-либо другого?
Послал бы он меня! Со мной, если что и случиться — не беда. А ведь он — голова и сердце наше.
— Послать нельзя никого…
— Почему? — удивилась я и предложила: — Пошлите меня. — Но Иван Андреевич отрицательно покачал головой.
— Не доверяете?
— Нет! Не то… — махнул он рукой.
— Тогда что же?
— Дело в том, что есть ряд важных организационных вопросов, решить которые может только командир.
Под утро в город ушли Бадаев и Межигурская.
Проходя первый пост, Владимир Александрович крепко пожал руки постовым, с Зелинским расцеловался.
— Прощайте! Ухожу в город. Ждите меня через три дня.
— Володя, — обратился Зелинский к Бадаеву, — принеси из города табачку да бумаги, а то без курева тяжело ребятам.
Бадаев развел руками, ответил вопросом:
— А марки где? Нет, — но увидев огорченные лица товарищей, засмеялся — Обязательно принесу! — и исчез в темном провале лаза под баррикадой.
— Счастливого пути, удачи! — крикнули ему вслед товарищи. Бадаев приветливо помахал фонарем и вместе с Межигурской скрылся за поворотом штольни.
Глава XIV
На поверхности суровая зима с вьюгами и метелями. Внизу в катакомбах — чернильная тьма, спертый воздух и глухая тишина, нарушаемая осторожными шагами партизан.
У людей ввалившиеся щеки, под глазами темная синева, на лице зеленые, желтые, темно-багровые пятна. Серые камни выпили кровь, темнота и недоедание истощили их. Лохмотьями висит на партизанах истлевшая одежда, сквозь дыры просвечивает исхудавшее тело. Изорванную обувь подвязывают проволокой, благо, натаскали ее много, разрушая связь оккупантов. В чем только душа держится? Что вдохновляет их? И здесь же нахожу ответ: беспредельная любовь к своей Родине, вера в силы народа. Часто вспоминают о победе Красной Армии, разгромившей гитлеровские войска под Москвой. В свободное время, потуже подтянув ремень на запавшем животе, при тусклом свете фонаря читают книги, играют в шашки и шахматы. Играют азартно, словно дети.
Прошло три дня, как ушли в город Бадаев и Межигурская. Сегодня все с нетерпением ожидают их возвращения.
Взглянув на циферблат «драчунов», Васин распорядился:
— Неизвестный Иван — на прием радиосводок, Мытников пойдет с Даней встречать Бадаева и Межигурскую.
Переминаясь с ноги на ногу, Мытников подошел к Васину и робко сказал:
— Я что-то совсем заболел…
Подняв голову от тетради, Васин внимательно посмотрел на Дмитрия Юрьевича
8.
— Я ничем не могу помочь тебе. Дорогу туда знаешь только ты. Послать кого-нибудь другого — запутается, лабиринт там очень крепкий… Придется, Митя, пойти, ничего не поделаешь, только будь осторожен. Гляди в оба, а не вполглаза. Оккупанты на ночь усиливают патрулирование. В Нерубайск пришел новый большой отряд эсэсовцев. Они разместились у Евтеевой Марии, в хате Пономаренко и по другим хатам. Поторапливайся, а то опоздаешь.
— Иду! — ответил тот и, прочистив песком стекло фонаря, зажег его, кинув на ходу: «Пошли, Даня!».
Через несколько часов они вернулись в лагерь без Бадаева и Межигурской, взволнованные и недоумевающие.
— Шли встречать Бадаева, а наткнулись на отряд эсэсовцев. Чуть сами не попали в лапы к ним…
— Что случилось? — встревожился Яков Федорович.
— Мы сами ничего не поймем… — ответил Мытников, присаживаясь возле Васина. — Бадаев ушел ходом, который мы нашли недавно под скалой второй балки за церковью, недалеко от хаты Николайчука. Ход такой: сто лет ищи — не найдешь. Ну, так вот, пошли мы туда с Даней. Глядим, метрах в ста от выхода обвалилась кровля, образовался провал, можно наверх пролезть, хотя немного и высоковато. Я стал и думаю: ждать Бадаева здесь или идти к выходу? Вспомнил, что он не знает о провале. Прикрутил фитиль в фонаре, поставил его за поворотом в нише, а сам с Даней проскользнул провал, ощупью подобрались мы к выходу.
Ждем. Землю припорошило снежком. Луны нет, только звезды, но видно далеко. Гляжу, снизу балки поднимаются двое. Я обрадовался и говорю Дане: «Идут!» В это время высокий поскользнулся, а за ним след в след цепочкой целый отряд гитлеровцев с автоматами. Вдруг разделились: часть направилась к нашему выходу, а остальные бегом к провалу. Вижу, плохо наше дело… отрежут от катакомб. Даю команду: «Данька, к провалу». Мы туда, а там уже немцы… скачут, как суслики вниз и строчат из автоматов. Что делать? Командую: «Стреляй, Данька», а сам как наверну гранатой. Тут и пошло… Фрицы подняли такой галдеж, хоть святых выноси, кинулись наутек. Сбились в провале скопом, заткнули дырку. Стало совсем темно, стреляем наугад. А они орут, душат друг друга, на стены лезут, а потом пробкой вылетели на поверхность. Я опять подаю команду: скорее через провал, пока фрицы не очухались. Только вскочили на штольню, стали отходить в глубину, позади как тарарахнет, аж штольня затряслась. А я думаю: швыряйте, свинячьи рыцари, нас не достанете. Вот и все.
Все притихли.
Встревоженный неожиданным сообщением, Зелинский решил сам пойти к условленному месту встречи.
Припав к обледенелым камням у выхода из катакомб, под нависшей скалой, Зелинский с товарищами зорко всматривался в темноту зимней ночи. Мороз крепчал. Все, казалось, остекленело. Порывистый ветер злобно швырял в лица людей горсти колючего снега, доносил до них гортанные возгласы патрулей, звонкое топанье солдатских сапог о мерзлую землю, трескотню сновавших по селу мотоциклов, одиночные выстрелы. Но окоченевшие люди лежали неподвижно — они ждали своего командира. Не знали они тогда, что он уже не вернется к ним.
Группа парторга Зелинского возвратилась в лагерь утром. Вид у всех был удрученный. Поставив винтовки в пирамиду, люди, промерзшие до костей, начали растирать обмороженные щеки и руки.
— Сукном растирайте, скорее пройдет, — заботился Зелинский.
— Ну, как? — тихо спросил его Васин и впился в него взглядом.
— Что-то есть… — развел руками парторг, — а что… не поймешь… Гитлеровцы, как шакалы, кружат вокруг провала, но близко не подходят. На стенах следы крови. А это я нашел там, — протянул он Васину кусок свежеоторванной полы шинели зеленоватого цвета. — Кто-то, удирая, лез вперед, наступил, оторвал.
— Ну и вояки… — презрительно бросил Пустомельников, — трохи штаны не залышилы в провали.
— Штаны-то унесли, а вот запах долго будут проветривать, — зло усмехнулся Гринченко, внимательно рассматривая осколки и ручки немецких гранат.
— Видно, катакомбы подействовали. А так это зверье не очень-то трусливо, — возразил Васин, шевеля мохнатыми бровями.
В дежурную вошел Иван Никитович. Он тяжело опустился на скамью рядом с Зелинским и Васиным и, увидев их вопросительные лица, передернув плечами, сказал:
— Узнать ничего не удалось. Ни один разведчик не подошел к колодцу, хотя было время передачи. Что случилось? Почему не вернулся Бадаев?
— Бадаев мог просто задержаться в городе, — высказал предположение Зелинский. — Вот что, Яков Федорович, нужно разбить людей на группы и к вечеру послать к выходам встречать Бадаева. А пока отдыхать!
Но отдыхать не пришлось. Зазвонил телефон с первого поста. Трубку взял Васин.
— Что? Кужель пришел? Да что он, сумасшедший? Он же след потянул за собой. Говоришь, еще ночью вошел в катакомбы? Завалы? Долго петлял? А-а! Тогда ничего. Пропустите.
От быстрой ходьбы Кужель запыхался, дышал тяжело и прерывисто. Сняв шапку, вытер лоб и лысину, подкрутил растрепанные усы кончиками вверх. Взгляд его обычно веселых глаз в этот раз был грустным.
— Присаживайся, Ваня! — пригласил его парторг.
Кужель сел молча, явно чем-то встревоженный, также молча вынул кисет, сделал самокрутку из самосада, положил кисет на стол, приглашая ребят закурить. Потом порылся в кармане вытащил какую-то бумажку и протянул ее Зелинскому.
— На, читай!
Головы всех повернулись к парторгу, который читал вслух:
— «1942 год. января 26. Циркуляр префектуры Одесского уезда всем подведомственным преторам о запрещении советским гражданам ходить из села в село.
Примите меры, чтобы жители вашего района ходили из села в село только в исключительных и хорошо мотивированных случаях.
Пропуска должны быть написаны на румынском и русском языках.
Кроме того, примите меры для проверки паспортов всех жителей с целью преследования подозрительных лиц. Выполняйте данное мероприятие с помощью жандармских властей вашего района.
Префект Одесского уезда полковник
М. Вилческу».
Закончив чтение, Зелинский некоторое время молчал, словно обдумывая прочитанное, потом спросил Кужеля:
— Ну, а как дела в городе, что слышно?
— В городе облавы, аресты. Вокруг города зачем-то роют окопы. Всюду заставы. Меня раз десять останавливали, проверяли пропуск и паспорт. Мне кажется, что оккупанты раскинули бредень. Ох, боюсь я, как бы Бадаев не попал в эти сети… Шпики так и снуют. Контрразведчики сигуранцы ночами мотаются с облавами.
— Вот что, Кужель, побудь в катакомбах до ночи, а потом прихвати с собой Шестакову. Утром она пойдет на розыски Бадаева. Вечером вернется к тебе, а ты уже проводи ее потом к нам. Договорились?
— Ну, а чего же, хорошо!
Вечером Кужель и Тамара Шестакова ушли. А под утро разведчик Давыденко Александр сообщил нам через водяной колодец, что днем (в это время Кужель находился у нас) какая-то немецкая воинская часть окружила вторую балку и выстрелила по провалу, недалеко от хаты Николайчука, после чего поспешно ушла из села, никого не тронув.
— Это они, наверное, завалили выход, где Мытников и Даня вели перестрелку, — высказал предположение Васин и распорядился: — Иван Францевич, пойдите туда с Мытниковым, посмотрите, что там такое.
Вернувшись, бойцы сообщили, что фашисты выстрелом из пушки действительно завалили этот выход.
События становились все более запутанными и непонятными. Люди пытались разобраться в происходившем, но к определенному выводу никто не пришел. Решили, что все станет ясным, когда из города вернется Тамара Шестакова, а с ней Бадаев и Межигурская. Но Тамара Шестакова, так же как Бадаев и Межигурская, в катакомбы не вернулась ни в тот день, когда было назначено возвращение, ни в последующие.
Прошло еще несколько дней в тревожном ожидании. Люди колесили дорогами подземелий, переходили из одной шахты в другую, посещая все места возможного возвращения Бадаева, Межигурской и Шестаковой.
К нам снова пришел Кужель. Всегда спокойный и неунывающий, Иван Афанасьевич на этот раз явно нервничал, хотя и старался скрыть свое волнение. Его пальцы, скручивая цигарку, вздрагивали. Он жадно затягивался, словно желая успокоиться. Несколько раз вздохнул и, наконец, заговорил:
— Чует мое сердце беду… Гитлеровцы опять зашевелились. В селе у нас сейчас гестапо и сигуранца из города. Мне кажется, что они что-то затевают… Знаете, ребята, заберите у меня и подвале все, что есть. А то начнут трусить, то повытрусят и наше добро. А вы тут голодаете…
— А ты как? — заботливо спросил парторг. — Зима ведь…
— А-а! — махнул рукой Кужель. — Уцелею — проживу. Вам тяжелее, вы в шахте… Только бы успеть. Давай, Никитович, собирай ребят!
Люди быстро перенесли в лагерь картофель, белокочанную капусту, томат, соленые огурцы. Вскоре в столовой соблазнительно запахло украинским борщом, заправленным салом.
Кушая борщ, партизаны с благодарностью вспоминали шахтера Кужеля, не предчувствуя, что это была его последняя помощь нам, последняя встреча с нами…
Не успело наверху наступить утро, как в наше подземелье вихрем начали врываться тяжелые беды и несчастья.
Вернувшись от колодцев со связи, Иван Никитович с ходу начал рассказывать:
— Жена разведчика Ляшенко носила продавать в город молоко и видела, как по улице Бебеля вели группу арестованных женщин, среди них была и Васина Екатерина. Смотрите не пробол… — старик осекся, увидев в темном углу дежурной привалившегося к стене Васина.
Рванувшись, Яков Федорович сделал шаг, но пошатнулся, ухватился за край стола, ища опоры. Его лицо побагровело. Как рыба, выброшенная из воды, он ловил воздух широко раскрытым ртом. Но вот, кое-как овладел собой, остановил свой взгляд на мне, скорбно прошептал:
_ Вот… И у меня тяжелая утрата… Катя, моя
Катя, — застонал он. — Гады! Выродки! Проклятые фашисты! Погодите же… — погрозил он кулаком и тяжелым шагом вышел из дежурной.
— Яша, стой! Куда же ты без света? — закричал ему вслед парторг. — Возьми фонарь. Держись крепче, друг! У нас тоже семьи и кто поручится, что они не там, где и твоя Катя.
— Может его нельзя оставлять одного? — тихо спросил Петренко.
Махнув рукой, Зелинский ответил:
— Переборет. Мужик крепкий. У меня тоже жинка и трое ребят… А где они?.. Что с ними?.. Не знаю…
Наступило долгое и тягостное молчание. Поглядывая на товарищей, я думала, что каждый из них сейчас вспоминает свою семью, беспокоится о ней, горько переживает то, что не успел эвакуировать ее.
Васин вернулся в лагерь под утро. Внешне он был спокоен. Но дымка печали в глубоко запавших глазах да мертвенная бледность лица говорили, что и годы не зарубцуют рану, нанесенную войной. Поставив фонарь в угол, он сел рядом с Петренко.
В это время в дежурную с разбега влетел подчасок — Коля Медерер. Он протянул Зелинскому вчетверо сложенный лист.
По мере чтения записки лицо парторга принимало землистый оттенок. Словно не веря своим глазам, он разложил записку на столе в светлом кружке от лампы, прочитал еще раз и глухим хриплым от волнения голосом сказал:
— Случилось большое несчастье… Арестованы Бадаев, Шестакова, Межигурская, Гордиенко Яша, Милан Петр Иванович, Шевченко Николай Никифорович и другие партизаны городской группы.
Владимир Александрович закован в кандалы. С допроса его приносят полуживого. Пытают электричеством, избивают. Арестованные находятся на улице Бебеля в тюрьме сигуранцы. Следствие ведет Курорару — зверь и подлец.
Товарищи побелели, как мел. Даже разноцветные пятна катакомбовской плесени не могли скрыть эту бледность. Иван Никитович, опираясь плечом о стену, дрожащими пальцами теребил свою лохматую бороду. Долго, долго молчали мы, переживая это страшное известие.
Арест Бадаева был самым большим ударом. Мы лишились не только умного командира, находчивость и мужество которого держали гитлеровцев в постоянной тревоге, но мы потеряли — друга и товарища, которого все любили за спокойную уверенность в победе над врагом, за человеческую теплоту и тактичность.
Молчание нарушил Васин. Срывающимся от волнения голосом он спросил:
— Кто передал об этом?
— Наш разведчик — человек верный, — ответил Константин Николаевич, снова погружаясь в тяжелое раздумье.
Под утро состоялось открытое партийное собрание. Проходило оно бурно. Некоторые товарищи упрекали Бадаева за его хождения в город, большинство оправдывало Владимира Александровича, доказывая необходимость руководства непосредственно на местах борьбы.
Последним выступил парторг. Он говорил, что согласен с теми, кто правильно понял действия Бадаева, что сейчас главное — это борьба там, где она может принести наибольшую помощь Родине.
— Мы будем продолжать бороться против врагов так, как боролся Бадаев! — заключил Зелинский. — Этого требует от нас Родина, к этому призывает партия.
Собрание постановило усилить массово-политическую работу среди партизан и населения, информируя их о положении на фронтах Отечественной войны.
После собрания Яков Федорович Васин довел до нашего сведения приказ по лагерю об организации нового поста наблюдения у замурованного выхода первой шахты, а также наблюдательных постов у выходов в Усатовскую балку.
Глава XV
Партизаны деятельно выполняли решения партийного собрания и приказ Совета командиров. Но мысль о товарищах, попавших в лапы гестаповцев, не давала покоя, обжигала мозг, заставляла непрерывно думать, кто же предал Бадаева и товарищей. «Только бы ниточку захватить, а там и весь клубок размотается», — говорил Зелинский. И вскоре эта ниточка попала в наши руки.
В один из ненастных дней из подвалов фашистской тюрьмы на Бебеля вывели партию заключенных, построили в колонну, окружили конвоем и погнали в сторону центральной тюрьмы.
От побоев, голода и холода лица арестантов опухли и почернели. Изможденные люди едва брели. Многие из них были без верхнего платья, шли босиком. Под их ногами звучно чавкала грязь, перемешанная со снегом.
Неизвестно откуда набежавшие женщины взглядами искали в колонне своих близких и родных, пытались переброситься с ними хоть парой слов, подбодрить их, узнать, куда уводят, кто еще остался в тюрьме, кого расстреляли.
Орудуя прикладами, жандармы отгоняли наседавших на них женщин, но они еще теснее окружили колонну.
И вдруг, заглушая рокот многолюдной толпы, в воздухе раздался звонкий голос Тамары Межигурской:
— Товарищи! Нас предал Бойко-Федорович. Предатель Бойк… — Тамара упала бы от удара приклада в бок, но ее поддержали товарищи. — Бойко, Бойко — предатель! — продолжала кричать она, захлебываясь кровью от нового удара в лицо.
В толпе послышались выкрики:
— Палачи! За что убиваете человека! Откуда вы взялись! Варвары!
Офицер и отряд жандармов, подоспевших на помощь конвоирам, бросились оттеснять толпу на тротуар, но люди, увертываясь от ударов, продолжали напирать на конвой. Гитлеровцы, испугавшись, направили на толпу автоматы и дуло пулемета, установленного на телеге, ехавшей позади колонны арестантов.
В этот же день обо всем этом было передано в катакомбы одним из наших верховых разведчиков.
Известие о предательстве Бойко-Федоровича ошеломило нас. Некоторые товарищи недоумевали, не хотели верить этому. Все еще надеялись, что это «утка», придуманная фашистами. А быть может Тамара ошиблась?
Но Тамара не ошиблась. Наши разведчики установили точно, что Бойко-Федорович предатель. Теперь стало понятно, почему гитлеровцы направились к выходу, которым ушли в город Бадаев и Межигурская. Партизаны вспомнили, что этим ходом пользовался и Бойко-Федорович, когда пару раз приходил к нам в катакомбы.
Чистые сердцем люди не допускали мысли, что можно изменить Родине, стать предателем.
Комсомольцы просили Зелинского, Васина послать их в город, чтобы захватить предателя, судить и расстрелять.
— Константин Николаевич, — обратился к парторгу Даня, — а подробности предательства сообщили?
— Нет. Этого не могли узнать, — ответил Зелинский.
И только впоследствии, через многие годы, удалось установить, что Бадаев и Межигурская, вместе с Бойко-Федоровичем, случайно были задержаны во время облавы на квартире у Бойко. Квартира Бойко-Федоровича служила местом встречи Бадаева с некоторыми верховыми разведчиками. Струсивший Бойко выдал Бадаева и тех, кого он знал.
Для контрразведчика Курорару и других гитлеровцев признание Бойко было неожиданным, оно ошеломило их. О партизанах они даже не догадывались, считая, что против них действует часть советских войск, защищавших Одессу. По мнению оккупационного командования, наши войска не успели полностью эвакуироваться из Одессы и спустились в катакомбы в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое октября 1941 года.
И как бы в подтверждение этому на гитлеровцев обрушивались частые удары, причем в разных местах города, на железной дороге и в селах.
Взрыв дома на улице Энгельса 22 октября 1941 года, внезапные появления и столь же таинственные исчезновения группы партизан, наносивших удары по оккупантам в Ильичевском районе
9; диверсии в порту и в городе; взрывы на железной дороге эшелонов с боеприпасами и снарядами, особенно взрыв эшелона в ночь на 17 ноября 1941 года на перегоне станций Дачная — Застава первая; обстрел гитлеровцев партизанами 16 октября 1941 года; бой комсомольцев 17 октября; бои бадаевцев 17–18 и 19 ноября 1941 года; тщетность попытки ворваться в катакомбы; взрыв эшелона со снарядами в конце декабря 1941 года; работа партизанской радиостанции и ее неуловимость; появление в городе и селах листовок и сводок Совинформбюро и, наконец, уклонение советского населения от трудовой повинности и сдачи продуктов и одежды — все говорило об организованности борьбы и о наличии большой военной силы.
Вывести оккупантов из этого заблуждения предатель Бойко не мог, так как Бадаев и здесь оказался предусмотрительным командиром. Он не отпускал Бойко от себя, когда тот приходил к нам и не позволял ему разгуливать по катакомбам и общаться с нами. Поэтому предатель не мог знать, есть ли в катакомбах войска.
Гитлеровцы подвергли Бадаева диким пыткам, требуя дать показания о численности людей в катакомбах, а главным образом, о мифических войсках.
Но Бадаев молчал. На первом же допросе он заявил:
— Ни с одной фашистской собакой я не буду разговаривать.
Не добившись показаний от Бадаева, контрразведчики сигуранцы дикой сворой набросились на связных Межигурскую и Шестакову
10 и на разведчика Яшу Гордиенко.
Но и здесь гитлеровцы натолкнулись на молчание.
Яша Гордиенко от ударов по голове оглох, полуослеп, фашисты сорвали у него ногти на пальцах рук, но комсомолец мужественно перенес все пытки, не выдав никого.
Межигурскую и Шестакову обливали ледяной водой, избивали до потери сознания грабовой палкой. Однажды, свирепствуя, следователь Курорару бил Тамару Шестакову до тех пор, пока палка не разлетелась на куски.
Обо всем этом мы узнали от наших разведчиков. Но это не вызывало у нас страха, а только жгучую ненависть к врагам.
— Кровь за кровь! — говорили мы, оставшиеся на свободе.
Глава XVI
15 февраля 1942 года по телефону с первого поста наши наблюдатели передали, что катакомбы окружены эсэсовскими войсками. В Нерубайское прибыли чиновники гестапо и сигуранцы. По селам Нерубайское, Усатово, Большой Куяльник и другие идут аресты. По доносу сельских полицаев «Короля» и «Кота» взяты и наши разведчики Александр Давыденко и Иван Кужель. Их заковали в кандалы. Все арестованные находятся в колхозном амбаре, превращенном фашистами в место пыток и истязаний.
Войска оккупантов снова могли сделать попытку ворваться в катакомбы.
В лагере все в боевой готовности. К выходам послали партизан. Все деятельно готовились к бою. Даже дети Ваня и Коля с какой-то недетской серьезностью выполняли поручения старших по связи между штабом и боевыми группами. И только маленький Петька, прижимаясь к коленям матери, хныкал:
— А-а! Мам, я боюсь…
В это время в Нерубайском оккупанты сеяли смерть.
В Усатовской больнице от тяжелых пыток умирал Василий Степанович Капышевский. Не стало разведчика Александра Давыденко. Его труп был выброшен гитлеровцами во двор на кучу навоза. Только через несколько дней колхозникам удалось похитить и похоронить его Замучили гестаповцы и старого партизана — Ивана Афанасьевича Кужеля.
 Кужель Иван Афанасьевич - верховой разведчик в с. Нерубайское.
Кужель Иван Афанасьевич - верховой разведчик в с. Нерубайское.
На одном из допросов Кужель руками, закованными в кандалы, хотел задавить фашистского следователя, но был избит, трое суток пролежал без сознания.
И снова допросы…
Снова пытки…
Иван Афанасьевич пытался бежать, бросился с кручи. Но помешали кандалы. Мысль о свободе и борьбе не покидала старого партизана.
Чутко прислушиваясь к звукам, доносившимся со двора, Кужель шепотом окликнул сидевшего рядом с ним старика-шахтера Мошкова:
— Слушай! Давай бежать!
— А как тут убежишь? — отозвался тот.
— Давай попробуем через крышу.
Немного помолчав, Мошков сказал:
— Не убежишь… Крыша крепкая… Колхоз строил этот амбар навечно.
Оба умолкли, углубившись в свои мысли. Молчание снова прервал Кужель.
— Тогда слушай… Если ты уцелеешь, то когда вернутся наши, передай им, что я на допросах никого не назвал. Если встретишь мою сестру Шуру Кулакли, ты ее знаешь, расскажи ей все. И еще сообщи, что нас выдали полицаи «Кот» и «Король».
И снова наступила настороженная тишина… Но вот Кужель завозился в углу. Раздался треск разбитого стекла, затем приглушенный стон.
— Ты что?.. спросил встревоженный Мошков.
— Я разрезал себе живот… — пересиливая боль, ответил Кужель, тяжело дыша. — А они… Будь они прокляты! Пусть захлебнутся моей кровью… Все равно им тут не быть, их разобьют.
Дрожа всем телом, Мошков, все еще не осознав случившегося, вплотную придвинулся к товарищу и почувствовал, как на руки и в лицо ему брызнуло чем-то горячим; наконец, понял — кровь, дико закричал:
— А-а-а! Помогите! Зарезался человек.
— Молчи!.. — сдерживая стоны, просил Кужель. — Дай спокойно помереть… — Но Мошков, обезумев от страха, продолжал кричать.
Вошли эсэсовцы, осветив амбар электрофонарем, направились в угол, где в муках корчился Иван Афанасьевич.
Пугливо прижимаясь один к другому, люди молчаливо давали дорогу фашистам.
Угрожающе размахивая осколком стекла, Кужель не подпускал к себе мучителей. Один из эсэсовцев изловчился, набросил на Кужеля мешок. Сорвав его, Иван Афанасьевич ударом ноги в живот оттолкнул от себя гитлеровца.
Навалившись сворой, палачи вытащили Кужеля во двор, растянули его на каменном столике, сели на голову и ноги, зашили распоротую полость живота цыганской иголкой.
В тюремной больнице Кужелю сделали операцию и вылечили для того, чтобы расстрелять.
Известие о смерти замученного фашистами Капышевского, трагедия Давыденко и Кужеля глубоко потрясли нас, а особенно односельчан — товарищей Кужеля по гражданской войне.
Иван Никитович Клименко как-то сразу сгорбился и одряхлел, стал менее ворчливым, часто задумывался и недоуменно повторял одну и ту же фразу:
— Була людына, та й не стало…
Мошков вместе с другими арестованными все еще находился в заключении. Круглые сутки велись допросы и пытки. Но люди не давали показаний.
Зная из доноса полицая «Кота», что Мошков любил выпить, следователь Георгиу пытался соблазнить его деньгами, вызвать на откровенность.
— Вы, господин Мошков, при большевиках гнули спину в каменоломнях. А мы могли бы помочь вам приобрести много денег на более легкой работе, — вкрадчивым тоном говорил следователь. — И зажили бы вы во всю…
Среднего роста, коренастый, словно старый дуб, с вихрастой рыжеватой головой, вздернутым носом на широком обветренном лице, Мошков действительно любил выпить и повеселиться в компании. Но пил за свои, и как говорят шахтеры, всегда был «на своем ходу», то есть не напивался до потери сознания. Сейчас, сидя на стуле перед следователем, он понимал, куда гнет тот, и, стараясь попасть ему в тон, разыгрывал из себя простачка.
— Деньги… я очень люблю… — глуповато ухмыляясь, отвечал Мошков, — люблю, чтоб платили по работе. Деньги — всему голова, — почесывая затылок, заключил он.
— Вы будете иметь их… — многообещающе кивнул следователь. — Только нужно… поработать.
— От работы я никогда не отказывался… Всю жизнь работал. Да где ее теперь возьмешь…
— Мы найдем… да еще и легкую, — обнадежил следователь.
— А нам всякую подавай! — хитро подморгнул Мошков.
— Нам нужно узнать, — продолжал следователь, — сколько партизан в катакомбах и сколько среди них красноармейцев, а потом…
Но Мошков, состроив услужливую мину, перебил его:
— Мабуть тыщи… Только и слышно: партизаны да партизаны…
— Замолчи, не перебивай, — одернул Мошкова Георгиу и продолжал — Так вот, если ты не знаешь, сколько их там, то надо найти таких людей, которые знают.
— Это мне не факт! — радостно фыркнул Мошков и фамильярно потянулся через стол к раскрытому портсигару следователя, взял папиросу, внимательно оглянул ее, постучал мундштуком о Прокуренный ноготь большого пальца, закурил, с видом заговорщика произнес — Так бы сразу и сказали, а то крутите, вертите! Да, что я, жалеть их буду что ли. Они мне не сват и не брат.
Я в глаза скажу им, что они знают о партизанах, а брешут вам, как собаки. Сами же говорили мне, что знают… Вы вызовите их и построже допросите. Они все расскажут.
Следователь впился глазами в Мошкова.
— Кого вызвать, кого допросить?
— Да этих же, да как их?.. Вот забыл… Да этих — полицаев «Кота» и «Короля». Они все знают, — убежденно ответил Мошков.
Некоторое время Георгиу ошеломленно смотрел на Мошкова, как бы взвешивая: дурак или притворяется. Потом, стремительно вскочив, взбешенно закричал:
— Идиот, вон!
Подхватившись со стула, Мошков наивным тоном спросил:
— Можно домой идтить? Мы что ж, мы с нашим удовольствием, — и, одернув на себе старенький пиджачок, направился к двери. Но удар в подбородок свалил старого шахтера на грязный, загаженный пол.
— В подвал! В ледник! Никаких передач! — бесновался следователь. — Я заставлю тебя, собака, делать то, что нужно нам.
Спустя некоторое время Мошкова снова допрашивал тот же следователь.
— Ну, как? Одумался? — насмешливо спросил он старика, одеревяневшего от побоев и холода.
— Одумался… — тихо и покорно ответил тот, вертя в руках потрепанную, неопределенного цвета кепку.
— Так вот, — тоном победителя начал следователь, — нам нужно найти партизан и убедить их выйти из катакомб, сдаться нам. А потом пусть идут себе по домам, — милостиво взмахнув рукой, добавил он.
— Но как это сделать, господин следователь?.. Ума не приложу, — почесывая затылок, говорил Мошков.
— Нужно идти в катакомбы, — подсказал Георгиу.
— О, господи!.. — ужаснулся Мошков и с каким-то диким отчаянием закричал — Эх, пропадай все пропадом! Идемте, я поведу вас!..
— Ты думаешь, что я пойду с тобой — удивленно спросил гитлеровец.
— Ну, а как же! — уставился на него Мошков.
— Они ж убьют меня.
— Но и меня могут убить… А окромя всего, они не поверят мне, что вы их отпускаете по домам. Нам нужно идтить только с вами. А я что ж? Я с нашим удовольствием.
Так и не выудив показаний, гитлеровцы вынуждены были освободить Мошкова и других людей из-за отсутствия улик.
Ничего не добившись в Нерубайском, гестаповцы, несолоно хлебавши, вернулись в город.
Неудачи оккупационного командования в Одессе в отношении партизан вызвали, по-видимому, в высших гитлеровских кругах недовольство. В моем дневнике об этом сохранилась запись 1942 года:
…«По сведениям нашей верховой разведки через Нерубайское из Одессы прошло около 25 тысяч войск. С 17-го на 18 февраля наши радисты связались с Москвой. Я думаю, что передали и об этом».
Следующая запись в дневнике — это рассказ Ивана Францевича Медерера об уходе штрафников.
…«Пошел я поглядеть к выходу в дырочку. Гляжу, подъезжает грузовик. Из него выскакивает румынский офицер, а за ним, как горох, посыпались жандармы с синими повязками на рукавах. Часть их пошла в направлении церкви, а остальные оцепили все заложенные дырки со стороны и напротив дороги. Потом пошли войска… Короткие обтрепанные шинелишки, какие-то шапчонки. Согнулись почти вдвое, идут понуренные… вид хуже побитой собаки, даже жалко стало…»
И сейчас через много лет я помню удивленные взгляды товарищей, слушавших Медерера. Я ожидала, что они обрушатся на него градом упреков, но только вспыльчивый, как спичка, Харитон бросил:
— Фашистов жалеешь?
Но его осадил Петренко:
— Иван Францевич не фашистов жалеет, а людей, которых гитлеровцы силой погнали на войну. Вот они и воюют, пока поймут. Да и начали уже понимать. Забыл, как эсэсовцы на днях все Нерубайское перерыли, искали дезертиров? Целая рота сбежала. Так эти тоже по-твоему фашисты? Эх, ты… соображать нужно, что к чему, — и обратясь ко мне, предупредил — Пора собираться на смену.
Зарядив винтовки, проверив, не отсырели ли спички, мы вышли из лагеря и направились к выходу в Нерубайское.
Сменив постовых, мы прильнули к щели, наблюдая за происходившим на поверхности.
По дороге, пролегающей мимо балки, тянулись обозы, проходили колонны пехоты. По обочине дороги сновал патрульный мотоцикл. Находившиеся в нем офицеры зорко посматривали на обрывистую балку с ее страшными таинственными катакомбами. Они часто поглядывали на занавес из длинных ледяных сосулек, повисших над входом первой шахты, словно чувствуя, что за ним затаились партизаны.
Мела и выла на тысячи разных голосов пурга. Ветер с треском и воем срывал полотнища парусины с убогих каруц (телег), бешено набрасывался на жалкие сгорбленные фигурки румынских солдат в оледенелых шинелях. Низко опустив головы, полузамерзшие, они медленно двигались навстречу ветру.
Это уходил на передовую в Крым проштрафившийся гарнизон.
В Одессу ввели новые войска.
Гарнизон, сменивший штрафников, еще туже затянул узел блокады.
Это лишило нас общения с населением, щедро помогавшим партизанам.
Нам грозил голод.
Глава XVII
Снова и снова ходили партизаны в поисках выходов из катакомб, чтобы продолжать борьбу. Они перебирались из одной заброшенной выработки в другую, проползали сбойки и щели, шли по причудливо петлявшим дорогам двух- и трехъярусных шахт, кружили вокруг каменных столбов. Иногда наталкивались на колоннады деревянных стоек, окутанных пушистой белоснежной плесенью. Провисшая от времени кровля грозила обвалом. От простуды и недоедания у многих появились на теле фурункулы, причинявшие мучительную боль.
С трудом поворачивая забинтованную шею, морщась от боли, Васин говорил:
— Нестерпимый холод и сырость пробуравили меня насквозь… Эх, хорошо бы сейчас выпить стакана три-четыре горячего крепкого чаю с малиновым вареньем, пропотеть, может и помогло бы. — И здесь же, рассердившись на себя, ворчал: — Чай, чай… А как там Бадаев и товарищи в лапах гестапо? А я тут размечтался, — и, поправив фитиль чадившего фонаря, подал команду — Поднимайсь! Главное — ходы найти. Нечего время терять!
Несчастья продолжали преследовать нас. Умер от брюшного тифа комсомолец Ефим. Мне было очень жаль его. Не раз, будучи еще здоровым, он приходил ко мне в забойчик, скромно присаживался на камень, служивший столом, и начинал мечтать вслух: об учебе, комсомоле, о красивой девушке Ирине, которая будет ждать его хоть целый век.
И вот смерть унесла эту кипучую юную жизнь… А его друг и товарищ — Гордиенко в фашистской тюрьме… Невольно вспомнила слова Бадаева о Ване: «Он умер в бою. А мы… Кто знает… Но не будем об этом. Мстить! Мстить нужно!»
— Не теряйтесь, ребята! Выходы найдем! Мы еще будем бить гитлеровцев, и крепко бить, — послышался из штрека голос парторга Зелинского. — Галина, на пост, — окликнул он меня. — Поторапливайся.
В лагере… голод. Казалось, еще немного и он задушит нас. Но находчивый Иван Никитович догадался собирать под выходами свеклу, оставленную населением, укрывавшимся в катакомбах во время обороны от артобстрелов и бомбежек. Выйдя на поверхность, люди бросили эту свеклу, приготовленную для кормежки животных. Она сейчас очень пригодилась нам. Наши кухарки резали ее мелкими кусочками и варили, а чтобы сдобрить, бросали в котел немного отрубей, которыми когда-то кормили Машку. Это варево из полусгнившей свеклы отвратительно пахло гнилью, но приходилось есть.
В начале марта 1942 года на Большом Куяльнике Васин со своей группой партизан нашел щель во двор какого-то человека (память не сохранила его фамилию). Он дал нам мешок муки и обещал познакомить с жителем этого же села неким Козой, у которого имеются кое-какие запасы.
Васин передал с этим человеком записку Козе, с просьбой принести немного продуктов.
— Коза… Кто же он? — пытался вспомнить Иван Никитович. — Дмитро, обратился он к Вериге. — Кто он, не помнишь? О, так это же Иванов Василий Иванович! — радостно воскликнул он. — Козою его прозвали за характер. Это наш человек! В девятнадцатом году мы партизанили вместе. Он поможет нам обязательно.
Люди радовались предстоящей встрече с Василием Ивановичем Ивановым и тому, что можно будет через него наладить оборванную оккупантами связь с населением.
На следующую ночь Васин с товарищами, полный надежды, пошел к условленному месту встречи, но там вместо Иванова увидел наглухо заваленную щель, а в глубине штрека, на большом камне белевшую бумажку. Развернув ее, он прочитал: «У Козы для волков сена нет».
Эта дерзость возмутила нас.
— Ну и погань! — ругал Козу Иван Никитович. — Неужели он забыл, что только советская власть сделала его человеком. До революции он батрачил у помещика Сухомлинова, кроме цепей ничего не имел.
Васин злился не менее Ивана Никитовича. Бегая по забою из угла в угол, потрясая кулаком, он грозил:
— Повешу этого Козу в назидание всем гитлеровским прихлебателям. Не я буду, если мы не найдем ход прямо к нему в хату.
— А его хата в скале, — подсказал Иван Никитович.
Решив расправиться с Козой, партизаны принялись за поиски ходов к хате Иванова. Перелезая завалы, разбирая заложенные бутом штреки и штольни, мы, словно кроты, подбирались к месту предполагаемого жилья. Возле одной из перемычек, отделявшей штольню от бокового штрека, почудились чьи-то легкие шаги. Прислушались. Вокруг нас — гробовая тишина.
— Показалось! Разбирай! — подал команду Васин. — Хата должна быть здесь.
Вынув из перемычки несколько камней, Даня втянул в себя воздух, шепотом сообщил:
— Здесь кто-то есть. Пахнет дымом махорки.
В это время из темноты раздался окрик:
— Кто там лезет? Стой!
— Свои… — ответил Иван Никитович.
— Кто свои? — уже строже спросил тот же голос, по-видимому, принадлежавший пожилому человеку.
— Клименко Иван из Нерубайска, — пояснил Иван Никитович.
— А-а! — раздалось восклицание.
— Это нерубайские партизаны, — подсказал за стеной юношеский голос.
— Заходи один, — строго распорядился первый.
Васин пролез в щель и ушел куда-то с неизвестными. Вернулся скоро улыбающийся и довольный.
— Ребята, где вы? А ну, давай сюда! Тут, оказывается, много людей.
Так была найдена в катакомбах Большого Куяльника группа из двадцати шести человек женщин, детей и стариков, которых укрыл у себя под хатой в катакомбах Василий Иванович Иванов.
Старший группы, высокий, немного сутулый человек лет шестидесяти, с пытливыми умными глазами и мясистым носом на продолговатом лице, Фурманенко Григорий Михайлович сообщил:
— Василий Иванович говорил мне о вас и сказал, чтобы я сообщил ему, когда вы придете.
Взяв камень, Фурманенко постучал четыре раза в одну из стен забоя, куда привел нас.
— Садитесь пока, курите, — приветливо протянул он партизанам туго набитый махоркой засаленный кисет.
— Давай, давай! — обрадовался Иван Никитович.
Оживленно разговаривая, скручивая цигарки, люди начали усаживаться на камни, вокруг ярко горевшего костра.
Откуда-то из темноты начали выходить растрепанные женщины и чумазые ребятишки. С молчаливым любопытством они уставились на нас. В это время в темном углу раздался шорох, затем грохот падающих камней. Васин быстро направил туда свет фонаря, и мы увидели, как из щели показалась чья-то голова в лохматой шапке, потом могучие плечи и, наконец, в забой спрыгнул, словно высеченный из камня, усатый человек с крупными мужественными чертами лица, сильными руками и озорно засмеялся:
— Нашли-таки…
— А ты, что думал, не найдем, — сердито ответил Иван Никитович Клименко.
— Ого, и Ванька тут! — и, повернувшись к Ивану Никитовичу, Василий Иванович строго спросил — Ты писал записку?
— Нет! Это он — кивнул старик в сторону Якова Федоровича.
Широко улыбнувшись, Васин поднялся с камня, дружески похлопал Василия Ивановича по плечу:
— А мы добирались до твоей хаты, чтобы повесить тебя.
— Веревка коротка… — и, сбросив с плеча руку Васина, негодуя продолжал — Какой я тебе Коза? Пи-и-сака, — процедил он и, обратившись к Ивану Никитовичу, насмешливо спросил — Снова за старое принялся?..
— А ты, что? Решил жить новыми порядками, — поддел его Иван Никитович. — Не выйдет…
Иванов засмеялся.
— Письмо адресовали Козе, а не мне, — с нотками обиды в голосе сказал Василий Иванович. Кроме того, я не знаю человека, который передал мне письмо, он у нас новый. Доверишься, а потом… Да будет тебе фыркать, — повернулся он к Васину. — Давай мириться.
Вспыльчивый, но отходчивый Яков Федорович, пожимая руку Василия Ивановича, говорил:
— Не сердись! Твою фамилию я не знал, да и тот человек тоже.
Долго и обстоятельно толковали люди о планах борьбы с врагом.
Василий Иванович Иванов обещал помогать нам, что и выполнил впоследствии.
Фурманенко попросился к нам в отряд. Васин и
Зелинский решили, что он останется на месте, а в случае надобности два-три человека, владеющие оружием, будут принимать участие в боевых операциях.
Возвращаясь в свой лагерь, мы увидели на дороге свежие следы трех человек, один из них женский. Там же нашли оброненную кем-то листовку с призывом к населению:
…«Уничтожайте фашистскую гадину! Создавайте пробки на станциях железных дорог, взрывайте эшелоны ненавистных оккупантов!»
Зелинский и Васин занялись поисками этих таинственных людей, которые, по-видимому, так же, как и мы, жили в катакомбах. Найти их помог один незначительный случай.
Однажды в Куяльницких шахтах, на одном из поворотов, сверкнули фосфорическим светом глаза какого-то зверька.
— Это кот, — решил кто-то из наших партизан, — значит где-то близко выход или провал, А возможно лагерь тех, кто ходит по катакомбам. Может быть у них в лагере кот.
Но в лампе было мало горючего, да и люди очень устали. Васин распорядился заметить место и прийти сюда в другой раз.
Разровняв песок на дороге, Харитон написал крупными буквами: «КОТ».
Каково же было удивление товарищей, когда на второй день, вернувшись обратно, они увидели чужую надпись: «Кто?»
Судили-рядили и, разгладив песок, вывели аршинными буквами:
— А кто вы?
На второй день последовал ответ:
«КАЖЕТСЯ, МЫ ТЕ ЖЕ, КТО И ВЫ»
Заместитель парторга Павел Арсентьевич Пустомельников, присев на корточки, рукояткой кинжала начертил на песке:
ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО МОЖЕМ ВСТРЕТИТЬСЯ 15 МАРТА В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
На свидание с неизвестными ушла вооруженная группа партизан.
Товарищи долго не возвращались. Стоя на втором посту, куда должны были вернуться ушедшие на свидание партизаны, мы с Иваном Гавриловичем Гаркушей зорко всматривались в темень штольни, волновались, поджидая их.
Наконец, из-за поворота блеснул луч света. Это вернулись наши, возбужденные и радостные. Усевшись на камни, зашуршали бумажками, скручивая «козьи ножки».
«Как видно, свои… чужие табаком не угостят», — подумала я, зная, что у нас в лагере не было и пылинки табаку и ребята собирали под выходом перегнившие окурки.
Накурившись всласть, люди начали делиться впечатлениями.
— Словно свежим ветром подуло, — сказал Петренко.
— Теперь мы покажем фашистам! — радовался Харитон.
— А Ганна
11 — их связная, боевая видно… — мечтательно протянул Шенберг.
— Данька уже готов! — шутили ребята, зная влюбчивый, но застенчивый характер Дани Шенберга.
— Да кто они? — сгорая от любопытства, спросила я Зелинского.
— Райкомовцы, — и пояснил: — Иван Гаврилович Илюхин — секретарь Овидиопольского подпольного комитета партии, база которого помещается в Усатовских катакомбах, Лазарев — секретарь подпольного райкома партии Пригородного района Одессы и их люди. Всего их там одиннадцать человек. Завтра некоторые из них придут к нам.
— Это они, оказывается, распространяли листовки в Усатово, — сообщил мне Гринченко.
Подпольщики оказались людьми жизнерадостными и неунывающими. С момента встречи с ними боевая жизнь в лагере снова закипела.
Борьба продолжалась!

1
Бутом шахтеры называют отходы камня-ракушечника, добываемого в каменных шахтах Причерноморья.
(обратно)
2
«Коржики» — отслоившиеся кусочки камней.
(обратно)
3
В марте-апреле 1942 года часть вещей мы обменяли на зерно кукурузы, которое потом мололи вручную и варили из муки болтушку.
(обратно)
4
Кривая Балка — пригород Одессы.
(обратно)
5
Ильичевский район Одессы.
(обратно)
6
В Усатовском парке, в зданиях бывшего Хаджибейского курорта разместился особый жандармский корпус.
(обратно)
7
После войны было документально установлено, что группа партизан Бадаева долгое время была блокирована 16-тысячпым войском оккупантов.
(обратно)
8
По паспорту Мытников Дмитрий Георгиевич. Ребята но ошибке прозвали его Юрьевичем.
(обратно)
9
В Ильичевском районе действовал партизанский отряд коммуниста Кузнецова. Отряд размещался в городских катакомбах. На поверхность партизаны выходили в одном из домов потайным ходом.
(обратно)
10
Шестакова, разыскивая Бадаева и Межигурскую, попала в засаду, была арестована и отправлена на Бебеля в тюрьму сигуранцы, где уже находились в заключении Бадаев и другие товарищи.
(обратно)
11
Ганна — Анна Филипповна Горбель, связная подпольного райкома партии.
(обратно)
Оглавление
Предисловие
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
*** Примечания ***


 Герой Советского Союза Молодцов (Бадаев) Владимир Александрович — командир партизанского отряда.
Ночью опять грохот разрывов. Стены колебались. Бомбы рвались в соседних дворах. Спустилась вниз с третьего этажа. В подъезде стояли испуганные женщины, плачущие дети.
— Не волнуйтесь.
В наш дом бомба не попадет, — уверенно сказала я и удивилась тому, что, ободряя других, сама не ощущаю страха. Утром я ответила мужу:
— Пойду, куда пошлют, делать буду то, что нужно Родине!
— Я был уверен, что именно так ты и поступишь, — ответил Иван Иванович, и взгляд его черных глаз стал теплым и ласковым.
Через несколько дней на стадионе «Динамо» я познакомилась с Владимиром Александровичем Молодцовым (в то время он носил фамилию Бадаев). Я слышала от мужа о Владимире Александровиче и думала, что это пожилой мужчина, убеленный сединами. Очень удивилась, увидев человека лет за тридцать, высокого, широкоплечего, с волевым выражением лица и умными серыми глазами. От Бадаева веяло силой, здоровьем и несокрушимой энергией. Он предложил нам с мужем пройтись немного по городу. По дороге мы говорили об обороне Одессы, о героизме советских людей.
На углу улиц Жуковского и Красной Армии (ныне Советской Армии) Бадаев остановился и стал внимательно читать воззвание обкома партии.
Герой Советского Союза Молодцов (Бадаев) Владимир Александрович — командир партизанского отряда.
Ночью опять грохот разрывов. Стены колебались. Бомбы рвались в соседних дворах. Спустилась вниз с третьего этажа. В подъезде стояли испуганные женщины, плачущие дети.
— Не волнуйтесь.
В наш дом бомба не попадет, — уверенно сказала я и удивилась тому, что, ободряя других, сама не ощущаю страха. Утром я ответила мужу:
— Пойду, куда пошлют, делать буду то, что нужно Родине!
— Я был уверен, что именно так ты и поступишь, — ответил Иван Иванович, и взгляд его черных глаз стал теплым и ласковым.
Через несколько дней на стадионе «Динамо» я познакомилась с Владимиром Александровичем Молодцовым (в то время он носил фамилию Бадаев). Я слышала от мужа о Владимире Александровиче и думала, что это пожилой мужчина, убеленный сединами. Очень удивилась, увидев человека лет за тридцать, высокого, широкоплечего, с волевым выражением лица и умными серыми глазами. От Бадаева веяло силой, здоровьем и несокрушимой энергией. Он предложил нам с мужем пройтись немного по городу. По дороге мы говорили об обороне Одессы, о героизме советских людей.
На углу улиц Жуковского и Красной Армии (ныне Советской Армии) Бадаев остановился и стал внимательно читать воззвание обкома партии.
 Васин Яков Федорович - заместитель командира партизанского отряда.
Нагрузив машину необходимыми вещами и прихватив пятиглавые примусы, мы уехали. Протяжные, воющие звуки снарядов, свист и разрывы бомб заставляли невольно втягивать голову, опасливо коситься на небо.
Машина кружила среди баррикад и воронок в поисках проезда.
Резко перегнувшись через борт, Васин попросил шофера заехать на Раскидайловскую улицу и, словно оправдываясь, пояснил:
— Хочу узнать, живы ли еще мои, несколько дней не видел их, все спешка…
Отделившись от ворот приземистого дома, к нам подбежала высокая красивая брюнетка. В ее глазах были тревога и любовь.
— Ты, Катя, все у ворот дежуришь, — мягко упрекнул жену Васин. — Не томи себя, сиди лучше в бомбоубежище. Когда можно будет, я сам приеду к тебе. Не волнуйся, со мной ничего не случится. До свиданья! — крикнул он, отъезжая.
Мы снова начали петлять среди баррикад. Несколько раз пришлось возвращаться. С большим трудом выбрались на улицу Красной Гвардии.
Парадный ход и ворота моего дома оказались заколоченными наглухо. Мы проникли в дом со стороны соседней улицы. Свои вещи, оставленные у дворника Сохатского, я нашла в квартире Винского, рабочего судоремонтного завода.
Собравшиеся возле машины знакомые женщины укоризненно посматривали на меня и мои чемоданы 3, очевидно, думая: «Говорила, что едет на фронт, а чемоданы тянет с собой…» Мне хотелось оправдаться, сказать им, что я забираю вещи по приказу командира, что я не удираю, а останусь бороться. Но я молчала. Объяснить им все не имела права.
Ночью я вернулась в катакомбы.
Васин Яков Федорович - заместитель командира партизанского отряда.
Нагрузив машину необходимыми вещами и прихватив пятиглавые примусы, мы уехали. Протяжные, воющие звуки снарядов, свист и разрывы бомб заставляли невольно втягивать голову, опасливо коситься на небо.
Машина кружила среди баррикад и воронок в поисках проезда.
Резко перегнувшись через борт, Васин попросил шофера заехать на Раскидайловскую улицу и, словно оправдываясь, пояснил:
— Хочу узнать, живы ли еще мои, несколько дней не видел их, все спешка…
Отделившись от ворот приземистого дома, к нам подбежала высокая красивая брюнетка. В ее глазах были тревога и любовь.
— Ты, Катя, все у ворот дежуришь, — мягко упрекнул жену Васин. — Не томи себя, сиди лучше в бомбоубежище. Когда можно будет, я сам приеду к тебе. Не волнуйся, со мной ничего не случится. До свиданья! — крикнул он, отъезжая.
Мы снова начали петлять среди баррикад. Несколько раз пришлось возвращаться. С большим трудом выбрались на улицу Красной Гвардии.
Парадный ход и ворота моего дома оказались заколоченными наглухо. Мы проникли в дом со стороны соседней улицы. Свои вещи, оставленные у дворника Сохатского, я нашла в квартире Винского, рабочего судоремонтного завода.
Собравшиеся возле машины знакомые женщины укоризненно посматривали на меня и мои чемоданы 3, очевидно, думая: «Говорила, что едет на фронт, а чемоданы тянет с собой…» Мне хотелось оправдаться, сказать им, что я забираю вещи по приказу командира, что я не удираю, а останусь бороться. Но я молчала. Объяснить им все не имела права.
Ночью я вернулась в катакомбы.
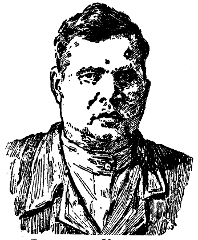 Зелинский Константин Николаевич - парторг партизанского отряда.
Молодежь разбрелась по катакомбам. Из-за каждого поворота неслись всплески их веселого смеха. Желтые блики фонарей в темноте казались блуждающими огоньками.
Комсомолец Харитон Лейбенцун, увидев на обводной дороге колодец, шумно восторгался:
— Ох, братцы, милые! Воды-то, воды сколько! Это тебе не передовая, тут и мыться можно. А если попробовать? Ух, хорошая! — Харитон вытер губы. — Ребята, двинули в дежурку или как она там называется, заведем патефон.
Вихрем ворвались музыка и песни в угрюмые шахты. Послышались громкие возгласы: А теперь — танцевать!
— Тамара! Пляши лезгинку! Да где же Шестакова? Куда спряталась?
— Вот она, вот! — закричал кто-то.
Круг раздался и на средину его вытолкнули черноволосую стройную молодую женщину. Она была очень красива. Крутобедрая, тонкая в талии, нос словно выточенный, черные большие глаза с миндалевидным разрезом, вишневые, чуть припухлые губы. Она приковала к себе взоры всех.
Стоявший рядом со мной Даня Шенберг шепотом рассказал, что Тамара Шестакова — медицинская сестра, теплоходом возила раненых из Одессы в Батуми во время обороны. «Фашисты бомбят, бывало, теплоход, а ей будто дождик идет. Вокруг свистит, воет, а Тамара смеется, ободряет раненых».
Зелинский Константин Николаевич - парторг партизанского отряда.
Молодежь разбрелась по катакомбам. Из-за каждого поворота неслись всплески их веселого смеха. Желтые блики фонарей в темноте казались блуждающими огоньками.
Комсомолец Харитон Лейбенцун, увидев на обводной дороге колодец, шумно восторгался:
— Ох, братцы, милые! Воды-то, воды сколько! Это тебе не передовая, тут и мыться можно. А если попробовать? Ух, хорошая! — Харитон вытер губы. — Ребята, двинули в дежурку или как она там называется, заведем патефон.
Вихрем ворвались музыка и песни в угрюмые шахты. Послышались громкие возгласы: А теперь — танцевать!
— Тамара! Пляши лезгинку! Да где же Шестакова? Куда спряталась?
— Вот она, вот! — закричал кто-то.
Круг раздался и на средину его вытолкнули черноволосую стройную молодую женщину. Она была очень красива. Крутобедрая, тонкая в талии, нос словно выточенный, черные большие глаза с миндалевидным разрезом, вишневые, чуть припухлые губы. Она приковала к себе взоры всех.
Стоявший рядом со мной Даня Шенберг шепотом рассказал, что Тамара Шестакова — медицинская сестра, теплоходом возила раненых из Одессы в Батуми во время обороны. «Фашисты бомбят, бывало, теплоход, а ей будто дождик идет. Вокруг свистит, воет, а Тамара смеется, ободряет раненых».
 Петренко Иван Николаевич - командир отделения партизанского отряда.
Поставив фонари у стен, командиры построили людей в главной штольне.
Бадаев зорко наблюдал за бойцами. Осветив ноги партизан фонарем, он сделал замечание одному из них за плохо подвязанные противоипритные чулки.
— Утеряешь чулок — сторожевая собака может взять след. Подведешь себя и товарищей. В партизанском деле нужно учитывать каждую мелочь, — и, обратившись ко всем, сказал:
— Товарищи! Это ваше первое задание на поверхности. Надеюсь, вы выполните его с честью. Ведите, — приказал он командирам.
Одна за другой уходили группы партизан к выходу в Нерубайское и Усатово.
Тихо дотронувшись до локтя Владимира Александровича, я попросила:
— Пошлите и меня с ними.
Но он, погруженный в свои думы, молча глядел вслед уходившим.
— Яков Федорович, — обратилась я к Васину, — пошлите и меня.
— Успеешь…
В это время из бокового ответвления донесся говор. В штольню вошли радисты. Бадаев и Васин повернулись к ним.
— Группа готова к выходу на поверхность, — доложил старший.
— Добро! Пошли!
В штольне остались я и Васин. Яков Федорович взял стоявший у стены фонарь, проверил, есть ли в нем бензин, и сказал:
— Я проверю посты, — и сочувственно добавил: — не волнуйся, он вернется.
Мысль об ушедших, о грозящей им опасности не покидала меня. Чтобы успокоиться, решила побродить по катакомбам. Тревога — вечный спутник жены моряка и шахтера. Это чувство знакомо и мне. Я всегда волновалась, ожидая мужа из очередного рейса, но никогда так не боялась за жизнь его, как сейчас. Наконец, усталая от ходьбы и дум, вернулась в лагерь.
На обводной дороге у колодца Иван Францевич рубил дрова. Увидев меня, осведомился:
— Ребята ушли?
— Да. А вы дрова рубите? — спросила я, любуясь, как ловко он раскалывает поленья. Иван Францевич резко выпрямился:
— Я коммунист. Куда пошлют, там и буду работать.
Я поняла, что мой вопрос он истолковал, как упрек, и начала оправдываться. Но лицо его продолжало оставаться угрюмым, хотя обычно всегда было приветливым и добрым.
Из неловкого положения меня неожиданно выручил Конотопенко. Размахивая фонарем, он еще издалека кричал:
— Францевич! Руби скорее! Там того — этого, кухарки ругаются, боятся, что не поспеют приготовить варево к приходу ребят.
— Неси им пока то, что я уже нарубил, — ответил Медерер и энергично принялся за новые поленья.
Я поторопилась шмыгнуть в боковой штрек, глубоко сожалея, что случайно обидела хорошего человека.
Первой с задания вернулась группа мужа.
— Смирно! — подал он команду и, оглянув выстроившихся бойцов, рапортовал ответственному дежурному о выполнении задания.
Приняв рапорт, дежурный пригласил:
— Садитесь, товарищи!
Партизаны занялись осмотром и приведением в порядок оружия. Вскоре вернулись остальные группы подрывников.
Бадаев с радистами запаздывал. Мы волновались, чутко и настороженно прислушиваясь к каждому шороху.
Наконец, в штольне послышались шаги и голос Бадаева.
— Установлена связь с Москвой!
Я хотела знать подробности и пошла к Тамаре Шестаковой, ходившей на связь с радистами.
На каменном столике, накрытом белой салфеткой, едва мерцала неровным светом коптилка. Закрыв лицо руками, Тамара плакала. Я присела рядом с ней на кровать, застеленную серым солдатским одеялом, обняла ее за плечи. Уронив голову мне на грудь, она, всхлипывая, зашептала:
— Лежат они там все в ряд… Собаки погрызли им лица, руки, ноги. Это те 42 человека, о которых ты говорила. И все молодые, молодые. А где-то матери их ждут… У меня тоже есть мать. И тоже будет ждать… А дождется ли?.. — вздохнула Тамара и, по-видимому, боясь, что я неверно пойму ее, пояснила — Ты, может, думаешь, что я плачу из-за боязни. Нет! Я плачу оттого, что сама не могу задавить проклятых фашистов.
— Успокойся, Тамарочка, милая. Успокойся! Расскажи лучше, как вам удалось связаться с Москвой?
Вытерши лицо носовым платком, Тамара рассказала:
— На поверхность мы вышли через провал на огороде колхозника Ковальчука. Пустомельников и я разведали, где находятся патрули. Оказалось, что балка не охраняется. На всякий случай Бадаев расставил ребят для охраны. Радисты натянули плащ-палатку, установили радиопередатчик, укрепили на шесте антенну. Долго не могли найти Москву. Но все же нашли.
— И ни одного солдата не было вокруг балки?
— Нет, пару раз патруль прошел почти рядом.
Глаза Тамары слипались от усталости. Я уговорила ее лечь в постель и, закутав потеплее одеялом, ушла.
Петренко Иван Николаевич - командир отделения партизанского отряда.
Поставив фонари у стен, командиры построили людей в главной штольне.
Бадаев зорко наблюдал за бойцами. Осветив ноги партизан фонарем, он сделал замечание одному из них за плохо подвязанные противоипритные чулки.
— Утеряешь чулок — сторожевая собака может взять след. Подведешь себя и товарищей. В партизанском деле нужно учитывать каждую мелочь, — и, обратившись ко всем, сказал:
— Товарищи! Это ваше первое задание на поверхности. Надеюсь, вы выполните его с честью. Ведите, — приказал он командирам.
Одна за другой уходили группы партизан к выходу в Нерубайское и Усатово.
Тихо дотронувшись до локтя Владимира Александровича, я попросила:
— Пошлите и меня с ними.
Но он, погруженный в свои думы, молча глядел вслед уходившим.
— Яков Федорович, — обратилась я к Васину, — пошлите и меня.
— Успеешь…
В это время из бокового ответвления донесся говор. В штольню вошли радисты. Бадаев и Васин повернулись к ним.
— Группа готова к выходу на поверхность, — доложил старший.
— Добро! Пошли!
В штольне остались я и Васин. Яков Федорович взял стоявший у стены фонарь, проверил, есть ли в нем бензин, и сказал:
— Я проверю посты, — и сочувственно добавил: — не волнуйся, он вернется.
Мысль об ушедших, о грозящей им опасности не покидала меня. Чтобы успокоиться, решила побродить по катакомбам. Тревога — вечный спутник жены моряка и шахтера. Это чувство знакомо и мне. Я всегда волновалась, ожидая мужа из очередного рейса, но никогда так не боялась за жизнь его, как сейчас. Наконец, усталая от ходьбы и дум, вернулась в лагерь.
На обводной дороге у колодца Иван Францевич рубил дрова. Увидев меня, осведомился:
— Ребята ушли?
— Да. А вы дрова рубите? — спросила я, любуясь, как ловко он раскалывает поленья. Иван Францевич резко выпрямился:
— Я коммунист. Куда пошлют, там и буду работать.
Я поняла, что мой вопрос он истолковал, как упрек, и начала оправдываться. Но лицо его продолжало оставаться угрюмым, хотя обычно всегда было приветливым и добрым.
Из неловкого положения меня неожиданно выручил Конотопенко. Размахивая фонарем, он еще издалека кричал:
— Францевич! Руби скорее! Там того — этого, кухарки ругаются, боятся, что не поспеют приготовить варево к приходу ребят.
— Неси им пока то, что я уже нарубил, — ответил Медерер и энергично принялся за новые поленья.
Я поторопилась шмыгнуть в боковой штрек, глубоко сожалея, что случайно обидела хорошего человека.
Первой с задания вернулась группа мужа.
— Смирно! — подал он команду и, оглянув выстроившихся бойцов, рапортовал ответственному дежурному о выполнении задания.
Приняв рапорт, дежурный пригласил:
— Садитесь, товарищи!
Партизаны занялись осмотром и приведением в порядок оружия. Вскоре вернулись остальные группы подрывников.
Бадаев с радистами запаздывал. Мы волновались, чутко и настороженно прислушиваясь к каждому шороху.
Наконец, в штольне послышались шаги и голос Бадаева.
— Установлена связь с Москвой!
Я хотела знать подробности и пошла к Тамаре Шестаковой, ходившей на связь с радистами.
На каменном столике, накрытом белой салфеткой, едва мерцала неровным светом коптилка. Закрыв лицо руками, Тамара плакала. Я присела рядом с ней на кровать, застеленную серым солдатским одеялом, обняла ее за плечи. Уронив голову мне на грудь, она, всхлипывая, зашептала:
— Лежат они там все в ряд… Собаки погрызли им лица, руки, ноги. Это те 42 человека, о которых ты говорила. И все молодые, молодые. А где-то матери их ждут… У меня тоже есть мать. И тоже будет ждать… А дождется ли?.. — вздохнула Тамара и, по-видимому, боясь, что я неверно пойму ее, пояснила — Ты, может, думаешь, что я плачу из-за боязни. Нет! Я плачу оттого, что сама не могу задавить проклятых фашистов.
— Успокойся, Тамарочка, милая. Успокойся! Расскажи лучше, как вам удалось связаться с Москвой?
Вытерши лицо носовым платком, Тамара рассказала:
— На поверхность мы вышли через провал на огороде колхозника Ковальчука. Пустомельников и я разведали, где находятся патрули. Оказалось, что балка не охраняется. На всякий случай Бадаев расставил ребят для охраны. Радисты натянули плащ-палатку, установили радиопередатчик, укрепили на шесте антенну. Долго не могли найти Москву. Но все же нашли.
— И ни одного солдата не было вокруг балки?
— Нет, пару раз патруль прошел почти рядом.
Глаза Тамары слипались от усталости. Я уговорила ее лечь в постель и, закутав потеплее одеялом, ушла.
 Межигурская Тамара Ульяновна — связная партизанского отряда.
Вскоре меня снова послали в город.
В Усатово, проскочив между патрулями, я выбралась на дорогу. Ночью прошел дождь. Идти по размокшему чернозему было очень трудно, ноги тонули в грязи. Наконец, добралась до окраины города, тщательно вымыла в луже ботинки, чтобы скрыть, что пришла издалека.
Обстановка в городе произвела на меня удручающее впечатление. Открылись кабаки под вывеской «Бодега». В раскрытые двери «бодег» виднелись на полках винные и водочные бутылки. У прилавка выпивали и закусывали солдаты. Слышался нерусский говор, пьяные выкрики. На улицах мальчишки торговали папиросами. На углу Подбельской и площади Красной Армии беловолосый мальчуган лет двенадцати, с изможденным лицом, выбивая дробь щетками по ящику, предложил:
— Тетенька, почистим ботинки, всего полмарки.
В киоске торговали газетами. Купив «Одесскую газету», издаваемую оккупантами, я направилась в Археологический музей, где работала наша разведчица.
Идя улицами, я оглядывала прохожих — одни казались друзьями, другие — врагами.
В музее — разгром. На полу — изуродованные экспонаты, разбитые и растоптанные черепки, бумажный мусор, солома.
В вестибюле стояли большие ящики, в которые под надзором жандармов упаковывали музейные ценности для вывоза в Германию.
Наш разведчик Мария Николаевна дала мне дислокацию немецких воинских учреждений и частей в Воднотранспортном районе. Она сообщила также, что город разбит на полицейские участки, что высшие учебные заведения и школы превращены в казармы. В лучших домах поместились гестаповцы.
Простившись с Марией Николаевной, я пошла по Дерибасовской. Она была подметена, расчищена от завалов. Пестрели вывески на русском и иностранном языках. Полки и прилавки «магазинов» ломились от награбленного: обуви, ковров, отрезов, ювелирных изделий. Дельцы в военных и гражданских костюмах рассматривали шерстяные вещи, шелковые ткани, приценивались, торговались.
На тротуарах с видом победителей сновали чисто выбритые офицеры и штатские, с ними гуляли элегантно одетые женщины. На плечах боа из перьев, меховые палантины.
Между ними с деловым видом снуют «джентльмены». Их разжиревшие рожи подпирают белые целлулоидные воротнички, в руках стеки. Жеманные манеры, стиль речи изобличали в этих «дамах» и «джентльменах» «бывших людей». Я вспомнила слова Бадаева:
«Вместе с оккупантами с Балкан сюда приплетутся и недобитые белогвардейцы, жадные и вероломные, как шакалы».
И действительно, часть из этих «господ», по-видимому, прикатила из-за границы. Были среди них и местные. И вот теперь они, как грибы-поганки, повылезали из темных щелей и разгуливают по нашим улицам. А население лишено хлеба и соли.
На Садовой улице рыжий солдат наклеил на театральную тумбу приказ № 1 командующего оккупационными войсками г. Одессы о введении СМЕРТНОЙ КАЗНИ за ущерб, причиненный оккупантам, и за сокрытие продовольственных и других запасов.
Идя по улице Красной Гвардии, возле Нового рынка, я увидела двух стариков, запряженных в оглобли большой двухколесной тачки. На тачке сидели гитлеровские солдаты. Заливисто смеясь, они хлестали свои жертвы резиновыми дубинками. Несчастные старики тяжело и отрывисто дышали.
У меня на душе было горько, невольно вспомнилось далекое прошлое: гражданская война. Украина, ограбленная немецкими оккупантами. Голод. Разруха. И вот снова… «Будет расплата и этим», — думала я, ускоряя шаги.
Кривую балку проходила уже во время комендантского часа. Гулко билось сердце. Почти бежала. До Усатова оставалось километра три — могла нарваться на конный патруль. Но, к счастью, дорога не охранялась. Уже в полной темноте шмыгнула в катакомбы.
По дороге в лагерь я перебирала в памяти события последних дней. После нескольких взрывов на железной дороге гитлеровцы начали ставить в голову поезда балластные площадки. Мина, которой пользовались наши подрывники, не всегда давала нужный результат. Это волновало Бадаева и партизан. Владимир Александрович говорил:
— Надо сделать такую мину, чтобы она сработала безотказно и в нужный момент.
Мужа я нашла в штабе. Он и Бадаев, склонившись над ящиком, рассматривали мину изобретенной ими конструкции. Оба радовались. Наконец, задача решена.
Утром я снова должна была пойти в город, но заболела. Вместо меня ушла Тамара Межигурская. До выхода в Усатовскую балку ее провожали мой муж и Иван Никитович. Из города она вернулась радостная и возбужденная. Ей удалось наладить связь с городской группой разведчиков.
Из сводок Советского Информбюро мы знали об упорных сражениях под Москвой, что с 30 октября 1941 года Севастополь героически обороняется от врагов.
Гитлеровцы в своих газетах называли защитников Севастополя фанатиками и самоубийцами, борющимися против превосходящих сил гитлеровской Германии. А мы восхищались беспримерным мужеством и храбростью наших товарищей, понимали их, желали им успеха в их борьбе против захватчиков. Беседуя с нами, Бадаев говорил:
— Наша задача — совершенствовать тактику партизанской борьбы, усилить операции по разгрому вражеских коммуникаций. Это будет хоть маленькой, но помощью нашим друзьям — севастопольцам.
Межигурская Тамара Ульяновна — связная партизанского отряда.
Вскоре меня снова послали в город.
В Усатово, проскочив между патрулями, я выбралась на дорогу. Ночью прошел дождь. Идти по размокшему чернозему было очень трудно, ноги тонули в грязи. Наконец, добралась до окраины города, тщательно вымыла в луже ботинки, чтобы скрыть, что пришла издалека.
Обстановка в городе произвела на меня удручающее впечатление. Открылись кабаки под вывеской «Бодега». В раскрытые двери «бодег» виднелись на полках винные и водочные бутылки. У прилавка выпивали и закусывали солдаты. Слышался нерусский говор, пьяные выкрики. На улицах мальчишки торговали папиросами. На углу Подбельской и площади Красной Армии беловолосый мальчуган лет двенадцати, с изможденным лицом, выбивая дробь щетками по ящику, предложил:
— Тетенька, почистим ботинки, всего полмарки.
В киоске торговали газетами. Купив «Одесскую газету», издаваемую оккупантами, я направилась в Археологический музей, где работала наша разведчица.
Идя улицами, я оглядывала прохожих — одни казались друзьями, другие — врагами.
В музее — разгром. На полу — изуродованные экспонаты, разбитые и растоптанные черепки, бумажный мусор, солома.
В вестибюле стояли большие ящики, в которые под надзором жандармов упаковывали музейные ценности для вывоза в Германию.
Наш разведчик Мария Николаевна дала мне дислокацию немецких воинских учреждений и частей в Воднотранспортном районе. Она сообщила также, что город разбит на полицейские участки, что высшие учебные заведения и школы превращены в казармы. В лучших домах поместились гестаповцы.
Простившись с Марией Николаевной, я пошла по Дерибасовской. Она была подметена, расчищена от завалов. Пестрели вывески на русском и иностранном языках. Полки и прилавки «магазинов» ломились от награбленного: обуви, ковров, отрезов, ювелирных изделий. Дельцы в военных и гражданских костюмах рассматривали шерстяные вещи, шелковые ткани, приценивались, торговались.
На тротуарах с видом победителей сновали чисто выбритые офицеры и штатские, с ними гуляли элегантно одетые женщины. На плечах боа из перьев, меховые палантины.
Между ними с деловым видом снуют «джентльмены». Их разжиревшие рожи подпирают белые целлулоидные воротнички, в руках стеки. Жеманные манеры, стиль речи изобличали в этих «дамах» и «джентльменах» «бывших людей». Я вспомнила слова Бадаева:
«Вместе с оккупантами с Балкан сюда приплетутся и недобитые белогвардейцы, жадные и вероломные, как шакалы».
И действительно, часть из этих «господ», по-видимому, прикатила из-за границы. Были среди них и местные. И вот теперь они, как грибы-поганки, повылезали из темных щелей и разгуливают по нашим улицам. А население лишено хлеба и соли.
На Садовой улице рыжий солдат наклеил на театральную тумбу приказ № 1 командующего оккупационными войсками г. Одессы о введении СМЕРТНОЙ КАЗНИ за ущерб, причиненный оккупантам, и за сокрытие продовольственных и других запасов.
Идя по улице Красной Гвардии, возле Нового рынка, я увидела двух стариков, запряженных в оглобли большой двухколесной тачки. На тачке сидели гитлеровские солдаты. Заливисто смеясь, они хлестали свои жертвы резиновыми дубинками. Несчастные старики тяжело и отрывисто дышали.
У меня на душе было горько, невольно вспомнилось далекое прошлое: гражданская война. Украина, ограбленная немецкими оккупантами. Голод. Разруха. И вот снова… «Будет расплата и этим», — думала я, ускоряя шаги.
Кривую балку проходила уже во время комендантского часа. Гулко билось сердце. Почти бежала. До Усатова оставалось километра три — могла нарваться на конный патруль. Но, к счастью, дорога не охранялась. Уже в полной темноте шмыгнула в катакомбы.
По дороге в лагерь я перебирала в памяти события последних дней. После нескольких взрывов на железной дороге гитлеровцы начали ставить в голову поезда балластные площадки. Мина, которой пользовались наши подрывники, не всегда давала нужный результат. Это волновало Бадаева и партизан. Владимир Александрович говорил:
— Надо сделать такую мину, чтобы она сработала безотказно и в нужный момент.
Мужа я нашла в штабе. Он и Бадаев, склонившись над ящиком, рассматривали мину изобретенной ими конструкции. Оба радовались. Наконец, задача решена.
Утром я снова должна была пойти в город, но заболела. Вместо меня ушла Тамара Межигурская. До выхода в Усатовскую балку ее провожали мой муж и Иван Никитович. Из города она вернулась радостная и возбужденная. Ей удалось наладить связь с городской группой разведчиков.
Из сводок Советского Информбюро мы знали об упорных сражениях под Москвой, что с 30 октября 1941 года Севастополь героически обороняется от врагов.
Гитлеровцы в своих газетах называли защитников Севастополя фанатиками и самоубийцами, борющимися против превосходящих сил гитлеровской Германии. А мы восхищались беспримерным мужеством и храбростью наших товарищей, понимали их, желали им успеха в их борьбе против захватчиков. Беседуя с нами, Бадаев говорил:
— Наша задача — совершенствовать тактику партизанской борьбы, усилить операции по разгрому вражеских коммуникаций. Это будет хоть маленькой, но помощью нашим друзьям — севастопольцам.
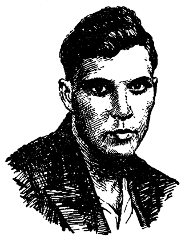 Иван Иванович Иванов — командир отделения партизанского отряда.
Иван Иванович сел рядом со мной и, опустив голову, задумался. Шумя и толкаясь, люди начали усаживаться поближе к Зелинскому. Закурив, Константин Николаевич начал:
— Почти у выхода за поворотом мы погасили фонари, спрятали их, вышли на поверхность. А там не видно ни зги. Ветер рвет, с ног валит. Погода что надо. Прислушались… Думаем: жандармерия, наверно, попряталась по хатам. Вдруг слышим: ругаются, стреляют в небо, подбадривают себя.
Спустились мы вниз. По дну балки проползли до развилки. Яром пробрались к четвертой шахте, от нее к седьмой, а там противотанковым рвом подобрались к железной дороге. Залегли в лесопосадке. Огляделись… Эге-ге! А мостик-то охраняется конными патрулями. А тут еще и большая прогалина возле него. Но все же уловили момент, — продолжал Зелинский, — поползли… Ваня тянет мину, а я — круг проволоки. Только юркнули под мостик, слышим, скачут. Мы затаились. Проскакали патрули. Иваныч полез на насыпь, а я внизу сторожу. Слышу, он долбит лунку. Заложил мину, пропустил провод под рельс, сполз с насыпи:
— Давай, — говорит, — в лесопосадку. Улова будем ожидать. Разматывай провод, но осторожнее, не тяни крепко, а то сами подорвемся.
Снова залегли, ждем… А ветер все сильнее. Скрипят деревья, звенят провода, столбы гудят. Жандармерия все возле мостика вьется. Я говорю Ивану Ивановичу: — Может их… — А он отвечает:
— Что нам с этих поганцев, подождем зверя покрупнее.
Так пролежали мы почти до рассвета. Продрогли — зуб на зуб не попадает. Я предложил: «Давай уходить. Скоро станет совсем светло, не выберемся…» Вдруг видим, проскочила военная дрезина, за ней — паровоз с двумя балластными площадками. Затем по перестуку рельс догадались — идет большой состав. Из-за поворота блеснули огни. Поезд все ближе… Эх, думаю, не упустить бы! Но Иваныч не сплоховал, вовремя подал команду: «Рви шнур!». Треск, грохот, скрежет железа. Начали рваться снаряды в пятом вагоне. Тут уж совсем… Все в одну кучу смешалось. Вагоны горят, летят с насыпи. С заднего вагона соскочила охрана, давай поливать лесопосадку из автоматов. Мы стали уходить в степь. А тут, как на зло, метель… Кипит вокруг, словно в котле. Заблудились… Дали крюку километров двенадцать, чуть не замерзли в степи. Но посчастливилось, нырнули в катакомбы.
Зелинский потянулся, зевнул.
— Фу, ну и устал! Пошли, ребята, отдыхать!
Я молча сидела возле спавшего тревожным сном Ивана Ивановича. По временам он нервно вскрикивал, бормотал что-то.
В спальню торопливым шагом вошел Бадаев.
— Вставай, друг! — разбудил он мужа. — Возьми людей и быстро иди к выходу в Нерубайское, — и пояснил: — Верховые разведчики сообщили нам, что село оцеплено войсками. Гитлеровцы что-то разнюхивают возле катакомб. Возможно, попытаются проникнуть к нам. Оборону займи в центре выхода первой шахты. На флангах будут Васин и Петренко. В случае, если оккупанты ринутся в шахты, пропустите до поворота и взорвите мину. Если хлынет новая волна, отходите ко второй баррикаде. Но дальше ни шагу. Там узко, им не пройти. Бойцы уже ждут тебя на главной штольне.
Едва освещаемые скупым светом фонарей, лица людей были сосредоточены и суровы.
— Товарищи! — обратился к нам Владимир Александрович. — Верховые разведчики Кужель и Давыденко сообщили нам, что в поезде, взорванном Ивановым и Зелинским, ехало много гитлеровских чиновников. Никто из них не уцелел. Фашисты лютуют. В Нерубайское прибыли эсэсовские карательные отряды, жандармерия. Там уже хозяйничают гестапо и сигуранца. Только что мне передали по телефону, что напротив входов в катакомбы оккупанты установили пушки и пулеметы. Возможно, вступим в бой. Будьте же смелы и мужественны!
— Смерть фашистам! — дружно ответили партизаны.
Владимир Александрович увидел меня и притихших детей, ободрил:
— Не бойтесь, сюда не пустим оккупантов. Идите, детки, с Галиной Павловной, перетирайте патроны, заряжайте пулеметные ленты. Побольше готовьте фашистам гостинцев. Галина, — обратился он ко мне, — Я пойду сейчас в сторону Усатово и скоро вернусь.
Лагерь опустел. В нем остались дежурный, дети и я.
Задребезжал телефон. Дежурный взял трубку.
— Что? Уже бьют по входам из пушек. Какие пушки? Малокалиберные? Отойдите немного в глубинку, залягте за поворотом. А ты, Иван Иванович, подберись ближе в выходу, оцени обстановку. А вот и Владимир Александрович, он идет к вам.
От артобстрела фашисты переходили к атаке катакомб, пытаясь ворваться внутрь. Но партизаны, укрывшись за выступами, каждый раз отбрасывали их ружейным и пулеметным огнем.
Вторые сутки длится бой. Наш усатовский пост сообщил, что оккупанты начали обстрел входов в катакомбы и в Усатово.
Бадаев послал Ивана Никитовича в сторону Усатово, узнать обстановку там, а сам развернул тетрадь, начал что-то записывать.
Тишину нарушил резкий и тревожный телефонный звонок. Быстро поднявшись, Бадаев подошел к аппарату.
Заряжая пулеметные ленты, я зорко наблюдала за Владимиром Александровичем.
— Что? Совсем? — вскрикнул он и медленно повесил трубку, словно она была многотонным грузом. Его и без того большие глаза расширились. Взглянув на меня, он хотел что-то сказать, но я перебила:
— Убили Ваню?
— Нет! Кого-то ранили…
— Пустите меня туда! Это убили Ваню. Сердце чувствует. Пустите, — молила я.
— Иди, — тихо сказал Бадаев.
Схватив фонарь, я выскочила на штольню.
Возле баррикады меня остановили наши постовые:
— Туда нельзя, — сказал Гринченко.
— Я хочу туда, к нему…
— Нельзя. Там сильный бой.
Послышались тяжелые шаги. Сквозь узкую щель баррикады протащили носилки. Поставили на дорогу. На них навзничь лежал мой муж. Я упала на колени, растегнула китель, припала к груди, в надежде услышать хоть слабое биение сердца. Но оно не билось. В правом боку от разрывной пули большая рваная рана. Глаза широко открыты, ясные и спокойные.
Сгибаясь под тяжестью, товарищи несли Ивана Ивановича в штаб. Словно сквозь сон, слышала голоса: — «Крови-то, крови сколько. Нужно на обратном пути засыпать, чтобы не топтали ее».
Недалеко от штаба нас встретил Владимир Александрович:
— Несите его в штаб.
Там мы одели Ивана Ивановича в морскую форму. Бадаев вложил ему в руки револьвер, рядом положил винтовку. В изголовьи товарищи поставили знамя отряда.
Всю ночь я пробыла с погибшим, вспоминая счастливое прошлое.
Харьков. В этом городе ранней весной я познакомилась с ним. Очень удивилась, что он Иван Иванович, да еще Иванов.
После напряженнойтрудовой недели мы обычно уезжали в лес. Особенно запечатлелся один день.
Ярко светило солнце. В лесу буйно цвели боярышник, дикие яблони и груши. Лесные поляны покрыты травой и цветами. Слышны голоса птиц. Мы вели задушевные разговоры о людях, о жизни, строили планы, поверяли друг другу заветные желания и мечты. Иван Иванович подошел к дереву, сорвал цветущую ветку яблони и, передавая ее мне, сказал:
— Я хочу только одного — стать моряком. И буду им.
Я задумалась. Иван Иванович понял мою тревогу.
— Не волнуйся! Я буду плавать, а ты — ждать меня из очередного рейса. Так? — улыбнулся он.
Весной 1932 года мы переехали в Одессу, поступили на работу в Управление Черноморского Пароходства. Его направили на судоремонтный завод. Вскоре он перешел на торговый флот. Работая смазчиком, машинистом, заочно учился. С 1937 года, получив звание инженера-механика первого класса, плавал на судне «Красный Профинтерн». Оттуда ушел в партизанский отряд, или, как говорил он, «в подземный рейс».
И никогда уже он не вернется из этого рейса, не увидит моря, которое он так беззаветно любил, — думала я, неотрывно глядя в его мертвые, но все еще ясные глаза.
Проклятые! Проклятые фашисты!
Утром 19 ноября 1941 года в штаб вошел Бадаев. Глаза его глубоко запали, лицо посерело от пыли и пороха. Партизаны все еще вели бой. Владимир Александрович подошел к каменному столу, наклонился над Иваном Ивановичем и скорбно прошептал:
— Вот, Ванечка, и все… — повернувшись ко мне, обнял за плечи — Не плачь! Он умер в бою. А мы… — вздохнул Бадаев. — Кто знает. Но не будем об этом. Мстить! Мстить нужно! — его рука легла на скрещенные руки убитого, — вот так и похороним его с оружием.
Вошли бойцы и командиры проводить своего боевого товарища в последний путь…
Запеленав, как мумию, мы отнесли Ивана Ивановича в далекий забой, опустили в неглубокую ямку, обложили плитами и насыпали песку.
Молчание нарушил Бадаев:
— Друзья, — обратился он к нам. — От нас ушел хороший товарищ. Вместе с нами он защищал родную землю, — и дрогнувшим голосом продолжал, — а теперь уснул навеки… Тот, кто из нас уцелеет, должен забрать его из катакомб, похоронить под солнцем. А сейчас почтим его память…
Люди застыли в скорбном молчании. Я кусала губы, чтобы не разрыдаться.
Запечатлелось у меня в памяти и выступление парторга Зелинского. Он говорил о мужественном, стойком, непокоренном нашем народе, который верит в победу над фашистами. Константин Николаевич призывал всех нас к мести за товарища, за миллионы осиротевших матерей, жен, детей.
Один за другим подходили партизаны к могиле Ивана Ивановича и, поклявшись над ней мстить фашистам, спешили туда, где все еще кипел бой.
Я, Иван Никитович и Иван Гаврилович Гаркуша искусно замуровали вход в забой — склеп, где навеки остался тот, кто еще вчера любил, надеялся, ненавидел врагов, жил и хотел жить.
Иван Иванович Иванов — командир отделения партизанского отряда.
Иван Иванович сел рядом со мной и, опустив голову, задумался. Шумя и толкаясь, люди начали усаживаться поближе к Зелинскому. Закурив, Константин Николаевич начал:
— Почти у выхода за поворотом мы погасили фонари, спрятали их, вышли на поверхность. А там не видно ни зги. Ветер рвет, с ног валит. Погода что надо. Прислушались… Думаем: жандармерия, наверно, попряталась по хатам. Вдруг слышим: ругаются, стреляют в небо, подбадривают себя.
Спустились мы вниз. По дну балки проползли до развилки. Яром пробрались к четвертой шахте, от нее к седьмой, а там противотанковым рвом подобрались к железной дороге. Залегли в лесопосадке. Огляделись… Эге-ге! А мостик-то охраняется конными патрулями. А тут еще и большая прогалина возле него. Но все же уловили момент, — продолжал Зелинский, — поползли… Ваня тянет мину, а я — круг проволоки. Только юркнули под мостик, слышим, скачут. Мы затаились. Проскакали патрули. Иваныч полез на насыпь, а я внизу сторожу. Слышу, он долбит лунку. Заложил мину, пропустил провод под рельс, сполз с насыпи:
— Давай, — говорит, — в лесопосадку. Улова будем ожидать. Разматывай провод, но осторожнее, не тяни крепко, а то сами подорвемся.
Снова залегли, ждем… А ветер все сильнее. Скрипят деревья, звенят провода, столбы гудят. Жандармерия все возле мостика вьется. Я говорю Ивану Ивановичу: — Может их… — А он отвечает:
— Что нам с этих поганцев, подождем зверя покрупнее.
Так пролежали мы почти до рассвета. Продрогли — зуб на зуб не попадает. Я предложил: «Давай уходить. Скоро станет совсем светло, не выберемся…» Вдруг видим, проскочила военная дрезина, за ней — паровоз с двумя балластными площадками. Затем по перестуку рельс догадались — идет большой состав. Из-за поворота блеснули огни. Поезд все ближе… Эх, думаю, не упустить бы! Но Иваныч не сплоховал, вовремя подал команду: «Рви шнур!». Треск, грохот, скрежет железа. Начали рваться снаряды в пятом вагоне. Тут уж совсем… Все в одну кучу смешалось. Вагоны горят, летят с насыпи. С заднего вагона соскочила охрана, давай поливать лесопосадку из автоматов. Мы стали уходить в степь. А тут, как на зло, метель… Кипит вокруг, словно в котле. Заблудились… Дали крюку километров двенадцать, чуть не замерзли в степи. Но посчастливилось, нырнули в катакомбы.
Зелинский потянулся, зевнул.
— Фу, ну и устал! Пошли, ребята, отдыхать!
Я молча сидела возле спавшего тревожным сном Ивана Ивановича. По временам он нервно вскрикивал, бормотал что-то.
В спальню торопливым шагом вошел Бадаев.
— Вставай, друг! — разбудил он мужа. — Возьми людей и быстро иди к выходу в Нерубайское, — и пояснил: — Верховые разведчики сообщили нам, что село оцеплено войсками. Гитлеровцы что-то разнюхивают возле катакомб. Возможно, попытаются проникнуть к нам. Оборону займи в центре выхода первой шахты. На флангах будут Васин и Петренко. В случае, если оккупанты ринутся в шахты, пропустите до поворота и взорвите мину. Если хлынет новая волна, отходите ко второй баррикаде. Но дальше ни шагу. Там узко, им не пройти. Бойцы уже ждут тебя на главной штольне.
Едва освещаемые скупым светом фонарей, лица людей были сосредоточены и суровы.
— Товарищи! — обратился к нам Владимир Александрович. — Верховые разведчики Кужель и Давыденко сообщили нам, что в поезде, взорванном Ивановым и Зелинским, ехало много гитлеровских чиновников. Никто из них не уцелел. Фашисты лютуют. В Нерубайское прибыли эсэсовские карательные отряды, жандармерия. Там уже хозяйничают гестапо и сигуранца. Только что мне передали по телефону, что напротив входов в катакомбы оккупанты установили пушки и пулеметы. Возможно, вступим в бой. Будьте же смелы и мужественны!
— Смерть фашистам! — дружно ответили партизаны.
Владимир Александрович увидел меня и притихших детей, ободрил:
— Не бойтесь, сюда не пустим оккупантов. Идите, детки, с Галиной Павловной, перетирайте патроны, заряжайте пулеметные ленты. Побольше готовьте фашистам гостинцев. Галина, — обратился он ко мне, — Я пойду сейчас в сторону Усатово и скоро вернусь.
Лагерь опустел. В нем остались дежурный, дети и я.
Задребезжал телефон. Дежурный взял трубку.
— Что? Уже бьют по входам из пушек. Какие пушки? Малокалиберные? Отойдите немного в глубинку, залягте за поворотом. А ты, Иван Иванович, подберись ближе в выходу, оцени обстановку. А вот и Владимир Александрович, он идет к вам.
От артобстрела фашисты переходили к атаке катакомб, пытаясь ворваться внутрь. Но партизаны, укрывшись за выступами, каждый раз отбрасывали их ружейным и пулеметным огнем.
Вторые сутки длится бой. Наш усатовский пост сообщил, что оккупанты начали обстрел входов в катакомбы и в Усатово.
Бадаев послал Ивана Никитовича в сторону Усатово, узнать обстановку там, а сам развернул тетрадь, начал что-то записывать.
Тишину нарушил резкий и тревожный телефонный звонок. Быстро поднявшись, Бадаев подошел к аппарату.
Заряжая пулеметные ленты, я зорко наблюдала за Владимиром Александровичем.
— Что? Совсем? — вскрикнул он и медленно повесил трубку, словно она была многотонным грузом. Его и без того большие глаза расширились. Взглянув на меня, он хотел что-то сказать, но я перебила:
— Убили Ваню?
— Нет! Кого-то ранили…
— Пустите меня туда! Это убили Ваню. Сердце чувствует. Пустите, — молила я.
— Иди, — тихо сказал Бадаев.
Схватив фонарь, я выскочила на штольню.
Возле баррикады меня остановили наши постовые:
— Туда нельзя, — сказал Гринченко.
— Я хочу туда, к нему…
— Нельзя. Там сильный бой.
Послышались тяжелые шаги. Сквозь узкую щель баррикады протащили носилки. Поставили на дорогу. На них навзничь лежал мой муж. Я упала на колени, растегнула китель, припала к груди, в надежде услышать хоть слабое биение сердца. Но оно не билось. В правом боку от разрывной пули большая рваная рана. Глаза широко открыты, ясные и спокойные.
Сгибаясь под тяжестью, товарищи несли Ивана Ивановича в штаб. Словно сквозь сон, слышала голоса: — «Крови-то, крови сколько. Нужно на обратном пути засыпать, чтобы не топтали ее».
Недалеко от штаба нас встретил Владимир Александрович:
— Несите его в штаб.
Там мы одели Ивана Ивановича в морскую форму. Бадаев вложил ему в руки револьвер, рядом положил винтовку. В изголовьи товарищи поставили знамя отряда.
Всю ночь я пробыла с погибшим, вспоминая счастливое прошлое.
Харьков. В этом городе ранней весной я познакомилась с ним. Очень удивилась, что он Иван Иванович, да еще Иванов.
После напряженнойтрудовой недели мы обычно уезжали в лес. Особенно запечатлелся один день.
Ярко светило солнце. В лесу буйно цвели боярышник, дикие яблони и груши. Лесные поляны покрыты травой и цветами. Слышны голоса птиц. Мы вели задушевные разговоры о людях, о жизни, строили планы, поверяли друг другу заветные желания и мечты. Иван Иванович подошел к дереву, сорвал цветущую ветку яблони и, передавая ее мне, сказал:
— Я хочу только одного — стать моряком. И буду им.
Я задумалась. Иван Иванович понял мою тревогу.
— Не волнуйся! Я буду плавать, а ты — ждать меня из очередного рейса. Так? — улыбнулся он.
Весной 1932 года мы переехали в Одессу, поступили на работу в Управление Черноморского Пароходства. Его направили на судоремонтный завод. Вскоре он перешел на торговый флот. Работая смазчиком, машинистом, заочно учился. С 1937 года, получив звание инженера-механика первого класса, плавал на судне «Красный Профинтерн». Оттуда ушел в партизанский отряд, или, как говорил он, «в подземный рейс».
И никогда уже он не вернется из этого рейса, не увидит моря, которое он так беззаветно любил, — думала я, неотрывно глядя в его мертвые, но все еще ясные глаза.
Проклятые! Проклятые фашисты!
Утром 19 ноября 1941 года в штаб вошел Бадаев. Глаза его глубоко запали, лицо посерело от пыли и пороха. Партизаны все еще вели бой. Владимир Александрович подошел к каменному столу, наклонился над Иваном Ивановичем и скорбно прошептал:
— Вот, Ванечка, и все… — повернувшись ко мне, обнял за плечи — Не плачь! Он умер в бою. А мы… — вздохнул Бадаев. — Кто знает. Но не будем об этом. Мстить! Мстить нужно! — его рука легла на скрещенные руки убитого, — вот так и похороним его с оружием.
Вошли бойцы и командиры проводить своего боевого товарища в последний путь…
Запеленав, как мумию, мы отнесли Ивана Ивановича в далекий забой, опустили в неглубокую ямку, обложили плитами и насыпали песку.
Молчание нарушил Бадаев:
— Друзья, — обратился он к нам. — От нас ушел хороший товарищ. Вместе с нами он защищал родную землю, — и дрогнувшим голосом продолжал, — а теперь уснул навеки… Тот, кто из нас уцелеет, должен забрать его из катакомб, похоронить под солнцем. А сейчас почтим его память…
Люди застыли в скорбном молчании. Я кусала губы, чтобы не разрыдаться.
Запечатлелось у меня в памяти и выступление парторга Зелинского. Он говорил о мужественном, стойком, непокоренном нашем народе, который верит в победу над фашистами. Константин Николаевич призывал всех нас к мести за товарища, за миллионы осиротевших матерей, жен, детей.
Один за другим подходили партизаны к могиле Ивана Ивановича и, поклявшись над ней мстить фашистам, спешили туда, где все еще кипел бой.
Я, Иван Никитович и Иван Гаврилович Гаркуша искусно замуровали вход в забой — склеп, где навеки остался тот, кто еще вчера любил, надеялся, ненавидел врагов, жил и хотел жить.
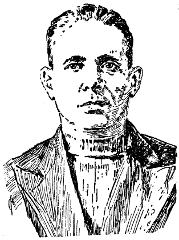 Гринченко Иван Андреевич - боец отряда.
Но оглушенный новой бедой, старик, не поняв шутки, оправдывался:
— Та хиба ж я винен, що дым осидав по забоях. Тяга ж з кухни до колодца була не досыть велика. А зараз и зовсим немае, то дым и поплыв з куткив.
Парторг дружески похлопал Ивана Никитовича по плечу:
— Успокойся. Не ты виноват.
— Яков Федорович, — обратился Бадаев к Васину, — второй пост нужно перенести дальше к повороту на Усатово, там дыму меньше. А вот что делать с кухней? — развел он руками и спросил Ивана Никитовича: — Как у нас с горючим? Может будем готовить еду на примусах?
— Бензину мало, — мрачно ответил тот и с горечью добавил — Я уже думал, как бы научиться ходить в катакомбах без света.
— А мы с поста идем в темноте, — деловито заявил Коля Медерер.
— Смотри, не заблудись, — ласково предостерег мальчика Бадаев.
Через несколько минут часть людей ушла на поиски новых выходов, а остальные, в том числе и я, направились на расчистку второго воздушного колодца.
Штольня и штреки в направлении воздушного колодца наполнены дымом. Рука невольно поднималась, чтобы прикрыть рот. Казалось, вот-вот задохнешься.
До того, как нас замуровали фашисты, дым из нашей печки шел в сторону второго и пятого воздушников; твердые частицы его оседали на стенах и потолках штольни, отчего она стала угольно-черной. Часть дыма растекалась по боковым отсекам катакомб, откуда сейчас он выползал, угрожая задушить нас.
Расчищать воздушник было трудно. Фонари чадили, гасли. На расстоянии метра люди не видели друг друга. Они задыхались, надрывно кашляли, падали, ползком тащили в забои и штреки землю и камни, расчищая колодец. Руки распухли и кровоточили, глаза слезились. К концу второй недели пришлось надеть противогазы.
Наконец, пламя фонаря стало ярче, значит где-то близко свежий воздух. Еще несколько нечеловеческих усилий и… хлынула вода!
Бадаев внимательно наблюдал за бегом потока. Обессиленные люди молчали.
— Терпение, товарищи, терпение! — подбадривал Бадаев. — Воды в этом месте не может быть много.
И действительно, стремительность потока уменьшалась с каждой минутой. Вскоре образовался просвет.
— Ура! Воздух! — обрадовались партизаны и сорвали противогазы.
Эта вода, как объяснил нам Владимир Александрович, скопилась в колодце потому, что взрыв сорвал каменную облицовку и с обнаженных стен воздушника вниз потекли небольшие струйки межпластовых ручейков.
Жадно дышали мы. Воздух казался таким благоуханным!
Поглядывая на отверстие воздушника, Бадаев заметил:
— Дым может выдать нас… Иван Никитович, навесьте заслонку. А ночью будем открывать, — выпускать дым и набирать свежий воздух. Вот, товарищи, — обратился он к нам, — гуртом и батька быты лэгко, как говорит украинская пословица. Но мы будем бить не батька, а гитлеровцев. Размещайтесь, отдыхайте, — пригласил он людей и, присев на камень, начал вспоминать свою юность.
— Как сейчас помню, приехали мы, комсомольцы, в 1930 году на ликвидацию угольного прорыва в Подмосковном бассейне. А на шахтах неполадки. Целыми сменами рабочие просиживали без дела. Клеть, откатка простаивали. В рабочих бараках холод, уголь не подвозят. Нет спецодежды, сапог. Нет-нет и тянет домой — там легче. Решил бороться. И боролся не в одиночку, а вот как сейчас — вместе с коллективом. И преодолели все трудности, стала работать наша шахта. Тогда-то я и понял: самое высокое, что ношу в своем сердце, — это чувство коллективизма. Вот и теперь победил коллектив!
Бадаев умолк. Его большие серые глаза задумчиво глядели вдаль.
Этот взгляд навсегда запомнился мне, казалось, что Бадаев, вспоминая прошлое, готовил себя к подвигам в настоящем. Мерцал огонек, едва пробивая густую темень катакомб. Дым словно живое существо, извиваясь сероватой лентой, стремительно уходил наверх.
Усталые, но гордые победой, возвращались люди в лагерь. На повороте во вторую шахту я отделилась от товарищей и пошла бродить по лабиринтам.
Я думала о Бадаеве, о том, что где-то у него трое детишек и любимая жена. Вспомнила своих сестер Юлю и Нину, брата Ефима. Где они? Что с ними?..
В лагере, проходя мимо штаба, я услышала голос Бадаева:
— Часть партизан мы пошлем на поиски выходов в город через Кривую Балку, остальным нужно найти работу на базе. Люди должны быть в движении, иначе они могут затосковать, заболеть, утратить волю к борьбе.
— Ну, что ж. Начнем расчищать пятый колодец. Там багато дров, кухню топить нечем, — согласился Иван Никитович и попросил — Владимир Александрович, детям бы увеличить паек, а то зачахнут они здесь.
— Я тоже об этом хотел поговорить с тобой. Обязательно нужно давать им больший паек, — поддержал старика парторг Зелинский.
— Добро! Предупреди, Никитович, кухарок. Детей надо беречь.
Разговор перешел на другую тему. Иван Никитович выглянул из забоя. Я хотела юркнуть в боковой штрек, но зоркий старик уже заметил меня:
— Слышь, пойди посади лук, а то сгниет там в кладовке. Набери в корзины и в дальних штреках посади в пушистый песок.
— А в помощь кого взять?
На миг он задумался, сняв шапку, заскреб лысину. В это время из-за угла донеслось:
— Тпру! Но, поехали!
Это маленький Петька погонял своего брата Ваню, дергая веревочные вожжи.
— Возьми этих, — кивнул Иван Никитович в сторону ребятишек. — Все равно даром баклуши бьют.
Петька пришел в дикий восторг. Он стал скакать вокруг меня, приплясывать и кричать:
— Люк шадить, люк шадить, — и, повернувшись к Васе, Ване и Коле, предложил: — Посли, лебята!
— Ты глянь! И этот туда же… Тоже мне работничек, — засмеялся Ваня и шутливо мазнул малыша пальцем по носу.
Обиженный таким бесцеремонным обращением, Петька возразил:
— А сто я не такой как вы, сто ли?
Дней через десять меня послали нарвать луку с нашего подземного огорода. Я пригласила с собой ребят. Лук вырос, но перья его были белыми.
— Белый лук… — удивились дети и засыпали меня вопросами.
— Солнышка, детки, нет… Было бы здесь солнце, лук был бы зеленый, а вы загорелые, розовые.
Петька, сидевший на камне и болтавший ножонками, громко заревел.
— Почему ты плачешь? Ударил кто тебя?
— Нет! — покачал он головой и снова залился слезами.
— Что же с тобой?
— Ой, солныска хоцу.
— Ишь, хитрый какой… — засмеялись мальчики. — Погоди, разобьют фашистов, будет тебе солнце.
Но ребенок продолжал безутешно рыдать и просить:
— Хоцу цицас! Дайте мне солнце! — повернулся он ко мне, с мольбой протягивал ладошки.
Мне стало не по себе. Было невыносимо жаль малыша, лишенного фашистами солнца и нормальной жизни. Я взглянула на Петю. Он был полураздет, из рваных ботинок выглядывали пальчики крошечной детской ножки, посиневшие от холода.
— Петя, детка, чем реветь, сказал бы ты лучше нам: кто прогрыз тебе ботиночки? — спросила я.
Ребенок умолк, удивленно захлопал глазенками, наклонившись, оглянул свои ноги, хитро со щурился:
— Мыси плоглызли… Они, как фасисты: усе глызут, — смеясь ответил Петька.
— От горшка три вершка, а уже какой хитрый этот Петька, — восхищался Вася.
— А мыши тут действительно есть, — вмешался в разговор Коля. — Один раз я иду, вдруг откуда ни возьмись выскочила мышь, жирная прежирная и бежит все вперед, никуда не сворачивает. Догнал, убил. Правда же, их нужно истреблять?
Я утвердительно кивнула.
— Пошли, ребятки, в лагерь.
Петька опять начал плакать и просить солнца.
— Лестницы нет, не заберешься туда, — уговаривала я малыша. — Да и горячее оно, можно руки обжечь. Знаешь, что, Петенька, хочешь кошку? Ее можно принести с поверхности.
— Ко-с-ку! Хоцу коску! — засиял мальчик.
— Ладно, попрошу Шестакову, она принесет тебе кошку, — обнадежила я мальчика. — Но помни, заревешь, не видать тебе кошки.
Петька засопел, словно решая какой-то вопрос. Пытливо глядя мне в глаза, спросил:
— А коска тут не станет белой?
— Не волнуйся, детка, кошка не станет белой, — обняв за плечи, успокаивала я его.
Петька радостно засмеялся и начал шалить.
Гринченко Иван Андреевич - боец отряда.
Но оглушенный новой бедой, старик, не поняв шутки, оправдывался:
— Та хиба ж я винен, що дым осидав по забоях. Тяга ж з кухни до колодца була не досыть велика. А зараз и зовсим немае, то дым и поплыв з куткив.
Парторг дружески похлопал Ивана Никитовича по плечу:
— Успокойся. Не ты виноват.
— Яков Федорович, — обратился Бадаев к Васину, — второй пост нужно перенести дальше к повороту на Усатово, там дыму меньше. А вот что делать с кухней? — развел он руками и спросил Ивана Никитовича: — Как у нас с горючим? Может будем готовить еду на примусах?
— Бензину мало, — мрачно ответил тот и с горечью добавил — Я уже думал, как бы научиться ходить в катакомбах без света.
— А мы с поста идем в темноте, — деловито заявил Коля Медерер.
— Смотри, не заблудись, — ласково предостерег мальчика Бадаев.
Через несколько минут часть людей ушла на поиски новых выходов, а остальные, в том числе и я, направились на расчистку второго воздушного колодца.
Штольня и штреки в направлении воздушного колодца наполнены дымом. Рука невольно поднималась, чтобы прикрыть рот. Казалось, вот-вот задохнешься.
До того, как нас замуровали фашисты, дым из нашей печки шел в сторону второго и пятого воздушников; твердые частицы его оседали на стенах и потолках штольни, отчего она стала угольно-черной. Часть дыма растекалась по боковым отсекам катакомб, откуда сейчас он выползал, угрожая задушить нас.
Расчищать воздушник было трудно. Фонари чадили, гасли. На расстоянии метра люди не видели друг друга. Они задыхались, надрывно кашляли, падали, ползком тащили в забои и штреки землю и камни, расчищая колодец. Руки распухли и кровоточили, глаза слезились. К концу второй недели пришлось надеть противогазы.
Наконец, пламя фонаря стало ярче, значит где-то близко свежий воздух. Еще несколько нечеловеческих усилий и… хлынула вода!
Бадаев внимательно наблюдал за бегом потока. Обессиленные люди молчали.
— Терпение, товарищи, терпение! — подбадривал Бадаев. — Воды в этом месте не может быть много.
И действительно, стремительность потока уменьшалась с каждой минутой. Вскоре образовался просвет.
— Ура! Воздух! — обрадовались партизаны и сорвали противогазы.
Эта вода, как объяснил нам Владимир Александрович, скопилась в колодце потому, что взрыв сорвал каменную облицовку и с обнаженных стен воздушника вниз потекли небольшие струйки межпластовых ручейков.
Жадно дышали мы. Воздух казался таким благоуханным!
Поглядывая на отверстие воздушника, Бадаев заметил:
— Дым может выдать нас… Иван Никитович, навесьте заслонку. А ночью будем открывать, — выпускать дым и набирать свежий воздух. Вот, товарищи, — обратился он к нам, — гуртом и батька быты лэгко, как говорит украинская пословица. Но мы будем бить не батька, а гитлеровцев. Размещайтесь, отдыхайте, — пригласил он людей и, присев на камень, начал вспоминать свою юность.
— Как сейчас помню, приехали мы, комсомольцы, в 1930 году на ликвидацию угольного прорыва в Подмосковном бассейне. А на шахтах неполадки. Целыми сменами рабочие просиживали без дела. Клеть, откатка простаивали. В рабочих бараках холод, уголь не подвозят. Нет спецодежды, сапог. Нет-нет и тянет домой — там легче. Решил бороться. И боролся не в одиночку, а вот как сейчас — вместе с коллективом. И преодолели все трудности, стала работать наша шахта. Тогда-то я и понял: самое высокое, что ношу в своем сердце, — это чувство коллективизма. Вот и теперь победил коллектив!
Бадаев умолк. Его большие серые глаза задумчиво глядели вдаль.
Этот взгляд навсегда запомнился мне, казалось, что Бадаев, вспоминая прошлое, готовил себя к подвигам в настоящем. Мерцал огонек, едва пробивая густую темень катакомб. Дым словно живое существо, извиваясь сероватой лентой, стремительно уходил наверх.
Усталые, но гордые победой, возвращались люди в лагерь. На повороте во вторую шахту я отделилась от товарищей и пошла бродить по лабиринтам.
Я думала о Бадаеве, о том, что где-то у него трое детишек и любимая жена. Вспомнила своих сестер Юлю и Нину, брата Ефима. Где они? Что с ними?..
В лагере, проходя мимо штаба, я услышала голос Бадаева:
— Часть партизан мы пошлем на поиски выходов в город через Кривую Балку, остальным нужно найти работу на базе. Люди должны быть в движении, иначе они могут затосковать, заболеть, утратить волю к борьбе.
— Ну, что ж. Начнем расчищать пятый колодец. Там багато дров, кухню топить нечем, — согласился Иван Никитович и попросил — Владимир Александрович, детям бы увеличить паек, а то зачахнут они здесь.
— Я тоже об этом хотел поговорить с тобой. Обязательно нужно давать им больший паек, — поддержал старика парторг Зелинский.
— Добро! Предупреди, Никитович, кухарок. Детей надо беречь.
Разговор перешел на другую тему. Иван Никитович выглянул из забоя. Я хотела юркнуть в боковой штрек, но зоркий старик уже заметил меня:
— Слышь, пойди посади лук, а то сгниет там в кладовке. Набери в корзины и в дальних штреках посади в пушистый песок.
— А в помощь кого взять?
На миг он задумался, сняв шапку, заскреб лысину. В это время из-за угла донеслось:
— Тпру! Но, поехали!
Это маленький Петька погонял своего брата Ваню, дергая веревочные вожжи.
— Возьми этих, — кивнул Иван Никитович в сторону ребятишек. — Все равно даром баклуши бьют.
Петька пришел в дикий восторг. Он стал скакать вокруг меня, приплясывать и кричать:
— Люк шадить, люк шадить, — и, повернувшись к Васе, Ване и Коле, предложил: — Посли, лебята!
— Ты глянь! И этот туда же… Тоже мне работничек, — засмеялся Ваня и шутливо мазнул малыша пальцем по носу.
Обиженный таким бесцеремонным обращением, Петька возразил:
— А сто я не такой как вы, сто ли?
Дней через десять меня послали нарвать луку с нашего подземного огорода. Я пригласила с собой ребят. Лук вырос, но перья его были белыми.
— Белый лук… — удивились дети и засыпали меня вопросами.
— Солнышка, детки, нет… Было бы здесь солнце, лук был бы зеленый, а вы загорелые, розовые.
Петька, сидевший на камне и болтавший ножонками, громко заревел.
— Почему ты плачешь? Ударил кто тебя?
— Нет! — покачал он головой и снова залился слезами.
— Что же с тобой?
— Ой, солныска хоцу.
— Ишь, хитрый какой… — засмеялись мальчики. — Погоди, разобьют фашистов, будет тебе солнце.
Но ребенок продолжал безутешно рыдать и просить:
— Хоцу цицас! Дайте мне солнце! — повернулся он ко мне, с мольбой протягивал ладошки.
Мне стало не по себе. Было невыносимо жаль малыша, лишенного фашистами солнца и нормальной жизни. Я взглянула на Петю. Он был полураздет, из рваных ботинок выглядывали пальчики крошечной детской ножки, посиневшие от холода.
— Петя, детка, чем реветь, сказал бы ты лучше нам: кто прогрыз тебе ботиночки? — спросила я.
Ребенок умолк, удивленно захлопал глазенками, наклонившись, оглянул свои ноги, хитро со щурился:
— Мыси плоглызли… Они, как фасисты: усе глызут, — смеясь ответил Петька.
— От горшка три вершка, а уже какой хитрый этот Петька, — восхищался Вася.
— А мыши тут действительно есть, — вмешался в разговор Коля. — Один раз я иду, вдруг откуда ни возьмись выскочила мышь, жирная прежирная и бежит все вперед, никуда не сворачивает. Догнал, убил. Правда же, их нужно истреблять?
Я утвердительно кивнула.
— Пошли, ребятки, в лагерь.
Петька опять начал плакать и просить солнца.
— Лестницы нет, не заберешься туда, — уговаривала я малыша. — Да и горячее оно, можно руки обжечь. Знаешь, что, Петенька, хочешь кошку? Ее можно принести с поверхности.
— Ко-с-ку! Хоцу коску! — засиял мальчик.
— Ладно, попрошу Шестакову, она принесет тебе кошку, — обнадежила я мальчика. — Но помни, заревешь, не видать тебе кошки.
Петька засопел, словно решая какой-то вопрос. Пытливо глядя мне в глаза, спросил:
— А коска тут не станет белой?
— Не волнуйся, детка, кошка не станет белой, — обняв за плечи, успокаивала я его.
Петька радостно засмеялся и начал шалить.
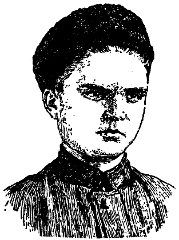 Гордиенко Яков — руководитель молодёжной группы разведчиков партизанского отряда.
Передо мной стоял юноша лет шестнадцати, маленького роста, без шапки, с жесткими кудрявыми волосами красноватого отлива, глубоко посаженными, пытливыми глазами. Держался он свободно и независимо. Старенький бушлат с косо пришитыми черными пуговицами, небрежно наброшенный на плечи, позволял видеть голубевшую на груди матросскую тельняшку. Я протянула руку.
— Здравствуй! — и, бросив взгляд на тельняшки, спросила. — Ты и в городе так ходишь?
— Что вы! — усмехнулся Яша. — Оккупанты сразу же арестовали бы меня. Они страх не любят краснофлотцев.
— Не забыли еще оборону.
Он звонко рассмеялся:
— Да они и во сне помнят «черных дьяволов» и «черную тучу», которые давали им перцу. Это они не скоро забудут.
— Школу окончил?
— Нет! Фрицы не дали.
— Учился в школе или в ремесленном?
— В 121 школе… Да война помешала…
— Море, видно, любишь!..
Яша хотел ответить, но его перебил Ефим.
— Ого, еще и как! Недаром же его прозвали: «Яшка боцман — Хива Гордиенко», — захохотал он и, опасливо озираясь на Яшу, грозившего ему кулаком, отскочил в сторону.
— «Боцман», это понятно. Но «Хива»… что-то совсем неясное, — пожала я плечами.
— Это школьная кличка, — продолжал выдавать тайны своего друга расходившийся мальчик. — Его прозвали так потому, что на уроке истории, рассказывая о Хиве, он что-то спутал.
— Перестань, — оборвал его Гордиенко.
Увидев, что Яша рассердился, я примирительно сказала:
— Это всегда легко исправить, стоило только приналечь на учебу. Тяжело, что война лишила вас этой учебы. Да разве только учебы. Школьных товарищей… А ведь были же они у тебя?
Яша широко улыбнулся, обнажив два ряда крепких белых зубов, мечтательно произнес:
— Еще и какие… Всегда мы вместе. В море купались, катались на лодке. Раз на шаланде под парусом ходили к Тендровской косе…
— И там дали клятву вечной дружбы, — перебил его Ефим. — А клятва в конце вот какая: «Если надо будет, придем на помощь друг другу и не пожалеем жизни, чтобы спасти друга», — выпалил он единым духом.
— Эх ты, болтун! Я тебе, как другу, рассказал, а ты…
— Не обижайся, Яша! — сказала я. — Хороших порывов не надо стыдиться, а на товарища не сердись. Ты, наверно, проголодался?
— А вот идем в столовую, — ответил Яша.
На рассвете я снова встретила Яшу Гордиенко. Он возвращался в город, набрав листовок.
Приблизительно через пять-шесть дней Яша снова пришел к нам. Я застала его в столовой. Он с аппетитом уплетал нашу партизанскую «латуру».
— Здравствуй! Ты опять к нам? — спросила я, присаживаясь около него. — Что нового в городе?
— Да все то же, — ответил он, отодвигая от себя пустую тарелку. — Хлеба, соли, топлива нет. Зато есть: тюрьма, грабежи, рабство, — и, сняв кубанку, Яша вынул из-под подкладки свернутую в трубочку газетную бумажку, протянул ее мне: — Читайте! Это еще в ноябре они отбарабанили.
Разгладив бумажку, я прочитала:
Гордиенко Яков — руководитель молодёжной группы разведчиков партизанского отряда.
Передо мной стоял юноша лет шестнадцати, маленького роста, без шапки, с жесткими кудрявыми волосами красноватого отлива, глубоко посаженными, пытливыми глазами. Держался он свободно и независимо. Старенький бушлат с косо пришитыми черными пуговицами, небрежно наброшенный на плечи, позволял видеть голубевшую на груди матросскую тельняшку. Я протянула руку.
— Здравствуй! — и, бросив взгляд на тельняшки, спросила. — Ты и в городе так ходишь?
— Что вы! — усмехнулся Яша. — Оккупанты сразу же арестовали бы меня. Они страх не любят краснофлотцев.
— Не забыли еще оборону.
Он звонко рассмеялся:
— Да они и во сне помнят «черных дьяволов» и «черную тучу», которые давали им перцу. Это они не скоро забудут.
— Школу окончил?
— Нет! Фрицы не дали.
— Учился в школе или в ремесленном?
— В 121 школе… Да война помешала…
— Море, видно, любишь!..
Яша хотел ответить, но его перебил Ефим.
— Ого, еще и как! Недаром же его прозвали: «Яшка боцман — Хива Гордиенко», — захохотал он и, опасливо озираясь на Яшу, грозившего ему кулаком, отскочил в сторону.
— «Боцман», это понятно. Но «Хива»… что-то совсем неясное, — пожала я плечами.
— Это школьная кличка, — продолжал выдавать тайны своего друга расходившийся мальчик. — Его прозвали так потому, что на уроке истории, рассказывая о Хиве, он что-то спутал.
— Перестань, — оборвал его Гордиенко.
Увидев, что Яша рассердился, я примирительно сказала:
— Это всегда легко исправить, стоило только приналечь на учебу. Тяжело, что война лишила вас этой учебы. Да разве только учебы. Школьных товарищей… А ведь были же они у тебя?
Яша широко улыбнулся, обнажив два ряда крепких белых зубов, мечтательно произнес:
— Еще и какие… Всегда мы вместе. В море купались, катались на лодке. Раз на шаланде под парусом ходили к Тендровской косе…
— И там дали клятву вечной дружбы, — перебил его Ефим. — А клятва в конце вот какая: «Если надо будет, придем на помощь друг другу и не пожалеем жизни, чтобы спасти друга», — выпалил он единым духом.
— Эх ты, болтун! Я тебе, как другу, рассказал, а ты…
— Не обижайся, Яша! — сказала я. — Хороших порывов не надо стыдиться, а на товарища не сердись. Ты, наверно, проголодался?
— А вот идем в столовую, — ответил Яша.
На рассвете я снова встретила Яшу Гордиенко. Он возвращался в город, набрав листовок.
Приблизительно через пять-шесть дней Яша снова пришел к нам. Я застала его в столовой. Он с аппетитом уплетал нашу партизанскую «латуру».
— Здравствуй! Ты опять к нам? — спросила я, присаживаясь около него. — Что нового в городе?
— Да все то же, — ответил он, отодвигая от себя пустую тарелку. — Хлеба, соли, топлива нет. Зато есть: тюрьма, грабежи, рабство, — и, сняв кубанку, Яша вынул из-под подкладки свернутую в трубочку газетную бумажку, протянул ее мне: — Читайте! Это еще в ноябре они отбарабанили.
Разгладив бумажку, я прочитала: